Петр Катериничев Время барса (Барс-1)
Часть первая КУРОРТНЫЙ БЛЮЗ
Глава 1
Край моря терялся в дымке. Прозрачная вода тихо плескала на гладкие камни, вылизывая берег, набегая на него с холодным неотвратимым постоянством… И так — день за днем, век за веком, увлекая его по неприметной горсти в грозную бездну.
Над берегом стелился ароматный дымок вишневого дерева. Молчаливый низенький человечек аккуратно выкладывал в небольшую коптильню деревянную стружку на уже зашедшийся огонек, готовясь поместить следом недавно выловленных пелингасов. Его напарник, среднего роста, широкоплечий, жилистый, в истертых добела джинсах и толстом свитере домашней вязки, возился с поленцами. Его длинные волосы, забранные ремешком, были почти седыми. Лицо обезображено длинным рваным шрамом. Один за другим мужчина ставил поленца на чурбачок и сильными ударами откалывал соразмерные брусочки, в самый раз годившиеся для шашлычницы.
Работал он не топором, а длинным тяжелым ножoм наподобие мачете.
На берегу стоял домик-шале, приспособленный под ресторан. Огромная веранда, увитая черным виноградом и обычно по вечерам полная посетителей, сейчас была пустынна. Если не считать двоих хмурых парней лет двадцати пяти, зависших за большой оплетенной бутылкой с кислым вином.
— Гляжу я на этого — странный, — сказал один, щурясь от табачного дыма.
— Это ты про Седого? — отозвался другой.
— Ну. Работает, как машина-автомат. Полкуба оковалков ножовкой напилил — и только испарина на лбу. Да и ручищи у него в предплечье, глянь… Такими — бегемотам шеи сворачивать впору. И пожжены, словно он их в топку засовывал.
— Чего-то незаметно.
— Это видно, когда он рукава засучит. А так, с беглого взгляда, — вроде как дохлый. Доходяга. — Малый замолчал, лоб исказился, выдавая не вполне свойственную ему работу мысли. — Откуда он вообще взялся?
— Бомж. Прибился.
— Порасспросить бы надо.
— Гoгy?
— Ну.
— Да он пошлет нас куда подальше!
— А в нюхало получить?
— Грач, ты все ж сухарик тянешь, а не ханку жрешь, — заводиться? Гога у Бати платежник исправный, с чего ты на него наедешь? С дури?
— Нас Карай послал к месту присмотреться, чтобы вечером никаких непоняток не вышло… Ну и…
— Тоже, Птицын в тылу врага! Нас сюда для порядку заслали.
— Ну а я о чем? По типу охраны.
— Дурила, от кого здесь Батю охранять? От чаек? Мы для представительства тут, уразумел?
— Для какого представительства?
— Показать: дескать. Батя наш — не бригадир какой вшивый, а крутой авторитет.
— Кому показать?
— Деду твому! И бабке в придачу! Теперь включился?
— Чего?
— Понял, спрашиваю?
— А чего тут не понять? Ты не шибко-то наезжай, Куркуль, фильтруй базар!
Или ты меня за дебила держишь?
— Да ладно, не заводись ты, Грачило, — махнул тот рукой.
— Заводись, не заводись… — вроде примирительно проурчал Грач, опрокинув очередной стаканчик. — А Седого бы пробить нехудо.
— Не лезь поперед Бати в пекло, понял? Я в позапрошлые выходные с Караем сюда Батю привозил. Так он этого Седого за свой стол усадил.
— Батя — бомжа?
— Стасик-то сидит.
— Ты не мути! Стасик — придурок! Шут фасолевый, из гнилых. А Седой — натуральный бомжара, бичуган.
— Ну и что? Кто Бате указ? Ты? У него глаз наметанный. Может, приручает?
— Кого? Седого? Да он же с «чердаком» не дружит! Там по всей «крыше» даже не протек — водопад, Ниагара, мля! Ты ему в глазенки заглядывал? Да у него в бестолковке мухи давно летят в теплые края! Стаями!
Грач икнул, уставился хмельным взглядом в затылок Седому и замер так, неспешно потягивая винцо. А тот тем временем аккуратно доцепил очередной чурбачок — и обернулся. Грач наткнулся на этот взгляд встык, как мерин на оглоблю. Подавился вином, закашлялся, а когда снова поднял глаза, Седой же продолжал все то же мерное и неторопливое занятие: удар, удар, удар.
— Че, Грачило, обмочился? — вроде добродушно усмехнулся Куркуль, оценив смятение сотоварища, но напарника от того тягучего взгляда будто повело: сухощавый Грач, подогретый вином, вдруг взъярился, взвился разом, как охваченный огнем сухой хворост… Его кулак полетел в голову сидящего напротив дружка и с хрустом врезался в переносицу. Куркуль рухнул на спину вместе со стулом. Грач вскочил и двумя мощными ударами кованых ботинок раскроил незадачливому собутыльнику стальными набойками щеку, содрав со лба лоскут кожи.
— Чачи напился, да? — гортанно выкрикнул, пытаясь сделать грозным круглое добродушное лицо, лысеющий кавказец лет шестидесяти, в белом фартуке и поварском колпаке, выскочивший из кухни на шум. — Совсем с ума сошел, да? Моча в голову ударила?
Грач молча, словно опьяненный кровью боевой пес, ринулся на хозяина ресторанчика. Тот попятился, успел сделать шаг, другой, уперся лопатками в стену, но Грач мчался прямо на него, ослепленный яростью. И вдруг словно налетел на невидимую преграду: ноги подкосились, и он с маху рухнул на деревянный настил.
Сзади стоял Седой. Как он перескочил изгородь и в считанные секунды оказался на веранде, да еще сумел догнать сорвавшегося Грача — заметить не успел никто. И вот теперь молчаливой тенью высился над поверженным; смерил сначала упавшего, затем притиснувшегося к стене толстого Гогу пустым, как морская пена, взглядом. Его блеклые голубые глаза не выражали ничего: ни ненависти, ни сочувствия, ни страха. Это был взгляд бездушной машины, робота, в котором внезапное изменение обстоятельств включило дремавшую до поры боевую программу.
Хозяин ресторана побледнел так, что лицо его стало цвета белоснежного поварского колпака, кое-как справившись с собой, он произнес с резким гортанным акцентом, выражавшим сильное волнение, едва разлепляя сделавшиеся серыми губы:
— Успокойся, дорогой. Ты хорошо работал. Иди, продолжай. Скоро ужин. Гости приедут. Кормить надо.
В пустых глазах Седого словно пробежала искра; если они и не стали осмысленными, то и призрак близкой смерти ушел куда-то вглубь, в их мутную синеву, словно затаился, ожидая другого часа. Седой кивнул, спокойно подошел к краю веранды, легким прыжком перемахнул изгородь и вскоре вернулся к прерванному занятию.
Судорога запоздалого страха волной прошла по хребту кавказца, разрядом тряхнула руки. Гога обессиленно опустился на пол веранды, прошептав одними губами:
— Зомби.
Он так и оставался сидеть, когда через минуту из кухни показалась маленькая светловолосая полная женщина.
— Ты что расселся, Георгий, без тебя же никто не станет делать соус, — начала было она выговаривать мужу и тут только заметила и его испуг, и лежащее неподвижно длинное тело Грача, и его избитого в кровь напарника.
— Ой, батюшки светы, — всплеснула руками женщина, глянула обеспокоенно, спросила, в тревоге назвав мужа совсем по-славянски:
— Что случилось, Егорушка?
— Перевела взгляд на неподвижно лежащее тело, побледнела:
— Он что, умер?
«Егорушка» попытался изобразить на лице улыбку, но ее как раз и не получилось; с губ сорвался вздох то ли сожаления, то ли покорности злой судьбе.
Он, наконец, поднялся, подошел к лежавшему без признаков жизни Грачу, наклонился, приподнял тому веко, посмотрел зрачок, выдохнул с видимым облегчением:
— Живой.
— Что тут стряслось-то? — бегло, словно челнок швейной машинки, затараторила женщина. — Кто его так? Водки, что ли, перепили? А того, мордатого, кто отмутузил? Что Бате-то говорить станешь?
Георгий покосился на жену, забросавшую его словами, будто снежными комьями, вздохнул, теперь уже с извечным мужским превосходством, произнес, проигнорировав все ее вопросы:
— Позови с кухни Вахтанга и Семена. Нужно пока этих в подсобку перетащить, что ли…
Женщина, словно не слышала его указаний, быстро подошла к лежащему у стола Куркулю, осторожно приподняла ему голову, услышав стон, заговорила сердито:
— Тут не Вахтанга с Семеном, тут врача нужно звать! Парню вон пол-лица раскроили.
— Мария! — прикрикнул на жену Гога. — Делай, что велено!
Женщина норовисто хмыкнула и скрылась за дверями шале. Через минуту оттуда появились двое мужчин: длинный, рукастый, чернявый Вахтанг и рыжий крепышок Семен. Гога сказал им что-то негромко, они уверенно погрузили обоих беспамятных бедолаг на плечи и потащили внутрь помещения. Тяжелая «беретта» выпала у Грача из-за пояса и тупо стукнулась о деревянный пол.
Гога выругался вполголоса, подобрал оружие за ствол, как какой-нибудь металлолом, и, не удержавшись, взглянул мельком на Седого. Тот уже докладывал маленькую аккуратную поленницу из нарубленных чурбачков.
В зале ресторана к Гоге спешил Семен. Лицо работника было встревоженным.
— Ну? — спросил Гога. — Плохо дело?
— У Куркуля нос переломан, сотрясение, может, на черепушке трещина. Ну и щека, ты же видел, штопать надо.
Гога понятливо кивнул:
— Это хорошие новости. Теперь давай плохие. Семен помялся, произнес, глядя в пол:
— Грач умер. Преставился, значит.
Гога только кивнул, словно ожидал именно этого ответа. Семен потоптался: дескать, идти мне уже или как? Не выдержал, спросил хозяина:
— Чем это он его?
— Что? — не расслышал вопроса занятый своими мыслями Гога.
— Чем его Седой так приласкал? Ни на голове, ни на теле — ни единого повреждения.
У Гоги защемило сердце: он вспомнил безлично-стылый взгляд Седого, свой страх — да что там страх! — дикий, всепоглощающий, нечеловеческий ужас, и от одного этого воспоминания судорога снова ледяной искрой пробежала по рукам.
Не дождавшись ответа, Семен уже собрался было отойти прочь, но любопытство оказалось сильнее.
— Каратист? — спросил он.
— Хуже, — едва слышимым шепотом произнес хозяин, уставив невидящий взгляд в пустоту. — Дьявол.
* * *
— Третий вызывает Первого, прием.
— Первый слушает Третьего, прием.
— На наблюдаемом объекте осложнения. Уровень "С".
— Уточните.
— Внутренняя свара. Разборка. Возможно, двое раненых. Как поняли, прием?
— Вас понял. Уточните характер разборки. Огневой контакт?
— Нет. Рукопашная схватка между двумя людьми объекта-1. Теми, что приехали место посмотреть перед прибытием босса.
— Ну и что они не поделили? Лишнего выпили?
— Да нет, пили как раз не особенно.
— Что тогда?
— Один сильно борзый. Вроде как малохольный. Может, и контуженый, сейчас таких много бродит…
— Третий, докладывайте, а не философствуйте.
— Виноват. Я просто хотел, чтобы картинка была ясна. Да, в драку вмешался один из работников ресторана. Очень результативно врезал одному из этих…
Вырубил, короче.
— Он охранник? Боевик?
— Нет. Просто работник. И весь седой, хотя и не старый. Как поняли, Первый, прием?
— Понял вас. Продолжайте наблюдение. Ждите инструкций.
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
Глава 2
— Скука правит миром! Не власть, не деньги, не удовольствия! Всего лишь — банальная скука! И стремление от нее убежать, исчезнуть, скрыться! «Забыться, умереть, уснуть… Уснуть… И видеть сны…»[1] Что есть все наши развлечения?
Что есть вся наша жизнь? Всего лишь сон, кратковременный, мимолетный, навеянный серой обыденностью и тупой, непроницаемой, как грязная ватная одурь, скукой!
Лишь иногда острая тоска по уходящему чиркнет по монотонности дней горькой блестящей искрой, лишь иногда слезливая теплая грусть вспомнит о стелющихся над рекой летним вечером ивах, о первом трепетном поцелуе, о первой любви, о первом опьянении снами… Лишь иногда клубящаяся печаль выдуманной ностальгии напомнит о берегах, где не был, — и вновь окаянное, черно-блеклое настоящее заштрихует всех нас серо-асфальтовой зеброй, по которой потомки и пойдут в возможное светлое завтра, за горизонт, оставив нам нашу скуку, и ничего кроме скуки! Так выпьем за Ее Величество Скуку, заставляющую нас петь, смеяться, любить и ненавидеть! Выпьем за скуку, заставляющую нас жить!
Маленький толстенький человечек, этакий миниатюрный постаревший сатир, с редкой бородкой, с блестящим черепом, обрамленным остатками волос на некогда кучерявой голове, единым духом осушил стаканчик, будто в полусне.
— «Мне скучно, бес…» — распевно продекламировал он и в полном опьянении завалился на сиденье лимузина.
— Складно изложил, Стасик! — похвалил произнесенную речь сидевший в кресле напротив почти двухметрового роста богатырь лет пятидесяти пяти, Сергей Петрович Батенков, владетельный князь и сиятельный барин здешних мест. — Вам нравится, малышки? — спросил он у сидевших рядышком девочек лет пятнадцати, наряженных в школьную форму середины семидесятых, в белых передниках и гольфах, с крупными белыми бантами в волосах.
— Я ничего не поняла. Папа, — произнесла тоном обиженной несправедливостью ученицы пухлогубая нимфетка. — Станислав Львович всегда такой путаный! — Она тряхнула льняными волосами, поправила бант, спросила балованно:
— Папа, а можно мне капельку шампанского? Ка-а-апельку?
Слово «Папа» она произносила с ударением на последнем слоге. Сейчас, когда она сидела глядя Батенкову прямо в глаза влажными темно-карими глазами, он чувствовал невероятное возбуждение…
— Можно? — переспросила девушка с легкой хрипотцой в голосе.
Сергей Петрович, не желая показать, как он взволнован, только кивнул. Он не спешил: предвкушение и игра доставляли ему наслаждение не меньшее, чем острая, искрометная близость. Блондинка привстала, потянулась в бар за открытой бутылкой, расчетливо наклонившись так, что платьице сзади приподнялось…
Батенков подавил вздох. Эта Оля своими трюками умела доводить его почти до безумия! И только желание новизны заставило его смирить излишнее волнение; он взял за подбородок вторую девчонку, Катю. Черноволосая и синеглазая, она была очень хороша собой; девушка подняла глаза. В ее взгляде он прочел и стыдливость, и любопытство, и вожделение… Карай не обманул — девчонка целомудренна. Сергей Петрович провел подушечками пальцев по ее щеке, поцеловал в губы, почувствовал ответный поцелуй, нежный и неуверенный… Чуть отстранился, заглянул в потемневшие Катины глаза; щеки девушки залил румянец. Катя тут же опустила взгляд, словно боясь, что мужчина прочтет в ее глазах то, что уже успело нарисовать ее юное воображение…
— Ну вот! — надула губки Оля, обернувшись и со скорой ревностью отметив внимание Батенкова к подруге. Вздохнула совсем по-женски: дескать, мужики все такие, за ними не уследишь… Но особенно горевать не стала и тут же, с бокалом в руке, озорно запрыгнула Сергею Петровичу на колени., — Папа, я знаю, я все равно лучше всех, но если ты хочешь… — Дыхание ее сделалось прерывистым. — Хочешь, я подготовлю ее для тебя? Хочешь?.. — Она пошептала что-то мужчине на ухо, щекоча его шею завитками волос, и притом очаровательно покраснела. — Я же этого никогда не делала… — Добавила:
— Но пусть тогда она тоже, ага? Договорились? — Девчушка озорно обернулась к темноволосой и показала ей язык.
Лимузин чуть замедлил ход, скрипнув рессорами на повороте, Станислав Львович скатился с сиденья на пол, проклюнулся, лупая спросонья заплывшими глазками и не понимая, что происходит; потом взгляд его пришел в норму, если постоянное состояние опьянения, близкого к обмороку, можно считать нормой…
Впрочем, Станислав Львович в этом состоянии даже не пребывал, он в нем жил; горячечный мозг освобожденного от забот о собственном пропитании интеллектуала выдавал то жемчужины, то плевелы. Впрочем, босса забавляло все; Станислав Львович был при Батенкове как шут при феодальном бароне, как образованный раб при римском патриции, умный и безвольный, много говоривший о свободе, мечтающий о ней и никогда не согласившийся бы променять на нее свое сытое и пьяное рабство. Все это Сергеи Петрович знал изначально: так называемая «творческая народная интеллигенция» времен развитого социализма была не способна ни к чему, кроме прислуживания и пустой говорильни; ну что ж, Станислав был не из худших, пусть отрабатывает свой щедро намазанный маслом кусок!
Словно уловив последнюю мысль хозяина, Станислав по-львиному тряхнул лысой головой, что было забавно само по себе, устроился на полу, сложив пухлые ручки на груди, и уставился Оле под юбку.
— Это заблуждение, мон женераль, что красота открывается только с высоты орлиного полета! Червь — вот истинный ценитель прекрасного! Ибо только он один знает, как быстротечна, коротка и неприглядна жизнь, ибо только он один ведает, во что превращается красота и совершенство там, под сенью праха!
— Папа, он дурак! — капризно надула губки Ольга.
— Нет, малышка. Просто у него работа такая.
— Дурак! И говорит глупые и неприятные вещи!
— Устами младенца глаголет истина, — погрустнел Станислав, уселся на пол, свесил голову, вздохнул:
— Содержание перетекает в форму, форма — в содержание… Человек становится тем, чем желает казаться… Маска и лицо сливаются, и вот уже люди боятся сорвать маски с «друзей», чтобы не увидеть под веселыми забавными рожицами желтые кости черепа в лохмотьях мяса, пустые и темные глазницы…
— Папа! Пусть замолчит! Заткнется! — оборвала его монолог девочка. — Он страшный, неопрятный и противный!
— Отдохни, Стасик, — бросил Батенков. Шут с обиженным видом уселся в кресло и уставился в окно.
Дорога пошла в гору, и с холма открылось море: темное, величественное, оно дышало ленивым сонным покоем, переливаясь под низким пасмурным небом аметистовым сиянием.
Небольшая кавалькада — два джипа и лимузин — миновала перевал и покатилась вниз, к стоявшему на высоком морском берегу ресторану-шале. В салоне лимузина пропищал зуммер мобильного телефона. Батенков поднес трубку к уху:
— Слушаю.
— Сергей Петрович, подъезжаем.
— Карай, я это и без тебя вижу.
— Я это к чему… Грач убит. Куркуль — в беспамятстве. Может быть, стоит подстраховаться и сначала выслать бригаду?
— Нет. Мы уже говорили об этом. У тебя все?
— Сергей Петрович, и все же я бы настаивал…
— Карай, ты песню слышал такую: «Капитан, капитан, никогда ты не станешь майором»?
— Извините?
— Нельзя ни на чем настоять, употребляя сослагательное наклонение.
— И все же в связи…
— А мне вот наплевать на сослагательные! — продолжал Сергей Петрович, словно не услышав возражений помощника. — Ты понял. Карай? Я здесь на своей земле и из-за мелкого несчастного случая шугаться от каждого куста не стану!
Уразумел?
— Точно так. — В трубке помолчали с полминуты — видно, получивший выволочку Карай собирался с духом. — Батя, и все же этого Седого нужно изолировать. От греха. Гога…
— Ну, говори, что Гога?
— Я просто хочу, чтобы вы поняли, Сергей Петрович… Для кавказского человека нужно большое мужество, чтобы…
— Карай, короче, а?
— Когда Гога мне звонил, он признался… вернее… он сказал о Седом просто: «Я его боюсь». И добавил: «У него глаза стылые. Как у мертвого».
Батенков ничего не ответил, обдумывая услышанное. Гога работал хозяином ресторанчика-шале уже пятый год. И за это время выказал не только кулинарное мастерство и хозяйственную сметку, но и хладнокровие и твердость характера.
Четыре года назад, когда несколько диких обколотых отморозков, наваляв в городе трупов, приехали к Гоге и стали раскачивать права и «стучать пальцами», он просто-напросто зарубил двоих хозяйственным топориком, как говядину! А оставшихся спеленал по рукам-ногам и сдал подоспевшей Батиной бригаде, аки младенцев-сосунков! Так их и приняло море: места там, как в земле, на всех.
— Батя?
— Да здесь я.
— Вы понимаете, что для Гоги…
— Понимаю. Не требухти.
Седой объявился в этих краях с год назад, прошлой весной. Его подобрала, беспамятного, какая-то шхуна, прямо в море; рыбачки, не шибко печалуясь, сбросили найденыша на бережку, да и были таковы. Летом Седой прижился бомжем при пансионатах; жуткий свежий шрам на лице и обожженные руки только сначала вызывали любопытство, потом их перестали замечать, как не замечают люди, привыкая, ни красоты, ни уродства. Впрочем, ему самому раны должны были доставлять нешуточную боль, но то ли он переносил ее с безразличием стоика, то ли просто не чувствовал вовсе: с юродивыми так бывает.
Был он абсолютно безвредным, тихим и работящим; пахал, как экскаватор, ходил в обносках, ел, что дадут, и — молчал. Понимал Седой только простые, незамысловатые фразы, и любимым занятием его было смотреть на море. Он мог часами сидеть на высоком берегу и любоваться переливами волн: летом, осенью, зимой. У Гоги он прижился как раз с конца лета; молчаливый и двужильный работник был никому не в тягость, а убогость его ума стала такой же привычной, как и уродство лица. При недавнем своем заезде к Гоге Батя, будучи в хмельном расположении, даже пригласил юродивого за свой стол, попытался напоить, шутил…
Седой пил и ел аккуратно, слушал внимательно, но доходили ли редкие шутки Батенкова или витиеватые монологи Стасика до его сознания — неведомо.
Единственное, что отметил для себя Сергей Петрович, что за столом приблудный бомж держался с естественным природным достоинством. А глаза… глаза его Сергей Петрович так и не рассмотрел. Мутные, с переменчивой потаенной голубизной… Как уставшее от летнего зноя небо.
— М-да… Понакрутил что-то Гога, — раздумчиво произнес Сергей Петрович. — Он не пил накануне?
— Да Гога никогда…
— Ладно. Знаю.
— Батя, а я все же думаю…
— Думать, Карай, не твоя работа. И не твоя привилегия. Я с этим пока справляюсь. Нет?
— Да я просто хотел…
— Хотеть можно телку.
— Извините, Сергей Петрович.
— Значит, так. Пусть все идет, как идет. Мы отдыхать едем, а не Седого закапывать. На месте присмотримся, оглядимся — и по обстоятельствам. Понял?
— Ага;
— И не мельтеши попусту.
— Батя, да я…
— Никшни! И слушай! Тревога, как и шизота, штука заразная. Гога разнервничался чегой-то, тебе свой страх передал.
— Да я…
— Молчи, я сказал! Знаю, пацан ты правильный и отважный, но и Гога не трус, так?
— Так.
— И испугал его не человек, не Седой, а его болезнь, необъяснимость его поведения и показавшиеся сверхчеловеческими возможности. Но суперменов в подлунном мире нет. Пуля, выпущенная из хорошего ствола с хорошей скоростью, любого супера превращает в кусок дохлого мяса. Ты понял, Карай?
— Я понял.
— А с психами и не такое бывает. Так что не нагнетай. Приедем, разберемся.
— Да.
— Так пацанам и передай. Этот Седой не вурдалак окаянный, не оборотень, мужик из костей и мяса. И если что, вы мне его нарубите в мелкую окрошку, понял?
— Я понял. Батя.
Голос Карая стал куда увереннее и веселее. Батенков хмыкнул про себя удовлетворенно: так-то! Страх, рожденный прежде боя, сжигает не то что бригады бойцов, целые армии! Огню нужно только довершить работу страха. Именно в этой истине и источник победы, и кладезь силы, и причина поражений. Сергей Петрович поражений не любил: вот уже десять лет он жил в том мире, где поражение нриравнивалось к смерти и становилось ею! Нужно только побеждать! Всегда!
Глава 3
— Четвертый вызывает Первого, прием.
— Первый слушает Четвертого.
— Объект-1 миновал перевал, движется к объекту К. Бронированный «линкольн», две машины охраны. Как поняли, прием?
— Вас понял. Конец связи.
— Конец связи.
— Пятый вызывает Первого, прием.
— Первый слушает Пятого.
— Получен радиоперехват переговоров объекта-! с начальником его охраны.
— Да. Самую суть.
— Начальника охраны обеспокоил несчастный случай: один из работников объекта К, слабоумный, убил его человека. Начальник охраны предлагал объекту-1 принять меры предосторожности; возможно, что имел намерение вообще отговорить объект-1 от рискованной поездки. Безрезультатно. Они в пути. До объекта К им добираться минут пять-семь.
— Понял, Пятый. Продолжайте наблюдение за эфиром.
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
— Первый вызывает Второго.
— Второй на связи.
— Прошу полную информацию по объекту-1.
— Объект-1 движется в бронированном лимузине. Внутри — водитель, охранник, две девки и шут.
— Кто?
— Шут, потешник, скоморох. Для нас; никакой опасности не представляет.
— Девицы?
— Малолетки.
— Дальше.
— Группа сопровождения из двух джипов. Всего — десять человек. Вооружены пистолетами и автоматами «АКСУ». Подготовка удовлетворительная. Итог: группа вооружена и экипирована, тринадцать человек вместе с объектом; как минимум — пятнадцать стволов автоматического оружия и два гранатомета.
— Объект-1 всегда выезжает с такой свитой?
— За город — всегда. В Приморске его обычно сопровождает один джип с четырьмя охранниками.
— Ваше мнение, Второй: боевики объекта готовы к кратковременной огневой схватке?
— С братками, подобными им, — вполне. Со спецгруппой — вряд ли. Все решит внезапность нападения, точность и массированность огня. Неожиданный огневой контакт приведет к выведению из строя живой силы противника и к полной деморализации оставшихся в живых.
— Нам не нужно живых.
— Вас понял, Первый.
— Ждите сигнал. Конец связи.
— Конец связи.
— Первый вызывает Третьего.
— Третий слушает Первого.
— Доложите полную информацию по объекту К.
— Объект К. Шестеро мужчин, три женщины. Один мужчина ранен и опасности не представляет. Один — слабоумный. Никто из присутствующих на объекте К, по имеющимся сведениям, специальной боевой подготовки не имеет. Оружие: два или три пистолета, карабин, ножи. Автоматического оружия наблюдением не выявлено.
— Особенности объекта К?
— Обособленность. С одной стороны, в двадцати-пятидесяти метрах от объекта К обрыв и море; с остальных трех сторон — открытое простреливаемое пространство, освещаемое при необходимости прожекторами. Как правило, при прибытии на объект К объекта-1 выставлялось боевое охранение из трех человек. Имеется два подвала.
Никаких скрытых подземных коммуникаций, ведущих на побережье, самым тщательным наблюдением не выявлено.
— Вас понял. Третий. Конец связи.
— Конец связи.
— Первый вызывает группу «Экс».
— «Экс» — первый слушает.
— Приказываю: начать скрытное выдвижение к объекту К по варианту «Альфа-Экс». Доложить о трехминутной готовности. Начало атаки — по моей команде.
Как поняли, прием?
— Вас понял, Первый. Выдвижение по варианту «Альфа-Экс». Трехминутная готовность. Ожидание приказа.
— Выполняйте.
— Есть.
— Первый вызывает Глостера.
— Глостер слушает Первого.
— Десятиминутная готовность по Акции.
— Вас понял. Выполняйте штатный вариант, — Есть…
— Вам что-то неясно, Первый?
— Да. Прошу уточнений. Вы упоминали, что рядом с объектом-1 наш агент. Вы дадите информацию к опознанию?
— Нет.
— В таком случае агент будет уничтожен вместе с остальными.
— Вы стали гуманистом, Первый?
— Гуманистом?..
— Его убрать не так-то просто.
— Он осведомлен об Акции?
— Вы задаете много вопросов. Первый.
— Виноват. Тогда…
— Что вы мямлите?
— Он будет убит. Без вариантов.
— Вы думаете, у него никаких шансов?
— Никаких. Единственный, призрачный, и то если связаться с ним сразу после начала Акции.
— Нет. Он сам с вами свяжется.
— Если останется жив.
— Разумеется. Его оперативный позывной — Киви.
— Киви?
— Ну да. Маленькая такая птаха, чирикает себе не пойми чего, окружающего не разумеет и, соответственно, ни о чем не страдает. Дитя природы. У вас все, Первый?
— Так точно, Глостер.
— Десятиминутную готовность принял. Приказываю начать Акцию по штатному варианту.
— Есть.
— Время пошло.
— Есть.
Глава 4
Всякая жизнь когда-нибудь кончается. И то, что остается от человека, и есть мерило его жизненной ценности. Сергей Петрович Батенков даже поморщился: глупость и банальность болтающихся в голове мыслей была столь очевидна, что, выскажи он их вслух, — даже собственный шут скроил бы такую мину, будто застал хозяина за малопочтенным или вовсе неприличным в обществе занятием. И все же, все же… Что можно вспомнить важного в этой жизни, кроме любви? Которая уходит, исчезает, гаснет, и не остается ничего, кроме ярости?
Сергей Петрович одним глотком выпил коньяк, откинулся на спинку стула.
Сидел, покачиваясь на двух ножках, прикрыв веки, желая расслабления, но его-то как раз и не наступало. Или хмель сегодня такой смурной? Самое противное, что не было и желания веселиться…
— Грусть вовсе не болезнь, — уловил настроение хозяина Стасик. — Она нужна нам для понимания истинной ценности жизни и ощущения ее скоротечности. Ибо без этого последнего ощущения познать ценность жизни невозможно, — меланхолично произнес он, ни к кому конкретно не обращаясь, но, невзирая на ту же банальность сказанного, Сергей Петрович был благодарен ему. Порой Бате даже казалось, что этот безвольный шут — единственный в его окружении человек, искренне ему сочувствующий.
Льющаяся из динамиков стереосистемы песня, исполняемая чуть хрипловатым баритоном, была немудреной; Сергей Петрович застыл, прикрыв глаза, ни о чем не думая и ничего не желая. На миг ему даже показалось, что жизнь его уже закончилась, иссякла, как кровь в перерезанных жилах, и звучащая мелодия осталась единственной нитью, интонацией, связывающей его с миром.
Разлили души по бокалам, Как будто слезы по любимым, Чтобы мягчило снегом талым Тоску быть гордым и гонимым. Чтобы истаивали свечи На кипарисовой террасе, Чтобы струился лаской вечер И был изысканно прекрасен, Как взгляд твой, ясный и счастливый, Как голое ручейково-нежный, Как шепот моря торопливый, Как запах ветрено-подснежный… Когда расцвечивает ало Земную зависть по вершинам — Мы возвращаемся устало К пурпурным мантиям и винам. На кипарисовой террасе Плащи теней свивают свечи. В цветах сирени тает праздник, Как смех — бессонен и беспечен! И фиолетовым кристаллом Мерцают грезы снегом мнимым… Разлиты слезы по бокалам, Как будто души — по любимым.Чем он занимался всю жизнь? Зарабатывал деньги? Отстаивал свое место под солнцем? Наверное, и это тоже., Но на самом деле он, Сергей Петрович Батенков, очень многим известный как Батя, словно Диоген с лампой, искал человека. Того, кому можно довериться, на кого можно положиться… Но не нашел. Может быть, в этом и есть смысл любой жизни? Найти человека, двух, трех, но таких, какие станут частью тебя самого, без которых жизнь немыслима и пуста… «Если радость на всех одна, на всех и беда одна…» Не сложилось. А потому он сам никому не нужен. Нужны его деньги, его бойцы, его хватка, его жестокость, его ум. Но не он сам. А потому — нет теперь никого рядом, «у самой кромки бортов», и прикрыть его, Батю, некому. Как сказал классик, каждый умирает в одиночку. А живет? Живет еще горше. Впрочем., люди похожи на айсберги, с малой ледяной горкой над поверхностью, с мерцающим непознанным сокрытым… Или на сложенные кострища, тлеющие едва-едва… Так и живут… Так и уходят, не оставив по себе никакой памяти. Ибо, чтобы остаться, нужно истаять, сгореть, перейти в новое качество.
Людям слишком жалко своего постылого настоящего, чтобы они могли перейти в вечность.
Сергей Петрович не заметил, что последнюю фразу произнес вслух.
— Жизнь — это болезнь, которая карается смертью. — невозмутимо отреагировал щут.
— Что-то ты сегодня слишком мрачен, Стасик. Лысый человечек только пожал плечами:
— Я всегда мрачен. И немудрено: спиртное в любых количествах полезно только в малых дозах.Я же дозы давно перестал ощущать. Алкоголизм — болезнь для меня неизлечимая, потому что не желаю видеть я этот говенный мир трезвым!
Так — хоть остается надежда на опохмелку. А что остается трезвеннику? Только повеситься.
— Послушай, Стасик, ты же умный мужик, тогда…
— Батя, к чему вопросы? Я безволен. Увы. Рядом с тобой мне достаются роскошные объедки. И не злись: ты предпочел бы сухую корку подачке, я — не из числа стоиков. Жизнь коротка и конечна, и я хочу прожить ее незначимо, но сладко. Тебе, Сережа, приятно топить свой страх смерти во власти, мне — в вине.
Каждому свое.
— Страх?
— Ну да. Лукавый построил сей мир на страхе, и не мне тебе говорить, что только это сильное чувство заставляет людишек шевелиться. И — подчиняться.
Великий страх смерти и множество мелких — бедности, нищеты, нездоровья, похмелья, никчемности, несостоятельности… Все эти хваленые американские психоаналитики тем и знамениты, что разбили один большой страх — небытия — на категории страхов мелких, кажущихся преодолимыми, к примеру стать карьерным неудачником или импотентом, и манипулируют людьми успешно и надежно. Не так?
— Ты мне надоел, Стасик, со своим страхом! Какой может быть страх, пока есть зачем жить? Даже если все полетит в тартарары, есть красивые девушки, цветы, солнце, море, песни, сочный шашлык и грохочущее из стволов пламя! Из моих стволов, понял, Стасик, из моих!
Внезапно Батенкову вспомнились слова хозяина заведения, сказанные им о Седом: «У него глаза стылые. Как у мертвого».
Может быть, в этом причина неясной тоски, которая томит его сегодня и не дает забыть обо всех разборках, денежных делах, купленных политиках, выборах, налогах, кознях противников, забыть обо всем, о чем он желал забыть, в компании незлого шута и двух очаровательных девчонок?! Он исподволь взглянул на Седого, безучастно сидевшего за столиком для обслуги и потягивающего чай из толстостенной кружки. Батя сам велел пригласить его в зал: пусть будет на виду.
К дьяволу беспокойство! Он приехал сюда отдыхать, и он будет отдыхать!
Грохочущее из его стволов пламя действительно превратит в ничто любого! Батенков долил себе водки в бокал, с удовольствием выпил, захрустел терпким моченым яблоком. Боевики-охранники, что сидели за шестиместным столом чуть поодаль, тоже повеселели: смурной вид шефа их тяготил, как тяготит здорового человека вид рахитичного недоноска. Чего Бате убожиться?.Все, что душа пожелает: водка — рекой, девки — табунами, пальцы — веером! Живи, пока живой, несись душа в рай!
Веселость накатила на Батенкова так же внезапно, как намедни — тоска. Он отмахнул рукой троим музыкантам — и саксофонист дунул тонко и проникновенно какой-то курортный блюз из нездешней жизни, вертлявый человечек за фортепиано мелким бесом рассыпался по черно-белым клавишам, вторя мелодии, ударник зашуршал металлической кисточкой по барабанам. Батя подхватил было Олю, но она вырвалась, легко запрыгнула на стол, одним движением, запустив руки под платье, сдернула трусики до щиколоток, вышагнула из них и начала перебирать ножками, играя подолом платья, подразнивая мужчин и кокетничая со всеми: и с охранниками, и с обслугой, и с собой. Но Батя знал: она танцует для него, только для него, и ее бесстыдное кокетство доводило его до умопомрачения!
Батя облизал разом спекшиеся губы: эта девчонка способна творить с ним черт-те что! Он мельком глянул на замершую рядом Катю: та неотрывно смотрела на подругу, а он, запустив ей руку под платье, почувствовал влагу… Девушка не шелохнулась, залившись краской стыда… Батенков совершенно расслабился, наслаждаясь созерцанием одной красотки и лаская другую… Сегодня его ждет особенное, ни с чем не сравнимое наслаждение…
Не торопясь, он снова налил себе водки, выпил. Почувствовал взгляд Стасика: в такие минуты шут смотрел на него как безродный кобель-дворняжка, у которого королевский сенбернар уводил из-под носа двух породистых сучек… Вот и вся философия: роскошные объедки со стола достаются слугам только по прихоти хозяина! Такие изысканные и озорные девчонки не для Стасика: пусть довольствуется отбросами общепита!
Взгляд Батенкова стал жестким и властным.
— Пошли! — коротко бросил он Оле, встал и подтолкнул вперед, к деревянной лестнице, Катю. Девочки послушно поднимались по ступеням, а Батенков следовал за ними, чувствуя за своей спиной несколько пар завистливых глаз… Как эти кобели хотели его девчонок! Пусть смотрят! Пусть глотают слюну, на то они и шавки. А каждая шавка должна знать свое место. Это были его девочки. Только его.
Но Батенков ошибался. Не все взгляды провожали его завистливым вожделением. Стасик смотрел так, как смотрит незадачливый прыщавый подросток на своего ненавистного кумира, как шакал, готовый броситься на льва сзади при первой его неудаче и — терзать, грызть, разрывать на части, захлебываясь мстительной трусливой яростью и чужой кровью… Если и была в его взгляде зависть, то лишь извечная зависть раба, готового запродать душу, чтобы самому жестоко насладиться властью хотя бы день, час, мгновение. Готового запродать душу… но не жизнь.
Ну а Седой… Его глаза с расширенными зрачками были холодны, пусты и беспристрастны, как жерла пистолетных стволов.
— «Экс» — первый вызывает Первого — Первый слушает.
— Трехминутная готовность. Боевого охранения не выявлено. Мы на расстоянии броска.
— Вас понял. Дополнительная вводная: человеку, который появится на вашей волне с позывным Киви…
— Как?
— Киви. Птичка такая. Неразумная.
— Я понял. Киви. Я просто не расслышал сначала.
— Так вот: человеку этому сохраните жизнь.
— А если…
— Не заморочивайтесь. Я же уже сказал. На нет — и суда нет.
— Вас понял. Первый.
— У меня все. Выполняйте штатный вариант.
— Есть.
Глава 5
— "Все, что есть только лучшего «а свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам», — меланхолично процитировал Гоголя шут, выпил почти доверху налитый водкой фужер и остался за хозяйским столом коротать вечер в компании бутылок с цветными этикетками. Сидел он, дряблый и обрюзгший, никому не нужный и никем не жалеемый на всей этой круглой земле. Казалось, еще минута, и он оплывет по стулу мутным вязким киселем.. И только очень внимательный взгляд различил бы напряженные мышцы спины… Что тревожило, что беспокоило его? Униженность положения или все та же зависть?
Братки такими вопросами не задавались. Как только дверь за боссом закрылась, охранники расслабились. Защелкали откупориваемые банки пива, кто-то велел музыкантам сыграть погромче да повеселее… Ребятки привыкли к вольготной жизни на своей территории; вот уже два года благодаря проницательности и предусмотрительности Батенкова на этом райском побережье не происходило никаких громких разборок; впрочем, братва легкомысленно относила это не на счет ума вожака, а на свой: силу уважает всякий. Если они сперва и насторожились в связи с происшедшим в последние полтора месяца усилением охраны, то отнеслись к этому скорее как к чудачеству Бати. Впрочем, сидя вот так за пивком, братки любили побазлать за жизнь, перемыть кости всяким столичным авторитетам, какие, бывало, наезжали сюда на отдых по летней поре. Все сходились на одном: может, там, в тех столицах, дела и круче, а от добра добра не ищут. Лучше пить пивко и кувыркаться с ляльками, чем кататься на разборки и прочие увеселительные мероприятия или получать по почкам от отмороженных омоновцев. Батенков, он ушлый: и ментовские, и городские чины у него прикуплены, а какие не прикуплены, с теми тоже вась-вась. Живи и радуйся.
— Хороша лялька у Бати, — вздохнул один.
— Олька?
— Ну.
— Хороша Маша, да не ваша.
Собеседник только скривил мину: дескать, такого добра… Добавил:
— А вторая — дура.
— Много ты понимаешь, Гундосый, в ляльках! Вторая просто целка еще, щас Батя ее распечатает, деваха будет через годик — вспотеешь! — Парень прочувствованно сглотнул. — Девкам, им только начать, потом не остановишь…
— Знаток!
— А то…
Братки откровенно скучали. Единственное, что их утешало, — служба службой, а она, как известно, не сахар, но и оттяг свой они получат по полной программе: к Клавке Новиковой, которую в славном городе Южногорске все неравнодушные к бабцам самцы знали как Матильду, подвалили из центра России на сезонный заработок свежие телочки, одна другой краше, самое то, и послезавтра у них — первый субботник. Ну а сегодня… сегодня можно и поскучать. Но скучать не хотелось.
— Эй, заткни свою дудку, притомил! — крикнул саксофонисту вертлявый и дерганый пацанчик по кличке Гефа. — И поставь кассету, что-нибудь путное.
— Да у них ни «Стрелок», ни Васи Воротникова. Старье одно.
— Пусть старье! Вой этот уже душу вымотал!
Саксофонист отложил инструмент, пожал плечами, подошел к стереосистеме, воткнул первый попавшийся диск, включил воспроизведение.
Гаснет в зале свет, и снова Я смотрю на сцену отрешенно…
— Козел! Мы че, деды — старушку слушать?
— Заткнись, Гефа! Пусть играет! — оборвал его Карай. Гефа заткнулся, как велели, ухмыльнулся было: дескать, пока вас, старичье сорокалетнее, слушаем, да не долго вам пановать: спишем вскорости к едрене фене! Но, встретив встык взгляд главного, разом уткнулся глазками в стол, забегал по нему зрачками, как таракан по скатерти. Неизвестно, как бы отреагировал Карай на наглость зарвавшегося бодигарда, но тут длинный сухощавый парниша, скосив взгляд на столик в углу, за которым в отрешенном одиночестве коротал вечер Седой, спросил:
— Это вон тот, что ли, Грача мочканул?
Чернявый Карай скривился:
— Он самый. — Неприязнь в голосе начальника Батиной охраны скрежетнула, как жестью по стеклу.
— Так чего он по эту пору не в ямке червей кормит, а за столом рассиживается? — с вызовом продолжил длинный.
— Брось, Удав… Батя трогать не велел, — с сожалением проскрипел Карай.
— А мы трогать и не будем, — повеселел длинный. — А познакомиться, за жизнь погутарить право имеем? — Не дожидаясь ответа Карая, процедил сам себе сквозь зубы:
— Имеем. А ежели какая оплошка выйдет, так я себя прибить, как Грач, не дам. Придушу эту падаль по-тихому, а, Карай? Это Грач — птаха весеняя, а я — гада ползучая. — Парень обнажил в ухмылке длинные желтые зубы и вразвалочку пошел к столу Седого.
Довольный таким развитием дела, Карай только бросил напоследок, для будущей отмазки перед Батей:
— Ты только это. Удав, не гони…
Удавом парня прозвали еще лет десять назад. А все потому, что парнишка, насмотревшись в комсомольском видеосалоне всяких шаолиней и якудз, обратился к продвинутым столичным наркошам, наезжавшим на юг за полудармовой травкой, и за комок грязного «пластилина» изукрасили они ему тощий в те поры торс сложной цветной татуировкой: чешуйчатое тело неведомого доисторического гада кольцами обвивалось вокруг, а на груди жуткая рожа со стылыми глазками скалила гнусную пасть. Парня задразнили было, да за одно лето он взял и вымахал под метр девяносто. И руки у него оформились: длинные, как литые, и владеть ими он научился, будто тисками: ухватит — не упустит. Шею кому свернуть по-тихому — как два пальца обмочить. И ведь сворачивал.
Сейчас он шел к столу Седого медленно, тяжело, заводя сам себя до той хорошо известной ему степени тихой ярости, когда так легко и так приятно ломать хребты всяким недоноскам.
Братки наблюдали за приятелем с растущим куражом: что-что, а кураж веселит пьянее вина. Близкая, непосредственная власть над другим, над его страхом, над его жизнью, над его душой кружит голову неверным мерцающим туманом всесилия и всемогущества…
Вы так высоко парите, Здесь, внизу, меня не замечая… — ревели динамики.
Удав тяжко опустился на стул прямо перед Седым.
— Здорово, убогий.
Седой поднял взгляд, и Удаву поневоле стало не по себе: не было в глазах этого странника ни страха, ни удивления. В них ничего не было. И это казалось куда страшнее любой бездны. Удав опешил, растерялся, он вдруг разом потерял раж и решимость, а вместо хмельного волнения, ощутил в душе холодную, безличную пустоту. Противно заурчало под ложечкой; внезапный смертельный страх ледяной волной облил все его существо; парню даже показалось, что волосы зашевелились у него на затылке… Он попытался заглушить страх гневом, но, вместо горячей упругой волны, со дна изметавшейся души поднималось что-то суетливо-заискивающее… А Седой продолжал сидеть недвижно и взирать на пария пустыми зрачками.
Вы хотя бы раз, всего лишь раз На миг забудьте об оркестре, Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, Меня узнайте, мой маэстро…
Седой вздрогнул. В глазах словно пробежала искра; теперь он смотрел на Удава так, будто очнулся от тяжкого забытья, от безумия, будто впервые увидел сидевшего напротив парня въяве, не смешивая, не путая с бредовыми видениями, с призраками, до той поры населявшими его усталую память.
А у Удава отлегло от сердца. Перед ним был живой человек, из мяса и костей, и в его воле сломать ему хребет — одним движением, с хрустом! Осознание, что его силе невозможно противиться, подняло долгожданную волну гневливого куража, а тот перепуганный бесенок, что суетился и боязливо скрежетал коготками, словно узрев перед собой настоящего зверя, теперь затих, затаился, как умер.
Удав передохнул вполвздоха, дважды сжал и разжал побелевшую, сведенную судорогой кисть руки… Сейчас он смотрел на соперника в упор, тем тягостным взглядом, какой приводил в предсмертный трепет даже конченых отморозков. И — встретил полностью отсутствующий взгляд Седого. Тот словно прислушивался к чему-то в себе…
Такое пренебрежение больнее плети хлестнуло по самолюбию парня; одним движением он отбросил стол в сторону, вскочил и ринулся на противника. Седой шагом приблизился вплотную, прильнул к нападавшему, словно клещами сцепил локтями его туловище и повернул спиной к двери.
Глава 6
Крупное тело парня задергалось: на спине его задымились разрывы, пули, кувыркаясь, вгрызались в плоть, вырывая куски живой ткани. Пущенная из бесшумного корот-коствольного «скорпиона» очередь казалась бесконечной.." Двое в черном, выросшие в проеме двери, как призраки, поливали все пространство перед собой плотным огнем. На балюстраде оказалось еще четверо; еще двое — у дверей на кухню.
Братки вскакивали, переворачивая стулья, и тут же падали, не успев выхватить оружие: пули летели отовсюду, и сидящие плотной кучей охранники оказались их легкой добычей. Выстрелы щепили дерево столов, вгрызались в глиняные под штукатуркой стены, но большинство увязало в телах боевиков.
Молчаливые люди в масках деловито сновали по залу и комнатам; выстрелы звучали пробочными выхлопами; гораздо больше шума производили лязгающие затворы автоматов и звон выбрасываемых гильз.
Через сорок секунд все было кончено: братков положили всех; никто не успел сделать ни единого выстрела. Стасик лежал под одиноким столом в луже крови. На Седого, неловко скрючившегося под громадным телом Удава, тоже особого внимания не обратили: живые так не лежат. Стереосистема продолжала выдавать слова старого шлягера:
…Вновь игру свою начните, И, я верю, чудо повторится…
Люди в черном один за другим подходили к старшему, впрочем ничем не отличавшемуся от бойцов, коротко докладывали:
— На кухне чисто. Четверо.
— Во дворе чисто. Трое.
— Чисто. Одиннадцать. Контрольные?
— Да. Только грамотно: под разборку. Объект?
— В комнате.
— Один?
— Нет. С двумя девками.
— Красиво жить не запретишь.
— Уйти ему некуда: окна мы контролируем. Что-то тихо у него.
— Занят. И здесь музон грохочет. Тепленьким возьмем.
— А вот тепленьким совсем не обязательно.
— Дверь заперта изнутри. Проложена стальным листом, — доложил один из бойцов.
— Бережется раб Божий.
— Нужно запальничком снимать.
— Нужно — снимай, — Шуму будет.
— Тишина уже не обязательна. Как только, дверь снимем — пару гранат, для верности. А потом — огнем прополоскать. Дочиста.
— Есть.
— На рубеж!
— Есть.
Бойцы застыли, ожидая, когда сработает куммулятивный заряд. И удар и взрыв были совсем негромкими; сорванная с замка дверь начала медленно раскрываться наружу… Трое уже сдернули кольца с лимонок, готовясь закатить их в комнату…
Шквал огня, сопровождаемый диким грохотом, вырвался из комнаты, распахнул дверь, покорежил, сорвал с петель, смел все живое и неживое с площадки. Двое бойцов, буквально перерубленные очередью пополам, тяжелыми кулями были сброшены вниз. Тяжелые пулеметные пули еще крушили перила лестницы, когда разорвались две гранаты, выпущенные из рук убитыми, и в грохоте взрывов сотни осколков с визгом разлетелись в замкнутом пространстве, поражая все вокруг. Секунду спустя громыхнула третья.
А пулеметная очередь не прекращалась. Батенков появился на площадке перед дверью, сжимая обеими руками крупнокалиберный пулемет. Одним взглядом он оценил обстановку, двинул стволом вдоль коридора и снова нажал спуск. Тяжкие, почти пятидесятиграммовые пули разметали на пути все, крушили дерево, рушили стены.
Ничего живого после такого огня остаться в комнате не могло, но Батя продолжал судорожно водить изрыгающим пламя стволом.
Один из бойцов, укрытый под сводом в «мертвом» пространстве, высунулся на мгновение, вскинул пистолет и сделал единственный выстрел. Голова Батенкова дернулась, пулемет поперхнулся, выпал из рук и с грохотом ударился о настил пола. Зал, после вспышек выстрелов погруженный почти в полную темноту, заполненный пороховой гарью, разбитый, разрушенный, выглядел, как потревоженная варварами гробница из фильма ужасов. Из бойцов, находившихся в зале, в живых осталось двое. Оба, оглушенные, еще не отошедшие от шока, сняв маски, тихо обозревали окружающее.
— Ты его снял? — наконец выдавил первый.
— Ну.
— «Экс» — первый?
— Убит. Он и еще семеро.
— Ну и ну.
— Бывает. Расслабились раньше времени, вот и…
— Было принято неверное решение.
— Да брось. Корнет. Полеты за нас разберут. Будет кому.
Из кухни вышли еще трое. Огляделись:
— Круто.
— Грязная Операция.
— Куда грязнее. Сколько у нас на улице?
— Четверо.
— Вызывай сюда. Быстренько зачистимся — и ноги.
— По инструкции…
— Да пошла она, эта инструкция! По каким инструкциям у этого Шварца такой ствол оказался в комнате, а?
— Жить захочешь — и миномет заныкаешь.
— Разговоры! Вызывай всех!
— Есть.
Человек сказал что-то в переговорное устройство, и снова воцарилась тишина. Через минуту четверо опасливо, страхуя друг друга автоматами, вошли в комнату.
— Ну, чего уставились? Мораль: стоит одного отморозка не утихомирить вовремя маленькой пулькой, он возьмет заныканную под раскладушкой гаубицу и начнет крошить все, что ни попадя! Усекли? — Принявший на себя командование помолчал, продолжил:
— Давайте-ка уже без сюрпризов! Зачистить все! Стволами вперед! Пошли!
Он едва договорил эти слова — и застыл. Лицо его приняло выражение крайнего удивления… Дырочка с красно-черным окаемом, казалось, появилась на лбу сама собой; выстрел грохнул позже. Вернее, это был не один выстрел: они загрохотали почти непрерывно, но, в отличие от сметающего все на пути слепого пулеметного огня, каждый был прицельным.
Седой мужчина стоял под второй лестницей в полный рост, в обеих руках было зажато по пистолету, и каждый ствол выплевывал оранжевые всполохи пламени.
Человек владел оружием блестяще: он видел все поле схватки разом, и его пули настигали тех из бойцов, кто мог хоть куда-то скрыться или произвести ответный выстрел за доли секунды до того, когда это действительно могло бы произойти.
Через три-четыре секунды Седой метнулся в укрытие: трое бойцов успели уйти с линии огня и затаиться. Автоматные пули зацокали по перевернутому столу; аккуратно, страхуя друг друга, бойцы двинулись вперед, чтобы уничтожить и без того чудом оставшегося в живых противника. Угол, перевернутый стол. Он в капкане, укрыться ему негде. Они были готовы ответить огнем, если хоть что-то шевельнется.
Три пистолетных выстрела слились в один. Все трое боевиков, получив в затылок по пуле, кувыркнулись вперед, словно сбитые ловкой рукой кегли. Седой стоял позади, на балюстраде: за какое-то неуловимое мгновение перед тем, как перевернуть стол, он сумел бесшумно, кошкой, запрыгнуть туда, подтянуться на руках и так же бесшумно проползти несколько метров по разбитому вдрызг деревянному настилу. Это могло показаться и чудом, да вот оценить исключительное мастерство, искусство этого человека было некому: живых в зале не осталось.
Седой опустил пистолеты, выщелкнул обоймы, заменил полными. В глазах его плясали отблески странного чувства: словно это был не вполне проснувшийся человек, так и не осознавший до конца, сон перед ним или явь. Он недоуменно оглядывал зал, вроде бывший знакомым ему, в то же время прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом, словно лунатик, спустился вниз, подошел к раздолбленной стереосистеме и вынул остановившийся диск. Он оказался целым. Вернулся на балюстраду, застыл у исковерканной двери, прислушиваясь, достал пистолет и быстро шагнул в растворенный проем.
На постели, забившись в угол, сидели две перепуганные девчонки. Седой подошел, рывком сбросил одеяло, осмотрел ложе: оружия не было. На девичью наготу не обратил никакого внимания. Осмотрел комнату, подошел к большому настенному шкафу, открыл. Внутри оказалось что-то вроде выставки оружия: пистолеты, винтовки, ручные пулеметы, снайперские прицелы. Отдельно, внизу, в ящике, в полном порядке маслянисто блестели снаряженные обоймы патронов и пулеметные ленты. Неожиданно обернулся, встретил взгляд Оли, сделавшей попытку сорваться с постели и сбежать. Девушка тут же снова забилась в угол, прикрывшись одеялом.
— Это — твое? — спросил он девочку:
Та энергично замотала головой.
— Чье?
Обе девочки перепуганно молчали.
— Чье? — повторил Седой монотонно ц настойчиво, и эта монотонность пугала хуже окрика.
— Бати.
— Отца?
— Нет. Любовника.
— Где он?
— Мертвый. У порога;
Седой только кивнул.
— Что там? — не удержавшись, спросила девушка. — В зале?
— Ничего. Трупы.
Седой, более не обращая на девчонок никакого внимания, подошел к стереосистеме, сунул диск, нажал на кнопку на пульте. Листал альбом, пока не зазвучали первые аккорды песни, слова…
Меня узнайте, мой маэстро…
Пусть мы далеки, как «да» и «нет», И рампы свет нас разлучает…
Мужчина поискал глазами, увидел большое зеркало в стенном шкафу, подошел, долго, пристально вглядывался в свое отображение. Выдохнул, закрыл лицо руками и стоял так с минуту. Потом вернулся к оружейной горке, быстро и споро набил найденную здесь же объемную спортивную сумку самым разнообразным оружием, набросил оставленную Батенковым куртку — и направился к двери. У самого выхода неожиданно обернулся, уставился немигающим взглядом на Ольгу, и она снова замерла у стены.
— Тебе нельзя баловаться с оружием. — Помолчал, добавил:
— Оно убивает.
Он уже направился было прочь, когда услышал ее вопрос:
— Кто вы?
Мужчина снова обернулся. Глаза его потемнели, как от нестерпимой боли; на миг их словно занавесила стылая смертная тень… Но через мгновение он уже справился с собой, произнес, едва разлепив губы то ли в усмешке, то ли в гримасе потаенной боли:
— Маэстро.
Глава 7
Через несколько минут Ольга услышала звук мотора отъезжающей машины.
Какое-то время продолжала сидеть в полном оцепенении, потом встала, быстро подошла к оружейному шкафу, одним движением схватила дробовик-булпап, открыла ящик с патронами, передернула затвор и быстро, умело стала всаживать в магазин патрон за патроном. Потом с оружием наперевес выглянула из двери… Горло разом перехватило острым запахом пороховой гари. Первое, что она увидела, — это разбитая пулей голова Батенкова, лежавшего навзничь в луже крови и еще чего-то вязкого и липкого. Живот дернуло куда-то внутрь, и девушку вывернуло разом.
Откашлявшись, она ринулась назад, в комнату. Услышала из угла какое-то всхлипывание, обернулась: Катя сидела, забившись в самый угол комнаты, прикрывшись каким-то половичком, и смотрела на Ольгу, как на сумасшедшую.
На секунду Ольга замерла, потом встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от наваждения… А песня, которую поставил Маэстро, продолжала звучать:
Вновь игру свою начните, И, я верю, чудо повторится. Если б знали вы, учитель, Как вам верит ваша ученица…Внезапно Оля увидела большое зеркало, в которое несколько минут назад смотрелся седой мужчина, и свое собственное отражение в нем: раздетая донага, насмерть перепуганная девчонка, с каким-то несуразным бантом в волосах, в белых школьных гольфах — и с огромным дробовиком в руке! Сдавленное «ух!» вырвалось у нее. Она как-то разом обмякла, села прямо на пол — и зарыдала, завыла в голос.
Сколько она так просидела, девушка не знала. Истерика закончилась так же внезапно, как и началась. Оля обнаружила себя лежащей в том же углу, в обнимку с Катей, и обе они оказались закутаны с головой половичком, словно хотели сбежать, скрыться из этого страшного мира; чтобы пришел кто-то сильный и в одно мгновение перенес их обеих туда, где много яркого солнца, где зелень пальм, голубизна бассейнов, где люди расслабленно-ленивы, богаты, ухоженны и добры, как кастрированные псы. Оля знала такое место: Санта-Барбара.
Разозлившись на себя сверх всякой меры, она одним движением вскочила на ноги, выдрала из волос дурацкий бант, подошла к шкафу, распахнула, вытащила обтрепанные вельветовые джинсы, надела прямо на голое тело, порылась, нашла еще одни, хлопковые, бросила товарке, прикрикнула зло:
— Ну что расселась, как клуша! Одевайся! Рвать когти надо!
— Что?
— Сматываться, поняла! Бежать!
— Бежать? Куда?
— Тебе — к папе с мамой, целка недоделанная, вот куда! Хлебнула блатной романтики по самое не хочу, и вали!
— А ты?
— А я — куда глаза глядят. — Ольга зло глянула на Катю, прикрикнула хлестко:
— Ну!
Девчонку словно кнутом протянули вдоль спины: вскочила, путаясь, натянула трусики, потом штаны, влезла в брошенную ковбойку.
— А все — впору, — растерянно произнесла она.
— Дура, — незлобно ругнулась Ольга. — Вещи-то мои. А Папа толстых не любил.
Сама она уже оделась. Поискала глазами, наклонилась, подобрала миниатюрный никелированный «смит-и-вессон», проверила барабан, засунула револьвер за пояс.
— Зачем это? — пролепетала побледневшая Катя.
— Застрелиться! — огрызнулась Ольга, гибко наклонилась, подхватила с пола дробовик, клацнула затвором, взяла оружие наперевес и сторожко, словно босиком пробиралась по битому стеклу, двинулась прочь из комнаты.
— Держись за мной, поняла? — велела она девушке. — Только не ори, ладно?
Захочется блевать — рыгай сразу, не бегай по углам.
— Чего? — переспросила было Катя и в ту же секунду, увидев развороченный взрывом труп одного из нападавших, поперхнулась, согнулась пополам, рухнула на колени.
— Ну ты, не очень-то… Пора!
Катя только кивнула, встала на ноги и, держась за руку подруги, побрела за ней слепо, стараясь больше не глядеть ни на что.
Кое-как они вышли во двор. Ночь была прохладной, с моря дул крепчающий бриз, предвещавший непогоду и шторм.
— И что дальше? — одними губами спросила Катя.
— Машин навалом. Сядем и отвалим. Оля пошла было к одному из джипов и тут же села на землю, словно силы разом оставили ее.
— Ты что? — наклонилась теперь над ней Катя.
— Ничего, — ответила Ольга, глядя прямо перед собой невидящим взглядом.
— Не сиди. Сама же сказала… Нужно уходить отсюда.
— Куда?
— Ну, найдем куда! Ко мне поедем. Мать уже накушалась в лоскуты, бабка у меня парализованная, никто ничего… До завтра перебедуем, а там — видно будет.
Оля тряхнула головой, словно приходя в себя, глянула на Катю, скривилась:
— Картина битвы мне ясна. Девочка из, неблагополучной семьи. За этой, как ее… за чертой бедности, И девочке захотелось колготки эластик, шубку и золотое кольцо. В нос.
— Ну и захотелось! Что, всю жизнь так и прожить — среди бабкиной вони и материного пьяного гундежа?!
— Зато теперь хлебнула большого человеческого счастья. Аж наизнанку вывернуло. Катя вздохнула.
— Ладно, подруга, не бери в голову. Я не в осуждение. При тонком кошельке всем хочется толстого счастья. Тебе повезло. Ты еще не вляпалась. Тебе есть куда вернуться. Мне — некуда. — Оля вздохнула.
— Как это — некуда?
— Вот так. Увязла я во всем…
— В чем это?
— Не важно.
— Что ты несешь? Сейчас мы…
— Заткнись! Прав был тот сумасшедший, как его…
— Маэстро.
— Ну, Маэстро. Баловаться с оружием нельзя. Оно убивает.
— Олька, ты не в себе…
— Еще как в себе. Уби-ва-ет. Или ты, иди тебя. Третьего нет. — Она замолчала, глядя в одну точку, приказала зло:
— Вали отсюда. Живо.
— Как…
— Ножками. По бережку. А лучше — пересиди где-нибудь в рыбацкой лодчонке.
Не замерзнешь. А с утреца — до дому, до хаты. Разные у нас с тобой тропки. Давно разные. А что здесь была, забудь. Совсем забудь.
— Ты говорила — на машине.
— Дорога здесь одна. Перехватят.
— Кто?
— Конь в пальто и два жирафа. — Помолчала, подошла к автомобилю, отомкнула дверцу. Взяла с сиденья пачку сигарет, из бардачка — зажигалку и початую фляжку бренди. Открутила крышку, хлебнула прямо из горлышка, закурила. — Будешь?
Катя отрицательно замотала головой.
— Вольному — воля, спасенному… Беги. Спасайся. Потом будет поздно.
— Олька, ты правда не можешь? Или — нарочно меня отсылаешь, чтобы самой…
— Сколько тебе лет, дите?
— Тринадцать.
— А выглядишь старше.
— А сама-то ты…
— Все. Прекратили пререкания! Бегом! Рысью!
— Я не…
Ольга одним движением вскинула дробовик — выстрел треснул в ветреной ночи, как сухая жердина. Картечь с воем пронеслась над головой девушки, Катя вздрогнула, скукожилась, как воробушек…
Одним движением Ольга передернула затвор:
— Беги!
Катино лицо побелело как мел. На секунду она замерла, будто держа равновесие на краю пропасти, и стремглав понеслась туда, к обрыву, в спасительную темноту. Ольга посмотрела ей вслед, обессиленно опустилась на порожек джипа, подобрала выпавшую сигарету, сделала из фляжки длинный глоток, затянулась несколько раз, не вынимая сигареты изо рта… Произнесла тихо, словно про себя:
— Беги, девка, пока есть куда.
Посмотрела в степь, на дорогу. Росчерков фар в ночном небе видно не было, но это ни о чем не говорило: они могли появиться отовсюду. Нужно объявляться, немедленно, не то шансов прожить ближайшие полчаса у нее не останется никаких.
Прислушалась: ну да, со стороны моря отчетливо слышался вертолетный гул. Ольга встала, подошла к лимузину, в котором ехала сюда с шутом Стасиком и Батей, открыла дверцу, выудила с заднего сиденья сумочку, достала из нее то, что выглядело как плейер, включила, нажала едва заметный тумблер, надела наушники, покрутила колесико настройки, нашла нужную частоту, произнесла в горошечный микрофон, замаскированный под гнездо постоянного тока:
— Я — Киви, я — Киви, вызываю того, кто меня слышит.
— Первый слушает Киви. Что там происходит?
— Уже ничего.
— Не понял тебя, Киви. Повтори. «Уши мыть надо, коз-з-зел!» — со злостью пронеслось в голове девушки, но вслух она произнесла:
— Ваша группа уничтожена. Полностью. На какое-то время в эфире воцарилась тишина, потом голос спросил:
— Кем? Людьми объекта?
— Частично самим Ба…
— Не сори в эфире! — грубо оборвал ее голос.
— Частично самим объектом-1, частично — каким-то психом.
— Психом?
— Ну да.
— Что за псих?
— А я почем знаю? Седой. Жилистый. Странный. Сначала Ба… объект помесил ваших из пулемета, потом — этот.
— Он из людей объекта?
— Да нет, говорю же! Ваши всех братков положили враз. Объект в это время со мной и с… с одной шмарой занимался любовной игрой в комнатухе. Нужно сказать, очень изобретательно занимался…
— Киви! Докладывай конкретно!
— Ваши люди действовали тихо, но Ба… но объект услышал. Вернее — почуял.
Открыл шкаф, а у него там оружия — горы, вытащил такую «шайбу», что…
— Какую шайбу?
— Пулемет. Крупнокалиберный. Ваши люди уже с его пацанами разобрались, сгрудились у двери, рванули. Ну он их и встретил.
— Откуда у него там такое оружие?
— От верблюда. Я что, Цезарь, все знать?
— Почему не вышла на связь с группой и не предупредила?
— Да? Сказать… объекту: «Папа, у меня туг сеанс связи космической с теми, кто за дверью… Пока они нас гранатами не закидали, предупредить, бы надо что ты парнища резкий, можешь и зашибить кого, дабы поостереглись». Так? А самой, как пионерке-героинке, принять мученическую смерть? За идею? Тогда скажи за какую, Первый?
— Киви…
— Нет, ты погоди! Ты же хже списал меня, как Батю, да?
— Киви!
— Плевать я хотела на всю вашу долбаную конспирацию! Так вот слушай: у Бати в мизинце мужества было больше, чем у всей вашей своры! Понял?! Да, одного вы завалили, но есть еще, они вас скрутят, козлов, разметут по кочкам и пням!
— Дура!
— Сам козел! — огрызнулась девушка. — Иди посмотри на своих: куски паленого мяса! Твои люди, между прочим!
— У тебя истерика!
— Ну да. Семнадцатилетняя пацанка попала под каток. Причем не в первый раз. Дай хоть поорать.
Два вертолета вынырнули из мглы над морем, быстро спустились. Из них. выскакивали бойцы в камуфляже и бежали к зданию. Двое выскочили последними, огляделись, заметили ее. Тот, что пониже и покоренастей, поднес к губам передатчик:
— Подойди-ка сюда, птаха неразумная, поговорим накоротке.
«Бить будет», — промелькнуло в голове у девушки, но она смело пошла навстречу мужчине. В конце концов, у нее за поясом ствол, и пользоваться она им умеет. Конечно, после этого его подчиненные превратят ее тело в решето, ну да…
— Вот ты какая, птичка Киви…
— Какая есть.
Глава 8
— Ну что ж, пойдем посмотрим пейзаж. А ты по ходу все популярно и расскажешь.
— Не пойду. Насмотрелась. А вам бы когти рвать надо по-скорому. Грохоту тут было — выше крыши.
— То-то, что грохоту. В поселке два ментика да казаки, гораздые только в престольный праздник нагайками махать. Поди, звонят в район. А районным тоже под пули не шибко охота: будут согласовывать с краем. Пока суд да дело, мы тут даже на телегах все добро вывезем, не то что «вертушками».
— Кончай философствовать. Дик, — хрипло произнес другой мужчина, высокий, черноволосый. — Операцию ты завалил. Вчистую. Пошли глянем, как лучше зачиститься. Что будем говорить там? — Он указал глазами на небо.
Коренастый сплюнул, они оба скоро зашагали к зданию. Оля постояла молча, потом по-воровски вытянула из куртки фляжку и прикончила ее в несколько глотков.
Мужчины уже возвращались. Бойцы тоже, бегом: с собой волокли запакованные в черные пакеты тела убитых, сгружая их на дно вертолетов.
— В машину, живо! — велел ей коренастый Дик.
— Ты тут сильно не командуй! Уже докомандовался. — Девушка кивнула на трупы.
От хлесткой оплеухи она ушла уклоном и с силой воткнула ствол револьвера коренастому в печень:
— Только тронь меня, подонок!
Голос ее дрожал, бойцы, что грузились в вертолеты, замерли разом, глянули на обоих командиров, ожидая приказа.
— Тихо, Оля, тихо, — медленно выговорил высокий. — У тебя был трудный день. У всех нас был трудный день…
— У вас был трупный день, поняли? Труп-ный. — Девушка опустила револьвер.
— И скажи этому коротышке, чтобы не лез.
— Пусть будет так. Прыгай в машину, в воздухе договорим.
— Я с покойниками не полечу. — Ольга вдруг усмехнулась глупо, и мужчины только теперь поняли, что она абсолютно пьяна.
— Здесь нет покойников.
— Да? А кто тогда вы? Трупы?
Девушке никто не ответил.
Через минуту оба вертолета, взревев моторами, оторвались от земли и пошли в сторону моря. В ту же секунду все здание ресторана-шале и надводные пристройки вспыхнули разом. Даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: к приезду властей здесь не останется ни-че-го. Лишь сгоревшие дотла стропила, расплавленное стекло и гильзы, черные остовы редких металлоконструкций и растрескавшаяся на тысячи осколков черепица.
Как завороженная девушка смотрела в иллюминатор на уплывающее в ночь зарево.
— Спецсостав, — коротко пояснил коренастый. — Рядом с ним напалм — обычная солярка. Сжигает все, даже камни. — В его голосе звучали и примирительные нотки и… Девушка даже не поняла сначала, что это была гордость! Будто бы именно он изобрел этот адский огонь.
— Полезная вещь, — хмыкнула Ольга.
Вертолеты летели еще минут десять, потом открылись люки, и бойцы стали сбрасывать упакованные в пластик тела в черный проем. Груз был подвешен заранее, и покойники летели в бездну, вытянувшись по стойке «смирно», словно в молчаливом строю на дьявольском параде, безымянном, беспамятном и бесславном.
— Ну вот и примирились грешные души, — прокомментировал худощавый, повернулся к Ольге:
— Ты готова рассказывать?
— Готова, как шерсть котова. Выпить дадите, тав-а-арищ?
— Называй меня Глостер.
— Гло… чего?
— Глостер.
— Ну и погоняло вам выбрали, уважаемый. Как у больного.
— Глостер был британский герцог.
— Да? Что-то не похоже.
— Не важно. Я слушаю тебя.
— Да я все уже Дику рассказала. — Ольга усмехнулась глуповато, добавила, постаравшись придать голосу сарказм:
— Первому.
— Я слышал твой рассказ. Ты упоминала о каком-то психе.
— Ну да. Точно ненормальный. После того как Батю завалили, мы сидели…
— Кто — мы?
— Я.
— Не ври. Была еще девица. Среди трупов ее не нашли. Куда делась?
— На кудыкину гору! Я что, нанималась следить за всякими шалавами?
Сбежала. Как стрельба утихомирилась, так припустила, только пятки сверкали.
Глостер полуобернулся к какому-то совсем неприметному, серому субъекту, сидевшему у него за спиной:
— Девку отыскать. И зачистить.
— Несчастный случай? — едва слышно спросил тот.
— Да. Так лучше всего.
— Вы что, хотите… — начала было Ольга, но Глостер оборвал ее жестко:
— Вот что, сучка! Жалостливая стала, да? Ты о себе подумай. Позаботься, так сказать. Пока летим, а скоро начнется детальный «разбор полетов». Операция провалена, и зачищаться будут все.
— Тогда начните с себя, герцог!
Глостер покраснел, произнес:
— Тебя, девка, вынули из дерьма. Отмыли, отпарили…
— …И засунули в такое дерьмо, по сравнению с которым то — просто ванна с шампанским.
— Сука. Устроил бы я тебе экскурс в прошлое. Пожизненно.
— Так что мешает? Нужна, да?
— Не слишком. Так что не зарывайся. Просто та часть проекта одного… весомого человека. А он, как всякий смертный, честолюбив. Ему дорого его детище.
— Глостер помолчал, чиркнул спичкой-, прикурил, произнес резко:
— Все, детка.
Дискуссия о природе вещей закончена. Будем считать, я намеренно дал тебе возможность поболтать, чтобы прошли последствия боевого стресса. Теперь отвечай на вопросы. И — Глостер сделал предостерегающий жест, чтобы Оля не посмела прервать его:
— Если ты не въедешь в тему и вякнешь еще хоть слово, я выброшу тебя из этого геликоптера, как падаль. — Глостер жестко свел тонкие губы, добавил:
— Власти у меня для этого хватит.
На какое-то мгновение Оле стало страшно до жути. Такой страх бывает только в бредовых кошмарах: вязкий, ледяной, когда вдруг понимаешь, что спасения нет никакого.
Совсем.
Сглотнув жесткий, будто наждачный, комок, перехвативший горло, она произнесла неожиданно:
— А вы похожи.
— Кто?
— Вы и тот, седой.
— Какой седой?
— Ну я же рассказывала… Тот, что перебил всех. Он…
От него веет смертью.
— На, глотни. — Глостер протянул девушке фляжку.
Она мотнула головой:
— Не хочу. Он вошел в нашу комнату… Я подумала: сейчас он нас застрелит.
Но он… Он не обратил на нас никакого внимания. Подошел к магнитоле w поставил музыку… Пока она звучала, долго рассматривал себя в зеркале… А потом — ушел.
— И все?
— Все. Он только сказал… Он сказал, что мне нельзя брать в руки оружие.
Оно убивает.
— Бред какой-то…
— Очень похоже. Я… я спросила, кто он. Ну да, он и песню эту слушал…
«Гаснет в зале свет, и снова я смотрю на сцену отрешенно…»
— Ты говоришь, он назвал себя?
— Да. Он сказал — Маэстро.
— Маэстро?!
— Да.
Глостер побледнел, застыл, уставив взгляд в одну точку. Потом произнес едва слышно:
— Этого не может быть. Маэстро мертв. Девушка пожала плечами:
— Это вряд ли. Мертвые не убивают. Убивают только живые.
Часть вторая ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
Глава 9
Але Егоровой снился снег. Словно она брела сквозь занесенное поземкой поле по едва видимой тропке. И чувствовала, что замерзает. Стыли ступни, холод подбирался по икрам вверх, и она боялась, что скоро вообще не сможет переставлять ноги, упадет, свалится на бок в глубокий сугроб и ее занесет, запорошит так, что не найдет уже никто и никогда. Откуда-то она знала, что в этих краях никогда не бывает весны: только низкое, будто притянутое к земле небо, бесконечно сеющее сухую снежную крошку, только стылые стволы безжизненных тощих деревьев, только серые избы, выстуженные, брошенные, с заиндевевшими стенами… И брела она неведомо откуда и неведомо куда, брела только потому, что боялась упасть и замерзнуть, хотя ноги уже ломило, уже перехватывало болью простуженное горло, и ей вдруг казалось, что упасть и уснуть гораздо проще, чем безнадежно брести по целине… И тут она услышала волчий вой; надрывный, тягостный, он вклинивался в мозг зудящим зуммером бормашины, он сковывал волю, он заставлял замирать сердце, он неволил разум и словно принуждал душу падать в щемящий холод небытия… Самих волков она не видела, но ощущала их приближение… Девушка почувствовала, как все тело ее оросил холодный липкий пот, и — проснулась.
Вой продолжался и наяву. С минуту Аля лежала, испуганно прижавшись к насквозь мокрой простыне, пока заунывное завывание не оборвалось вдруг, и девушка сообразила, что это был просто-напросто зуммер сигнализации невесть отчего сбрендившей иномарки, припаркованной там, внизу, у парадного подъезда гостиницы. Ну да, она в гостинице, в славном курортном граде Южногорске; на соседней постельке мирно сопит Ирка Бетлицкая, а за оконцем стелется прохладная ночь. Настолько прохладная, что хочется залезть в ванну, сунуть туда кипятильник и ждать, пока вода забурлит пенными газированными пузырьками.
Аля тряхнула слипшимися от пота волосами. Голова была тяжелой, как чугунная чушка, суставы ломило, пот липким плащом кутал все тело… Ну надо же, подхватить грипп летом в курортном городке! Все просто: сначала поджарилась на жгучем солнышке, потом, когда сидели с девчонками на веранде за мартини, лениво и цинично обсуждая фланирующие мимо «штаны», первых мелкотравчатых альфонсиков, подтянувшихся на курортный сезон, просквозило-таки свеженьким вечерним бризом, остужая чуть обожженную кожу. И вот результат: нос сипит, как газировочный сифон перед издыханием, ноги-руки крутит, волки воют… волки… Или она простудилась еще там, в зиме?..
Аля тряхнула головой. К чертям всю эту вурдалачью бредятину. Простыла — вот и худо. И зачем ей было ехать на этот показ? Конечно, не за деньгами: просто хотелось развеяться. Гончаров умчал по делам своего среднего бизнеса в Европу, да и сачкует там уже третью неделю; Княжинск и собственная квартирка ей порядком опостылели, а тут в агентстве предложили смотаться на конкурсный показ коллекций молодых дизайнеров, в Южногорск. Многие политтузы, короли и прочие кони съезжались по этой поре в Южногорск поболтать-пообщаться. Или, другими словами, выработать совместные платформы, блоки, коалиции, планы, обсудить, так сказать, реалии. В теплой и незатейливой обстановке. А если еще короче — поделить бабки, дензнаки, зелень, хрусты, капусту, растущую на этом огороде, аки лопухи и чертополохи на брошенных подворьях; да и о поствыборном урожае покалякать треба: что-то, как принято, пожрет долгоносик, но и останется немерено! Гостям — по мякишу, зато своим — по горбушке!
Аля поморщилась; мысли были сродни сну: такие же тупые и тяжелые. По правде сказать, ей было давно наплевать на все эти большие игры; Олег, тот участвовал по мере разумения, но ее не грузил. Да и учеба — Аля заканчивала второй курс политеха по специальности «программист» — не оставляла времени ни на чтение брехунков, ни на лазание по дебрям, которые по полному недоразумению называют политикой. Нет, пора в ванну, в горячую воду: все мысли от холода, холод и такой снег, какой ей привиделся, словно преддверие преисподней, и снятся они… к чему? И к чему тогда снятся волки?
Девушка встала с мокрой насквозь постели, одним движением сбросила сорочку и пошла в ванную. Спонсоры постарались: номер был вполне европейский, ванная комната сияла чистотой, и все же она вчера, по природной брезгливости, не поленилась вычистить «корыто» по-своему, с хлоркой. Аля плеснула пены, запустила воду, уселась в ванну на белоснежное банное полотенце — и снова уснула. На этот раз сон был тяжкий и удушливый. Она словно плыла сквозь мутную воду; в воде ей почему-то дышалось, и она полагала это само собой разумеющимся; время от времени она раздвигала в серой непроницаемой толще бурые водоросли, а сердце продолжало трепетать: ей казалось, что из этой мути вот-вот вынырнет скользкая мурена и затащит ее в темную нору.
Какая-то тень скользнула по лицу, водоросли сгустились разом, из их гущи словно что-то потянулось к ней, сердце мигом забилось загнанным зверьком. Аля дернула рукой — и проснулась.
Над ванной склонилась Ирка Бетлицкая и внимательно смотрела на нее. Але стало даже не по себе от такого взгляда: вот так глядели девки там, в детдоме, когда собирались разобраться со стукачкой.
Бетлицкая же вроде смутилась, пригасила взгляд, прикрыв глаза длинными темными ресницами.
— Ты чего это среди ночи купаться вздумала?
— Так. Нездоровится.
— Ты же уснула в ванне. Могла и захлебнуться, — произнесла Ира, и Аля уловила в ее голосе… Как бы это назвать? Нет, не сочувствие, а вроде как искреннее сожаление, скорее даже досаду, если бы такая незадача действительно приключилась. Аля усмехнулась про себя невесело; вот именно, незадача. И не больше. Милиция, неприятные расспросы, тя-го-мо-ти-на.
— Я за буйки не заплывала, — попыталась отшутиться Аля.
— Главное, не ныряй там, где водовороты. Утонешь, — вроде в тон ей произнесла Ира, но никакой шутки Аля снова не услышала: скорее злое пожелание, на гран" угрозы.
У Али чуть не сорвалось с языка: «Да пошла ты со своим сочувствием!»
Вместо этого произнесла только:
— Ирка, чего ты всегда такая злая?
— Того. Зато ты добрая, да?
— Ладно, поговорили. Писать пришла? Писай-и уматывай.
— А может, я тебя стесняюсь.
— Тогда перетерпи.
Аля демонстративно задернула занавеску и снова запустила воду, погорячее.
Развезло ее капитально. Услышала, как Ирка спустила воду, громко хлопнула дверью ванной.
Подумаешь! Вообще-то, девка какая-то дерганая. Когда она появилась в агентстве, Аля сразу заметила и ее жесткий, цепкий взгляд, и злобу, причем не такую, какая обычно случается у девчонок, — сродни ревности или стервозности; злобу затаенную, не блажную… Все заметили. Девка притом была — залюбуешься: худенькая, высокая, черноволосая и черноглазая; она была бы очень хороша собой, если бы не этот ее взгляд: будто каждый ей должен, должен пожизненно и посмертно… А она… Она только свое требует. И за это «свое» — и башку расшибет.
В том, что может расшибить, сомнений не было. Аля, наверное, и посочувствовала бы ей: дескать, трудное детство, безотцовщина и все такое…
Если бы у нее самой было легкое? Трудное детство — не повод становиться сукой по жизни.
Посочувствовать… Аля по глупости и сочувствовала сначала. Думала, отмякнет девка, — нет: даже сочувствие Ирка принимала как не сполна возвращенный долг.
Как бы там ни было, у Ирки Бетлицкой это был первый показ на выезде, и все девчонки селиться с ней наотрез отказались. Аля отнеслась философски: две ночи — это только две ночи, и век вековать с этой стервочкой придется тому козелку, какого она сумеет заарканить… Но вот болеть рядом с такой соседкой совсем не хотелось; погладил бы кто сейчас по голове, пожалел, глядишь, и грусть бы прошла, и простуда, что царапает горло кошачьей лапой, убрала бы коготки, затаилась… Человеку ведь так немного нужно: чтобы его пожалели. Чтобы он знал: его любят, за него переживают, о нем беспокоятся, и весь этот пестрый мир без него одного для кого-то разом померкнет, превратится в быссмыслицу, в пустую головоломку из каменных строений, снующих чужих людей, машин, невесть куда мчащихся товарняков, провисших проводов, пустых глазниц ночных окон, тоскливой безнадеги одиночества, так похожего на небытие…
Аля встала из ванны, ее качнуло. Тряхнула головой: да, расхворалась окончательно! Нужно что-то предпринять, и немедленно! Завтра, нет, уже сегодня вечером следовало быть в форме! Показ сложный, двенадцать коллекций, двенадцать основных девчонок-моделей и человек тридцать здешних, на «припаске». Подводить Олега Ефимова, режиссера, не хотелось никак; да и орать он будет… В два часа — генеральный прогон, вечером выступление, а Аля сама себе напоминает вареную курицу.
Девушка набросила белый махровый халат, запахнулась, прошла в комнату.
Ирка спала. Аля подошла к дорожной сумке, запустила руку, выудила плоскую бутылочку «мартеля» и баночку с аспирином. Вытряхнула сразу три таблетки, бросила на язык, запила остатками колы из пластиковой бутылки, налила полный стакан коньяку, отхлебнула. Ей показалось, коньяк отдает псиной. Ну тогда — залпом, как лекарство. Голова почти мгновенно поплыла куда-то, царапающий комок в горле растаял, стало вдруг до слез жалко себя… Сколько сейчас в Дрездене? А, плевать! Олег и так уже два дня не звонил, как пропал! Деловой тоже…
Аля взяла маленькую сумочку, достала сотовый. Нужно просто поговорить с тем, кто пожалеет, и станет легче. А потом она заснет и будет видеть только красивые сны. И проснется здоровой. Ну да: в этой жизни счастливы те, кого в детстве любили. В том самом раннем детстве, которое никто из взрослых не помнит.
Любили, жалели… И уважали, конечно: очень немногие родители способны относиться к своим детям с уважением, не просто как к своей собственности, но как к другим людям, пусть и маленьким, но со своим внутренним миром, со своими суждениями, принципами, мечтаниями… Нет, лучше не думать. Папа и мама погибли, спасая ее, и, если именно сейчас об этом вспоминать, станет горько до тошноты!
Какие-нибудь вшивые аналитики быстро бы вывели из этого комплекс вины и накрутили бы незнамо что. Дурость. Она просто благодарна своим родителям за то, что они были. И — любили друг друга. Этого вполне достаточно, чтобы быть счастливой. Вот только сейчас… Сейчас так хочется, чтобы кто-то пожалел.
Ну что за черт?! Але стало обидно до слез. Кнопочки сотового были темными, ни гудка, ничего, . Ведь только позавчера батарейки новые вставила! Девушка со злостью вытащила их, повертела, засунула обратно, крепко прижала пальцем.
Ничего. Телефон молчал, как стая кефали.
Аля со злостью бросила аппаратик в угол кровати, подошла к гостиничному.
Попыталась набрать международный код: фигушки, аппарат сбросил набор на шестой цифре и разразился короткими раздраженными гудками. Ну да, не в Америке: гостиничное начальство справедливо опасается, что постоялец натреплет с дальним зарубежьем сотню-другую минут и съедет по-тихому… Заказать через коммутатор?..
И торчать, пока не соединят, у аппарата соломенною вдовой? Да пошли они все!
Аля запрыгнула в кровать, закуталась в халат, сверху накинула простыню и толстое покрывало и почувствовала, что слезы сами собой покатились из глаз. Она закусила губу, чтобы соседка не услышала, как она плачет, но слезинки бежали тихонечко, будто сок из подрезанной березы, и словно уносили с собой тревогу…
А через минуту Аля. уже спала. Без сновидений.
Глава 10
Олег Ефимов был взвинчен и неласков, как всегда накануне представления. На прогоне орал, заводил сам себя, рычал в микрофон, обзывал девчонок бездарями и неумехами и к окончанию репетиции заявил, что всех уволит.
Так было почти всякий раз, но девушки терпели и даже относились к этому с иронией; чтобы получилось красивое шоу, на прогоне нужно выложиться. Впрочем, все это Аля Егорова запомнила, будто в тумане: в час ее разбудили, до полчетвертого она вместе с остальными тенью бродила по импровизированному подиуму, потом автопилотом вернулась в комнату, завалилась в постель и отключилась почти до самого вечернего показа. Проснулась, забралась под душ, — стрижка позволяла ей совершенно не думать о прическе; спустилась, бегло глянула расписание; у нее двенадцать выходов с одним окном. Схему дефиле она запомнила на взгляд, несмотря на полуобморочное состояние на репетиции; это было профессионально: так хороший актер запоминает текст роли — с двух прочтений.
Восемь вечера. Гости тусуются в холле, их же место пока — скучать в верхнем баре, курить, пить минералку за счет заведения… Самый дурацкий момент в работе. Подошла Ирка.
— Что-то у тебя вид неважный. На, выпей. — Бетлицкая подала чашку только что сваренного кофе.
— Забо-о-отливая, — иронично протянула одна из девчонок.
— Прямо мама родная, — добавила вторая. Ирка зыркнула на них с плохо скрываемой ненавистью. А Аля подумала-подумала, произнесла дружелюбно «спасибо» и отхлебнула из чашки обжигающей жидкости. Глупо быть злой. Может, и Бетлицкая это когда-нибудь поймет? А так… Этой неумной девке дерганая гордость не позволяет расслабиться, быть как все. Вот потому и дура. Вечно жестяное, словно собранное в пучок лицо — этакий кукиш старой девы, какой бывает не только в прическе, но и на физиономии. Если такое у неудачливых женщин по жизни, от откуда у этой в шестнадцать-то лет? И Олег, и стилист.
Оксана навсегда забраковали ее как фотомодель. «Ей бы эсэсовскую форму да овчарку под руку — и в концлагерь. А так, какой товар ни рекламируй, всю клиентуру распугает. С эдаким личиком — хоть в золото самоварное оберни да „шанелью“ полей с головы до пят — мужики шугаться будут, как от чумной», — сказала Оксанка при просмотре первых пробных фото. «Даже мазохисты?» — спросил кто-то. «Эти — в первую очередь! Им ведь не боль нужна, кратковременная иллюзия боли и чужой власти. А по этой горгоне без бинокля видно: если и причинит боль, то настоящую. Кому оно. надо?»
Впрочем, по подиуму Бетлицкая ступала так, словно ходить научилась раньше, чем ползать, потому и выбилась-таки, из молодняка, попала в основной состав. А вообще-то, будет так себя вести — вылетит в два счета: кому охота напрягаться еще и на злую стерву, когда и так работы выше головы? Ирку Бетлицкую поминали недолго: злословить девчонкам сегодня вовсе не хотелось. Как и той же Ирке — сидеть за столом «поломанной клипсой», как. выразилась одна из девушек. «Вроде и блестит, а никому не нужна, и приспособить не к чему».
— Я в номере. К показу буду, — бросила Бетлицкая и вылетела из бара.
— Примадонна… Ефимов ей устроит.
— Да ладно вам…
Перемывать кости Бетлицкой никому не хотелось. Время от времени Ефимов, забросив светское общение, появлялся в баре, что-то командовал, что-то требовал от администратора и снова пропадал: этакий плотный нервный смерч весом под сто килограммов и ростом под метр девяносто: когда-то он сам, дефилировал моделью по подиму, но было это еще во времена советские, давние, когда на показах серьезно обсуждали преимущество изделий фабрики «Красный текстильщик» над моделями дома моды «Большевичка», разумеется тоже красными. И насквозь преданными делу пролетариев всех стран и родной КПСС — в особенности. Сегодняшние же юные модельеры могли «оторваться по полной программе»: и обрядить девочек в осенние листья или весенние побеги, в ботфорты и шляпки с перьями, в чадры и шальвары, в кимоно или псевдорыцарские доспехи: делай все, что тебе нравится, с шоколадом, без шоколада, как угодно. Все, на что хватит фантазии. Хм, подумать только, а ведь сейчас не каждый студент с лету расшифрует эту аббревиатуру — КПСС, — украшавшую, если верить пращурам, каждый мало-мальски ладно сшитый забор, не говоря уже про административные здания. Реклама по-советски, вместо прокладок — от протечки мозгов. Тупо, зато результативно.
Аля тряхнула головой. При чем здесь КПСС? Ну да, навеяло: вчера местные стриптизерши представляли для южных горцев-завсегдатаев и вновь прибывших гостей, рискнувших посетить злачное место, новую программу «а-ля совьетико»: девушки, одетые в школьную форму двадцатипятилетней давности — платьица с оборками, в белых фартуках, в непременных чулках на подвязках — сидели за партами, бог весть откуда вообще взявшимися, цельнодеревянными, с откидными крышками; одна за другой они выходили по вызову «учительницы» — «строгой» тети в очках — и раздевались по очереди под мелодии старых советских шлягеров типа:
«Для меня нет тебя прекрасней…» Под занавес первого отделения «училка» тоже осталась лишь в очках и туфлях, и вся тусовка-массовка под бодрую песню «На прививку, третий класс…» бодро маршировала за импровизированные кулисы. Второе отделение спектакля представляло пионерский лагерь… Танцовщицы изображали теперь юных пионерок — в галстуках, пилотках, со всеми причитающимися причиндалами, вроде горнов и барабанов. Юных и нетронутых нимфеток строгий женоподобный «доктур» в белом халате заставлял раздеваться под предлогом медосмотра; ну а потом эти особы резвились нагишом в «спальнях», то танцуя ламбаду, то упражняясь с шестом, то имитируя лесбийскую любовь. Наконец, под аккомпанемент пионерских маршей все девушки голыми строились на линейку: в гольфах, пионерских галстуках и пилотках. Верховодила вожатая; барышню отличали черные чулки, кожаная плеть и многомерная грудь. Закончилась «линейка» спортивным праздником: девушки, играя кто обручем, кто скакалкой, упражнялись, как могли, широко расставляя ноги, поворачиваясь, что та избушка к лесу, то передом, то задом, наклоняясь, задирая ноги выше головы, демонстрируя темпераментным горцам то, что те и так видели десятки раз, но в другом оформлении.
Аля с подружками смотрела представление из-за кулис: кривляющиеся на сцене дивы их интересовали мало, а вот публика… Это было куда как занимательно!
Особенное сочувствие вызывал полнокровный господин, похожий, несмотря на пятисотдолларовый костюм, на недавнего председателя колхоза имени Ильича, в хозяйстве которого все и всегда непременно подъедал зловредный долгоносик.
Будучи сейчас, с подачи кого-то влиятельного и деятельного, чем-то в ранге замминистра, этот мирный в прошлом селянин и добросовестный пахарь парткомов явно недополучил во времена субтильного отрочества девичьих ласк; ретро-представление оказало на него шоковое действие: дядько сидел красный, как перезрелый томат, нижняя губа чуть отвисла, и с нее вот-вот должна была закапать слюна… Время от времени он подносил ко рту бокал с дорогущим шампанским и выцеживал весь до дна… Как выразилась Светка Онопко, представление он отсмотрел, «не меняя руки». Вообще-то, девчонки-модели веселились вовсю, пока не стало тошно взирать на эту тихо сопящую прифранченную кодлу самцов. Вот тогда они и пошли проветриться на террасу. Под «легкий бриз», будь он неладен!..
…И тут Аля почувствовала, что в горле совершенно не першит. Совсем. То ли горячий кофе помог, то ли организм расправился с простудой… И голова стала на удивление ясной и чистой… Настроение тоже переменилось: вместо тоскливой удрученности — подъем, будто скоро, сегодня, сейчас, случится что-то очень хорошее! Может, Олег уже вернулся из командировки, прочел записку на столе, взял да и рванул на аэроплане в Южногорск. Чтобы увидеть ее! Потому что соскучился!
— Так, девочки, быстро вниз! — Толстый маленький администратор, суматошный и подвижный, как надутый резиновый мячик, забегал, засуетился, запрыгал, скатился по крутой лестнице вниз, увлекая за собой стайку девчонок. Начиналась работа.
Сначала ведущие, словно балаганные паяцы, разогревали публику. Вернее, тянули время, пока все заинтересованные стороны протусуются в холле положенное время, переулыбаются друг другу, обменяются визитками, а их дамы — продемонстрируют подобающие случаю наряды и украшения. Ибо сегодняшний вечер, отличался от вчерашнего, как море от лужи. Никаких слезших на время с гор бабаев, никаких «правильных пацанов» в костюмах от «Boss», никаких бывших «борцов с долгоносиком». Все стильно-плакатно, как и положено на лаковой журнальной иллюстрации незабвенно-монументального полотна художника Жореса Демократов" «Слуги народа в Разливе».
Все ждали Романа Ефимовича. Ландерса. Миллионера, мецената и депутата.
Авторитетного человека, способного решать проблемы друзей. Способного создавать проблемы недругам. Способного устранять проблемы вместе с людьми" их создающими.
И как только он появился в холле — упругий, как натянутая струна, и жесткий, как клинок, — все пришло в движение, гости вечера оборотились к нему, как металлические опилки поворачиваются в сторону сильного магнита. А сам Роман Ландерс, словно сошедший с рекламной картинки «Кремлевская» — укрепляет характер!", подтянутый, с жестким волевым лицом и полуседыми густыми волосами, непринужденно раскланивался с дамами, перебрасывался фразами с господами, и нельзя было не отметить, что, в отличие от большинства присутствовавших здесь мужчин, двигался он с энергией и грацией, какая дается многолетней тренировкой тела, упорством духа и той особой уверенностью, которая приобретается лишь вместе с деньгами и властью. Очень большими деньгами и непосредственной, неограниченной властью. Бывший спортсмен-пятиборец, да в недавнем прошлом еще и бессменный чемпион республики по военно-прикладным видам спорта, теперь он был депутатом, кандидатом и прочим, прочим, прочим. Но большинству здесь собравшихся он был необходим как человек, способный справляться с любыми проблемами.
— Мужик — упасть не встать! — восхищенно произнесла Оля Сорока, наблюдавшая тусовку в холле с маленького балкончика.
— «Младой хазарский князь Ратмир…» — с улыбкой процитировала Аля.
— Девочки, быстро, быстро! — запрыгал по ступенькам администратор.
На балкончике тем временем объявились два неулыбчивых субъекта. Оглядев девушек с головы до ног, но вовсе не тем взглядом, каким окидывают хорошеньких барышень представители сильной половины человечества, — неулыбчиво, с каменными, как у манекенов, лицами, они довольно неучтиво вытеснили их с балкона и остались там, заперев за собою дверь.
— Дебилы! — в сердцах ругнулась Оля Сорока. — Весь кайф поломали.
— А ты уже размечталась, как занежишься с дядей Ромой на водяной постельке? — поддела ее Аля.
— Да ладно тебе. Скажешь, плохо такого дядку-спонсора отхватить?
— У него таких леденцов, как ты, — полный набор.
— Егорова, ты хамишь.
— Слегка.
Перебрасываясь фразами, девчонки уже успели спуститься в комнату для переодевания, сбросить одежду и влезть в платья первой коллекции, прозрачные, как туман. Мальчики-модели числом четверо переодевались здесь же, но это мало кого волновало: ориентации они были такой, какая на подиуме и вокруг него вовсе не является уделом «сексуального меньшинства».
— Зацепить любого мужчинку на ночь, пусть и крутого, как семь поросячьих хвостов, — невелико дело, — тем временем развила животрепещущую тему Оксана Костюк. — А вот сохранить его насовсем — это уже искусство.
— Где-то я это уже слышала, — огрызнулась Оля.
— И немудрено. Потому что это истина, — примирительно пожала плечами Аля.
— Как ты там сказала?
— «Младой хазарский князь Ратмир…»
— Красиво. Это из сказки?
— Ага. Пушкин.
— Жаль, что жизнь — не сказка.
— И даже очень жаль. Зато наше представление — похоже.
Музыка зазвучала едва слышно и вскоре заполнила собою все пространство; сущее будто пропало: зал погрузился во тьму, люди замерли, притихнув, словно исчезли вовсе, и освещенный подиум стал местом волшебства, чародейства, тайного знания о тьме и свете, о зле и добре, о смерти и бессмертии.
Глава 11
Их одеяния были прозрачны, как туман, и грустны, как опадающие листья.
Девушки двигались по подиуму, окутанные светом юпитеров, окрашивающих сверхлегкую ткань то золотым, то густо-малиновым, то пурпурным… Музыка словно вплеталась в распущенные волосы, в легкие, полупрозрачные, призрачные одежды, и девушки будто парили над залом в немыслимой высоте, недоступные ни для черных помыслов, ни для злых дел… А где-то высоко, в холодных, фиолетово-сиреневых бликах перистых облаков догорал закат, напоминая о скорой зиме и о том, что так уже было когда-то… А девушки продолжали кружиться в колдовском танце над всполохами малинового пламени, как бы охраняя его, как надежду на то, что тепло вернется… Девушки двигались по подиуму величественно и отстраненно, словно в мире не осталось ничего, кроме всполохов музыки и света; только они были в этом гаснущем мире сущим и важным, все остальное казалось тьмой и пустотой, изукрашенным маскарадом на лике небытия…
Девушки работали, как заводные куклы; все было привычным, разве что темп: тем, у кого не было «окон», приходилось переодеваться очень быстро, и ничего не забыть, ничего не перепутать, и выглядеть притом так, словно только что сошла с. глянцевой картинки элитного журнала.
После сорока пяти минут показа наступил небольшой перерыв. В это время публику развлекал грустный клоун-мим в обтягивающем трико и шляпе-котелке; под давнюю, полузабытую и оттого особенно щемящую мелодию Ива Монтана клоун играл с шаром; влажно-синий светящийся шар был похож на землю; он переливался то золотыми, то серебряными, то алыми блестками и невесомо парил под руками клоуна-мага… А лицо его было полно печали, словно он, держа между ладоней землю, провидел ее будущую судьбу…
Какое-то время девушки наблюдали за ним с завороженным недоверием, пока Оля Сорока не всплеснула руками в детском восторге:
— Ну как он это делает! Мы же рядом стоим, и — ничего… Ни нитки, ни лески… Ни-че-го!
— Колдун, — хмыкнула Лена Толокина. — И в руках он планетку нашу не зря крутит. Сейчас озлится и ка-а-ак хлобыстнет об землю!
— Землю об землю! Соображай, что говоришь…
— Ой, девчонки, я такой рассказ читал, фантастический, — влетел в разговор Вадик Бовин. — Там один мужчина тоже кубик в руках вертел-вертел, потом сложил неловко, смотрит, а там — дырочка!
— Отверстие, — со смешком, явно издеваясь, поправила Толокина. — Дырочка — это в заборе. Ну, может еще где…
Девушки прыснули.
— Не-е-ет, девчонки, вы дослушайте! Глянул он в это отверстие: а там шарик! Голубой, красивый, влажный, висит сам собою, переливается и вроде даже крутится…
— Ну ты и расписал! Мне прямо сейчас захотелось! — не сдержалась Оля Сорока.
Вадик скроил гримаску, посмотрел на девушку, как умудренный опытом старшеклассник на детсадовскую крошку, хотел что-то ответить, да махнул рукой: дескать, что с вами говорить, недоразвитыми… Сосредоточился и продолжил:
— Дура: это земля!
— А-а-а…
— Да, а мужчина тот был или дурак, или экспериментатор…
— Не усугубляй, Вадик, это одно и то же!
— Ну вот: глядел он, глядел, а тут ему из того шарика прямо в глаз — как даст!
— Пьяным космонавтом, не иначе!
— Почти. Ракетой. Баллистической ракетой.
— Вадик, кончай трепаться, несешь какую-то околесицу, скоро перерыв закончится, надо хоть перекурить успеть.
— Курить вредно.
— Зануда.
— Девчонки, ну дайте порассказать! — В голосе Вадика слышались чуть ли не слезы, он просительно глядел на Лену Толокину.
— Пусть дорасскажет… — махнула рукой Лена. — Только побыстрее, Вадюша, мы же не на диспуте.
— Ну вот, — продолжил взбодренный Вадик, — мужчина этот почувствовал жуткую боль, подбежал к зеркалу, смотрит — а глаз ему выжгло! Насовсем!
Разъярился он, озверел просто, кочергу в камине докрасна раскалил, подбежал к тому кубику и в дыру каленую кочергу и сунул!
— Хорошо хоть, что не в задни…
— Ну Оля-я! — чуть не расплакался Вадик.
— Да не перебивайте вы! — прикрикнула на девчонок Толокина.
— Все. Не будем.
— Ну так вот… Выжег мужик кочергой что-то там, да и забросил этот самый непонятно как получившийся кубик в дальний чулан. Смотреть, что вышло, не стал: второй глаз, видно, пожалел. — Бовин заговорщически приглушил голос. — А через неделю все увидели высоко над землей? громадный человеческий глаз. Живой! Он смотрел с неба и неделю, и другую… Население, понятно, в панике, сектанты разные по улицам шатаются, народ мутят, бардак начался по всей земле страшенный: никто не работает, все конца света ждут.
— Многие его пожизненно ждут, причем с удовольствием, лишь бы не делать ничего, — прокомментировала Аля. — И если к назначенному часу не пробьет, загоревать могут так, что помрут от огорчения.
Вадик только пожал плечами, продолжил:
— Собрались тогда командующие всякие, начальники штабов и прочие офицеры — решать, что делать. Ну а поскольку все вояки думают только одним местом…
— Каким? — поддела Оля Сорока.
— Не тем, каким ты, поняла?
— Хм… А может, у меня оно как раз для этого и предназначено…
— Для чего?
— Для продвижения по жизни, понял? А у тебя…
— Девки! — прикрикнула на всех Толокина. Бовин глянул на девчонку раздосадованно, поджал красиво очерченные пухлые губы, произнес тихо и значимо:
— Дура.
— Сама дура! — беззлобно огрызнулась Сорока. — Ладно, досказывай. Что там с тем глазом вышло?
— Посоветовались те вояки, — продолжил Бовин с новым воодушевлением, — и решили общими усилиями создать жуткую ядерную ракету, каких еще не было, и — врезать ею по этому глазу. Чтобы порядок восстановить и свою власть тоже.
Сказано — сделано. Через пару недель запустили, прямо в самый зрачок! И — глаз исчез.
— И дальше что? — уже заинтересованно слушали девчонки.
— А ничего. Все.
— Как это — все?
— Сидит тот самый мужик, которому глаз выжгло, у камина и вспоминает, как совал в кубик, в тот самый, где голубая планета сама собою висела, раскаленную докрасна кочергу…
Девчонки замолчали. Тишина длилась с полминуты.
— И это весь рассказ? — спросила, наконец, Оля Сорока.
— Да. Все.
— Понятно. Это для умных штучка.
— Ну не для дураков же…
— Мудер же ты, Бовин.
— Чего?
— И мораль: не во всякую скважину зри, не во всякую дырку каленую кочергу суй. Масштабно.
— Ты дура, Сорока, поняла, дура! — взвился Вадик. — Это рассказ о том, что…
— Ну? О чем?
— Просто каждый человек неловким движением может сгубить нашу планету.
Случайно, по глупости. А она — прекрасна, мала и беззащитна.
— Ага… «Голубая, голубая, не бывает голубей…» — издевательски пропела Оля.
— А тебе завидно, да? — готовый сорваться в истерику, почти прорыдал Вадик. — Я же видел, как ты на моего Сашу смотрела, когда он меня у агентства встречал, видел!
— Ша, девки! Прекратили базар! — грубо рявкнула Лена Толокина. — Еще не хватало: три минуты до выхода, а они мужиков делить решили!
— А чего она… — запричитал было снова Бовин. — Коза!
— Ша, я сказала! Детский сад — трусы на лямках! Почему еще не готовы к показу?
— Да там же певец распрягается!
Как раз в это время безголосый певун, демонстрировавший на сцене все, что угодно, от хилого пупочка до волосатых ляжек, — все, кроме мастерства и таланта, закончил кривляний и тихонько свинтил под жидкие дежурные хлопки зала.
— Девочки, девочки, две минуты до выхода… Быстренько… — выпрыгнул откуда-то и заскакал вокруг, как мячик, кругленький и лысый администратор Сюркин.
— Аркадьич, все будет путем, — успокоила его Толокина. — Не боись.
Девочки-мальчики, у кого первый выход, приготовились…
…Зал окрасился сиреневым. Зазвучали характерные ритмы, на подиуме появился юноша в черном смокинге, с зализанными назад волосами, бледный и серьезный, как юный Мефистофель, еще не успевший сгубить ни одной шаткой души.
Музыка нарастала, вплетаясь в шелест дождя; прозвучало первое «amen», сцена словно ожила, переливаясь в лучах юпитеров от светло-сиреневого до густо-фиолетового, малинового, пурпурного…
— Коллекция называется «Таро», — начал представлять показ мрачноватый ведущий — в черной фрачной паре и лаковых туфлях; иссиня-черные, длинные, напомаженные волосы сосульками свисали до плеч. — Таро — это не просто возможность узнать былое и грядущее… — бормотал он шипящим дискантом. — Таро — это модель нашего мира, который так и не изменился за тысячелетия, не ..стал добрее, благороднее, совестливее… С тех незапамятных времен, когда великое переселение народов смешало все в странной круговерти и обрекло иные племена вечной бродяжьей судьбе, они понесли с собою Таро, словно осколок зеркала, словно предупреждение грядущему, словно обломок неведомой культуры… Какая канувшая цивилизация оставила нам это древнее знание, называемое Таро, знание тайное, загадку которого постигли лишь посвященные?.. А мы… мы можем лишь убого и равнодушно плестись вослед вялой колеснице бытия, подчиненные року, и лишь иногда Таро приоткрывает людям свою завесу, следуя чьей-то прихоти и произволу… Возможно, кто-то из смертных уже готов постичь эту тайну, возможно, ее не постигнет никто и никогда…
— Признаться, меня тоже от этой коллекции даже жуть берет, — прошептала на ухо Але Егоровой Света Костюк.
— А кто дизайнер?
— Какой-то Глинский.
— Что-то я о таком не слышала.
— Говорят, молодой. Из Москвы. Девки судачили: и идею, и тему ему предложил какой-то крутой. И фамилия у него странная… Мы ее в школе проходили, в какой-то книжке… Он и проплатил все: эскизы, наряды, показ.
— Решил стать русским Карденом?
— Вряд ли. Но ты же знаешь, у богатых свои причуды.
— Обычно они ограничиваются девчонками.
— Это те, что в детстве в кукол не наигрались.
— Все же они лучше тех, что не наигрались в солдатиков.
— Кто бы спорил.
— Егорова, а ты какая карта?
— Двадцать первая. Называется «Мир» или «Время».
— Красиво.
— Угу. И из одежды — одна ленточка по чреслам.
— Эротично. И переодеваться недолго. А я — «Госпожа». Символ куртуазности и хороших манер. Зато в короне.
— Вот видишь!
Прибежал всполошенный администратор:
— Девочки, не спите! Первая группа — выход!
…Последняя коллекция была вполне в духе времени и называлась «Комби».
Парни вышли в стилизованных под боевые комбинезоны лохмотьях, девушки — одни в закамуфлированных касках, широких армейских штанах, высоких шнурованных ботинках, полуобнаженные до пояса, прикрывая грудь руками в кожаных крагах; другие — затянутые в совершенно прозрачное трико и укутанные в пятнистые маскировочные сети. Зазвучала шлягерная композиция «Status Que» — «You Are In The Army».
Музыка нарастала, и под слова «Go on fire!» — «Иди в огонь!» — оборвалась на парафразе… Заработала светоустановка, то погружая зал во мрак, то озаряя мертвенно-белыми вспышками; динамики загрохотали барабанной дробью, так похожей на пулеметную, юпитеры заиграли бликами алого и пурпурного, девушки заметались по подиуму, словно спасаясь от шквального огня, и — замерли…
Музыка стала мучительной и навязчивой, словно пронизывающий до костей ноябрьский смог, студеный, неотвязный, сырой, не оставляющий никакой надежды на то, что скоро станет теплее… Фигуры на подиуме заволокло фиолетовым туманом, свет померк, и тут… две яркие вспышки, будто разряды тока, полыхнули в полутьме, так же, дважды, раздался сухой грохот — будто по подмосткам с маху ударили широкой деревянной доской.
Аля успела увидеть Романа Ландерса: он сполз в кресле, уронив голову на грудь, и теперь дико и жутко таращился прямо на нее черной, налитой сукровицей раной: две пули вошли почти одна в одну, раскроив полчерепа. Еще Аля успела заметить ошалевшие, белые от ярости глаза вскочивших охранников, пистолеты в их руках и лицо какого-то толстяка, размягченного алкоголем и похотью, — в эйфорийной прострации он, видимо, полагал происходящее частью представления, его изюминкой… И — свет погас.
Глава 12
Свет погас весь, разом. Какое-то мгновение стояла мертвенная тишина, и так же все разом взорвалось: раздались вопли и визг женщин, во тьме глухо ухнули еще два выстрела: видно, кто-то из гостей шарахнул из газовика, то ли с перепугу, ТО ли расчищая дорогу к вожделенному выходу; задвигались опрокидываемые стулья, и снова вопли, теперь отчаяния и боли — кого-то из упавших это холеное стадо уже топтало в темноте, прорываясь к дверям; пространство над залом, полное табачного дыма, расчертили в беспорядке лучи карманных фонариков и лазерных прицелов, кое-где мелькал огонек зажигалки и тут же гас в испуге, словно именно это могло сделать персону мишенью невидимого снайпера. Уже через полминуты над залом стоял вселенский грохот и вой.
Первое, что сделала Аля, было самым разумным в такой ситуации: она бросилась ничком на помост. Она интуитивно почувствовала: выстрелы в Ландерса пришли отсюда, со стороны подиума; ну да, даже не из-за сцены, с самого подиума, когда на нем и было-то восемь девчонок, изображающих убитых на неведомой войне.
Как только паника в зале усилилась, Аля в полной темноте вместе с остальными бросилась за кулисы.
Рабочий коридор, ведущий к черному ходу, был забит битком; в этой давке попеременно вспыхивали огоньки зажигалок, слышался визг и всхлипы; взглядом оценив ситуацию, девушка решила сразу: ждать тут, кроме обморока, нечего. И ринулась на второй этаж. Выскочила в совершенно пустой и темный коридор, заметила полуоткрытую дверь какого-то кабинета, забежала; окно было распахнуто настежь… Аля запнулась на мгновение: а вдруг это бежал убийца?.. На сердце похолодело, оно словно замерло разом, как бывает, когда прыгаешь в ледяную воду… Но другого пути из этой мышеловки не было; ей еще подумалось вскользь: как это организатор действа не догадался подпалить зальчик со всех четырех углов? Даже огня не стоило бы дожидаться: «избранные» передушили бы друг дружку, как нерестящиеся стегоцефалы! Решилась, прошла в комнату; точно, этим выходом кто-то до нее уже воспользовался: светлый прямоугольник окна, рама распахнута.
Не колеблясь, Аля одним прыжком вскочила на подоконник, благо по задумке последней коллекции ноги ее были обуты в грубые армейские ботинки; посмотрела вниз: второй этаж, но если прыгнул кто-то до нее, она тоже сможет! Опа!
Ноги увязли в картонных ящиках из-под иноземной винной тары, Аля, чертыхаясь, пыталась выбраться из-под вязкой, свалившейся на нее груды, когда услышала:
— Стоять!
У ворот в позе супермена — расставив ноги и сжимая обеими руками вороненый пистолет, — застыл детина в представительском костюме и с бабочкой: из охранников покойного Ландерса.
— Ты чего, дурак?! — вскинулась на него Аля, со злостью сбрасывая с ноги последний ящик. — Псих, что ли?
— Стоять, я сказал!
— А я никуда и не бегу!
— Почему в окно прыгнула?
— А ты в дверь вышел, да? Ребра у меня хрупкие, девичьи, чтобы ломать их в вашем притоне о косяки!
— Босса убили.
— Ух ты, наблюдательый какой! А я и не заметила!
— Вот что, девка…
— Заткнись, дебил. Вам было поручено беречь шефа, вы прошляпили, и нечего на мне тут злость срывать, понял?!
— А ну-ка прекратила рассуждать! Ножками потопала, быстро, назад, в клуб!
На месте и разберемся, кто Рому валил.
— Может, ты думаешь, я?
— Может, и ты. Пошла!
— Идиот.
— Ты еще поговори!
Парень грубо схватил Алю за предплечье, ей стало больно, промелькнула дурацкая мысль: «Вот, теперь синяк будет, придется что-то с длинным рукавом в такую жару надевать, как монашке», — а дальше… Дальше она действовала, словно подчиняясь какому-то давнему, врожденному инстинкту. Чувство возмущения собственной несвободой подавило все, даже страх. Она резко и быстро ударила кованым каблуком по большому пальцу ноги охранника. От неожиданной резкой боли тот ослабил хватку, Аля вырвалась, хлестнула ребром ладони по руке с оружием, пистолет выпал, девушка послала его пинком куда-то под тарные ящики и-с разворотом воткнула кулачок в вялое солнечное сплетение. Удар прошел — парень не успел сгруппироваться, ноги его словно кто-то подрубил в коленях, и он снопом свалился на землю.
«Ну и ну!» — пронеслось в голове девушки, сознание этим многозначительным междометием словно хотело защититься от всех последствий содеянного, от логического просчета дальнейших действий… Да и что тут просчитывать? Срываться отсюда нужно, и подальше! Пока осиротевшие отморозки охраннички не стали срывать зло на всех и вся! Убить, может, и не убьют, но вывески попортят: когда нет виноватых, достается всем: правым, левым, сочувствующим… А уж равнодушным — обязательно и по полной программе: их телячья покорность всегда действует на тупых и сильных возбуждающе, и таких бьют долго и смертно, пока не устанут.
Девушка быстрым взглядом окинула двор, улицу и стремглав помчалась прочь.
Она бежала так, что ветер в ушах свистел, притом стараясь держаться в тени деревьев: трико телесного цвета было совершенно прозрачным, и любой ночной подгулявший прохожий увидел бы экзотическую картинку: по ночной улочке курортного городка несется абсолютно голая девчонка в высоких армейских ботинках. Что за карамболь возникнет в мыслях такого вот мирного или не очень обывателя? Каковы могут быть его действия? Лучше об этом и не думать. Бежать, и как можно быстрее!
Впереди замаячили редкие огни, потом — освещенная площадка. Аля остановилась, несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула, постаралась восстановить дыхание. И — спокойно пошла через площадь. Редкие мужички, вышедшие из казино перекурить это дело, выронили челюсти от изумления: девушка казалась абсолютно нагой и была изумительно, нездешне хороша! Аля, не обращая ни на кого внимания, ступала уверенной походкой модели на подиуме, высоко подняв подбородок и глядя прямо перед собой, словно была задрапирована в китайские шелка, сибирские меха и упакована в якутские алмазы. Вошла в холл, остановилась у стойки портье:
— От семьсот первого, пожалуйста.
Портье, худой долговязый прыщавый парень, старался сохранить невозмутимость, но… Кадык на тощей шее дернулся так, что Аля всерьез заопасалась: поперхнется сейчас, упадет, засучит ручонками-ножонками по полу…
Возись с ним потом.
— От семьсот первого уже взяли, — произнес портье утробно, а в желудке у него что-то явственно екнуло.
— Ирка?! — вырвалось у Али. И подумалось: «Ну, шустра! Даром что стерва!»
— Да, ваша соседка… — стараясь казаться ироничным, протянул портье, — и тоже неглиже. Правда, на ней еще сетка была, вроде плаща. — Потом не удержался, с видом знатока дамского белья и иных аксессуаров смерил Алю сально-паточным взглядом, спросил, стараясь показаться развязно-бывалым, но севший голос выдал его волнение:
— Девчонки, это что, мода такая теперь будет, ходить в одном чулке на голое тело?
— А тебе что, не нравится?
— Мне?! Не нравится?.. — осклабился долговязый в похотливой ухмылке.
— То-то.
Аля развернулась, направилась к лифтам, чувствуя спиной неприятный, прилипчиво-потный взгляд этого ночного подавалы-приносилы. Лифт пришел, девушка не удержалась, повернулась:
— Слюной не подавись, икало! Коридор гостиницы был чист и пуст. Свет не горел, но дверь их номера была полуоткрыта. Аля толкнула ее, позвала:
— Бетлицкая!
Молчание.
Аля прошла в комнату:
— Бетлицкая! Ира! , Тишина.
Девушка открыла дверь в ванную: никого. Вот дела! Вернулась в комнату и только теперь заметила лежащие шмотки: маскировочную сеть и прозрачное трико.
Огляделась; сумки Иркиной тоже нет. Ну и ну! Подорвала девушка, да не просто, а со стремительностью курьерского поезда Токио — Иокогама. И если разобраться, правильно сделала: кому нужны чужие разборки? Вернее, разборки по чужим стрельбам и буйные поминки по чужим покойникам. Она и сама собиралась поступить абсолютно так же; вот только лететь куда-то в ночь сломя голову нет никакого резона: пока охранники разберутся со всеми, кого не выпустили из клуба… Ну да, надо позвонить Олегу. Аля достала из сумочки мобильник, но он по-прежнему молчал. Вот черт, как некстати!
Аля стянула с себя трико: точно, чулок чулком, только малюсенький треугольничек, более темный и плотный, прикрывает лобок; прав слюнявый портье: чулок. Она прошла в ванную, запустила воду, пять минут стояла под струями, зажмурившись. Состояние было блаженным. Совершенно не вяжущимся ни со вчерашней простудой, ни с сегодняшними не то что печальными, но и опасными событиями…
Аля чувствовала, как каждая клеточка тела пульсирует, ликует, а в голове вертелась дурацкая, но прикольная строчка очень давнего советского шлягера:
«Если бы парни всей земли вместе собраться однажды смогли…» Она представила такое собрание, и в центре — себя, вот такой, какая сейчас, нагишом… И засмеялась счастливо и дурашливо… «Если бы парни всей земли…» Ну, хватит веселиться. Пора и честь знать. Никто на самом деле ей не нужен, кроме Олега.
Все остальное — так, балаган, лукавство.
Аля прикрутила воду, наскоро вытерлась махровым полотенцем, вернулась в комнату, присела рядом с сумкой-баулом: там, в полиэтилене, лежало чистое белье.
Но… Рука ее наткнулась на ребристую рукоятку, девушка почти инстинктивно сжала ее и извлекла на свет Божий… пистолет. Карлик, маленький уродец с тупорылым стволом и шестью вполне смертоносными штуковинами тридцать восьмого калибра в магазине, и размером притом чуть больше пачки сигарет. Словно загипнотизированная, Аля смотрела на зажатый в руке полимерный «смит-и-вессон»
SW-380, поднесла к лицу… В нос шибанула недавняя пороховая гарь. Аля отсоединила магазин: четыре патрона. И в Ландерса стреляли дважды. Да. Пистолет, из которого убили Ландерса, сейчас у нее в руке…
Мысли ворочались тяжко и неторопливо, будто тяжелые доледниковые валуны под ковшом простенького маломощного экскаватора… И тут девушку словно пробило: холодная испарина выступила на лбу, одним движением Аля отбросила от себя оружие, словно это была свернувшаяся в клубок гремучая змея или бурая амазонская жаба: скользкая, бородавчатая тварь, потеющая липким ядом. Все мысли разом исчезли, в висках стучало, будто на стыках под бешено мчавшимся экспрессом, только одно слово: «Бежать, бежать, бежать…» Девушка выудила из сумки тот самый полиэтиленовый пакет, мигом натянула трусики, футболку, одним движением набросила на плечи свитер, перекатилась на спину, влезла в джинсы, вжикнула «молнией»… На ноги — мягкие шерстяные носки, ступни — в кроссовки… Сунулась в маленькое отделение кофра: пусто. Ни денег, ни документов! Ну Бетлицкая, ну сволочь! Хотя бес с ними, с бумагами, ноги надо уносить как угодно и — куда подальше! Лифтом нельзя, мало ли… Сейчас она спустится по лестнице, а там…
Девушка замерла: створки лифта растворились на ее этаже, и она услышала осторожное, приглушенное топание нескольких пар ног. Кто-то бежал по коридору.
Бежали — к ее двери! «Я забыла запереть!..» — пронеслась паническая мысль, Аля подняла глаза: нет, ручка замка повернута, цепочка тоже наброшена, но даже беглого взгляда ей хватило, чтобы понять: эту хлипкую фанерную преграду любой крепкий мужик вышибет без разгона! Аля беспомощно заметалась глазами, пока не увидела тот самый пистолет; ни о чем больше не думая, схватила его обеими руками, воткнула обойму с оставшимися четырьмя патронами, перезарядила и направила ствол на дверь.
Глава 13
Топот ног затих, но Аля чувствовала сдерживаемое дыхание тех, кто сторожко затаился за дверью. Потом услышала почтительный, аккуратный стук.
— Да? — стараясь сдержать волнение, спросила Аля, но голос все равно оказался севшим, сиплым и предательски дрожал; внутреннее напряжение было слишком велико, чтобы она могла сейчас играть игры с теми, в коридоре.
— Это портье. Вам срочная телеграмма, — отозвались за дверью. — Из Германии.
— Подождите секундочку, я только из ванны, я совсем раздета… — произнесла Аля почти автоматическую отговорку любой девочки. Ход интуитивно был выбран самый верный: вместо того чтобы настраиваться на смертельную и жестокую схватку, воображение парней за дверью живо нарисует картинку хорошенькой длинноногой девочки, голенькой и беззащитной… Даже если там лютые боевики-дебилы и любое воображение у них отсутствует по определению, первая бессознательная реакция будет все равно такой же. Дремучий инстинкт продолжения их уродского племени работает в режиме остановленного времени, и единственные извилины в головах, тянущиеся от мозжечка прямо к пенису, так и называются: «бабы». И пусть в названии возможны вариации — метелки, мочалки, шмары, прошмандовки, мясо, профурсетки, соски, шалавы, сучки — суть дела от этого не меняется.
Но как только до Али дошел смысл сказанного портье, сердце ее словно провалилось куда-то, а душу заволокло колкой изморозью страха… «Из Германии! От Олега! С ним что-то случилось!» — панически мелькнуло в голове, и первым порывом девушки было вскочить, распахнуть дверь настежь, ринуться ему на помощь… Снова холодная испарина обметала лоб: можно быть дурой, но не настолько! Но тут же мелькнула другая, столь же гибельная: открыть сейчас, объяснить этим ребятам, что стреляла не она, что это спланированная подстава, хорошо спланированная… Стоп! Если так, то никто не будет ее слушать! Замолотят или сразу, или в ближайший час, чтобы она не успела посеять сомнение в головах тех, кто руководит службой охраны ныне покойного миллионера! Концы в воду, и реноме соблюдено.
Все эти мысли пронеслись в голове девушки единым мигом; в этот же миг она поняла, что противостоять нескольким вооруженным парням там, за дверью, имея крупнокалиберного «карлика» с четырьмя «маслинами», она не сможет. Не первый, так третий просеет ее из какого-нибудь «узи» в решето!
Снова короткий стук, голос озабоченного портье:
— Извините, барышня, я не могу торчать тут бесконечно.
— Ну пожалуйста, секундочку… Халат мокрый насквозь, а встречать гостя нагишом я еще не научилась… Сейчас наброшу сорочку — и пожалуйста… — продолжала Аля активизировать те самые тупые извилины незваных визитеров.
За дверью зашептались, а Аля тем временем уже подошла к балкону. Балконы тут были смежные, нужно просто перелезть перегородку, да и на этаж или два спуститься — особого акробатического искусства не требуется. Она уже собиралась сказать очередную успокаивающую фразу тем, за дверью, как увидела, как жальце замка мягко провернулась, дверь приоткрылась на длину цепочки… Девушка застыла в балконном проеме, подняла пистолет, дважды вдохнула и выдохнула, стараясь унять сердцебиение. На соревнованиях ей это всегда удавалось, и потому укладывала она «маслята» как положено: пуля в пулю.
От жесткого удара ногой цепочка сорвалась, дверь распахнулась настежь, гулко стукнувшись о стену… Что-то повелительное, запретное вспыхнуло в мозгу единым словом: «Нет!» Плавным движением Аля перевела ствол пистолета вниз и спустила курок. Грохнул выстрел, еще, еще… Дикий, нечеловеческий крик, полный боли, разорвал тишину: тому громиле, что выбил дверь, девушка прострелила коленную чашечку, чудом поборов искушение стрелять в голову. Вторая ее пуля вырвала кусок мяса из бедра другого противника, третья — смела несчастного долговязого портье к стене, обездвижив правую руку и окрасив форменный белый китель ярко-алым.
Девушка едва успела отпрянуть за бетонный выступ балкона: пули из скорострельного штурмового пистолета веером посыпались из проема двери, дробя мебель, круша стекло и хрусталь, посыпая осколками ковер. Выстрелов не было слышно, только невнятное пыхтение пистолета-автомата, снабженного хоботом хорошего глушителя. Вой раненых сопровождал пальбу. Аля затаилась. Ни о каком бегстве сейчас не может быть и речи: ей просто влепят вдогон очередь, и вся недолга.
Парень, что палил из скорострельной машинки, не отличался ни храбростью, ни рисковостью. Он расстрелял весь магазин, так и не отважившись показаться из-за косяка; но когда-то он должен это сделать! Аля ждала. У нее оставался лишь один патрон. Последний.
Боевик решился: снова затараторила приглушенными выбухами нескончаемая очередь, но на этот раз он стоял в проеме освещенной двери и самозабвенно палил в белый свет, коверкая оставшуюся нетронутой мебель и выбивая пух из подушек.
Дебил, насмотревшийся идиотских боевиков! Только там все виртуально: сотни пуль, выпущенных из скорострельной штуковины, крушат все, кроме Сталонне или Шварца — этих кусков качного мяса! Аля знала точно: пуля убивает! А у этого дурака в голове, помимо той самой «трахательной» извилины, пылятся кубометры неживой компьютерной «реальности», навеянные милями просмотренного голливудского целлулоида! Похоже, это его первое реальное боевое столкновение.
Парень прекратил, наконец, массированный и бесполезный огонь. Замер, затравленно озираясь, словно это не он вел охоту — охотились на него. Аля застыла за косяком балкона: отражение зашуганного боевика она видела в стекле полурастворенной балконной двери. Высовываться было рано: этот солдат неудачи был напряжен и нервен, как неповязанный кобель, и готов был шмальнуть на любое движение, на любой звук. Но и ей торчать тут бессмысленно!
Что бы бросить? Цветочный горшок? Стоит произвести хоть какой-то шорох, незадачливый воитель выпустит оставшиеся полрожка, вряд ли попадет, но скроется снова в коридоре, патронов у него немерено, и будет держать ее здесь, как в мышеловке, до первой подмоги. А в помощниках могут оказаться дяди вполне подготовленные, каковые и сделают ее молодое красивое тело хладным и малопривлекательным. Аля глянула на часы: четверть пятого, скоро начнет светать… «Дура!» — обругала она себя в сердцах, аккуратно сняла браслет с часами с запястья, приготовилась — и легким броском швырнула через дверь, в шкаф. Часики звонко клацнули о стенку двери, кретин с «узиком» дернулся, автомат заработал, выплевывая крохотные гильзочки, пули зацокали о полировку… Аля, держа смертоносного «черного карлика» обеими руками, в то же мгновение оказалась в проеме двери и вогнала вояке пулю в берцовую кость. Смотреть, как он отлетел с криком в сторону, и слушать его мамонтовый рев ей было уже некогда.
На мгновение она пожалела, что стреляла на поражение, а не на уничтожение: ей не прорваться через дверь, мимо серьезно раненных ребятишек, запросто способных выстрелить в спину. Ну и пес с ними! Засунув бесполезного теперь маломерка за пояс, Аля мигом перемахнула балконный парапет, повисла на руках, раскачалась, чтобы, отпустив руки, запрыгнуть на балкон этажом ниже. Ей было безумно страшно: только представить, как будешь падать спиной вниз, и душа уходит в пятки и щекочет жутким смертным холодом ступни ног… Она уже собралась отпустить руки, как почувствовала, что рукав свитера зацепился за какой-то недобитый гвоздь, и это может изменить траекторию полета так, что… А она не птица-птеродактиль и даже не кошка, чтобы маневрировать хвостом!
Девушка осталась висеть на одной руке, с силой дернула кистью второй, нитка свитера осталась висеть на том самом безымянном гвоздике, левая рука, которой она держалась за балконную перегородку, вывернулась больно и неловко, так, что выступили слезы, Аля качнулась всем телом, отчетливо понимая, что если сейчас ошибется, то новой попытки сделать не успеет, рука вывернется совсем, и она полетит вниз, в пропасть мирно почивающего курортного городка…
На балкон она не запрыгнула — рухнула, крепко стукнувшись коленкой.
Сдерживая слезы, потерла ушибленное место, а в голове болталась глупая строчка из песенки Алисы, заблудившейся в Зазеркалье:
Догонит когда-нибудь, или — шалишь?
Летучая кошка летучую мышь, Собака летучая кошку летучую…
Ну что я себя этой глупостью мучаю!
Кое-как отдышавшись от пережитого липкого страха, Аля встала, тронула балконную дверь: та оказалось незапертой. Прислушалась: из комнаты доносилась приглушенная возня и сосредоточенное азартное сопение. Потянула носом: наружу явственно струился сладковато-терпкий запах анаши. Ну что ж… Лучше и не придумаешь. Вынула на случай «черного карлика» из-за пояса: без патронов он был совершенно бесполезен, а вот как пугач авось и сгодится. Хотя кто примет этого маленького уродца за оружие, если из него не стрелять? Впрочем, у страха глаза велики: завтра, глядишь, по всему городку разнесется весть, что минувшей ночью по этажам отеля «Престиж» скакала сумасшедшая девка и палила во что ни попадя сразу из трех маузеров, двух наганов и страшного дробовика «маверик»!
Стараясь ступать неслышно, девушка приоткрыла дверь и тенью проскользнула в комнату. На широченной кровати, на спине громоздился здоровенный лысый орангутанг; впрочем, лысым был только его череп; все тело заросло густющей черно-седой шерстью. Сын гор это или, наоборот, друг степей, было не понять. Над распростершимся громадным телом склонили юные головки две крашенные гидроперитом путанки-малолетки; они с сопением трудились язычками, пытаясь пробудить вялую плоть примата к активному времяпрепровождению, но тщетно: если что и вздымалось над постелью, так это безразмерный волосатый живот. Несостоявшийся самец время от времени что-то гортанно выкрикивал на незнакомом языке, но это вряд ли было руководящими указаниями двум пацанкам: обкуренный бегемот или плавал теперь где-то далеко, в лазурных водах Адриатики непотопляемым пароходом «Титаник», понятно белым-белым, или одиноко парил над заснеженными вершинами Эльбруса, аки орел… Бог весть.
Одна из девушек оторвалась от надоевшей работы, словно фрезеровщик от нелюбимого станка, посмотрела на Алю мутным коровьим взглядом, мучительно соображая, видит она девушку въяве или это просто очередной глюк.
Аля поднесла палец к губам:
— Тс-с-с… — Прошептала:
— Не отвлекайся. А то он и к полнолунию не кончит.
Девчушка понятливо кивнула, словно застигнутый строгим начальником за перекуром работяга, облизала губы и принялась стараться с утроенной энергией.
Аля тем временем прошла в крохотную прихожую, отомкнула дверь и оказалась в скудно освещенном коридоре. Пожалуй, выстрелы этажом выше слышали многие из постояльцев, но вряд ли кто станет распахивать суматошно двери, спрашивать, что случилось, кричать: «милиция», «насилуют» и все такое… Не во времена славного генсека Ильича живем, сейчас любопытный если что и получает, то только дурную пулю в дурную голову. Даже крутые ребятки крепко усвоили немудреный руководящий постулат времени: «Если это твоя война — воюй, если не твоя — отдыхай». Хотя…
Чужой войны не бывает.
Глава 14
Неслышно ступая. Для двигалась вдоль коридора, напряженно вслушиваясь в звуки наверху, внизу, на лестнице и готовая при малейшей опасности выстрелить…
Внезапно она застыла как вкопанная, глядя на смертоносный тупорылый шпалер, зажатый в руке. Дура! Ведь теперь он бесполезней игрушечного жестяного трамвайчика: в том весу поболее, и в случае чего можно какого гада по черепу очень даже чувствительно приласкать; этот же черный, как кошачий помет, пластиковый киллер был нестрашным и бесполезным; больше того, если Ромика Ландерса прикончили двумя пулями именно из него, то теперь в руках у девушки был не просто никчемный агрегат, но и опасный! Улика! Даже если она не попадется браткам-охоронцам Ландерса, а честно сдастся в руки родимой милиции (Господи, пронеси, от встреч с милицией еще в отрочестве у Али остались столь гнусные воспоминания, что лучше бы об этом не думать никогда вообще!), ее запросто признают той самой убивицей бизнесмена, депутата и человека.
Девушка брезгливо перехватила оружие двумя пальцами, заметалась глазами: прежде чем выбросить, надо хоть отпечатки стереть! А чем? Слюнявчики она никогда не жаловала, в карманах ничего — ни платочка, ни драного рублика! Кое-как девушка выдернула из-под ремня полу футболки, протерла пистолет со всех сторон, не забыла отделить магазин, протерла и его и одним движением забросила карлика-урода в темный угол. То, что теперь ее футболка, испачканная оружейной смазкой, пусть и едва-едва, стала уликой, она поняла поздно; отчаяние от своей бессильной глупости и беспомощности накатило вдруг такой острой тоской, что Аля, в который раз уже, едва сдержала слезы. Молча сглотнула колючий комок в горле: чтобы хоть что-то стало уликой, нужно сначала выбраться из этой дурной передряги живой! Выскочить из нескончаемого коридора, повернувшегося к ней спинами бесчисленных дверей.
Стараясь ступать по-кошачьи неслышно, девушка заспешила по коридору. Она не думала ни о чем. Там, в номере, ее постигла неудача, теперь же… Шуму было предостаточно; подключилась уже и милиция, и здешняя братва, и какие-нибудь местечковые службы безопасности, работающие в этом райском курортном городишке на одного человека: Романа Ландерса. Ныне покойного. Думать было не о чем, да и некогда. Нужно было бежать. Куда глаза глядят.
Парадная лестница, черная лестница… Тупик. Прикинуться шаловливой путанкой и проскочить мимо уже усиленной гостиничной охраны тоже не удастся — прикид не тот, здесь нужно что-то типа мини-эластик, а не свитер-джинсы. Да и знают всех гостиничных шлюшек местные охраннички в лицо! Безнадега полная!
Стоп! Там, на черной лестнице, — громоздкий рабочий лифт. Аля подошла и ткнула наудачу красную кнопку. Надо же, работает! Отодвинула тяжелую дверцу, так же, наугад, нажала нижнюю пимпочку. Лифт, тяжко и натруженно поскрипывая тросами, пошел вниз. Остановился. Аля с грохотом растворила массивную дверь «грузовика» и оказалась в подвале. Замерла, прислушиваясь: тихо. Выложенные белым кафелем стены, блеклый, кое-где подрагивающий люминесцентный свет, запах каких-то неприятных химикалий, словно здесь совсем недавно морили то ли крыс, то ли тараканов, а скорее всего, и тех и других, да еще и мертвенный, приглушенный «аромат» многолетней гнили — все это не прибавляло никакой бодрости, наоборот: навевало мысли о морге, покойниках, холодных серых лежаках, холодильниках, где эти самые мертвяки свалены кучей, как попало.
Внезапно Алю настиг страх; да какой там страх! — дикий, нерассуждающий ужас! Впервые за свою не такую уж долгую жизнь она зримо представила саму себя лежащей на холодном, скользком камне, голой, и над этим неживым телом уже склонился патологоанатом, примеряясь скальпелем, как лучше располосовать сразу, от шеи до паха… А санитарка, кое-как прижав голову, готовится пилить череп замызганной пилкой, похожей на гигантский лобзик…
Пот снова липкой паутиной облил все тело; ничего не соображая от страха, Аля ринулась бежать по этому бесконечному подземелью; в некоторых пролетах коридора свет не горел вовсе; как ни странно, именно там ей становилось легче…
Она бежала и бежала, дважды попадая в какие-то тупики; потом ей казалось, что бежит она по кругу, и края этому подвалу не будет никогда. Сердце уже вылетало из груди, когда она услышала грохот открываемого створа; девушка села на месте, приказала себе жестко: «Соберись!» Понимание того, что воображаемые страхи сейчас могут погубить ее наверняка, было ясным, но ужас помимо воли мешал дышать, сковывал, накатывался волнами, как ледяная погибель… Аля закрыла лицо ладонями, до крови прикусила губу… «Соберись!» — приказала она себе снова, кое-как перевела дыхание. Прислушалась: на хоздворе, у люка для отгрузки в подвал продуктов, разговаривало несколько человек. Аля легонечко подкралась поближе, замерла на темном отрезке коридора, готовая снова бежать при малейшей опасности.
— …Не было?
— Да ты окстись, Жора! Кто в пятом часу утра по мусорникам да подвалам бегать станет!
— И через кухню никто не проходил?
— Во-первых, дверь на кухню заперта с нашей стороны. Еще с часу.
Во-вторых…
— Кончай умничать! Я ясно спросил: никто не проходил?
— Ну, никто.
— А без «ну»?
— Да чего ты докопался до меня, Жора? Я ж не карьер, а ты не экскаватор шагающий. Вот — первая машина пришла, за всю ночь, понял? Грузчики стоят ждут, а ты долбаешь своими вопросами, как дурной рыбачок — елдой прорубь! Чего стряслось-то?
— А ты не слышал ничего?
— Да кемарил я в каптерке.
— И выстрелы не слышал?
— Где?
— В Караганде! Понял? Коз-зел!
— Что-о? Жора, ты кого козлом назвал, падаль? Ты думаешь, тебе, сявке стриженой, шпалер дали, так ты и при делах?
— Ладно, Косой, не гони…
— Что — не гони?! Да ты еще дрочил под одеялом, когда я зону топтал!
— Сказал, Косой, не баклань!
— За базар отвечаешь?
— Да пошел ты!.. Мурло, синяк гребаный! Раздался звук хлесткого удара, грохот то ли коваными ботинками, то ли сапогами по кровельному железу, звук падения тяжелого тела… Какой-то вскрик, хрипы… Потом неожиданно зажужжал электромотор ленточного конвейера, что доставлял в подвал туши. На конвейере ничком, на спине, лежал малый и судорожно дергался всем телом, суча ногами и руками. Над ним нависал, прижимая к ленте, другой: постарше, мосластый, с редкими, торчащими клоками волосиками, с сифилитическим носом на скуластом лице.
Он что-то шептал на ухо противнику, словно увещевая того прекратить конвульсии.
И тот действительно затих. Аля почувствовала, как разом свело желудок: голова лежащего на спине малого была почти отделена от туловища; кровавый надрез на шее, от уха до уха, походил на раззявленный рот рыжего арлекина… «Человек, который смеется».
По лесенке рядом с лентой спустился другой человечек: маленький, горбатый, лысый.
— Косой, ты что, с крыши съехал? Что теперь Гуне говорить станешь?
— Заткнись, Гном. Ты базар слышал?
— Ну.
— Если тебя козлом повеличали, ответка должна быть?
— Ну.
— Вот и весь базар.
— Гуня понятий не разумеет.
— Ниче. Припечет — поймет. А его щас вроде припекло. По самые яйца.
— Ну. Рому Ландерса завалили.
— Круто. Выходит, под Батю теперь пойдем?
— Выходит, так. Больше не под кого.
— Батя — человек с понятием.
— Известно.
— Помоги-ка, Гном.
— Куда его?
— К тушам, на ледник. Порубим — и в море. Скатам на корм.
— А работяги?
— Шофера?
— Ну.
— И че? Если толковище будет, они подтвердят. А до толковища Гуне еще дожить надо. Ну а на нет и суда нет.
— А ты, Косой, крут.
— А то.
Аля съежилась, превратилась в комочек и старалась даже не дышать. Но в коридор Косой и Гном не пошли. Горбатый деловито отомкнул какую-то дверь, они подхватили мертвя-ка, потащили. Девушке стукнуло: сейчас! Она перебежала ближе к выходу, запах свежей крови снова заставил желудок скрутиться жгутом, Аля задержала дыхание, зажмурившись, вбежала по бетонным ступенькам рядом с продолжающей двигаться лентой. Шум конвейера надежно заглушал ее легкие шаги.
Аля высунула голову: метрах в пятнадцати стояла крытая фура, но никого из работяг или шоферов видно не было. Прямоугольник ворот раскрыт. В будочке рядом — тоже никого: ну да, охранник сейчас был как раз занят освежеванием жмура с прижизненным именем Жора. Девушку снова замутило так, что серая мгла на мгновение заволокла мир. Аля кое-как перевела дыхание, ринулась к воротам. Никто ее не остановил и даже не окликнул. Оказавшись на улице, Аля вдохнула несколько раз пьянящий, напоенный ароматом трав и моря ночной воздух и ринулась прочь, словно спущенная с тетивы стрела.
Часть третья ДЕВОЧКА И МОРЕ
Глава 15
Девушка бежала маленькими затененными улицами вниз, к морю. В сумраке утра она различала ряды домиков, все, как на подбор, одноэтажные, построенные лет тридцать-сорок назад, увитые виноградными лозами и отгородившиеся и от жары, и от мира решетчатыми ставнями. На каком-то заросшем чертополохом пустыре вспугнула стаю больших рыжих собак; за ней пыталась было увязаться мелкая пятнистая шавка, но лобастый вожак что-то рыкнул утробно, и стая покорно пропустила девушку. Испугаться она не успела, подумала лишь — как хорошо, что сейчас утро. Ночью эти бывшие друзья людей царили на улицах и порвать ее могли даже не по злобе или со страху — просто мстя своим бывшим хозяевам за все прошлые и нынешние обиды.
Девушка вылетела через безымянный проулок на взгорок. Море открылось внезапно. Оно плескалось далеко внизу в сонном величавом покое; лишь первые утренние волны тревожили маленький каменистый пляжик.
Вокруг — ни души. Аля пошла по взгорку, пытаясь найти хотя бы тропинку. И чуть не пропустила ее. Спуск к морю был вырыт местными почти отвесно, узенький, закрепленный деревянными штырями, как опалубкой. Постояла, восстанавливая дыхание; на востоке показалось солнце, вырывая из дымки все побережье. Девушка подошла к воде, умыла лицо, прополоскала пересохшее горло — и побежала снова, плавно, размеренно, по самой кромке воды.
Минут через сорок она обогнула мысок. Дальше были завалы камней и коричневой породы: видно, еще весной море подмыло почти отвесный берег, и груда весом в несколько тонн обрушилась, преграждая путь. Чертыхаясь, Аля с полчаса преодолевала каменный завал. Дальше был пляжик. Никакого мусора: ни отдыхающие, ни местные не забредали сюда. Кому охота ломать ноги о камни под палящим солнцем? Девушка огляделась: с другой стороны — такое же нагромождение камней.
По крайней мере, здесь ее никто не потревожит.
И тут Аля почувствовала дикую, смертельную усталость. Солнце только встало, едва прогревая воздух. Девушка нашла между россыпей камней сухое место, натаскала высохших водорослей, соорудила себе матрас. Потом разделась донага, еще раз огляделась — никого — и, осторожно Ступая босыми ногами, пошла к морю.
Вода оказалась достаточно теплой. Аля нырнула рыбкой в солоноватую влагу, сделала несколько гребков… Подошла легкая прибойная волна, кинув ей в лицо горькие брызги… И тут — словно какая-то пружина, державшая ее всю ночь, лопнула, из глаз покатились слезы, такие же соленые, как окружающее море. Другая волна потянула девушку к берегу, на мелкий песок, а Аля… Она уже ничего не видела и не слышала: просто свернулась комочком, напряженно обхватив колени руками, плечи и худенькая спина сотрясались в рыданиях… И не было никого рядом, кто бы мог пожалеть… Только море ласково, бережно касалось ее тела и будто шептало бурливыми пузырьками прибоя: «Все пройдет… Все пройдет… Все пройдет…»
Ну почему, почему все так несправедливо? Разве ей к ее девятнадцати выпало мало испытаний? Гибель мамы и папы еще тогда, в детстве; беспамятство, безнадега детдома, та жуткая история с наркотиками и с Маэстро… Разве этого недостаточно, чтобы заслужить хоть маленькое счастье?..
Море продолжало ласкать ее, едва касаясь кожи, и девушке показалось, что оно тоже плачет, сочувствуя ей… Кое-как Аля выбралась на прохладный еще песок, подставив измученное тело солнышку, замерла. Дыхание успокоилось, но обида на жизнь уже ушла, слезинки высохли, солнце согрело. Был бы рядом Олег… Ничего.
Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Потому что иначе — совсем нечестно.
Усталость накатила сама собой тяжким ватным одеялом; как уснула, Аля не заметила. Ей начали было сниться свет и музыка, и будто она летела, и полет ее был стремителен и чарующ… А с запада шла гроза. Черная, мохнатая туча надвигалась стремительно; девушка попыталась развернуться в потоке воздуха, но ничего не вышло: словно гигантский безжалостный смерч тянул ее туда, в самый центр грозы, и она уже видела блики молний, слышала треск близких разрядов; в сердцевине смерча она увидела вихрящуюся фиолетовую воронку, ее несло туда каким-то шалым ветром, и она знала, что если сейчас не сумеет развернуться в потоке и вернуться назад, к солнышку, то мир для нее погаснет, она пропадет навсегда. Аля попробовала вздохнуть, но горячий воздух наждаком опалил горло, на губах она почувствовала соль, а сзади нарастало синее пламя, оно уже жгло спину и норовило поглотить ее всю. И тут девушка словно попала в ледяной омут: студеный воздух окатил с головы до ног, заставив сердце сжаться от ужаса: вот теперь она точно потеряет и равновесие, и ориентиры и стремительно унесется в черно-фиолетовую тьму смерча…
…Аля оглядывалась по сторонам, совершенно ничего не понимая, осматривая окружающий инопланетный пейзаж: обрыв поднимался метров на сто вверх, по нему можно было читать историю земли; вокруг были разбросаны куски породы, они отливали коричнево-золотым; другие, рухнувшие давно, были вылизаны морем в гладкие окатыши. Горло драло немилосердно, Аля попробовала пошевелиться и почувствовала легкую саднящую боль в спине, на шее, на бедрах: ну да, она обгорела. Заснуть на берегу было верхом легкомыслия! Она совершенно не чувствовала себя отдохнувшей, наоборот; и еще — очень хотелось пить. Девушка облизала потрескавшиеся губы, встала, одним прыжком бросилась в море. Сначала вода показалась ледяной, но тело согревалось все больше и больше с каждым гребком, и вот уже она плыла в чистом прозрачном сиянии, видя каждую песчинку на дне. Набралась храбрости, глотнула; вода была соленой, но освежала: жажду не утолит, но, по крайней мере, не умрешь сегодня. А жить здесь робинзоном все лето она не собиралась.
Аля набрала воздуха и нырнула; там, внизу, вода была еще очень холодной.
Но, вынырнув, она могла, не боясь замерзнуть, лежать на волнах. Сон вспоминался теперь смутно, и Аля сумела убедить себя, что теперешняя явь — и есть его счастливое продолжение. Все будет хорошо. О том, что нужно делать, Аля не задумывалась: к чему загадывать? Просто нужно уехать на какой-нибудь попутке подальше от этого взбесившегося городка и позвонить Олегу. Он что-нибудь придумает. Все будет хорошо. Накувыркавшись вдоволь, она заметила, что берег довольно далеко; погрузила голову в воду и кролем пошла к берегу. Все будет хорошо. Выскочила из воды, пробежалась по песку вдоль марсианского обрыва, согреваясь, сделала несколько раз «колесо», даже закричала что-то от полноты чувств: хо-ро-шо! Обсохнув, побежала обратно. Вот она, груда камней, среди которых она сложила одежду; здесь нужно ступать осторожнее: не хватало еще раскроить ступню, это в ее-то положении. Аля осторожно ступала между камней, шаг за шагом. И — замерла на месте. На песок падала тень.
— Ну вот и объявилась, — услышала она скрипучий, словно надтреснутый голос, подняла голову, ойкнула — и поспешила прикрыться руками. Стоявшее напротив существо, когда-то давно бывшее человеком, — обрюзгший мужичонка в рваной, вытертой, сожженной солнцем фетровой шляпе на сальных волосах, в каком-то неимоверном лапсердаке, бывшем лет десять тому пиджаком, в оборванных джинсах, подпоясанных бельевой веревкой, и в ботинках военного образца, зашнурованных грязными разноцветными тесемками, — сально лыбился щербатым ртом, разглядывая девушку. Впрочем, его Аля рассмотрела разом, но сначала почувствовала неимоверно мерзкий запах, исходивший от бомжа.
— Отвернитесь, мне нужно одеться… — попросила она.
Бомж забулькал смехом, обнажив беззубые воспаленные десны.
— Ты, девка, ручонки-то убери, — произнес он трескуче. — Дай уж кончить.
Аля заметила, что одна рука у него просунута в брюки и дергается под грязными штанинами… Девушке стало противно до полного омерзения, и единственное, что пришло ей в голову, — схватить камень и прогнать это животное прочь! И тут, услышав утробное «гы-гы», обернулась: позади нее стоял увалень с лицом потомственного олигофрена и алкоголика; непонятно было и то, как такая маленькая, покрытая редкими белесыми волосиками головка могла сочетаться с таким большим телом! Но и крупен этот дебил был как-то асимметрично: словно гигантский огурец, с непомерно длинными ногами, широким тазом, висячим брюшком, длинными руками, растущими будто не из узеньких плеч, а прямо из шеи! Дегенерат таращил на девушку водянистые, навыкате, глазки и облизывался, как на сладкое. На нем были только трусы: длинные, черные, до колен, какие Аля видывала только в фильмах про сороковые годы. Но горше всего был его взгляд: оловянные пуговки глаз тускло отражали небо. Нижняя губа дауна непроизвольно отвисла, с нее тонкой струйкой текла слюна.
Судорога отвращения прошла электрическим разрядом от спины до кончиков пальцев; девушка присела на корточки, соображая, что же теперь делать. Вся беда была в том, что вокруг — россыпи камней, и убежать босой она не сможет: обязательно поранится, раскроит ступню — и что тогда? Да и куда она побежит голой? Мысль была простой и здравой: вооружиться камнями, настучать этим уродам по причинным местам и заполучить назад одежду: она лежала там, за развалом камней. Путь преграждал сластолюбивый старец. Пока он занят разминанием хлипкой плоти, самое время обломать ему кайф!
Девушка сжала в кулачок плотный окатыш, в другой взяла кусок породы покрупнее, оглянулась на дауна — и упала навзничь, распластавшись ничком: этот дебил ткнул ее длиннющей рукой-оглоблей так, что она зарылась носом в жесткий ракушечник.
Глава 16
— Полегче, Федюня, полегче… — услышала Аля голос, подняла глаза. Из-за гряды породы вышел дядька, в котором уверенно можно было опознать свихнувшегося интеллектуала. Глубокие залысины на высоком лбу, редкая бороденка, которой когда-то придавали форму благородного клинышка, а-ля всесоюзный староста дедушка Калинин или Николя Бухарин, «помесь лисицы со свиньей», как справедливо поименовал его прокурор Совдепии товарищ Вышинский.
Одет дядька был в стеганый, неопределенного цвета и фасона халат из тех, что носят на востоке; на голове, на самой макушке, уместилась шапочка, напоминающая все сразу: и мусульманскую тюбетейку, и раввинскую кипу, и турецкую феску; из-под халата виднелись голые кривоватые ноги, обутые в довольно приличные кеды. Светло-карие глаза бородатого смотрели с «ленинским прищуром», внимательно и даже сочувствующе: из таких людей получаются отменные душегубы, жестокие, властные, трусливые, вымещающие свою изначальную неудачу в жизни на тех, кто оказался сильнее, но в данный момент — беззащитнее. Именно из таких получаются Геббельсы, Гиммлеры и берии. Девушка решила сразу: этот — самый опасный.
— А ты, Тухлый, заройся в тину и не отсвечивай, — вяло, но с затаенной угрозой посоветовал дядька стастолюбцу.
— Глеб Валерианович, еще чуть-чуть, и я…
— Заройся, я сказал, — визгливо выкрикнул «интеллектуал»; длинная фортепианная струна свистнула в его руках и обрушилась на сальную голову Тухлого: только шляпа спасла того от серьезных ранений.
Федя вздрогнул было, втянув башку в плечи, но загыгыкал снова, указывая на лежащую у его ног обнаженную девушку.
— Федюня, кушать, — произнес Глеб Валерианович. Глазки Феди приобрели осмысленность, а тот добавил:
— Еда — там.
Федя закивал и побежал крупной рысью прочь, за гряду каменных обломков.
Наконец Глеб Валерианович обратил внимание на Алю:
— Ну и как мне вас называть, милая незнакомка? Нимфа? Или — нереида?
— Кто вы? Откуда вы взялись?
— Это ты взялась, девка! А мы живем в этом большом мире, получаем удовольствие от жизни и ничего не просим у вас, запертых в каменных лабиринтах соподчинения. Наши удовольствия редки и просты.
— Отдайте мою одежду!
— Зачем? Таких красивых девочек я не видел давно, а уж я, поверь, знаю толк в красоте. Ну? Вставай, покажись.
— Да пошел ты!
— Неразумно, красавица, неразумно. А я уж думал, что мы поговорим с тобой о любви и поэзии.
— Прекратите паясничать! Вам не стыдно?
— Мне? Нисколько. В этих местах меня знают как Диогена. И это так. Я — свободен.
Аля только крепче стиснула зубы: вот что непереносимо в словоблудствующих интеллектуалах, так это то, что, живи они как угодно подло, бездарно, развратно, — всегда придумывают себе принципы, по которым якобы жили, а не существовали.
Непременно высокие, значимые, овеянные ореолом истории. Такие, попадая в полное дерьмо, вместо того чтобы выбраться или хотя бы прибраться, умудряются в нем комфортно устроиться, и не просто устроиться: подводят теоретическую базу.
Козлы. И этот — козел. Самый натуральный.
Но разговор стоило поддержать: нужно же как-то выпутываться!
— Свобода есть осознанная необходимость, — процитировала девушка Маркса.
— Вот как? — поднял брови Диоген. — А ты не простая путанка и не бродяжка.
— Зато о вас этого не скажешь.
— Зря. Маркс был дурак. Свобода только тогда свобода, когда она свободна ото всего, и от необходимости тоже. Это — воля. — Диоген прищурился, уголки губ язвительно и чуть обиженно опустились. — Моя воля.
— Пусть так. Но, дорогой Диоген, я не загораживаю вам солнце? Может быть, я сначала все-таки оденусь?
— Иронизируешь? Гордячка? Видишь ли, девка… Да, ты красива, поразительно хороша, но гордыня есть самый страшный из смертных грехов: красоту ты получила просто так, в этом нет твоей заслуги, но ты… ты презираешь нас! И нашего убогого Федю, и бедолагу Тухлого, и меня. А что ты о нас знаешь? Что ты знаешь о жизни каждого из нас, чтобы презирать?
«Да будьте вы хоть ирокезами, хоть австралопитеками, но мыться же нужно, хотя бы изредка!» — промелькнуло у Али, она чуть не произнесла эту фразу вслух, но вовремя остановилась. А вообще… Большинство людей относятся к бомжам, как к бродячим собакам: грязны, но безобидны. И стоит только замахнуться палкой, как такая псина, ссутулившись, потрусит прочь, повизгивая от жалости к себе. Но — не ночью и не в пустынном месте: тут стая становится наглой, опасной, жестокой. Ну надо же! Как ее угораздило забрести именно в такую пустошь?
А этот Диоген не так глуп, вернее, совсем не глуп: Аля часто ловила себя на том, что, увидев грязного и бесприютного бродягу, начинала про себя придумывать и его жизнь, и его несчастья, жалея бедолагу. Будто своих несчастий ей мало! Все, что сейчас произносил этот скверно пахнущий «златоуст», было бы правильно и, возможно, хорошо бы выглядело, если бы он стоял на трибуне ООН или Совета Европы; а когда он произносит монологи перед раздетой донага, скрючившейся от тревоги и стыда девчонкой, это… гнусность, вот что это.
— Может быть, мы стали тем, чем стали, чтобы освободиться от рабства, — продолжал вещать прибрежный Диоген, — от пут общества, от бесцельности существования, мы стали истинно свободными, перестав зависеть от ваших властей, ваших законов, вашей морали. И твоя гордыня есть гордыня рабыни, не желающей никакой свободы. Ну а раз так: ты будешь рабыней, нашей рабыней! Моей!
Аля оглянулась: нет, сбежать не удастся. Вахлак Федюня, по-утиному переваливаясь, уже спешит обратно, сжимая в лапе черствый батон и отгрызая от него немаленькие куски. Сбылась мечта идиота.
— Боишься?
— Что? — Аля повернула голову: местечковый Диоген стоял теперь рядом, нависая над ней.
— Ты боишься меня?
Девушка хотела ответить что-то резкое или просто рассмеяться в глаза, но… Запах давно немытого, заскорузлого тела чуть не вызвал у девушки приступ рвоты; конечно, она боялась этого человека, как боятся ползучую тварь, липкую и омерзительную. Именно так Аля всегда думала о змеях: омерзение перед тварью, перед ее грязью страшило ее всегда куда больше, чем яд.
— Боюсь, — выдохнула она.
— Мне это не нужно. Ты должна видеть во мне своего защитника и господина.
«А шейха и султана — не требуется? Господин на букву „гэ“! Крыса помойная!» — пролетело в Алиной голове, а Диоген продолжал, чуть понизив голос:
— Только я могу защитить тебя от этих, — кивнул он на прикинувшегося ветошью за камнями Тухлого и приближающегося Федюню. — Федя, он без фантазии и без воображения вовсе, и, что с тобою делать, вот такой голенькой, он без посторонней помощи просто не догадается. А Тухлый… Его вожделение экзистенциально и схематично: желать и мочь — совсем разные вещи. Вот в этом и опасность: игрушку, которой нельзя воспользоваться, ломают.
Этот краткий монолог Глеб Диогенович произнес, явно любуясь собой; у девушки мелькнуло даже подозрение: а уж не маньяк ли он? Пережитые когда-то страхи нахлынули разом, но подчиниться им — значит сразу потерпеть поражение.
— Федюня, конечно, полный идиот, но знаешь как он проводит досуг? Ловит там, — Диоген неопределенно махнул рукой, — древесных лягушек и отрывает им лапки. Потрошит. Живыми. И при этом хихикает и радуется, как ребенок, ломающий игрушку. Так что… держись меня, девка, или Федюня примет тебя за лягушонка. А сил оторвать тебе лапки у него хватит. Самое забавное, что он неподсуден: слишком зыбко равновесие между разумом и нежитью. Мне стоит большого труда и изрядного интеллектуального усилия удерживать его в рамках.
Федюня уже подошел и лыбился радостно и бессмысленно, продолжая глодать батон.
— Ты хорошо меня поняла, девка? — спросил Диоген.
— Да, — тихо произнесла Аля, стараясь, чтобы в голосе ее он услышал полную покорность. Да и стараться особенно не пришлось: ей было действительно жутко и от этого Феди-живодера за спиной, и от Тухлого, липко выглядывающего из-за камней… И от интеллигента Диогена, равнодушного, как доска, и властолюбивого, как гиена над падалью.
— Ну а раз так, прекрати сидеть в этой лягушачьей позе. Пошли.
Аля встала, прикрываясь ладошками, и вдруг — залилась румянцем от щек до корней волос.
— Ого! Ты не разучилась краснеть… Значит, ты лучше, чем я о тебе подумал. Нам предстоит интересно провести время. Иди вперед.
— А моя одежда?
— Мы ее подобрали.
Тропочка шла вверх, Аля поднималась, ощущая на себе облизывающий взгляд бомжа-философа. И тут — всякая застенчивость и стыдливость мигом улетучились. Не важно, кем был этот человек в прошлой жизни; он мог начитаться умных ученых книжек, он мог научиться говорить массу правильных слов, но сутью его всегда было одно: грязный бродяга с помойки! Ему не хватило ни ума, ни характера кем-то стать в том мире, и он решил опуститься вниз, чтобы получить вожделенный кусок власти здесь; пусть это власть над вонючим старичком и жестоким олигофреном, но Глеб Валерианович получает от нее свое полное удовольствие. Сейчас этого словоблудного вожденка возбуждает власть, как возбуждала бы плеть, и он сделает все, чтобы подчинить девушку этой власти.
Аля сосредоточилась на том, чтобы не напороться на острые обломки камней, которые здесь в изобилии. И все же споткнулась, упала на четвереньки и тут же почувствовала руку помойного фюрера, оглаживающего ее ягодицы. Волна омерзения судорогой прошла по мышцам, спина мгновенно покрылась гусиной кожей. Диоген понял по-своему.
— А ты невероятно чувственна, девка… — хрипло произнес он, и от этого хрипа ей стало не по себе: это было совсем не похоже даже на извращенную страсть. — А вот и наше обиталище, — по-царски повел рукой Диоген.
За грудой кое-как сложенных наподобие забора камней на четырех деревянных стойках громоздилось нечто вроде навеса из камыша. Аля разглядела три грязных лежака, чуть поодаль — остатки кострища. Над ним — украденный где-то татарский казан, в котором плескались остатки варева.
Мозг Али работал лихорадочно. Что ее ждет дальше? Что предпримет Диоген Валерьяныч, чтобы оставить ее здесь в этом логове? Сколько он намерен забавляться с нею? День, неделю, месяц? Чтобы оставить ее здесь и быть уверенным, что девушка не сбежит, Диоген должен ее сломать. Как? Изобьет? Вряд ли: не захочет портить новую «игрушку». Отдаст на потребу Тухлому или Федюне?
Возможно, но потом: власть, любая власть, ревнива и не желает ничем делиться. И Федюне на расправу тоже отдаст потом. Чтобы не нашел никто и никогда. От таких мыслей кожа снова пошла гусиным ознобом; невероятным усилием воли девушка заставила себя загнать страхи глубоко, в те тайные, черные закоулки души, в которые не каждый из живущих отваживается заглянуть за жизнь. Именно там у нее хранились воспоминания и о родителях, сгоревших в автомобиле, и обо всем том, что было пережито в детстве и совсем недавно.
Аля прикусила губу, лоб собрался морщинками; страхи отйшли, осталась одна задача, ясная, как июньский полдень: выбраться!
Собраться с духом — и бежать! Сейчас! Немедленно!
Глава 17
Бежать. Но для этого нужно заполучить обратно одежду и кроссовки. Босиком не уйти, догонят: острые обломки камней под ногами остановят быстрее и надежнее волчьего капкана.
А Диоген Лампадович, видимо почувствовав себя совершенно дома среди камышовых изгородей, непринужденно сбросил халат и остался в измятых трусах цвета вареной моркови, расползающихся по ниткам от ветхости. Дряблое тело его было «украшено» рахитичным пузцом, а на груди «эротично» курчавились три седых волоска. «У кого бока крутые, как бы раздутые, — болтуны и пустословы; это соотносится с волами и лягушками», — неожиданно вспомнилось Але из Аристотеля.
Ну а запах шибанул такой, что она мгновенно поняла: стоит ей только приблизиться к этому умничающему рахитику, как ее непременно вывернет наизнанку от полного отвращения! И приказать себе она не сможет: природа мудра, запланировав в подсознании безусловное отторжение этаких особей мужеска пола: жизнь так защищается от воспроизводства на Божий свет дегенератов.
И тут у Али будто картинка вспыхнула разом! Она увидела всю жизнь этого колченогого субъекта: пропахшее луковым супом и грязными носками детство, с вечным подсчитыванием копеек и вечным же «нельзя», женитьба «по залету» не на той, что нравилась, а на той, что сама подлезла на пьяной вечеринке; орущие нелюбимые дети; разом разползшаяся жена, состоящая будто из трех частей — необъемного чрева, широкой, жирной спины и волосатой бородавки на щеке; тихое пьянство с умничавшими технарями, преферанс по копеечке, пугливые возвращения домой, побои, выросшие детки, презирающие нищего отца, гундения на власть, снова побои и, как результат, — пропахшая луковым супом и грязными носками жизнь!
И что? Жалеть теперь этого сбрендившего бедолагу? Кто заставлял его жить так, а не иначе? Партия и правительство? Демократы-реформаторы? Или он сам, боящийся жизни хуже смерти? Доведший свое от природы жалкое тело до состояния, при котором оно вызывает только отвращение и брезгливость! И каков был выход?
Только один: сбрендить! Мужичонка, Диоген Лаэртович, и сбрендил! Поплыл по фазе по шизушному типу, через пень колоду! Ну а в дураках кормить таких нынче — полный напряг, а ловить, если сбегут, — вообще никому не нужно! Вот и подорвали убогие, оба-трое! Причем один — смутный старикашка-пачкун, другой — жестокий дебил с разумом трехлетки и третий — одержимый комплексом власти, недобитый реформами, недолеченный в дурдоме совковый интеллигент!
Для нее стало вдруг ясно все — даже эта убогая камилавка на башке: когда-то от «Мастера и Маргариты» все эти интеллектуалы-маргиналы тащились, как удавы по пачке дуста! Вот мужчинка и вообразил себя, в придачу к Диогену Синопскому, еще и Мастером! Почему нет? Чтобы рассказать о том, как «в белом плаще с кровавым подбоем» шествует среди цветущих роз дворца одержимый головной болью и одиночеством прокуратор Иудеи Понтий Пилат, — это нужно постигнуть; на то, чтобы в тщеславном безумии возвести себя в Мастера, — не нужно ничего, кроме засаленной шапочки!
Мысли эти мелькнули скоро, как вспышка блица. «Хватит думать! — приказала себе девушка. — Действуй!» Одним взглядом она окинула «жилище» доходяг: вот они, ее кроссовочки, с заправленными в них носками, как она оставила. Добраться бы до них!
— Совершенно обнаженной ты выглядешь совсем не эротично, — прервал ее размышление философ в мятых подштанниках. — Если политика — это искусство возможного, то секс — искусство невозможного! И предполагает тем самым получение удовольствия от тех эротических деталей, которые и составляют изюминку действа.
«Батюшки мои, а мы еще и секс-инструктор вдобавок ко всему», — раздраженно-насмешливо подумала Аля, но тут вдруг поняла: это ее шанс. Она округлила глаза, провела кончиком языка по спекшимся от жары и жажды губам, произнесла тихо:
— Ты прав, Мастер. — Увидев, как вздрогнул разом Ва-лерьяныч, добавила:
— Позволь мне одеться. Чтобы я могла раздеться снова, но для тебя, для тебя одного…
Вот черт! Шизуха тиха и непонятна! Вместо того чтобы поплыть по предложенной волне и зажечься «страстью во взоре», этот Диоген-махинатор вдруг застыл, как перешибленный плетью обух, а глазки забегали подозрительно и шустро, будто тараканы по коробке.
— Ты хочешь одеться, чтобы сбежать… Я знаю… Ну интуитор, ходить ему конем! А заловила бы его сейчас старушонка Яга, да требовала бы художественного секса с вывертами — ему как, захотелось бы мурцевать бабку до полной потери мужеских сил?
— О, Мастер, ты и не представляешь, как я мечтала о тебе, — с холодком в груди продолжала нести околесицу Аля: а что делать? — Позволь мне…
— Нет, — перебил ее шизик. — Ты наденешь только носочки. Они белые, и красиво оттенят твой загар.
— Как скажешь, мой господин…
— Наденешь и поползешь ко мне, на коленях, выгибая спину, облизывая губы… — продолжал выдавать куцые сексуальные фантазии колченогий секс-символ.
— Как скажешь… — тихо прошептала Аля, подошла к вороху одежды, гибко нагнулась, натянула носочек, другой… Притом успевала следить за обстановкой:
Тухлый прикинулся ветошью за камышовым плетнем и, судя по ритмично подергивавшемуся плетню, пытался довести свое мужеское естество «до полного и глубокого»… Федюня стоял столбом, меланхолично пережевывая остатки булки; смысла происходящего он не понимал, но от этого не становился менее опасным: словно работающий вполнакала робот, которому всегда можно дать любую команду-приказание.
— На колени! — услышала она повелительный голос Валерьяныча, оглянулась: вот теперь она была точно уверена, что он чокнутый, сбрендивший на всю голову: глазки превратились в буравчики, острая бороденка топорщилась по-козлиному, делая бомжа похожим на неудавшуюся статую Феликса Железного. Аля глянула на бессильно опадающие мятые трусы Диогена, потом заметила, что правую руку он тщательно хоронит за спиной, и… тут ей стало жутко по-настоящему: ведь этот карикатурный маньяк бессилен, как тухлое болото, и сейчас, как только он доведет выдуманный больной психикой спектакль до ожидаемой кульминации, убьет ее! В мозгу заунывно, будто под аккомпанемент чухонского инструмента, занудила детская считалка-страшилка:
«Пришла весна, и некрофилы достали заступы и вилы!» Что он там сжал в руке? Нож? Молоток? Отвертку? Как только она приблизится к нему, он ударит!
— Ползи ко мне! — срывающимся на истерику голосом прокричал Диоген Валерьяныч. Аля отметила, что его колотит нешуточная дрожь…
— Сейчас, дорогой… — Одним движением Аля вставила ноги в кроссовки, кое-как захлестнула шнурки, схватила свитер…
— Так вот ты как! — Диоген ринулся на нее: в руке у него был зажат столовый топорик, каким разделывают телячьи ножки и отшлепывают отбивные.
Ни выбирать, ни что-то рассчитывать времени уже не было; девушка швырнула свитер в лицо набегающему бомжу, ослепив на мгновение, крутнулась на месте и впечатала пятку ему в пах. Диоген завалился на бок, снопом; Федюня, с бессмысленной слюнявой улыбкой, раззявил руки, словно играл с нею в пятнашки.
Аля поднырнула ему под руку и кинулась бежать без оглядки.
— Федя, догони! Она украла еду! Убей! — услышала Аля визгливый вопль Диогена, полуобернулась на бегу: Федюня, со странным для его комплекции проворством, перемахнул рядком уложенные камни и ринулся вниз по тропе, за ней.
На лице его была решимость: такого могла остановить только пуля, да что пуля — заряд картечи, способный разметать эту гору безмозглого мяса. Аля неслась, не думая ни о чем, перескакивая попадавшиеся россыпи камней. Федюня настигал: громадными ботинками он с хрустом дробил попавшиеся под ноги завалы; лицо его походило на маску, застывшую в нечеловеческой ненависти.
Узенький песчаный пляж был уже рядом; там он ее не догонит, она на ногу легче! И тут правая лодыжка зашлась острой болью: Аля подвернула ногу, с маху упала, царапая об острые камни колени. Федюня тоже не успел остановиться: рухнул было на нее всей тушей. Каким-то чудом Але удалось увернуться, она вскочила на ноги, сделала шаг, Другой — больно; поняла — не убежать, оглянулась: мастодонт тоже был на ногах, готовый достать ее одним рывком.
Море плеснуло прибойной волной, окатив девушку с головы до пят. Ни о чем не рассуждая, Аля побежала за волной, чуть припадая на больную ногу, и, как только вода дошла до бедер, стала сковывать движения, бросилась рыбкой.
Вынырнула, мельком оглянулась: Федюня носился по прибрежной кромке, показывал на нее пальцем и ревел-выкрикивал что-то бессвязное: он не умел плавать! Аля приободрилась, легла на воду и быстро поплыла от берега к далекой, недостижимой линии горизонта.
Сколько она проплыла, девушка не могла вспомнить. Помнила только, что боялась приближаться к берегу ближе чем на пятьдесят метров; так и плыла вдоль, обогнула расставленные рыбачьи сети, потом — какие-то железные сваи, проржавевшие, вбитые непонятно когда и непонятно для чего… Солнце уже клонилось к закату, когда Для рискнула выбраться на берег.
Берег здесь был совсем другой: повсюду на песке попадались пустые пластиковые бутылки, объедки, остатки фруктов. Судя по всему, неподалеку был пансионат. Но сейчас пляж абсолютно пустынен. Где-то милях в пяти, за очередным поворотом берега, она заметила и полосатые «грибочки», казавшиеся отсюда клочками материи.
На крохотный пляжик Аля выползла на четвереньках. Сначала минут двадцать просто лежала ничком на прогретом за день песке: море теплое летом только для отдыхающих. Для терпящих бедствие пловцов оно становится ледяным уже через час-полтора, сводит судорогой мышцы, тянет камнем ко дну. Девушка лежала недвижно; какие-то бессмысленные, бредовые видения пробегали в мозгу, заставляя Алю время от времени вскакивать и дико озираться по сторонам: то ей казалось, что она еще в море и сейчас пойдет ко дну, то слышались тяжкие, хрусткие шаги убогого лягушачьего палача Федюни, то чудился скрежет гальки под тяжестью преследующих ее «лендроверов»…
Кое-как очнувшись от забытья" Аля почувствовала боль в желудке. Да и в горле словно царапало наждаком. Будто обезумевший звереныш, девушка поползла по берегу, напряженно и быстро осматривая все вокруг: вот! Брошенный, наполовину съеденный арбуз! Кто-то лениво выковыривал ножом остатки мякоти, да так и бросил. Девушка схватила зеленую корку, выпила остатки жижи и начала грызть, поедая все целиком. Привкус показался ей странным, но жажда вмиг сделалась совершенно нестерпимой, и девушка продолжала вгрызаться в корку. И тут — почувствовала, что опьянела. Да не просто опьянела — она была пьяна в стельку!
Какое-то воспоминание мелькнуло… Ну да, это был коньяк! Новые богатые не все от сохи и из спальных районов; иные способны и на чудачества; залить в арбуз пару бутылок отборного коньяку, дать настояться и приступить к освежающей трапезе в полное свое удовольствие.
Аля обнаружила, что упорно ползет вверх по склону. Пить уже не хотелось.
Она пропахала кое-как еще метров двадцать по сухой, выбеленной солнцем траве, устилавшей здесь берег сплошным ковром, скатилась в какую-то ямку, свернулась клубочком. Ей стало тепло: сухая трава укрывала сверху, да и земля за день .прогрелась и теперь отдавала тепло.
Аля лежала, не думая ни о чем, в висках пульсировало тяжко и гулко. А девушкой вдруг овладела полная безнадега.
Весь ее мир, вся жизнь оказалась где-то за пределами ее теперешнего существования.. Ничего нет и будто не было никогда: ни Олега, ни агентства, ни дома. Вот она лежит сейчас в траве, смертельно усталая, нагая, несчастная, с разодранными коленками, и помочь ей некому, и идти некуда и незачем. Где-то там, в большом мире, на нее уже объявлена охота, и гончие псы станут гнать ее, пока не загонят насмерть. И никто, никто не захочет ей помочь: таковы люди. То благосостояние, какое они имеют, кажется им незыблемым, почти вечным, данностью, которую можно потерять лишь заразившись от таких, как она, бесприютных и неприкаянных нищетой и отчаянием… Вот потому люди и городят вокруг домов бетонные заборы и вокруг сердец — непроницаемые стены равнодушия.
Але вдруг вспомнилась маленькая курчавая собачонка в метро. Она была беспородная и ласковая; сновала между ног, лизала руки случайным пассажирам: ну приласкайте меня, полюбите, возьмите с собой, пусть я стану вашей, я добрая игрушка, я вам пригожусь… И некоторые гладили, другие отламывали кусочки колбасы… Собачка нервно нюхала пищу, но не ела: вылизывала руки, заглядывала в глаза…
Эта потерянная, брошенная псинка знала то, что Аля поняла только теперь: она не выживет одна в этом равнодушном мире, нет у нее клыков, чтобы отстоять свое место в дикой стае, нет мощных лап и крутого подшерстка, чтобы не погибнуть от голода и холода. Она способна только к одному: любить, и поэтому нет ей места на всей земле… А погибать ей так не хотелось, ведь она еще не успела отдать свою любовь тем, кто в ней так нуждался…
Аля чувствовала, как слезы катятся по лицу, но от этого становилось легче.
Она плакала и плакала, не в силах больше ни о чем думать. А потом согрелась и уснула.
Глава 18
Проснулась она ночью. На небе сияли крупные, близкие южные звезды.
Какое-то время она лежала без движения, просто глядя в ночное небо, и ей вдруг стало жутковато: показалось, что стоит только пошевелиться — и она упадет туда, в эту звездную россыпь… Или — просто полетит, как вольная птица, в теплых восходящих потоках. Но эта чарующая жуть ничего общего не имела со страхом: было в ней ощущение, что человек не просто песчинка мироздания, что он всесилен и бессмертен, как звезда, как вселенная. «И создал Господь человека, мужчину и женщину, по Своему образу, по Своему подобию создал их…» Всесилен и бессмертен… Окружающая жизнь показалась вдруг Але несущественной и мнимой, и почудилось, что здесь она просто временный, нежеланный гость, что раньше она жила в другом мире, в другой стране, где смерть так же неестественна, как бесприютность, нищета и убожество, где гибель человека воспринимается как гибель вселенной, как мировая трагедия, как всеобщая скорбь, и люди предпринимают все возможное, чтобы такого не повторилось больше нигде и никогда.
…Девушка повернулась и почувствовала ломоту во всем теле. Болела обожженная кожа спины и плеч, ныли все мышцы. Горло, и без того наждачное от жажды и соленой воды, обложило еще и простудой: почти пятичасовое пребывание в воде дало себя знать. Теперь девушку колотил озноб. Аля кое-как встала, спустилась на пляж. В ночном воздухе разносились упругие звуки: где-то в пансионате бушевала дискотека. Девушка наморщила лоб, стараясь удержать вялые, медленные, но все равно ускользающие мысли. В пансионате? Да. В том, другом мире. В который ей нет возврата: скорее всего, ее пристрелит первый же охранник покойного Романа Ландерса. Потому что кто-то задумал все именно так.
Девушка прикусила губу, но слез больше не было. Нужно было идти. Аля перешнуровала кроссовки, высохшие прямо на ногах. Собственная нагота ее не смущала: не было в мире вокруг ничего, кроме моря, края земли и звезд.
Идти? Куда? А, все равно. Идти лучше, чем бежать. От голода, жажды, солнца, простуды, одиночества…
И Аля пошла. Ей было холодно. Опаленное за день жгучим солнцем тело теперь сотрясал озноб. Девушка прибавила шагу, потом перешла на бег. Там, вдали, небо расчерчивали прожектора дискотечных юпитеров, воздух то упруго сжимался, то разжимался, подчиняясь ритму, несущемуся из мощных динамиков:
Гаснет в зале свет, и снова Я смотрю на сцену отрешенно…
Видно, кто-то из диск-жокеев уважал ретро. Или — выполнял заказ. Заказ.
Заказ. Кто заказал Романа Ландерса? Кто заказал ее, Алю Егорову? Куда она бежит?
Во тьме Аля увидела тлеющие огоньки сигарет. Повернулась, пошла прямо на них. Разглядела во тьме двоих: парня и девушку. Они сидели тесно прижавшись друг к другу.
— Ого! — воскликнул парень.
— Прекрати на нее пялиться! — осекла его девушка.
— Да что тут разглядишь, в темноте?
— Ты разглядишь! Подруга, тебе что надо?
Аля стояла, смутно различая во тьме белые лица.
— Чего молчишь? Ширнутая, что ли?
— Танька, прекращай наезжать на девку… — Поговори еще, блудень, — не унималась Татьяна. — Ты чего голышом слоняешься? Хахаля ищешь?
Аля молчала. Горло пересохло, наплыло ангиной так, что она не могла вымолвить ни слова.
— Да погоди, Танька, видишь, не в себе девка.
— Эт-точно! Наширялась до чертей, вот и бродит голая по берегу, ищет приключений на свою щель! А кто ищет, тот найдет. Чего стала, болезная? Где трусики потеряла?
— Может, ей пива дать?
— Ага, а потом под одеялку пригласи, кобель!
— Танька, не будь стервой! Девка дрожит вся. У нас кофе в термосе остался?
— Прекрати на нее пялиться, Вован! Нашел тоже Афродиту: худая, как макаронина! Ну-ну, налей этой спидозной кофей! Да потом чашку спиртом отмывать придется!
Парень, не слушая визгливые выкрики подруги, встал, нашел термос, налил полную крышку кофе, протянул Але:
— Горячий, с ромом, будешь? Аля кивнула.
— Ну вот. Завязывается любовь и дружба, — досадливо откомментировала деваха. Она тоже встала — полногрудая, загорелая, неспешно завязала тесемки бюстгальтера, еще раз окинула Алю уничтожающим взглядом, бросила ей полотенце:
— Прикройся хоть, шалава. И вот что я тебе скажу: попила кофе и отвалила, поняла? Или пожалеешь.
Парень, которого подруга называла Вован, был вовсе на «Вована» не похож: худощавый, тонкокостный, гибкий, с пшеничной густой шевелюрой и пальцами музыканта; наверное, отдыхающий, «компьютерный мальчик из столицы», коего и захомутала провинциальная дива: будет что вспомнить тоскливой, дождливой зимой.
Аля одной рукой прижала к груди полотенце, другой держала крышечку с кофе, осторожно прихлебывая.
— Ну все? Закончила? — нетерпеливо подначила Алю девица.
— Танька, прекрати.
— Да? Много ты понимаешь в девках, Володенька! Да на ней, поди, уже весь пляж отдохнул и расслабился! Ты на глазищи посмотри!
— А что, красивые…
— Красивые? Да она героину выжрала кило! Красивые… Вали отсюда, девка!
— Тань, зачем ты так…
— Да? Хочешь, вали с ней, про-грам-мист! Только не забудь резинку на пенис, да на каждый палец в особенности! От СПИДа не лечат!
— Таня…
— Что — Таня? Что губищи-то раскатал, как Минфин на Валютный фонд? Ничего ты здесь не словишь, окромя заразы!
— Таня… Ну все…
— Спасибо. Я пойду, — тихо прошептала Аля, протягивая пустую крышку. — Спасибо.
Она наклонилась, положила полотенце на песок, пошла прочь.
— С собой эту тряпку забери, после тебя не отстираешь! — услышала вслед визгливый голос дивы, почувствовала навернувшиеся на глаза слезы, выдохнула — и побежала. Что, теперь ее всегда будут отовсюду гнать, как шелудивого пса?
Постепенно она успокоилась. Ревность — штучка всеобщая, и осуждать эту Таню… Нет, не за что. Даже приятно: невзирая на все, рухнувшее на ее голову за последние сутки, к ней еще ревнуют. А кофе был хороший, крепкий. Видно, дива оч-ч-чень желала понравиться пареньку. Во всем.
Впереди услышала музыку, выкрики. Сбавила шаг. Играл переносной магнитофон. Что-то очень старое, почти забытое. «Я еду к морю, я еду к ласковой волне…» Аля пригляделась: молодежь радуется жизни. Ну да, она так и подумала:
«молодежь». Порой девушке казалось, что она прожила уже две-три жизни, и нынешняя — не самая удачная. Человек пять-семь, парни и девчонки, резвились в теплом ночном море. Заметила на песке светлячок сигареты: обнаженная девушка, пьяная вдребадан, полулежала на покрывале, пытаясь подпевать орущему кассетнику.
Прихлебывая вино из бутылки, она подняла голову, посмотрела невидяще на Алю:
— Верка… где ты бродишь… Все… купаются…
Недолго думая, Аля подхватила с земли суконное одеяло, набросила на себя; подняла непочатую пластиковую бутылку минеральной, сигарету, спички. Поискала глазами, углядела ножку разодранной копченой курицы, кусок хлеба, взяла и их.
— Верка… Давай вмажем… Тут еще водки полбутылки…
— Потом…
— Ты с Мишкой была, да?.. Аля пробурчала невнятное.
— Ну и фиг с ним. Тогда я Толика забираю. Чтоб без обид.
Аля промолчала, тихонько удаляясь.
— Ты куда направилась-то?..
Аля сделала неопределенный жест плечами, прибавила шагу, стараясь, чтобы не свалилось одеяло.
— В восемнадцатую не суйся… — пьяно выкрикнула напоследок девица. — Там Вадик с Наташкой… уе… уединился.
Последнее слово явно вымотало девушку, она приложилась к бутылке с вином, допила, отбросила и беспамятно завалилась на покрывало.
Аля прошла еще метров двести, пока перестали слышаться выкрики гуляющей молодежи, обессиленно опустилась на камень. Первым делом отвинтила пробку с минералки, прильнула ртом; тело мгновенно оросилось бисеринками пота; желудок, казалось, лопнет. Аля отвела руку, посмотрела-а отпила-то всего ничего, меньше стакана. Хотела переждать — не тут-то было: рука сама поднесла бутылку ко рту, и девушка продолжала глотать до полного изнеможения. Передохнула, опьяненная водой, и принялась за куриную ножку, торопясь, почти не пережевывая. Желудок отозвался тупой болью, словно туда набросали булыжников; и немудрено: последний раз она ела сутки назад… Сутки? Але порой казалось, что это было совсем в другой жизни.
Прилегла, вставила в рот сигарету, чиркнула спичкой. Жадно затянулась, ощущая, как плывет голова. Хм… Да она стала настоящей бомжихой: ворует сигареты, еду, одеяла. Теперь надо как-то раздобыть хоть какую-то одежду. Ночью все кошки серы, а вот утром голышом на людном пляже ей будет совсем невесело: какие-нибудь шахтеры-монтеры выведут своих матрон на пляжный променанд — и охренеют. Самое маленькое, что ее ждет, — это встреча со здешней милицией, которой она боялась хуже чумы. А поэтому… Нужно идти в зверинец, именуемый пансионатом, и красть одежду. Хорошо бы еще и деньги. Но это — как повезет. Ибо полного счастья нет нигде, даже в Крыму.
По дорожке к пансионату она поднималась легко. Почувствовала запах цветущих роз; плотнее закуталась в одеяло: если кто и встретится сейчас, кого удивит девчонка, возвращающаяся с ночных увеселений на морском берегу?
Ага. Слева пансионат под оригинальным названием «Морской». Справа — под не менее оригинальным «Голубая волна». «Морской» поосновательней: окружен новеньким сетчатым забором, территория ухожена, на стоянке, внутри, несколько джипов и «мерсов» с московскими и княжинскими номерами. Клумбы усажены розами. Окна забраны, как парижские мансарды, деревянными решетчатыми ставнями. У входа будка, в ней скучает привратник. У ног его отдыхает коричневый, лоснящийся в люминесцентном свете доберман. Лучше туда не соваться.
А вот «Голубая волна» попроще и рангом пожиже. Да и название придумал кто-то еще в те незабвенные времена, когда слово «голубой» у всех нормальных людей ассоциировалось с цветом неба, а не с сексуальной ориентацией… Дощатая калитка была распахнута; внутри территории — обычные щитовые домики, кое-как крашенные синей, местами уже облупившейся краской. На всю территорию — всего два допотопных желтых фонаря. Несколько домиков, судя по всему, пустуют. На верандах натянуты веревки: сушится белье. Вперед.
Аля прошла калитку. Откуда ни возьмись появились три лобастые рыжие собаки, молча окружили; та, что крупнее, подошла к Але, понюхала, едва заметно вильнула хвостом и исчезла в темноте. Вот повезло: одеяло здешнее, собачки признали за свою, и это внушает пусть маленькую, но надежду.
Тенью Аля прошла несколько обитаемых домиков, увидела в одном приотворенную дверь; на бельевой веревке висел спортивный костюм-эластик — то, что нужно! Девушка сторожко поднялась по ступенькам, тихонечко, стараясь, чтобы не скрипнули рассохшиеся половицы веранды, подошла к веревке, протянула руку сдернуть .штаны — и услышала позади:
— Ты чего там крадешься, девка?
Глава 19
Дородная казачка .лет тридцати пяти стояла чуть поодаль, подбоченясь, наклонив набок обвитую толстой косой голову, и, насмешливо сложив полные губы. смотрела на Алю. От окрика девушка повернулась, одеяло комком упало к ногам.
— Да она еще и голая, прости Господи, — озадаченно сказала казачка и добавила .повелительно:
— А ну-ка, прикрой срамоту, да пойдем погутарим, с чего здесь ходишь телешом, когда люди добрые спят, да с кем валандаешься, коли тебя выпустили так вот, в чем мать родила! Ну?
Аля наклонилась, снова .закуталась в одеяло, спустилась с крыльца.
— Да на тебе, девка, лица нет! Или случилось чего? — озабоченно глянула казачка. Поднесла руку, потрогала лоб:
— Даты вся горишь! Пойдем-ка.
Аля устала. Ей не хотелось ничего говорить, ни от кого бегать, ей хотелось просто согреться и замереть: стать невидимой, неслышной, как гераниевый листочек между страничек гербария. И уже там — отоспаться вволю. А завтра… Если, конечно, у нее есть хоть какое-то завтра.
Женщина провела ее в один из домиков, притворила дверь, зажгла свет.
Поставила на плитку чайник, сказала:
— Присаживайся. — Помолчала, добавила:
— Выглядишь так, будто за тобой сутки черти гонялись.
Аля скосила глаза, увидела зеркало на телевизоре, но подходить к нему не стала: к чему расстраиваться и по этому поводу?
— А руки у тебя чистые…
— Что? — Аля посмотрела на женщину.
— Руки, говорю, чистые. Ни одной «трассы». Тогда — чего? Таблетки глотаешь? Нюхаешь? Куришь?
Слова ее звучали для Али глухо, будто где-то вдалеке ударяли в большой бубен, и смысл этих слов доходил до девушки невнятно, словно через тяжелую войлочную завесу. Она еще раз оглядела убранство комнатки: уютно.
— Чего смотришь? Управляющая я здешняя, вроде коменданта. Зимой приглядываю, чтобы пансионат этот бедолажный не спалили к едрене фене, летом — за порядком слежу. Цены у нас низехонькие, потому и публика, отдыхающие в смысле, разнузданные, что кони на первом выгоне. И шлындры здесь такие чкаются, что… А ведь ты нездешняя, а, девка?
Аля помотала головой.
— То-то. Всех тутошних свиристелок я наперечет знаю. Из Южногорска?
— Нет.
— А чего голая? Девушка промолчала.
— Видать, хахаль какой привез, да позлобствовал, на потеху пустил…
Чтобы, значит, со всей сворой его перенюхалась. Нет?
— Почти.
— Не переживай шибко, не ты первая. Впредь умнее будешь. Это елдыкинские любят: есть у них кавалер такой справный, сутенер, Вадимом звать, красив, как Леонардо этот ди Каприо, хотя — с чего девки по нем сохнут, ума не приложу, ни тела, ни вида, ни характеру в мужике не видать… Так вот, Вадим этот какую простушку подберет, сначала вино шампанское, хиханьки-хаханьки, розы-мимозы… А потом завезет, всей кодлой девку оттатарят, чтобы была как шелковая, и — пожалте монету для шпаны чекань этим самым местом, пока не расплющится. Не Вадим был, твой-то?
— Нет. Никита.
— Таких не знаю. Видать, из плейбоев новых, эти похлеще любых бакланов будут, мало что над девками изгаляются, еще и поуродовать могут. Сбежала? Да ты не ерзай, я не выдам. Вон кроссовки-то об камни да об ракушки посеклись, видать, по берегу спасалась от полюбовника. Или от дружков его. Так?
— Сначала вплавь.
— И долго чупахалась?
— Не помню. Несколько часов.
— Ополоумела девка! Очумела навовсе! Да этак воспаление легких схватить — раз плюнуть! А сейчас микроб пошел вреднючий, никакой антибиотик не берет! Оно надо, так убиваться?
Аля только беспомощно пожала плечами. Подумала лишь, что тетка — никакая не казачка: говор не тот. Откуда-то из России.
— Во-о-от. Вы, девки нынешние, в этой жизни шику хотите. Шоу, рестораны, курорты. И — получаете, полной ложкою. Звать тебя как?
— Аля.
— Аля? Чудное имя.
— Алена. Лена.
— Во-о-т. Так привычнее. А то — Аля. Хотя… Любят путанки себе чудные имена выдумывать: Анжела, Виктория, Валерия… Одна шлюшка в прошлый год жила, манька манькой, а называлась — Ада, Аделаида, значит. Почто? — Женщина помолчала, словно ожидая возражений, не дождалась, продолжала:
— Аля, значит. А меня Ксенией называй. А попроще — Ксюха. Ну а еще попроще — Ксения Константиновна.
Ксения Константиновна встала, сняла закипающий чайник, разлила в пухлые белые чашки, достала несколько булочек, колбасу, шоколадку, сахар. Минут десять молчала, смотрела, как Аля жадно набросилась на нехитрую снедь. Достала сигареты:
— Куришь?
— Иногда.
— Ну и не стесняйся.
Щелкнула кремнем зажигалки, затянулась, щурясь от дыма:
— А ты вовсе не пацанка. Сначала я подумала — девка сопливая, малолетка, а пригляделась… Глаза у тебя усталые. Так откуда будешь, красавица?
Аля неопределенно махнула рукой в воздухе:
— С севера.
— Ты, девка, не темни. Тут все с севера, потому что южнее — только Турция.
Чего дальше делать станешь? Ладно, понимаю. Штаны и куртку стянуть хотела? Тоже понимаю: не ходить же нагишом. Ну а дальше что? Денег нет? Документов нет? Вся как есть красавица — неглиже в одеяле. А одеяло, между прочим, тоже казенное. Да ты не лякайся, девка, я тебя туркам продавать не собираюсь и под местных «зверей» укладывать тоже: не того ты поля ягода. — Ксения помолчала, предложила:
— Вина выпьешь?
Аля пожала плечами.
— Или — чачи виноградной? Не с рынка, мне хорошую привозят, для себя. Да и нужно тебе: глянь, горишь вся! Да не боись: никуда я тебя в ночь гнать не стану, найду место. Отоспишься, а там — видно будет. Утро вечера мудренее.
Ксения разлила чачу по литым пузатым стопкам, предупредила:
— Только ты разом давай и, дух не переводя, вон, помидорчиком заешь, сливой или запей чем. Ну, за знакомство?
Аля кивнула. Выпила стопку глотком, разжевала сочную сливу. Голова поплыла мгновенно.
— Ну? Поехала бестолковка? Это с непривычки да с устатку. Теперь кипяточку похлебай, и вся простуда выйдет. Проверено. — Ксения устремила проясневший взгляд вдаль. — А я свыклась. Жизнь такая. — Помолчала, закурила сигарету:
— Такая вот одинокая, бабья да непутевая. Ты вот думаешь-недоумеваешь, чего я тебя чаем угощаю да водкою пою… Какая мне в том корысть? А потому, девка, что сама в этой жизни натерпелась хуже горького, вот и жалко мне всех непутевых. Главное в нашей жизни не озлиться. Озлилась — пиши пропало. И судьбина по такой наклонной покатится, что уже не остановить. — Ксения вздохнула тяжко:
— Вот ты думаешь, чего я здесь кантуюсь? Летом — еще ничего, отдыхающие, жизнь ключом, а осенью? Зимой? Ветер мокрый, сырой, и тоска такая, что даже вешаться лень! А в городах больших, в них что, легче? Все рыскают пропитания, словно брошенные собаки, и всем на всех наплевать! Я знаешь где раньше жила? В Навои. Город такой в Узбекистане. Там, считай, русские одни жили. И город был славный, теплый, зеленый… А потом — началось. Перестройка, перестрелка… Не, узбеки народ добрый я к нам сочувственный, и новые баи вовсе не хотели, чтобы русские уезжали: работать кому? Да в любой семье не без урода, а в наше время уроды повсюду плодятся быстрее других, как крысы после Чернобыля: злые, здоровые, и ничего в них не осталось человеческого. А мне тогда двадцать восемь всего было.
Благоверный мой счастье командировочное с какой-то бабенкой из Рязани нашел: пусть дебелая да глупая, как пингвин, а щи варит, и жилплощади у нее аж три комнаты.
Попервоначалу я не отчаивалась — напротив, пустилась во все тяжкие! А что?
Десять лет назад чего мне, в соку баба, в самом что ни на есть! И — понеслась «веселая жизнь»! «В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные…» Ну да:
Сочи, Адлер, Ялта, Пицунда, Судак, Одесса… Четыре года болтало меня, как ненормальную, и мужики вроде попадались стоящие, денежные, да пропадали все, как в омут! Одного — застрелили, другой — в Неметчину укатил, да там и остался, третий — пропал пропадом, как не было… А я — знай гулевала, как проклятая!
Пока однажды не влетела спьяну в совсем плохую компанию: пацаны молодые, да злобные, вот и решили меня хором «распевать»! А я… Не знаю, что со мною сталось? Как-то разом нахлынула обида за жизнь, а там еще один был совсем страшный юнец, глазки пу-у-устень-кие, он возьми да хлестни меня ремнем по лицу!
Ну я и вызверилась! Пух и перья летели! Потом схватила ножик, да ну того юнца-дегенерата сечь вдоль-поперек… Кровищи было… Убить я его не убила, а порезала сильно! Что было делать? Половина тех юнцов — из семей самых что ни на есть состоятельных; ну, думаю, закатают меня в домзак на всю оставшуюся молодость!
И — побежала, солнцем палима! Пол-России объездила, и кем только не побывала: и шашлыки да чебуреки жарила в Костроме, и за бугор в Польшу да Туретчину за шмотками моталась, да не для себя, на хозяина работала; и торговала не пойми чем! Да разве нужда, коли на тебя плесенью села, быстро отстанет? И так карабкаешься, и этак, а все в той же яме с ледяными закраинами! Так нигде за годы и не осела — может, доля моя такая, перекати-поле? И беженка — вовсе не временное состояние, а болезнь душевная, когда несет тебя невесть куда, словно кто гонится за тобой…
Ксения села, облокотившись на руку, налила себе еще стопку, спросила:
— Будешь?
— Половинку если только.
Женщина выпила, как-то сразу потяжелела за столом: видно, не вторую рюмку принимала за день-ночь, и даже не пятую. Перехватила Алин скорый взгляд:
— Ты не боись, «синеглазкой» не стану, натура у меня крепкая. Только порой находит так вот, в безлунье, мысли всякие бегают, глупые, вздорные, а не отвяжешься от них, и поговорить не с кем здесь по душам-то… Что бабы, что мужики, живут как запряженные жвачные: абы хуже не стало. Начать им житуху свою пересказывать? Прослывешь потаскухой, а то и чем похуже. Да и как решат? С жиру баба бесится, все вроде есть у нее, а дуркует, жалобится, грех это. Я ведь здесь пять лет тому осела, сначала комендантом, за рубли нищенские, потом — из пацанов здешних «летняя мафия» сколотилась, кое-как торговать стали мелочевкой, да и мужика нашла себе, из казаков, с характером мужчина, попивает, не без греха, а добрый. И дом у него с садом свой. Чего еще желать беженке? То-то, что ничего, а томит… Нахлынет и не отпускает. Знаешь, как в песне, которую любили мои родители: «Листья падают с клена, вот и кончилось лето…» А ведь я когда-то рисовала… Цветы рисовала, потом — море… А сейчас? Разводящая-приходящая…
Не знаю. Жизнь проходит, убегает, как вода сквозь пальцы, ничего не оставляя по себе, кроме страха… страха зимней сырой тоски… Детишек бы завести, да Бог чтой-то не дает. Или — нагрешила много? Но я надеюсь; безнадегой и жизнь не в жизнь, надеяться надо, пропадать не хочется. Жалко пропадать.
Ксения вздохнула:
— Ладно, девка. Хватит тебя грузить, тебе своего, я чаю, по жизни досталось. Ты как в комнату зашла, да я глазищи твои увидала… А ты, знать, не озлобилась. И не надо. Отоспишься сегодня, одежку я тебе подберу, не новую, уж не обессудь, а подберу. Чуток деньжат подкину, чем богаты. Ты откуда будешь-то?
— Из Княжинска.
— А говор расейский.
— Я до четырнадцати лет в России и жила.
— Тоже пометало, видать… Ничего, девка, перебедуем. Поедешь домой, козлов этих позабудешь, а родители — простят. Ты чего лицом посмурнела, или сболтнула я что не то?
— Папа с мамой погибли. Давно. Детдомовская я.
— Беда… Живешь где или бедствуешь?
— Квартира от бабушки осталась.
— Ничего, Алена. Перемелется все. Ты, главное, не злобься. Людей скверных, уродов всяких — сейчас шире грязи, а не они жизнь строят. Поломать кому могут, но навовсе не поломают, нет за ними силы такой. Людей держись. Тех, что людьми остались. И не пропадешь.
— Спасибо вам.
— Да Бог с тобою. Пойдем, в домик отведу, там постелено. Ой, дура я!
Погодь!
Ксения подошла к шкафу, открыла, достала запечатанный пакет:
— Держи. Здесь купальник ненадеванный, только-только позавчерась ребятишки из Турции приволокли. Подростковый, как раз по тебе будет.
— Спасибо. Я как только до Княжинска доберусь, деньги вам обязательно вышлю.
— Да ляд с ними, с деньгами. Коли появятся, да не в прореху тебе станет, так вышлешь. Ну а нет, так нет, никакой потери. А то бывает, человеки за деньгами людей не видят — вот тогда худо. Навидалась я в своей жизни тех денег, когда гулевала. Шальные, видать, были, как пришли, так и улетели, не углядеть. — Ксения застыла взглядом:
— Еще и повезло мне: шальные деньги — как шальные пули — убивают.
Через десять минут Ксения провела Алю в щитовой домик, отомкнула немудреный замок:
— Здесь все чистое постелено. Спи, девчоночка, и не о чем не страдай.
Солнце выглянет — все страхи пожжет. Утро вечера мудренее. Спи.
И Аля уснула сном легким и невесомым, как первый снег.
Глава 20
Ей снилось, что она стоит посреди огромного золотого-поля. Поля одуванчиков. Они весело таращили солнечные головки из свежей сочной зелени листьев, и девушке было радостно, как бывает в первые по-настоящему теплые дни лета: впереди так много света и солнца, что стоит ли думать о будущем? А потом поле оказалось белым. Нет, не снежным, просто белым, бескрайним и совершенно спокойным. А на лазурном небе не было солнца: оно словно светилось само собой, и длинный сияющий луч простирался сверху и гладил ее по голове…
Потом Аля поняла, что уже не спит; смотрела в дощатый потолок и пыталась понять сон. Но понимание не давалось. Вместо этого она видела грязно-оранжевый взрыв, убивший ее родителей, перекошенное жутким шрамом лицо Краса и то, как рыжая кровь рывками выплескивалась из перерезанной бутылочным остовом аорты и заливала пол черной лужицей; видела стоящего в полный рост над обрывом Маэстро; черные полы его развевающегося плаща были похожи на крылья, а вертолет, несущейся на него, изрыгающий оранжевый огонь, был подобен хищному всепожирающему всполоху… Вспомнила странные коллекции, представленные на показе… Карты Таро. Снова закрыла глаза. И почувствовала, как теплый луч продолжает гладить ее по голове… Зачем? Зачем ей было дано не просто пережить все, но и запомнить? Или кто-то вещий там, на Небесах, решил передать ей это бремя, чтобы сделать взгляд зорче, сердце — ранимей, душу — беззащитней?..
Возложил на нее особый дар, долг, и она ведома этим долгом? От непривычных и пугающих мыслей Аля устала; голову затопило мутной поволокой, и она снова уснула. Без сновидений.
Проснулась Аля чуть свет, словно что-то толкнуло ее; сердце билось часто-часто, как пойманная рыбка в руке. Холодный пот обметал лоб, будто роса — покосное поле. Аля приподнялась на постели, чуть тронула занавеску, напряженно вглядываясь в серый сумрак утра. Два автомобиля, еще распаленные быстрой ездой, размытыми силуэтами маячили у въезда на территорию базы отдыха. Але даже почудилось, что они исходят паром, как запаленные жеребцы. Рядом маячили силуэты крепких парней. Голоса их доносились приглушенно, ни слова не разобрать, но Аля поняла каким-то чутьем: за ней. Вернее, ищут ее. А вот найдут ли?..
Быстро вскочила с постели, натянула купальник, носки, зашнуровала кроссовки; вот таким видом она в курортном поселке точно никого не удивит. Даже утром: может, она бегунья-разрядница? Аля увидела себя в зеркале: от лица остались одни глаза! Они были какими-то… Ну да, похожими на глаза ребенка, слишком много увидевшего и испытавшего в короткой своей жизни, отказавшегося понять виденное, чтобы психика не распалась в саморазрушении, но притом ничего и не забывшего.
Аля вздрогнула, чуть не юркнула под койку — дверь резко распахнулась: на пороге стояла Ксения. Лицо ее было припухшим ото сна, но глаза — встревоженными; в руке небольшой сверток.
— Вот что, Аленка. Из Южногорска приехали. По твою душу. — Женщина перевела дыхание. — И не буравь меня глазищами! Не знаю, во что ты там вляпалась, да и знать не хочу, но тебя не выдам, греха на душу не возьму. Но и ты меня не подводи, если что… — Ксения отвела взгляд в сторону. Аля поняла: она имеет в виду, если поймают… — Вот тут в свертке — одежда. Выйдешь из окна через другую комнату, ее с дороги не видно; собак я заперла, не залают. И — лети, девки, беги что есть духу: уж очень людишки эти нехорошие, что приехали.
Нашего Цыпу местного прямо с девки подняли, как есть, всклокоченного, в трусах, а он и не пикнул: в глаза им заглядывает, что твой пес цепной, а был бы хвост, так и завилял бы!
Пока Ксения говорила, Аля раскрыла сверток: там был спортивный костюм-эластик, темно-зеленый, с белой полосой-кантом; натянула на себя штаны, куртку; вроде бы впору.
Ксения сунула ей в руку четыре бумажки:
— Двести рублей. Больше не могу, ты уж прости: для нас и это деньги. Беги, девчоночка, беги.
Аля кивнула, на глазах показались слезы, она попыталась поцеловать Ксению в щеку, но лишь неловко ткнулась губами; вышла в другую комнату, распахнула окно, выпрыгнула в серый сумрак утра и растворилась в предрассветной дымке.
— Да пропади она пропадом, такая жизнь! — в сердцах ругнулась Ксения, вздохнула тяжко, по-бабьи и тихонечко перекрестила светлый проем окна, — Беги, девчоночка. А Бог не выдаст.
Хоронясь за спящими щитовыми домиками, Аля подбежала к полутораметровому металлическому заборчику, символически отделяющему владения базы отдыха «Голубая волна» от остального мира, перемахнула его легко, а вот в какие веси подаваться дальше… И пошла наобум: вдоль улицы, недавно застроенной одинаковыми домами-особняками, облицованными плиткой «красный кирпич», в готовности «под крышу». На крайнем было аршинными буквами намалевано белой масляной краской:
«Продается». Знамение времени… Аля неожиданно для себя представила пеструю теперь карту СНГ в учебном школьном атласе; ну да, все правильно, не хватает только такой вот вразумляющей надписи… Впрочем, никто и не кидается и в очереди не стоит: зачем покупать, когда можно отнять, отобрать, присвоить?
Аля тряхнула головой: не хватало ей только сейчас вселенских мыслей «о судьбах страны и мира». Хотя… Аля смутно, интуитивно, но четко понимала; будь на бывшей одной шестой нерушимый порядок, не бежала бы она сейчас не пойми куда не пойми от кого с риском получить пулю. Это только кажется, что государства сами по себе, а люди — сами; государственность есть способ самоорганизации русского народа — в отличие от кланов, тейпов, племенных союзов, землячеств, религиозно-национальных общин, имеющихся у других. При разрушении государства русский народ потерял куда больше других: защищенность и способность к выживанию.
Аля снова тряхнула головой. Это были не ее мысли. Она просто вспомнила мужа. И ей показалось, что все ее беды произошли как раз потому, что его не было рядом. Ничего. Как только доберется до ближайшего пункта связи, сразу позвонит Олегу. А может, он уже в Княжинске? Это было бы славно! Просто славно!
Аля почувствовала, как блаженная улыбка помимо воли заиграла на губах…
Нет, так нельзя! Только мысль о том, что кто-то в скором будущем явится и сможет решить твои проблемы, вместо тебя, — деморализует, как наркотик! Нет пока никакого будущего, есть серый утренний сумрак, есть опасные люди, готовые сграбастать ее, сделать с ней все, что угодно, не спрашивая ни у кого соизволения и ничего не опасаясь! Лучше уж думать о «странах и весях»: психика так защищается от непосредственной опасности, пережигая страх.
Автомобиль вынырнул из сумрака, сияя противотуманными фарами, похожий на желтоглазое чудовище. Почему Аля не расслышала работающего мотора, почему не метнулась на обочину, не растворилась в жухлой траве?! Влажный морской воздух сыграл с ней скверную шутку: шум мотора она слышала, но доносился он вроде совсем с другой стороны, откуда-то слева и сзади, и, казалось, удалялся. И вот теперь машина мчалась прямо на нее, и на узкой улочке разминуться с ней было немыслимо, невозможно! Девушка улыбнулась беззаботно-вымученной улыбкой, походка ее враз сделалась расслабленно-вихлявой: не вполне протрезвевшая потаскушка возвращается от ночных приморских увеселений в лоно благонравия, усталая, но довольная, как писали в школьных сочинениях. Аля чуть отступила на обочину, пропуская машину. Джип замедлил ход и остановился. Задняя дверца приоткрылась.
— Эй, лялька, покататься не хочешь?
Аля осклабилась как можно глупее и похабнее, захихикала.
— Да прекращай, Сазон, видишь, эта накаталась уже! Поди, не одну палку за ночь седлала, а?
Аля снова не ответила, побоялась, что нездешний акцент выдаст ее с головой. Только загыгыкала еще глупее: если играть «я у мамы дурочка», то пусть решат, что полная! Идиоток братки сторонятся, как заразных; или это — давний суеверно-почтительный страх перед юродивыми, оставшийся в генной памяти?
— Ты че, длинноногая, без крыши, что ли?
— Сазон, завязывай эту муму терзать, погнали! Не видишь, шмара обколота до полной измены?
— Не, она, видать, от природы убогая… — отозвался Сазон и хлопнул дверцей.
Аля, продолжая строить губами жизнерадостно-олигофренический оскал, перевела дух: отвязались. И тут в салоне мелодично пропел звонок мобильного. Она пошла было дальше, чуть ускоряя шаг и ища глазами улочку поуже, куда бы юркнуть и куда этот танк на колесах ни за что не протиснется… Тщетно. Сплошные заборы, палисадники, занавешенные деревянными жалюзи окна… Девушка шла прямо, чувствуя, как по напряженной спине сбегают струйки пота, и напрягая всю волю, чтобы не сорваться и не побежать! Развернуться они не успеют, но и задним ходом догонят в два счета. Не говоря уже о том, что пуля — еще быстрее.
— Эй, мочалка, ну-ка погодь! — крикнул ей вслед из машины шофер.
Девушка продолжала идти молча, как глухая. Джип взревел мотором; на скорости подал назад, въехав на взгорок обочины, перегородил дорогу. Дверца снова распахнулась, из нее высунулся тот самый шофер — молодой парень, чуть ли не ей ровесник, хохотнул:
— А вот и снова здрасьте! Как пишет пресса, «шалава, похожая на профурсетку генерального прокурора Куратова», — снова хохотнул, добавил:
— Ищут пожарные, ищет милиция… Ну а пуще всего ищет здешняя хулиганствующая молодежь.
С чего бы это?
Аля замерла, сохраняя на лице идиотскую улыбку, впрочем, вполне понимая, что первая «подача» ею проиграна.
Но она успела заметить на джипе две семерки, московские номера… Значит, не местные, братки на отдыхе, и информацию получили только что, по мобильнику. И еще она вдруг поняла, почему не побежала: когда джип стопорнулся рядом в тот, первый раз, она успела заметить в кармашке распахнутой дверцы торчащую рукоять пистолета; что-то крупное, типа «Кольта-19 II» или «беретты». Возможно, и с глушаком, раз рукоять не прибрали. Надежность чужого оружия манила девушку, как доза — наркомана. А вообще — круты братки, коли разъезжают так вот запросто со стволом наголо, будто морские офицеры с кортиками или грузины — с кинжалами… А может, это и есть теперь элемент декора, формы, национальной одежды «братвы всея Руси»? И потому никого из служилых ментов и теперь не шокирует, а в ближайшем будущем вообще перестанет удивлять наличие шпалеров и винторезов у пассажиров этаких бронетранспортеров на колесах?
На этот раз «посторонние» мысли совеем не мешали девушке; они неслись сами собою, но Аля притом чувствовала себя собранной и готовой действовать мгновенно, молниеносно: завладеть оружием, а там — по обстоятельствам. Вот только… В том, что она не готова больше стрелять в людей, Аля не желала признаться даже самой себе.
Тем временем с переднего пассажирского сиденья объявился длинноволосый хлыщ, облокотился на крышу машины, рук его Аля не видела, это было скверно. А с ее стороны, с заднего, вылез здоровый, плотный мужчина лет около сорока; на нем кроме спортивных штанов была майка; Аля заметила на спине несколько вытатуированных куполов; оттуда же, со спины, шли вроде аксельбанты, образуя подобие погон, но ни самих погон, ни звезд на плечах не было, значит, не законник, но авторитет немаленький, масть не пустячная, козырная масть.
Чуть прищурившись, мужчина некоторое время смотрел на девушку, потом произнес:
— А ты красивая. Сразу тебя и не разглядел. Только дуру больше не играй, ладно? Присаживайся в машину. Побарзарим.
Глава 21
Аля прикусила губу: стоит сесть в машину, и ей крышка. Сейчас у нее два выхода: врезать крутому носком кроссовки по причинному месту — да будь ты хоть царь Салтан, а свалишься от такого удара, как простой: природа. А дальше — выхватить пистолет, который ребята хранят столь небрежно и демонстративно, и тогда еще посмотрим, кто здесь козырь! Убивать она их не станет, но подранить может вполне качественно! Ну и бегать — тоже не разучилась. Главное — не дать себя схватить: у этого расписного такие руки, что… изломает враз! На всякий случай Аля сделала шаг назад, произнесла:
— Не о чем нам говорить, ребята. Я своей дорогой пойду, вы — своей.
Длинноволосый тем временем сделал неуловимое движение; теперь в судорожно сведенных руках он держал миниатюрный коротенький «глок», нацеленный Але в голову. Впрочем, ситуация если и изменилась, то не намного: этот горе-стрелок слишком жестко, картинно держал оружие, значит, и обращаться с ним ласково не умеет; стоит ей сделать шаг в сторону — и голова крутого авторитета окажется на линии огня… Аля только усмехнулась горько, произнесла, постаравшись вложить в интонацию как можно больше сарказма:
— Детский сад — трусы на лямках! Расписной обернулся:
— Сазон, ты что, в Леона-киллера решил поиграть? Убери пушку и прикинься ветошью, понял!
— Владимир Евгеньевич, я хотел как лучше…
— Не надо. Чтобы не получилось как всегда, нырни в салон и не отсвечивай!
Саэон понятливо кивнул и исчез в машине.
— Ну что ж… — Татуированный еще раз смерил девушку оценивающим взглядом, — приглашение не принимаешь, и не надо. Пойдем вон на взгорочек, потолкуем. То, что ты Рому Жида завалила, это круто; мне хотелось бы узнать, кто заказал. И не суетись, девка: облава на тебя, не уйдешь! Только… Нам ни это местное бакланье, ни Ромино «мясо» — не указ и не закон, да и зарвался Рома в последнее время… Вот только не настолько, чтобы его валить. На сходняке об нем разговор шел, перетерли, решили самого выслушать, а кто-то его так ловко и ладненько двумя пульками заласкал — до смерти…
— Я не…
— Ша. Молчать в детстве не научили и старших слушать?.. — Авторитет вытряхнул из пачки сигарету, взял губами, чиркнул кремнем зажигалки, окутался ароматным голубоватым дымком. — Не то беда, что Рому завалили… А то, что той же ночью и Батю с братками прищучили, и — никаких концов, как Мамай прошел!
Выходит, осиротело побережье, совсем осиротело, бери голыми руками — не хочу…
Да уже слушок прошел, что Батю сотоварищи — Ромины ребятки — поваляли, а те, напротив, — самого Жида в жмуры перевели… И что в результате? Кое-где по бережку уже и постреливают, счета на балансы наводят, это в разгар сезона!
Междусобойчик у них тут! А ведь еще серьезные деловые не подключались, уж очень лакомый кус беспризорным остался, ты даже себе не представляешь, девушка, до чего лакомый! А где сладкое, там и мухи. Большие и трупные. Сейчас, как три-четыре года назад, отморозки дурные плодиться-размножаться начнут, как на падали… — Авторитет снова вздохнул, непритворно тяжко:
— Вот такие делишки заварились, а ты говоришь: «У меня — своя дорога, у вас — своя!» Нет у тебя никакой своей дороги, окромя как на кладбище, девочка, нет. Ромины охоронцы тебя так или иначе достанут, чтоб политес, значит, соблюсти. А я тебе так скажу: нам, серьезным деловым. Рома был не брат и не сват; слушок упорный ходил, что крысятничает, общак кидает, с турканами напрямую стакнулся, с соплеменниками своими дела крутит в обход солнцевских… Куда это годится? К чему я веду, девка? К тому, что мы тебя еще можем простить, Ромины бодигарды — никогда. И лишнего шума нам не нужно. Так что садись-ка ты, красивая такая, в тачку, и поехали из этих палестин в столицы, разборы чинить: так-то оно всем лучше. И «нет» тебе не ответить: боюсь, те, что тебя ищут, не раскладов от тебя ждут, а побыстрее в лучший мир сопроводить желают… Нет?
Аля стояла, слушала, половину из сказанного просто не понимала, пропускала и чувствовала притом огромную усталость. Расписной имел ту власть, которую имел, не напрасно: он почти убедил ее, еще немножко, и она покорно сядет в автомобиль и положится на волю Провидения да на справедливость братанской разборки… Но будто острая точка пульсировала маячком в мозгу: нельзя, нельзя, нельзя… Пока она свободна. Сво-бод-на. И — вольна принимать решения, сопротивляться, бежать, наконец. Этот Владимир Евгеньевич умен, целеустремлен, настойчив и абсолютно уверен в себе; говорит, глядя ей прямо в глаза, и от этого взгляда ей становится нехорошо, хотя Олег и учил ее специально и «держать взгляд», и уходить из-под него, все равно; и это был не страх, нет, какое-то властное желание прислониться к чужой силе, укрыться за ней… Самое человеческое из всех желаний, самое женское из всех человеческих… Был бы рядом Олег… Но его рядом нет. Он остался в той, другой жизни, и как теперь к ней вернуться? Но она постарается.
Алины мысли бежали словно сами собой, а рефреном она слышала слова Ксении:
«Вот только пропадать не хочется. Жалко пропадать». В том, что ее убьют непременно и обязательно, она уже не сомневалась: чем бы ни закончился «разбор полетов», оставить ее в живых никто не озаботится.
Девушка сосредоточилась. Она не забывала внимательно следить за тем, чтобы Владимир свет Евгеньевич не приблизился к ней ни на шаг; а он и не пытался.
Слишком был уверен в себе. В своем уме, мужском обаянии, куражном азарте. Чего греха таить, при других обстоятельствах Аля с удовольствием поддалась бы той силе, что исходила от этого мужчины. Но не теперь. Она решилась.
Кивнула, обреченно, потерянно, произнесла едва слышно, одними губами:
— Хорошо…
Ей было не важно, слышит ее сейчас Владимир Евгеньевич или нет; девушка играла на другом: на неистребимом мужском тщеславии и самодовольстве. Весь ее вид сейчас должен был говорить ему: да, он победил, он красноречив, обаятелен, неотразим! Он подчинил ее себе. Под-чи-нил!
— Ну вот и славно… — Мужчина подался чуть в сторону, галантно пропуская девушку вперед, Аля сделала быстрый шаг и вдруг — с лета, мыском ступни ударила мужчину туда, куда наметила! Не дожидаясь, пока он скорчится и рухнет, пнула другой ногой, освобождая путь, наклонилась, одним движением выхватила пистолет из кармана дверцы, щелкнула затвором, почувствовала, как патрон пошел в патронник, и снова отступила на шаг, направив оружие на сидевших в машине.
— Не дергаться! Руки на руль и иа доску, чтобы я их видела!
— Сучка, да ты…. — попытался было качать права водила, высунувшись из машины, — видно, слишком не вязался вид грозного боевого пистолета и хрупкой девушки, сжимающий его в руках.
— Сидеть, сявка! — хрипло, с присвистом выдохнула Аля. — Башку проломлю! — Сообразила, быстро перевела ствол на корчащегося в пыли авторитета, добавила в голос почти не наигранной истерики:
— Застрелю!
— Тебе кранты, сучка! Я тебе ноги выдерну! — в запале проорал водила, но замер мгновенно, остановленный полным боли рявком старшего:
— Молчать! Сидеть! Оба!
Длинноволосый Сазон оказался самым дисциплинированным: каким-то пятым чувством он понял, что слова девушки — не пустая угроза, и смирненько себе отдыхал, положив руки ладонями вниз на приборную доску.
Владимир Евгеньевич, кряхтя и морщась, прижимая руки к паху, поднялся, скроил на лице подобие улыбки, оскалив крепкие клыки, словно крупный палевый пес, ограниченный в своей нутряной злобе длинной цепью.
— Переиграла, кукла. Ну-ну. Еще не вечер. — Распрямился, хотя стоило это ему невероятных усилий и нешуточной боли. — Шмалять будешь?
— Дернешься — буду!
— Ну-ну. Верю. Рому Жида ухлопать и уйти чисто — твердая рука нужна. И мозги светлые. Недооценил. Ну что? Раскланялись-разбежались? Только клятв с меня не бери, шавка, что преследовать не буду и искать не стану. Сумею — достану, не прощу. Все поняла? Или — повинишься? Шпалер, пыль, остальное спишем на бабскую истерику. А?
— Обойдусь.
— Дело хозяйское. Может, хоть обзовешься? Девка ты, видать, тертая… А глаза — как у ангела. — Мужчина снова улыбнулся-оскалился:
— У падшего.
— Слушайте теперь внимательно меня, Владимир свет Евгеньевич, — произнесла Аля сколь возможно твердо. — Первое. Романа Ландерса я не убивала. Но это мне не помешает снести вам полчерепа и завалить ваших подручных следующими двумя выстрелами, если вы решите, что я пай-девочка и не умею пользоваться оружием.
Возможно, меня подставили именно потому, что знали, как я умею им пользоваться.
Это второе. И третье: никогда не угрожайте человеку с наведенным на вас пистолетом в руках, особенно если этот человек — доведенная до отчаяния девчонка! Нож есть?
— Нож?
Единственное, о чем жалела девушка, что кольт оказался без глушителя. А то бы она быстренько продырявила все четыре колеса этой боевой машины братвы, заодно продемонстрировав, как может работать сия громоздкая игрушка в умелых руках! Длинноствольный кольт сорок пятого калибра — оружие ломовое, вовсе не для нежных девичьих пальцев; но, как ни странно, Аля впервые за последние сутки ощутила себя полностью спокойной и защищенной: гены? трудное детство? прошлый опыт?
— Финка, перо, тесак, стропорез, заточка… Я понятно объясняю?!
— Девка, а ты не боишься, что…
— Не боюсь. Пусть водила выйдет и хорошенько поработает с покрышками.
Живо! В конце улицы заурчал мотор.
— Тебе не уйти, девонька, — резко сказал Владимир Евгеньевич. — Это Ромины люди. Последний шанс: ствол на землю, сама в бибику — и отъехали! Решай, быстро!
Мысли заметались в Алиной голове, но выпускать из рук оружие она не хотела. Просто боялась.
— Ключ в зажигании, сами — вон из джипа, бегом! — Девушка нервически дернула стволом..
Авторитет продолжал сидеть неподвижно.
— Крест, здесь не до понтов, — обратился к боссу длинноволосый Сазон с дрожью в голосе, — девка психованная, если Ландерса ухлопала, терять ей нечего… А в кольте — десять «маслят», все один к одному. И на нас хватит, и на Ромкиных чертей.
— Понты, говоришь?
Звук мотора нарастал, неведомый автомобиль должен был вот-вот показаться из-за взгорка.
— Ну. На хрен нужно бодаться с ушибленной на всю голову шлындрой, а, Крест?
— Ладно. Выметаемся. — Крест наклонился и что-то, шепнул длинноволосому Сазону.
Все трое мужчин вышли из машины.
— За обочину, гуськом! — скомандовала девушка.
Из-за взгорка показалась старенькая «бээмвуха». Аля заметалась глазами: дорога здесь была слишком узкой, чтобы разминуться двум машинам, да и тертые ребятки тихо смотреть не будут, как какая-то сопливка угоняет их авто. Но ни обдумывать ситуацию, ни что-то перерешить не было времени.
— Стоять! — визгливо крикнула Аля, надеясь, что в показавшейся иномарке ее расслышат.
Автомобиль остановился. Раскрылась дверца, из-за руля показался юный кучерявый кавказец:
— Дэвушка, что за дэла, да?
— К обочине!
— Слюшай, свэрнем, ты нэ нэрвничай, состаришься… Аля рассмотрела: в салоне кроме молодого водителя — только две девицы. Не успела она перевести дух, как… Каким чутьем, каким боковым зрением девушка почувствовала движение сбоку и сзади — бог весть: полукувырком она упала на дорогу и, направив ствол назад, спустила курок.
Два выстрела слились в один. Долговязый Сазон выронил коротенький «глок» и, держась за живот, побелевший как мел, осел в жухлую траву обочины. Аля повела стволом и снова спустила курок. Высокий фонтанчик взметнулся в сантиметре от ноги старшего, Креста.
— На землю! — приказала она.
Кавказец суетливо скрылся в машине; взревев движком, «БМВ» попятилась и через полминуты скрылась из виду.
Аля подбежала к джипу, вскочила на водительское сиденье, хлопнула дверцей, перекинула ручку скоростей, выжала сцепление и надавила газ. Автомобиль прыгнул с места, Аля едва успела вывернуть руль, чтобы не въехать на высокую обочину; джип подпрыгнул на колдобине и стремительно помчался по дороге, поднимая пыль.
Автомобиль кавказца успел вильнуть в сторону, Аля пронеслась в миллиметре, скрежетнув по обшивке и сбив с приземистой легковушки зеркало. Она мчалась прочь от моря, поворачивая на каждую улочку, казавшуюся ей широкой.
Ее душили слезы. Впереди — мелькание незнакомых домишек, неизвестных ей улиц и проулков, впереди — неизвестность. Сзади… сзади она ощущала горячее дыхание преследователей… И не важно, что пока за ней погоню еще не наладили: куда можно скрыться, если ты не знаешь даже, кто и почему тебя гонит?! И плакала она оттого, что совсем одна, что не нужна никому, что тот единственный человек, которому она нужна, сейчас далеко и не знает, что с ней, и не сможет помочь… И если она не сумеет выпутаться, спастись, он останется один на всей земле, и у него не останется ничего, даже надежды… В то, что она сможет спастись, Аля уже почти не верила. А слезы застилали глаза, делая утро призрачным, размытым, будто в дождь.
Аля вылетела на большак на полной скорости, успела Удивиться, выжала тормоз, крутнула руль, но тяжелую машину поволокло дальше… Что-то заставило ее повернуть голову вправо. Последнее, что Аля увидела, был наплывающий бампер, он показался ей огромным… А потом был удар и — темнота.
Часть четвертая СОН РАЗУМА
Глава 22
Кавалькада из трех машин представительского класса мчалась по шоссе в сторону Москвы на максимально допустимой скорости. В средней, серой «вольво», двое мужчин полудремали на заднем сиденье. Вернее, полудремал, или делал вид, что дремлет, лишь один из лих; другой через равные, довольно небольшие промежутки времени зажигал очередную сигарету и жадно затягивался. Время от времени он доставал из карманчика двери плоскую фляжку с «мартелем» и прикладывался, каждый раз все основательнее. В отличие от серийной машины, пассажиров от водителя отделяла тонкая дымчатая перегородка.
— Глостер… — прервал, наконец, более чем получасовое молчание низенький крелыш.
— Да, Дик?.. — Высокий брюнет повернул-голову и посмотрел на соседа пустым, как выцветшее знойное небо, взглядом.
— Ты ведь доложишь Лиру объективную информацию о происшедшем…
— Будь уверен.
— Глостер, мы давно в системе. Но оба знаем, как важна интонация.
— Важны факты. И Лир признает только их.
— Факты? Ландерса наша девка завалила на раз! И вся свора кинулась за Егоровой, а сия ретивая сучонка уж их помотает, буть спок! Пока не пристрелят! А то, что ее пристрелят, — без вопросов! Так в чем прокол?
Черноволосый только скривился в гримаске, очень отдаленно напоминавшей улыбку, и ничего не ответил.
— Глостер… — едва слышно проговорил крепыш так, словно из воздухопровода с сипением выходил воздух; и не понять, что слышалось в этом голосе — мольба или угроза? — Не надо меня закапывать!
Глостер выдержал паузу, потом произнес миролюбиво:
— А кто об этом говорит? Произошел срыв одной из операций, я обязан доложить. А решения будет принимать Лир.
— Да не было никакого срыва!
— Да? Ты считаешь, акция с Батенковым прошла блестяще? Эта девка, Оля, права: наваляли гору трупов, положили кучу собственного «мяса» и оказались по уши в дерьме. В конском.
— Ты так и будешь докладывать Лиру?
— Лир не любит эмоций.
— Тогда и начни с того, что появился Маэстро.
— Появился некто, кто назвался этим псевдонимом.
— Что значит — назвался?
— Маэстро мертв. Он — списан.
— Мертв? Глостер, девка права: мертвые не убивают!
— Не горячись, Дик. Я оставил несколько человек в городе. Они тщательно расследуют все, что касается Маэстро, вернее, того, кто назвался этим псевдонимом. Доложат, вот тогда и будем решать что и как.
— Не лукавь, Глостер! «Будем реша-а-ать…» Решает у нас только один человек. Лир! — Дик чуть понизил голос, произнес, глядя прямо перед собой в непрозрачное дымчатое стекло:
— И последние его решения не назовешь разумными.
— Да? — приподнял брови Глостер.
Дик заметался взглядом, хлебнул из горлышка, выдохнула — Да. Ты тоже так считаешь, Глостер, Все так считают. Все.
— Вот как?..
— Прекрати, Глостер. Ты же видишь, как за последний год сдал старик. Лир выглядит, как раковый больной в неоперабельной стадии. Я не удивлюсь, если держится он только на наркотиках. А потому…
— Ну? Я слушаю тебя внимательно, Дик, — медленно Произнес Глостер, выделив голосом слово «внимательно».
— Не нужно на меня давить, Глостер. Не надо меня пугать. Смерти я не боюсь. Навидался… Я боюсь глупой смерти.
— Смерть не бывает умной или глупой, — процедил Глостер. — Она всегда безобразна.
— Погоди, Глостер. Тебе не надоело играться словами?
— Играться?
— Ты прячешься за эту шелуху, за эту муть, боясь отдать самому себе отчет:
Лир спешит в могилу. И будь уверен, увлечет за собой нас всех! Всех до единого!
Ты не думай, я не пьян, просто… Нынешняя операция разве не доказательство его надвигающегося безумия?
— Операция была продумана до мелочей. И завалил ее…
— …Случай. Тяжкий, роковой, но случай. Маэстро — как раз такой. Он как рок: неотвратим и смертоносен. Не так?
— Мы же договорились, Дик. Пока не будет установлено, что Маэстро жив, — он мертв.
— Ну да, ну да… И все же… Насчет «продуманности до мелочей»… А тебе не кажется, Глостер, что обе акции, и с Батенковым, и с Ромой Ландерсом, были напрочь лишены той ясности, простоты, что и приводит к успеху… Нет?
— Идея операции была предложена…
— …Лиром. Я угадал? Ну, положим, подвести эту девку, Киви, к Батенкову было не так глупо. Но разве не проще — ей же и завалить авторитета? Застрелить, отравить, уколоть ма-а-аленькой такой иголочкой, до которых в прошлые времена наши органы были такие охотники… И скончался бы Батя в своей постельке от острой скоротечной пневмонии, саркомы или какой другой малярийной заразы… Дело не в способе, а в сути: ты не находишь, Глостер, что кондовую, но эффективную и простую схему Глостер заменил просто-напросто игрой?
— Не передергивай, Дик. В случае с Батенковым нет. Ты и сам понимаешь.
— Понимаю. Устранение Бати было задумано как разборка между Ландерсом и Батенковым. Убрать двух зайцев кряду и — втянуть в междуусобье оставшихся братков и сочувствующих с той и другой стороны. И пока холопы дерутся — заполучить всю тарелочку с голубой каемочкой.
— Складно излагаешь, Дик. Ясно и просто. А ты говоришь — игра. Игра… поломалась, когда все твои бойцы полегли смертью дебилов в этом злачном ресторанчике-шале. Пришлось зачищать все начисто, лучше никаких трупов и горелый остов увеселительного заведения, чем трупы ничьих людишек.
— Глостер…
— Да ты не беспокойся, Дик. Во-первых, ты прав. Все не так уж провально.
Наша оперативная агентура поработала на совесть: мало того, что слух о трениях между Батенковым и Ландерсом распространился уже достаточно, никакой другой идеи братве по горячке просто в голову не придет! Ну а когда таковая идея явится — будет поздно: как говорили в Одессе, четыре сбоку — ваших нет. Да к тому же ты знаешь, Лир не любит отдавать фатальных приказов, касающихся его людей, досконально не разобравшись. Первые сведения из Южногорска и окрестностей — о том шальном малом, что перестрелял всех и вся, — подойдут уже сегодня к вечеру.
И завтра утром мы получим пусть мутную, но картинку относительно незапланированной «случайности» на милом лазурном побережье… Этот назвавшийся покойным Маэстро, может статься, совсем неведомый фигурант какой-нибудь из контор, государственной, Частной. Решил вступить в игру и начать с того, чтобы нас мистифицировать: некоторые обожают мистификации, уж очень это действует на потравленные войной и кокаином мозги, вроде твоих.
— Ты не дослушал, Глостер. Скажи, зачем Лиру нужна была эта подстава с этой Алей Егоровой? Умом — понимаю, разумом — не могу оценить иначе, как претенциозную глупость, усложняющую простую операцию устранения.
— У всех свои маленькие слабости, Дик.
— Маленькие? Слабости? — Дик снова приложился к бутылке и глотал, пока емкость не опустела. — Слабости… Коллекция «Карты Таро» — тоже слабость?..
— Дик…
— Нет, Глостер, нет. Лир сходит с ума. Сначала эта его идефикс с девками-киллерами…
— …Блестяще себя оправдавшая в случай с Ландерсом, нет?
— Дьявол, Глостер, ты никак не хочешь понять! Старик не разрабатывает операции, он давно играет, и именно от этого получает свой ма-а-аленький кайф? И игра эта становится все более… художественной. И — рискованной.
— Риск — дело благородное. И азартное. Разве все мы свой, как ты выразился, кайф получаем от чего-то другого? Молчишь?
— Глостер, тебе не приходила в голову мысль, что…
— Да?
— Нам достаются объедки со стола Лира. И тревожит меня даже не страх, а то, как красиво и азартно можно было бы сыграть… самим. Просто, без этих маразматических наворотов, что стали свойственны всем нашим разработкам последнее время… Да. Просто и результативно. Кто-то великий сказал… молодые и дерзкие побеждают куда чаще, чем старые интриганы… Нет?
— Может быть, — ледяным голосом произнес Глостер, лицо его закаменело и стало похожим на посмертную маску.
Пауза затянулась. Глостер снова прикрыл веки и, казалось, задремал. Дик какое-то время нервно ерзал по сиденью, курил сигарету за сигаретой. Потом посмотрел на часы, вздохнул:
— Подумать только… Мне завтра тридцать восемь.
— Поздравляю.
— Анекдот такой слышал? — Дик нервно хохотнул. Стоит доктор, рассматривает рентгеновский снимок. Спрашивает больного: «Ну и сколько же вам лет, батенька?»
Больной: «Тридцать восемь будет». Доктор в ответ, сокрушенно: «Ой, не бу-у-удет!»
— Смешно, — вежливо улыбнулся Глостер.
— До упаду.
— Все под Богом ходим.
— Вот уж нет. Мы — и ты и я — ходим под Диром. А уж под кем Лир — дьявол ведает. — Дик поскучнел лицом, пробормотал тихо:
— Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий… Ходит птичка весело… Весело.
Глава 23
Время… Неумолимое, расторопное время. Порой оно тащится сонной ленивой клячей, погребая под мерным чередованием дней все шальные, безумные порывы, могущие превратиться в подвиги и открытия, затаскивая в омут повседневной тупой безнадеги героев и рыцарей, красавиц и сказочников… И вдруг — будто убыстряется течение реки, стесненной гранитными берегами; вода словно играет, в первых, еще малых водоворотах смешивая жизни и смерти, дни и судьбы, людей маленьких и людей больших, превращая устоявшийся зацветший омут в непредсказуемую стремнину… И вот уже все вокруг: события, идеи, надежды, безумства, любовь — все словно летит вниз, в тартарары, увлекаемое мерным и жутким потоком водопада, сияющего радугой, бриллиантовым переливом мириад брызг, грохочущего единым торжествующим «Аз есмь!». И — ухает безнадежно в мутный омут забвения, оставляя по себе лишь грязную клочковатую пену несбывшихся надежд и пустых воспоминаний… О чем? О молниеносном радужном блеске? О тихом омуте прошлого счастья? О ленивом течении счастья будущего? Бог знает.
Время пожирает живую плоть, время превращает сущее в нежить, время и царствует, и правит; одни гонятся за ним, боясь опоздать, отстать во времени, превратиться в живую куклу, мумию, муляж, увешанный побрякушками наград; другие, в бесплодной попытке вернуть иллюзию ушедшего, обставляют свои жилища вещами умершего века, третьи… Третьи тихо пережидают, передремывают собственную жизнь, не получая от нее удовольствия, ничего не создавая, ни о чем не мечтая…
Есть еще жвачные: эти просто существуют вне времени, как и вне пространства; их махонькие глазки лупают на белый свет тихохонько, подслеповато, их маленькие ручки подгребают под себя все, засовывают под брюшко, и уже там согретая сытым теплом рухлядь мягко гниет вместе со своими хозяйчиками… Но — все проходит: блеск и слава, тщета и бесславие, забвение и .нищета… Быстрее всего проходит красота: обольстительные куртизанки избранного круга превращаются в злоречивых неопрятных старух, сладкоголосые кумиры толпы — в толстых и похотливых старцев, белокурые амуры — в злобных, желчных, завистливых карликов, похожих на карикатуры на самих себя. Все проходит. Время и царствует, и правит.
Если бы кто-то сказал Лиру, что он не любит людей, старик бы просто рассмеялся. Разве это все люди? Так, самцы и самки, не способные справиться ни с похотью, ни с вожделением, не способные отрешиться от самих себя и стать самоотверженными, не важно во имя чего… Или — важно? Он, Лир, никогда не верил ни в каких богов, гениев, титанов; понятий, которыми он оперировал, было всего два: воля и власть. И конечно, третье: время.
Время бесшумно. Его никто не слышит. Раньше считалось, что интеллигенция — вот круг людей, способных понять, расслышать время, способных… Как бы не так!
Этих яйце годовых особей не волнует ничего, кроме собственных теорий, дрязг, амбиций, они никогда не были способны слышать кого-то, кроме самих себя.
Хм… Раз уж жизнь так скучна, прихотлива и бездарна, остается развлекать себя игрой. Как у Эрика Берна? «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». На самом деле игра всего одна: игра со смертью. Игра в бисер.
Пушкинский Германн… «Его состояние не позволяло ему жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, а между тем он целые ночи просиживал за карточным столом и следовал за различными оборотами игры». Хм… Похоже, очень похоже…
Притом, что игра фатальна и изначально обречена. Каждый надеется обмануть смерть, эту уродливую каргу, каждый надеется выжить… Ларошфуко был прав: если бы одни люди умирали, а другие нет, это было бы очень несправедливо. Или, по меньшей мере, казалось таким. Но… люди хотят жить вечно, не отдавая себе •отчета в том, что они — лишь жалкие статисты… Каждый мнит себя средоточием страны, мира, вселенной, каждый готов философствовать о вечности или бессмертии, пока… Пока не вскочит прыщ на носу! И вот — все великие умы, все грозные завоеватели прошлого, все эпосы о валькириях и Нибелунгах померкли: прыщ наливается, оплывает желтым ядом, и нет человечку дела ни до чего и ни до кого, кроме собственной образины; плевать на цунами и землетрясения, на прозрения гениев и размашистую подлость новых авантюристов! Прыщ правит миром!
Лир слишком хорошо знал людей, чтобы питать к ним что-либо, кроме презрения. Вот только идея Бога… Пушкинский Сальери был прав: «Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше, мне это ясно, как простая гамма…»
Как простая гамма… Сказка о Боге и бессмертии придумана для этих похотливых жвачных зверьков, называющих себя людьми, с целью подчинять: они получают иллюзию надежды в обмен на пусть мнимое, зыбкое, как мираж, но все же освобождение от дикого, парализующего все живое страха небытия. И — суетятся кое-как, нагуливая жирок, комфортно устраиваясь в норках, сюсюкая о наболевшем и переслюнявливая жуткие сказочки какого-нибудь Камю или Сартра. Пока очередной грозный хищник не решит проредить это занудное, заплывшее желтым жиром, зажравшееся стадо!
Пустые мудрствования утомили Лира. Он встал, подошел к окну, долго смотрел на блестящий серп реки, на кажущийся бескрайним лес, на покосившееся кресты одинокой церквушки на дальнем взгорке; там давно не осталось ни домика, деревня вымерла, оставив после себя лишь догнивающие серые срубы да заросший лебедой старый погост. Старик поморщился: летний день был ему неприятен. Он столько лет провел в комнатах и коридорах, круглые сутки освещаемых одинаковым бледно-серым светом, в кабинетах, отгороженных от мира тяжелыми портьерами, за зеркальными пуленепробиваемыми стеклами офисов и представительских машин, что другой мир представлялся ему теперь чем-то неорганизованным, дисгармоничным и оттого — опасным.
Старую номенклатурную дачу доверенный человек Лира приобрел на аукционе;
Лира подкупило то, что раньше этот большой, деревянный дом, похожий больше на русское поместье начала прошлого века, принадлежал известному полководцу. Лир как-то не подумал, что сей любимец славы был. самый обыкновенный мужик, вот его и тянуло всю жизнь к кондовой простоте, навозу… Теперь Лир сожалел, что все те логические построения, какие легко и свободно укладывались в схемы и планы там, в тиши: кабинетов, здесь казались надуманными, глупыми, негармоничными и походили… ну да, на декорацию в балагане, на сплетенный ученической рукой проволочный каркас… Рядом с настоящими деревьями такая постройка выглядела жалко, и это более всего тревожило Лира. Ему здесь не работалось. Кое-как промаявшись, на даче трое суток, он: в конце концов сдался, вечером сел в салон, лимузина, и кортеж из трех автомобилей помчался в сторону Москвы.
Оказавшись в привычном бетонном небоскребе, отгороженным от города и мира зеркалами огромных стекол. Лир обрел утерянное душевное равновесие; проекты, задуманные им, снова казались стройными математическими системами и та легкая доля художественной небрежности, как и будущий идиотизм исполнителей, должен был придать всем операциям особый блеск, шарм и кураж. Схема была проста, и гармонична, и это рождало в душе Лира странное чувство… Нет, назвать его «удовлетворение» было бы слишком пошло. Впрочем, до претворения задуманного еще далеко, но… То беспокойство, что мучило его в деревне, ушло: вокруг громоздились безликие коробки многоэтажек, и даже видневшаяся невдалеке маленькая церквушка, бывшая некогда сельским приходом, а теперь окруженная, пустыми глазницами тысяч равнодушных окон, церквушка, изукрашенная сусальной позолотой, вылизанная, выхоленная ставшими охочими до попов супрефектами и прочей чиновной сволочью, выглядела как сувенирная поделка, выставленная в амстердамском ювелирном магазине «Рабинович и Штерн».
Лир отошел от окна. Да. Только так, отрешившись от города и мира, можно творить свою игру.
Сейчас Лир ждал. Сутки прошли, оба этапа единой композиции уже завершены.
Лиру поступил условный сигнал, что одна из операций прошла вполне успешно, вторая — с неясными осложнениями. Говорить намеками, условными фразами и идиомами по мобильному Лир всегда считал верхом глупости: точную «информацию к размышлению» так получить невозможно, а полузнание рождало только беспокойство; версии, построенные на недостаточной информации, изматывали мозг, он словно разрывался от судорог полурешений, и все это вместе приводило только к одному: когда придет время принимать решение истинное, утомленный бесплодными умствованиями разум может совершить ошибку. В его игре такие ошибки были непоправимы.
Лир поднял со стола золотой колокольчик, позвонил; он недавно завел это новшество; вызов слуг даже в кабинет колокольчиком, вместо обычного зуммера интеркома, символизировал для него свободное время, время отдыха, и, нужно признаться, самые светлые идеи приходили к Лиру именно в эти предвечерние часы.
Вошла женщина, Лир разлепил тонкие губы, произнес тихим, лишенным всякой интонации бесцветным голосом:
— Чай с лимоном и булочку.
Женщина удалилась; снова она появилась через пять минут: ровно столько нужно, чтобы дать хорошему чаю настояться. Вкатила тележку, умело сервировала столик: стакан крепкого, цвета темного янтаря, чая, две тоненькие дольки лимона, горячая свежая булочка, кусочек масла и сто граммов красной икры на льду.
Сервировав стол, женщина удалилась; Лир додумал, открыл шкаф, достал бутылку коллекционного-"мартеля" урожая 1919 года, налил буквально глоток в маленькую рюмку… Ценителями принято наслаждаться таким коньяком из специальных коньячных «капель», но Лир был человеком прежнего времени; езду нравились двадцатипятиграммовые тоненькие рюмки нежнейшего венецианского стекла, чуть расширенные кверху… Он поднес рюмку ко рту, вдохнул аромат, сделал маленький глоток, с удовольствием ощущая, как словно горячее солнце, напитавшее лозу своим теплом задолго до его рождения, согревает его теперь… Не торопясь, смакуя, разжевал лимон, наслаждаясь на этот раз контрастом вкусовых ощущений… И только потом присел к столику, разрезал горячую еще булочку, намазал взбитым маслом, положил сверху грубого камчадалского посола икры, откусил, медленно разжевал, запил терпким горячим чаем.
Часы пробили десять вечера. Лир закончил легкий ужин и уже собрался было просмотреть бумаги на завтра, как зазвучал зуммер и секретарь доложил:
— Глостер прибыл для доклада.
Лир встал, покинул комнату отдыха, прошел в кабинет — длинный, современный, обставленный в стиле хай-тек; уселся за черный, матово блестящий стол, огромный, как футбольное поле, положил перед собой чистый лист бумаги, взял в руки перо. Задумался на мгновение и единым росчерком нарисовал первого чертика: он был вертлявым и ехидным, но оскаленное рыло и горящие ненавистью глазки выдавали его совсем не сказочную, звериную сущность. Рисунком Лир остался доволен. Нажал махонькую кнопочку на пульте управления, приказал:
— Пусть войдет.
Глава 24
— Ну и что радостного ты мне сообщишь, Глостер? — Старик поднял выцветшие глазки, глядевшие из-под жестких кустиков бровей зорко и сторожко, как два затаившихся зверька. Вот только… Глостер знал, это игра, и ничего больше. Лир всегда желал представить себя этаким запростецким малым, вроде мелкого купчинки, озабоченного важным барышом, и ничем более; но Глостер давно подозревал, что выгода всегда, а теперь в особенности, была для Лира второстепенной: более всего остального его волновала игра. И теперь «затаившиеся зверьки», плясавшие в глазах Лира этакими шаловливыми, но не опасными дьяволятами, означали только то, что он продолжал играть, даже с ним, Глостером! Тот зверь, что сидел в этом маленьком старике, был уродлив и беспощаден; время от времени он проглядывал из обжитой обители смертным зрачком пистолетного жерла, и тогда Глостер испытывал жуткий, суеверный страх, какой испытывают люди во сне, видя бесплодность и обреченность своих усилий спастись.
— Операция по Ландерсу прошла успешно. Операция по Батенкову… озадачилась рядом непредвиденных осложнений, — начал доклад Глостер.
— Это я уже знаю, — оборвал его Лир. — Сейчас я хочу узнать детали. И давай-ка начнем с того, что ты называешь «успешная». А потом поговорим и о провальной.
— Вряд ли это стоит считать провалом…
— Это мне решать, Глостер, — жестко перебил его Лир. Он сидел так же неподвижно, фразу произнес тихим слабым голосом… Но Глостер почувствовал, как спина мгновенно покрылась липкой испариной. И это у него, человека, проведшего на войне всю жизнь и переправившего в царство теней стольких недругов, что…
Мистический страх, охватывавший Глостера при общении с Лиром, не поддавался никакому объяснению; у Глостера даже создавалось впечатление, что старик хорошо знает эту свою способность — внушать собеседнику не просто трепет, но ужас! — и умеет дозировать волну страха, от него исходящую. Люди, бывающие в этом кабинете, слишком неоднозначны: один, почувствовав такое, сломается, пойдет на все мыслимые уступки и выскочит шелудивым побитым псом, с поджатым хвостом, радостный уже тем, что живой… Другой — смирится с непознаваемым и станет выполнять свою работу. А третий… Нервы могут сдать, и кто-то свернет старому колдуну шею, как суповому цыпленку! Что там говорил Дик о маразматиках-интриганах и молодых заговорщиках? Мысль красивая…
— Не пребывай в эйфории, — прервал его размышления скрипуче-ироничный голос Лира. — Падать будет больно.
Вновь испарина обметала спину Глостера; ему вдруг показалось, что этот колдун угадал его мысли, все, до последней запятой…
— Ну так что Ромочка Ландерс? И удалось ли увязать его людишек за нашей мастерицей стрельбы?
— Вы имеете в виду Егорову?
— Нет, Афину Палладу! — Лир оскалил безукоризненные фарфоровые зубы в ухмылке. — Что-то ты, Глостер, нервный сегодня. Устал? Не выспался?
— Виноват. Дорога измотала.
— Дорога… Хорошо, что не последний путь. — Лир скрипуче засмеялся, склонился к столу, что-то вертя на листочке. — Хватит прелюдий. Соберись, Глостер. К делу.
— Виноват, — скова повторил тот, вытянулся перед столом, и, как ни странно, это придало ему уверенности. — Роман Ландерс был убит двумя пулями в голову в ночном клубе.
— Ирэн сработала отлично.
— Да. И ушла чисто. Как и предполагалось, людям Ландерса и местным браткам подставили Егорову. Догонялы слопали дезу без соли и пыли, разом, да и немудрено: девчонка, эта Егорова, прямо во дворе злачного клуба надавала по причинному месту одному из бодигардов, а в гостинице открыла сезон охоты: трое погибли, четверо раненых, не считая испуганных.
— Славно. Где она сейчас?
— Скрылась.
— Ах, какая девка, Глостер, какая девка! Жаль, для моей коллекции старовата: слишком мятого думает. Но как действует!
Глостер смотрел на зарумянившиеся щечки Ляра и недоумевал: дедушку что, запоздалый климакс так скрутил?! Его восхищение было похоже на восхищение избалованного коллекционера редкой, сработанной иноземным мастером-виртуозом фарфоровой куклой или компьютерного фаната — образцовой программой, пусть закодированной другим мастером, но оттого не менее изящной и технически совершенной.
Лир тихо сиял, глядя в пустое окно. Что представлялось его взору?
Неведомо. Какое-то время он молчал, подытожил:
— Гены.
— Простите?..
— Гены. Барсы рождаются в этом мире не так часто.
— Вы имеете в виду…
— Да. Егорова-старшего. До небесного царства его, пожалуй, не допустили, слишком много жмуров на совести, но там, где он сейчас, компания, полагаю, не худшая. И не самая скучная. — Лир потер переносицу; — Значит, ни слуху ни духу.
— Пока да.
— Телефоны Гокчарова вы контролируете?
— Так точно.
— Она свяжется с Гончим. Рано или поздно свяжется.
— Если жива.
— А ты фаталист, Глостер, нет?
— От случайностей никто не застрахован.
— Брось. Бредятина. Помнишь, как говаривал, булгаковский Воланд? «Ни с того ни с сего, кирпич на голову не падает».
— Егорова не случайная прохожая. Сейчас на нее кинулась вся братва южногорских степей вместе с приморскими аборигенами и головорезами покойного Ромы.
— Плохо ты. знаешь людишек, Глостер, ой, плохо. Жадны людишки, сребролюбивы… Еще сутки-двое за девкой побегают, да смекнут: закрома-то, ничейные, стоят! С растворенными дверцами; бери:
— не хочу! И про девушку нашу красавицу забудут, и про все, кроме золота… Вернее, белого порошочка, тропочек, по которым этот порошочек течет в нашу и соседские державки… Вот таковы людишки; за, тридцать сребреников Бога продают, а уж все: остальное стоит куда как дешевле… Включая честь, совесть и иллюзию бессмертия. — Лир помолчал.
— Но нам с тобой выгодно, чтобы псы эти в погоне увязли крепко, аки мухи в меду: насмерть. Гоняться все одно будут, надо же им, узнать, кто Ромино устраненьице организовал да вышку тому выписал до поры и при полном согласии… Так что, если нащупаешь девицу, подмоги, чем возможно, чтобы до поры ее за Лету не спровадили.
Закрома с барышами я делить буду. — Старик оскалился:
— И это, справедливо.
Л;ир помолчал, пожевал; губами, глядя в ведомую ему точку на черном столе:
— Да… Если Алю Егорову шлепнут раньше, времен, нас это никак не порадует. Будет звонок к: Гончему, отследи откуда — и на хвост.
— Не упустим.
— А не будет… не будет — так сами милейшего Олега Игоревича побеспокойте, скажите, какая с подругой его злая беда приключилась, пусть пошевелит извилинами да применит умения с навыками… А мы тем временем в вонючем здешнем прудке такую муть разведем, что весь хищный рыб сдохнет! И кверху брюхом поплывет, нам на гадость и загляденье!
— Ситуация такая, что Гончаров по прибытии может сразу схлопотать пулю.
Как только начнет что-то выяснять.
— Шальную?
— Можно назвать и так.
— Глостер, душа моя! И чего это я тебя герцогом нарек? Все стариковская слабость к классике! Тянешь ты на какого-то Митрофанушку, не более! Запомни, зазубри, заруби на обеих ягодицах: ни с того ни с сего ни шальной кирпич с неба не падает, ни шальная пуля в голову не влетает! Классика! — Лир замолчал, склонился к листу бумаги, быстренько начертал какой-то каракуль, полюбовался. — Гончаров — последний из команды Барса, ты понял? Могиканин! Сейчас таких не производят уже! Ни государство, ни малые частные кооперативы, вроде Роминого или Батиного! Ты империю краем застал, а Гончий ей служил, понял? И готовила империя своих избранных легионеров так, что… Да что я тебе объясняю? Помнишь, как ты за Маэстро гонялся? И техника у тебя была, и люди… А нагнал его Гончий — сам, один, без сотоварищей! А ты говоришь, шальная пуля…
При имени Маэстро Глостера передернуло; он мельком взглянул на Лира: нет, кажется, не заметил. А вообще-то… В чем-то Дик, безусловно, прав: старик постепенно едет крышей… Империя почила давно, да и приванивала с конца семидесятых уже порядком, словно одряхлевший лежачий больной, забытый в дальней палате и оставленный без смены белья да без сестринской помощи… А Лир все бредит этим давним трупом, словно это и есть сущее. Нет, как бы Глостер ни желал, а непрошеные мысли так и лезли ему в голову: Дик прав, Лир постепенно выживает из ума… Его пора менять. А на кого в нынешней ситуации можно поменять Лира? Только на него, Глостера. Именно но ему подчиняются все силовые подразделения и службы, именно он…
— Так и есть! — прервал его размышления Лир. — Повешенный!
Глостер содрогнулся внутренне, но лицо его оставалось спокойно и непроницаемо, словно маска, разве только побледнело.
— Повешенный! — радостно повторил старик. На пустом черном столе рубашкой вверх лежала колода карт Таро; Лир выхватил одну, наугад; она изображала юношу, висящего между двумя деревьями, но впечатления страдающего он не производил: руки заложены за спину, одна нога согнута, как у молодого человека, беспечно стоящего где-то в дворцовой зале, небрежно рассматривающего прибывающих к балу дам и девиц и готового как к танцу, так и к флирту. Подвешенный за одну ногу юноша словно испытывал свое мужество, умение, обаяние, сноровку и ум.
— Вот так, милый мой Глостер. Карты не лгут. Меня ждет испытание. С сильным и равным противником. — Лир лукаво прищурился:
— Уж не ты ли это, беззаконный герцог? Ну-ну, не нужно так бледнеть; никогда я не держал тебя за равного, так что не обижайся. И не бойся. Все твои честолюбивые мыслишки не стоят одного кивка такого великолепного пройдохи, каким был Маэстро. — Лир помолчал, вздохнул горько:
— Совсем не с кем стало работать. К тому же… К тому же он был единственный из всех, кто любил Шекспира. Но важно даже не это:
Маэстро не просто любил, он понимал этого яростного британского гения. Жаль, мастера, истинные мастера уходят, остаются лишь подмастерья. Наши новенькие, как только .что отчеканенные рубли, олигархи тем и слабы, что их окружают или авантюристы, или подмастерья. Только это давало мне возможность вести свою игру.
А сейчас… Кстати, ты знаешь, что для ортодоксальных христиан «испытание» и «искушение» есть одно понятие?
Глостер только пожал плечами.
— Жаль… Жаль, мне даже не с кем поговорить. Понимаешь, Глостер, с Маэстро я всегда общался только по спецсвязи… Спросишь почему? Отвечу: он был для меня опасен. Умен, безжалостен, отважен, образован и горд: убийственное сочетание. Таких нужно избегать. Но стоит использовать. Если можешь. — Старик вздохнул. — Вот и приходится общаться с посредственностями. Что делать, Глостер?
Власть не переносит ни дружбы, ни преданности, ибо трон единичен и не терпит обязательств ни перед кем. Наш бывший главный Папа знал это лучше других, но он был глуп: сидя на императорском троне, нельзя следовать Макиавелли, ведь тебе досталась не Верона и не Флоренция, и одни только интриги не спасутии твой трон, ни твоих временщиков… Что делать, Глостер: нынешнее поколение тех, кого в России пышно именуют «элитой», суть — недалекие интриганы и безродные, безграмотные нувориши. Они не правят, шустрят. И уж подавно — не царствуют.
Глава 25
— А где та девчонка? — бросив взгляд на Глостера, неожиданно спросил ЛирТа, что стреляла в Ландврса?
— Ирэн?
— Да.
— На нашей базе.
— Под Южногорском?
— Нет, здесь, под Москвой.
— Обошлось без истерик и соплей?
— Абсолютно. Ирэн вела себя так, словно комара прибила, а не человека.
— Чертова девка. Все бы ничего, но зла, как фурия.
— Такую отобрали.
— Да. По сути, девочка она одноразовая, слишком зла. Ты не боишься, что она и вам с Диком влепит по «маслине» между глаз? А то — концы отстрелит? С нее станется…
Глостер только пожал плечами.
— Ну-ну. Поскольку вышла из операции чисто, «стирать» ее повременим. А, Глостер?
— Так точно.
— В нашем черепашьем хозяйстве и сухарь — бублик, и стакан — за два. И гвоздик пригодится. Который в чужой заднице. — Старик хмыкнул. — А уж девка, отстреливающая авторитетов с невозмутимостью бультерьера и точностью самонаводящейся ракеты, — и подавно. Да и потом, сам знаешь, Глостер, какую гору человеческого дерьма приходится перелопатить, прежде чем удается найти что-то стоящее. Пусть поломанное, одноразовое, дисгармоничное, но стоящее. Мир полон полуфабрикатов, которые так и не стали людьми. И никогда не станут. — Лир вздохнул:
— Егорова не такая. Гармония во всем. Гены.
— Похоже, вы питаете к ней слабость…
— Зря иронизируешь, Глостер! Да, питаю. Но только это называется по-другому, не слабостью. И я тебе сказал почему: барсы в-этом мире рождаются слишком редко. Их надо ценить. По меньшей мере постараться уважать. В той шакальей стае, что работает с нами, кого только нет… Когда-то… когда-то, Глостер, было время, и меня окружали одни барсы. Теперь, увы, волки и гиены.
Есть отчего впасть в отчаяние, а? То-то. А ты, дурашка, полагал, что я тоскую по Бровастому Лене да по спецпайкам? — Лир вздохнул тяжко:
— По людям. Я всегда тосковал по людям… Но кто это поймет? Никто.
Лир снова бессмысленно уставился в листочек перед собой, начертал несколько каракулей, напевая пискляво и фальшиво: «Что день грядущий мне готовит…»; замер на миг, одним движением вынул из колоды Таро следующую карту, повернул рубашкой вниз и застыл, глядя на изображение.
Карта изображала башню, увенчанную короной; корона покосилась, из башни вырывалось пламя, незадачливые строители или господа падали ниц, осыпаемые звездным дождем.
Лир поднял на Глостера блеклые, выцветшие глаза:
— А выпал нам, брат ты мой Глостер, шестнадцатый ключ Таро, называемый Разрушение. А суть его в том… суть в том, Глостер, что человечек в гордыне может воздвигнуть себе храм на трупах рабов и воинов, но как только он дерзнет примерить на себя мантию Бога и своевольно и глупо вмешаться в естественный ход событий, небо разразится молнией, храм гордыни обрушится, погребая под обломками возомнившего " себе строителя в грязь, мрак и погибель. — Лир помолчал, снова оскалил белоснежный фарфор зубов:
— Тебе, я вижу, неприятно это слышать?
Ну-ну… Рассмотри карту как следует. Четыре зубца на башне-короне — символ нашего материального мира и власти над ним; некоторые предсказатели толкуют этот ключ как разрушение недальновидной, поверхностной, замкнутой лишь на жалкие ценности власти, а следом пророчат весну новых начинаний и невиданных миров. Ты готов к невиданным мирам, Глостер? А к новым начинаниям?
Лир, оскалившись, уставил мутные роговицы в глаза Глостера; тому стало не по себе от этого блеклого, слезящегося, но неотвязного взгляда; наверное, так смотрела бы медуза, если бы имела глаза… Или… Ну да: глаза Лира были похожи на пустые бельма слепого; его все забавляло, все сложило предметом насмешки, издевки, вивисекции, но ничто не трогало души, если… если у Лира вообще когда-нибудь была душа!
А Лир неожиданно откинулся на спинку кресла — и захохотал! Вернее…
Хохотом это назвать было сложно: он просто булькал смехом, словно большой котел с газировкой.
— А ты суеверен, Глостер! Ты и не представляешь себе, как забавно в такие минуты тебя наблюдать! Нет, лицом ты владеешь безукоризненно, но сцепленность челюстных мышц еще не означает невозмутимость! Микромышцы лица у тебя реагируют так, что можно читать по нему, как по ученической тетради! Причем тетради не двоечника — хорошиста. Кстати, Глостер, ты никогда не задумывался, нет, не над смыслом, над созвучием, над подсознательным восприятием слова «хорошист»?
Представил? Этакое полненькое, но в меру, умненькое, но в меру, тщеславненькое, но в меру созданьице? Прыщ пред лицом Господа и Господина? Тля болотная на человечьей помойке! Ну-ну, Глостер, не строй опять из собственного лица посмертную маску, это не о тебе, так, пустячок, старческие философии и миазмы!
Ты никогда не задумывался, что стариковское злословие еще и зловонно?
Лир откинулся в кресле, замер, полуприкрыв веки. В полном молчании прошла минута, пошла другая… Глостер чувствовал себя не просто скверно: ему казалось, он стоит у этого стола уже целую вечность, и не только все его поступки, но и все его мысли давно взвешены на тайных весах, и решение принято, и жизнь оборвется скоро с яростным всполохом боли… А потом — пришло отупение, похожее на покорность: окружающему, судьбе, Лиру… И тут старик снова заговорил, яростно и скоро:
— Ну а теперь я расскажу тебе, Глостер, что ты себе надумал! Ты решил, старик выжил из ума. Или — выживает постепенно. Что Лира пора менять. Что власть, его власть, остается ничейной и бесхозной, а нет ничего слаще этого плода, особенно если он запретный для тебя, пока запретный! Ну, Глостер? Бегают мыслишки под черепушкой? Скорые мыслишки, гнусные, грешные, душегубские…
Может, ты сам их и не вполне формулируешь, так, мысли-тени, всполохи, призраки… Вот они, поганушки, и омрачают, язвят светлое твое чело… Только не говори «нет», Глостер, не говори «нет», это оскорбит мой интеллект, я перестану тебе доверять… Молчишь? Молчание — знак согласия? Или — золото?
Лир посерьезнел так же неожиданно, как и впал в разнузданное веселье. Он застыл за столом официальным бронзовым изваянием, этаким бюстом самому себе, значимым и помпезным.
— Итак, я слушаю тебя, Глостер. Теперь я готов к неприятностям. К любым неприятностям. Вполне. Судя по тому. как ты заблеял, неприятности у нас в окрестностях Южногорска крупные. Как ты там сформулировал? «Операция по Батенкову озадачилась рядом непредвиденных осложнений». Эко кучеряво сверстано!
«Озадачилась рядом…» Ну, Глостер, я слушаю. Выкладывай свой «ряд». Как тебе удобнее: step by step, как говорят американцы, или обухом по корыту, как у нас принято, валяй на всю катушку, Глостер, умереть от инфаркта мне не грозит!
Глостер сделал над собой усилие. Голова шла кругом: все эти переходы от почти сумасшедших выкриков и кликушеских камланий — к жесткому нажиму, прессингу, когда Лир упирал жала черных зрачков ему в лицо и уйти из-под взгляда Глостер не мог никак… А в душе его уже начинало клубиться смятение, паника, хаос, и тут — Лир вдруг ослаблял нажим и снова ничинал бесшабашно дурачиться…
У Глостера было такое чувство, словно он мышонок, С которым играется ласковый и мирный кот, до поры убрав когти в мягкие лапки, но прищур блеклых глаз не сулил никакого будущего… Только смерть. «Поиграет и придушит», — само собою промелькнуло в голове Глостера, и он мгновенно устыдился своей совсем ребяческой реакции. Напридумывал сам себе черт-те чего, и теперь… Да и Лир был вовсе не похож на кота; он вообще не походил ни на какое известное животное, скорее — на аморфную колеблющуюся массу, по своему желанию, игре или произволу принимающую облик того, кого в данный момент боится больше всего собеседник, ведомый детскими давними страхами, бабкиными сказками, страшилками, что так любили пересказывать в пионерлагерях тогдашнего детства… Дьявол его разберет, этого старика!
— Я жду, Глостер, — напомнил Лир. Голос его был жестким и неприятным, будто скрежет штыком лопаты по ржавому кровельному железу.
Глостер едва смог сосредоточиться, так велико было его внутреннее смятение; сглотнул слюну и произнес:
— Маэстро.
— Что — маэстро? Мы не на концерте, мой милый.
— Маэстро жив.
— Что?!
— Маэстро жив.
— Вот как? — Лир склонил голову чуть набок, словно прислушивающаяся к кваканию тропических лягушек и бульканию головастиков птица-секретарь. — Вот как? Прямо как в старой американской мелодрамке-страшилке: «Кинг-Конг жив!» — Лир пожевал тонкими губами, будто примериваясь к куску, спросил:
— Это достоверно?
— Теперь да. Мои люди навели справки. Их рапорт я получил за десять минут до аудиенции с вами.
— Рапорт у тебя с собой?
— Да.
Лир с видимым усилием сдержал любопытство, чтобы сразу же не взять у Глостера папку и не углубиться в изучение собранного досье. Но это было бы непрофессионально: во-первых, первичный анализ операции нужно проводить «по мере действия», на события сначала необходимо взглянуть в том порядке и той последовательности, в которой они происходили, иначе картинка исказите" незаметно для аналитика… А так, схватив «картину битвы» целиком, потом можно «уточнять», «обращать внимание», «возвращаться к вопросу»… Азбука. А во-вторых… Что, если Глостер и его люди все-таки ошибаются и бесплотный дух Маэстро привиделся им вживе? Почему нет! Если кто-то из умных и хитрых решил сыграть свою игру с ним, Лиром, и наживил славного живчика под старым оперативным псевдонимом Маэстро? Понятно, о Маэстро в свое время знал очень ограниченный круг лиц, но… «лица» эти не счетоводами в бухгалтериях припухали, и даже те, что вышли на честный государственный пенсион по выслуге или полной преклонности годков, могут очно или заочно консультировать других, молодых, борзых, жадных…
Как только стали валиться стены гранитного Комитета, поползли слухи. И если факты — вещь упрямая, то слухи — упрямая втройне. Кто и зачем обратил в легенду — в самом примитивном, житейском смысле этого слова — имя Маэстро, Лир не знал, а с гибелью последнего не стал и выяснять. Впрочем, слухи он тоже не пресекал. В свое время, пока Маэстро не свихнулся окончательно и добросовестно работал на него, Лира, один только слух, что руководить акцией устранения будет сам Маэстро… Это имя вселяло ужас в противников; к тому же Маэстро никогда не ошибался. До того, последнего раза… Хотя… Если он жив, то не ошибся?
Выходит, так!
Лир закрыл глаза, помассировал разом набрякшие веки, произнес тихо, голосом смертельно уставшего человека:
— Ну что ж… Примем пока воскресение нашего давнего доброго друга как данность. Излагай события по порядку. Степень их важности и значимости я определю сам.
Глава 26
Постепенно Глостер успокоился, события излагал точно, связно, безэмоционально. Лир слушал внимательно, вычерчивая на листочке геометрические фигурки, которые затем снабжал очеловеченными признаками киношных или мультяшных роботов-монстров, придавая каждому некую схожесть со стоящим перед столом Глостером.
— Итак, — подвел итог Лир, — живым Маэстро никто не видел. Кроме Киви. И весь рассказ ты передаешь мне с ее слов.
— Она не врала. Мы прокачали девку на простеньком полиграфе, без наркотиков. Все достоверно. Кроме одного: что-то фонит с другой девчонкой…
— С какой?
— С подружкой Батенкова. Она попросту сбежала, и Киви, возможно, помогла ей.
— Как настоящее имя Киви?
— Ольга.
— Оля-Ляля. Ты привез ее в Москву?
— Да. Она, как и Ирэн, — на нашей подмосковной базе. В связи с грядущей заварушкой девочек еще можно использовать.
— Не слишком ли роскошно для всяких отморозков — убирать их куколками?
— Понятие «роскошно» совсем не смотрится рядом со словом «результативно».
— Ну да, ну да…
— Ваша идея, Лир… — начал было Глостер, но старик досадливо поморщился:
— Только не пой мне дифирамбы. А идея… идея Квентина Тарантино. Помнишь, пилотный выпуск? «Force-Fox-Five»?
— Смутно.
— Ну и ляд с ним. А еще… Я как-то смотрел документальный фильм о наших, еще советских гимнастках-чемпионках. Задумался, почему именно двенадцати-тринадца-тилетние пацанки выигрывают все медали, и все стало ясно.
— Да их натаскивали на эти самые медали, как доберманов!
— Не все так просто, Глостер. Вернее, все не так просто. Эти девочки поступали в школу гимнастики в пять-шесть лет. К одиннадцати годам для них это больше чем вся жизнь! И жизнь сия должна свершиться, состояться, и она может состояться только тогда, когда шея украсится красивой лентой, на которой будет болтаться та самая побрякушка из бутафорского золота… Но и это еще не все: подростки, а девочки-подростки в особенности, еще не способны спланировать свою будущую жизнь, как не способны оценить реальность смерти! Своей и чужой! Ты вспомни, Глостер, какой-нибудь чемпионат по спортивной гимнастике. Ведь ни одна из этих рекордсменок, выполняя жуткие упражнения, к примеру на брусьях, не представляет себе реальные последствия неудачи: как можно сорваться, поломать позвоночник и стать калекой-бревном на всю жизнь! Погибнуть! Ну, оценивать летальность последствий для «жертв» и «целей» при стрельбе очередями или одиночными выстрелами наших куколок-крошек обучили довольно быстро, а вот что до их собственной смертности… Знаешь, в чем главный парадокс человека как вида и человечества в целом, как популяции?
— Прожорливость?
— Нет. Исступленная, самоуверенная вера в собственное бессмертие! Есть ли еще на земле вид животных, который истреблял бы себе подобных миллионами и при этом выдумал идею, согласно которой каждый волен жить вечно?! И назвал следование этой глупой надуманной идее — верой, и выдумал Единого Сущего, и ничтоже сумняшеся присовокопил себя, червя, к этому Сущему… И это притом, что каждый ежедневно наблюдает, с каким сладострастным остервенением сжирают людишки себе подобных! — Лир на секунду прикрыл глаза, помассировал сомкнутые веки подушечками пальцев. — О чем я, Глостер?
— О девочках.
— В смысле?.. Ах да! — Лир хохотнул, стараясь изобразить из себя дедка-склеротика, желающего выглядеть бодрячком. Но… этому представлению Глостер не верил. Совсем. Как не верил никакой из постановок Лира: финал их был всегда фатален.
— О девочках… — повторил Лир, закатил глазки, теперь как неагрессивный старец-сластолюбец, на последние пенсионные копейки покупающий глянцевые журналы и. мечтающий устроиться истопником-банщиком в девичий интернат. — Наши очень похожи на спортсменок, так? Ведь они действительно не боятся смерти! В отличие и от тебя, и от меня, и даже от Маэстро. Потому что они не, способны в нее поверить. Возраст не позволяет. Наша с, тобой задача, Глостер, поддерживать в них эту иллюзию как можно дольше. Иначе они станут опасны настолько, что лучше… Ну да ты и сам знаешь.
— Хороший пионер — это мертвый пионер, — осклабился Глостер.
Лир его реплику, казалось, даже не заметил. Некоторое время он сидел неподвижно, потом произнес медленно, как бы размышляя вслух:
— Вот что, Глостер. Какой бы ты ни был человечек, но профессионал ты неплохой. Тебя ничто не смущает во всей случившейся, заварухе?
— С устранением Ландерса и Батеякова?
— Естественно.
— Теперь ничего.
— А раньше?
Глостер задумался было, по-видимому стараясь сформулировать собственные ощущения, но Лир уже продолжил:
— С появлением нововоскресшего Маэстро уж очень славненько все вписывается в. схему. Просто очень душевненько и хорошо: появился барин, грозный и авторитетный, всех рассудил, роздал всем сестрам по, серьгам и всем боевичкам по пуле — и исчез. А операция оказалась под угрозой, полного, срыва.
— Я думал над этим но когда поступили данные от моих оперативников…
— Мой ми-и-илый Глостер… — тихо, почти ласково произнес Лир, и в этой. приторной патоке слов чувствовалась, неотвратимая угроза… — Ты не представляешь себе масштаба задуманной операций! И тем самим меры своей ответственности за ее провал!
— Лир, я…
— Молчи. И слушай. Учись слушать старших не перебивая. Ты можешь догадываться, но знать наверняка… Так вот: я тебе скажу. Потому что ты в этой лодчонке человечек не последний, и сойти с нее тебе можно только в небытие. И ты себе это представляешь оч-ч-чень хорошо. Какая была основная цель задуманного дуплета Батенков-Ландерс?
— Устранить авторитетов, развязать разборки на их территориях, поставить территории под контроль своих людей.
— Правильно. Зачем? Глостер пожал плечами:
— Деньги.
— Мы что, жадные, Тлостер? У нас нехватка денег? Мы спускаем в казино такие немереные суммы, что решили подзанять их с территорий?
— Нет…
— Во-о-от. Нам нужны не деньги, Глостер, нам нужны оперативные финансовые средства. Ты представляешь себе, о каких суммах идет речь?
— Смутно.
— И это правильно. Не твоя это прерогатива и не твой приоритет. Но сейчас я решил: пришло время тебе быть посвященным в масштаб игры. Хм… А все же любопытно… О чем ты догадался сам?
— Наркотики. Транзит и производство.
— Ты умнеешь, Глостер, и это радует. Помнишь, как мы похерили возможность завладеть мешком наркоты стоимостью около сорока миллионов зелени?
— Естественно.
— Не-е-ет, Глостер, выбросить в мусор сорок миллионов долларов — это совсем не естественно! Совсем! Это хорошие деньги! Сказать, почему я и не шибко горевал о потере?
— Вы были заняты обеспечением покупки контрольных пакетов акций оборонных предприятий Княжинска и Днепровска.
— Как ты все красиво научился излагать! — Лир обнажил безукоризненный ряд неестественно белых зубов, имитируя улыбку. — Так вот, мил человек, все эти акции, предприятия, колхозы-совхозы и прочие трудовые коооперативы в нашей кастрированной на три буквы Сээнговии могут дать прибыль только при наличии власти. А власть, как и войну, будущими деньгами не купишь! Ты понял, Глостер?
Эти потаскушки продаются только за наличные! За красивые такие зеленые купюры!
Глостер снова поразился перемене, происшедшей с Лиром в одно мгновение: глаза старика заблестели, щеки налились румянцем, как у азартного игрока, замершего перед зеленым полем рулетки.
— Так вот, Глостер! Тогда мешок наркотиков неизбежно потряс бы складывавшийся рынок юга России и Украины, вызвал неизбежные и, главное, несвоевременные разборки между всеми сторонами! А мне нужно было, чтобы отладили тропы, отработали рынки сбыта и пути транзита на Запад; сейчас все это есть и контролировалось частично людьми Батенкова, частично — Ландерса и, процентов на семь-десять, авторитетами пожиже. Ну а чтобы тебе лучше представить картину нынешней битвы за «великое испанское наследство», так речь идет о годовом доходе в три-три с половиной миллиарда долларов! Миллиарда! Уразумел, помощничек?
Миллиард — это тысяча миллионов! А миллион — это дипломат, доверху набитый пачками сотенных зеленых купюр! Представил? Вот такие пироги с начинкою! Ради таковой суммы всякие вице-дрице-премьеры и прочие засланцы летают в МВФ на придверный коврик да ласково там сопят в две дырочки: дайте, за Христа ради, на пропитание живота!
Лир перевел дух, быстренько нарисовал на бумажке мешочек, похожий на кисет, перевязал его ленточкой и рядом изобразил толстого Дядю Сэма в цилиндре, полосатых брюках и звездном пиджачке — каким его изображали крокодильские карикатуристы лет тридцать-сорок назад.
— Власть стоит нынче так дешево? — позволил себе иронию Глостер.
— Милок, эта профурсетка порой отдается за гроши! — принужденно рассмеялся Лир, но глаза его остались зоркими и злыми. — Но нужно разделять саму власть и людей, пользующихся ею, словно дешевой шлюшкой! У этих сутенеров воображения хватает лишь на то, чтобы выбить из грозной барышни, превращенной в публичную девку, денежки на молочишко! — Лир не сдержался, выругался, вздохнул:
— Порой, когда смотришь на эту мелкотравчатую свору, на эту падаль, на эту камарилью придворной челяди, зудливых насекомых — тошно становится: ужель это происходит в великой непостижимой России? Жулики и авантюристы, косноязычные и велеречивые правят бал и расправу! Ум меркнет и отказывается понимать!
Глава 27
Лир перевел дух и продолжил, причем совершенно спокойно, равнодушно и выверенно, словно это не он только что произнес гневные слова «мошенникам в белых воротничках»:
— А на самом деле мы с тобой не только поприсутствуем, но и, как писали некогда в прессе, примем непосредственное участие… В подъедании разлагающегося трупа мертвого колосса. — Лир вздохнул, подошел к шкафу, взял коньяк, налил себе рюмку, сделал глоток:
— За кремлевской блошиной помойкой и прочими навозными тварями ох какие серьезные люди стоят! Эти не пощадят никого, ни страну, ни народ, все силы приложат, абы добить! Но и им противостоять станут гиганты, до поры за шторками схороненные… А что усмотрит публика? Как всегда: войну, взрывы, снова войну… Демонстративное убиение младенцев с матерями, трупы, на куски изорванные, кровь по тротуарам, да где — в столицах, городах и весях!
Власть никогда не задумывается о подобных пустяках, как «жертвы среди мирного населения», вернее… Люди эмоциональны и боязливы, но дело не в том… Как говаривал Федор Михайлович Достоевский, слеза одного ребенка способна превратить мирных допреж обывателей в стадо дикой сволочи, в орду, сметающую на своем пути все — обидчиков того ребенка, его родителей, братьев, сестер, маршевые роты, строения из стекла и бетона, восстановленные храмы, матерей с младенцами на руках… И кто остановит эту сволоту? Только силы правопорядка, подчиняющиеся как раз тем, кто скрыт в непроницаемой тени кремлевских беседок… М-да…
Скажешь, Фед Михалыч ничего этого не говорил? Ну, на нет и суда нет. Значит, опять стариковские бредни.
Лир присел в кресло, ненаигранно загрустил глазами, устало и обреченно пожевал губами, словно примериваясь к черствому и горькому куску одинокой старости, заговорил едва слышно, будто причитая:
— Так о чем я? Ну да, о барышне-власти, о больной шалаве, о шалашовке гнутой, лихоманке запойной, стервозе, гангрене, пустоши… — Лир закатил глаза, и тут лицо его преобразилось, он глянул на подчиненного лукаво, скоро, азартно:
— А что нас с тобой интересует, Глостер, в этом сучьем дерьмеце? Только одно: пока две команды мастеров, две армии, две своры псов шелудивых горлянки друг дружке будут сворачивать, подбрасывая человечьи трупы в огонь тысячами, тысячами тысяч, будто сухой хворост, мы с тобой затаимся… Победитель не получает ничего. Поле битвы принадлежит мародерам. Всегда. Ты готов стать мародером, Глостер, или тебя словцо коробит?
Глостер вежливо улыбнулся одними губами: мешать Лиру в разыгрываемом длясобственного тщеславия представлении он не смел, а подыгрывать не желал.
Лир, если и заметил этот холодно-змеистый ухмыл подчиненного, виду не подал, закончил, впрочем, на полтона ниже, спокойно и вполне здраво:
— Так вот, Глостер. На самом деле власть не продается, поскольку бесценна, а вот людишки, «жадною толпой стоящие у трона», хлебалово наше биндюжное, эти продаются, еще как продаются, с радостью, с «наше вам с кисточкой», прогибаясь так, чтобы клиенту было удобнее.
Глостер едва заметно передернул плечами, процедил брюзгливо, сквозь зубы:
— Мне кажется, в этом лапинарии клиенты уже все расписаны.
— Что?! Ты знаешь римское название борделя? Хм… Если так пойдет дальше, ты научишься понимать Шекспира. Ты прав, клиенты распределены. У этих. Но… любой бордель на том и стоит, что ему нужны свежие девочки… А музыку им заказывает тот, кто платит. Любую музыку, включая, похоронную. Я прав?
— Абсолютно.
— Ну тогда — вернемся к нашим баранам и прочему скоту. — Лир вздохнул-. — Дай-ка мне матерьялец, что нарыли твои хряки.
— По Маэстро?
— Да.
Бумаги Лир просмотрел быстро. Откинулся на стуле, прикрыл веки, помассировал переносье, брюзгливо, опустил вниз уголки рта:
— А ведь ты лажанулся, Глостер. Тогда. В прошлой операции. Ты допустил прокол. Ошибку. Грубую.
Глостер стоял перед столом молча, лишь обеспокоенно переминаясь на месте.
— А я, старый-травленый, пропустил ее — вздохнул" Глостер. — И тем утвердил.
— Вы имеете в виду…
— Только одно. Никто тогда не видел Маэстро мертвым. Ты понял? Никто. — Лир растянул тонкие губы в улыбке, но при пустом слезящемся взгляде и фарфоровой белизне зубов она выглядела жутковатым смертным оскалом. — Зарывая гроб, убедись в наличии трупа. — Лир пожевал тонкими блеклыми губами, словно смакуя несуществующий коньяк.
— Случай… — отозвался утомленный затянувшейся паузой Глостер.
— Случай — как эхо повторил Лир, — который может стать фатальным. Ты фаталист, Глостер?
— Не думаю.
Лир откинулся в кресле, рассмеялся, на этот раз скрипуче, жестоко:
— Тебе придется стать, им. Маэстро легок, как смерть.
— Он сошел с ума. Остается его отловить и вернуть туда, где его заждались.
В ад.
— Сошел с ума, говоришь? — вскинулся Лир. — Да, Маэстро сумасшедший! И он всегда был таким! Но это его сумасшествие сродни гениальности, чего о тебе, майн либер Глостер, не скажешь! И его участие в игре в той или иной степени может так поломать все славные расписные расклады, что… — Лир замолчал, волей пережигая гнев. — В одном ты прав: Маэстро нужно убирать с этого поля, убирать жестко.
Если потребуется, задействуй все контакты силовиков на всем побережье, задействуй всех! Я дам тебе людей Ричарда: они умеют работать. Быстро и результативно.
— Кому будут подчиняться люди Ричарда?
Лир пожал плечами:
— Только ему. Или ты забыл наши правила?
— Не забыл.
— С тобой будут люди Лаэрта. В полном подчинении. Мало?
— Умному достаточно.
— Вот и славно. Ну а что до правил… Правила надо выполнять, чтобы сохранить жизнь. Но побеждает в ней тот, кто устанавливает свои.
Глава 28
— Как видишь, я все продумал, а потому — ждет нас полный консенсус и общее взаимопонимание! — Лир, похоже, снова впал в агрессивное легкомыслие. Помолчал, по-птичьи склонив голову набок, посоветовал:
— И не ревнуй, мой славный Глостер, к власти. И Ричард и Лаэрт — мои резиденты, ты — мои глаза и уши. Ты единственный, кто знает, что я стою за двумя десятками операций. Ты и Дик.
Кстати, как он? Нервного потрясения от неудач не наступило?
— У Дика? — вздрогнул от неожиданности Глостер.
— Прекрати юлить и отвечать вопросом на вопрос! — В голосе Лира зазвучал металл. — Так что Дик?
— Похоже… — Противный пот помимо воли снова обильно оросил спину Глостера. Он старался говорить медленно, подыскивая круглые, обтекаемые слова. — Похоже, Дик был несколько обескуражен появлением Маэстро.
— О-бес-ку-ра-жен. Красивое слово, Глостер. Точное. Без куражу в его деле — никак нельзя. — Лир замолчал, с каким-то новым любопытством уставился на Глостера, по-птичьи склонив голову набок. — Ну и каково будет твое решение по Дику?
— Лир, принимать решения по людям — ваша компетенция.
— И моя прерогатива.
— Точно так.
— Глостер, если я спрашиваю, то хочу услышать ответ. Четкий и ясный. Ты расстроил меня: по всему видать, в твоей душе объявились некие сомнения, которых раньше не было. На чей счет, позволь спросить? На мой? — Неожиданно Лир подвинулся вплотную к крышке стола, его блеклые глазки цепко уставились в глаза Глостера:
— Отвечать!
— Лир, я…
— Правду! Быстро!
Глостер почувствовал полную растерянность и полное свое бессилие, бессилие лягушонка перед питоном. Признаваться было убийственно, все их «потусторонние» разговоры с Диком сродни предательству, Лир не простит… Но и не отвечать он не мог. Кое-как собравшись, Глостер разлепил губы, но изо рта его не донеслось ни звука; он был похож на глубоководную рыбу, выброшенную накатной волной далеко на берег: жгучее безжалостное солнце сушило кожу, жабры забивались песком, окружающее в одночасье, вдруг превратилось в пустынный знойный мираж, и спастись от этого миража было нельзя.
— Ну? Чем обескуражен Дик? — бросил ему спасительную соломинку Лир.
Глостер хватанул воздуха, произнес натянутым, чуть вибрирующим, как надрезанная струна, голосом:
— Дик считает, что операции были слишком усложнены.
— Да? И в чем это «слишком»?
— Девки. Он полагает, это… — Глостер замялся.
— Ну-ну, я слушаю… Внимательно слушаю. Формулируй без эвфемизмов, как прозвучало.
— Он полагает, введение в операцию малолеток — это… старческая прихоть.
— Вот как?
Глостер стоял навытяжку, взгляд его застыл в оловянном покое, ничего не выражая, уставясь в стенку над головой Лира.
— Старческая прихоть? Маразм? Или — похоть обессилевшего пачкуна? Ну, договаривай, Глостер, договаривай…. — Я сформулировал именно так, как услышал.
— А сам ты как считаешь, Глостер?
— Это не мой приоритет.
— Не прячься за формулировками. Повторяю: если спрашиваю, то желаю услышать ответ. Твой ответ. Максимально искренний. Ну? Или ты, зная всю картину задуманной акции-дуплета, считаешь, что все можно было осуществить проще?
— Вряд ли.
— Я хочу ясного ответа, Глостер.
— Нет, проще было бы… рискованно. — Осторожно, стараясь не привлечь внимания Лира, Глостер неловким движением достал платочек, промокнул вспотевший лоб, вполвздоха перевел дыхание… Но — он попал. Ответ, по-видимому, устроил Лира полностью: тот заговорил быстро, уверенно, время от времени бросая на Глостера быстрый взгляд, но не как грозный босс на проштрафившегося сотрудника, скорее, как популярный профессор на подающего надежды студиозуса: все ли понятно? Лир говорил размеренно и спокойно:
— Именно. Проще было бы не просто рискованно — это граничило бы с тупой мужичьей глупостью, глупостью базарной и оттого — уязвимой изначально! В нашем деле, как и во всяком другом, кондовая простота порой хуже воровства! Победит тот, кто разрушит стереотип; Маэстро был в этом мастер, непревзойденный мастер!
Так вот, подготовка киллеров из четырнадцати-пятнадцатилетних пацанок — это и есть разрушение стереотипа! Кто?! Кто из волкодавов, которых натаскивали годами, десятилетиями, заподозрит в отвязанной нимфетке смертельное оружие? Не так?
Глостер стоял неподвижно. Он был почти счастлив тем, что Лир больше не упоминал о его, Глостера, разговоре с Диком. И вот почему: Глостер, находясь вдали от Лира, забыл об этой странно-мистической способности старика внушать даже не страх — какой-то потусторонний трепет; он бы не смог противостоять этому страху и выложил бы все то, чего никогда и ни при каких обстаятельствах говорить не следовало. Глостер вспомнил, как определил Лира десять лет назад один полковник, тогда — командир подразделения, сейчас — догнивающий в безвестных лесах неопознанный остов, костяк… Он назвал Лира просто: ведьмак. Ну да: с этими своими превращениями, фиглярством, кривляниями он похож на жуткого вурдалака, волка-оборотня… Глостер почувствовал, как холодный пот насквозь пропитал сорочку и она горячей простыней липнет к спине… Он кинул беглый взгляд на Лира — и успокоился: тот заливался игривым курским соловьем, слушая только себя; по-видимому, другой слушатель, был необходим Лиру исключительно как повод.
— Ты помнишь, дорогуша Глостер, как сложно было найти тех девиц, которых мы и привлекли к работе? А как вытаскивали девок из зон для малолеток, существующих под эгидой фонда «Счастливое детство»?! Песня, а не кампания! И нам не нужны были человеческие отбросы! Нам не нужны были сломанные и сломленные!
Нам не нужны были опустившиеся и ожесточившиеся настолько, что убить человека для них — как спичку погасить! Ты помнишь, сколько времени я потратил, пока нашел человечка на роль Робин Гуда? Дескать, мы — тайный отряд борьбы с гадами, шкурами и подлецами?! И пацанки — поверили! Все поверили! Ибо идея всегда эффективнее материи, когда она, как выражался один великий душегуб, овладевает массами!
Лир по-волчьи оскалил искусственные белые клыки, откинулся в кресле.
Длинный монолог утомил его. Он снова склонился над листком бумаги, исчерченным свиными рылами, стилизованными фигурками обнаженных нимфеток, какими-то крючконосыми профилями; по краю лист был. обрамлен в виньетку из ножей, кинжалов, шпаг, сабель, палашей, ятаганов; сверху, нависая над всем рисунком, темнел прямоугольником готовый упасть топор гильотины. Лир подправил нечто в рисунке, склонив голову чуть набок, так, что зачесанная прядь жиденьких белесых волос заблестела от упавшего косо света, спросил, не поднимая головы, буднично:
— А что, Глостер, ножичком не разучился махать? Глостера вопрос застал врасплох; просчитать, что за каверзу задумал его артистичный шеф, он не успел, ответил просто:
— Думаю, нет.
Лир вздохнул, вернее, зевнул, прикрыв рот ладонью.
Помолчал, резюмировал грустно:
— Похоже, у нас появилась небольшая проблема.
— Маэстро?
— Глостер, душа моя, порой ты удивительно тугодумен! Маэстро — это не проблема, эта наша беда, и пока мы от него не избавимся… Но, как гласит старинная шотландская мудрость: лучше иметь врагом льва в пустыне, чем бешеную кошку в соседней комнате. Я имею в виду Дика.
Глава 29
— Дика? — Мысли Глостера заметались, как тараканы по полу: Лир знает об их разговоре в машине? Была запись?
Или просто… Ну да: ведьмак!
— Дик стал много думать, — продолжил Лир. Тон его был отстранение-равнодушным, и оттого Глостер чувствовал себя так, будто его разгоряченную кожу поливают стылой январской водой, и еще миг — и он превратится в безгласную ледяную статую, в манекен, в труп… — Много думать… и рассуждать. Он плохо на тебя влияет. И плохо кончит. Конечно, можно просто утопить его в дерьме и ручку дернуть — пусть кувыркается по трубам: тело без погребения — душа без упокоения… Но… Ты, кажется, тоже стал проявлять излишнюю самостоятельность в мышлении, нет? Ну а когда у моего доверенного куратора возникают такие мысли… Мягко говоря, они несвоевременны, дерзки и опасны. А потому… — Лир поднял на Глостера пустые, похожие на оловянные пуговицы на солдатской тужурке, жидкие глазки и заключил абсолютно равнодушно:
— Кого-то из вас двоих нужно списать, Глостер. Как думаешь кого? Тебя или Дика?
Или — обоих? А помнишь, Глостер, что рекомендовал принц Гамлет бродячим актерам?
— Простите…
— Бог простит. «Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал: легко и без запинки… А играющим дураков запретите говорить больше, чем для них написано».
— Лир вздохнул в непритворной печали, произнес тихо:
— Если бы у нас любили Шекспира… Смотреть на горланящий вокруг балаган тошно. Тошно.
Лир закрыл глаза, помассировал веки, замер, откинувшись в кресле, глянул на Глостера исподлобья:
— Вы оба нарушили правила; этого достаточно, чтобы потерять жизнь. Но ничтожно мало для победы.
Лир снова замолчал, а когда заговорил, голос его был тихим, сочувственным и участливым, словно у земского доктора, утешающего безнадежно больного мещанина.
— Полагаю, Глостер, между вами должен быть поединок, — буднично произнес Лир, словно только и занимался последнее время тем, что организовывал дуэли своих подчиненных. — Пусть все решит случай. Когда-то на Руси это называли «Божий суд». — Лир растянул губы в ухмылке, и его фарфоровые зубы тускло блеснули в неживом оскале. — Скорее, это суд сатаны: лукавый побережет того, кто сможет посеять больше смерти! И побеждает не тот, кто благородней, а тот, кто больше боится этой уродливой дамы. На должности моего куратора мне не нужны храбрецы: они бывают глупы и безрассудны. Я люблю трусов. Трусы умны и дальновидны. Правда, склонны к интригам и дрязгам и по этой собственной трусости способны цапнуть руку дающую… Но на то и хозяин: вовремя распознать какой-то иной страх, больший, чем страх перед ним… И я его распознал, Глостер. Нет? — Лир снова застыл, уставясь блеклыми роговицами в глаза Глостера. — Иди и убей Дика. Или он убьет тебя.
Глостер побледнел, произнес:
— Я никогда не был трусом.
— Все это словеса, Глостер. Все мы храбры, пока костлявая не схватит за горло. Выбери нож и спускайся, дружок, в подвал. Полагаю, твой друг Дик уже там.
Вы ведь дружили? Ну да, ну да… Рядом со смертью не бывает дружбы. Ни любви, ни дружбы, ни привязанностей. Слишком зыбко существование, слишком призрачно и вполне конечно. — Лир прикрыл глаза, помассировал веки кончиками пальцев:
— У меня выдался нелегкий день.
Глостер кивнул, словно боднул головой пространство. Через минуту дверь за ним закрылась. Лир не спеша выцедил вино из высокого, тонкостенного стакана, посмаковал губами, ощущая послевкусие… Снова уселся в кресло. Нижняя губа его бессильно отвисла, сделав лицо уродливым, аморфным; струйка вязкой слюны потянулась на лацкан пиджака; казалось, печать старческого слабоумия читается теперь на этом лице явно; старик казался безумным и бессильным в своей беспомощной дреме… И тут — Лир открыл глаза; взгляд был остр и насторожен, как взгляд готового к броску хищника. Он нажал кнопку на пульте селектора, спросил почти шепотом:
— Лаэрт? Дик ждет?
— Так точно.
— Он готов к поединку?
— Готов.
— Гневен? Испуган? Собран?
— Безразличен.
— Тогда — не жилец.
— Он в любом случае не жилец. И это понимает.
— Может быть, такое понимание заставит его быть ловчее? Не люблю скорых финалов, это похоже на убийство. Хотя… Да, проинструктируй Глостера. Мне не нужен благородный удар в сердце. Мне нужна агония. Долгая и мучительная.
Когда-то Глостер проделывал такие штуки впечатляюще. В Таджикистане, кажется.
— Нет, в Пенджабе.
— Старость — не радость. Склероз. Да, подтяни своих людей: пусть полюбуются. Всякая смерть, особенно долгая и мучительная, хороша лишь тогда, когда имеет воспитательное значение. Я спущусь через десять минут. Выполняйте.
— Есть.
Лир чувствовал усталость. Он прошел в комнату отдыха, придирчиво оглядел себя в зеркале. Людишки… его людишки… Можно было бы, конечно, стереть Дика втихую, просто поставив их в известность, что одного из центурионов больше нет.
Он совершил ошибку, а ошибки непростительны. Но… это было бы слишком. А большинством людей правят не воля и не разум. Людьми управляют эмоции. Пусть эта кровавая картинка — расправы над Диком, его долгих, нечеловеческих мучений — западет в их подсознание несмываемым цветным кошмаром, пусть преследует по ночам… У каждого из этих пареньков на совести десятки трупов, но — человек неизменен: чужая смерть рождает облегчение — не я! не меня! — только сначала; сразу следом приходит страх: твоя смерть и твоя агония может быть куда мучительнее и страшнее! Они будут помнить, помнить всегда: может прийти их черед! И неотвратимость жестокого финала для каждого из них в его. Лира, руках.
Через десять минут Лир был в подвале. Кровавую драму досматривать он не стал; все было именно так, как он и предполагал. Глостер обращался с холодным оружием не в пример эффективнее Дика. Получив всего один порез по касательной, Глостер подрезал противнику сухожилия на руках и ногах, а дальше… Вымещая на беспомощном опальном соратнике весь свой страх, пережитый в кабинете Лира, он терзал бывшего товарища долго и беспощадно. Лир хорошо знал Глостера; его страх смерти был столь велик, что… После сегодняшнего Глостер научится связывать этот страх только с одним существом на земле — с ним, Лиром, и любая другая опасность покажется ему несущественной и мнимой. Такого крысобоя можно выпускать на Маэстро. Кто победит в этой схватке, Маэстро или Глостер, Лир теперь поручиться не мог. А потом… потом останется лишь убрать оставшегося в живых мерзавца. Хорошим снайперским выстрелом. В сердце. И все возвратится на круги своя. Круг… самая одинокая фигура… Бесконечное множество бесконечно малых прямых, стремящихся затеряться в бесконечности. Бред. Как и вся эта жизнь.
Ближе к вечеру Лир вызвал Глостера по внутренней связи. Тот объявился незамедлительно. Какое-то время Лир испытующе смотрел на подчиненного, пытаясь заметить в его чертах то легкое безумие, которое рождает близость смерти. Но Глостер был бледен и безразличен.
— Ты готов выполнить задачу?
— Да, я готов.
Лир передохнул с облегчением. В голосе Глостера он услышал то, что хотел: эйфорию и опьянение кровью и властью.
— Ну что ж, мой милый Глостер… Кажется, ты больший любимчик судьбы, чем этот недотепа Дик. Нечего тебе и прохлаждаться. Мне нужен Маэстро.
— Живым?
— Нет. Мертвым. — Лир вздохнул. — Все решит скорость, мастерство и время.
Вернее, умение насыщать время действием, изменять мир, и изменять его в свою пользу. — Лир помолчал, добавил:
— И вот еще что… Есть у меня подозрение, что Маэстро сам будет искать встречи с нами. Так что не нарвись на засаду, Маэстро на них большой мастер. Вернее — лучший.
Что-то похожее на ревность шевельнулось в груди Глостера, но оценивать свои эмоции он не захотел. Собрался, слог его сделался лапидарным, сдержанно-деловым.
— По моим данным, они отражены в отчете, у Маэстро сейчас частичная амнезия. Следовательно…
— Глостер, надеяться на это можно, а вот рассчитывать — никак нельзя! — живо откликнулся Лир. — Голова — предмет темный, науке неизвестный; все попытки наших яйцеголовых в белых халатах поэкспериментировать с мозгом приводили к нулю. Полному.
Лир откинулся в кресле, закатил глаза под потолок; Глостер приготовился пережить еще один приступ начальственного словоблудия, и не ошибся.
— Я как-то частным порядком встречался с госпожой Бехтеревой; сорок лет она руководит Институтом мозга, академик, при регалиях и мантиях всех университетов; знаешь, как она выразилась? Мозг — инструмент настолько совершенный, что ни один исследователь за все время изучения так и не смог понять его истинного назначения. Все, что люди совершают, — не только простые действия, но и создание великих произведений искусства! — загружает этот странный орган всего на семь-двенадцать процентов мощности. Остальные девяносто процентов так и остаются невостребованными. Тогда зачем они?
Лир приподнялся в кресле и требовательно смотрел на Глостера, по-птичьи склонив голову набок. «Ильич!» — пронеслось в голове Глостера. Лир действительно был сейчас похож на Ленина, вернее, на его карикатуру, впрочем весьма удачную…
Но вот чего Глостер никогда не мог понять — играет Лир искренне, чтобы позабавиться самому или затем, чтобы размягчить собеседника-визави; в такие минуты Глостеру казалось, что Лира два: один — дуркую-щий фигляр, клоун, паяц, другой — затаившийся в этой раскрашенной оболочке убийца, безжалостный, бессмертный и беспощадный.
Кое-как справившись с безотчетно-мистической жутью, нахлынувшей на него вдруг, Глостер вслушался в пустопорожнюю болтовню Лира, и ему стало легче. Может быть, это не Лир, а он, Глостер, сходит с ума? Это бы многое объяснило.
— Есть мнение, дорогой Глостер, — продолжил тем временем Лир, — да, весьма авторитетное мнение, что наш мозг неземного происхождения… И еще не пришло время использовать всю его катастрофическую мощь… Или же… или просто по какой-то причине Бог. наказал людей, вот они и чухаются во тьме, будто свиньи в навозе, используя совершенный, уникальный, нигде в природе не повторенный инструмент на сотую долю возможностей… По-варварски. По-скотски.
Лир вздохнул, взглянул на собеседника требовательно:
— К чему я все это тебе говорю, Глостер? А к тому, что Маэстро, будь он псих или гений, напрягает куда больше извилин, чем большинство людей, так сказать, «в среднем по стране». А еще — применяет умения и навыки. И — мастерство. Не забудь, главное мастерство Маэстро — переправлять к праотцам всех, кто ему мешает. Без покаяния.
Глостер улыбнулся криво:
— Сейчас этого не умеет только ленивый.
— Разве?
— Да. Особенно среди людей специфических профессии. А в моей — дилетантов давно не осталось. В живых.
— Ты выглядишь весьма уверенным в себе, мой славный Глостер… Но в чем-то ты, безусловно, прав. Вот только не забывай об удаче. Вернее, об Удаче. Ее Величестве. Качество в нашем ремесле или искусстве порой решающее, ибо тому, кто неудачлив, второго шанса не выпадает никогда.
— Никакая удача не длится вечно.
— Кажется, в твоем голосе я расслышал самодовольство. Не так? Ну да…
Везет в этом мире не всем, не всегда и не во всем. Маэстро пока везет.
— Я найду его. Нужно только угадать, что он сейчас предпримет.
— Угадать? Ну что ж… Угадывай. Дерзай, Глостер. Кто поймет ум сумасшедшего? Да еще и гения к тому же, основное призвание которого — сеять смерть.
Лир вздохнул и, казалось, утратил всю свою энергию, всю взыскательную требовательность, всю ярость… Глостер вдруг увидел перед собой дряхлого тщедушного старика, озабоченного, кроме собственных бредней, еще и мучительной, смертельной болезнью, имя которой — страх.
— Ты должен его остановить, Глостер. Должен. И ты можешь, только… Ну да, я скажу тебе это. Чтобы ты не сильно обольщался на свой счет… В свое время у нас поговаривали, что… что у Маэстро договор со смертью. И, судя по всему…
Пока эта серьезная дама свои обязательства выполняет.
Глава 30
«…И пришел однажды Бог к людям, пришел, как человек, чтобы не убоялись Его, чтобы услышали Его, чтобы поняли Его… И спросил Он людей: „Любите ли вы Бога?“ — „Да“, — ответили Ему люди-»Так вот, до того, как были праотцы ваши, Азм Есмь, и Я повелеваю вам: будьте счастливы, да не будет между вами богатых и бедных, больных и увечных, завистливых и гордых, а будете все любимыми детьми Отца вашего!"
И испугались люди, и ропот Прошел меж ними, и старшие спросили младших:
«Чем делает себя этот человек? И почему говорит, как Власть Имеющий, когда суть такой же, как мы?» И озлобились люди, и насмеялись над Ним, и стали кидать камни, и кричали бранные речи, и бесновались, и требовали смерти… И говорили промеж себя так: как понять, угоден человек Богу или нет, если нет ни бедных, ни увечных, ни страждущих, если нет презираемых и презренных?.. И не соблазняет ли нас этот, в одеждах белых, как небо полдня?
…И не послушались люди Бога, и покинул их… И побрели люди во тьме мыкать злосчастие, каждый сам по себе, и каждый страдал, и желал быть любим, но были дела их злы, и не осталось в душах их Господа, и никто не возжелал вспомнить завещанное: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своею; и ближнего своего возлюби, как самого себя…» И никто не вспомнил слова сказанные: «Отче наш… и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим…», и не было прощения, и не чаялось бессмертия и воскресения, и жизнь сделалась скудна, коротка и конечна".
Лир проснулся в холодном поту. Сердце билось с перебоями, то замирая, то начиная колотиться так, словно хотело вырваться из грешного и слабого тела прочь, наружу… Судорожно сглотнув липкую, вязкую слюну, Лир заметался взглядом по комнате, залитой лунным светом; серые очертания предметов в ней были знакомы и не знакомы одновременно, серые тени там, за окном, бросали на пол странные блики… И тут он услышал шаги; шаги были уверенными и тяжкими, как поступь Командора, они приближались, и Лир чувствовал: дверь откроется вот-вот, и комнату зальет слепящий мрак небытия, и от него, Лира, со всем его могуществом не останется ничего, кроме иссохшего старческого тельца: желтого черепа, обтянутого морщинистым пергаментом кожи, и тщедушного костяка в вялых лохмотьях истерзанной лихорадкой плоти; тельца, покоящегося в комках пропитанных запахом старческого пота простыней. Ужас был липким и скользким, старик ощущал его на ладонях, будто холодную налимью слизь… Вскинулся, брезгливо отер ладони о наволочку, сипло выдохнул стоялый, пахнущий медикаментами и мочой воздух, душащий, словно непроницаемое толстое покрывало, напряг всю волю, сел на постели и устремил взгляд на дверь, готовый встретить того, кто там, лицом к лицу, готовый ко всему…
И — снова проснулся. Белье было мокрым насквозь, старик дышал жадно и часто, как загнанная лошадь, под левой лопаткой словно воткнули раскаленный вертел и медленно вращали его, и старик боялся пошевелиться, чтобы не сделать эту боль нестерпимой… Он шарил трясущейся рукой по прикроватной тумбочке, стремясь отыскать выключатель, но рука его вдруг наткнулась на что-то холодное и липкое; сильное струящееся тело проползло по руке, обвило так, что старик перестал ее чувствовать… Он боялся повернуть голову и встретиться глазами с напавшей на него тварью; а раскаленный вертел вонзался в плоть все глубже, и старик понял, что жизнь кончилась, эта, земная жизнь, и в другой его не ждет ничего, кроме мучений, ужаса и кромешного мрака… Он дернулся что было сил, хриплый заунывный вой прорезал тишину комнаты, а старик кричал и рвался, стараясь освободиться от вязкой твари, что сковывала ему мышцы смертным холодом…
На этот раз он проснулся от собственного крика. Сидел на постели, дико таращился вокруг, не поверил в пробуждение, вскочил, содрогаясь от отвращения, осмотрел прикроватную тумбочку, осторожно, пальцем, нажал выключатель. Теплый желтый свет залил комнату, и старик наконец понял: все, что ему привиделось, было лишь сном, кошмаром, и сейчас о нем напоминала только ставшая тупой боль под левой лопаткой, липкое от пота тело да онемевшая рука. Лир пошевелил пальцами: рука работала нормально, значит, не инсульт, нужно успокоиться, позвать людей… Людей… Не было в его окружении людей, были лишь подчиненные и прислуга; одни боялись его, другие, вышколенные десятилетиями холопьей службы, появлялись и исчезали молча, как тени, выполняя все его распоряжения расторопно и точно; были и такие, что научились предугадывать его желания и потакать плотским утехам, доставляя ему пышных формами молодых женщин тогда, когда он только успевал подумать о них… Теперь все реже… Да… У него было все.
Власть, богатство, влияние. А людей не было. Ни одного.
Паника, вызванная кошмаром, прошла, хотя Лир еще долго ощущал страх и пытался определить его источник, но не мог. Кошмарные ночные видения все еще теснились обрывками в его мозгу, а он пытался продраться сквозь них, как сквозь грязные клочья промышленного смога, но не сюда, в реальность, а к тому, первому сну в словах… Ну да, сон был грязно-желтый: перемолотый в пыль песок, охровые горы, пестро обряженные люди, человек в одеждах цвета блеклого полуденного неба… Лир тряхнул головой; слова сейчас вспоминались смутно, но он смог понять, что это не что иное, как апокриф, причем созданный его собственным подсознанием… Что он, Лир, желал сказать самому себе этим сном, о чем предупредить, против чего предостеречь?..
Лир подошел к бару, выбрал коньяк, налил полбокала поразмыслил, плеснул содовой, чуть-чуть, для мягкости, открыл маленький холодильник, бросил в бокал несколько ледяных кубиков, уселся в кресло. Сидел, прихлебывая напиток и глядя на панораму спящего громадного города за окном. Он внезапно, вдруг почувствовал свое полное одиночество в этом мире, ему до боли захотелось быть любимым и кому-то нужным… И оттого, что это желание было полностью неосуществимым, становилось не просто горько… Лир ощущал мир за окном как личного врага, в чем-то обманувшего его, насмеявшегося над ним подло и жестоко, и оттого он готов был мстить: всем им, жвачным, живущим так бездарно и так счастливо! У них было все, чем не обладал он: семьи, дети, проблемы… Порой, после таких вот кошмарных видений. Лир не спал. до первого света просто из-за страха уснуть и вновь попасть в цепкие когти неотвязных, ощутимо реальных видений. Ему приходила в голову страшная мысль…. А что, если сны и есть настоящая жизнь, а жизнь окружающая — мнима и нужна лишь для того, чтобы подкормить, напитать мозг впечатлениями, эмоциями, символами? И в том полуночном мерцании освобожденного от всего сущего естества, в его полете и устремленности, в его страхах, в его странных, часто вычурных созданиях — и есть истинная жизнь духа, та жизнь, о которой могли поведать остальным лишь немногие избранные: Моцарт, Бетховен, Чайковский? Та жизнь, которая переживается смертными всего лишь как приятный миг или как жуткий сон?
Алкоголь действовал успокаивающе. Скверные предчувствия оставили Лира, ночные видения уже не пугали; те мысли, что казались откровением всего лишь несколько минув назад, теперь представлялись не чем иным, как игрой переутомленного ума, игрой прихотливой, но ничуть не значимой в реальной жизни.
Лир перевел дух, налил себе еще порцию бренди, разбавив совсем уж символически; волшебство алкоголя сегодня действовало особенно исцеляюще; вскоре ему удалось загнать ночные страхи, казавшиеся всего полчаса назад пусть сумеречной, но явью, в глубь подсознания, завалить там шелухой привычных понятий, сутолокой грядущих неотложных дел, хмельным благодушием… Страх перед сном отступил, Лир почувствовал усталость, но не ту" измотанную, нервную, какая сначала изводила его бессонницей, потом — кошмарами; это была обычная усталость уже далеко не молодого человека, которому для восстановления сил необходим хороший крепкий ночной сон.
Лир прошел в ванную, сбросил влажное еще белье, завернулся в махровый халат. Досыпать он пошел в другую спальню; прилег, удобно устроился… Тот, казавшийся теперь совсем давним и дальним сон, тяготил где-то под сердцем, но последняя мысль показалась Лиру спасительно здравой: спазмы. Ну, конечно, спазмы: погода скачет от жары к дождям и наоборот, сосуды замирают, оголодавший от недостатка крови мозг рождает вымышленных чудовищ… Правы французы: необходимо подпитывать сердечную мышцу хорошим бордо и периодически пользовать коньячок, кальвадос, водочку. Микроскопическими дозами, но чаще. Особенно когда ситуация обостряется и ожившие покойники ломают так славно ложащиеся пасьянсы.
Дьявол! Мысль о Маэстро прогнала всякий сон напрочь, как налетевший ветер влажное летнее марево. С Маэстро нужно кончать как можно быстрее! Играться с ним не то что опасно… Слишком много смертей засеял этот человек; смерть любит тех, кто верно ей служит: бережет, лелеет; все жрецы смерти, будь то генералы или производители оружия, жили непостижимо долго для смертных. Если и наказывала таких природа, то только в потомках, поражая чад — детей или внуков — безумием или бездвижием, параличом. Что же до «людей действия», то никакой статистикой продолжительности их жизни никто не владел: слишком мелкие пешки, расходный материал, пушечное мясо. Выжить в поединке с оснащенным «эрликонами» вертолетом?
Только случай и судьба сберегли этого страшного человека. Зачем? Чтобы прервать бег времени по отношению к нему, Лиру?
Лир вскочил, подошел к бару, открыл, налил себе полный стакан водки, выпил единым духом, поморщился… Это было проявлением слабости, но… Что вся наша жизнь, как не проявление слабости, страха, бессилия? Он почувствовал горячий накат хмеля, передохнул… Пусть слабость… Слабость есть не что иное, как оборотное проявление силы. Ее можно себе позволить наедине с собой, но никогда — на людях. Люди не прощают чужой слабости так же, как своей трусости. А Маэстро… Он будет мертв. Единственное… О, как хотел бы Лир поговорить с ним о Шекспире! Мир полон человеческих недоделков, которые так никогда и не станут людьми… И все они не любят Шекспира!
Лир понял, что опьянел. Постоял у бара, налил доверху еще стакан, выпил.
Влажная пьяная пелена уже застилала мозг, Лир побрел к постели, смутно различая окружающие предметы… На миг мелькнула паническая мысль: а может быть, он уже слишком стар для тех игр, в которые пытается играть? Хм… Ирония в том, что все игры в этой жизни кончаются смертью игроков.
Лир упал на постель и в тот же миг провалился в черный сон, как в бездну,
Часть пятая БОЛЬШАЯ ЖАРА
Глава 31
Сначала Але показалось, что она уже умерла. Ее раскачивало, несло, руки и ноги будто вязли в вихревом потоке, и не было никакой легкости: воздух обступал ее теплой патокой, пеленал, словно кокон шелкопряда; все тело было ватным, скованным, будто сведенным судорогой; девушка повернулась, острая боль, точно разъяренная рысь, впилась сзади когтями в шею — и Аля очнулась окончательно.
Девушка почувствовала, что лежит, свернувшись клубочком, на заднем сиденье мчащейся машины, но пут ни на руках, ни на ногах не было, и рот ничем не заклеен. Она вспомнила все происшедшее с ней. Паническая мысль заметалась было в голове: где она теперь? В плену? Ее поймали? Аля замерла, сдержала дыхание, чтобы те ее преследователи, что, возможно, находились рядом в салоне, не поняли, что она уже очнулась, почувствовала предательское трепыхание собственных ресниц, свет сквозь сомкнутые веки, ну что ж, все не так уж скверно, беспамятство было недолгим, во рту — никакого металлического привкуса, значит, внутренние органы не повреждены, да и зубы вроде целы. Она попробовала осторожно-напрячь мышцы рук, ног, спины, чуть шевельнула пальцами: боли нет. Только шею немного ломило.
Аля двинула легонечко головой, боль острая, но не жестокая, а такая, какая бывает при растяжении. Мыслит она тоже связно… Значит, легко отделалась.
Последнее, что она помнила, это как въехала на большак и какой-то здоровый джип с маху протаранил ее борт. Могло быть и хуже.
Стоп! А почему же она, еще не вынырнув из пучины спасительного беспамятства, решила, что уже умерла? Ну да, лицо. Лицо напротив… Она его видела ясно и наяву, похожее и непохожее, и это не мог быть сон или бред…
Хотя… Как раз в бреду видения наиболее осязаемы и реальны; где-то она читала, что бред — это и есть патологическая интуиция… Просто события покатились так жестко и неотвратимо, что ее память вернула то, что произошло больше года назад, то, что она, может, и хотела бы, да не могла забыть…
…Вертолет вырастал на глазах, из-под его днища, словно бивни доисторического птеродактиля, торчали жерла спаренного крупнокалиберного пулемета. Он шел низко над морем и вдруг — взмыл вверх. Пулеметы плеснули огнем, вздыбливая каменистый обрыв веером осколков. Гончаров мигом толкнул Алю на землю, выхватил оружие, выстрелил трижды, пока пистолет не замолк с беспомощно откинутым затвором. Высокие фонтаны щебня приближались, Олег вжался в землю, притиснув девушку, прикрыв ее собой.
Маэстро стоял на самом краю обрыва недвижно, словно Каменный гость. Полы длинного плаща трепетали под воздушными струями, грозная машина приближалась…
Пистолеты в руках Маэстро заплясали, изрыгая свинец; вертолет вихрем промчался над ним, усыпав с головы до ног вырванной из каменистого грунта щебенкой.
Очередь распорола обшивку двух автомобилей, один просто стал похож на дырявый жестяной муляж, другой — разлетелся на части, опалив пространство вокруг клубом огня.
Маэстро остался невредим. Он продолжал стоять на краю обрыва во весь рост.
Улыбка застыла на бледном лице, а глаза… Ей показалось, что они сияли ребяческим восторгом. Похоже, у него действительно был договор со смертью, и смерть свои обязательства выполняла.
Пока вертолет делал боевой разворот, Маэстро успел заменить обоймы.
Тяжелым басом гудит фугас, Ударил фонтан огня…
А Боби Джон пустился в пляс:
— Какое мне дело до всех до вас, А вам — до меня, — пропел он негромко. Лицо его было сосредоточенным и необыкновенно спокойным.
Пулеметы загрохотали вновь. Фонтанчики приближались. Вертолет слегка болтало, потряхивая от отдачи: это был не «крокодил», боевой «Ми-24», а обычный милицейский «фонарь», оснащенный на скорую руку спаренным «эрликоном». Маэстро с видимым удовольствием наблюдал, как сверкающие в лучах солнца латунные гильзы сыплются в море — будто гора золотых червонцев, которыми давно оплачена чья-то жизнь.
Когда вертолет пронесся сверху. Маэстро успел выпустить в его металлическое брюхо всю обойму. Вертолет дернулся; пилот произвел разворот и бросил машину в атаку сразу, со стороны берега. Он надвигался стремительно, низко над землей, желая срезать острыми жалами очередей человека в черном.
Маэстро ухмыльнулся, ощерившись, прошептал одними губами:
— Все счеты.
Быстро поднял пистолет и направил ствол в ведомую ему точку.
Будто черная тень пронеслась над лежащими Олегом и Алей, и через несколько секунд девушка услышала неровный скрежет, взрыв — и все разом стихло. Кое-как она выбралась из-под отяжелевшего от ранения Гончарова, на четвереньках подползла к близкому обрыву и глянула вниз.
Вертолет, разваленный на куски, догорал на галечном пляже. Там же, у самой кромки воды, лежал Маэстро. В своем черном плаще, похожем на концертный фрак, с высоты он казался штрихом, оставленным кистью китайского мастера на шелке… И штрих этот расплывался, и накатная волна прибоя доставала до него…
…Автомобиль чувствительно тряхнуло, Аля неловко повернулась и охнула: боль оказалась внезапно острой. Водитель услышал ее стон. Машина замедлила ход, пошла тише и вскоре застыла в тени нависших над дорогой акаций. Аля замерла.
Открыть глаза и посмотреть, где она и кто ее захватил, было страшно. Хлопнула водительская дверь, девушка сжалась в комочек, готовая мгновенно разогнуться и врезать пяткой в самое уязвимое место этому одинокому волку, решившему, что она совершенно беспомощна, даже не потрудившемуся ее связать. Она приготовилась. ощущая, как бешено колотится сердце.
— Открывай глаза, девочка, от жизни не зажмуришься. Аля почувствовала, как изморозь мгновенной волной прошла по спине, вскинулась, села, глядя во все глаза на наклонившегося к ней мужчину, произнесла одними губами:
— Маэстро…
— Он самый.
— Ты… вы живы?
— Призрак. Во плоти. — Маэстро невесело усмехнулся. — Лукавый играет с человеком, как кошка с мышкой. Признаться… мне эта игра не доставляет уже никакого удовольствия.
— Как вы… — Давай уже на «ты», девочка. Глупо и неестественно я такой ситуации выкать.
Аля кивнула, глядя в одну точку, и весь ее разом поглупевший и чуть виноватый вид говорил о том, что она не очень-то верит в происходящее. Вернее, не верит совсем. И ждет только часа, чтобы проснуться.
— Ты мне приснился.
— Вот как?
Аля нашла пачку с сигаретами, чиркнула кремнем зажигалки, затянулась, вдохнув в легкие горько-щемящий дым. Тряхнула головой. Нет, это уже не сон. Явь.
— Ну надо же… — тихо произнесла она. Помолчала, снова тряхнула головой, чуть поморщилась от боли в шее… Явь. Пустая дорога. Утро начинающегося жаркого дня. Джип, Мужчина. Самый опасный из тех, кого она когда-либо знала. И самый безжалостный. И… и самый одинокий. Ну да, бесконечно одиноким был и Гончаров, когда они только встретились… Такой же одинокий, как и она сама… Но… все это было здешнее одиночество, живое. В нем была и горечь. и боль, и отчаяние, но не было безнадеги.
А Маэстро… Его одиночество еще тогда показалось Але безмерным, бездонным, ледяным, словно одиночество Кая, так и выросшего в замке Снежной королевы. И сейчас Маэстро выглядел так, будто уже перешел в тот, иной мир, но что-то остановило его на мостках через Лету, чей-то окрик или приказ… И он вернулся. Зачем? Чтобы уйти не одному?
— Ты поседел, Маэстро, — сказала девушка едва слышно.
— С людьми это случается, — улыбнулся он.
— Как ты выжил? Как оказался здесь? Как…
— Погоди. У тебя что-нибудь болит?
— Нет. Только шея. Немного. Я ударилась? Была авария?
— Ты удивишься, но у тебя случился обычный обморок.
— Обморок?
— Да. Ты выскочила на своем «броневике» мне под колеса на такой скорости, что спасла тебя случайность. Видимо, чтобы не напрягать нервную систему излишне и не усложнять со страхами, ахами и охами, твое мудрое подсознание велело мозгу и телу шлепнуться в отключку, как это бывало у дам прошлого века при известии о беременности… Словно предыдущие миллион лет люди размножались почкованием… Я тебя перенес на заднее сиденье к себе. Вот и вся история.
— Что стало с автомобилем?
— Естественно, твой джип потерял товарный вид. Впрочем, у меня сложилось впечатление, что автомобиль-то как раз чужой.
— А те, что гнались за мной? Ты… убил их?
— А кто за тобой гнался? И почему? Девушка не ответила. Только тряхнула головой, словно пытаясь согнать наваждение…
— Маэстро! Откуда ты взялся?! От-ку-да?!
— Долго рассказывать. Ладно. Перелезай на переднее, поболтаем.
Аля послушно кивнула, вышла из машины, устроилась рядом с усевшимся за руль Маэстро. Мотор заурчал ровно, автомобиль плавно тронулся и заскользил по дороге. набирая скорость, И Аля вдруг поймала себя на том, что абсолютно не воспринимает реальность происходящего: все слишком буднично, чтобы оказаться явью! Но… теплый летний ветерок струился в приоткрытое окно, шевелил волосы, ласкал правую щеку; ароматы выгоревших степных трав, недальнего моря, полынной пыли… Уж они-то были абсолютно реальны!
— Сигарету? — нарушил, наконец, молчание Маэстро, и эта простая фраза вернула Алю на землю. Все абсолютно реально и очень скверно!
— Что-то не хочется.
Маэстро прикурил от автомобильной зажигалки, не разжимая губ, выпустил струю дыма… Аля скосила на него глаза: ну да, он, Маэстро, во плоти, только совсем седой, похудевший, и этот шрам… И кажется, следы безобразных ожогов.
Девушка почувствовала, что волнуется отчего-то… Сама вытянула сигарету из пачки, прикурила, затянулась несколько раз глубоко… Голова закружилась, и девушка выдохнула вместе с дымом:
— Влад… Как ты выжил?
Маэстро усмехнулся, и Аля заметила, что его усмешка тоже стала другой, неуловимо изменилась, как и он сам.
— Бог знает. Не помню. Я лишь прошлой ночью узнал, какое сегодня число, месяц и год.
— Как это? — искренне удивилась Аля.
— Амнезия.
— Что?
— Потеря памяти. Равно как и ориентации во времени и пространстве.
Следствие контузии.
— Контузии… И где же ты все это время обретался?
— В каком-то ресторанчике под Южногорском. На хозработах.
— Так, значит, ты не насовсем «с крышей расставался»? Маэстро усмехнулся невесело:
— Функционировал, как робот без программы.
— А вчера ночью — что? Программа включилась?
— Да. В той ночи было слишком много смерти. Лицо Маэстро посуровело, вернее, сделалось безличным и отрешенным, словно этот человек действительно вернулся в мир с того берега Леты.
— Влад… А ты помнишь то, что случилось тогда? Там, на берегу? И вертолет? И все, что было до этого?
— Я все отлично помню. Потом — огонь и темнота. Из которой я вынырнул лишь прошлой ночью. — Маэстро помолчал, скривился горько:
— И снова прямо в огонь. — Он опять замолчал, сосредоточенно глядя на дорогу, потом спросил:
— Тот вертолет… Я свалил его?
— Да.
— Вот это славно! — Лицо Маэстро преобразилось вдруг искренней мальчишеской улыбкой. Но он помрачнел так же скоро и неожиданно, словно в осенний, полный неверного солнца день туча закрыла небо и сделала темным все в одно мгновение.
— Гончаров жив? — осторожно спросил Маэстро.
— Жив.
Маэстро вздохнуло видимым облегчением.
— Я был занят вертолетом. Но заметил: пуля его не миновала.
— Олегу повезло. Она прошла вскользь и навылет.
— Он здоров?
— Вполне. Сначала рука плетью висела, потом разработалась.
— Вы вместе?
Аля чуть помедлила, не сразу решив, как ответить, потом произнесла тихо:
— Да.
— Я рад.
Неловкое и непонятное молчание повисло, как марево, как пустынный мираж.
Оно заклубилось в салоне душными всполохами затаенной боли, беспамятства, отчаяния, оно окутывало девушку неподъемной ватной массой, опутывало липкой и тяжкой паутиной недосказанности и недоверия. Может быть, все это ей только почудилось, но…
— Влад… Я хочу, чтобы ты знал… Я хочу… — Аля заговорила быстро, волнуясь, глотая слова; "и вдруг показалось, что она может опоздать, не успеть сказать важное… — Мы не бросили тебя… После того как… после того как вертолет рухнул и прогрохотал взрыв, я подползла к краю обрыва…. Вертолет…
То, что от него осталось, догорало на галечном пляже, внизу, а ты… Ты лежал у самой кромки моря, без движения, словно… словно обугленный… Я думала, ты погиб… Да и… не спуститься мне было с этого обрыва никак! Там же метров семьдесят вниз, а то и все сто! Ты не мог выжить… Но ты выжил. И я… и я рада, что ты выжил. А я… мне… Я вернулась к Олегу… Он был без сознания, он умирал… Я должна, должна была его вытащить? Иначе бы я снова осталась в этом мире совсем одна, ты понимаешь? После того как ты погиб, после всего остаться совсем одной — страшно… Да и вообще — есть что-то страшнее для человека, чем остаться одному?
Девушка мельком взглянула на потемневшее лицо Маэстро, запнулась:
— Извини… Я не хотела.
— Я мужчина. Какие бы обстоятельства ни влияли на мою жизнь, путь я выбирал сам. Наверное, не всегда удачно и совсем не мудро, но… Я сам несу ответственность за свой выбор и… — Маэстро помедлил, но так и не решился договорить фразу.
— А я… я должна была уничтожить закладку Барса. — Девушка назвала отца псевдонимом, странно, но это получилось у нее естественно: Олег Гончаров почти всегда называл его именно так. — Я должна была уничтожить эту отраву, иначе было бы нечестно и перед ним, и перед тобой… Да и порошка там было столько, что хватило бы посадить на иглу целый город, И я сделала это. Я нашла шахту и взорвала ее. Потом вернулась, кое-как погрузила Гончарова в машину, и мы уехали… Я посмотрела с обрыва вниз: начался прилив, и тебя на берегу не было… Ты понимаешь, я не бросила тебя, просто я не могла…
— Успокойся, девочка. Ты все сделала правильно. Никто не смог бы сделать лучше, ни Гончий, ни я, ни Барс. Никто не смог бы лучше. — Маэстро замолчал, сосредоточенно глядя на дорогу. — Ну а теперь… ответь мне на вопрос: почему вы живы?
— Кто? — одними губами спросила девушка, снова почувствовав, как мороз; ледяной волной прошел по коже.
— Ты и Гончий.
— Олег… Он тоже первое время опасался. Потом решил: мы никому не опасны и никому не нужны.
Маэстро молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Так прошло несколько минут, пока он, наконец, не разлепил плотно сведенные губы:
— Не понимаю. Лиру почему-то было выгодно уничтожение нескольких центнеров героина; но зачем он оставил в живых вас?
— Гончаров как-то сказал: «Система такова, что ни с того ни с сего никого не списывает».
— Это так. Но я спросил не почему вас оставили в живых, а зачем. Да и… вряд ли Лир теперь является частью системы.
— Мне кажется, на волка-одиночку он тем более не похож, — хмыкнула девушка.
— Ты права. А что Гончий? Он не задавался этими вопросами?
— Может, и задавался, но со мной не обсуждал. Наверное, берег.
— И Лир берег. Для чего-то… — Маэстро смотрел невидящим взглядом на дорогу, потом свернул на грунтовку.
— Мы далеко? — спросила Аля.
— К морю; сядем на бережок, свесим нижние клешни, и ты мне поведаешь не торопясь, что с тобой приключилось.
— Погоди, Влад. Лучше уехать подальше, и тогда…
— Нет, это ты погоди. Если сей мешок соткал все-таки Лир, то выбраться из него можно только разглядев всю картинку.
— А вдруг окажется, что наше положение безвыходно? — Безвыходных положений не бывает. Ибо выход всегда там же, где и вход.
Глава 32
Через четверть часа они уже сидели на прибрежном обрыве. Вокруг было абсолютно пустынно. Маэстро свернул на целину, джип какое-то время мчался в облаке мутной жаркой пыли и теперь стоял в десятке метров, горячий, как запаленный скакун. Сухое, выжженное солнцем пространство вокруг просматривалось на километры. Море внизу тихо и безучастно переливалось под выцветшим от жары небом и где-то в дальней дали превращалось в четкую и рельефную темно-синюю линию далекого горизонта. Там, на рейде, застыл длинный сухогруз. Сейчас он дождется своего часа, выйдет за акваторию невидимого отсюда порта и несколько месяцев будет зависим только от стихий, но не от людей.
Аля тряхнула головой, прикрыла лицо ладонями, стараясь настроиться на разговор, но произнесла помимо воли:
— Маэстро… почему люди не хотят просто быть счастливыми?
— Они хотят. Но не знают как.
— Ты тоже не знаешь?
— Тоже.
— Мне кажется, люди просто боятся понять, что такое счастье, чтобы не потерять его. Ведь жалеть об утерянном куда как горше, чем о том, чего никогда не было.
Девушка бросила скорый взгляд на Маэстро; тот продолжал сидеть, сосредоточенно вглядываясь в далекую синеву. У него был вид смертельно уставшего человека, и Аля устыдилась: как ни странно, с появлением Маэстро она почувствовала и холодную, как осенняя рябь на воде, тревогу, но больше — успокоение. Теперь появился мужчина, незаурядный мужчина, готовый взять на себя ее проблемы, и она позволила себе расслабиться совершенно. Стоит ли забивать ему голову всякой ерундой, ведь ему, наверное, совсем не сладко сейчас — вынырнуть из спасительного беспамятства снова в войну? Выругала себя за глупость и бесчувственность, произнесла тихо:
— Извини.
Маэстро только пожал плечами. Аля же собрала все свое мужество, чтобы вновь пережить происшедшее за последние сутки… Закурила, закашлялась, смахнула навернувшиеся от неловкой затяжки слезы и начала рассказывать. Маэстро слушал внимательно, не перебивая. Только несколько раз бросал на девушку быстрый взгляд, словно видел ее впервые.
— Это все? — спросил он, когда Аля закончила.
— Да.
Маэстро вырвал сухую травинку, пожевал, спросил:
— Кто, по-твоему, убил Ландерса? Аля наморщила лоб:
— Это покажется странным, но… Сначала я была уверена, что Ирка Бетлицкая. Но теперь…
— Ну?
— Может быть, и ее подставили, как меня?
— Подожди, ты же говорила, что выстрел был со сцены.
— Мне так показалось, но… с таким же успехом стрелять могли и из-за кулис, и из зрительного зала — «язык», ну, подиум, как раз делил зал надвое.
— Аля, пожалуйста, подумай.
— А что тут думать? Кто поручит такую акцию, как убийство авторитета и депутата, шестнадцатилетней пацанке? Это же глупо!
— Это парадоксально, а потому не глупо.
— А если она в последний момент не смогла бы выстрелить? И спалила бы всю операцию, равно как и заказчиков? Может быть, кто-то прикрылся ею, как и мной, и выстрелил наверняка?
— Может быть, и так.
Маэстро сидел вялый, разморенный зноем и вдруг — быстро повернулся к Але, обхватил ладонями ее лицо, проговорил резко, напористо, глядя в глаза:
— А теперь быстро: кто убил Ландерса?! Ну!
— Ирка Бетлицкая.
— Вот так! — Маэстро убрал руки, вынул пачку сигарет, закурил. — Девочкам думать вредно. Чутье, интуиция — это вернее. Как только девочка начинает строить логические конструкции на костылях эмоций — и Ирку эту Бетлицкую жалко, и себя жалко, — то получается лаковая сериальная картинка, ничего общего с действительностью не имеющая. Это опасно.
Последнее слово Маэстро произнес так, что… Волна ледяной изморози окатила спину и плечи девушки, и здесь не было ничего от обычного страха. Просто порой Маэстро казался ей даже не человеком… Вернее… человеком, но функционирующим с полностью атрофированными участками мозга, отвечающими за страх или боль… Она все пыталась подобрать слово, пока оно само не всплыло в памяти; слово было угловатым, тяжким — чуть-чуть, и оно провалится в самые темные глубины подсознания — одержимость.
Аля незаметно глянула на Маэстро. Он был спокоен и безучастен, как блеклое, напитанное зноем небо. Сидел, погруженный в раздумья, потом спросил:
— Ты говорила, что простудилась?
— Да. Вернее, это не простуда даже была, а какое-то странное недомогание.
С кошмарами, реальными, как галлюцинации.
— А потом все прошло?
— Бесследно. Даже как-то странно. Сначала — ходила как опоенная, словно в душном сонном мороке, потом… Перед самым показом настроение сделалось — лети и пой! Ты принимала какие-нибудь таблетки? Нет. Только кофе. Хотя… Да?
Кофе мне как раз Ирка Бетлицкая и предложила. Я даже порадовалась; стерва-то она стерва, а все что-то человеческое в ней осталось.
— И после кофе… — начал Маэстро.
— После кофе я стала порхать, как колибри в стратосфере! Ты думаешь, она что-то подсыпала туда? И раньше — тоже?
— А ты как думаешь?
— Теперь даже не знаю. Не знаю. А зачем?
— Подставить тебя под убийство Ландерса было не спонтанной выдумкой киллера-малолетки, а трезвой предварительной разработкой.
— Ты думаешь?
— Убийство Ландерса — не единственная акция в ту ночь. Близ поселка Приморского под Южногорском убили еще одного человека. И он был не статист, судя по количеству охраны и подготовке группы, высланной для его устранения.
— Маэстро, ты…
— Да, Я утихомирил их. Но вовсе не по живодерскому комплексу: так ситуация сложилась. И — вывела меня из состояния амнезийного ступора. Клин клином… Я не о том. Там тоже была совсем субтильная девчушка, даже две. Но одна — просто «девочка для радости», а вот вторая… На оружие она смотрела не как на железо, а как на средство.
— Подожди, Влад! Может быть, тебя тоже подставили? Маэстро задумался, но лишь на мгновение.
— Нет. Таких, как я, не подставляют: слишком хлопотно. Таких убивают.
Чтобы проблем не возникало.
— Так, может, и со мной все случайно?
— Девочка, ты себя хочешь утешить или меня убедить? — усмехнулся Маэстро.
— Даже не знаю…
— Почему ты не смогла связаться с Гончим?
— Я же рассказывала: что-то с телефоном.
— Вот и считай количество допусков: что-то с телефоном, что-то со здоровьем, что-то с самочувствием и настроением, сонным до одури целые сутки и ставшим кайфным и решительным непосредственно перед акцией… Что-то с пистолетом, из которого стреляли в Ландерса и который оказался впоследствии в твоей сумке, что-то с Ирой Бетлицкой, испарившейся после акции быстрее лани шизокрылой… Не слишком ли много?
Аля застыла, глядя в одну точку.
— Но почему — меня? По-че-му?
— Бегаешь быстро. И стреляешь не слабо.
— В этом все дело?
— Да. Ты должна была увести на себя обширную погоню, какую организовали люди Ландерса и криминальная шушера под их началом. После стрельбы в гостинице и разборки с авторитетами в поселке ни у кого уже и сомнений не осталось, что ты и есть искомый киллер, супостат и злодей. Вернее — злодейка.
Аля усмехнулась горько:
— Что-то это не радует.
— Но и не пугает?
Девушка только пожала плечами:
— Чего бояться раньше страха, верно?
— Ну да, ну да… Как вещает здешняя народная мудрость: будет хлеб, будет и сало. — Маэстро помолчал, глядя в морскую синеву. — О твоих незаурядных способностях из оставшихся в живых знали только три человека: Гончий, я и Лир.
Ему как раз по силам скроить такую схему, как одновременное устранение двух авторитетов.
— Зачем это ему?
— Дьявол разберет. Для таких, как он, больше мути — больше рыбы. Одного он не учел.
— Чего?
— Случай. Меня. Я поломал или осложнил первую операцию, и теперь…
— Влад, а может быть, ты все усложняешь? И нет здесь и близко никакого Лира? Я помню, ты хотел разыскать его, чтобы отомстить за ту, давнюю гибель твоих друзей…
— Моих бойцов.
— Ну, бойцов… Просто… может быть, это у тебя…
— Навязчивая идея?
— Ну, вроде того. — Аля помялась, но произнесла-таки то слово:
— Одержимость. И ты все усложяешь. А на самом деле — все просто как день: ты случайно попал в разборку, меня случайно подставили в Южногорске…
— Аля, ты изучала диалектический материализм?
— Нет.
— Жаль. Согласно сей марксистской лженауке, цепь случайностей есть не что иное, как закономерность. А в таком деле, как прицельная стрельба по авторитетам из всех видов оружия, случайности ни с того ни с сего не возникают.
Аля промолчала, понимая, что переубедить этого человека ей не удастся, да и… да и вполне возможно, он действительно прав. Потом произнесла едва слышно:
— И теперь… теперь ты кинешься искать Лира?
Маэстро рассеянно смотрел на море, и лицо его было безмятежно-спокойным.
— Нет. Он сам нас найдет.
Четыре часа езды по жаре измотали Алю Егорову совершенно. За это время они дважды останавливались, покупая воду, сигареты и шоколад. Маэстро был молчалив и сосредоточен. Вел он машину по едва приметным дорожкам, а то и прямо по целине; он сразу объяснил Але, что встреча с вооруженными представителями власти, которые вполне могли работать на людей Ландерса и Батенкова, не сулит им ничего доброго: Маэстро был хорошо вооружен и навыков в обращении со стреляющим железом не утерял, но «огневой контакт» с властями может создать такое количество дополнительных проблем… Да и удача не всегда на стороне смелых. На нее можно надеяться, а вот рассчитывать… Везет в этой жизни не всем, не всегда и не во всем.
— Маэстро, — несмело произнесла, выслушав его, Аля. — А может, мы просто сядем в поезд на какой-нибудь маленькой станции и покатим до самых столиц? В Княжинск или в Москву?
— Ты так и сделаешь, девочка. И скроешься, заляжешь на самое донышко так, чтобы тебя не нашел никто.
— И никогда?
— В смысле?
— Ну, спрячусь, и сколько мне так сидеть «старушкой-пенсионеркой»?
— Пока все не успокоится.
— Влад, а как я узнаю, что все успокоилось? Маэстро не ответил.
— И почему тогда ты не сделаешь так же? Будешь ловить Лира на блесну под названием «Блестящий Маэстро»? — Девушка помолчала несколько секунд, решительно свела губы:
— Я поеду с тобой.
— И получишь пулю.
— До сих пор не получила.
— Пуля — дура. Ее может получить кто угодно и когда угодно. И это не зависит от уровня профессионализма.
— Да? А от чего зависит?
Глаза Маэстро затуманились, но лишь на мгновение; потом он бросил коротко и безразлично, но у Али не осталось сомнения, что он лукавит:
— Случай.
— Случай?
— Да.
— «Ни с того ни с сего кирпич на голову не падает». Да и… любая случайность есть лишь часть закономерности. Не твои слова? Ты даже науку как-то хитро обозвал… Диалектический материализм.
Маэстро пожал плечами:
— А я идеалист.
— Влад, я думаю…
— Девочка, думать ты можешь все, что угодно, а вот решать буду я.
— Почему?
— Когда пули станут ложиться совсем густо, я, вместо того чтобы воевать, стану думать, как уберечь тебя.
— По-моему, я доказала, что не беспомощна.
— До поры. Все до поры.
— Влад, но почему…
— Ты не воин. Твое дело — любить.
— Мне… мне кто-то это уже говорил… — Пусть на мгновение, но взгляд девушки стал близоруко-беспомощным. — Мне это говорил Олег.
— Гончий прав. Поэтому ты сядешь в поезд и уедешь. С твоими проблемами я разберусь сам.
— Это дискриминация.
— Это жизнь. Мужчины должны охранять ее, женщины — продолжать.
— Да? И кто это решил?
— Бог.
Маэстро замолчал. Просто гнал и гнал автомобиль. Единственным собеседником Али стало радио. А оно развлекало девушку сначала жалобным воем про геройских снегирей, потом — пессимистическим ревом недодолбаной стервы, стонущей на грани истерики: «Нелюбовь… Нелюбовь… Нелюбовь…»
Самыми мелодичными и жизнелюбивыми из раскручиваемых музыкальных опусов и казусов были старенький:
«Утекай, в подворотне нас ждет маньяк!» — и новенький:
«Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, убили негра!» Ритмы сливались, били по мозгам, и отупение, вызванное усталостью и жарой, становилось навязчивым, долбило жутковатой какофонией звуков и слов… Порой, как глоток среди зноя, попадались и гармоничные мелодии, но стоило Але вслушаться, как она узнавала в «отечественном» шлягере «Там за туманами, дальними странами…» щемящую мелодию итальянца Нино Рото из «Крестного отца». Впрочем, то, что почти все расейские «стары» и «старлетки» без ущерба для совести и с прибылью для кармана брали чужое, Алю волновало мало: это в проклятом капиталистическом окружении использование не своей интеллектуальной собственности трактуется как банальная кража. Для наших же безголосых, безволосых и беззубых «старов» присвоение чужих мелодий можно считать и «гуманитарной помощью».
Ну вот, снова этот уродский рефрен! Дебилизацию подрастающего поколения поставили на поток. Все это и есть не что иное, как зомбирование: подростки и сочувствующие уже реагируют не на слова, не на мелодию, а на тысячи раз повторенную фразу; начинают дергаться в такт, входят в транс… «Давай вечером умрем весело — будем опиум курить… Давай вечером умрем весело…»
Аля резко крутанула ручку настройки… Вступительные аккорды песни уже отзвучали, мелодия заполнила пространство:
По острым иглам яркого огня Бегу, бегу — дорогам нет конца!
Огромный мир замкнулся для меня В арены круг и маску без лица.
Я шут, я арлекин, я просто смех.
Без имени и, в общем, без судьбы…
Девушка даже не слушала, просто… душа ее сделалась легкой, мир поплыл перед глазами, Аля подумала, что это — от разогретой солнцем земли, потом почувствовала солоноватый привкус на губах и только тогда поняла, что плачет.
Глава 33
Маэстро припарковал автомобиль к обочине, обнял девушку за плечи; Аля уткнулась ему в грудь и расплакалась уже совсем. Она плакала горько, как ребенок, который долго ждал родителей, не желая засыпать, да так и не дождался.
И комната его казалась ему темной, и бабушка не утешала: весь мир ополчился против, и только теплые руки мамы или отца могли успокоить… Но их не было…
Ни отца, ни мамы… Давно не было, очень давно. Але подумалось вдруг странное: ведь есть же, наверное, люди совсем взрослые и пожилые даже, у которых родители еще живы… А это значит, что жив еще кто-то, кто будет любить и жалеть тебя всегда, только потому что ты есть. И тебе есть где почувствовать себя маленьким и беззащитным, и есть где выплакаться, и посетовать на обидчиков, и есть где почувствовать себя дома… Сиротство горько тем, что некуда человеку спрятаться, чтобы пожалели… Ни у нее, ни у Маэстро этого счастья не было.
— Я устала, — произнесла Аля тихо.
— Потерпи. Еще час — и мы будем на месте.
— Ты не понял. Я устала бегать. Мне что, это на роду написано? Живут же люди по-другому… Маэстро бросил на нее быстрый взгляд:
— Ты просто утомлена. Отдохнешь, и все пойдет, как надо.
— А как — надо? Что, кто-то дает мне возможность выбирать? Не успеешь оклематься, как за тобой снова несутся гончие псы…
— «Родился я в созвездье Гончих Псов, с дыханием легавых на загривке…» — негромко напел Маэстро. Аля его даже не услышала.
— Я что им, кукла подопытная? Манекен? Да и куда мне бежать? Посмотришь вокруг — все мечутся, но не так. Или… или вся страна наша — полигон? Сколько нужно гнать людей, чтобы они потеряли терпение и веру? — Аля всхлипнула, утерла кулачком слезы. — Маэстро, меня загнали, за-гна-ли! Мне уже нищая маета кажется счастьем, чего горше?! Я устала.
Маэстро гладил Алю по голове, успокаивая, она еще всхлипывала, переживая несбывшееся детство и кажущееся ей абсолютным одиночество, но слезинки иссякали, девушка вздохнула в последний раз, улыбнулась, и улыбка эта показалась мужчине солнышком, проглянувшим сквозь казавшиеся такими грозными тучи.
— Прости меня, Влад… Наверное, я просто испуганная истеричная девка, и больше ничего. Сама измучилась, тебя мучаю… Ты прав: мне бы спрятаться где-то в полутемном вагоне, чтобы проплывали за окном поля, чтобы колеса стучали, и я знала, что еду домой… домой. Прости.
— Это ты извини. Я переборщил. Нужно где-то отдохнуть. Хорош: решил, чем скорее ты будешь в безопасности, тем быстрее у меня появится возможность действовать.. Даже кони на бегу запаливаются… Ничего. В километре отсюда пансионат; там наверняка есть какой-то мотель. Отдохнем несколько часов. Потом поедем. Договорились?
Аля только кивнула. Маэстро повернул ключ зажигания, заурчал стартер. Джип отчалил от обочины, но дальше…
Кавалькада из трех машин накатила сверху, со взгорка… Маэстро притормозил было, пропуская… Хлипкий «москвичонок», тащившийся допреж в жарком мареве, аки хромой мустанг-пенсионер, ровесник Фенимора Купера, вдруг резво прыгнул вправо, перегородив дорогу. Маэстро ударил по тормозам, с трудом удержав тяжелую машину от падения в трехметровый кювет. Джип замер, а из «москвичика» тем временем уже выдернулись оба-двое, «братья из ларца», и наставили стволы вороненых пистолей в лобовое стекло джипа. На громадной скорости к месту «повязки и задержания» поспешал вынырнувший из-за взгорка видавший виды «лендровер», следом — эатонированная до полной оголтелости невнятного цвета «девятка».
Маэстро кинул беглый взгляд в зеркальце, прокачивая ситуацию. Ребятишки, мельтешащие перед капотом с китайскими «тэтэшками» наперевес, — мелкие бычата, говядина, убойное мясо. Стволы в руках ходуном ходят от азарта и крутости содеянного. Опасны: при малейшей несвязухе начнут писать кипятком и палить со страху во все, что движется. Ставить их передовыми было глупо и непрофессионально, просто никто из крутых и умных не возжелал стать пионером-героем и подставить грудь под капот и пулю. Разумно. Так что «по уму» ребятишки все просчитали верно: под стволами у дураков любой умник почувствует себя скверно и дергаться не станет.
Дальше. В «лендровере» — «вязалы» — рукопашники. Возможно, из бывших служивых, возможно — просто спортсмены… Как пелось в незабвенной песне давних уже времен? «Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены…» Куда они ушли за время перестройки, ускорения и реформ — теперь понятно. Но не на тренерскую работу.
Сейчас с лихостью перекроют левый борт, выдернут и будут строить, как зебра черепаху: по ранжиру и без понятий.
В «девятке» — группа прикрытия, «чистильщики», там же и командарм акции.
Машина скоростная, шустрая и малоприметная… В случае какой несвязухи — полоснут из «акаэмов», срезая правых, виноватых и сочувствующих, а там — ноги в руки, пыль столбом! Диспозиция разработана загодя. Обычная и, надо признать, действенная схема захвата конкурирующих «быков», «слонов» и прочих копытообразных козлоногих. Вывод: ребятки не служивые и не конторские.
Все эти расклады мелькнули в мозгу Маэстро в долю секунды. Двое выскочивших из «москвичонка» качков-бычков уже успели и клешни нижние расставить по-киношному, один даже прокричал срывающимся петушиным дискантом:
— Из машины! Руки на капот!
Крутой Уокер! Сериалов насмотрелся, чудило!
— Вылезай! — повелительно кивнул Маэстро Аяе. Девушка глянула сначала недоуменно, чуть испуганно, потом понятливо кивнула, открыла дверь справа, выпрыгнула из салона на землю.
Маэстро выстрелил через лобовое стекло, с двух рук одновременно; незадачливые боевики осели в пыль, получив по пуле. Маэстро крутнулся на сиденье, выпал через приоткрытую водительскую дверь… Пистолеты в его руках продолжали изрыгать огонь. Три отверстия в лобовом накатившего «лендровера» покрыли стекло мелкой сеточкой. Уже гася скорость, машина по инерции проскочила мимо, чуть задела джип и тараном врезалась в «москвичек». Теперь оба автомобиля тяжко сползли в неглубокий кювет и завалились набок. Водитель «девятки» успел вильнуть влево, к другому краю дороги, тонированные стекла поползли вниз, открывая автоматные стволы, и тут же покрылись рябью пулевых пробоин. Маэстро был точен: стволы беспомощно ткнулись в небо, перепуганный до полной невменяемости водила врезал по газам так, что «девятка» козой прыгнула вперед и помчалась по шоссе. Маэстро продолжал вести огонь, хлестая машину излетными пулями, пока она не замерла на взгорке знойным миражом и не исчезла из виду.
Маэстро заменил обоймы, осторожно подошел к краю дороги и, уловив в заваленном набок «лендровере» какое-то движение, мигом послал в незащищенные борта полдюжины пуль. Затихло. Приблизился к полуперевернутому «москвичонку».
Водитель успел выползти из салона и теперь лежал, глядя на Маэстро белыми от страха глазами. Он был белобрыс, большой лягушачий рот на обожженном солнцем красном веснушчатом лице изломала смертельная судорога… Как такого мальчика-с-пальчик угораздило попасть в бандиты? Загадка времени.
— Кто? — коротко спросил Маэстро, но произнес он это таким тоном, что парень понял: не отвечать нельзя.
— Из Красногвардейска мы.
— Чьи?
— Под Батей были.
— Кто старший?
— Череп.
— Он был в «девятке»?
— Да.
— Чего вы хотели?
— Череп… Он приказал повязать и потолковать вдумчиво.
— А потом — в расход?
Парень только моргнул непонятливо перепуганными водянистыми глазками: дескать, наше дело шоферское, прокукарекать — а там хоть не рассветай!
— Девчонку ловили, как убийцу Ландерса?
— А я знаю?
— Как на нас вышли?
— Случаем. По наводке.
— Как на нас вышли?! — повторил Маэстро, и на этот раз тон его был ледяной, — Да все вас ищут. Все. В Новоспасской продавщицу спросили — она вас опознала.
— Ищут меня или девушку?
— Не знаю, я же говорю, я просто шофер!
— Так и шел бы автобусы водить, рейсовые, шофер! Сейчас — «просто шофер», завтра — «просто киллер», как выражаются в киношках, «ничего личного», а?
На глазах у белобрысого заблестели слезы, губы заплясали, он пытался остановить дрожь, но не мог.
— «Не дразните собак, не пугайте кошек…» — напел, ощерясь, Маэстро. — В детстве такую песенку слышал?
— Я… — Блеклые голубиные глазки парня сделались мышиного цвета, как мутная вода в лесной лужице. — Вы ведь не убьете меня?
— Лишь бы ты сам себя не убил. — Маэстро повернулся к нему спиной и начал подниматься по взгорку.
Первое мгновение белобрысый как зачарованный смотрел на удаляющуюся спину Маэстро, потом быстро пошарил за спиной, выхватил из-за пояса пистолет, поднял… Кое-как прицелился, спина Маэстро маячила прямо перед ним, оставалось только нажать спуск. Пистолет в его руках ходил ходуном, ну да пуля — дура.
— Влад! Сзади! — крикнула Аля что было сил. Маэстро, не оборачиваясь, дернул рукой. Одинокий выстрел треснул сухо и гулко, лупоглазый ткнулся навзничь и замер. Маэстро даже не посмотрел в его сторону. Поднялся к дороге. Аля сидела на обочине, прислонившись к машине и закрыв лицо руками. Мужчина осторожно тронул ее за плечо, произнес тихо, устало и почти равнодушно:
— Пора ехать.
Аля подняла взгляд, долго смотрела на Маэстро полубезумным взглядом, словно не узнавая. Разлепила спекшиеся губы — взгляд еще продолжал блуждать где-то далеко, — произнесла:
— Мы что, опять будем сеять смерть?
Маэстро скривился, будто при нем, музыканте-виртуозе с идеальным слухом, кто-то взял нестерпимо фальшивый аккорд.
— Такие звучные сказуемые — «сеять смерть» — хороши для сцены. Да и то не для всякой.
— Да плевать на сказуемые? — Алю колотил нешуточный нервный озноб. — Нам что, снова придется убивать?
Маэстро только пожал плечами. Подошел к машине, взял с сиденья тяжелую сумку с оружием, заглянул.
— Ответь мне! — сдавленно крикнула девушка.
— Сеять смерть… — Лицо Маэстро брезгливо скривилось, он произнес, усилием воли справившись с возможной судорогой:
— Ее посеяли до нас. Сейчас — всего лишь жатва.
Аля тряхнула головой: не хватало еще, чтобы… Или — сумасшествие заразно?..
Маэстро продолжал стоять неподвижно, полуприкрыв веки, кусая губы. Только тут Аля поняла: это приступ, и мужчина не хочет показать слабости… Девушка привстала, взяла его за предплечье:
— Влад…
Верхняя губа Маэстро дернулась вверх, оскалив зубы.
— Ничего, девочка… Они устроили загонную охоту, как на дичь… Или — на волков… Барсов им не поймать.
— Влад, тебе плохо?
Судорога снова исказила лицо Маэстро, волной прошла по телу. Наконец, он открыл глаза, какое-то время невидяще смотрел перед собой. Словно неведомая пелена спадала с его глаз, он рассмотрел и заваленные набок машины, и убитых…
Разлепил спекшиеся губы, произнес нараспев:
— «Уберите трупы. Средь поля битвы мыслимы они, а здесь не к месту, как следы резни…»
— Влад, тебе плохо?
— Уже нет. — Он поднял левую руку с зажатым в ней пистолетом, выстрелил дважды по «лендроверу», пробив бензобак. Бензин тонкой ниткой заструился в иссохшую землю. Маэстро прикурил, бросил еще горящую спичку в желтую солому выжженной травы. Огонек, погоняемый даже не ветром, томным шевелением зноя, медленно и осторожно, перебираясь с травинки на травинку и грозя ежесекундно угаснуть, пошел к ширящейся бензиновой лужице.
— В машину, — скомандовал Маэстро Але. Девушка запрыгнула на сиденье, джип рыкнул стартером и сорвался с места.
— Влад… А все же… нам теперь придется убивать снова и снова?
— На войне как на войне.
— Влад, но послушай… Если…
— Нет, девочка. Никаких «если». Мир играет с нами по своим правилам, он стоит на них, как на Геркулесовых столбах. И даже если они тебе не нравятся, выполнять их необходимо. Иначе мир раздавит тебя. И не оставит тебе будущего.
Ледяная волна который раз изморозью прошла по спине девушки, она глянула на Маэстро: глаза мужчины словно заволокла туманная дымка, они сделались такими же блеклыми и пустыми, как выцветшее от зноя в этот час небо… Марево вокруг было колеблющимся и жарким, и Аля в который уже раз подумала, что все, случившееся с ними, все в этой странной жизни вообще — всего лишь мираж, нелепое колыхание зноя… И — косые закатные лучи лягут на выжженную солнцем желтую равнину, где не будет ни людей, ни машин, ни городов… Так, словно приснилось что-то зряшное, именовавшее себя лукаво и пышно — цивилизация; приснилось и пропало, оставив зарастающие ползучим плющом холмы, бывшие некогда домами, перегнивающие, покрытые оранжево-желтой окалиной остовы кранов и механизмов, рассыпающиеся от прикосновения могучих лап грифа-стервятника… И еще — сами грифы, мерно и голодно парящие в высоте этого блеклого, выцветшего от зноя неба.
Взрыв на мгновение упруго сжал воздух, окрасив все ярко-желтым, и снова жухлое марево повисло над миром, искажая и перспективу, и сущее, и люди мчались сквозь него, как сквозь мутное вязкое стекло, уже не помня прошлого и не представляя будущее.
Глава 34
Зуммер сотового телефона пиликал раздражающе долго, пока Глостер не подключил фильтр и не поднес аппарат к уху.
— Ричард вызывает Глостера, прием, — услышал он, — Глостер слушает Ричарда.
— Они объявились.
— Кто — они?
— Маэстро и девчонка.
— Кукла?
— Да, Кукла.
— Это факт?
— Это предположение, но мотивированное.
— Да? И когда же ваше предположение сделается фактом?
— Как только поступят дополнительные данные.
— Скажем, в течение часа? Получаса? Полутора? — В голосе Глостера слышалось явное раздражение.
— Раньше.
— Раньше чем что?
— Минут через десять мы будем знать точно.
— Так. Ричард, вы на вашем курорте научились расслабляться, а?
— Наверное. Работа обязывает.
— Ну а теперь будьте любезны собраться и отвечать на вопросы коротко, быстро и точно. Вы поняли меня?
— Да.
— Ричард?
— Виноват. Так точно. Я вас понял, Глостер.
— Ну и чудесно. Итак, Маэстро и Кукла. Они вместе?
— Кажется, да.
— Оч-ч-чень любопытно. Ричард, так «кажется» или «да»?
— Информация проверяется.
— Подробности, — произнес, стараясь быть спокойным, Глостер, но его раздражение прорывалось характерной хрипотцой и к благодушию собеседника не располагало.
— Люди Батенкова, — начал докладывать Ричард, — случаем, по наводке, разыскали один из его джипов. У боевиков была ориентировка и на девчонку…
— Откуда? Было бы логичнее, если бы такая ориентировка была у людей Ландерса.
— Земля слухами полнится, да и успела эта субтильная барышня уже и в наших палестинах малость накуролесить.
— А именно?
— Разоружила одного московского авторитета, так сказать, «среднего звена».
Правда, человечек этот в расслабухе припухал, на отдыхе как-никак, но все равно девчонка его лихо поставила на арапа, да еще вместе с охраной! Такое не забывают.
— Одна?
— Что?
— Она была одна во время этого «построения»?
— По слухам — так.
— Точны ли слухи?
— А то… У нас слухами земля завсегда полнится, особой брехни покамест не было, да и земля невелика, все друг дружку задницами толкаем, так что…
— Не отвлекайтесь, Ричард.
— Виноват. Ну вот: проехал джип, одному из «бычьих пастухов» настучали, как водится, сигнал, значит, поступил; он отреагировал, как положено, крутость свою решил показать, тем более, раз девчонка москалей тех разула и на дороге без колес оставила пыль глотать, вожденок этот местный мог собственный авторитет подтянуть среди братвы, да не только здешней, кабы девчонку ту повязал.
— Но не повязал?
— Нет. Нагнали, попытались задержать. В автомобиле оказались двое: молодая девушка и мужчина средних лет. Произошел кратковременный огневой контакт…
— Подробно! Они что, на джип с кастетами и цепями полезли?
— Нет, конечно, к чему такие анахронизмы?
— Ричард, прекратите ерничать и докладывайте по существу!
— Есть. Люди Батенкова были не новички, но и не профессионалы. Блокировали автомобиль по обычной схеме жесткого наезда; водитель джипа сориентировался исключительно быстро и открыл огонь на уничтожение.
— Успешно?
— Сверх всякой меры. Он вел огонь из крупнокалиберных пистолетов с обеих рук, навскидку. С убойным результатом: восемь трупов, два уничтоженных автомобиля. Сам Череп…
— Череп?
— Ну да, авторитет этот местный. Погоняло у него такое. Прозвище. На самом деле — Черепицын Григорий Яковлевич, тысяча девятьсот семьдесят первого года…
— Это мне не нужно. Дальше, по существу.
— Череп едва ушел, из всей группы в живых остались кроме него только двое: один из боевиков, что был в его «девятке», и водитель. Оба — раненые. И еще — два трупа на заднем сиденье.
— Они были вооружены, ваши налетчики?
— Выше крыши! Кроме пистолетов — три ствола «Калашниковых». Только для таких и крутой ствол, как для гориллы рапира: понту много, хабара — ноль.
— Ричард, вы что, с кичи только слезли? Откинулись?
— Извините?
— Это вы извините! Вы выражаетесь, как не в масть приблатненный баклан! А ведь у вас, если верить «объективке», два высших образования, милейший Ричард, два европейских языка — свободное владение, стажировка в Сорбонне по специальности…
— Тут уж с кем поведешься… Контингенту нужно соответствовать.
— Но ведь не уподобляться?
Ричард помолчал, произнес покаянно, словно провинивщийся отличник, прорабатываемый на школьном комсомольском активе тех еще времен:
— Виноват.
— Вот так лучше, — не стал дальше давить Глостер, но ощущение, что собеседник лукавит, и лукавит с самого начала разговора, только утвердилось.
Глостер знал, что не забудет это, — просто отложил «разбор полетов» до лучших и легких времен. Спросил:
— Что джип?
— Какой джип?
— Объект задержания.
— Целехонек. Боевики Черепа не успели сделать ни единого выстрела.
— Вот как?
— Да.
— Красиво. И эффектно.
— Дьявольски эффектно.
— Они ушли? Этот виртуоз и девка?
— Да.
— Кто-то предпринял поиски?
— Да. И местная милиция, и братва, но..
— Ну?
— Вяло. Никто особенно задниц не рвет, ни служивые ни блатные.
— Никому не охота нарываться на пулю?
— Естественно. Да и… для служивых дело опасное и чинами бесприбыльное, для братков… Им сейчас не за отмороженным солдатом удачи, стреляющим, как система «град» гоняться, им сейчас вакансии делить и авторитет отстаивать!
— Разве наказать киллеров Бати и Ландерса — это не поддержание авторитета?
— Да, если обходится в малую толику денег и не требует ничьих жизней.
Охотно за пулей гоняются только дебилы; среди теперешних братков таких нет.
— Чего так?
— Отстреляны в междуусобье четырехлетней давности. И оба лидера, и Батенков и Ландерс, внимательно следили, чтобы такие пробитые уроды больше не плодились.
— Так что там, среди боевиков, сплошь умники?
— Нет, конечно. Если случай представится, чикнут и Маэстро, и девку без вопросов, к этому они готовы всегда как юные пионеры, но надеяться на случай глупо. Каждый из оставшихся паханков метит пусть на невеликие, но княжие места покойных, а потому бойцов зря на распыл никто не пошлет.
— Так они что, эти мужчинка и девчушка, нагородив штабель трупов, так и катаются туристами? А служба «безпеки», «дефензива», или как она там у вас?
Особисты?
— Особисты, как и везде, пишут бумажки, шлют донесения, выискивают происки, а их генералитет занят предстоящими выборами местного Большого Папы.
Все бросить и выполнять работу милиции до поры до времени никто не поспешит.
Пока команды не будет.
— Дурдом «Ромашка»?
— Нет, там есть спецотдел, который курирует оргпреступность, но их, полагаю, больше волнуют будущие расклады в криминальном сообществе побережья, чем сиюминутная пальба. Да и, возможно, еще отреагировать не успели. После расстрела этим виртуозом людей Черепа прошло чуть больше часа.
— Может, нам оно и на руку?..
— …Глостер?
— Да.
— Что-то со связью?
— Нет. Просто я обдумываю ситуацию. Ричард, вы помните, что такое бинарные жидкости?
— Уже смутно.
— Каждая из них в отдельности безвредна, как кисель и молоко. Но стоит им соединиться — происходит взрыв. Адский взрыв… Так о чем я? Ну да: если эти двое — действительно Маэстро и Кукла, то… И каждого из них в отдельности безвинным ягненком для церемониала никак не назовешь, а вместе… Об этом лучше не думать.
Глава 35
— Вам известно, Ричард, что эта девчонка мастер спорта по стрельбе из пистолета?
— Нет.
— Что до Маэстро, то… Он даже не киллер, назвать убийство его профессией язык не поворачивается, это все равно что скульптора назвать каменотесом, для него ликвидации — , род искусства, театр марионеток, игра воображения… Но мы завалим этого фигляра, Ричард, вы поняли? У Маэстро есть одна слабость, но существенная: он так увлечен процессом, что заигрывается до самозабвения.
— Извините, Глостер, я не вполне…
— Ничего. Будем считать, что каждый из нас говорил сам с собой. Хотя…
Очень многим людям для того, чтобы понять собственную мысль, необходимо высказать ее вслух. Хорошему собеседнику. А хороший собеседник только тот, кто умеет слушать. Куда более редкое качество, чем уметь говорить.
На этот раз пауза длилась больше минуты.
— Сколько у вас людей, Ричард? — спросил, наконец, Глостер.
— Полторы дюжины.
— Не много, но и не мало. Необходимо перекрыть все возможные направления движения Маэстро и девчонки. Если это, конечно, они.
— Мне уже поступили дополнительные донесения. Показания продавщиц, Черепа, других свидетелей с уже имеющимися описаниями Маэстро совпадают.
— Вот как? Ну что ж, никаких неясностей. Тем лучше, а, Ричард? Вопрос: возможно ли перекрыть скрытым активным наблюдением все возможные маршруты движения?
— Да. В нашей склочной коммуналке…
— О чем вы, Ричард?
— Прибрежная полоса — это скорее Тринидат и Тобаго, а не дебри Калимантана.
— Ваша тяга к псевдологии и словесным эквилибрам уже утомляет.
— Виноват. Перекроем. Как только джип объявится.
— Ричард, вы заставляете меня нервничать! Во-первых, они могут сменить машину, во-вторых, выбрать пеший способ передвижения, а также — автобусом, поездом, ишаком, бронетранспортером, чертом лысым — вы поняли меня?! — Впервые с момента разговора в голосе Глостера зазвучали истерично-высокие ноты. — Не слышу!
— Я понял, Глостер!
— Поэтому повторяю вопрос: вы сможете перекрыть достаточно плотно все возможные маршруты движения?
— Перекрыть — нет, а вот расставить своих людей. К тому же если ваш Маэстро обладает хорошей диверсионной подготовкой…
— Ричард, наш Маэстро, вы поняли? Наш.
— Виноват.
— А уровень его диверсионной и любой другой подготовки таков, что… Если одним словом: таких сейчас не производят.
— Я понял, Глостер.
— И постарайтесь это понимание довести до каждого из ваших людей. До каждого. Если не хотите поутру собирать трупы, как опята в сентябре: пачками.
— Есть.
Глостер перевел дух. Что-то постоянно фонило в этом сегодняшнем разговоре, что-то было нарочито искусственным, неестественным, грубым… И то, что Ричард, умница и стратег, держался сейчас, как «два шага от сосны, три прыжка от пашни»… Может быть, Ричард обижен? Не его, а Глостера назначили… Или это снова игры Лира? Старая сволочь, лис поганый, он не может в последние три года ни одной операций провести запросто, ему подавай интригу, и не одну, и не две…
Потому старикашка и живет насыщенной эмоциональной жизнью, любуясь на то, как подчиненные ему людишки над подвластных территориях грызутся насмерть!
Когда не хватает своей крови, жизнь продлевают проливая чужую.
Глостер тряхнул головой: к дьяволу эти мысли, сейчас им совсем не время. И не место. А Лир… Придет и его черед. Только… Глостер почувствовал, как холодная испарина мгновенно, помимо не только воли, но даже не успевшего еще зародиться страха обильно оросила лоб… Главное — не высказывать ничего вслух.
Никому и ни при каких обстоятельствах. Если ему, Глостеру, и предстоит забрать шаткий трон Лира, то сделать это нужно самому. Только самому. И не нужно торопиться. Несмотря на кажущееся, мнимое безумие Лира… Или — безумие как раз настоящее? Дик… Дику сильно не повезло. Очень сильно. Лир беспощаден.
Глостер содрогнулся, вспомнив изуродованный труп товарища… Мысли бежали стремительно и бессвязно; он даже не отдавал себе отчета в том, что это именно он, Глостер, убил — да что убил! — замучил Дика! Растерянность, страх, ужас в единый миг овладели всем его существом, он до боли в пальцах сжал трубку, уже не понимая, кто он, где находится и что с ним происходит…
— Глостер? — услышал он в трубке далекий, словно разделенный даже не пространством, а бесконечной необратимостью времени, голос. — Глостер, прием…
Глостер тряхнул головой, сжал челюсти, усилием воли сгоняя наваждение.
Перед его лицом еще какое-то время словно наяву стояло лицо Лира с белесоватыми пустыми бельмами глаз, похожее на бледный лик какого-то доисторического божка или идола… Глостер еще раз тряхнул головой… Видение пропало, но не совсем…
Где-то в глубине существа продолжал ощущаться неясный, липкий страх, страх живой, похожий на копошащегося "налима, замершего до поры где-то в пищеводе и готового ринуться вверх, вцепиться в горло, перекрыть дыхание… Глостер почувствовал удушье, закашлялся.
— Глостер, что с вами?
Волны кашля накатывали снова и снова, судорогами. Глостеру казалось, что сейчас он выплюнет все: печень, легкие, селезенку, все, кроме этого скользкого вонючего гада, налима, угря, затаившегося там, в утробе…
— Глостер, вам нехорошо?
Приступ прошел так же неожиданно, как и начался. Не успев удивиться неведомой болезни, Глостер отер слезы, промокнул платком губы…
— Глостер! Глостер! — повторял через равные промежутки времени Ричард. — Прием! Прием?
— Глостер слушает Ричарда.
— Что с вами, Глостер?
— Пустое. Бронхит.
— Бронхит?
— Да. Острый бронхит. И хватит об этом. — Глостер почувствовал, что полностью пришел в себя. Теперь нужно было снова завладеть инициативой в разговоре и отдать приказания. — Слушайте меня внимательно, Ричард. Если Маэстро и Кукла будут обнаружены, в схватку не ввязываться, доложить по команде. Я со своими людьми и людьми Лаэрта прибуду на базу Южная через два с половиной часа.
Экипированы мы будем, как группа спортсменов, но… чтобы завалить Маэстро, необходима спецоперация. Быстрая и эффективная. Скрывать полтора десятка бойцов с оружием под видом туристической группы неразумно и невозможно. Поэтому необходим наиболее оптимальный, легальный способ передвижения нескольких небольших мобильных групп вооруженных людей. Или одной большой группы. Мне нужны мотивировки, железные мотивировки для возможных объяснений с властями, чтобы особисты не забеспокоились раньше времени. У вас есть наработки, Ричард?
— Так точно. Мы представим их как группу спецназа морской пехоты Черноморского флота.
— Мотивировка?
— Поиски дезертира, плановые учения, мало ли?
— Ричард, мне не нужно «мало» или «много». Мне нужно наверняка.
— Если у военных даже кто-то что-то спрашивает, они вправе не отвечать.
— А журналисты?
— Глостер, это у вас в Москве журналисты. У нас на пять районов — одна газетенка, да и та не выходит. Нет в провинциях журналистов, а на курортах — и подавно.
— Ричард, вы в своем курортном местечке совершенно разучились работать.
Особенно головой. Встреча Маэстро и Куклы — случайность?
— Почему нет? Чего в этом мире не бывает?
— Ну да… Не случайность, а совпадение. Так гораздо наукообразнее, а, Ричард?
— Не могу знать.
— Почему бы не предположить, что эту встречу, как и всю операцию, нам воткнули расчетливо? В свете грядущих реалий, так сказать? Смены царя, боярской думы и дворянской псарни?
— Вам виднее.
— Я вижу, Ричард, вы обиделись, — Никак нет.
— Я и не думал сомневаться в вашем профессионализме: вы сами знаете, такие сомнения у нас всегда трактуются не в пользу «потерпевшего».
— Так точно.
— И я вам не угрожаю. Просто мне необходимо довести до полного понимания уровень стоящей задачи. Операция нейтрализации и уничтожения Маэстро и Куклы для ваших людей — не охотничья прогулка и не развлечение.
— Я понял это, как только услышал, что прибывают люди Лаэрта.
— Вот и славно… — Глостер замолчал, вернее, выдержал паузу, давая понять, что эта часть разговора закончена и все им сказанное подлежит не обсуждению, но выполнению. — Что до мотивировок… Я принимаю ваш вариант, Ричард. Он хорош. Любая форма, армейская в особенности, есть лучший способ маскировки в наших нынешних реалиях. Действуйте.
— Есть. Необходимые бумаги я выправлю в течение часа, форма и оружие есть на базе Южная.
— Братки не забеспокоятся по-серьезному?
— Не успеют. Да и не захотят никакие братки связываться с вооруженным армейским спецназом.
— Резонно. Документы будут подлинные?
— Нет. Но хорошо сработанные. Для местных властей достаточно, а особисты, полагаю, выйдут на ту же тропу войны не раньше чем через сутки-полтора.
— Вот и отлично. Сейчас ваша основная задача, наряду с бумагами, — установить местонахождение и маршрут движения Маэстро и Куклы.
— Есть. Место встречи?
— База Южная.
— Есть. Время?
— Через три часа.
— Есть.
— И вот еще что, Ричард…
— Да?
— Если мы не сумеем остановить эту «сладкую парочку» за сутки…
— О последствиях лучше не думать. Я вас правильно понял, Глостер?
— Вполне. Кажется, кто-то из великих сказал: «Мы проиграли битву, но не войну». Так вот… — Глостер выдержал паузу, закончил:
— Нет у нас выбора, Ричард. Я вас не пугаю, просто информирую. Мы — и вы и я — оружие. А неисправное оружие никому не нужно. Ни-ко-му. Надеюсь, вы это понимаете. Если мы за сутки не покончим с Маэстро, то проиграем и войну, и жизнь.
Часть шестая РАЗВЕДКА БОЕМ
Глава 36
Маэстро свернул прямо в степь. Она неслась под колеса бесконечной выжженной явью, пока не показались первые виноградники поселка, большой, когда-то колхозный сад, наезженные дороги. Маэстро сориентировался, крутнул руль, обогнул виноградники по целине, и автомобиль снова помчался по сухой полыни бездорожья неведомо куда.
В салоне повисло молчание. Аля безучастно смотрела на дорогу. Ей было безразлично, куда они несутся, откуда, зачем. Прошлая жизнь показалась ей призрачной, не существовавшей никогда, а теперешняя… Да и можно ли считать жизнью бесконечную гонку со смертью? Или это как раз и есть жизнь, просто разные люди бегут от беззубой с разной скоростью? Вернее, с разным успехом? Да какое там: считать успехом случай пережить сверстника на десять лет нищеты и пятеро суток агонии? Нет, в этой игре победителей не бывает, все приходят к печальному финишу… Или — не все? И пыльное земное бдение — только предтеча настоящей жизни?..
— Маэстро, — разлепила Аля спекшиеся губы. — По-моему, я схожу с ума.
Мужчина быстро глянул на девушку и снова сосредоточил взгляд на дороге.
— Нет. Это мир сумасшедший. А ты нормальная.
— Разве можно выжить в сумасшедшем мире?
— Даже нужно. Куда хуже — подчиниться ему.
— Влад… А ты? Ты подчинился?
Некоторое время Маэстро молчал, потом произнес тихо и внятно:
— Не знаю.
— Жаль.
— Мне тоже.
— Влад, а куда мы едем, ты хоть знаешь?
— Смутно, — улыбнулся Маэстро.
— Ты хочешь нагнать тех, на «девятке»?
— Тех или других… Не так уж важно. — Он помолчал, жестко свел губы, произнес зло:
— Плохо.
— Что — плохо?
— Мы с тобой изначально не выбирали территорию войны. А теперь у нас не осталось и времени. Это плохо. Похоже на бой с тенью. Вернее, с несколькими тенями в ограниченном пространстве. Или в окружении. Придется успевать поворачиваться, чтобы срезать очередного нападающего. — Горькая усмешка пробежала по губам. — По сравнению с оборонительным боем засада — просто песня!
Вот только засаду теперь выставят нам.
— И ты сейчас…
— Лучшее, что я сейчас могу сделать, это постараться не выскочить на нее в лоб. Выйти на охотничков за черепами вскользь, там, где они если и ждут, то не очень. Тогда у нас будет шанс.
— А сейчас?
— Сейчас? «Призрачно все в этом мире бушующем…»
— Влад, все действительно настолько плохо?
— Разве я сказал «плохо»?
— Да.
— Выпутаемся. Ты еще не разучилась стрелять?
— Я… Влад… Я больше не хочу стрелять. Маэстро замолчал, лицо его словно окаменело. Але показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он произнес:
— Наверное, ты права. Права. Только…
— Только — что?
— Войну против нас уже начали. А на войне как на войне. Победитель всегда прав, побежденный всегда мертв. Третьего не дано.
Маэстро замолчал. Але тоже не хотелось ни говорить, ни думать. Жара стала непереносимой. Воздух, что врывался в окна автомобиля, стал раскаленным настолько, что мешал дышать. Вдали, под выгоревшим добела небом, привольно дремало море. Отсюда, с высоты, оно казалось ультрамариновым и прозрачным.
Девушке почудилось, что можно взлететь над ним и рассмотреть до самого донышка…
Рокот сначала был слышен едва-едва и походил скорее на заунывный, повисший на одной ноте вой водного мотоцикла: там, далеко внизу, синюю могучую гладь рассекал одинокий мотоциклист, оставляя за собой узенькую белую полоску.
Вертолет показался позже. Заслуженный «Ми-8» неспешно прошел вдоль берега, развернулся, переваливаясь, словно тяжелый жук, демонстрируя на желтом брюхе блакитную надпись советских еще времен: «ГАИ».
— Над седой равниной моря гордо реет глупый пингвин. Он и сам уже не помнит, как сумел с земли подняться… — раздумчиво произнес Маэстро.
Вертолет снизился, порыскал над шоссе; пилот начал утюжить площадь «по квадратам», вдумчиво и неспешно.
— …Он парит вторые сутки над равниной океана, потому что он не знает, как сажать себя на плоскость!
Маэстро выпрыгнул из автомобиля и стал внимательно наблюдать за вертолетом.
— В чем дело, Влад? — встрепенулась Аля.
— Песню помнишь, девочка? «Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы, летние маневры у нас да начались…»
— У тебя игривое настроение? Мужчина кивнул:
— «Ой ты песнь моя, любимая, цок-цок-цок — по улице идет драгунский полк…»
— Он за нами? — произнесла Аля разом севшим голосом, проследив за взглядом Маэстро и в небольшой уже точке опознав вертолет. До этого, погруженная в собственные переживания, она не замечала ничего вокруг, кроме запахов моря и полыни. Девушке показалось, будто душа ее затрепетала мягко, тревожно… Испуг еще не успел родиться, но страшные воспоминания о загонной охоте на них мигом поднялись из стылого омута подсознания и наполнили сердце страхом, холодом, жутью.
— «Сапоги фасонные, звездочки погонные, по три звезды — как на лучшем коньяке!»
— Влад! Прекрати!
— Не бойся, девочка. Этот недоношенный птеродактиль нам не опасен. Сейчас он уйдет на юг, ему удобнее с юга квадраты чесать.
— Какие квадраты? Почему — чесать?
— Пилот работает по квадратам. Ищет.
— Нас?
— Скорее всего. Больше некого. Удобнее всего ему с юга на север по прямой, возврат — полусферами, так большая площадь проверяется и не один раз… Да и с юга, от солнца, он невидимкой заходит: мало ли что… А то — ракета встречная в пасть влетит.
— Какая ракета на мирной дороге?
— Известно какая: «земля-воздух».
— Влад, у нас в стране, конечно, бардак, но не до такой же степени!
— Во-первых, до такой. Во-вторых, береженого Бог бережет, и летяга поговорку эту блюдет свято. И в-третьих — метода, сиречь традиция: чему обучили, тому и следует. Заметь, геликоптер мог и на бреющем пойти вдоль дороги, а — поберегся: видать, в Чечне небо утюжил или где там… Небо здесь мирное, а летун работает как на боевом вылете. О чем это нам говорит?
— Ну и о чем?
— Ваша ирония, дитя девяностых, неуместна. Это говорит нам о многом!
— Ну ты и болтун! — искренне удивилась Аля. — Ты знаешь, что нам теперь делать?
— Уходить. «А мы уйдем на север! И там — переждем опасность!»
— Почему на север?
— Милая барышня, это фольклор моего детства. Незабвенная речь шакала перед нашествием Рыжих Псов. «А когда все подохнут — мы вернемся!» За точность цитаты не поручусь, а по существу — установка здравая, а?
— Что-то ты игрив не по погоде. И не по возрасту.
— Уж каков есть. — Маэстро, все это время внимательно наблюдавший за Алей, удовлетворенно кивнул, отметив, что первый спонтанный страх у девушки прошел, не успев разродиться ни в панику, ни в беспокойство.
— Пришла в себя?
— А я и не уходила.
— Да?
— Влад! — Аля с удивленным негодованием смотрела на Маэстро. — Так ты этот балаган персонально для меня устроил?
— Балаган? Какой балаган?
— Цирк? Решил отвлечь барышню от черных мыслей и жутких реалий?
— Вроде того, — пожал плечами Маэстро.
— Ну надо же… Заботливый.
— Это плохо?
— Это хорошо. Но я если и боялась, то самую малость, правда.
— Тем лучше.
— Я не подведу тебя, Влад.
— Я и не сомневался.
— — Так куда мы теперь?
— К морю. Отдыхать. Пока есть такая возможность.
— В смысле?
— Позагораем, поплаваем. Поныряем.
— Ты знаешь, я уже так нанырялась, что… до конца жизни хватит.
Вертолет, барражируя где-то вдали, развернулся, пошел на следующий круг.
— Мы что, к морю на этом паленом джипе покатим?
— Бросим. — Маэстро Улыбнулся. — Продавать — нет ни времени, ни покупателя, ни желания. Добрые люди подберут. Так что — собирай пожитки.
— Да у меня и пожитков никаких. Только то, что на мне. Маэстро, у тебя хоть план какой-то есть?
— А как же! «Таварыщ Малыновскый, у вас есть план? Нэт? Тогда мы будзм курыть, план таварыща Жюкова».
— Маэстро! Я серьезно?
— А если серьезно, то зачем нам план? Ну как…
— По пунктам. Первое: кто против нас работает? Какими силами? Какие цели преследует? Кто осуществляет оперативное руководство? Кто отдает приказы по существу? Знаем мы ответы на все эти вопросы?
— Нет.
— А значит…
— Нужно провести разведку?
— Угу. Но линии фронта — нет, противника, окромя винтокрылой машины ГАИ, задействованной, скорее всего, втемную, — тоже. А без ответа на вышеперечисленные вопросы нас просто сцапают, а дальше — как в народной телепесие: «Галина Бланка буль-буль, буль-буль…» Скверная перспектива, а?
— Да не боюсь я, Маэстро, и ты, судя по всему, меня вовсе не напугать хочешь, а наоборот. Нет?
— Дед. И бабка при нем. Так за какую линию фронта войти, чтобы взять языка?
— Не знаю я. Но ты-то знаешь?
— Обязательно. Подхватывай!
Маэстро подал девушке тяжеленный баул; сам два таких же закинул на плечи.
— Что там у тебя? — спросила Аля. Оружие.
И куда столько?
— В хорошем хозяйстве и сухарь — бублик, и стакан — за два. Сдается мне, скоро на этом милом побережье станет жарче, чем теперь. И немудрено. Лето.
По крохотной тропке, прорезанной в обрыве и окруженной со всех сторон чахлыми кустами, они спустились к морю. Там, внизу, на идеальном песчаном пляже, усыпанном телами редких в этот день отдыхающих, казалось, был совсем другой мир.
Вялая многодневная лень витала сонным заплывшим призраком над всем и всеми. Люди приехали отдыхать и желали за свои деньги отлежать с чувством.
Море вблизи было блекло-мутным, штилевым; мужчина и девушка расположились там, где обрыв доходил почти до воды, у высоких камышей, на гладком галечном пляже.
— Ну и что задумалась? Раздевайся и загорай.
Сам Маэстро собрал волосы шнурочком, сбросил футболку, подвернул джинсы, потоптался по песку, приноравливаясь. Завернул пистолет с навернутым на него глушителем в футболку, погрузил в пакет.
— Пойду по берегу послоняюсь.
— С оружием?
— А что делать? Привык, как к трусам, — А я что?
— Загорай. Да за сумками присматривай. — Маэстро навернул на другой пистолет глушитель, положил рядом с девушкой, под полотенце:
— И повнимательнее.
Народец здесь по курортной поре ушлый!
— Маэстро, а может, мы вместе?
— Нет.
— Почему?
— При полностью неясных вводных возможен только один вид разведки — боем.
Пожелай мне удачи.
— Удачи.
— К черту.
Маэстро развернулся и побрел вдоль берега к пансионатам и приморскому поселку. Он шел неспешно, танцующей, развинченной походкой разомлевшего от вина и полной расслабухи свеженького кавалера при легких деньгах, всегда готового к карточной игре, матримониальным приключениям и выпивке.
— Влад! — окрикнула его Аля.
— Ну?
— Ты… ты, пожалуйста, возвращайся.
— Я вернусь, девочка.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— А что мне делать, если…
— Стреляй. На поражение. Ты запомнила? Победитель всегда прав, побежденный всегда мертв. Третьего не дано.
Глава 37
— Икар вызывает Первого, прием.
— Первый слушает Икара.
— Патрулирую квадрат четырнадцать-В. В районе пансионата «Дельфин» наблюдаю джип, похожий по описанию на разыскиваемый.
— Как далеко это от места недавнего огневого контакта?
— Это где людей Черепа замочили?
— Икар…
— Виноват. Я хотел, чтобы по существу.
— Я понял.
— Километрах в сорока. Но не по шоссе. Целиной.
— Джипы ведь ездят и по бездорожью?
— Еще как ездят!.. Издеваетесь, шеф?
— Иронизирую.
— Там, рядом с этой бибикой, люди.
— Сколько? Можешь уточнить?
— Проблематично. Подойти ближе нельзя — спугну. Вы же сами говорили…
— Говорил. Используй оптику!
— Стараюсь…
— Так что там за люди?
— Мужчина и девушка.
— У тебя есть фотороботы?
— Первый, работать с вертолета по опознанию — это как с моста в бутылочку помочиться.
— Бросай шуточки, Икар. Все очень серьезно.
— Никто и не сомневается. Семь трупов среди бела дня! Или сколько там?..
— Эти люди ничего не заподозрили? На твой счет?
— Не думаю. Вертолет штатный, гаишный, парит себе, аки птах над цветком.
Да и я веду себя, как целка-гимназистка: мирно перепахиваю целину воздушных потоков километрах в семи от них. А то и подалее.
— Значит, уверен?
— А пес их знает! Вроде бросают они джип и книзу мылятся…
— Что?
— Ну, готовятся свинтить. Свалить. Исчезнуть.
— Полагаешь?
— Вот именно, полагаю! А уж как на самом деле, попа с ручкой или бумажка с кучкой, — это соображай… Может, мужик с девахой в кустики наладились, так сказать, расслабиться на природе и в неге… А мы тут предположения строим…
Если честно, то я в такой денек на их бы месте…
— Икар! Доложите точно: они уходят? Куда именно?
— Ни черта на таком расстоянии не видно! Может, пугнуть их? Ситуация и прояснится.
— Пугнуть?
— Ну! Пронестись на бреющем и отработать квадратик из пулеметов! Так нет у меня под брюхом стволов, заданьице — мирное насквозь!
— Икар, похоже, ты жалуешься?
— А хоть бы и так?
— Ладно. Не комплексуй.
— Кто комплексует? Я?!
— Нет. Присказка такая. Куда они направились?
— Говорю же, пропали в кустах. На обрыве.
— Тропинка там к пляжу есть?
— Тропинка?
— Ну да. Сход.
— Да сколько угодно!
— Вот еще что, Икар… Парень этот седой?
— Кто?
— Мужчина, что с девкой. Он — седой?
— А у него на голове косынка повязана. На манер спецназа. Ну да так сейчас полстраны ходит: мода.
— Ты сейчас их видишь?
— Нет.
— Пройдись над прибрежной полосой и понаблюдай пляжи. Но оч-ч-чень издалека. Если это они, пусть думают, тебя интересуют рыбные косяки, и не более того.
— А зачем службе безопасности движения знать про рыбные косяки, а, командир?
— Не умничай. Будет что новое — докладывай.
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
— Ричард вызывает Глостера.
— Глостер слушает Ричарда.
— Мне кажется, мои люди только что обнаружили Маэстро. И Куклу.
— Вот как? Вам опять кажется, Ричард?
— Информация будет проверяться и уточняться.
— Хоть это хорошо.
— Я хотел бы получить четкий и недвусмысленный приказ: что делать в том случае, если…
— …Это действительно они?
— Да.
— Уничтожить. Быстро, любыми силами и средствами, не считаясь со случайными жертвами в районе огневого контакта. Вы поняли, Ричард? Хоть напалмом их жгите, но уничтожьте. Раньше, чем они уничтожат вас. И ваших людей.
— Вот тогда вы и подоспеете на выручку, Глостер.
— Ваша ирония, Ричард, неуместна. Совершенно. Кажется, я информировал вас о сложности задачи.
— Так точно.
— Ну так выполняйте, черт бы вас побрал! Выполняйте!
— Есть. Я хотел бы уточнить…
— Сумму премии? Сто тысяч вам и столько же — вашим людям. Распределите сами. Да, Ричард, кто будет командовать операцией?
— Я.
— Это лучше всего. Даже если она не удастся.
— Она удастся, Глостер.
— Тогда я лично поздравлю вас на базе Южная. Уже через полтора часа. Ваш позывной в операции?
— Первый.
— Удачи, Первый.
— К черту.
— Конец связи.
— Конец связи.
— Первый вызывает Третьего.
— Третий слушает Первого.
— Кто у тебя сейчас в районе пансионата «Дельфин»?
— Вы имеете в виду силовое сопровождение…
— И это тоже.
— Только наряды милиции. Их можно использовать.
— Не подходит.
— Есть еще ряженые.
— Это лучше. Шухера они среди местных не вызовут?
— Да какое там!
— Ну и славно. Выдвигай их, пусть прояснят ситуацию.
— В смысле?
— Ты ориентировку на седого и девчонку получил?
— Только что.
— Похоже, они где-то в районе твоих пляжей.
— Понял.
— Слышу излишний кураж в голосе. Решил двадцать кусков зелени влегкую скосить? Не обольщайся, детка, ни с того ни с сего такие вот гранты никто не раздает. А уж я — тем более. Седой этот не просто опасен, он особо опасен.
— Я других по нашим временам и не помню.
— А он не из наших времен, Третий. Он из прежних. Знаешь, чем прежние от нынешних отличались?
— Ну?
— Они умели не только стрелять, но и думать.
— Думать?
— Не бери в голову. Подымай своих ряженых. Карточка этого седого и девчонки у тебя есть?
— Фоторобот.
— Народу на вашенском пляже много?
— Да откуда? Пляж большой, пансионат маленький.
— То есть немного.
— Нет. А сегодня — вообще…
— Чего так? Жара хоть куда.
— Ну. В тени под пятьдесят. Это уже не асфальт плавится, а песок.
— Так где же купальщики?
— По норам.
— Чего?
— Конца света ждут. Парад планет, затмение или там… По домикам попрятались.
— У нас каждый год — конец света.
— Ну. А народ это любит: помирать, так всем. Не обидно.
— Они что же, эти медузы пляжные, желают в фанерных сараюшках конец света переждать?
— А пес их знает.
— Забавно.
— Угу.
— Но не смешно.
— Да?
— Слушай приказание, Третий. Сам идешь на пляж ищешь мне этого странствующего киллера.
— И девчонку?
— Ну разумеется.
— И если нашел, то что? Вязать?
— Повязать, мил друг, ты никого из них не сможешь. И не должен.
Ликвидировать. Понял?
— Так точно.
— Доподлинно понял?
— Так точно. А если…
— Ну?
— Если уверенности не будет? В том, что они — те самые? Просто похожи?
— Вот для этого и используй ряженых. Пусть вызовут на жесткий разговор, лучше — на конфликт. Здесь не ошибешься.
— Понял. И тогда — мочить?
— Именно. Сразу. Немедленно. Быстро и без сантиментов. Даже если для этого понадобится положить полпансионата отдыхающих… Ты зря скалишься, Третий.
— Да я не…
— Я слышу по голосу. Настройся. Соберись.
— Есть.
— Это приказ. Уничтожить любой ценой. Любой.
— Есть.
— Тем более… за мертвых денег столько же, сколько и за живых. А хлопот меньше.
— С мертвыми — это завсегда так. Какие с мертвыми хлопоты? Никаких.
Глава 38
Спонтанная, разномастная пляжная компания из четверых отдыхающих, расположившаяся под хлипким зонтиком-навесом за дощатым столом в импровизированном ресторанчике-шале метрах в трех от воды, на бетонной надолбе, была уже основательно разогрета напитками и закусками, а говоря попросту, все четверо были крепко «клюкнумши», «дерябнумши» и даже «накачамшись». Все четверо казались людьми одного круга: бывшие интеллигенты, хоть и не потерявшиеся окончательно в рыночных волнах, но и нырнувшие не глубоко — в самый раз, чтобы прикупить по маломерной четырехкомнатной, прилично одеваться, курить средней паршивости сигареты, иметь малые сбережения в тещином чулке и на отдыхе позволять себе чуток расслабиться и погундеть не только о наболевшем, но о разном. Особливо о добре и зле. О разумном, добром и вечном. Впрочем… То, чем засеяли их головы тридцать пять лет назад, сейчас впору было выкосить, вытравить на корню, глядишь — в большие денежные дяди и выбились бы. Да только кому охота в тех чертополохах кандыбаться? То-то, что никому.
Проблема «отцов и детей» на террасе ресторанчика тоже присутствовала, пусть и в наметках. Мускулисто-жилистые завсегдатаи, местные вьюноши, потягивающие тепловатое пивко, смотрели на компанию потных, наклюканных, лакающих подпаленную «Метаксу» субъектов с ленцой и брезгливостью, как обычно смотрит «продвинутая молодежь» на сорокалетних старцев, пытающихся молодиться, подбирать вялые животики и вышагивать по-страусиному бодро и молодцевато на дряблеющих тонких ножках перед выводками нововылупившихся давалок. Впрочем, безжалостная самоуверенность юных никого из мужиков не задевала: возможно потому, что мудрая истина — «никого не пощадила эта осень» — справедлива для всех без исключений, дождись только, и, во-вторых… Вот именно: до осени этим желторотым еще дожить надо. А в-третьих, как уже было сказано, мужи изрядно клюкнули, и мир сделался вязким, собственные умозаключения — значимыми, повседневные заботы — несущественными и мнимыми.
Узнать в этой компании Маэстро не смогла бы даже Аля. Казалось, он постарел и погрузнел, а до того — пил неумеренно и рьяно лет пятнадцать, причем ординарные хересы и портвейны производства Уклюпинского завода убойных вин; сейчас, полулежа на липком столе, созданный Маэстро персонаж с туповато-вялым любопытством глазел на входяще-проходящих и на полоску песка перед входом в ресторанчик, по которой слонялись туда-сюда девчушки в символических бикини.
Дядько провожал их похотливо-отстраненными взглядами и снова безумно и тупо таращился на желтый песок. Молодые «культы» отпустили было пару колкостей на его счет, реакции не дождались и забыли. Седой неудачник сидит себе, глазея на телок и заглатывая слюни, ну и пусть его: за погляд денег не возьмешь.
Место Маэстро выбрал наилучшее: прямо напротив ресторанчика, укутанного со всех сторон и сверху пятнистой маскировочной сеткой, был окультуренный сход на пляж, с бетонными ступеньками, ухоженный, и тут же — съезд для машин, на тихонькую стоянку, условно охраняемую. Впрочем, за условную охрану брали вполне безусловные деньги, невеликие, ну да полноводные реки из ручейков сливаются, а крупные состояния — из копеечных гешефтов и профитов. Эту спорную мысль и доказывал, впрочем без особой горячности, худощаво-геморроидального вида субъект из этой самой не сказать чтобы веселой, но занятной компании.
— Принцип накопления любого действительно значительного состояния можно выразить старинной русской пословицей: «С миру по нитке — к празднику кафтан!» — монотонно и привычно шелестел он тонкими бесцветными губами. — Фраза Опоре де Бальзака о том, что за каждым крупным состоянием кроется преступление, — не более чем цветастая метафора. Мне, например, трудно считать преступником человека, предложившего людям игру… Да, эта игра азартна, она увлекает, она может обернуться поражением и проигрышем, но… Все, кто принял участие в любой из «пирамидок», — суть индивиды виктимного склада, и потеря денежная планировалась такими подсознательно и намеренно и замещалась гораздо более дорогой для них компенсацией — эмоциональным удовлетворением по поводу собственной значительности и значимости: ну, надо же, такой крутой и важный, а не погнушался облапошить меня, сирого и убогого. Значит, я этого стою!
— Не смеши меня, Анатолий свет Ильич! Не смеши! — брюзгливо отклячив слюнявую нижнюю губу, возражал худощавому нездорово рыхлый лысеющий дядька, подливая себе коньячок. — Какие гешефты, какие продажи-торговли, какие глупости!
Это в нашей самой мирной из всех латифундий, в которой даже покойный советский слон — все равно живее всех живых?! Да просто-напросто берется бумажка, дрянь этакая, клочок, понимаешь, папируса, какой по естественной надобности недоиспользовали — и то по недосмотру! И пишется, вернее даже, рисуется простенькая схемка-сказка про белого бычка… И вот уже вертикаль — буровые, трубопроводы, нефтеперерабатывающие комбинаты, наливные цистерны и даже эшелоны, экспортные организации, бензоколонки — все! — наименовывается ублюдочным словосочетанием «закрытое акционерное общество», и звучная аббревиатурка придумывается… Какой-нибудь «Кокойл», «Нюхос» или того похлеще. А что, собственно, произошло? А ничего! Гоп-стоп это, вот что! Как формулировали в Одессе: «Деньги ваши — стали наши!» И безо всяких изысков, и безо всяких гешефтов и иных дурных начинаний. В мелкие пакости, типа «пирамидок» и прочих песочниц, пускаются те, кому иного добра не досталось: разворовали!
Худощавый поджал губки, выкушал налитый уже коньячок, молчаливо кивнув на предложенное славословие «Будем!», зажевал кусочком шоколадки… Щечки его не порозовели, нет: они с каждой выпитой рюмкой становились приятного такого фиолетово-сиреневого цвета, будто на каждой было налеплено по четвертному билету советских еще времен.
— Воровство, конечно, имеет место быть, и в архикрупных масштабах, и тем не менее… Худощавый закатил глазки и ленинское словцо употребил к месту, и сотрапезнику вдруг показалось: будь тот в костюме, то непременно заложил бы большие пальцы рук за жилетку, похлопал бы его покровительственно по плечику, назвал «батенькой» и предложил расстрелять очередную партию заложников в назидание прочим. Маэстро заметил: пузатый даже головой тряхнул, отогнать наваждение.
Худощавый тем временем продолжил:
— А не кажется ли вам, уважаемый Пал Палыч, что вся империя «Микрософт» — это тоже не что иное, как «пирамида»? И все девяносто миллиардов Билли Гейтса — вы вдумайтесь, вдумайтесь в эту цифру, уважаемый! — есть не что иное, как большой мыльный пузырь, пшик, пустота, ничто… Ибо что есть современный компьютер? Производитель трехмерных цветных озвученных игрушек? Этаких эмоциональных таблеток, костылей для безногих? Индустрия развлечений, так сказать… Разве это заменит хороший глоток вина, ласку женщины, задушевную беседу? — Худощавый пожевал губами, будто пробуя на вкус, смакуя все, только что им сказанное, закончил риторично и глобально, несколько даже картинно поведя вдоль дальнего горизонта хиленькой костистой лапкой:
— А что может заменить море?
Еще один субъект, напоминающий хрестоматийного бородато-пенснявого интеллигента начала двадцатого века, всегда неудовлетворенного морально, сексуально, нравственно, материально и физически, ушедший было допрежь от неумеренно выпитого в легонькую прострацию и трансцендентальный диалог с собой, вскинулся вдруг боевым петушком, дозаправленным торпедным катерочком, с вызовом глянул на Маэстро и, получив в ответ тусклый и нелюбопытный взгляд, вздохнул, отвернулся и раззадоренным кочетом с торпедным дизелем в заднице налетел на собеседников.
— Легко рассуждать о вечном, роясь в хлеву! — безапелляционно выдал он соседям по столику, надел на нос роговые очки и тем — словно отделился толстыми линзами ото всего вокруг; мир для него оказался будто за аквариумным стеклом; глядя на пьяных, с потекшими лицами, сотрапезников, он теперь взирал на них победно, ехидно и зло. — Легко быть эстетом в тепле собственного навоза, не так ли, Анатолий Ильич? — продолжил он натиск, но худощавый вызова не принял, только ухмыльнулся криво, взял нож и вилку и с тройной энергией принялся за здешний шницель, угольно-черный, в застывающих хлопьях желтого жира.
— Вот именно. Легче всего… Легче всего человек привыкает к собственному дерьмецу. И умудряется там устроиться не просто комфортно, а… В своем дерьме можно усесться… как бы это сформулировать: куда приятнее, теплее и слаще, чем в чужом зефире, пастиле и даже шоколадном грильяже, ходить ему конем! Таковы человеки, и как их в лоск ни наряжай, как ни вылизывай глянцем разным — а все таковы! Сдери ты тысячедолларовый костюмчик с какого-нибудь нефтяного магната, банкиришки, чинуши кремлевского, кто получится? Жирный, обрюзгший, запуганный коротыш, с дряблым и немощным тельцем и загнанной душонкой, если и способной трепетать, то только при виде собственного прыща на заднице! М-да! Все в дерьмеце живем, все!
Накопленная в трансцендентном одиночестве дурная энергия перла из очкарика, аки семя из прыщеватого подростка; витийствовать он начал по первости сдержанно, но вскоре обличающий накал собственной речи зажег в его душонке нешуточный раж: бородатенький закатил глазки и уже раскачивался в такт собственным путаным словесам.
— И знаете, что примиряет меня целиком и полностью со всею несправедливостью этой куцей жизнишки? А то, что никто никого не переживет, все окочуримся, перекинемся косточками вперед, зажмуримся, в ящик сыграем, кто в тесовый, кто в цинковый, кто в фарфоровый; неравенство, конечно, ну да невелико горе, и при жизни в разные горшки-унитазы писали, в разные погремушки играли да с разными сучками забавлялись: кому жена досталась — и ноги полтора метра, и кожа персиковая, и «вечная весна» в глазах, а кому — этакая жирная скотина в перманенте, студень, холодец, в складках, зараза этакая, угрястая, склочная, сволочная и скандальная! И — что? Итог-то один, батеньки вы мои!
Один-одинешенек? Труп-с! Вонючий-с! В червях-с!
От темпераментной речи нечесаные волосья на голове очкастого вроде сами собою поднялись во всклокоченный сеноподобный кок, линзы окуляров блистали, как глазки Наташи Ростовой на первом балу; утомившись не только морально, но и физически, нигилист-обличитель плеснул себе в стаканчик водочки, выпил единым глотком, подхватил прямо пальцами кусок селедочки, отправил в рот, разжевал вдумчиво… И только потом перевел дух, отер рот жирной дланью, расплескал остатнюю водку по емкостям, взял свой лафитник, обвел сотрапезников мгновенно посоловевшим после выпитого взором, глубоким, как лужа строительного котлована, провозгласил одухотворенно, с сиятельным подъемом:
— За нее, друга мои, за сучку костлявую, за тварь щербатую! За истинную коммунистку, уравнивающую всех во всех правах, во всех деньгах, во всех излишествах, делающую и красоту, и уродство одним куском дерьма на грязной помойке, именуемой смиренным погостом!
Витию никто не поддержал, ну да он этим совершенно не расстроился: хлобыстнул водки, тяжко опустился на стул, уронил голову на руки и приготовился было отойти в объятия Морфея…
Стул вылетел из-под пьяного, как ошпаренный заяц: стриженый детина в пятнистом комби выбил его одним ударом шнурованного армейского ботинка, другим — отослал в угол заведения, пнул упавшего «златоуста» под ребра и произнес, обращаясь к остальным, медленно пережевывая слова, как «стиморол» без кетчупа, сахара и соли.
— Понаехало тут уродов! Да таких еще в роддоме нужно было спиртовать!
Правда, Ярик? — спросил он, полуобернувшись, товарища, вылезающего из автомобиля.
— Без вопросов, — кратко подтвердил тот.
— Вы бы полегче, молодые люди… — собравшись с мыслями, храбро произнес худощавый Анатолий Ильич, тот, что так славно журчал про гешефты и навары.
— Чего? — приподнял соболиные брови парень. В глазах его отплясывало краковяк этакое задорное глумление над всем уродливым, нездоровым, чревоточным; таковым, по его мнению, и являлись обрюзгшие мужички, зависшие по эту жаркую пору за спиртным. — А за базар ответишь?
Глава 39
Детинушка был белобрыс и голубоглаз, ну вылитый бы Зигфрид, если бы не веснушки, усыпавшие лицо в непристойном изобилии, да не два передних зуба, делающие их обладателя похожим на мелкого грызуна и уж никак не на истинного Нибелунга. Следом за малость недоработанным викингом, заделанным родителями в безвестном сельце где-то между Шепетовкой, Куреневкой и Нахапетовкой, поднимались еще двое, одетые в такой же пятнистый камуфляж; «уазик», на котором они прикатили, был разрисован куда как скромнее.
Странно, но ничьего особого внимания новоявленные круторогие парниши не привлекли и ничьего спокойствия не нарушили. Местные молодые-интересные продолжали мирно и равнодушно припухать за пивком, и то, что какие-то пришлые «выступили борзо и качают права», не озаботило их совершенно: то ли между ними и арийствующими суперами была «Сухаревская конвенция» сродни замирению, то ли камуфляжные вообще были никем, фуфлыжниками, клоунами, марионетками в театре безвестного Барабаса. Местные об этом знали и сейчас были готовы оставаться зрителями не то чтобы веселого представленьица, любого зрелища, способного развеять жару, скуку и пережидание жизни. А вообще-то… Более всего объявившиеся в заведении молодые люди походили на воспитанников какого-нибудь доморощенного военно-спортивного балагана, впрочем, оболтусы эти давно выросли из коротких штаников и слюнявчиков, вполне оперились и теперь вот выехали «в люди» трохи покуражиться и поиграть мышцой.
Все эти мысли скакали в голове Маэстро сами собой, и глаза притом никак не отражали «богатый внутренний мир индивида». Любой, глянув на Маэстро в эту минуту, узрел бы помятого субъекта, лежащего небритой щекой на грязном столе и тупо взирающего мутными от принятых напитков неадекватного качества глазками-буркалами на Божий свет.
— Ну что, отцы-пилигримы? Молодость пропили, страну профукали, теперь — печенки суррогатами добиваете? — Похожий на крысу «Зигфрид» бесцеремонно взял с чужого стола бутылку, поднес горлышко к носу, потянул ноздрей, вдохнул, удивленно приподнял брови:
— Хе-хе. Вместо спиртяги с глицерином — натуральное пойло. Коньяк. Где ж вы такой добыли, лишенцы?
— Молодой человек, вы бы… — начал было витиеватую речь лысеющий пузанчик и поперхнулся разом. Костистый кулак камуфляжного лениво прочертил дугу и врезался мужику в нос, скользнув по губам… Голова у побитого дернулась, он осел на стул, заливаясь кровью. Скрючился в три погибели, закрыв лицо руками, раскачиваясь и что-то там слезливо причитая…
— А ну затихни, плесень, педрило пузатое! — грозно вякнул детина, и рыхлый действительно замолк, заткнулся так, будто штепсель выдернули из розетки радиоточки. Только трясущиеся мелкой рысью плечи говорили о том, что мужчинка не просто жив, но и отчаянно напуган.
— Не люблю, когда перебивают, — пояснил здоровый сотоварищам. — Так вот, тли навозные… Раз уж вы здесь приносите и распиваете, то будьте любезны штраф.
Бородатый вития, только-только пришедший в себя, кое-как взгромоздился на стул и застыл так, скорбно глядя в одну точку. Весь вид его говорил об одном: нет в мире ни совершенства, ни справедливости, ни доброты. Похоже, получив по ребрам, он испытал даже свойственное некоторым яйцеголовым удовлетворение в правоте и слов своих, а уж несказанного, но выстраданного о роде человеческом — и подавно! А потому на содержательную речь толстомордого веснушчатого гиперборея бородач не отреагировал вовсе.
Напротив, белый как мел худощавый Анатолий Ильич поджал и без того тонкие губы, бросил взгляд на застывшую в углу компанию местных усушенных бодибилдингистов, спросил, стараясь сохранить достоинство и вроде как расставить точки над "i":
— Это что, наезд? Или — ограбление?
— Не, ты подивись, Ярик, какое самообладание, а? От горшка пять дюймов, а туда же: права человека качает, как живой!
— Я просто хотел бы внести ясность…
— На тебе ясность, — неожиданно зло, сквозь зубы выдохнул камуфляжный, крутнулся на месте и пяткой кованого ботинка приложил философа-экономиста Ильича в грудь. Тот то ли ойкнул, то ли булькнул, то ли икнул, глаза его закатились, и он ничком упал на цементный пол. — Хлипкий пошел интеллигент, а, Ярик?
— Да разный случается.
— Куда там! Раз пнуть — и раскатало, что блин по доске. Хлипкий.
— Ты его хоть не прибил, Котя?
— Да не, не должен. Среди этого племени такие вот жилистые и есть самые крепкие, — раздумчиво проговорил толстомордый нибелунг Котя.
— Что-то не похож он на крепыша.
— Оклемается, будь спок.
— Ну-ну.
Котя обозрел взглядом помещеньице, словно раздумывая, чем бы еще поразвлечься. Непродуманная искусственность, нарочитость его поведения была очевидной. Но лишь для Маэстро. Вряд ли кто-то из получивших по зубам мирных обывателей успел над этим задуматься: в таких ситуациях логика и интеллект отказывают напрочь даже видавшим виды мужикам. Тем, кто пытается перевести «базар» в рамки «цивилизованного ограбления», быстро крушат ребра. Интеллект никогда и нигде не правит, правят только эмоции. И — сила. А вообще… Похоже, началась охота. Не очень умная, ну да порой, чтобы загнать волка, и ума никакого не нужно: знай правь сворой, а она-то и выгонит зверя. На выстрел. А зверь…
Зверь здесь был только один.
Маэстро продолжал припухать на столе в вялом анабиозе. Приглядевшись, можно было предположить, что индивид сей есть не кто иной, как добросовестный ветеран ватмана, кульмана и «Рабиновича». Ну да, «Рабиновичем» во времена затюканного перестройкой «застоя» в кругах близких к научно-исследовательским именовалась настойка «Рябина на коньяке», дефицитнейший дефицит советских времен, доступный не всем и не каждому, оттого и название. Нынче же — качество подрастерялосъ, теперешний «Рабинович» — так, спиртяга с суррогатом, и ни тебе настоя славной горькой ягоды, ни коньячку… Вот это, последнее умозаключение-воспоминание, поразило вдруг Маэстро своей глупостью, несвоевременностью и никчемностью. И еще… Он поймал себя на том, что впервые за многие годы ждет продолжения напряженно-кровавого действа со странным интересом, свойственным живым людям… Словно все происходило не «здесь и сейчас», а было совершенно к нему не относящимся представлением, пьесой на сцене неведомого театра… Нет, когда-то у Маэстро был интерес ко всему вокруг, постепенно утерянный им за время его бредовой жизни, похожей скорее… Похожей на что? На службу? На служение? А если на служение, то кому? «Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Мне это ясно, как простая гамма».
Маэстро испытал вдруг странное чувство… Нет, он даже не пытался его формулировать, он старался его просто не упустить… Ему показалось, будто жизнь, и его жизнь в том числе, из «простой гаммы», из «формы существования белковых тел» именно сейчас вдруг начала превращаться в то, чем она и являлась всегда: в таинство, в моление, в дар… Воспоминание, нет, не воспоминание даже — ощущение вкуса и запаха рябиновой настойки сделало окружающий знойный день несущественным и мнимым, превратило происходящее в выгорающий целлулоидный оттиск на испорченной кинопленке… И мужчина вдруг вспомнил другой летний день, там, в дальнем, словно чужом детстве… Как, он с удовольствием болел корью, прихлебывая купленный родителями по такому случаю лимонад и разжевывая мягчайшие, с изюмом и глазурью булочки; как раскачивался на отцовском животе, как отец подбрасывал его высоко-высоко, к самым небесам, а небеса эти так и оставались высокими — от его стриженой головы до самого-самого потолка… Он помнил, как на черно-белом экране допотопного, в металлическом корпусе телевизора незнакомые, укутанные в масксети солдаты пробирались сквозь джунгли, и голос комментатора был суров и сдержан, а он, мальчишка, не вполне понимая смысл этих закадровых слов, уловил тон и спросил тогда отца: «Папа, а если они сюда придут?» И его отец, прошедший в разведроте четыре года Отечественной, ответил, чуть посуровев, но очень уверенно: «Не придут». И он, Влад, почувствовал себя так спокойно и счастливо, как не чувствовал себя никогда потом. Где осталось все это, когда и что он потерял?.. Сначала — отца, скончавшегося, когда Влад был еще ребенком, потом — друзей, потом… потом — самого себя?..
— Эй, доходяга? Это тебе не на телке расслабляться… Платить за постой думаешь?
Тоска на Маэстро накатила такая, что… Будто острая горечь затопила разом все его существо до самых краев. Убивать этих обряженных кукол он не хотел.
Но… чувство близкой опасности было холодным и ясным, как отточенный стилет, уже летящий в незащищенное средце. Маэстро ощутил — взгляд? мысль? намерение? — разящее, как пуля. Он почувствовал присутствие профессионала смерти, человека, обученного убивать, а сейчас просто не сумевшего «сдержать дыхание», превратившего попорченным наркотиком воображением желаемое в действительное…
Ну что ж… На войне как на войне. Загонщики обнаружили зверя и гонят его на выстрел.
Ну а зверю… Ему, Маэстро, осталось только найти затаившегося охотника. А дальше — кому повезет. Схватка со зверем всегда кончается смертью. Хотя…
Почему именно «смерть»? Куда проще, понятнее, безэмоциональнее: «ликвидация».
Как у спецов. Или — «летальный исход». Как у медиков. Тогда и в убийстве появляется некая отстраненность, фатальность и неизбежность. А при разведке боем… На языке военных это именуется еще короче и проще: объективные потери.
Часть седьмая ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОТЕРИ
Глава 40
— Ты чего, седой, из себя глюкало изображаешь? Вроде пили все вровень, все — как огурчики, — Котя лениво кивнул на побитых сотрапезников, — а нализался и мордой в стол выпал ты один! И смотришь квело, как тот глист из колбы!
— Не, как рыбкина голова из супа, — гыгыкнул парень сзади.
— Ярик, не умничай, ладно? Пять копеек свои при себе оставь, пригодятся. А рыбкин суп называется «уха», понял?
— Ну.
— Баранки гну. И на бур цепляю. — Котя подошел к столу, подхватил только что открытую бутылку пива, приложился и хлебал до той поры, пока пенистая жидкость не иссякла. Отрыгнул с чувством и вкусом, уставил глазки-буравчики на Маэстро, спросил, смачно икнув:
— Слушай, волосатый… Ты… из неврастеников, что ли, будешь? Или — из пидоров?
Маэстро ответил ему мутным выцветшим взглядом.
— Ну-ну. Шучу. Хотя… — Лыбясь, Котя вытянул из ножен полированный гнутый тесак, полюбовался синеватым отливом, пропел, по его мнению, задушевно и раздумчиво:
— «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…»
Котя снова икнул и уставился на Маэстро светлыми глазками в белесых поросячьих ресничках. Губы его вроде сами собою растянулись в широкую ухмылку; сейчас этот конопатый губошлеп, Зигфрид недоделанный, сиял во все сорок четыре здоровых зуба, нависая над Маэстро центнером веса и чуть раскачиваясь на кованых каблуках высоких шнурованных бахил, вроде как примеряя удар… Детский сад — трусы на лямках! До его куцего разумения и близко не доходило, что кто-то послал его играть болванчиком во взрослой игре и что до милой сердцу биксы ему дойти хоть и нелегко, но возможно, а вот до смерти осталось даже не четыре шага — дюйм, микрон, мгновение!
Маэстро вздохнул тяжко, с передыхом и тупо упер зачумленный суррогатным алкоголем взгляд в грязную столешницу. А голова его тем временем работала лихорадочно, прокачивая варианты. Итак… Кто ликвидатор? И кто — контролер?
Хамоватый викинг Котя? Никак не вяжется. Да и держится сей пудозвон так, что достаточно одного движения, чтобы превратить его из доморощенного нибелунга в свеженький труп. Подставляется. И подставляется не намеренно, а по неистребимой глупости. Никогда с убивцами дел не имел. Для таких первый опыт бывает и последним. Или он все-таки профи? Много сейчас молодых да ранних… Нет. Профи не рискуют. Даже когда очень хотят выиграть. Вернее, особенно тогда.
И все же… Как в старой считалочке — «каждый охотник желает знать, где сидит фазан», а фазан, в свою очередь, просто мечтает выяснить, где торчит охотник. И это Маэстро хотел выяснить до начала пальбы. Или, как говорят расплодившиеся ныне продвинутые супера из боевиков среднего радиуса действия, до начала «кратковременного огневого контакта». Ибо хорошо стреляет только тот, кто стреляет первым.
Так кто попытается выстрелить первым в него, Маэстро? Кто-то из арийствующих дружков нибелунга, этих пельменей в собственном соку? Нет, они даже не «спецура», мальчонки на побегушках, чистые ряженые; играют бездарно, ну да лучше и не надо, никто от них никакого вживания в образы по Станиславскому не требовал. Скажем, если выявят они супостата, то бишь его, Маэстро, и сложат при том буйные головушки, шелковы бородушки, то и пес с ними: изначально занесены в ту самую графу: запланированные потери.
Что еще? Ну да: местные продолжают сидеть за столиком как ни в чем не бывало и взирают на всю катавасию с глумливым любопытством. Среди них ни киллера, ни контролера нет. Может быть, за время своих занятий смертью Маэстро и разучился понимать людей, но он прекрасно их чувствовал.
Тогда — кто-то из сотрапезников-собутыльников? Или — некто сторонний?..
Трое мускулисто-поджарых подводничков, работающих здесь по прокату аквалангов, водных мотоциклов, моторок и другого снаряжения?.. Сейчас они заняты варевом: запах жирного кулеша слышен даже здесь… А вон та группка отдыхающих мужичков с обветренными лицами и словно сплетенными из сухожилий телами?.. Никак они не пишутся на шахтеров! Или — стайка субтильных школьниц в символических бикини?..
Почему нет? Маэстро чуть не застонал от бессильной ярости: ситуация была — глупее не придумаешь, и ему казалось, что продолжается она уже целую вечность.
— Ты чего мычишь, как бычок неповязанный? Ща повяжем, у нас это скоро, — лениво процедил переросток Котя. Было очевидно, что и ему до смерти надоел этот тусклый балаган; в голосе слышались даже просительные нотки: дескать, свернуть бы эту гунявую бакланку, чего еще тут ловить, окромя дури? А так — наклепаем по мусалам последнему из мирных алканов да покандыбаем-ка восвояси. Нету тут никаких гадов, «овцы» одни, да и те… И тут… Маэстро не увидел даже, уловил мгновенное движение глаз Коти: тот смотрел на кого-то, сидевшего у Маэстро за спиной слева, смотрел просительно, словно желал получить добро на некое свое действо! И пусть это продолжалось долю секунды… Маэстро прикрыл глаза, постарался полностью расслабить мышцы тела, почувствовал, как нервы, до этого вибрировавшие натянутыми стальными тросиками, стали легкими и летящими, как серебристые осенние паутинки… Кто же из троих? Рыхлый пузан Пал Палыч?
Худощаво-геморроидальный Ильич? Бородатый златоуст имярек? «Картина битвы» сложилась у Маэстро с четкостью проступившего на фотобумаге изображения. Он — не мямлик Котя, ему приказов или поощрений ждать неоткуда: сам отдал, сам выполнил, четыре сбоку — ваших нет!
Маэстро ощутил, как нервы из паутинок превратились в тончайшие металлические нити; по ним, словно искристый ток электронов, заструилась энергия действия, стремления, приказа… И еще — он почувствовал облегчение: решение было принято, противники — разъяснены; порядок, последовательность и стиль действий теперь определялся выработанным даже не годами, десятилетиями боевого применения навыками.
— Не, не люблю я таких вот невеж, — вздохнул тем временем Котя, получивший, по-видимому, начальственным взглядом добро на силовую акцию… Он протянул здоровенную пятерню с явным намерением ухватить припухающего на столе алканчика за длинную прядь волос и потом уже оттянуться всласть…
За что бить этого седого? А за все! За батяньку-пьяницу, за убогую нищету здешней жизни, особливо по зимнему времени, за непроходящий герпес на интересном месте, подхваченный уже месяца три как от отдыхающей шлюшки, за тягостную ватную стену, маячащую где-то совсем рядом и впереди… И его, Котю, здорового молодого пацана, скоро к этой стене пришпилят, словно насекомое, словно падаль… А сами… Кто эти «сами», он четко представить не мог, но знал, что живет вовсе не той жизнью, какой достоин! Ту, свою жизнь, он представлял в виде шикарно шуршащих иномарок, роскошных телок в длинных обтягивающих платьях, вылезающих из длинных же лимузинов, занавешенных жалюзи кондиционированных офисов с безукоризненными сотрудницами в дорогих колготках под коротенькими юбками… Он так часто представлял себе это, что видел зримо, будто вторую явь. Безудержный ритм дорогой стереосистемы, несущееся под колеса мощной иномарки шоссе, нагие девчонки на крыше авто, изгибающиеся бесстыдно под длинное завывание динамиков:
«Ай-ай-ай-аай-йа-йай, убили негра…»
Нет, где-то в глубине души Котя чувствовал — то, что он представляет, вовсе не настоящая жизнь, так, рекламная пауза, целлулоид, крашеная мертвечина, воск лепленных с трупов кукол, и все же, все же… Знакомую сызмальства окружающую обыденку, надоевшую, как зажеванная жвачка, опостылевшую до последней крайности, он жизнью считать тем более не желал! Да и… ничего он не обязан понимать! Все и так понятно! Страну продали жиды и черные, и их прихлебатели, суки, устроились, а теперь ишь, коньячок привозной хавают, расслабляются, мля!
Котина рука сделала резкое хватательное движение, а дальше… Сначала на веснушчатом лице его проступило искреннее удивление: лапища ухватила пустоту.
Потом… его собственная кисть, будто сделанная из пластилина, изогнулась вовсе не в том направлении, в каком ей назначено и указано природой; дикая, всесокрушающая боль разорвала тело, его повлекло куда-то вниз, увалень по инерции перевернулся кульбитом вперед, стараясь уйти от этой боли или хоть немного ее унять, и растянулся на цементном полу, жестко приложившись затылком и на мгновение потеряв сознание. Открыл глаза, попытался приподняться, но не смог: так и лежал траченной молью медвежьей шкурой, ощущая, как судорога помимо его воли током треплет пальцы рук…
Прямо над ним стоял Ярик: в его широко распахнутых глазах застыли те же боль и удивление, вот только… плоский метательный нож был загнан ему в горло до самых позвонков; алая артериальная кровь фонтанировала, заливая пол. Все, по-видимому, произошло в единое мгновение. Ярик еще стоял на ногах, глаза его еще смотрели прямо перед собой; они заметно помутнели, но не от боли и не так, как мутнеют от алкоголя или наркотика… В них еще теплилась жизнь, а вот души уже не было… Душа уже отлетела и неслась теперь лишь по одному Богу ведомым и подвластным сферам. Труп Ярика упал ничком, как падает неловко поставленная на ребро плита.
Бородач, худощавый вития, всего несколько минут назад изрыгавший высокодуховную оду о гнусности всего человечьего, а потом, после нешуточных ударов Коти, оглушенно сопевший на стуле, теперь стоял в легкой боевой стойке напротив Маэстро. Самое удивительное, что он по-прежнему напоминал хрупкого, малость разочарованного в жизни интеллигента-разночинца. Взгляд его был внимателен, вот только грусти в глазах не было. Вместо грусти в них был лед.
Занавешенный масксетями ресторанчик-шале даже не опустел, и до этого в нем никакого столпотворения не наблюдалось. Просто словно некая пелена опустилась сверху и отделила все здесь происходящее от остального мира завесой бытия-небытия… Оставшийся в живых ряженый не просто ретировался со ступенек вниз, а буквально залег на песке, будто ожидая разрыва не гранаты даже — снаряда стодвадцатидвухмиллиметровой гаубицы. Местные бодигарды в количестве пяти персон замерли за двумя сдвинутыми столами рельефными глиняными статуями; это было похоже, как если бы в обычном театре со сцены раздалась пулеметная очередь, скосила пару неосторожных зрителей, а актеришка, исполняющий роль гнусного меньшевика, вдруг взял да и пристрелил из громадного маузера зазевавшегося дирижера… А далее — действо продолжалось бы по законам театра Станиславского и Немировича-Данченко, а некий мейерхольдовский гротеск был нужен исключительно для придания современной остросюжетной пьесе конструктивистского шарма. Вот только декорации… Они словно были взяты из другого, легкого, изысканного и в самую меру искусственного шоу, напоминающего творения Александра Бенуа, Андрея Белого и Игоря Северянина.
…Маэстро вовсе не старался гнать такие мысли, показавшиеся бы многим совершенно несвоевременными тогда, когда жизнь застыла на самом краешке остро отточенного лезвия, и лезвие это было зажато в чужой руке, бестрепетной, жестокой и чуткой. Вернее, в каждой руке бородача было по клинку. Третий нож он метнул в Маэстро сразу же после того, как тот броском освободился от Коти и выпрямился… Маэстро ушел от броска уклоном: нож просвистел мимо и разрубил горло бедному Ярику. Реакция Маэстро казалась непостижимо скорой, но это даже не было реакцией, это было предчувствие! Не просто угрожающего действия, а самой мысли о нем! Только так можно было сыграть на опережение и остаться в живых.
Только так. Остаться в живых — и победить!
Теперь Маэстро словно танцевал с врагом, перемещаясь легко и грациозно: любая тяжесть в движении означала чужое преимущество, мгновенно превращающееся в чужое превосходство и в твою смерть! Сейчас мужчины напоминали двух кабальеро.
Их соперничество из-за дамы, которая не прощает измен, было пламенным и слегка отстраненным: каждый из грандов всегда готов проиграть, но никогда не готов терпеть поражение!
Выпад! Скрытая улыбка змейкой скользнула по лицу «интеллектуала»: он ударил с отмашкой. На груди Маэстро заалел глубокий порез, от второго, кругового удара другим клинком он ушел уже едва-едва. По некоторым, уловимым только для профессионалов рукопашки признакам бородач понял, что Маэстро устал, устал даже не физически… Он готов был покориться той жуткой даме, которой служил столько лет верой и правдой, он готов был умереть с кровью на клыках, как и подобает хищнику… Осталось немного: просто убить этого седого воина-ветерана, не унизив его.
Бородач провел молниеносную серию отвлекающих финтов, имитационных ударов, незаметно сократив расстояние, подрезав противника… Еще одна серия… Еще…
Он наслаждался своей ловкостью, молодостью, своим искусством… Вот седой поднял руку, надеясь защититься от последующего удара… Сейчас!
Бородач сделал шаг вперед — и замер, застыл, как налетевшее на булавку насекомое! Его собственный нож в долю секунды выскользнул из разом размякшей кисти, и каленый клинок, описав в тонких, музыкальных пальцах Маэстро эллипс, вонзился в горло. Левая рука бородача с зажатым в ней оружием тоже оказалась перехваченной словно тисками… Бородач, силясь сглотнуть вонзившуюся в горло сталь, невидяще смотрел на Маэстро…
Как он жуток! Этот оскал желтых клыков, с которых падает грязно-бурая пена, это рыло, похожее на кабанье, эти красные, в кровяных прожилках глаза…
Бородач почувствовал, как меркнет мир и все его существо оказывается во власти этого пахнущего серой уродца с желтыми клыками…
— А ты думал, смерть выглядит лучше? — тихо спросил Маэстро, глядя в стекленеющие глаза убитого.
Бородач рухнул навзничь; в его мертвых пустых зрачках плясало холодное пламя.
Глава 41
Маэстро не собирался ни торжествовать победу, ни изрыгать из луженой глотки песнь победителя. Смерть снова показалась ему будничной и мнимой, какой он видел ее всегда, но сегодня — особенно безобразной. Маэстро скривил губы в ухмылке, жестким и резким напряжением воли сконцентрировался, прогнал видение, словно стряхнул с души привычный морок, дурман, блеклый, как налет пепла, и неотвязный, как страх…
Страх — это и есть боль души, и избавиться от него можно порой только настоящей, реальной болью. Когда организму приходится бороться за выживание, с реальным, не надуманным небытием, страх забивается в дальнюю щель, но стоит только дать ему волю, как он растет, ширится, затопляет все и вся — и господствует, выматывая нервы, превращая их в истонченные, изрытые кавернами страха нити, готовые порваться ежесекундно и самоубийственно уничтожить и тело, и разум, и душу.
Состояние боевого транса еще не прошло, адреналин еще бродил в крови первым хмелем, делая мышцы гибкими, а разум — скорым и ясным. Одним движением Маэстро подхватил пакет с оружием и спокойно пошел по направлению к выходу. У самых ступенек обернулся, сказал, обращаясь ко всем сразу, пародируя анекдотично-кавказский акцент:
— Нэ гаварите никаму, нэ нада, да-а-а?
Улыбнулся, глаза притом остались серьезными. Бывшие сотрапезники, Пал Палыч и Анатолий Ильич, только кивнули. Старший из местных гвардейцев развел руки ладонями вверх — дескать, нет базара, раз такие расклады. А вообще…
Любой, кто видел всю сцену со стороны, решил бы, что подвыпившие отдыхающие просто малость покуражились; сейчас упавшие встанут, смоют с себя красную краску, посмеются, побалагурят — и побегут очертя голову в море.
— «Как вам только не лень в этот радостный день, в этот солнечный день играть со смерть-ю-ю-ю…» — Напевая, Маэстро спустился по ступенькам, подошел к «уазику», на котором прибыли горе-нибелунги, сел за руль, повернул ключ в замке, выжал сцепление… Автомобиль лениво пополз вверх по склону.
Во-о-т! За что боролись, то и огребли! Затонированный по самые брови джип, допрежь мирно и сонно приткнувшийся у самой кромки волн, заурчал мощным мотором и медленно тронул следом. Именно на этот тонированный гроб и оглядывался ныне покойный бородач-интеллектуал в поисках инструкций. Получил, выполнил. Теперь — можно закапывать. Умничка! Как говорят в народе, лучше один раз огрести, чем всю жизнь соплями размахивать! А что нам сможет инкриминировать контролер со товарищи? Поживем — увидим, не поживем — не увидим. Мудро. «Предъявите билет, что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет…» Сейчас мы вам устроим балет! С адажио, фугой и скерцо! Согласно купленным абонементам и занятым местам!
— В догонялки играть будем? — азартно выкрикнул Маэстро, бросив взгляд в зеркальце заднего вида, перекинул ручку скоростей и запел негромко, на мотив «ярославских ребят»:
— «Ехал негр по пустыне, на телеге да с товаром! Но не знал он, что фашисты затаились за кустами!»
Маэстро почувствовал, как его захватывает пьянящий азарт, так похожий на восторг… Но и не подумал хоть как-то осадить собственное настроение: легкий кураж перед схваткой помогает выжить. Если это кураж, а не предсмертная эйфория всемогущества… Хотя… Что есть вся наша жизнь, как не предсмертная эйфория? И не обидно ли тем, у кого она протекает, как заседание месткома?.. Дежурные речи, дежурные улыбки, дежурные показатели… А когда речи и показатели уже иссякли — finita! Слетел к нам тихий вечер, и мерзлые птицы попадали к земле стремительными болидами. Такие дела.
«Уазик» с натугой одолел горку; джип неспешно пер следом.
— «Налетели тут фашисты, погубить хотели парня — Напевая, Маэстро правил в степь. — Но не дрогнул храбрый негр, вынул ножик из кармана., ..»
Переваливаясь, как утка на выданье, «уазик» кандыбал по твердым ухабам.
Джип шел следом, не отставая и не нагоняя. Маэстро прислушался. Так и есть, характерный вертолетный гул слышался все ближе. Ну да, нате вам с кисточкой, тот самый гаишный соглядатай, разведчик и бука. Никаких пулеметов под брюхом, никаких ракет «воздух-земля»… Да и гранатами он тоже вряд ли станет кидаться: слишком людное местечко по летнему времени, а машина как-никак казенная, . с «цифрой пять на медной бляшке, в синей форменной фуражке»… В смысле — в блакитной. Да и пес теперь разберет эти цвета. Разбросай с такого геликоптера, принадлежащего насквозь независимой державе, лимонки, что будет? Шум будет, и не столько от взрывов — кого этим теперь удивишь? Слухи пойдут, сплетни, пересуды… А времечко ныне — хуже некуда: здесь война, там подготовка к ней…
Кому надо шуметь раньше времен при таких поганых раскладах? То-то, что никому.
А значит, пилота вызвал контролер исключительно с целью похвастаться, как он станет сейчас мочить его, Маэстро. Мешать с выжженной травой, с пылью, с утрамбованной до плотности камня дорого и… У-би-вать. Показательно и без сантиментов. Согласно приказу. За деньги.
Ничего личного.
Словно в ответ на эти фривольно-тревожные мысли, джип наддал, и теперь его туповато-добродушное рыло росло в зеркальце заднего вида стремительно и скоро. В проеме боковой дверцы показалась рука, по-киношному затянутая в тонкую лайковую перчатку и так же, по-киношному, чуть на отлете, бестрепетно сжимающая короткий пистолет-пулемет невнятного производства с навернутым на ствол хоботом глушителя.
Любая подобная шпокалка, будь то израильский «узи», чехословацкий «скорпион» или отечественный «кедр», в любом замкнутом пространстве является грозным оружием: плотные очереди просто сметают тех, кого стыдливо именуют «живой силой противника».. Огонь же из автомобиля, движущегося по родной грунтовке даже с черепашьей скоростью, имеет скорее психологическое значение: попасть можно, но в небо. Хотя… пуля — дура.
Тем не менее прикрытый тонированным стеклом боец выпустил веер пуль; они вздыбили фонтан земли довольно далеко от машины Маэстро.
— Невропатолог сучий… — прошипел Маэстро сквозь зубы. — Психиатр.
Патологоанатом.
Следующая очередь прошла ближе. Пристрелка была успешной. Джип нагонял.
Маэстро вынул из пакета пистолет, положил на сиденье рядом. Несколько раз придавил и отпустил тормоз, попробовал передачу… «Уазик» был на удивление хорошо отлажен. И все же… Маэстро чувствовал холодную горечь, словно затаившуюся под камнем змею. Он чувствовал, что каждое мгновение мозг готов был провалиться в ту самую спасительную эйфорию боевого транса, и тогда… Но притом сердце тревожила и легкая, как дуновение теплого ветерка, иллюзия. Она рождала надежду: может быть, когда все кончится, он еще сможет пожить, как все?.. Без войны?
Пожить без войны… Маэстро на долю секунды прикрыл веки, посмаковал эти нездешние видения, так похожие над предсонные грезы… Ему представилась синяя гладь моря, но не этого — другого, далекого и от этой страны, и от этой войны…
Темная зелень оливковых рощ, белый домик, окруженный низенькой изгородью…
Запах свежесваренного кофе и булочек, тихое поскрипывание старой деревянной лестницы, когда он станет спускаться со второго этажа… Хрустящие тосты, утренний свежий бриз… И запах выловленной рыбы, и сети, развешенные вдоль берега, и перевернутые баркасы, и маленькая таверна у самого побережья, где подают белое вино в графинах, устриц, свежую рыбу, оливки, сыр, где курят короткие трубки и говорят только о солнце, ветре и море… А думают — только о любви.
А вечерами… Вечерами солнце купается в малиново-золотой глади залива, и в едва-едва наметившихся сумерках слышны девичьи голоса, смех, перешептывание…. А ночью — гибкое, распаленное тело девушки рядом, горячий быстрый шепот, стон, полный нестерпимого наслаждения, скользящие по коже прохладные ладони, сон, легкий как ветерок, снова любовь, снова сон, пробуждение на самом рассвете, когда тело полно негой, а. душа — покоем и предчувствием, что впереди будет еще один замечательный день… И еще день… И еще… Пожить вне войны, только и всего.
Пожить без войны… Джип резко прибавил, автоматная очередь полоснула напоследок веером; из люка на крыше высунулся спокойный и серьезный молодой человек, быстрым движением вскинул к плечу короткоствольную винтовку слоновьего калибра…
Пожить без войны. Маэстро резко ударил педаль тормоза, отпустил, крутнул руль. Теперь газ! Снова тормоз! Газ!
Пожить без войны. «Уазик» скакал, как взбесившийся джейран! Выстрелы дыбили землю; фонтаны от ударов свистящего свинца были высокими, пыль в почти недвижном раскаленном воздухе оседала медленно, фосфоресцируя в лучах солнца охрой и неотшлифованным золотом.
Маэстро въехал на взгорок, резко крутнул руль, ударил по тормозам; автомобиль встал как вкопанный. Джип развернулся. Сосредоточенный молодой человек мигом перекинул винтовку, Маэстро заметил, как зрачки стрелка сузились, словно глаза хищника перед броском… Все верно: с такого расстояния не промахиваются, но выстрелить он не успел. Маэстро уже вскинул пистолет, палец трижды нажал на спуск, винтовка выпала из рук преследователя, голова в доли секунды превратилась в разбитый, окровавленный шар, труп тяжко соскользнул в салон.
Водитель джипа пусть на секунду, но замешкался. Тяжелый вездеход застыл на месте. Маэстро выпал из дверцы «уазика», сгруппировался, перекатился дважды, замер и прицельно послал две пули по колесам джипа и еще две — по низу водительской двери. Короткий сдержанный вскрик показал, что он не промахнулся.
Маэстро мгновенно вскочил на ноги, одним рывком одолел расстояние до автомобиля, дернул дверцу, прижался спиной к горячему корпусу вездехода, оказавшись в мертвой зоне. Водитель выпустил веером с дюжину пуль из «узи» в пространство распахнутой дверцы. Как только шквал огня стих, Маэстро сделал шаг в сторону, выбросил руку вперед, цепко схватил сидевшего за рулем человека за запястье, одним движением сдернул с сиденья, выбил оружие и приложил рукоятью пистолета по затылку. Ударил слегка, приводя в состояние легкого грогги: Маэстро не нужен был труп, ему нужен был язык. Развернул к себе, дважды ударил кулаком по лицу, стараясь вызвать острую боль и разбить губы, чтобы пленный явственно почувствовал вкус и запах крови, собственной крови… Вот это сочетание: резкая перемена положения: был охотником — стал дичью, и не просто дичью, а беспомощным обездвиженным зверьком, угодившим в капкан и оказавшимся с врагом вдруг лицом к лицу… Боль в простреленной ступне и невозможность, даже вырвавшись, убежать…
Чувство беспомощности, как и совсем свежее еще ощущение навалившегося на тебя сзади мертвого тела — недавно еще живого, веселого, азартного малого, теперь — просто трупа, пачкающего салон дорогого авто кровью и мозгами… И наконец, вот эта самая острая боль, причиненная тебе только что, и вкус собственней крови во рту… Более деморализующего противника сочетания Маэстро создать бы не смог.
Левой рукой чуть придушив пленника воротом его же куртки, правой Маэстро резко ткнул не остывший еще от стрельбы, пахнущий едкой пороховой гарью ствол ему под нос, намеренно кровавя десны, не отпуская взглядом «прирожденного убийцы» растерянный взгляд противника, прошипел тихо и вкрадчиво:
— Ну? Развлекся, лишенец? Теперь умирать будем, а? — Маэстро несколько раз глубоко вздохнул — и вдруг дикий тарзановский крик разорвал затихший и застывший, мутный от зноя воздух:
— Йа-йа-йа-ай-ай-йа-а-а!!!
И этот безумный крик напугал вдруг пленника совершенно, ибо он не вписывался ни в какие каноны, ни в какие представления, ни в какие правила…
— Пожалуйста… пожалуйста… пожалуйста… — скороговоркой зашептал он.
— Поговорить хочешь?
— Что… что вам нужно?
— Мне?! — оскалился Маэстро в улыбке. — Что мне нужно?
— Да, — Пленник смотрел на Маэстро белыми от смертельного страха глазами, чувствуя, как знойный день вокруг превращается в пронизывающий, щемящий мрак.
— Мне нужно пожить без войны. Только и всего. Пожить без войны.
Глава 42
Гул вертолета был ровным, пилот, зависнув на изрядной высоте, наблюдал «картину битвы»; видел ли он все, что произошло, равно как и то, каким итогом завершилась схватка, — за это Маэстро ручаться не мог, но надеяться надо на лучшее, а готовиться — к худшему. Чужая душа — потемки, чужая голова — сумерки.
И что таится в этих сумерках — желание отвалить поскорее или, наоборот, бодрое и молодцевато-жертвенное «банзай», — неведомо. Потому, чтобы не усугублять и поторопить летуна, Маэстро просто-напросто поднял «узи» стволом вверх и жал на спуск, пока магазин не опустел. Подействовало. Пилот, резонно смекнув, что ловить здесь более, окромя пули, нечего, резко накренил машину и неторопливо ушел в сторону солнца.
Особой радости от поспешной ретирады противника Маэстро не испытал: сейчас этот шустрый наблюдала уже докладывает предварительные хохмочки, но вряд ли он станет трепаться со всей откровенностью по рации в прямом эфире при таком количестве выпущенных пуль и стольких тепленьких трупах. Но через энное количество времени непременно разъяснит-доложит что следует и кому следует…
Лично. Вот тогда — возможны варианты. То, что варианты эти для Маэстро проигрышные, — он знал изначально: не нужно для этого быть ни ясновидящим, ни магом. Сила солому ломит, и стоит только ловцам подтянуть два десятка хороших профи вместо ряженых… Пока удача по своим непостижимым законам на его стороне, но — никакая удача не длится бесконечно. А потому необходимо прокачивать контролера, прокачивать быстро и без сантиментов. Контролер — фигура в сюжете всегда не последняя, всего он не знает, но знает достаточно, чтобы оперировать двумя так нужными теперь ему, Маэстро, понятиями: «Первый» и «база».
Маэстро, жестко контролируя шею пленника не самым щадящим захватом, приблизил его лицо к своему и уставился в его зрачки немигающим взглядом.
Спросил:
— Ты готов говорить?
— Да…
— Не слышу!
— Я готов говорить.
— Ты будешь говорить правду или мне тебя убить?
— М-мне…
— Я не закончил. Пойми правильно: у меня нет времени грамотно тебя прокачать, у меня нет времени отделять зерна от плевел и правду от лжи, у меня ни на что уже нет времени из-за этой «железной птицы». — Маэстро кивнул в ту сторону, куда удалился вертолет. — А потому запомни: или ты даешь согласие отвечать и отвечаешь, но полную правду, и тогда остаешься жить — мы не на Гиндукуше, не в Ливийской Сахаре и не в горах Памира, чтобы я отправлял к праотцам каждого встречного во имя сохранения тайны пребывания… Или, как только я услышу хоть слово лжи, — я убью тебя, и сделаю это так, что ты станешь умирать долго и мучительно. То есть — очень мучительно и очень долго. Обещаю. И ты не покончишь с собой от боли, ярости или помутнения рассудка: я сделаю так, что у тебя останется надежда выжить… Которая будет иссякать медленно, как сочащаяся из-под ногтей кровь… И все это время ты будешь испытывать муку… сумасшедшую муку… От нее ты и погибнешь. Ты все понял?
— Да, я понял.
— Не торопись, подумай… Возможно, кто-то тебе чего-то не простит.
Возможно. Если выживет. Но… С этого момента у тебя есть возможность выбирать: или нелегкую жизнь, или скверную, очень скверную смерть. — Маэстро замолчал, закончил вроде безразлично:
— Вообще-то, если есть возможность выжить, нужно выбирать именно это. Выжить. А дальше — время покажет. Или — времени не останется вовсе. Ни времени, ни пространства, ничего. Выбирать нужно сейчас.
Немедленно.
— Я… я выбрал.
— Жизнь?
— Да.
— Ты готов отвечать?
— Да.
— Ты готов отвечать правду?
— Да.
Маэстро внимательно, очень внимательно смотрел в лицо пленному, словно изучая каждую морщинку, каждую оспинку, каждый мускул, каждое движение белков глаз, каждое сужение и расширение зрачков… Человек — существо куда более чуткое, чем бездушный полиграф, детектор лжи; человек — существо куда более лживое и извращенное: он может обмануть не только компьютер, но и другого, даже очень подготовленного человека, «слить дезу», или, говоря высоким штилем, — завести в пучину лжи и тем — погубить. Погубить намеренно или вынужденно, когда человек гибнет сам и увлекает ведомого в ту же погибель.
Нет. Здесь не тот случай. Парню лет двадцать пять — двадцать восемь. Он из тех самых потерянных подростков, в этом Маэстро был убежден. Из тех, кто рос в октябрят-ских звездочках и пионерских галстуках, а на переломе, в подростковом возрасте, узнал, что добрый бог его детства — просто ссохшаяся мумия в Мавзолее, палач, мучитель, слуга зверя… Вот и выросло поколение. Это не значит, что нет в нем людей самоотверженных, просто… сломанные на излете, они если и находят себя, то работают или за деньги, или за большие деньги. Третье если и дано, то это такое исключение, которым в массе можно и пренебречь. Упираться за голую идею эти парни не способны; не только воспитание другое, но и генетика: всех упертых и самоотверженных истребляли почти столетие. Да и нет у них такой идеи, за которую было бы не жалко умереть. Совсем нет. Такие дела.
Малый не соврет. В этом Маэстро был убежден.
— Что вы хотите знать? — не выдержал затянувшейся паузы пленник.
Вопрос Маэстро проигнорировал.
— Запомни. Если ты согласишься отвечать, но соврешь, хоть единожды… я просто сделаю так, что ты станешь бревном. Никчемным, гнусным бревном, способным только лупать ресницами, таращить гляделки и ходить под себя. И еще — испытывать боль. Гнить, пока не подохнешь. Ты понял?
— Да.
— Повтори.
— Я понял.
— Умница. Теперь отвечай. Воюешь за деньги?
— Да. А вы что, иначе?
— Кто за мной охотится?
— Не знаю.
— Не знаешь?
— Нет.
— Тогда поставим по-другому вопрос: кто приказал меня устранить? Ведь приказ был именно такой?
— Да. Ликвидация. Но…
— Слушаю, договаривай. И отвечай быстро.
— Я помню о вашей преамбуле к нашему «риббентроповскому пакту».
— Да?
Маэстро взглянул на парня по-новому. Ему сейчас больно и страшно. Очень страшно. Но он не потерял способности шутить! И это не киношное зубоскальство: это вполне продуманная попытка вступить в неформальный эмоциональный контакт с допрашивающим, с ним, Маэстро. Это попытка поверить в жизнь и в конце концов выжить. Не так плохо; видно, поторопился он с эпитафией поколению двадцати-с-лишним-летних.
— Шутишь? Это мило. Вот только когда речь идет о моей жизни и моей смерти, я не вполне расположен к шуткам. Так в чем состояло это «но»?
— Сначала нужно было убедиться, что вы — это вы.
— Чтобы стрелять наверняка?
— Да.
— И вы решили спровоцировать меня на действие?
— Решил не я. Решил Ричард.
— Кто есть Ричард?
— Мой работодатель.
— Чем я ему не угодил?
Мужчина пожал плечами:
— Не мое дело.
— Ничего личного?
— Да.
— Как в кино.
— Жизнь такая.
— Так кто — я?
— Вас называют Маэстро.
— И что ты еще знаешь, кроме… имени?
— Больше ничего.
Тоже немало, хотел сказать Маэстро, но не сказал. Когда твой оперативный псевдоним начинает гулять в радио-эфирах и постановках задач группам, это означает только, что тебя не просто списали. Тебя списали полностью и бесповоротно и приложат к уничтожению любые усилия. Раньше было так. Теперь…
Возможно, теперь у Лира и тех, кто за ним стоит, другие силы и средства, но назвать их меньшими… А еще это означает, что твой фотопортрет, возможно стилизованный и замаскированный под фоторобот, гуляет по всем силовым ведомствам.
И что мы имеем? А имеем мы старенькую сказку о рыбаке и рыбке. Рыбак, стало быть, досточтимый Лир. Король, пэр и эсквайр. И никаких трех желаний ему исполнять не нужно, он сам чье угодно желание исполнить в силах. Ну а рыбок, стало быть, две: одна — Маэстро, хищник; другая — Аля, малек. Вернее даже, живец, на который должны броситься крупные рыбы и… Стоп! А может, они уже и бросились? И парнишка, которого он, Маэстро, сейчас «выдернул на правило», работает по подставе и сценарию Лира и его присных?
Что еще? Сеть мелка. Задерживает не только крупных хищников, но и мальков.
Для него же, Маэстро, задача остается прежней: попасть в сеть и так ее рвануть, чтобы свалить рыбачка в пучины вод. В омут. Да притопить, чтобы не выбрался.
Никогда. Предварительно убедившись только, что это тот самый рыбачок, а не траулер «Надежный», не эсминец «Стремительный» и не большой противолодочный. крейсер «Стерегущий». Иначе — греха не оберешься. Такие дела.
Глава 43
— Как вы меня разыскали? — спросил Маэстро.
— Не знаю.
— А если подумать?
— Я или знаю, или нет. О чем думать? Мне дали приказ, я — выполнял.
— А высказать предположение? И — забудь про «преамбулу». Шею сверну, если будешь врать. Если же станешь «активно помогать следствию» — вовсе даже наоборот.
— Что — наоборот? Срок скостите?
— Сроки на этой грешной земле не люди определяют.
— То-то вы похожи…
— На кого?
— На демона.
— Врубелевского?
— Нет. Лермонтовского.
— Льстишь?
— Бодрюсь. Когда тебя прихватили так крепко, хочется хоть перед самим собой выглядеть если не героем, то бодрячком.
— Так куда веселее. Так кто на меня навел?
— Летчик, — пожал плечами пленный. — Пилот вертолета.
— Все очень просто и очень грустно. Нас ищут?
— Еще как! После того шороху, что подруга ваша вчера наделала… А после сегодняшнего — и подавно. Засуетились все.
— Чего вдруг?
— Шутите?
— Да уж какие шутки.
— Ничего себе — «вдруг». Сначала Рому Ландерса и Батю валите, потом — девка ваша Креста опускает на ствол и колеса, потом — все пацаны из команды Черепа к «верхним людям» уходят, как чукчи, и вы еще спрашиваете — чего хотят?
— Спрашиваю.
— Денег хотят. Все хотят денег. — Ты тоже?
— Я уже отхотел. Две нижние клешни прострелены, больно, никакая хотелка не заработает.
— Резонно.
— За вас большие деньги обещаны. По здешним меркам — очень большие, это же не Москва. — Пленный вздохнул.
— «Не вздыхай так тяжко и напрасно…» — пропел Маэстро строчки на какой-то полузабытый мотив.
— Не повезло мне.
— Это как посмотреть. — Маэстро кивнул на труп в салоне. — Ему не повезло больше.
— Так везет не всем.
— Прекращай ныть!
— Я не ною. Просто хотелось пожить.
— И денег хотелось?
— Конечно. Я же сказал, пожить. Без денег — что за жизнь?
— Денег всегда меньше, чем людей, которые их хотят. Вот и прореживают друг дружку. Беда.
— Беда… Да наплевать на всех. Мне на них, им — на меня. Всем на всех.
Жизнь — дерьмо. Маета пустопорожняя, и нету в ней ничего. Ни ласки, ни откровения, ни смысла.
Маэстро усмехнулся:
— А ты философ. Когда было лучше?
— Не знаю. Моя мамашка говорит — раньше. А я не верю.
Маэстро почувствовал, что пленник затосковал. И сейчас ему нужно дать возможность пусть на минуту, но расслабиться. Иначе он может создать проблемы.
Например, попытается освободиться. И тогда — погибнет раньше, чем он, Маэстро, успеет поговорить с ним обо всем, что его интересует.
— Правильно не веришь.
— Жизнь дерьмо.
— Очень похоже.
— Люди только и делают, что мечутся между болью и страхом. Оголтело мечутся. Это метание и прозывается жизнью.
— Кто бы спорил.
— И до денег добредают не все.
— Новая мысль. Оригинальная.
— Издеваетесь?
— Вот еще… Когда я издеваюсь, то иголки раскаленные под ногти вгоняю. Не веришь?
— Верю.
— Во-о-от. Пленник вздохнул:
— А жить все равно охота.
— Инстинкт, — пожал плечами Маэстро.
— Ну. Надежда умирает последней.
— Нет. Надежда не умирает никогда.
— Вот в этом вся подлость. Вы меня убьете. Маэстро?
— Нет.
— Почему? Вы же сильнее.
— Разве?
— Сейчас — да.
— Хм… Сильные побеждают слабых, умные подчиняют сильных. А над теми и другими господствуют подлые. Те, что умеют предавать раньше других.
— Это сентенция?
— Это наблюдение. Опыт.
— Зачем мне ваш опыт?
— Кто знает?
— Вы не ответили… Вы ведь меня все равно убьете?
— Если бы тебе было все равно, ты бы не спрашивал.
— Чего цепляться к словам? В этом дерьмовом мире собственная шкура — единственное, что серьезно волнует кого бы то ни было. Я не исключение.
— Тогда исключение я, — горько усмехнулся Маэстро.
— Неужели? У вас недавно была прекрасная возможность уйти из жизни, минуя формальности и бюрократические проволочки.
— Я — противник насильственной смерти.
— Бывает другая?
— Хороший вопрос.
— Так вы убьете меня?
— Еще более хороший вопрос. Нет, не убью.
— Почему? Вы же старый волк.
— Не такой уж и старый.
— Это даже не по правилам.
— В смерти нет правил.
— Разве?
— Устал я убивать.
— Устал?
— Да. И потому правила с некоторых пор я устанавливаю себе сам.
— Так бывает?
— Поживем — увидим.
Тоска, нежданная и острая, кольнула сердце. Маэстро вдруг понял, что жизнь, его жизнь, прошла, и прошла напрасно. Он ничего не создал, ничего не воплотил и никого не смог защитить… Все прошло. Осталась только месть. Его месть Лиру. За что? За погибших ребят? Или за себя самого? За свою жизнь, сгоревшую, как скверная свечка?.. Лир… Этот властолюбивый старик выигрывал раньше раз за разом. Что нужно противопоставить ему, чтобы выиграть теперь? Да и что такое «победа»?
Стоп! Все это чушь и глупость! Победа — это слово еще более сладкое, чем свобода! Ибо в победе — воля! Самоотверженная, реализованная воля! Самое скверное, что он, Маэстро, позволил себе начать себя жалеть! Пока не кончен бой, пока не сыгран раунд, пока… Да даже если жить тебе осталось час, а в пистолете один патрон — это не повод застрелиться! Достань врага, выполни задачу, а потом — плачь, рыдай, лей, когда тебя никто не видит, жалей себя… Но недолго. Что же произошло? Что? Старость? Или — следствие контузии?
Маэстро поморщился. Скверно. Эта сволочная штука и раньше прихватывала не ко времени, а после амнезии… Совсем скверно. И еще — тоска. Острая как игла…
Маэстро порой казалось, что он узнавал ее: такой была тоска близкой смерти. Чаще всего — чужой: свою смерть, как и свою пулю, суждено услышать не каждому…
Когда-то на войне она проходила совсем рядом, касаясь руки или слегка колыша волосы; теперь…
Нахлынувшая тьма была серой и непрозрачной, но длилось это лишь мгновение… Маэстро кое-как справился с приступом, сглотнул жесткий шершавый комок. Почувствовал, как ослабли руки, но пленник не проявил ни малейшей попытки вырваться. Для него игра была сыграна. К чему снова рисковать? Интересно, что, после твердого обещания сохранить ему жизнь парень вовсе не расцвел: сник разом, обмяк, будто из его гуттаперчивого тела вынули проволочный каркас. Теперь глубоко запрятанное беспокойство затаилось вялым ленивым зверем; зверь этот может броситься, но скорее — сожрет самого «хозяина» — Маэстро это было знакомо: человека не так ломает несчастье, как призрак несостоявшейся надежды.
Нужно было спешить с вопросами. Пленный бледнел наг глазах: боль, страх, кровопотеря — все это вместе превратило крепкого парня в мятого и больного, атлетически сложенного ханурика.
— Куда пошел вертолет?
— Что? — Пленный мутно всматривался в лицо Маэстро, явно не расслышав вопрос: и пытаясь прочесть его по губам.
— Вертолет? Где он приземлится?
— На базе.
— Где именно?
— Километрах в восьмидесяти отсюда. Под Южногорском.
— Что-то военное?
— Да нет. Просто небольшой пансионат. Типа турбазы.
— Пансионат? С площадкой для посадки вертолетов?
— Там рядом — гаишный домик. С бетонной полянкой.
— Удобно. Как называется турбаза?
— Пансионат «Мирный».
— Красивое название. Главное — свежее.
— Нормальное.
— Много там людей?
— Когда как.
— Сейчас — сколько?
— Человек пятнадцать. Но ожидают прибытия…
— Кого?
— Мне не докладывали.
— А что сам думаешь?
— Крутые какие-то. Из столиц. На усиление.
— На усиление чего?
— Они найдут. Может, вас ловить, а скорее, новых «крестных» ставить. Места у нас богатые.
— На наркоту?
— На тропы. Стоит только чуть-чуть Таджикистан или Чечню войной перекрыть, тропы эти золотыми станут.
— Мертвым золото ни к чему.
Парень вздохнул, скукожился как-то разом, еще больше сник.
— А ты — информированный парниша, — решил взбодрить его Маэстро.
— Не-а. У нас тут как в коммуналке. Если при делах — все про всех знаешь.
— Кроме того, что знать не положено.
— Это да. От лишних знаний и дырки лишние случаются. В голове.
— Публика любопытствующая вокруг турбазы шляется?
— А кому оно надо?
— Мало ли…
— Да нет. Слух давний: турбаза, в смысле — пансионат, принадлежит Управлению делами то ли президента, то ли правительства, то ли Газнефтепрома. Да его еще постоянно передают с баланса на баланс. Черт ногу сломит. Никто и не суется.
— И какой слух вернее?
— Не знаю. Да и какая разница. Сейчас вся страна как матрешка. Под одной вывеской — другая, за ней третья… И какая рожа стоит за всем на самом деле — поди разберись.
— Не, ты точно философ.
— Да ну… Все это знают, а толку? Сели на шею, и ездят. — Пленный вздохнул — и снова затосковал глазами. — Вот только… У каждого поколения — своя война. И найти среди этих войн самую справедливую… — Помолчал, добавил:
— А вообще-то, вы правы. Маэстро. Хорошо бы пожить без войны.
Маэстро хотел что-то ответить, но не успел. На этот раз тьма наползла стремительно, как смерч. Она закрутила, подняла, потащила, уволакивая в полосу грязно-желтого тумана, удушливого, горелого, перекрывающего горло полынной жаждой и запахом горького миндаля.
Пожить без войны?! Ах, эти забавные животные!.. Ах, эти безжалостные двуногие звери… Пожить без войны… Как тогда узнать, кто чего из вас стоит?
Не-е-ет, круг бытия должен быть разумен и органичен: одним время жить, другим — умирать… Пожить без войны… Желать этого возможно, вот только кто же станет выполнять такую неумную и неестественную прихоть? Никто. Потому что прожить без войны нельзя. Нельзя — и точка. А мечтать?.. Да пусть мечтает. Пусть его. Пусть.
Маэстро мотнул головой — и очнулся. Он сидел на земле, закусив губы; издевательский визгливый голос все еще звучал в ушах мерным и монотонным скрипом, а перед глазами словно стелился тот самый грязно-желтый туман, ядовитый и кислотно-едкий. Постепенно, как сквозь пелену, проступило окружающее: блеклое небо, выжженная степь и там, метрах в трехстах, внизу — замершее, уставшее от зноя море. И еще он почувствовал, как крепко, до . судороги, сжаты кисти рук…
Пленник, которого он, Маэстро, машинально, наработанным движением прихватил за ворот куртки перед тем, как упасть в беспамятство, лежал неловко на земле, бледный, с синими губами… Маэстро попробовал его приподнять, тряхнуть: парень был безжизненно тяжел.
Дикая, звериная тоска накатила на Маэстро. Он поднял голову к небу, готовый завыть от собственного бессилия, унижения, рабства. Смерть снова сыграла с ним по своим правилам и оказалась в выигрыше.
Но Маэстро не завыл. Одним движением опустился на четвереньки, пощупал горло: нет, хрящи и позвонки целы, он просто придушил парня, пережав сонные артерии. Привычным, выверенным движением Маэстро развел руки пленному, свел, развел снова, наклонился. Вот так: искусственное дыхание, потом — массаж сердца.
И снова руки, снова-искусственное дыхание, снова — массаж. Пот крупными: каплями покатился по лицу, но Маэстро лишь ускорил движения. Сейчас он был как одна реанимационная машина.
Есть! Щеки раненого порозовели, он закашлялся надрывно, перевернулся на бок… Маэстро сидел рядом и довольно глупо и бессмысленно улыбался. Пленный ощупал горло, довольно дико посмотрел на Маэстро… И — заплакал.
— Попробуй пожить без войны… — наклонившись, прошептал Маэстро пленному на ухо. — За нас двоих.
Потом встал, собрал оружие, сложил все в бывшую здесь же, в машине, сумку, забросил ее на плечо и пошел к обрыву. Через несколько минут он был на краю, готовый сбежать вниз по едва приметной тропке.
Прямо в степи, рядом с обездвиженной машиной, сидел солдат. Безымянный солдат безымянной войны. Он остался жив. Он сидел и плакал, размазывая слезы.
Потому что ему повезло.
Часть восьмая РЫЦАРИ ПРЕИСПОДНЕЙ
Глава 44
Небольшой маневренный самолет пробежал по полосе-и замер. Две дюжины молодцов, обремененные объемными спортивными баулами, загрузились в автобус «мерседес» с тонированными стеклами и крупной надписью вдоль каждого борта белым по синему: «ДИНАМО». Автобус вывернул на трассу, проехал с десяток километров и свернул под свеженькую табличку: «Пансионат „Мирный“ Управления делами Атоммашпрома».
Глостер, следующий за автобусом на темно-синей «вольво», повернулся к попутчику, лысому толстяку с бульдожьей челюстью, ясными глазами пионерского вожака и огромными ручищами-культями борца-тяжеловеса.
— Что это за зверь, Ричард? — спросил Глостер, кивнув на вывеску.
— Атоммашпром?
— Да.
— А что? Очень широко известное в узких кругах учреждение. Но это не значит, что на базе нет комфорта, наоборот: чем ближе мы к природе, тем лучше. К столу у нас — изысканные вина, на закрытом пляже — изысканные девочки.
— Я помню. Киллеры-малолетки вроде Киви.
— Ну что вы, Глостер. Какие киллеры! Наши малышки нежны и неискушенны, и это приводит гостей порой в полное неистовство… Те из них…
— Что-то мне не нравится ваш игривый тон, Ричард, — раздраженно перебил его Глостер.
Как и в первый раз, произнесение оперативного псевдонима здешнего сотрудника далось Глостеру с трудом. Виною всему — стереотип. Ричард — это нечто высокое и царственное. По фактуре такой человек в наших представлениях — сухопарый, скуластый, с проступающей сединой в длинных волосах, с тонким благородным профилем, с твердо очерченным ртом, но притом — рисунок губ чуть порочен… Словом — мессир рыцарь, управляющий своим феодом с покровительственной ленцой и привычной жестокостью.
И вместо этого — увидеть кареглазого толстого весельчака?.. Вернее даже… толстым он казался только с первого взгляда. Присмотришься — и поймешь, что Ричард просто играет добродушного толстяка; на самом деле ненужного или опасного для себя человечка он придушит легко… И не как-нибудь, а в дружеских объятиях.
И жизнерадостная улыбка стареющего купидона и дамского угодника притом останется играть на полных чувственных губах, и красивый, как у завзятого восточного тамады, баритон будет разливать бархатистую речь, полную приятных похвал и сладкой неги.
Сейчас Ричард ищет стиль общения, проверяет его, Глостера, «на вшивость»… Да и времена поменялись: то, что было когда-то номенклатурным или особистским шиком, — андроповский аскетизм, сусловское высокомерие, брежневское «построение» — теперь смотрелось просто глупо. И Ричарду наиболее комфортен в этих причерноморских широтах стиль хозяина — хлебосола и балагура… Вино, банька, девочки?..
Нет! Глостер решил: все будет по-деловому, жестко и холодно, как ноябрьское небо над Петербургом. Глостеру просто нужно сразу поставить этого местного князька на отведенную ему ступеньку; времена изменились, но отношения сюзеренов и вассалов, как бы они ни назывались, остаются неизменными: за кем сила, за тем и власть.
— У вас неприятности, Ричард? — выдержав приличествующую случаю паузу, резко спросил Глостер. Спросил просто так, ничего особого не предполагая, но по реакции понял, что попал. — Так я готов выслушать, — спокойно дожал он хозяина и закончил совсем уже мирно, чуть иронизируя, но ледяным тоном отметая всякий намек на возможное панибратство:
— Может, что и выдумаем умное. На пару, а?
— Ну… Скорее это… Я бы не назвал это неприятностями… В том смысле, что…
— Да? А что? Недомогание? Насморк? Ящур? Золотуха? Пандемия скоротечного рахита?
— У меня погибли люди.
— Даже так?
— Несчастливое стечение обстоятельств.
— Погодите, погодите… Кажется, я даже знаю имя этим «обстоятельствам»…
— Глостер выбрал издевательский тон, причем намеренно опереточный и тем особенно обидный для этого хазарского князька. — Маэстро? Это связано с ним?
— Да. Связано. — Глаза Ричарда помутнели от гнева, но он сдержался.
— Вот как? — Глостер растянул губы в неприятной улыбке. — Кажется, во время нашего телефонного рандеву вы даже иронизировали на счет Маэстро? И скольких ваших людей он отослал к праотцам? Пять? Семь? Десять?
— Двоих.
— Двоих? Да он стал просто человеколюбцем! Ильич какой-то, добрый дедушка Ленин, а не киллер!
— Ситуация сложилась довольно странно…
— Прекратите, Ричард. Странность лишь в том, что все ваши люди не полегли там смертью дебилов. И знаете почему? Все можно выразить старинной поговоркой: жадность фраера погубит. И не только к деньгам ваша жадность, Ричард: жадность к действию. А если быть совсем точным — жадность к власти.
— Если бы не эта милая черта, и вы и я подгнивали бы сейчас архивариусами в жилконторах, нет?
— Я не закончил. Вы, именно вы, Ричард, провалили операцию, потому что не разработали ее здраво, не обкатали как следует, не выделили лучших людей…
Результат налицо.
— Вы никогда не бывали на партактивах, Глостер?
— Какое это имеет отношение к делу?
— Уж очень славно у вас получается читать нотации.
— В вашем положении, Ричард…
— В положении остаются беременные институтки! Да и то лишь незнакомые с правилами контрацепции! Сейчас таких дур уже нет. Я же, Глостер, тем более не из числа обиженных или крайних. — Ричард нехорошо прищурился, не отрывая ставших почти черными глаз от переносицы собеседника; в лице его точно проступило нечто жестокое, до поры умело спрятанное в уголках губ и в уголках глаз.
— Вы решили поогрызаться? — насмешливо процедил Глостер, пытаясь пренебрежительным сарказмом сохранить за собою превосходство в разговоре, которого уже не чувствовал.
— Я решил расставить точки над "i". А именно: или мы, вы и я, делаем одно дело, или вся ваша, с позволения сказать, экспедиция превратится в экскурсию.
— Вы забываетесь, Ричард… — произнес Глостер ледяным тоном. — Лир предоставил мне все полномочия с тем, чтобы…
— Да бросьте вы, Глостер. Лир выжил из ума.
— Вы отдаете себе отчет…
— Отдаю. У нас приватная беседа, Глостер, вы — на моей территории, мой гость, так сказать. Вы прибыли сюда как координатор центра, как человек Лира, вот только…
— Договаривайте, я слушаю вас!
— Я вас не звал.
— Вот как? Пока я был в Москве, вы говорили иначе…
— Это вам все казалось иным, Глостер. Там, в Москве. Ричард вздохнул, но не тяжко, а скорее с какой-то усталостью, словно ему предстояло рассказывать совершенно очевидную вещь ребенку, но сделать это было необходимо, иначе непонимание, возникшее между обоими, перейдет в ссору, в неодолимую обиду.
А Глостер… Ему казалось, что он болтается по замкнутому, вогнутому кругу; вокруг — тяжкие, будто литые бетонные стены, и он все никак не может ни вырваться, ни понять собственной роли здесь. Самое грустное и гнусное было в том, что Ричард был абсолютно прав! И что из того? Такой же или почти такой же разговор был у него, Глостера, с Диком… И где теперь Дик? Мертв. Откуда узнал Лир об их разговоре?! Никаких подслушивающих устройств в автомобиле не было, Глостер мог за это ручаться, но Лир — узнал. Как? Ведовством?
Жутко… При одном воспоминании об этом могущественном старике Глостеру становилось жутко; этот страх был сродни детскому, когда ребенок вдруг остается один дома и чувствует, как из темноты за окном, из каждого угла, из запечья на него надвигается что-то неодолимое… И кто-то невидимый ходит по дому, шуршит в шкафах, скребет по штукатурке… А он прячется в кровать, укрывается одеялом, зажмуривает глаза, но страх уже стиснул холодными мышиными лапками сердце, и нетопыри прочерчивают тьму где-то совсем рядом, касаясь лица холодными взмахами перепончатых крыльев, будто сорвавшиеся с Нотр-Дам химеры… Глостер почувствовал, как холодный озноб прошел от спины по рукам до самых кончиков пальцев, вспомнил вгляд Лира… Ну да, взгляд: глаза его были водянисты, пусты и безжизненны, как бельма. Нет, Лир не обезумел: он всегда был таким.
— Все меняется… — спокойно продолжал тем временем Ричард. — За десять лет низверглась империя, почти в каждом из былых ее осколков построена своя национальная деспотия… А деспотия — это очень удобно и для толпы, и для героев. Для толпы — есть кому поклоняться и от кого получать пряники и побрякушки на грудь. Для героев… Героям есть кому служить не за деньги, а за идею! Все тираны любят мифологизировать свою власть… Чем не ловушка для героев?
Ричард вздохнул тяжко, словно вспомнил что-то давнее в своем прошлом, совсем давнее, когда вагнеровские валькирии еще могли свести его с ума и заставить поверить в то, что он способен перевернуть этот мир и обрушить его в тартарары.
Глава 45
— Этот Маэстро… — Ричард раздумчиво поднял глаза к потолку. — Я по-своему понимаю его, и мне его по-своему жаль. Вы знаете подоплеку его конфликта с Лиром?
— Разве это важно?
— Вы правы. Наверное, это действительно не важно: два человека из прошлого, две тени вступили в схватку сейчас, при свете дня, вовлекая в нее живых людей… Разве это разумно? — Ричард снова вздохнул, прикурил сигару, пыхнул, продолжил уже спокойнее:
— Мир поменялся, И только Лир, этот выживший из ума старик, полагает, что еще правит. Чем он себя считает? Теневым кардиналом канувшей империи? Координатором армии несокрушимых вервольфов или, раз уж территория славянская, волкодавов? — Ричард снова вздохнул, на этот раз сдержаннее. — Все это славно для шпионских романов, но очень плохо по жизни.
Другое время, другие люди в игре. И — другие ставки, — Вы полагаете, Ричард, у Лира малые ставки? — Верхняя губа Глостера дернулась, и передние зубы обнажились в непроизвольном оскале, словно у того самого зверя, которого так неосторожно помянул Ричард.
— Важно не сколько поставлено, а сколько получено. — Ричард успокоился совершенно, он оценил реакцию Глостера: тот не возражал по существу. Теперь осталось только завершить вербовку. Ну да, что это, если не вербовка? Как сформулировал кто-то из нацистских бонз, смысл этой жизни состоит только в том, чтобы тебе подчинялось как можно больше людей, а ты — как можно меньшему их числу. Сделать Глостера подчиненным не удастся, но и заставить этого нерассуждающего бультерьера из Лировой своры заметаться, задрать морду и верхним нюхом почуять нечто… То ли запах сахарной кости, то ли падали… Любое из этих беспокойств Глостера хорошо для него, Ричарда.
— Каждый идиот может играть в русскую рулетку и воображать себя Господом Богом, но что он получает в итоге? — Ричард комфортно откинулся на сиденье, в его речи появились поучающе-профессорские интонации. — Пулю. Вам оно надо, Глостер?
Вместо ответа, Глостер неторопливо достал из кармана портсигар, выудил сигарету, размял, щелкнул зажигалкой, полюбовался пламенем, прикурил, пыхнул, на мгновение окутавшись невесомым голубоватым дымом.
— Лир давно не контролирует ситуацию. Совершенно. Теневая власть призрачна, на свету она пропадает. Скажите, дорогой Глостер , зачем любому из сильных мира сего, из князей власти официальной сейчас терпеть такого конкурента? Который бесцеремонно лезет в дела всех и каждого, руководствуясь — чем? Правом? Но какое может быть право, если нет силы? Ведь у каждого из президентов в их республиках — это вам не Россия! — мощнейшие службы безопасности, преданные лично им. Какие уже теневые заговоры… А Лир распоряжается огромными деньгами и, следовательно, манипулирует и людьми, и событиями. Зачем? К собственной выгоде? Или — из самой человеческой из всех страстишек — страсти к игре? — Толстяк улыбнулся широко и добродушно, произнес с легкой, чуть нарочитой иронией:
— Нет, возможно, есть еще и масонские ложи, и тайные вечери, и клятвы на крови, и шабаши «золотой сотни» богатейших семейств, и камлания иноверцев… Но ведь все это из бульварной прессы и никак не из реальной жизни, нет? — Ричард внимательно и пристально посмотрел Глостеру в глаза.
Тот взгляда не отвел, но и на взгляд не ответил: особое искусство «пустого созерцания», которое может вполне деморализовать собеседника, довести его до истерики, до взрыва… Но только не Ричарда. А все же и он — замельтешил глазами, засуетился, пусть и едва-едва.
— Ну да, ну да… — произнес Ричард скороговоркой. — Наверное, и это возможно, но где-то там, на Западе, и не в нашем районе… — вполне добродушно и миролюбиво произнес толстяк, пародируя акцент товарища Саахова из «Кавказской пленницы». — А если вернуться к нашим баранам… — Голос его стал серьезен. — Глостер, я полагаю, для вас это вопрос оч-н-чень трепетный: что будет, если Лир вдруг умрет? Ведь бессмертных у нас нет.
— Кроме Кощея.
— Смерть Кощеева в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце… И вся эта сборная матрешка — за тридевять земель. Помню, — с добродушной улыбкой сказал Ричард, но, пока он говорил, улыбка эта его угасала, таяла, словно некто невидимый за сценой руководил светом, заставляя его медленно меркнуть, будто театральную люстру. — Я говорю серьезно.
— Куда серьезнее. Это предложение?
— Можно считать и так.
— Тогда… мне предстоит подумать.
— Время терпит.
Время терпит. Но не всех и не всегда. Да и… время не только в разном возрасте течет по-разному, но в разных местах. И если в Москве — оно мчится, словно ветряной шквал по проспекту, погребая секунды, минуты, часы под освещаемыми вечно искусственным светом сводчатыми коридорами подземки, то на юге оно тянется ленивой и сонной клячей… Где год за день, а день за год… И в одно утро умещается столько, а впереди еще целый день — знойный, длинный, тягучий… И такой же длинный вечер, и теплая звездная ночь… Вот и теперь Глостеру пусть на миг, но показалось, что мчатся они по этому полупустому шоссе уже целую вечность… И Москва осталась там, в далеком далеке, и не только в пространстве, но и во времени.
Но как бы там ни было, а решать надо. Решать сейчас. Решать быстро.
Глостер кивнул каким-то своим мыслям, выудил сигарету, протянул открытый портсигар Ричарду:
— Угощайтесь. Ручаюсь, такого табака вы не пробовали.
— Спасибо, конечно, но…
Пусть на секунду, но Ричард смешался. Сигареты он не курил вовсе, да к тому же был почти патологически брезглив и никогда не стал бы угощаться чужой, но… школа. Когда так или иначе вербуешь человека, ну, пусть не вербуешь, привлекаешь на свою сторону или хотя бы нейтрализуешь, превращаешь из недруга в индифферента, уступай ему в мелочах! В тех самых мелочах, которые для тебя значения не имеют, а для него важны, закреплены рефлекторно в тысячах, десятках тысяч повторений… И если тебя угощают сигаретой, сделай человеку приятное, покури с ним, похвали его вкус, его выбор… И он — твой.
— Даже не знаю, Глостер, что вам и сказать… — улыбнулся наиприятнейшею из улыбок Ричард, и Глостер понял, кого ему все это время напоминал сей разожравшийся «офицер удачи», ставший «прапорщиком наживы», догом на побегушках у кого-то из местных политиканов; он напоминал Павла Ивановича Чичикова, собственною персоной!
Сходство показалось Глостеру вдруг столь разительным, что он чуть было не молвил жеманно и витиевато: «Угощайтесь, милейший Пал Иваныч, душа моя…»
Однако вместо этого просто подвинул портсигар ближе к лицу толстяка, сказал:
— А аромат какой…
Интонацию Ричард уловил, взгляд его метнулся, помутнел от горькой досады поражения — последнего сильного чувства, испытанного им в жизни: белая дуга электрического разряда выпорхнула откуда-то из коробочки-портсигара и замкнулась на тяжелом, бульдожьем подбородке Ричарда. Все тело его пробила судорога; словно жестокая лихорадка прошла от век и разом посеревших, обрюзгших щек до кончиков пальцев. Ричард уронил голову на грудь и замер.
Глостер не медлил ни секунды: подвел шокер к шее застывшего на переднем сиденье помощника-телохранителя босса и включил разряд; мускулистое тело выгнулось дугой и опало мешком.
Только теперь Глостер перевел дух: то, что телохранитель опасен, Глостер почувствовал еще на аэродроме по немигающему, будто у змеи, взгляду этого чернявого паренька. Он не успел отреагировать на смерть босса только потому, что оказался не готов к «смене ролей»: он слышал беседу и был уверен, что его босс переигрывает московского гастролера по всем статьям. Да так оно и было бы, если бы Глостер хоть в малейшей степени соблюдал хоть какие-то правила! Побеждает только тот, кто играет по своим правилам, делая вид, что принял предложенные; но есть люди, с которыми невозможно играть. Ричард был из их числа. Как только Глостер почувствовал, что до пансионата «Мирный» живым доедет лишь один из них… Может, он и ошибся, и Ричард вовсе не хотел… В любом случае в таком смутном ремесле, как игра со смертью, лучше убивать первым.
Водитель продолжал вести автомобиль, хотя по испарине, обильно оросившей затылок, было очевидно, что он не просто боится, а трусит смертельно.
— Не отвлекайся от шоссе! — рявкнул, словно плетью хлестнул, Глостер. — Я же не самоубийца, чтобы убивать шофера на скорости в сотку! Да и… это чужие сторожевые псы на новых хозяев кидаются, а вы, водилы, ребята мирные, так?
Водитель, парниша лет двадцати пяти, кивнул и только крепче вцепился в руль, стараясь всем своим видом показать, что сосредоточен на дороге, и только на дороге: дескать, у вас, панов, свои игры, у нас, холопов, свои. Да и к чему выступать зря, когда босс уже откинул копыта, а в подчинении у этого отмороженного московита — две дюжины отборных убийц в автобусе в полусотне метров впереди. Кто в этой ситуации выступать станет? Только дегенерат. Водитель покосился на мертвого охранника и снова сосредоточился на дороге. Что наша жизнь? Та же дорога-серпантинка с полной непоняткой впереди… И на каком вираже ты слетишь в кювет, только Бог знает. Или — дьявол.
Глостер бросил беглый взгляд на убитого толстяка и почувствовал вдруг, как зашевелились волосы на затылке: раззявленный рот мертвеца, казалось, ухмылялся… А тут еще и машина скакнула на какой-то выбоине, покойный толстяк всей массой навалился на Глостера, и тому почудилось, что сейчас этот мертвец с плечами борца и руками молотобойца схватит его в полуторацентнеровые объятия, из которых уже не вырваться никогда! Дикий, мертвенный, не поддающийся никакому здравому объяснению страх сковал Глостера. Он почувствовал себя так, будто все тело враз поместили в ледяную прорубь; дыхание перехватило как тисками, сердце замерло, Глостеру показалось, что он уже никогда не сможет вздохнуть…
Дикий кашель, сотрясший все его существо, оказался спасительным. Глостера свернуло в три погибели, колотило так, что казалось, он подавится или задохнется, слезы и пот лились ручьем, но он чувствовал облегчение: кровь заструилась по жилам, сердце заработало бешено, и он теперь знал, что сегодня уже не умрет. По крайней мере, той смертью, что принято считать «своей».
Кое-как справившись с приступом, Глостер устроился на сиденье, зло ткнул локтем покойника, поймал в зеркальце растерянно-испуганный взгляд водителя: парень был не просто бледен, его лицо стало белым как снег. Можно понять: еще бы, загрузил на аэродроме обоих боссов, своего и столичного, и охранника в придачу, а довез бы три тепленьких трупа. Каким его словам поверили бы разгоряченные дознаватели и какая смерть ожидала его в этом случае?.. Будешь тут не то что бледным…
— Сколько еще ехать? — спросил Глостер водителя; собственный голос показался ему сиплым, словно он страдал ангиной.
— Минут пятнадцать, — ответил тот. Глостер прокашлялся надрывно, прочищая горло, спросил уже вполне нормально:
— Чего так долго?
— Дорога опасная. Серпантин. А автобус с вашими «спортсменами» — машина тяжелая. Куда спешить? На тот свет?
При словах «тот свет» водитель вздохнул, но не огорченно, а словно перезевывая страх, так вздохнул бы китайский крестьянин, услышав, что Великую стену решено удлинить и строить еще два столетия, а значит, с сегодняшнего дня рабочий день продлят часов эдак на шесть. Глостер про себя называл это качество «здоровый крестьянский фатализм». Работать с такими было одно удовольствие. И еще… Глостер заметил, что такие вот «тихушники» выживали куда чаще остальных; жили они блекло, но долго, почитая трусость и предательство за мудрость. Может, так и есть — в век обывателей?
— Ты, я вижу, туда не спешишь?
— На что мне?
— Резонно. Тогда и поболтать можно.
— Воля ваша. О чем?
— Тебе ведь теперь нужна работа, так? Парень кумекал не долго; напряженное шевеление извилин пусть и не добавило водителю седых волос, но и бодростью не одарило. Он ответил незатейливо и просто:
— Нужна.
— Значит, договоримся.
Глостер чувствовал, что его прямо-таки распирает. Тело стало вдруг вертляво-зудливым, а в голове крутилась какая-то мелодия… Глостер и хотел ее ухватить, да все не мог, пока не пропел в голос:
— «Отряд не заметил потери бойца!..»
Ну да! Даже двоих. Автобус «мерседес» катит себе впереди метрах в ста пятидесяти; там из людей Ричарда только двое, так что можно не церемониться. Ну а водитель покойного вполне освоился с потерей хозяина. Но это еще не означало, что приобрел нового. Нужно ему помочь. Такой расторопный и домовитый крестьянский пес без хозяина опасен… Ощущение свободы томит таких пуще каторги: может при случае и в загривок вцепиться.
Глостер бросил взгляд на несущийся за окном серпантин шоссе. Скоро база, и до приезда нужно выяснить, готовил ли покойный торжественную встречу по полной программе, то есть нашел ли он уже себе могучего хозяина-покровителя и, при неудаче вербовки Глостера, нашел путь к «нулевому варианту»? Смешно, но на языке политиков это означает примерно то же самое, что и на языке спецов: «полное сокращение». Или разговор в машине был для Ричарда рискованным экспромтом, вывертом на арапа, просто зашел далекохонько — по мановению судьбы? А скорее, по прихоти лукавого, коему в общем-то все служат одинаково — неверием и не правдой.
Глава 46
Автомобиль мчался по ровному участку. Справа, километрах в семи, блистало на солнце море, сливаясь в дальней дали с облачной дымкой.
Глостер достал сотовый, набрал несколько цифр.
— Глостер вызывает Лаэрта.
— Лаэрт слушает Глостера.
— Слушай, мой дорогой Лаэрт, слушай… Пришла пора отдохнуть с дороги.
— Извините?
— У нас тут с Ричардом обнаружились разногласия. Непримиримые. Или, как говаривали во времена моей молодости, антагонистические. Короче: Ричард приказал долго жить. Его друг и телохранитель — тоже. Картинка ясна?
— Кристально.
— Вот и славно. У тебя в автобусе — двое людей Ричарда, так?
— Да.
— Загони автобус на любую смотровую площадку, пусть ребятки разомнутся, попками подвигают, ножками попрыгают… А шоферюга ваш нехай в моторе покопается… Я остановлюсь метрах в двухстах позади. В любом случае в пределах видимости.
— Вариант «эй-экс»?
— Ну зачем же так круто, Лаэрт? Проведи с людьми Ричарда добрую разъяснительную беседу. Все же живые люди, поймут. При разумном подходе и желании жить дальше.
— Извините… У вас все нормально, Глостер?
— С головой?
— Вы шутите?
— А почему нет? Илм — безвременная кончина Ричарда не повод для шуток? Не волнуйся, Лаэрт. У меня — полный ажур. В смысле — омут. Ажур, бонжур и даже с тужуром. Ты знаешь, что такое «тужур», Лаэрт?
— Повседневность.
— Вот именно. Обыденка. Гнусная, серая, нелицеприятная. В коей и живет все это стадо. — Глостер помолчал, закончил неожиданно:
— Лирика все это. Работать надо.
— Извините, я должен доложить Лиру.
— Должен — значит, доложишь. Только повремени, ладно? С часик, пока завершим прибытие в сей славный и гостеприимный край по штатной схеме. Иначе твой доклад будет смотреться самым наипакостнейшим образом. Сиречь гнусным поклепом на нашу советскую действительность.
— Глостер?..
— Успокойся, Лаэрт. Да, у меня прорезалась склонность к несмешным шуткам и грубоватому юмору. И это не от наркотиков. Просто у меня органон такой. Читал у Фрэнсиса Бэкона вещичку? «Новый органон» называется? Нет? Ну и правильно, скучнейшая, я тебе доложу, пакость. Я даже больше скажу, — Глостер понизил голос почти до шепота, — я вообще не различаю Роджера и Фрэнсиса Бэконов. Совсем. Хотя они и не близнецы. И даже не однофамильцы. А ты? С кем однофамилец ты, Лаэрт? И какого Глостера имел в виду Лир, когда нарек меня этим странным псевдонимом?
Бедного, ослепленного Глостера из «Короля Лира» или герцога Глостера из «Ричарда Третьего»? Кстати, ты любишь Шекспира, Лаэрт?
Пока Лаэрт искал, что ответить, Глостер уже хохотал во все горло.
Отсмеявшись, вытер выступившие слезинки в уголках глаз, сказал абсолютно сухим и официальным тоном, впрочем, с той долей дежурной теплоты, какую подпускают начальники в разговоре с подчиненными, пытаясь добиться от них выполнения работы, за которую никто не будет платить:
— Так мы договорились насчет доклада Лиру? Собеседник, похоже, несколько смешался, озадаченный этакими переходами из огня да в полымя.
— Но инструкция… — вяло попытался возразить он.
— Мой милый Лаэрт, — напевно произнес Глостер, не замечая, что почти полностью копирует интонации Лира, — ты же не хуже меня знаешь, что инструкции нельзя нарушать… Но и с перевыполнением их спешить не следует, а? Просто с докладом нужно повременить. Повременить, только и всего. Это разумно, не правда ли, Лаэрт? А в этой жизни побеждает тот, кто поступает ра-зум-но. Сказки, в конце которых добро победило разум, — любимые у здешних крестьян и прочей копошащейся в навозе сволоты. А потому народец этот так и мается в собственных испражнениях, слезах и соплях который век. Так?
— Так.
— Я рад, Лаэрт, что ты рассуждаешь разумно. Я рад, что мы нашли общий язык. Конец связи., — Конец связи.
Автобус впереди чуть сбавил ход и через несколько минут вырулил влево и замер.
— Паркуйся к обочине, — велел водителю «вольво» Глостер.
— Вы… вы меня убьете?
— Была охота, да неволя подвела.
— Что?
— Паркуйся, я сказал, пся крев! — выругался Глостер. Водитель вздохнул обреченно и остановил машину у самого края шоссе, рядом с обрывом. Глостер огляделся: по горным меркам — невеликий совсем обрыв, но слететь с него закупоренным в «цельнометаллическую оболочку», будто покойник у Стенли Кубрика… Или — тот покойник был вовсе не у Кубрика, а у Фрэнсиса Форда Копполы? Пес их, этих итальяшек, разберет!
А водила — грамотный и не из пужливых. Мотор не заглушил; в случае чего — «полет шмеля» дуэтом, а если двух покойников считать за компанию, то и квартетом. Скверная перспектива. Но Глостера она почему-то совершенно не пугала: напротив, он чувствовал душевный подъем, будто стакан чистейшего спирта, принятый махом, вдруг пошел гулять в крови… Кое-как Глостер заставил себя сосредоточиться и почувствовал, что далось это ему с трудом.
— Нравится здесь? — неожиданно спросил он водителя.
— А чего… — опасаясь подвоха, напрягся тот. — Солнышко теплое. И море нехолодное.
— Сам нездешний?
— Теперь уже здешний, чего.
— А откуда вообще будешь?
— С севера мы.
— Кто — «мы»?
— Да много сюда перебралось. Это кто успел. К солнышку.
Глостер несколько секунд сосредоточенно смотрел на дорогу, что-то для себя решая. Спросил:
— Как тебя зовут?
— Меня? — Коровьи, чуть навыкате, глаза двадцатипятилетнего водилы нарочито тупо смотрели на Глостера из зеркальца заднего вида.
— Да.
— Миша. Можно — Мишаня.
— Так откуда сам будешь, Мишаня?
Водила похлопал глазами, произнес, как бы нехотя:
— Я же говорил, с севера мы. Воркутинские. Сюда батя перебрался в восемьдесят девятом, дом купил.
— Ты пойми, Мишаня, интерес мой не праздный. Смекаю, подойдет мне этот человечек или нет.
— Я, что ли?
— Ты.
— А если не подойду, то что?
— Ты-то сам как думаешь?
— Чего мне думать?
— А если не понравишься?
— Знать, судьба такая. Только и вы, я себе думаю, босса с Эдиком, — Мишаня кивнул на убитого телохранителя, — не затем зажмурили, чтобы судьбу за усы лишний раз по глупости дергать.
— Резонно мыслишь.
— А то…
— Как с отцом сюда переехали, чем занимался?
— Ну, как чем? В школе учился. Потом — в ПТУ.
— И сразу к Ричарду попал? — насмешливо протянул Глостер.
— Почему — сразу?..
— А — как?
— При деловых был. Только — стремно там.
— Чего?
— Юг — место шебутное. И все делят-делят, поделить не могут. Свои головы не берегут, а уж наши и подавно.
— У «хозяина» бывал?
— На киче-то? Был.
— Статья уважаемая? Водила пожал плечами:
— Бакланская. Хулиганка.
— Так как же тогда тебя Ричард к себе прибрал меченого такого?
— Я водила хороший.
— Не ври.
— Правда хороший…
— Я не о том. Колись, болезный, мы не у следователя.
— О чем вы?
— Слушай, во-ди-тель… Ты машоней-недавалкой не прикидывайся! Чего тебя Ричард обласкал? Ну?
— Да я это… пару гавриков…
— Ну? Пришил, грохнул, замочил, поставил на перо, кончил, зажмурил, в ящик забил… Чего заикал, Мишаня?
— Ну, грохнул. Двоих. И что с того? Труха были люди.
— Труха были люди… — в тон ему повторил Глостер. — А люди вообще труха, а, Мишаня?
— Всякие случаются, — спокойно отозвался водила. Глостер ответ оценил, подумал с полсекунды, спросил:
— У Ричарда есть доверенный человек на базе?
— У кого?
— У твоего босса.
— Мы называли его Виктором Викторовичем.
— Да хоть горшком! У него есть помощник? Из активных?
— Ну.
— Кто?
— Гошка Степанцов. Жоржик.
— Он на базе теперь?
— Да. А где ему быть?
— В Караганде!
Шофер только пожал плечами. Дескать, как вы спрашиваете, так мы и отвечаем. А умничать так-то всякий может.
— Босс твой, Виктор Викторович, торжественную встречу нам, случаем, не планировал?
— В смысле?
— С торжественным залповым огнем и последующим выносом тел? Никаких особых мероприятий? Усиление или что-то в этом роде?
— Мне он не докладывал.
— Ты, братец, не хами! Сам что думаешь?
— Вроде как Жоржик суетился чуток больше обычного, — У ворот охрана?
— Само собой.
— И подчиняется этому Жоржику?
— Ему.
— Сколько всего на базе людей?
— Дюжины полторы. Может, и поболее, — А сам он что за человечек? Жоржик? Водитель вздохнул:
— Одним словом сказать?
— Если сможешь.
— Сволочь.
— Чего?
— Душегуб. И не такой, чтобы… Глаза у него стылые. Как прорубь.
Глостер прикурил сигарету, затянулся, оскалился в улыбке:
— Это ты Маэстро не знаешь.
— А зачем мне?
— Резонно. Ладно, это лирика. С пропускной системой на базе строго?
— Ну… вообще-то… строго.
— Автомобиль знают?
— Наш-то? А как же. Но пропускают по паролю.
— Пионерский лагерь, — усмехнулся Глостер.
— Босс называл это не «пароль», а «ключевое слово».
— Что в лоб, что по лбу. Ключевое слово неизменно?
— Вообще-то… Раз в неделю меняли, но и то… Парни, что на воротах, тоже с глазами: видят, кто едет.
— Тогда зачем оно вообще нужно?
Водитель только пожал плечами: дескать, мое дело шоферское, прокукарекать, а там — хоть мокрый снег с дождем, да на мичуринские посевы. Подумал, добавил:
— Для понтов, зачем еще.
— Что? — не сразу включился погрузившийся в собственные мысли Глостер.
— Ну слово это ключевое.
— Для понтов?
— Ясное дело. Кому тут охота на нас нападать? Кутенку Черепу? Марату?
Косте Морячку? Да бакланы они, им до босса — как до неба.
— Ты это слово знаешь?
— Какое слово?
— Которое пароль?
— Нет.
— Ты же сам только что говорил…
— Так в связи с вашим приездом как раз сегодня и поменяли. И босс еще велел своим бдить так, будто Кремль охраняют. По мне — показуху решил устроить, чтобы, значит, перед начальством в грязь лицом не ударить.
— Ну и как по-твоему? Удалось ему начальству угодить? Водила покосился в зеркальце на труп босса, уже полусползший с сиденья, осклабился:
— Не особенно.
— Да ты шутник, Мишаня.
— А то.
Глостер подумал немного, протянул:
— Та-а-ак. Выходит, босс твой, Виктор Викторыч, тебе не шибко и доверял?
Может, тебе и вовсе доверять не стоит?
— Почему не доверял? — быстро отозвался Мишаня. Глаза его были снова безоблачны и пусты. Глостер усмехнулся про себя: чудные они, крестьянские дети!
И простота их куда хуже воровства!
— Как — почему? Пароль ты не знаешь, об усилении — тоже, догадки одни… А ведь шофер у босса — завсегда и телохранитель, самое доверенное лицо… Не так?
Мишаня только пожал плечами. Его посмурневшее лицо говорило о нешуточной работе мысли: работе для Мишани непривычной и тяжкой. Впрочем… Ни о чем это не говорило: знал Глостер этаких тугодумов. Они действительно мыслили с трудом, а вот соображали — хорошо и скоро. И были куда удачливее многих яйцеголовых! А вправду, кто успешен по этой жизни? Или шустрые жулики, нахапавшие безнаказанно, пользуясь близостью кто — к трону, кто — к ночному горшку правителя, или вот такие вот лупоглазые селяне:
«А чего мы? Мы ничего? Нам бы к солнышку».
— Думаю, в расход он меня готовил, — проговорил водитель спокойно и абсолютно уверенно. — В распыл. Списывать, значит, собирался. Вместе с этим. — Мишаня кивнул на убитого телохранителя.
— Чего так решил?
— Да уже две недели как с базы — никуда.
— Ну и что с того?
— И раньше он при мне такие разговоры, как с вами сегодня, то с одним разговаривал, то-с другим. А кто я ему? Юный пионер, чтобы он с меня торжественное обещание брал в молчанку играть? То-то же. А вообще… На сердце мне давно пакостно было… А уж сегодня — так вообще… Я потому и глаз от дороги — ни-ни. — Водила снова вздохнул:
— По сердцу так когтями с раннего утра — скрынь, скрынь… Боялся, какой автокран выйдет в лобовую — и привет родителям. А вона оно как вышло. Планировал Вик Викыч меня в расход, а его самого заместо этого вычеркнули.
— Бывает. Сила солому ломит. Водила вздохнул:
— Жизнь теперь такая.
— Не журись, земеля! — озорно отозвался Глостер. — Сегодня ты босс, а завтра — песий хвост. Так-то жить веселее, а?
— Веселев, — мрачно согласился Мишаня. — Куда как веселее. Потеха.
Глава 47
— Потехе час, а время все-таки делу. Так, Мишаня?
— Так.
— Ну а раз так… — Глостер кивнул на труп рядом:
— Поговорим о делах?
— А какие у нас с вами дела?
— Вопрос у меня считай что чисто теоретический, но с выходом на практику: а готов ли ты, Мишаня, человечка к Аиду переправить?
— К кому?
— Пардон: метафора. Против того, чтобы замочить индивида, — никаких особых возражений?
— У меня?
— Угу.
Мишаня напряженно собрал лоб морщинками, а Глостер и не сомневался, что под этим покатым лобиком сейчас идет такая работа мысли, что держись! Как бы не прогадать и своего не упустить, пока нужен! Но как бы и не заторговаться до смерти! А то ведь отхватит этот черный башку и не поперхнется! Босса завалил — как сушку схрумкал!
— Кого-то надо убить?
— Догадлив, как Премудрая Василиса. Да, убить. Обязательно убить. Не смущает?
Водитель только пожал плечами:
— Жизнь такая.
Жизнь такая… Глостер вздохнул; ему, пусть на мгновение, но стало отчаянно жалко себя! Покойный Ричард хоть в чем-то, но прав: болтается он, нестарый, крепкий мужик, и чем занят? Разбором междуусобья двух сбрендивших параноиков: Маэстро и Лира. И если уж положить руку на сердце, то… Да! Прав был покойный Ричард и в другом, на все двести процентов прав! Лир бредет в могилу и увлекает за собою всех. Он сейчас похож на тонущий фрегат: тот, погружаясь, создает рядом с собой громадную воронку, водоворот, в который и затягивает все живое и неживое… Спастись можно только отплыв от терпящего бедствие как можно дальше. Можно и по-другому: загодя сойти с обреченного корабля. Вместо этого он, Глостер, словно намертво прикручен к мачте этого злополучного парусника!
Прав был Ричард. Но умер он не поэтому. За правду гибнут только в сказках.
В жизни — всего лишь за металл. И мудрый должен решить для себя только одну дилемму: что сделать раньше — заполучить золото, чтобы с его помощью купить закованную в латы живую человечью плоть, способную добыть войной новое золото… или сначала ощутить в ладони верную рукоять булата и только потом — захватывать неверный желтый металл… В любом случае страшная алхимия бытия проста и безжалостна: превращение золота в железо и железа в золото — в тиглях горячечной крови героев, гениев и безумцев. В этом жутком кругу и перемалывается непрестанно все сущее на этой земле: ум и заумь, юность и Уродство, красота, бездарность, великодушие, предательство, совершенство… Все смертно. Кроме круга мироздания — змеи, вцепившейся в собственный хвост.
И все это означает только одно: ему, Глостеру, вовсе не нужен соратник в борьбе за теневой престол Лира; ему нужны только подчиненные. Да, большие куски в одиночку не едят, но так ли уж велик оставшийся пирог? Скорее, Лир неотличим от других владык и страдает тем, что желаемое видит как реально существующее, а сам сползает к ямке неспешно, как и положено покойнику, по странной прихоти судьбы еще продолжающему функционировать среди живых. Ричард был в игре Глостера лишним. Так же, как и Дик. Такова жизнь.
А Лир… Лир действительно сошел с ума! Сначала устроил в подвале в центре Москвы гладиаторский поединок между ним и Диком… Теперь, похоже, решил поставить пьесу с декорациями… И будет это, скорее всего, траги-фарс. Ведь из живых только Лир знает истинные роли в той давней трагедии в Хачгарском ущелье людей, что сошлись сейчас на курортном побережье… И это знание придает его умиротворенному старческому наблюдению особый вкус; вкус крови, и давней, и совсем свежей, вкус терпкий и изысканный. Закон выживания не знает исключений: когда не хватает своей крови, жизнь продлевают проливая чужую.
Маэстро… Можно ли с ним договориться? Нет. Маэстро всегда был слишком умен и безжалостен. Вернее… он был неиствов.
— Так кого нужно убить? — прервал затянувшееся молчание водитель Мишаня.
— Убить? — вздрогнул Глостер.
— Ну.
— А вашего Жоржика. Сумеешь? Мнится мне, этот человечек Ричардом возвеличен и властью своею теперь не поступится. Да и завязан он на кого-то из здешних.
— С кем он здесь крутит, того я не знаю. Правда.
— Правда, кривда… Нам сейчас это без надобности. Можно было бы его и встряхнуть вдумчиво, но сие — совсем другая песня. Не до него.
Водитель вздохнул:
— Не пойму я чтой-то…
— Что именно?
— У вас душегубов полон автобус, а вы меня обхаживаете-уговариваете, чтобы я Жоржика завалил… А он востер.
— Боишься?
— И это тоже, а больше — понять хочу. Ведь то ли я Жоржика укокошу, то ли он меня ухайдокает — это еще бабушка надвое сказала, а у вас — весь расклад на руках. Зачем я вам? Не пойму.
— И все же — ты боишься!
— Не боятся только мертвяки. Им уже все равно.
— Жоржик умеет убивать?
— Ну. Как мясорубка.
— Другого убийцу он почуять должен?
— Меня, что ли?
— Не наговаривай на себя, Мишаня! Ты мужик! А он профессионал. Это я для него опасность, понял, я! Ты — так, овца.
— И — что?
— Подойдешь к нему, а дальше — как повезет. Не штурмовать же нам пансионат «Мирный», в самом деле!
— Что-то я в толк не возьму.
— Слушай, Мишаня… Это тебе объяснять совсем ни к чему, но ты уж поверь мне на слово… Ричард, Вик Викыч ваш, мужик сторожкий был?
— Ну… вообще-то… да.
— Как и большинство преуспевающих людей, в смерть свою он просто не верил… Не возражай, люди вообще не склонны верить в свою смерть, в близкую — тем более. И на то, что я его завалю эдак влегкую, Ричард не рассчитывал. — Глостер хохотнул возбужденно. — Но поостерегся, я так себе думаю… И что там он умудрил со своим Жоржиком, какой финт на случай? Скажем, если бы я его, сирого, не к праотцам переправил, а заарканил? Повязал? Думал он над тем, как полагаешь?
— Мог.
— Во-о-от. И инструкции, надо полагать, на сей гамбургский счет своему верному джульбарсу оставил. Вывод: ломиться в запертые ворота мы не станем. Ты подъедешь один, тихонечко, я тебя самолично подстрахую…
Мишаня странно, даже слегка ошалело глядел на Глостера, но тот взгляд не заметил вовсе, продолжал увлеченно:
— Архаровцы мои на въезде подождут. Меня, полагаю, люди Жоржика крепко пасти будут, тебя — вряд ли. Свой все-таки. Вот и действуй. Уразумел рекогносцировку?
— Чего?
— Замочишь Жоржика?
— А то. — Водитель помялся, спросил не очень уверенно:
— А что это за штучка у вас… босс?
— Какая штучка? — На «босса» Глостер никак не отреагировал.
— Ну та, которой вы Виктора Викторовича и Эдика ущучили.
— Шокер. Такую хочешь?
— А чего? Вещь хорошая.
— Бесспорно. Но пользоваться ею нужно уметь. А то сейчас ты неумеючи да в суматохе не на ту пимпочку тиснешь, и — «товарищ, я вахту не в силах стоять, сказал кочегар кочегару…». И шоком ты не обойдешься, как видишь, у меня сплошь летальный исход запланирован. Без обид?
— Да какие обиды.
— Вот и славно. Будь попроще, и люди к тебе потянутся. — Глостер снова хохотнул, чувствуя странное возбуждение… Кое-как справился с накатывающим откуда-то изнутри судорожным весельем, чем-то схожим с истерикой, закурил, крепко закусив зубами фильтр, спросил скороговоркой, стараясь, чтобы вышло делово:
— Шпалер у тебя имеется?
— Пистолет?
— Да.
— Нету.
— Чего?
— Не обучен.
— Да неужели?
— Не, шмальнуть, конечно, могу. Только Жоржиковы атлеты на пальбу сбегутся, башку вмиг отвернут. Тесаком сподручнее. И шуму меньше.
— Зато кровищи…
— Это если неумеючи.
— А если умеючи?
— Тогда — не тесаком нужно. Заточкой. Ею — вообще аккуратно. Это если прямо в сердце.
— Хозяин барин.
Глостер прищурился, едва заметная гримаска скривила его губы. Он поднес к уху сотовый, набрал несколько цифр:
— Лаэрт?
— Да.
— Что у тебя?
— Пейзажем любуемся, как и мечталось.
— С «таможней договорился»?
— С людьми Ричарда?
— Да.
— Они все поняли правильно. Даже предупредили: есть там у них один… как бы это сказать помягче…
— Наслышан. Жоржик. Друг и соратник покойного. Вот его-то мы с Мишаней и будем убирать. В смысле — аннигилировать. — Глостер и на этот раз едва подавил в себе приступ несвоевременной дурашливости и смешливости. — Мы поедем вперед, вы — следом. Стопорнетесь вне пределов видимости из пансионата.
— Это далеко. Если вам понадобится помощь, мы не сможем оперативно…
— Не берите в голову, Лаэрт, — довольно невежливо оборвал его Глостер. — Мы справимся. И вот еще что: мы тут сбросим вам пару жмуров, вы уж позаботтесь о них.
— Оживить?
— Ха-ха-ха… Вы начали шутить, Лаэрт? Шутки со смертью — хороший признак.
Очень хороший, — произнес он тем же игривым тоном и закончил совершенно серьезно, без малейшего намека на улыбку:
— Но не для всех.
Глава 48
Глостер сделал короткую паузу, словно собираясь с мыслями, приказал:
— Трупы просто упакуйте по-быстрому: возиться очень уж недосуг. Полагаю, этот Жоржик уже беспокоится.
— Ричард назначал контрольное время прибытия?
— Вполне мог. Он, конечно, на этом райском пляже полностью разболтался, но… профессионализм вещь привязчивая, как наркотик. Да, и еще… Ведите себя пристойно. Судя по всему, власти пока не вполне в курсе наших ристалищ, но любезный Ричард успел наворочать дел, а мне совсем не нужно громких стрельб в пансионате «Мирный» белым днем в разгар курортного сезона. Это грубо и непрофессионально. Конец связи.
Глостер откинулся на спинку кресла, закурил:
— Мишаня, автобус мы обходим, идем первым номером. Трупы бросим на обочине. Не графья, подберут.
— Понял.
— Как я рад, что ты такой понятливый, зеле-е-еный! — Идиотская дурашливость снова прорвалась у Глостера надрывной, щемящей нотой — на грани истерики; это было похоже на трепетное нетерпение алкоголика, разогревшего организм малой, ущербно малой долей пития и теперь — жаждущего большего…
Напиться допьяна — и мир полетит под ноги бывшему стряпчему, младшему партнеру и поверенному в делах «Кукин и сыновья»!
Зуммер мобильника прервал разговор. Глостер взял трубку, но аппарат молчал. Не горела и сигнальная лампочка.
— Это у него, — кивнул Мишаня, бросив взгляд через зеркальце на покойного шефа.
— Ага. — Глостер достал аппарат из внутреннего кармана пиджака убитого и долго смотрел на него, размышляя, что делать дальше.
— Надо ответить. Это наверняка Жоржик.
— Да? И что ты ему скажешь? Что хозяин немножко того?.. Труп-с?
— Зачем? Скажу, отошел с приезжим покалякать. Чтобы, значит, подале от чужих ушей. От моих то есть.
— Разумно. Бери. — Глостер передал трубку водителю. — Только смотри, Мишаня, не брякни чего!..
— Я себе враг разве?
— Не. Себе ты точно не враг. Водитель нажал кнопочку, произнес:
— Слушаю?.. Георгий Георгиевич, он не может подойти. Да, стоим. Они вроде как окрестности смотрят, да чего-то там выдумывают, им виднее. Как Виктор Викторыч шутил, эту, реконгынсцировку проводят. Да я ее, черта, не выговариваю!
Ну он мне не докладывает, Георгич, я ж не буду… Не, ничего не велел. Чего мобильник оставил в машине?
Мишаня бросил озадаченный взгляд на Глостера. Тот показал глазами на небо, пальцами обеих рук — на уши, потом изобразил скрюченного за пультом человека в наушниках… Мишаня кивнул: понял!
— Так это, Георгич, — продолжил он. — Прослушки Виктор Викторович опасается. Как какая? Он знает какая, не мне ему указывать… Щас такое эти головастики напридумали: телефончик мирно так в кармашке лежит, а в нем мембрана есть? Есть. А это значит — слушать можно, если через волну, через спутник подключиться… И не только то, что клиент по трубке базарит, но и то, о чем с товарищем обсуждает. Да не, чего мне «пули отливать»? За что купил, за то и продаю, ну? Не, может, чего не так понял, я ж не претендую.
Глостер нарочито вытаращил глаза, показал пальцем на себя, потом на Мишаню, сделал руками мельницу. Тот кивнул, сказал в трубку:
— Не, погодь, Георгич, еще не все. Мне тут Викторыч машет, чтобы я до тебя доехал. Да одну штуку ему треба взять, московским предъявить. Нет, по трубке я тебе этого говорить не стану. Потому как тайна. — Мишаня довольно натурально хохотнул. — Лады, я через десять минут буду, чего зря лясы точить… Лады.
Отбой.
— Отбой! — как попугай, повторил Глостер. — От-бой. Воздушной тревоги. А что ты ему скажешь, дорогуша?
— Не понял?
— Что ты Жоржику наврешь, как приедем? Ведь не дурак он, я чаю…
— Не, Жоржик не дурак. — Мишаня помолчал, добавил:
— Он дебил и сволочь.
— Крепко же он тебя приложил. Когда и где?
— Долгая история.
— История, брат ты мой, — это наука! И длится с незапамятных времен и по сей час с переменным успехом и единственным результатом: все, что рождается, — умирает. Но это — лирика. Так что ты наврешь Жоржику? Пардон, Георгию Георгиевичу?
— Скажу, за резинками приехал.
— За чем?
— За презервативами. Вик Викыч наш покойный — большой аматер был до бабского полу. Охотник, в смысле. И не просто ходок: коли в неделю раз новую телку не поваляет, осунется весь, скучный станет, словно поганок обожрался и к смерти готовится, морда у него лоснилась всегда, а тут — посереет, словно пудрой посыпана, с волос перхоть опадать начнет… Во какой любитель был! А вообще-то… Нервы, наверное. Хотя все равно чудно. Чудно.
— А с чего это он вдруг посередь дороги — да о бабах подумал? Ты же как ему сказал: дескать, деловые базары босс ведет, то да се… А тут — бабы.
— Я же говорю: у Вик Викыча, у Ричарда вашего, — при имени «Ричард» Мишаня явственно ухмыльнулся тому же, чему в свое время раздраженно удивлялся Глостер: полному несоответствию оперативного псевдонима и персоны, которая его представляет, — даже не пунктик на этом деле был, а крепкий бзик, протек крыши по полной программе. Порой теток стопорили прямо на шоссе, и трахал он их на заднем безо всяких выкрутасов… — Мишаня, закатив глазки, мечтательно вздохнул: то ли от зависти к покойному теперь боссу, то ли из ностальгии по «старым добрым временам», что закончились так скоро, фатально и недобро с появлением Глостера.
— Так что Жоржик поверит, — закончил он.
— И тому, что Ричард за резинкой специально машину посылает? Что, в ларьке купить нельзя? Или в бардачке у тебя нету, раз босс такой шустрила был?
— Не, Вик Викыч какие-то иноземные пользовал, со смазкой, ребристо-пупырчатые. Бабы от них визжали, что те курвы!
— А ты презервативы не жалуешь?
— Ну. Это как в резиновом сапоге на босу ногу кросс бежать. По приказу, конечно, можно, а до собственному желанию…
— И заразы не боишься?
— Кому суждено быть повешенным, тот не утонет! — бесшабашно заявил Мишаня.
— А кому зарезанным, того не повесят, — в тон ему отозвался Глостер.
Неловкое, жутковатое молчание разом повисло в машине. Глостер добавил, растянув губы в улыбку:
— Шутка.
Мишаня улыбнулся глупо, жалко и неуместно. Спросил совсем уж просительным тоном:
— Так чего, едем, что ли?
— Угу, — кивнул Глостер, углубившись в какие-то явно неприятные ему размышления, сделавшие его и без того не самое приветливое лицо совсем мрачным.
Мишаня тоже посмурнел, отжал сцепление, вырулил на шоссе, тихонечко тронул. Через пару минут, уже освободившись от трупов, «вольво» послушно катила в направлении пансионата «Мирный».
— А ты горазд, оказывается! — раздумчиво процедил Глостер, неожиданно вынырнув из тяжкого уединенного молчания. — Тогда чего из себя валенка воркутинского валял, а? — Теперь он смотрел на водителя подозрительно, как старушка на лавочке перед подъездом на залетного хахаля, идущего вдругорядь позабавиться пусть и с неродной, а все же с подружкиной внучкой!
— Чего? — поперхнулся слюной Мишаня.
— Папу твого! А заодно и маму!
Глостер прищурил глаза и сразу стал похож на разъяренное животное, вот только какое — не взялся бы сказать никто. Он сверлил Мишанин затылок цепким неотрывным взглядом.
— Ну? Дурилу Целковича из себя не строй! Мишаня промолчал. Лишь опасливо покосился через зеркальце на напружинившегося на заднем сиденье Глостера, и в глазах его гнусным мельтешивым бесом заплясал страх. От пляски этой сосало под ложечкой и сердце проваливалось в гулкую пустоту. Это не был осознанный страх перед силой; это был подспудный, затаенный страх разума перед тем неведомым и непостижимым, чем является безумие.
А Глостер вдруг сник, безо всякой внешней причины, сам собою, как сдувшийся шарик: просто родившееся в нем напряжение не получило разрядки, готовая к атаке агрессивная энергия свернулась клубком, словно змея, ожидающая своего часа. Взгляд Глостера стал тусклым и понурым. Он запустил руки под куртку, вынул два обоюдоострых, сработанных наподобие узких лопаточек, боевых ножа. Сделаны они были из превосходной стали, вернее, из специального сплава, способного прорезать в мгновение ока не только плотную шинельную ткань, но и кольчугу или кевларовый бронежилет. Балансировка оружия тоже была идеальной.
Глостер поиграл обнаженными лезвиями пару минут, словно фокусник — колодой карт, словно малый ребенок — новой чужой игрушкой: так легки, непосредственны и дурашливы были его движения.
— «Взял он саблю, взял он востру и зарезал сам себя… Весе-е-елый разговор…» — напевал он себе под нос, напрочь забыв уже о былых подозрениях, любуясь томным отливом неполированной стали… Лезвия казались живыми, они притягивали, гипнотизировали, ласкали… — «Взял он саблю, взял он востру и зарезал сам себя…»
— Подъезжаем, — подал голос Мишаня.
— Вот и славно! — возбужденно вскинулся Глостер. Скверное настроение его испарилось, как не было, словно это и не он несколько минут назад накинулся на водителя с остервенелой подозрительностью и плохо скрываемой истерией… И куда исчезли ножи, которыми Глостер так самозабвенно играл, наверное, не смог бы сказать и самый пристальный и заинтересованный наблюдатель.
Глава 49
Автомобиль плавно прокатился между двумя рядами красиво постриженных кустов; цельнометаллические ворота при его приближении плавно отъехали в сторону, движимые неслышными мощными электромоторами.
— Прямо благолепие и лепота непередаваемая, — чуть кривляясь, с придыханием произнес Глостер.
— Красиво жить не прикажешь, — отозвался расхожей фразой Мишаня, искренне радующийся тому, что непонятная мутная блажь слетела с хозяина.
— Немудрено, что Ричард здесь стал похож на роттердамского кота, уставшего от сметаны. А, Мишаня?
— Я же говорил? Ричард был еще тот ходок! — улыбчиво подтвердил водитель.
Умело припарковался у крыльца длинного, в колониальном стиле южноамериканских штатов, дома; вернее, так могло показаться только на первый взгляд, ибо стиля у дома не было вообще, в нем царила такая эклектика, что, .. Колонны и мощный фронтон сталинского псевдоампира, длинные балюстрады с обеих сторон, но с окнами, закрытыми мансардными ставнями аlа France, словно украденными из декораций оперетты «Фиалка Монмартра»; и все это венчала современная, из пластика и не пойми еще чего «черепичная» крыша… Ну да, и окна (вернее, как принято теперь называть, «евроокна») конечно же не пропускают пыли, шума и тараканов. Сколько людей, скрытых в их тонированной тени, внимательно наблюдали сейчас за автомобилем?..
— Тебе за перышком далеко нагибаться? — спросил Глостер Мишаню.
— За поясом.
— Ну-ну.
Водитель уже приоткрыл дверь, когда Глостер спохватился:
— Да, и не забудь меня представить!
— Простите, а как?
— Товарищ Ильин. — Глостер закатил глаза, словно прислушиваясь к звуку новообретенного, пусть и не надолго, имени, даже посмаковал губами, будто пробуя и на вкус тоже. — Да. Товарищ Ильин. Человек из Центра. Уразумел?
— Угу. — Водитель помялся, но самую чуточку. — Извините, босс… Мне что, Жоржика сразу мочить, безо всяких соплей?
— Кровожадный ты какой-то, Мишаня. Сразу не нужно. Особенно во дворе.
Сердечко мне вещует, за темными стеклышками не ангелы в белых воротничках затаились, а совсем наоборот, черти в кожаных передниках. — Он подумал и заключил:
— А может, так оно и хорошо?..
Что «хорошо», Мишаня спросить не успел: Жоржик, вернее, здесь и сейчас уже Георгий Георгиевич в сопровождении двоих атлетов в шортах неторопливо поспешал к автомобилю: легкие, свободные джутовые штаны, ботинки на каучуковой подошве, белая тенниска… Загорелый почти до черноты, гибкий, уверенный, он словно сошел с Гавайских пляжей в наше «домотканое далеко», не успев подрастерять ни красы, ни лоска.
Глостер нарочито восхищенно округлил глаза:
— Это же просто Педрос Гомес какой-то! А почему без гитары?
Мишаня вылез из машины, пошел навстречу начальнику охраны.
— Ну и в чем проблема? — произнес Жоржик откровенно фамильярно, причем фамильярность эта распространялась только в одну сторону, на подчиненного, и тем напоминала даже не хамство — невысказанную, но и не особенно скрываемую брезгливость. Рядом с Мишаней, длинноруким, долговязым, костистым, с растоптанными ступнями сорок последнего размера, с шишковатой башкой и длинным лошадиным лицом, Жоржик смотрелся натуральным супером, сверхчеловеком; он и сейчас был словно живая рекламная картинка: стоял расслабленно, чуть щурясь на солнце, обнажив в улыбке безукоризненные зубы: «Теперь мы предлагаем новый „Блендафреш“! Тройная защита для всей семьи! А раньше мы продавали вам фигню!»
Мишаня едва сдержал гнев. Этого Глостер не заметил, но почувствовал.
Почувствовал и Жоржик, причем чужая бессильная ярость доставляла ему явное удовольствие.
— Что сопишь, болезный? Зубы языку мешают? Так чистить их нужно было в детстве, а не гудрон жевать, жеваго! В чем проблема, я спрашиваю?
Мишаня собрался, ответил абсолютно спокойно:
— Да никакой проблемы, Георгий Георгиевич. Босс с московскими там…
Видать, старые кореша, — при слове «кореша» Жоржик поморщился, как от острой зубной боли; а Мишаня продолжил:
— Короче, слово за слово, ну и спустились к морю, расслабиться после перелета. У москалей сейчас дожди, им такая погода в радость. Ну и, понятное дело, пацанок сразу под сняли, наш-то мимо не проскочит, да и московский, видать, хват! Вот, послал за резинками, ну и за прочим. Ты же знаешь его закидоны…
— А чего мутил, сразу не сказал?
— По трубке? Чего я, дебил совсем? Жоржик только скривился презрительно:
— Осторожный стал?.. Где ты ахинею, что мне по мобильнику вкручивал, подцепил? Насчет прослушки?
— Читал. В журнале.
— Слышь, Боксер, он читать умеет! А по роже не скажешь. Ладно, пошли… Ты знаешь, где у босса… причиндалы? — В голосе Жоржика снова прорезалась теперь уже нескрываемая брезгливость, какая только и может быть у «норма-а-ального пацана» к слуге и шмаровозу.
— Ну. В кабинете, во второй комнате. Запасные ключи должны у тебя быть.
— Пошли.
Они уже двинулись было к домику, когда Мишаня подбавил:
— Да, тут со мной человек из московских…
— Человек? Какой человек?
Глостер появился из машины сияющий, как начищенный серебряный полтинник.
— Сергей Ильин, — представился он, но руки не протянул.
Жоржик улыбнулся еще шире, но светло-серые глаза не улыбались; они, как жерла пулеметов в руках затаившихся в амбразурах стрелков, словно вели человечка, готовые немедля срезать его одной очередью: скорой и беспощадной.
Глостер тоже улыбался, и улыбка его была такой же белозубой, как и у Жоржика, а вот глаза… Глаз было не разглядеть вовсе за прыгающими в черных зрачках игривыми чертиками, — словно море бликовало на ярком солнце.
— Очень приятно, господин Ильин, — монотонно произнес Жоржик, равнодушно пожав плечами. Спросил с принужденно-холодной вежливостью:
— Выпьете что-нибудь?
— Что предложите, то и выпью, — весело отозвался Глостер.
Судя по всему, Жоржик с ходу записал было Глостера в сутенеро-шмаровозы, в мальчики на посылках, но что-то в глазах приезжего ему сразу не показалось… Он не мог определить это «нечто» и решил на всякий случай держаться с той долей прохладцы, что определяет отношения начальников и подчиненных в специфической мужской работе.
— Владлен, проводи гостя в холл, — кивнул Жоржик тому атлету, что поблондинистей; слово «проводи» он выделил особо. Что означала эта интонация, Глостер не понял, да и не собирался: в душе его все пело, музыка бравурными аккордами поднимала ввысь, и он только что не притопывал на месте от полноты жизни!
Атлет посмотрел на Глостера заинтересованно, слегка растянул губы в гуттаперчевой улыбке, с вежливым полупоклоном указал глазами на дальнюю дверь, приглашая Глостера первым проследовать к ней по выложенной цветной мозаикой ^дорожке. Сам Жоржик направился в противоположную сторону, к небольшой двери, полускрытой живой изгородью. Мишаня двинулся за ним.
В холле было сумрачно и прохладно.
— Налево, пожалуйста, — подал голос Владлен.
— Можно и налево, — пожал плечами Глостер, шагнул неловко, оступился, попав мимо неприметного порожка… Владлен инстинктивно дернулся — поддержать, руки его потянулись к правой кисти Глостера: сейчас было так просто сделать захват, блокировать… Глостер юлой крутнулся на месте. Владлен остался стоять, в глазах его застыл отблеск странного чувства: острой, почти непереносимой боли и искреннего детского удивления. Потом парень опустил взгляд вниз: крупные черные капли, срываясь с горла. одна за другой падали на белоснежный мрамор пола, превращаясь в красивые ярко-алые пятна… И тут — пол вздыбился и понесся навстречу; красавец атлет впечатался в него лицом, уже не чувствуя ни боли, ни удивления, ни испуга. Ни-че-го.
Глостер подхватил убитого под мышки, не без труда приподнял, оттащил труп за массивную, старорежимную кадку с огромной раскидистой пальмой, доставшейся пансионату «Мирный» от какого-то сильно режимного объекта — типа дома отдыха ЦК профсоюза водярозаготовителей или гетеросексуалов-надомников, причем — из районов Крайнего Севера! Отдышался, нахмурился, рассматривая потеки крови, вздохнул совсем по-бабьи, только что руками не всплеснул в сердцах: дескать, и ходют, и сорют… Обвел глазами холл, подхватил длинную ковровую дорожку и передвинул метра на четыре в нужную ему сторону. Получилось не вполне эстетично, зато… Прислушался: тихо. Вернулся за пальму, окинул взглядом убитого, чуть поправил что-то в положении тела, придав лицу подобающее постное выражение; произнес удовлетворенно:
— Хорош!
Словно что-то вспомнив, гибко наклонился, отер лезвие ножа о шорты убитого, выпрямился, а нож тем временем исчез из его руки, словно и не было.
Постоял несколько секунд неподвижно, чуть склонив голову набок, полюбовался трупом; но в этом взгляде не было ничего от садизма. Глостер смотрел на труп, как естествоиспытатель смотрит на редкую бабочку, только что пойманную, наколотую на иглу и пополнившую коллекцию. Повторил довольно:
— Хорош!
Вот теперь Глостер чувствовал жизнь! Он чувствовал ее, как накат хмеля, как леденящий восторг! Краски сделались нестерпимо яркими, очертания — резкими и контрастными, а сам он ощущал то, что столь редко выпадает узнать смертным: могущество. Да! Он был могуществен! Именно сейчас, в этот миг, он царил и над миром, и над Творцом!
Хрупкий серебряный туман лишь слегка коснулся сознания; Глостер торопился: он боялся, что туман уплотнится, станет черным и густым, и тогда… Или же, наоборот, пропадет, а с ним пропадет и то ощущение всемогущества, ради которого он и жил!.. Он быстро вышел прочь из вестибюля, пересек уложенную мозаикой площадку, приблизился к дверце, за которой скрылись Мишаня и Жоржик; та была не заперта, за ней оказалась деревянная витая лестница. Глостер птицей взлетел на второй этаж, прошел по узкому коридору: за одной из дверей услышал неясный шум.
Оба ножа оказались в руках; восхитительный туман обволок сознание, делая тело гибким, а мысли — шальными и .быстрыми, словно фосфоресцирующие трассы несущихся в мертвой бесконечности астероидов.
Глава 50
Глостер толкнул дверь и замер в проеме. Картина была жутковатой: бедный Мишаня стоял на коленях, из подрезанных на ногах сухожилий на белый палас сочилась сукровица. Жоржик не давал ему упасть. Схватив за волосы, он приблизил лицо водителя к своему, втолковывая свистящим полушепотом:
— Гнида, башку твою собакам скормлю, понял?!
— И велики ли собаки? — невинно приподняв брови, поинтересовался Глостер, материализовавшись в комнате.
Жоржик оскалился и тут же перестал походить на рекламную картинку. Сейчас он напоминал удачливого хищника, которому помешали забавляться с законной добычей.
Один из подручных Жоржика ринулся на Глостера, но тот ускользнул артистично, шагнув в сторону и поднырнув под несущуюся на него руку. Его же рука с ножом молнией метнулась к шее противника. В следующее мгновение Глостер был уже за спиной нападавшего, спокойный и улыбающийся… Нож был забит в горло по самую рукоятку, лужица алой крови быстро набухала на паласе рядом и впитывалась, окрашивая белое черным. Атлет рухнул на колени, как остановленный кувалдой бык, и следом — тяжко завалился на спину, уставясь стекленеющими глазами в белый потолок.
— «Давай вечером умрем весело», — пропел Глостер, безучастно моргая длинными, почти девичьими ресницами. Смотрел он прямо в глаза красавцу Жоржику.
Тот отпустил Мишаню, потянулся было за лежащим на столе пистолетом, но Глостер шагнул вперед, выставив руку с ножом. Жоржик понял: не успеет. Одним движением схватил лежавший здесь же Мишанин тесак, сработанный из рессоры, и — ринулся на Глостера.
Такой прыти от противника Глостер не ожидал. Жоржик легко перекинул нож в другую руку, схватил обратным хватом, и только виртуозная легкость позволила Глостеру уйти от разящего удара. Бодрящая, прохладная струя ударила в мозг, Глостер крутнулся на месте, качнувшись, словно маятник, в сторону противника; его рука с ножом плавно пронеслась полудугой, он почувствовал, как лезвие рассекает не только ткань футболки и кожу, но и слой мышц… В голове Глостера играла баркарола. Он легко ускользнул от другого выпада: боль и ранение лишили Жоржика былой координации и быстроты.
— Ну что? Пора заканчивать наши танцы?
Глостер смотрел прямо в глаза противнику, стараясь навязать ему то, что превращало любого бойца в кусок говядины: покорность своей воле. Глостер приблизился, подставляя противнику незащищенное туловище, сделал ложный выпад, как бы «провалился»… Жожик соблазна не выдержал: ринулся на врага, как бык на тореадора, выставив вперед клинок тесака.
Одним движением, так похожим на танцевальное, Глостер запустил собственное тело волчком, неприметно перехватил руку с ножом, и… клинок вошел в живот легко, как в масло; что было силы, Глостер дернул его вверх, чуть расслабив руку, с оттягом; специально заточенное лезвие прошло до грудины, распластав мышцы живота и внутренние органы… Глостер выдернул лезвие, прыжком ушел, успел полюбоваться содеянным: разрез походил на тонкую красную полоску, противник еще не догадался о степени нанесенных ему повреждений, боль анестезировалась в разгоряченном теле выброшенными в кровь стимуляторами.
Жоржик замер посередине комнаты, покачнулся, встретился взглядом с Глостером, и тот увидел, как глаза Жоржика помутнели, словно подернулись бельмовой пленкой, тесак выйал из разом ослабевшей руки и ударился об пол с глухим стуком. Следом медленно сползло и мертвое тело — словно опал проколотый целлулоидный пакет.
— «Давай вечером умрем весело…» — пропел снова Глостер, опустил руку, разжал кисть: нож с негромким стуком воткнулся в пол рядом с самой кромкой Паласа. Глостер вернулся к двери, заблокировал ее замком, прошел к столу, увидев пульт управления, секунд пять просто рассматривал кнопки и тумблеры, а затем быстро и уверенно переключил их в ведомом ему порядке.
На экране высветилась схема пансионата «Мирный» с расположением постов охраны и такая же схема дома-особняка. Он был выстроен в виде буквы "п", причем внутренняя часть представляла тот самый двор, в который въехала «воль-во» и который пересек Глостер. Он рассмотрел расположение внутренних постов. Владлена, тоги атлета, которого Глостер завалил первым, могли не найти еще с пару часов.
Удачно.
— «Давай вечером умрем весело…»
Глостер прошел вдоль периметра всего просторного кабинета, выглядывая в окна и пытаясь обнаружить не указанные на плане, но возможные двери.
Передвигался Глостер с природной грацией, совершенно бесшумно и очень легко. Он словно подчинялся какой-то музыке, какому-то ритму, звучащему для него и внутри него… Застыл, прикрыл глаза и, постукивая рукой, повторил полюбившуюся ему музыкальную фразу… Прошел к окну, выглянул во двор… Там был все тот же знойный день, ни ветерка, но из прохлады кондиционированного кабинета все бывшее за окном казалось неживой, застывшей декорацией.
Глостер сел прямо на пол, по-турецки, выудил мобильник, набрал номер, с увлечением вслушиваясь в короткие звуки… В душе его продолжала звучать совсем другая музыка…
— Это Глостер.
— Лаэрт слушает Глостера.
— Жоржик мертв. Я в его кабинете. Жду вас.
— Мы будем через семь-восемь минут. У вас… что-то с голосом, Глостер?
— Нет.
— Вы словно поете?
— О! Это — песнь ангелов!
— Ангелов? — В голосе Лаэрта послышалась тревога.
— Да. Этаких зудливых молодцев с крылышками как у шмелей. Или — у валькирий. Помните Вагнера?
— Вам ничто не угрожает?
— Нет. Все здешние куда-то подевались. По щелям. А что вы хотите от химер, Лаэрт? Впрочем… мы все химеры. Призраки. Нетопыри. Нелюдь.
— Глостер, мы выезжаем.
— А вот это правильно! — радостно подтвердил Глостер. — Как нас учит пиво «Золотая фикса»: «Нужно чаще встречаться». Особенно со смертью.
— Не понял?
— Рассуждаю вслух. Хулиганю в эфире. Это никому не нужно. — Глостер помолчал, лицо его было напряжено, на нем читалось незаурядное волевое усилие, словно он… словно он желал стряхнуть, сбросить с души нечто липкое и вязкое, как паутина, и не мог… Наконец, кое-как справившись с охватившим его — страхом? отвращением? — свел жестко губы, произнес в трубку, с видимым усилием разжимая будто сведенные судорогой скулы:
— Не обращайте внимания, Лаэрт. Все прошло успешно. Иногда хочется и расслабиться. Пошутить.
Фразы давались Глостеру ценой невероятного напряжения; все лицо залил липкий пот. Глостер повторил, словно граммофонная игла проскочила на испорченной пластинке:
— Пошутить.
— Я понимаю… — эхом отозвался Лаэрт. По его тону, напротив, было ясно, что Лаэрт озадачен. Но… объяснить хоть что-то Глостер не мог даже самому себе.
Да и как можно объяснить вечность? Вот эта, последняя мысль, была замечательной: прохладной, как предрассветный туман, и легкой, как солнечный свет! Вот только… Глостер снова сделал титаническое усилие, сглотнул странный комок в горле, произнес:
— Все штатно. Конец связи.
— Есть.
Глостер перевел дух. Ну наконец-то… Наконец-то он может хоть немного отдохнуть… Глостер обессиленно приник спиной к столешнице. Черт возьми! Что с ним происходит? Что?! И началось это… Да дьявол знает, когда это началось, вот и все! Но в такой форме… Ну да, после поединка с Диком там, в подвале московского особняка… Так что это? Усталость? Депрессия? Безумие? Откуда? Или — сумасшествие заразно? Глостер вспомнил тусклые, водянистые глаза Лира, и ему стало жутко. Неужели и с ним теперь происходит та же страшная метаморфоза?..
Музыка снова возникла в самой глубине его существа, заклубилась, превращаясь в великолепный, сиренево-фиолетовых оттенков туман, потом туман стал совсем приятного, радостного цвета, определить который Глостер не смог… Или — это снова была музыка?.. И она заполнила все пространство внутри него и вовне и стелилась вокруг облачными прядями, . пока не поглотила совсем и его самого, и все сущее…
Глостер словно принял сильнейший, неведомый стимулятор… И вот уже анестезирующая жидкость помчалась с током крови, превращая нервы в тонкие, вибрирующие струны, превращая мозг в подобие симфонического оркестра, в коем теперь рождались чудесные, золотистые, почти осязаемые звуки… В душе, словно в заброшенном замке, ожили вдруг тени — страшные призраки упырей и вурдалаков, вялой нежити, когтистых нетопырей — и, едва показавшись, исчезли; их место заступили одетые в шелка дамы, кавалеры в бархатных кафтанах… Вокруг сияли люстры, блестел позумент, тускло мерцали драгоценные каменья в фамильных диадемах стареющих виконтесс, легкомысленно блистали бриллианты в ушах и на шеях юных прелестниц, опекаемых внимательными дуэньями и развратными дядьями из камергеров, послов и лордов-хранителей…
Глостер не знал, откуда вдруг накатывало это наваждение, но странное, ни с чем не сравнимое счастье, испытываемое им, захватывало целиком, походило на приближающийся приступ… Приступ чего? Сумасшествия или той самой «жизни вечной», жизни вне времени, вне судеб этого мира, только по произволу собственной фантазии и собственного вдохновения?.. Бог знает.
Глава 51
Возвращаться в мир было мучительно… Но он услышал, как заработал мотор автобуса, слаженно, привычно… Глостер дышал тяжело и часто, глядел на застывшее за окном знойное марево, и оно казалось ему блеклым и тусклым, каким и бывал для него свет солнца по сравнению с яркими и ясными красками бреда.
Глостер встал, подошел к окну. Из подъехавшего автобуса спокойно и деловито выпрыгивали собранные ребятки лет чуть больше двадцати, с крепкими подбородками и безразличными взглядами пустых глаз, а потому похожие, как близнецы одного замеса. Внезапно Глостеру даже слово пришло на ум то самое: порода. Вот именно: время всеобщей убогости, нищеты и безвластия вывело особую породу людей: они не были ни слишком эмоциональными, ни даже слишком алчными: настоящая алчность покоится на эмоциях, а вовсе не на расчете! Нет, эти были размеренны, бесполетны и точны, как тайваньские калькуляторы или малазийские часы, и столь же одноразовы; впрочем, то, что они были маловыразительны и отдавали откровенной дешевкой, никого не пугало: у нас научились многократно использовать и шприцы, и презервативы, и киллеров. В убийстве для них не было ни ярости, ни ненависти, ни даже безумия: ничего личного, работа. Тупая, серая, порой — скучная до одури, но даже сама одурь — глуха и привычна, как легкое гипертоническое недомогание.
Острая тоска охватила Глостера… И вовсе не потому, что эти «арифмометры для окончательных расчетов» не смогут загнать и уничтожить Маэстро; ему было жаль… искренне жаль, что Маэстро затравят не матерые волкодавы, а непонятно кто… Даже не злодеи: так, полулюди. И вторая половина их странного естества — вовсе не любовь к себе, это было бы естественно и понятно, а стерильная аккуратность в соблюдении режима. Того самого режима — завтрак, обед, совокупление, сон, — который они считают жизнью. Чем тогда смерть хуже?
Глостеру стало тепло и весело от этой своей отгадки: ну да, он выводит из строя механических кукол. Отключает их от режима. Только и всего.
— Лаэрт вызывает Глостера, — услышал он в трубке мобильного, после того как тот запиликал призывно и жалобно.
— Да, я слушаю.
— Глостер? — переспросил Лаэрт, словно не веря своим .ушам.
— Лаэрт, прекратите кривляться! Я сейчас спущусь. Бледный как мел Мишаня застонал: все время он держался так, будто потерял сознание или просто не смел потревожить Глостера в его уединенном безумии… Теперь… теперь боль снова захватила его.
— Босс… я… мне… — лепетал он, кривясь.
— Ну-ну… Ты держался умницей… Тебе просто не повезло…
Проходя мимо, Глостер легонько потрепал ладонью раненого под подбородком, словно это был несмышленый ребенок или животное, и скрылся за дверью.
Через минуту он уже прохаживался по залитому солнцем двору рядом со среднего роста светловолосым человеком, которого называл Лаэртом.
— Вы контролируете ситуацию? — спросил Глостер, и голос его был резок, четок и повелителен.
— Полностью. Те люди Ричарда, которых мы захватили в автобусе, поняли все правильно. И переговорили со своими. Особого тепла при встрече ожидать, пожалуй, не стоит, но желание доброго сотрудничества есть. Мы гарантировали им оплату вперед.
— Значит, принципиальных возражений безвременная кончина Ричарда у них не вызвала?
— Ни слез, ни причитаний.
— Нет, Лаэрт, вы мне положительно нравитесь. Вам все это время не хватало юмора.
— Да какой уж юмор ряДом с деньгами?
Глостер откинулся чуть назад, расхохотался беззаботно:
— И тут вы правы, Лаэрт. Рядом с деньгами место или для роскоши, или для смерти. — Он поднял брови, спросил озабоченно:
— Нашли моего жмурика?
— Да. За кадкой.
— А я хотел вам приятное сделать, сюрприз, так сказать.
— Приятное? — озадаченно переспросил Лаэрт, всматриваясь в лицо Глостера.
— Ах, дорогой мой Лаэрт, не принимайте все столь серьезно и трагично.
Согласитесь, редкий экземпляр.
— Кто?
— Покойный, конечно. Да, вот еще что… Никаких протестов, нареканий? Я имею в виду — со стороны масс, так сказать?
— Нет. Ричард, нужно отдать ему должное, набрал профессионалов.
— Черта с два! Он набрал душегубов, пробитых отморозков и легионеров, Лаэрт. Профессионалов здесь только двое! И я имею в виду не вас и себя, а себя и Маэстро! Знаете почему? Мы не хотим жить. Совсем. — Глостер поморщился от солнечного света, как от зубной боли, сказал едва слышно:
— Соберите-ка личный состав. — Скривил губы в невеселой усмешке; — Я им скажу речь. Краткую, но содержательную. Да, и принесите чемоданчик.
— С деньгами?
— Конечно. Только рука дающая обладает властью в этом мире. И — рука отнимающая. — Глостер снова растянул губы в усмешке, но теперь его оскал был жуток. — Сейчас я раздам им деньги. А заберу — жизнь. Но они этого даже не заметят. А мы им не скажем, не правда ли, благородный Лаэрт?
— Нет. Не скажем.
— Вот и славно, трам-пам-пам… — дурашливо пропел Глостер, имитируя подростковый дискант. Добавил заговорщически, наклонившись почти к самому уху напарника:
— Тем более, дорогой Лаэрт, «жизнь» и «душа» в древнем библейском тексте обозначены одним словом. Одним!
Глостер простер руку над головой, словно желая в некоем мифическом астрале ухватить нечто смутное и значимое, что и именуется душою… И — застыл так.
— Извините, Глостер…
— Да?
— Когда вы планируете начало операции по Маэстро и девчонке?
— Операцию уже начал Ричард. — Глостер смотрел в глаза подчиненному открыто и чуть насмешливо, словно это не он минуту назад стоял соляным столпом в некоей магической нирване. — Нам остается ее только завершить.
— Мы начнем действовать уже сегодня?
— Неверно, Лаэрт. Мы начнем действовать сейчас! И время пошло.
— Нашим людям нужна хотя бы минимальная подготовка.
— Маэстро слишком умен, чтобы не использовать ночь для эвакуации из района. Нужно перекрыть все направления возможного движения. Вместе с невозможными. Немедленно. На все про все у вас, Лаэрт, есть сорок минут.
Остались вопросы?
— Нет.
— Выполняйте.
— Есть.
Лаэрт исчез. Глостер вернулся на лестницу, тяжко, с видимою натугой преодолевая ступеньку за ступенькой, поднялся в комнату. Теперь он ступал, словно старик. Казалось, все силы покинули немощное тело.
Глостер открыл дверь, и первое, что увидел, был полный боли взгляд Мишани.
И смотрел он на Глостера сквозь прорезь прицела автоматического пистолета.
— Что такое? Тебе так больно, что ты решил застрелиться? Но не можешь направить ствол в собственную голову и поэтому направляешь в мою? — Глостер мгновенно преобразился: исчез смертельно усталый человек, под стволом стоял ироничный и веселый боец, которого и убивать совершенно немыслимо именно потому, что жизнью он не дорожит вовсе.
— Я знаю, вы меня убьете, — прохрипел Мишаня. — Никому не нужен инвалид.
Но сначала я убью вас. И это будет справедливо.
— Так будет куда справедливее! Но… разве тебе время умирать, Мишаня?
Разве ты успел пожить? Пожить в свое удовольствие? Разве ты осуществил хоть одну свою детскую мечту? Разве ты насытился любовью красивых женщин, терпким ароматным вином, солнечным светом, запахом водорослей, вкусом прибоя?..
Глостер говорил, говорил, говорил… И приближался маленькими, неприметными шажками, неслышно, осторожно, как сама смерть… Слезинки набухли на ресницах Мишани, сделали его мир неясным и размытым, мешали дышать… А тут еще эта боль… Он попытался сморгнуть слезинки, они катились по щекам, а вместо них набухали новые., . И мир оставался трепетно-размытым, рука ослабла, тяжелый ствол тянул кисть вниз, ствол смотрел уже не на Глостера, а в пол, тупо и покорно, словно состарившийся пес, не способный принести вреда никому.
Движения Глостера были точны и четки: удар ногой — и выбитый пистолет заскользил по полу в угол, взмал рукой — и остро отточенный клинок резко опустился сверху вниз и, прорубив затылочную кость, вошел в мозг.
Глостер не вынул боевой нож, не вытер… Вместо этого он подошел к секретеру, тому самому, где находился бар, вынул бутылку абсента, налил в высокий витой бокал терпко пахнущей зеленой жидкости, вдохнул горький аромат полыни… Щеки его порозовели, Глостер выпил бокал разом до дна.
Привычное и всегда волнующее наваждение накатывало зыбкой волной… Все вещи потекли, словно не существовали в реальности, а были изображены на неизвестном полотне Сальвадора Дали… Деревянные и пластиковые предметы стали вязкими и упругими, Глостер почувствовал, как прогибается и пружинит под ногами пол, как вся эта комната словно раскачивается в воздухе и вот-вот сорвется с места, подхваченная шалым шквалом, и понесется в тартарары, в преисподнюю, в бездну…
В мир он опять возвращался долго и неохотно. Жесткие очертания стен казались каменной тканью; тело, испытавшее полет, не желало смириться ни с тяжестью этого мира, ни с конечностью сущего…
Теперь Глостер чувствовал упоение и опустошение. Он снова опустился прямо на пол и сидел так, бессмысленно уставившись в одну точку. Но покой так и не наступил. Ощущения еще носились в его усталом воображении грязными клоками, обрывками ватно-желтого тумана, и ему казалось, что он снова слышит запах прелых листьев, первого снега и свежеотрытой могилы… Но это не пугало: словно на невиданном балу кружилось здесь, в этом шквальном водовороте, и сорванное золото осени, и багрец инквизиторских костров, и синева реки подо льдом, и простынно-свежая благодать первого снега, девственно-чистая, пахнущая антоновскими яблоками и немного — летом.
Если это и было сумасшествием, Глостер знал точно: добровольно он от него не откажется никогда. Тусклый и мятый мир вокруг — слишком неважная замена эйфории грез, пусть длятся они всего мгновение.
— «Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи…» — затянул вдруг ни с того ни с сего Глостер. Это была заунывная бродяжья песня, которую если и пели в дальнем далеке той еще России, и то лишь с дикой пьяни или с потерянной, блеклой, нутряной тоски, когда впору или повеситься, или утопиться… У Глостера мурашки пробежали разом от загривка до самой поясницы.
— «О-о-й, скучно мне, о-о-й, грустно мне…» — старательно тянул он, но из перекошенного рта не доносилось ничего, кроме хрипа и тяжкого, надрывно-звериного воя.
Поднял взгляд, увидел самого себя в зеркале — и не узнал! В стекле отражался бледный сухощавый субъект, и он походил бы на Глостера, если бы не глаза… Зрачки расширены так, что сами глаза выглядели пустыми черными провалами, ямами, на самом дне которых вяло и серо плескалось безумие.
Часть девятая ТЕНИ В АДУ
Глава 52
Але снилось море. Оно было мутным, блеклым и пузырилось, будто теплая стоялая жижа; девушка представила, как солоновато-приторна эта жижа на вкус, почувствовала запах гниющих водорослей, царапающие коготки соли на горле — и проснулась. Море продолжало плескаться, напоминая полудохлую медузу; вдали цвет его из грязно-блеклого становился ядовито-купоросным, и девушке вдруг стало ясно, что это вовсе не Крым и не Кавказ, а море у ее ног — не Черное, другое: безжизненное, пустое скопище солено-горьких вод на унылой, скорбной и бесцветной, как скомканная бумага, поверхности неведомой планеты, может, и бывшей некогда Землей, а скорее — не бывшей никогда ничем. Потом рядом с ней появился юноша, словно только что сошедший с рекламы дезодоранта или джинсов «настоящая Америка» — с развитыми мышцами под упругой эластичной кожей, загорелый, с выгоревшими добела волосами и со смешливыми ямочками на щеках, стоял рядом и приветливо улыбался всеми сорока пятью зубами. Или — пятьюдесятью?
По правде сказать, Аля никогда не знала, сколько здоровых зубов должно быть у человека, и полагала, что чем больше, тем лучше.
— Жарко, — искренне согласилась Аля, продолжая так же внимательно рассматривать собеседника. Вздохнула. По идее… По идее нужно было бы сразу отослать этого чистопородного спортсмена «в баню» и дожидаться Маэстро, но…
Непонятно, мутно-болезненный сон сделал ее такой восприимчивой к «изысканной мужской красоте» или это просто немыслимо для любой девчонки — послать куда подальше такого породистого самца?.. Вернее… Аля поежилась. Она растерялась, и мысли полетели смешливые, как девичье перешептывание в летнем лагере после отбоя… Или мир вообще устроен так, что искреннее волнение и смущение приходится прятать не только перед другими, но и перед собой за показным цинизмом или безразличием, навсегда теряя то сущее, что еще ценно в этом мире?..
Бог знает. Ведь он действительно красив, этот юноша, а настоящая красота, мужская или женская, куда более редка, чем обаяние, и куда более ценна, чем ум… И еще Але вспомнилось, что слово «красавица» звучит по-итальянски как «белладонна», у нас это — дурманная ведьмина трава, вызывающая опьянение, неистовство, эйфорию, полную неземных полетов и воспоминаний обо всем прекрасном, с тобою так и не случившемся.
А вот интересно, как тогда по-итальянски будет «красавец»? «Опиум»? Или — «наваждение»? Может быть, это куда лучше, чем сон о мутном море?.. Почему-то считается, что раз мужчины «любят глазами», то их избранница должна быть хороша собой, стройна, с веселым, томным или покорным взглядом… Девушка же может удовольствоваться толстым и лысым уродом с объемистым бумажником… А порой…
Нет. Природа глуповата в своем совершенстве. Умом барышня может понимать, что с жирным сутулоплечим и крючконосым миллионером куда легче перетоптаться в этой жизни, но при виде молодого человека с упругими мышцами под гладкой шелковистой кожей, веселого или, наоборот, мечтательного, редкая девчонка не ощущала томного, щемящего, головокружительного беспокойства; стоит такому только повернуться, поманить пальцем, взглянуть ласково, и вот уже забыты все былые привязанности и любови, в душе — дикий телячий восторг:
«Он выбрал меня!» И девчонка готова лететь за таким куда угодно, поглупевшая и покорная, ласковая и чувственная, не ощущая ничего, кроме жажды близости… Пока ледяная рассудочная волна не окатит прозрачной пеной, не высветит в зеркале с беспощадной насмешкою припухлости под глазами от несостоявшихся, скрываемых ото всех слез, не заставит заметить собственный потухший взгляд и морщинки, протянувшиеся к уголкам рта, — потому что много лет она непроизвольно сжимала губы, не желая смириться с обыденным и не в силах ничего изменить… Пока эта самая волна не сделает зрение достаточно ясным, чтобы увидеть, что перед нею просто альфонс, корыстный и алчный, жалкий в своем стремлении казаться мужественным.
Но все это потом, потом, потом… А сначала — любой женщине не хочется никакой рассудочности, ничего, кроме любви, неги, головокружения… Мир устроен именно так. Ибо чего хочет женщина, того хочет Бог.
Аля вздохнула. Кажется, ей кто-то уже говорил это все, но вот кто? И не вспомнить. Да и нужно ли?
— У тебя песок на щеке, — улыбнулся юноша, показал пальцем на себе, где именно. Аля невольно повторила его движение, стряхивая песчинки. А мелькнувшее желание никуда не ушло, сделалось властным…
— Теперь все? — спросила она, чувствуя, как невольно розовеют щеки и глуповато-заискивающая улыбка играет на губах… Злость на себя опала несостоявшейся волной, а в голове крутилась та самая бестолковая песня, глупая, но симпатичная, бывшая шлягером так недавно — или так давно? Про беззаботный курортный роман девочки и мальчика, так и не попавшего в Тамбов… Неужели еще вчера эта песня неслась ото всех точек звукозаписи, а сейчас… Будто в другой жизни было. Время и царствует, и правит, не оставляя по себе ничего, кроме ветхости и сожалений о несбывшемся.
Аля чувствовала себя странно: это состояние болезненной усталости, навеянное жутковатым в своем однообразии и серости сном, никчемное и ненужное мудрствование, когда каждая мысль кажется неповторимо сверхценной… А еще — в голове назойливо, будто муха в пустой квартире, болталась жутко пошлая то ли частушка, то ли считалочка: «Не любите, девки, море, а любите моряков…» Аля почувствовала, как огнем запылали щеки, но глупая частушка все крутилась и крутилась в голове… А юноша тем временем действительно сел на песок, рассматривая на ладони перламутровые панцири раковин. Он был совершенно естествен и потому — особенно обаятелен… Порой он бросал на девушку быстрый заинтересованный взгляд, совершенно нескромный, но столь непосредственный, что эта нескромность не оскорбляла, а, наоборот, льстила.
— Искупаемся? — спросил юноша; глаза его были синие, цвета моря, выразительные и очень яркие на загорелом лице;
Аля почувствовала, как покраснела гуще, и порадовалась тому, что лицо ее уже тронул загар, и краска смущения от того тайного, чего жаждало ее тело, не так заметна на румяных щеках.
Аля смотрела на юношу, ощущая свое полное и бесповоротное поглупение с каким-то даже тайным удовольствием, и ждала только одного: когда же он спросит, как ее зовут?.. Или — не станет спрашивать, а наклонится к ней, и она… А что она?
— Искупаемся? — спросил он снова и, не дождавшись ответа, пожал плечами, встал… В носу у Али защипало от близких слез, а дурацкая логика помимо воли возводила хлипкие и уродливые строения, громоздя друг на друга безжизненные блоки допущений, и вот уже созданная мозгом конструкция казалась истинной…
Действительно, всякое сознание стремится угадать: что станет с бедной Золушкой после того, как принц на ней женится? Ну да, принцу более всего на свете приятно быть заинтригованным; вместо того чтобы наслаждаться тихим счастьем с Золушкой, он так и будет мотаться взад-вперед по королевству и примерять на возможных избранниц фортуны иные туфельки, пусть и не такие хрустальные, а еще — ленточки, шляпки, чулки, плащи, перстни, ожерелья — чего только не забывают и не теряют во дворцах ветреные красавицы, чтобы иметь предлог вернуться за «невзначай» оставленной вещью. Ну а Золушка?.. А что ей? К ней, помнится, был неравнодушен король-отец…
«Искупаемся?» Вопрос все еще звучал в ушах девушки, а время уже тянулось тягуче, словно загустевшая патока из бидона, и юноша удалялся вдоль берега, ступая упруго, пружинисто, как молодой барс… «И настроение — хоть плачь! Так хорошо и одиноко…» — вспомнилась ей стихотворная строчка… И оттого стало еще грустнее, будто молодость уже прошла, жизнь кончилась и все вокруг существует только в воспаленном горячечном воображении полубезумной старухи на смертном одре… В ее воображении… А колючий комок уже подступал к горлу, и слезы скопились уже, готовые пролиться по щекам горячей солоноватой горечью, и не было причины не плакать. «Что-то не хочется уже купаться, — подумала девушка. — Похолодало, что ли? И море какое-то… странное».
— Что-то не хочется купаться, — произнесла Аля вслух, хотя никто не мог ее здесь услышать. — Похолодало, что ли? И море какое-то… странное.
Действительно, странен был опустевший берег: Аля заметила вдруг, что метров на триста в любую сторону — ни одного загорающего; только далеко слева, метрах в четырехстах, на мелководье, какие-то люди играли в мяч, но она не могла бы поручиться, что это не мираж. И море… Море стало таким, каким Аля его видела во сне: ни единой волны, только ровная, пузырчатая гладь, но не прозрачная, а мутно-белесая. Ленивая зеркальность простиралась насколько видимо глазу до самого дальнего горизонта. Из воды, показав влажную черную спину, выскользнул обеспокоенный дельфин; проскользил у самой поверхности, снова блеснул дугой мокрой спины и помчался прочь, рассекая плавником плоскую поверхность.
Случилось и еще более тягостное… Але пусть на мгновение, но показалось, что она и не просыпалась вовсе, и сейчас если встанет и пойдет вдоль берега, то не увидит никаких людей вообще; что длится и длится этот нескончаемый сон наяву, унылый и изматывающий… И тут все вокруг переменилось: море застыло в бездвижии, ветер дохнул близкой осенью — и свет померк. Тьма пока не настала, но она угадывалась, и это было вовсе не похоже на закат солнца или на пасмурный вечер, когда день затухает постепенно и устало; все изменило цвета вдруг, словно невидимая всесильная рука разом убрала свет.
Девушка свернулась клубочком и замерла; слезинки беззвучно покатились из глаз, она заплакала, не жалуясь ни на что даже самой себе, лишь всхлипывая тихонько, словно брошенный котенок, никому не нужный и никем не любимый в этом угасающем мире.
Сделалось холодно. Мир окрасился фиолетовым, будто из сущего он превратился вдруг в мрачноватую компьютерную имитацию, и только береговые ласточки продолжали встревоженно метаться над высоким берегом, расчерчивая своим беспокойством мерное пустое пространство и делая его живым.
Глава 53
Теперь Але снилось, что она в пустыне. Она лежала на песке обнаженной; теплые лучи ласкали кожу, лучи не палящие, нежные; да и пустыня была освещена будто и не солнцем вовсе, а загадочной звездой Гемма из созвездия Северной Короны, той самой звездой, что в соединении с Солнцем предвещает счастливую любовь и покровительствует успеху в искусствах. Аля даже заулыбалась от ощущения чего-то радостного. Правда, в горле першило чуть-чуть, словно от мельчайших крупинок соли, попавших на небо… Наверное, перекупалась.
Где-то невдалеке послышался хруст песка. Девушка повернулась и увидела варана. Спокойный, мощный, он неторопливо карабкался вверх по песчаному кургану, но девушка знала, что этот громадный ящер ей совершенно не опасен; по крайней мере, он не опасен ей так, как опасен для своих собратьев, выживших каким-то чудом, попавших в наш мир из страшного и мистического мира рептилий, продолжающих бесконечную смертельную схватку… Схватку за что? Ведь этим жутким хищникам уже никогда не стать господами в мире под новым солнцем, но они продолжают сражаться с истовостью и упорством потому, что это даже не смысл, а способ их существования.
А варан оказался вдруг рядом, повернул массивную башку, и девушке на миг стало страшно: ящер смотрел на нее совершенно по-человечески; в его взгляде были и мольба о понимании, и скорбь… "Так, значит, они были мыслящие? А мы самодовольно считаем их мир примитивным просто для собственного оправдания?
Оправдания духовной нищеты и жестокости?"
Ящер снова мотнул лобастой головой и ткнулся девушке в плечо. Аля открыла глаза. Рядом стоял Маэстро. Тяжелая сумка покоилась у его ног. Присев на одно колено, он наклонился к девушке и спросил:
— Сладко спалось?
— Это ты?..
— Плохо себя чувствуешь? — Маэстро пристально посмотрел на Алю.
— Угу. Как побитая. Надувным ленинским бревном.
— Чем?
— Бревном. Ленинским. Надувным. Тем, что вождь пролетариата на субботнике таскал.
— Хм… Сейчас твои ровесники и не знают, кто такой Ленин.
— Я — из продвинутой молодежи.
— Замерзла, продвинутая?
— Чуть-чуть. — Аля взглянула на море: солнце уже готовилось купаться в его волнах, значит, уже вечер, и не ранний, а она проспала в общей сложности несколько часов. Сейчас ее бил озноб. — А во сне было много солнца… Наверное, перегрелась, — вздохнула девушка. — И сны эти…
— О снах ты расскажешь по пути, ладно?
— А по пути — куда?..
— Помнишь анекдот? «Ша, уже никто никуда не идет».
— Не поняла. Поясни.
— Мы будем просто гулять. Вдоль берега.
— А-а-а…
— Я суеверен.. А дорогу «закудыкивать» — дело неважное. Уразумела?
— Поняла, не дура. Гулять — так гулять. Прямо как в песне. Вот только…
Влад, нам что, снова нужно убегать?
— Да.
— Значит, «разведка боем» не удалась?
— Как раз наоборот. Ведь я жив. Они собрались быстро. Маэстро привычно проверил оружие, забросил за плечо обе сумки и быстро и пружинисто пошел вперед вдоль берега, в сторону от пляжа. Аля заспешила за ним.
Идти было трудно. Голые окатыши то и дело выскальзывали из-под ног, постоянно попадались участки с мокрым и зыбким песком, и вскоре обувь у девушки и ее спутника промокла, пропиталась песчаной взвесью и стала ощутимо натирать ноги… А тут еще и трава… В некоторых местах с обрыва сползли мощные многотонные пласты, перекрыв побережье жутким нагромождением бурых и серых камней; завалы стояли плотно, а вода и ветер сделали их подобием сказочных лабиринтов. Такие приходилось обходить, забирая далеко к берегу, ползти по каким-то «овечьим» тропкам, продираться через довольно высокие и плотные заросли неведомой травы, растущие где попало… У Али тогда просто замирало сердце: она жутко боялась змей, и опасение наступить на злобную пресмыкающуюся гадину превращало ее путешествие, так опрометчиво названное Маэстро прогулкой, в сущую муку.
— И долго нам так брести? — спросила Аля совсем поникшим голосом, не выдержав молчаливого похода. — Хоть это-то можно узнать?
— Это — пожалуйста. Пока не выберемся к пансионату «Водник».
— И зачем?
— Займем автомобиль.
— Но почему мы туда премся? Как говаривала бабушка Вера, «я чаю, не ближний свет». А автомобиль ты можешь «занять» где угодно. С твоей-то общительностью. Слушай, Маэстро, когда ты ходил в эту свою разведку боем… Мы что, не могли уйти тем же путем?
— Нет. Я оплошал малость. Или не малость. Было слишком много шума. И теперь с нами совсем перестанут церемониться. То есть будут стрелять из всех стволов. — Маэстро улыбнулся:
— Так что тем же путем — слишком рискованно.
— А до этого как было? Пытались шампанским угостить, да догнать не смогли?
— Аля…
— Что — Аля? Нормальные герои всегда идут в обход, так? — выпалила девушка, пожав плечами. — Тогда — в обход чего?
— Иронизируешь? Или злишься?
— Да ничуть. Я просто боюсь. Жутко боюсь! Зачем ты вообще ходил в эту свою «разведку боем»?
— Узнавать.
— И что ты узнал? Что на нас облава? Вот так новость и эка невидаль! «На вас погоня, четыре коня…»
— Аля…
— На автомобиле нас быстрее всего и сцапают. Даже я, дура дурой, а соображаю: те, по чьему приказу убили Ландерса, люди влиятельные. И когда им надоест разыгрывать товарищей и придет пора отстреливать дичь, нас то есть, они это сделают без лишних хлопот. Дороги для них перекрыть — раз плюнуть. И мы в угнанном авто будем как кильки в банке. В стеклянной. Выцеливай и валяй на выбор.
— Резон в твоих словах есть, но… Разъезжать беззаботными туристами мы как раз и не станем. А сразу по получении колес покатим в пансионат «Мирный».
— Что «Водник», что «Мирный»…
— Не скажи. Именно оттуда руководят охотой. На нас.
— И — что?
— Останется поинтересоваться только, кто все это затеял и почему. И где скрывается Лир. И кто он такой.
— Влад, время и события сделали меня совсем не любопытной, ты хоть это понимаешь? Больше всего мне хочется сейчас прикинуться ветошью, мирной рыбачкой Соней и свалить отсюда куда угодно, хоть на Каймановы острова, и можно до конца дней и по гроб жизни! Я уже сыта по горло чужими играми, я жить хочу счастливо, я хочу, чтобы что-то происходило в моей жизни, ты понимаешь, происходило, а не случалось! Да, мне еще дорога страна, но больше уже дорога как кладбище: здесь где-то погибли мои родители… Но я пренебрегу заботой о могилах, тем более что и бугорков от них никаких не осталось, и, может быть, для тебя, бойца насквозь невидимого фронта, это в порядке вещей, то мне…
Аля присела на корточки, закрыла лицо руками.
— Тебе плохо? — встревоженно наклонился над ней Маэстро.
— Нет. Извини. Погоди немного. Я сейчас соберусь. Извини.
Девушка вздохнула несколько раз, подняла потемневшее лицо, но слез на глазах не было.
— Ты умница.
— Нет, Влад. Просто… я такая же, как ты. Мне некуда идти. Поэтому нам по пути. Веди.
— Тогда — пансионат «Мирный». Там нас не ждут.
— Нас нигде не ждут, — произнесла Аля потерянно.
— Не расстраивайся, девочка. Не мы одни такие.
— Ты думаешь?..
— «Когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал… Я пошел по дороге со всеми, и сам себя я отпевал…»
— Что это за песня?
— Стихи Николаев Гильена, а вот автора музыки не вспомню.
— Красивая. Но не очень веселая.
— А я хотел тебя утешить.
— Песней?
— Ну да.
— Хм…
— Поэты знают истину.
— Думаешь?
— Истина в том, что никого не ждут на этой земле, и каждому приходится воевать за место и под солнцем, и под звездами, но… Человек не только не находит то, что хотел, но и теряет то, что имел. А когда оглянется… Жизнь уже спешит к закату, и ему нечего вспомнить, кроме войны и огня. И — не о чем жалеть.
— Это банально, Маэстро.
— Может быть, если огонь для тебя — лишь метафора, а война — понятие истории и философии.
— Ты загрустил?
— Вряд ли.
— Не грусти. Ведь гореть куда лучше, чем гнить.
— Да?
Аля только пожала плечами. Потом вздохнула горько:
— А вообще-то… Все это пустое мудрствование, а по жизни… по жизни я точно знаю: у тех, у кого есть папа и мама… или были хотя бы в детстве… им жить куда проще. А уж воевать и подавно.
— Наверное, ты права.
— Я не «наверное» права, я права во всем. И ты это знаешь! Ой!
Аля ступила неловко, нога заскользила по камню, и девушка упала. Маэстро мигом оказался рядом, на лице его читались озабоченность и страх.
— Ничего… — произнесла Аля, кусая губы.
— Не ври! Тебе больно? Напряги ногу… Умница… А теперь попробуй встать.
— Ага. — Девушка глянула на Маэстро, глаза его были совсем рядом. — Влад, а если у меня перелом, ты меня пристрелишь, да? Чтобы не мешала выполнять «боевую задачу»?
Если Маэстро и хотел пошутить, то, увидев в глазах девушки затаенный страх, передумал, ответил искренне и просто:
— Нет.
И в этом ответе Аля услышала такую смертельную усталость… И ничего не нужно было объяснять, ни о чем не стоило говорить… Девушка просто уткнулась ему в куртку и заплакала.
Маэстро прижал ее к себе, гладил по голове, пока девушка не перестала всхлипывать…
— Влад… Ты не обижайся на меня… Ты добрый, хороший… Я правда совсем не понимаю, как ты стал тем, кем стал… Но все-таки… все-таки я тебя боюсь… иногда…
— Не переживай, девочка. Иногда я и сам себя боюсь.
— Я больше не буду поскальзываться. Просто я устала. И еще… еще мне жутко страшно скакать по этим камням и через эти кусты куцые продираться… Так и кажется, где-то там гадюка затаилась и стоит мне наступить, как она… 0й!
Видишь, только упомянула, а у меня — душа в пятки и мороз по коже… Даже не мороз — судорога. Я никогда не думала, что такая трусиха, а тут… Кажется, мне никогда не было так страшно. — Аля помолчала, выдохнула, скривившись:
— Меня трясет, ты чувствуешь?! Ползти по этим жутким камням, а особенно через кусты!
Бр-р-р!
— На деле боимся мы не змей, а нашего представления о них. Может быть, того, канувшего в небытие, мира рептилий, враждебного всякому теплокровному… А может, того, что во всяком ползующем на брюхе гаде — что-то от сатаны, а сатана и есть смерть… Для человека образ врага, и извечного, и наиболее нежелательного, подсознательно ассоциируется именно со змеей.
— Какой ты у-у-умный… Влад, если так ты хотел меня успокоить, это тебе снова не удалось.
— Погоди, Аля. — Маэстро задумался на секунду, произнес:
— Нас гораздо больше пугают сформированные нашим же воображением страхи, чем их реальный источник. Змеи, которых ты боишься, не живые.
— Как это — не живые? А какие же? Дохлые?
— Ты страшишься того, что нарисовало твое усталое воображение, твои растрепанные переживаниями нервы уже загодя, заранее, боятся этой красочной чепухи, посылая сигнал о близкой опасности в мозг, требуя от него команд на соответствующее действие… А их, этих команд, нет! И нарастает напряжение, появляется скрытая истерия. Ты просто устала, девочка.
— От жизни?
— Скорее, от ее отсутствия.
— Тогда, может быть, отдохнем немного?
— Нельзя. Солнце уже садится. Нужно идти, а то в темноте ноги побьем.
— А вот темноты я уже не боюсь. Пошли.
Глава 54
Через четверть часа они уже сидели, прислонившись к громадному монолиту скалы. Вернее, это была даже не скала: похожий на каньон почти отвесный обрыв был расчерчен слоями тектонических пород, и человек знающий мог бы прочесть по ним историю земли легче, чем сказку по простой книге… От этого величественного могущества, так близкого к вечности, становилось не по себе. А море… Оно было куда ближе людям, чем подавляющие своей грозной монументальностью камни, оно было живым и понятным. Солнце уже купалось в нем, засыпая; в затухающем пламени заката море перекатывало играющие янтарным светом густо-малиновые волны на гладкие ложа камней и отступало назад, потемневшее, сонное, шурша захваченной с собою горстью земного праха… И так — из года в год, из века в век, всегда.
— Ты знаешь, я подумала… — тихо заговорила Аля. — Здесь, на юге, красиво. Вернее, нет, не то… Это завораживает. И еще — чувствуешь какой-то трепет… Берег, море, мерное чередование волн. И эти скалы… Смотришь, в простом камешке — окаменевшая раковинка… И жила она триста миллионов лет назад и триста миллионов зим, когда никого из людей не было вообще… Здесь красиво. И можно представить, как на этих берегах греки сражались с варварами, как конница скифов сшибалась в смертельной схватке с византийцами, и тела павших воинов лежали брошенными в степи, но очень скоро от них оставались лишь гладкие, выбеленные ветром костяки между темной зеленью горькой полыни и седыми кисточками ковылей…
А сейчас? Города серы и гнусны, там невозможно стать героем. Там невозможно даже погибнуть! Только — откинуться, скопытиться, сгинуть… Сгинуть, чтобы быть зарытым на громадном новом кладбище среди бесконечных бурых или занесенных снегом бугорков… Среди могил людей, которые… Знаешь, почему Наполеон не смог у нас воевать? Под небом Италии или Испании его храбрым солдатам было сладко геройствовать, как под взглядом красавицы, даже погибая!
Здесь… в России они просто дохли — от ран, голода, холодной и слякотной стужи, безымянной пули из темного бора… Французы выиграли и сражение, и войну, чтобы потом сгинуть попусту.
Аля сидела какое-то время молча, напряженно размышляя. Произнесла тихо:
— Наполеон потерял все: и корону, и империю, и жизнь. Все, кроме славы.
— Ты не права, девочка. Война уродлива. И никакая слава не сможет это уродство скрыть.
— Война — это уродство?
— Самое гнусное из тех, что я знаю. Она уродует душу.
— Тогда скорее… война это болезнь. Души, духа, сознания… А у нас давно — эпидемия войны. Кто-то от нее умирает. А кто-то, наверное, и выздоравливает.
— Любопытная мысль…
— Да ничего не любопытная, Влад! Это самая настоящая правда! Спроси у людей из следующего за военным поколения, за что же на самом деле сражались и умирали их отцы, и эти люди не найдут, что ответить! Одни будут повторять дежурные догмы, навязанные им пропагандой, другие — размышлять о какой-нибудь геополитике, но у всех в глазах будут лишь пустота и скука… А ведь были искренние порывы, идеалы, страсть, самопожертвование, все то, что так привлекает идущее за поколением воинов поколение обывателей… И это были войны мировые, значимые, те, в которых решались судьбы стран и народов… А сейчас? Их и называют стыдливо: не войны, а локальные военные конфликты… Локальные конфликты… А ведь у нас… у нас сейчас и не жизнь в стране, а один большой «локальный военный конфликт». Где за деньги одни двуногие убивают других двуногих… Хм… Локальный военный конфликт как способ существования человечества… Забавно?
— Угу. Но не смешно.
— Знаешь… Я тут подумала… Продажная смерть куда хуже продажной любви.
Пауза была на этот раз долгой. Солнце уже ушло, но его свет из-за горизонта, отраженный небом, красил море дивными, совершенно неземными красками… Море засыпало, меняя цвета, становилось то темно-сиреневым, то фиолетовым, лишь кое-где оставаясь расцвеченным оранжевыми и золотыми бликами.
— Аля… А кто тогда я? — нарушил затянувшееся молчание Маэстро.
— Не знаю.
— Твое «не знаю» звучит как приговор.
Девушка ничего не ответила. Возможно, она даже не расслышала слов Маэстро.
Она смотрела на закат. Небо пламенело, меняя цвета от густо-малинового до бледно-алого, пока не становилось сиренево-фиолетовым на востоке. Там зажигались звезды. Аля смотрела долго, будто находясь под неведомым гипнотическим воздействием; вряд ли она понимала, что недавнее затмение подсознательно испугало ее, как и все живое, пробудив мистические страхи о когда-то исчезавшем свете во время казни Спасителя, или страхи эсхатологические — конца света и Страшного суда… Девушка просто смотрела на заходящее солнце, не в силах оторвать взгляд.
— Жаль, что уход человека не столь прекрасен, как закат солнца… И нет в нем ничего от вечности… Наверное, мы очень провинились в этом мире, и нас наказывают, — произнесла Аля тихо и внятно. Потом наклонила голову, закрыла лицо ладонями. — Маэстро, мне страшно, мне очень-очень страшно… Словно я раньше жила в мире, покинула его и не вернусь назад уже никогда… То, что я говорю… порой мне кажется, что это какое-то сумасшествие… Мне вовсе не нужно говорить все это, мне не нужно даже думать над этим всем, мне нужно просто жить, и любить, и быть любимой, а вместо этого… Мне кажется порой, что по-настоящему я живу только в снах. Почему так?
Маэстро пожал плечами:
— Не знаю. А что все-таки тебе снилось? Что-то хорошее? — поспешил добавить он, увидев, что девушка уходит даже не в депрессию — в состояние сумеречной истерии. — Гигантский ящер, похожий на меня… А еще?.. В твоем сне ведь было что-то хорошее?
— Да. Откуда ты знаешь?
— Ты улыбалась, когда спала. Что тебе снилось?
— Сначала — юноша, этакий капитан Грей из книжки про алые паруса… Он предложил мне искупаться с ним… Но я не согласилась.
— Испугалась?
— Н-н-нет. Если правду — я была… поражена. Его совершенством. Это было как наваждение. Поэтому я и испугалась.
— Может быть, так и следовало?
— Может быть. Тем более, море было… плоское и ленивое, будто подсолнечное масло. И еще — было темно. Вернее, стало темно. Вернее… — Девушка задумалась, собрав чистый лоб морщинками:
— Нет, все не так было. Сначала мне снилось море. Но не такое, какое есть, а скользкое, как медуза. Потом снилось, что я уже проснулась, и свет померк. Ну а потом — вот этот вот капитан Грей…
Мне снилось, будто я уже проснулась, а он подошел и сел рядом.
— Приставал?
— Не-а. Молчал. А вообще… Как в песне; «Я сидела у берега моря и смотрела на старый причал… У причала какой-то мальчишка…» Но этот — не плакал. Просто присел рядом и перебирал раковины. Большие такие раковины, красивые, их еще к уху подносят, чтобы услышать море… У него они были в сетке, и он…
Аля замолчала, глядя в одну точку, потом произнесла скорбно и абсолютно серьезно;
— Беззаботности хочу. И беспечности. Притом — я все понимаю и про этот мир, и про войну… Но хочу беззаботности. И счастья. И даже не потому, заслужила я или нет;.. Счастье, как и любовь, вовсе не заслуга, а дар. Вот я и хочу, чтобы мне это подарили. Просто так.
Аля вздохнула, словно уставший от одиночества ребенок.
— И пусть вокруг война, и ночь, и пустые скалы… Я все равно хочу беззаботности. У меня ведь никогда этого не было. Никогда. И наверное, уже не будет. — Аля вздохнула. — Может быть, именно так и уходит юность. Ты понимаешь?
Маэстро с улыбкой покачал головой. Хотя… Когда тебе нет двадцати, жизнь делится не на десятилетия, а на годы. Юность уходит… Сказать ей, что так будет не раз и не два в будущем? Что за жизнь человек только теряет?.. Теряет непосредственность, ясность взгляда, теряет веру в людей, в благородство и справедливость, теряет мечту… А если что и приобретает, то только боль. И ничего, кроме боли.
Маэстро промолчал. Вряд ли все, что он знал для себя, будет для нее утешением. Да и откровение из этого тоже неважное. Если не можешь сказать ничего доброго — молчи. Может быть, это не так честно, зато по совести. Никому не нужна правда, если она не соткана из грез.
— Маэстро, а ты умеешь толковать сны? — спросила Аля чисто по-женски, безо всякого перехода. — К чему снится раковина?
— Вместе с устрицей?
— Нет. Вместе с юношей-атлетом.
— Вот такая? — Маэстро раскрыл сумку и вытащил крупную, красивую раковину рапана, поднес к уху, послушал, молчал с полминуты, довольный произведенным впечатлением, спросил:
— Похожа?
— Да. Где ты ее взял?
— Он лежала рядом с тобой, там, на берегу. Но ты ее почему-то не заметила.
А я — подобрал.
— Может быть, она просто валялась?
— Вряд ли. Таких больших рапанов на берег не вынесет ни одна волна.
Подводники берут их на довольно приличной глубине.
— Так, значит, это был не сон?.. — Искреннее удивление отразилось на Алином лице. — А вообще-то… жаль.
— Себя?
— Маэстро, ты такой непонятливый! Всегда, всегда людям жаль только того, что не сбылось, понял? Жаль отлетающую юность, жаль несостоявшуюся любовь…
Жаль проходящую жизнь! О чем еще жалеть?
— Больше не о чем. Всякая жизнь есть не что иное, как томление по ее краткости.
Аля вряд ли расслышала; она замерла на миг, глядя прямо перед собой, спросила:
— Слушай, Влад… А тьма тоже была… наяву?
— Да. Тьма была наяву. Ты видела солнечное затмение. Девушка замерла, глядя прямо перед собой невидящими глазами:
— «Тьма, пришедшая со стороны Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…» Маэстро, ты загрустил?
— Наверное, виноват закат, — произнес Маэстро. — Красное зарево над черной водой… В таком месте родятся мысли о преисподней.
Аля вздохнула, глянула на мужчину исподволь:
— Влад… Ты извини, если я что-то не так сказала…
— Все так. — Маэстро усмехнулся горько:
— Мне надлежало стать актером.
Возможно, это был бы великий актер. — Он замолчал, на этот раз Але показалось, что пауза тянется долго, бесконечно долго. — Жизнь прошла бездарно, другой не будет. — Маэстро вздохнул, повторил со спокойной обреченностью:
— Жизнь прошла.
— Влад, ты не можешь…
— Подожди, Аля. Каждый человек отвечает за свое прошлое. За все в нем.
Никому никогда не удавалось начать жизнь с чистого листа. И даже у самого добропорядочного обывателя отыщется в памяти несколько таких эпизодов, которые он не рискнет доверить ни бумаге, ни дневнику и сам желал бы забыть навсегда…
Я не был мирным обывателем. У меня не только есть, что забыть, но много того, что нельзя вспоминать никогда и нигде.
— Даже на исповеди?
— На исповеди особенно.
Аля повернула голову, попыталась поймать его взгляд… Ей хотелось понять… Но Маэстро закрыл глаза, помассировал веки и произнес тихо и очень спокойно:
— Мне страшно предстать перед Всевышним, девочка. Страшно.
Глава 55
Ночь легла мгновенно, без сумерек, как бывает на юге, и только кроваво-красное зарево заката светилось над черным морем мерцающими угольями; все прежние цвета исчезли, остались только эти два, могучие и чистые: пламенеющий ровно, будто жар костра, цвет огня и крови и непроницаемый, словно плащ ночи, цвет мрака и преисподней.
Мужчина и девушка снова шли вдоль берега; прибой сонно и почти бесшумно перебирал гальку, море дышало негой и покоем.
Два длинных луча прорезали фиолетовую темень неба, уперлись в ставший мутно-багровым закат и застыли так, будто наткнувшись на непроницаемую преграду, а вслед за тем блуждающий свет фары зашарил по небу неверной трясущейся пятерней, бог весть что выискивая наобум и на ощупь. Сам автомобиль вырисовывался в упавшей тьме неверным силуэтом.
— Мы что, опоздали? — спросила девушка.
— Нет. Это они успели раньше.
— Слушай, Маэстро, а ты, похоже, рад? У тебя даже глаза заблестели.
— Рад? Чему?
— Вот этого я не знаю, — произнесла девушка едва слышно, но Маэстро уловил в ее голосе затаенный страх.
— «Нас уверяют доктора, есть люди, в убийстве находящие приятность…» — продекламировал Маэстро из пушкинского «Скупого рыцаря». — Я не из их числа, девочка, не бойся. Просто появился противник, а значит, пропала неопределенность: некогда больше мудрствовать, нужно действовать.
Маэстро замолчал, с минуту смотрел, как прожекторный луч суматошно рыскает по черному небу, удовлетворенно кивнул:
— Скорее всего, единичный разъезд. — Пояснил:
— Сейчас противник перекрывает возможные пути нашего отхода, все более-менее удобные спуски и съезды к морю. В том, что от моря мы далеко не уходили, они уже убедились. Но где мы точно находимся, не знают.
— Скоро узнают… — в тон ему с мрачноватой иронией сказала девушка.
— Может быть.
— Маэстро… А что они станут делать после того, как перекроют возможные направления нашего бегства? Как вообще принято действовать в подобных случаях?
Должны же быть какие-то общие правила, штатный вариант?
— Чаще побеждают исключения из них. Впрочем, правила для того и создаются, чтобы их нарушать.
— И различать гения и посредственность?
— Ты считаешь, что посредственность работает строго по шаблону, а гений — вне правил и установлении?..
— Да.
— Нет. Гении только тот, кто побеждает. А уж ориентируется он на правила или, наоборот… Важно — побеждать.
— Всегда?
— Всегда.
— Маэстро, тебе не кажется, что мы слишком… того. Раздухарились.
— Да нет. Только в идиотских фильмах герои перед схваткой полны многодумной значимости и тяжкого уныния, будто сейчас им предстоит нести мочу на анализ, каждому — цельное ведро, причем налитое до краев. И расплескивать грустно, и не расплескать нельзя, оттого и тоска вселенская в собачьих взглядах.
«Суровые годы проходя-я-ят…»
— А что, на смерть нужно идти с пляской во взоре?
— Идти следует только на жизнь. Даже если допускаешь, что можешь погибнуть.
— Ложь во спасение?
— Истина.
Девушка взглянула рассеянно, собрала лоб морщинками, сказала, кивнув на стоящий на взгорке автомобиль:
— А все-таки, Маэстро, ты знаешь, как они станут действовать по правилам?
Конкретно?
— Пустят вертолет вдоль берега, на броню «фонарь» подвесят, мощности его хватит, чтобы рассмотреть, есть клешня у мирно проползающего по песочку краба или он калека и бестолочь… А чтобы был полный плезир и благолепие, бережком собачек отправят. С проводниками. Вот этого дожидаться не стоит.
— Ничего у них не получится. Никого они не отправят. Ни берегом, ни буреломами. Вернее… отправить могут, но их ожидает разочарование. Ночью по побережью парочек — как песка.
— Погоню вдоль берега все равно запустят: штатные варианты не дураки придумывали, не получится зверя поймать, так хотя бы шугануть. И — выгнать на номер, к охотничкам.
— Тем, которые в машине? — спросила Аля, кивнув на невидимый во тьме автомобиль, играющий светом фары.
— Нет. Это приманка. Капкан, — Это на кого же — такой «незаметный»? На дураков? Они же своей фарой полнеба расчертили…
— Дураков на деньги ловят. А для усталого и самоуверенного бродяги, вроде меня, такой — в самый раз. — Маэстро вздохнул, но не сокрушенно:
— Машина нам все равно необходима. Нужно ее захватить.
— За-хва-тить. Со стрельбой и дымом. С горкой трупов, маленькой, но своей.
Аля прильнула к скале спиной, закрыла глаза. Сидела так молча минуту-другую, словно собираясь с мыслями. Маэстро не мешал ей. Со стороны моря раздался приглушенный расстоянием шум винтов вертолета. И от берега, кажется, несся еще один. Маэстро тронул Алю за плечо, произнес:
— Пора работать.
— Работать? — Девушка, казалось, с трудом разлепила смеженные веки. Глаза ее лихорадочно блестели.
— Да, — ответил Маэстро, не сразу заметив перемену в ее состоянии.
— Пора работать. Работать пора. — Глядя в одну ведомую ей точку, деревянным голосом произнесла девушка. В ее интонации, казалось, сейчас совершенно отсутствуют обертоны, и поэтому голос казался безжизненно-механическим, словно звук дешевой таиландской игрушки. Но боль, таившаяся глубоко в душе девушки, прорывалась как раз в той нарочитой безличности голоса «механического пианино», который она имитировала не столько старательно, сколько естественно. — Пора претворять планы в жизнь. Сеять смерть.
Работать. Превращать пансионат «Мирный» в погост. В смиренное кладбище. В выгребную яму. Ха-ха-ха. Смешно.
— Аля…
— «В поле трактор дыр-дыр-дыр, мы за працю, мы за мир!»
— Это стихи? — попытался улыбнуться Маэстро.
— Это — стихи. А «праця» — это труд. Мир, труд, май. Вспомнил, из комсомольской юности?
— Аля, пожалуйста… — Маэстро попытался было взять девушку за руку, но она сначала не заметила этого, как не замечала ничего вокруг, сосредоточившись на видимой ей точке… Потом выдернула руку, провела ладонью по волосам, заговорила снова, но так тихо, что Маэстро едва мог ее расслышать:
— Я недавно в поезде ехала. Там на каком-то больном полустанке лозунг по крыше, вдоль всего дома… Когда-то на совесть сработали, теперь убрать — деньги нужны, да и часть пейзажа опять же… Так вот, лозунг… в духе времени…
Раньше было «Слава труду» начертано. А нижняя перекладинка в букве "д" сгнила и отвалилась. И вот представь, что мы теперь читаем… Крупно так, аршинно: «Слава трупу»! Трупу, ты понял? Тому, что всеми нами управляет н тащит .ваше упирающееся стадо из разоренного телятника прямо на живодерню!
— Аля…
— Что — Аля?! Знаешь, как мне страшно, когда ты сереешь на глазах и зрачки у тебя становятся пустыми и мертвыми?.. Что ты видишь в той тьме, которая тебя окружает, я не знаю, но я боюсь… Еще немного такой жизни — и та самая тьма настигнет и меня!
Девушка, сидя на корточках, прислонилась к каменной стене, словно хотела с нею слиться, закрыла лицо ладонями; плечи, предплечья, запястья напряглись, словно она пыталась справиться с навалившейся на нее непомерной тяжестью…
Кисти рук побелели от напряжения.
Маэстро наклонился, коснулся ее плеча… Теперь он просто ждал. Так прошла минута, другая… Постепенно напряжение ослабло, плечи девушки обмякли. С усилием и опаской Аля отняла от лица ладони и теперь рассматривала их так, будто это были не ее собственные руки, а ветви деревьев… Наконец вздохнула облегченно, подняла на Маэстро взгляд:
— Кажется, я содеем разучилась плакать. — Аля попыталась улыбнуться, но улыбка вышла у нее совсем невеселой, вымученной, а в глазах плескалась обида, горючая и горькая, как полынь, как те самые невыплаканные еще в детстве слезы. И еще — она словно просила у Маэстро за что-то прощения… То ли за то, что она его почти не любила, то ли за то, что нe за что любить ее саму… — Я сoвсем разучилась плакать. — повторяла Аля.
— Не бойся. Способность плакать — это как любовь, только кажется, что исчезла навсегда… Потом это вернется. Тогда, когда ты будешь готова.
— Я и сейчас готова… Но не могу; Ты же ви-ди-шь.
— Просто сейчас не время.
— Маэстро… ты думаешь… этому будет время?! И я смогу?
— Да.
— Правда?
— Правда.
Ночь легла ровно, как бывает на юге, и только кровавое зарево заката светилось, затухая, над ставшей черной водой мерцающими угольями, да луч беспокойного света желтым бесом плясал в фиолетовом небе свой безумный танец, словно, предвещая кому-то или скорое помешательство, или мучительную кончину.
Глава 56
Бывает, что человек уже сдался. Внешне он еще кажется сильным, отважным, а порой и могущественным, и не только окружающим, но и самому себе. А на самом деле таящаяся и таимая глубоко в душе червоточинка уже разъела пустошь, в которой, как в брошенной избе, поселились чумная нежить и стылая, смертная тоска… Но ни злосчастье, ни лихо не успевают сожрать такого человека: он пропадает, как падает: ровно и красиво, словно подточенный ясень, разом, накрывая зелеными еще ветвями громадное пространство вокруг, и падение величавого исполина кажется окружающим необъяснимым и странным, пока не вскроется пустое, голое чрево, полное гнили и нечистоты.. Так бывает.
А бывает — наоборот. И сил уже больше нет ни на что, и отчаяние кажется безмерным, как неизбывная усталость; как серые сумерки будней, сутолочным своим чередованием? способные похоронить не только благие помыслы и святые порывы, но и самого человека превратить в пустую оболочку… Но силы находятся вдруг, без окаянного отчаяния, без надрыва: человек словно собирается внутри себя, и вот он уже стремится, идет вперед и вверх, идет шибко и бойко, будто всегда так хаживал, да что там идет — летит, беззащитный и беспечный в стремительном своем полете!.. И — побеждает.
А вот что творилось теперь с нею, Аля понять не могла. Странная оглушенность томила ее. Уже не нужно было ни переживать несбывшиеся сны, ни мудрствовать посреди безлунной ночи — нужно было действовать. А девушка смотрела на вороненый пистолет, зажатый в кисти, и впервые оружие не давало привычного ощущения защиты, наоборот, ей казалось, как только кусочек этого смертоносного металла снова оказался у нее в руках, она стала особенно уязвимой, и не только для пули, но и… На мгновение ей вдруг показалось, что она стоит у края отвесного обрыва, пропасти, срывающейся прямо у ее ног в бездну; внизу клубится туман, холодный, вязкий и липкий; пряди тумана касались ног девушки, и ей казалось, что это вовсе не туман, а набухшие ядом раздвоенные языки ползучих рептилий; девушка почувствовала, как такая же холодная и скользкая тварь обвила горло… Судорога брезгливости и страха сотрясла все ее тело, девушка рванулась, вскрикнула…
Маэстро одним движением прикрыл ей рот ладонью, свалил наземь, притиснул, прошептал в самое ухо:
— Тс-с-с-с-с-с-с… — Распрямился, замер, прислушиваясь, и стоял какое-то время неподвижно, словно живое изваяние… Мерно-ритмичные выхлопы вахлакских динамиков стереосистемы автомобиля продолжали питать ночной воздух невнятной, томной и пыльной мелодией далеких латиноамериканских бурбудос и компаньерос…
Рокот вертолетов тоже не изменился: машины шли на заданной высоте, их действительно было две, одна — над морем, другая — где-то метрах в трехстах вдоль и по-над берегом. Хм… Если не включают «фонарь», значит, и без того зрячие, ночная оптика хорошая… Маэстро сплюнул в сердцах, но вслух произнес:
— Обошлось. — Снова наклонился к девушке, спросил:
— Ты как?
— Уже лучше.
— Не слышу оптимизма в голосе.
— Ха-ха-ха. Теперь слышишь?
— Да, теперь слышу. Что с тобой было?
— Так. Ничего.
— «Ничего» — это смерть. Что с тобой было, Аля?
— Не знаю. Наверное, галлюцинация. Нервы расстроены. Или сама расклеилась.
Прости.
— Соберись, девочка. Нам нужно выбираться. Времени не осталось совсем.
— Я понимаю…
— Мало понимать! Нужно желать! И — действовать!
— Прости меня, Маэстро. — Девушка поежилась, глянула на него беспомощно и очень растерянно. — Прости. Я боюсь. Ты понимаешь? Мне не просто беспокойно, мне очень-очень страшно! Кажется, мне никогда в жизни не было так страшно! Словно все происходит во сне или в сказке, и никакой возможности убежать… Никакой!
— С этим нужно справиться, девочка. Это просто нервы.
— Да? А я думала — я просто боюсь боли и смерти. Оказывается — нервы.
— Аля…
— Что — Аля? Никакие это не нервы, ты понял, Влад? Это интуиция.
Предчувствие. Я… Мне… мне нехорошо…
Девушка попробовала вздохнуть — и закашлялась, согнулась в три погибели, сжав руками рот и горло; судорога колотила ее худенькое тело так, будто кто-то свирепый и неумолимый беспощадно хлестал девчонку тяжелым, с вплетенной проволокой, ременным кнутом, выбивая остатки жизни… Маэстро наклонился к ней, обхватил поперек живота и держал, пока девушку не вывернуло… Она подняла на него глаза, полные слез, дыша часто, по-собачьи, но мужчина видел, как страх уступает место тупой, безразлично-тупой усталости… Девушка глянула наверх, где застыл автомобиль, по-козьи глазеющий в ночь буркалами противотуманных фар.
— Ты прав, Маэстро, — произнесла Аля сипло, словно жестокая ангина разом обметала горло. — Это ловушка. Тебе нельзя туда ходить. Тебя убьют. А следом убьют и меня. — Потом улыбнулась неуверенно, а глаза снова налились слезами, только теперь это были другие слезы: беспомощно-горючие, как у ребенка. Губы девушки задрожали так, что она подняла руку и обхватила тонкими пальцами нижнюю губу, пытаясь унять ее дрожь, снова улыбнулась сквозь слезы, сказала, будто жалуясь и как бы пытаясь пошутить над собственной слабостью, уверенная притом, что шутки не получилось:
— Ты представляешь, как я испугалась? До блевотины! Я раньше такое только в кино видела… Прости.
— Я же говорил, это нервы, — довольно спокойно произнес Маэстро, оценив состояние девушки. — Ты подыши, только неглубоко, а поверхностно и часто — и все пройдет.
— Пройдет?
— Да. А как только начнем действовать… Умереть все еще боишься?
— Ты знаешь… — Девушка подняла па него глаза, и в них Маэстро прочел искреннее удивление. — Странно, но уже — нет.
Маэстро кивнул, будто доктор, дежуривший всю ночь у постели пациента и убедившийся в том, что кризис действительно миновал; еще раз внимательно посмотрел на девушку, произнес спокойно и буднично, как само собой разумеющееся:
— Война рассеивает беспокойство по поводу смерти. И делает желание жить вожделенным, как любовь, и непереносимым, как счастье.
Аля подняла на Маэстро глаза, долго всматривалась в лицо мужчины, наверное, хотела что-то сказать, но вдруг поняла, что слова, способные это выразить, напрочь отсутствуют в русском языке. Их нет ни в одном языке, и, значит, объяснить это никак нельзя, можно только почувствовать и передать другому, и она пыталась это сделать, вернее… И — ничего не вышло, или юна не смогла, или он не понял… Наверное, поэтому человек и беззащитен, как новорожденный жеребенок, и столь же несуразен — на подрагивающих, подгибающихся длинных ногах, пахнущий молоком и сеном… Все эти ощущения пронеслись даже не вихрем, а словно влекомые ветром обрывки утреннего тумана, пронеслись и исчезли, истаяли на полуденном солнце, рассеялись, растворились, оставив по себе мягкую дымку, колеблющуюся и мнимую, как несостоявшиеся слезы.
Мертвенно-белый свет рухнул с неба разом, как снежная лавина, как всполох луны, вспыхнувшей, и сгоревшей в невесомый серебристый прах. Море сделалось аспидно-черным, оно, переливалось под белым неживым светом, словно маслянисто-млечная ртуть, и даже пена, высвечиваемая люминесцентом на редких волнах у самого берега, казалась сплетенной в беспорядке из жесткой и тонкой проволоки, — Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж…. — неожиданно чисто и красиво пропел Маэстро, при этом лицо его стало положим… Да, наверное, именно так выглядели бродяги-солдаты, берсерки, вечные воины всех времен: запавшие щеки, обтянутые кожей скулы, а презренный и презираемый покой уже дотлевает в расширенных зрачках то ли насмешкой над миром, толп искрой грядущего вселенского разрушения… — Королева играла — в башне замка — Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. — Маэстро обернулся" к Але:
— А что, девочка, чувствуешь сопричастность к гибели мира и смерти богов? Похоже, в серебряных паутинках прошлого века мнилось нечто похожее на рождество. века нынешнего?.. И не смотри на меня так растерянно и жутко: я нормален! И ты — тоже! Разве ты не видишь? Это мир сходит с ума!
Вертолет, из-под брюха которого удал бледный свет, приближался со стороны моря, гоня по воде под собою мелкую чешуйчатую рябь. В проеме снятой дверцы можно было разглядеть пулеметную турель, на ней — длинный хобот грозного крупнокалиберного пулемета, снабженный раструбом пламегасителя.
— Маэстро, мы сейчас умрем:, да? — тихо спросила девочка.
— Мы победим!
— Я в это не верю…
— Заставить победить нельзя, как и заставить жить. Но вот заставить врагов почувствовать вкус собственной крови и набившейся в рот земли мы можем. — Улыбка осветила лицо Маэстро. — То, что они делают, напоминает не спецоперацию, а светопреставление!
— Маэстро, прекрати разговаривать сам с собой!
— А это значит, что нас они не обнаружили. И включили иллюминацию. — Маэстро рассмеялся кашляющим и совсем невеселым смехом. — Очень полезная затея.
Во-первых, нервирует. Во-вторых, деморализует. И в-третьих, что самое противное, светит, но не греет. — Повернулся к девушке, скомандовал, едва шевельнув губами:
— К бою!
Но Аля расслышала. Спокойно и привычно передернула затворы двух длинноствольных «стечкиных», примерила в руках, чуть поморщилась от непомерной для ее узеньких ладошек тяжести пистолетов… Странно, сейчас реальный мир для нее словно перестал существовать; вертолет она видела, вернее даже, ощущала, как некое грохочущее чудовище, сделавшее мир бледно-черным; именно оно преследовало девушку, желало умертвить, превратить в подобие этих вот безмолвных камней…
Нет, хуже — в разлагающийся мусор, воняющий, как панцири догнивающих крабов, занесенных шальной волной за гряду камней и не сумевших вернуться… Вот так и их сейчас гонят — шальной волной, разрезающей мрак мертвенно-белым лучом, словно скальпелем — подопытного покойника на столе препаратора, злобострастного лаборанта.
Спокойствие девушки сделалось тяжелым, земным, как отливающая ртутью, но живая вода моря, как остывающие теплые камни, как напоенный запахом водорослей воздух. И еще Аля знала: она очень хочет жить.
Глава 57
Вертолет был уже рядом, висел низко, метрах в десяти от воды, егозил слепящим лучом по нагромождениям камней, проходил чуть верхом над застывшими, скрючившимися фигурками людей, грозя вот-вот обнаружить их присутствие и пригвоздить, беспомощных, мертвенно-блеклым лучом к громаде обрыва, словно бабочек-однодневок — к растрескавшейся коре тысячелетнего дерева.
Маэстро вскинул автомат, привычно вжал приклад в плечо, нежно придержал подбородком, словно скрипач-виртуоз любимую скрипку, и — плавно повел спусковой крючок. Из хоботка глушителя, словно из газосварочного аппарата, вырвалось махонькое и ровное голубое пламя; гильзы дробно и латунно зазвенели о гальку, да затвор чавкающе залязгал вдоль рамки…
Фигура человечка, стоявшая в проеме растворенной дверцы у станкового пулемета, неловко ткнулась головой в косяк и осела тяжело и вяло; сама машина вдруг задергалась странно — будто большое животное задрожало кожей от укусов десятков слепней, дернулось всем телом, заметалось… Вертолет взмыл вверх метров на десять — и закрутился на месте. Приглядевшись, можно было заметить фигуру пилота, сгорбившуюся над приборами, и штурмана, пытающегося добраться до рычагов, чтобы… Но — поздно: вертолет был слишком близко от каменистого склона, и сейчас его, лишенного управления, крутило на месте и несло прямо на скалу… Маэстро в последнее мгновение опустил автомат, схватил девушку за руку — и прыгнул вниз со взгорка, с десятиметровой высоты на щебенчатую осыпь гальки… Тяжелое и горячее тело машины пронеслось над ними в парах бензина и перегоревшего масла… Аля успела зажмуриться — и невероятно оранжевый клуб огня, слепящий даже сквозь сомкнутые ресницы, опалил ее всю, и она не чувствовала уже ничего рядом, кроме этого жара, кроме грохота и скрежета раздираемых железных деталей, шелеста летящих во все стороны смертоносных осколков, кроме визга режущих гранит стальных плоскостей…
Маэстро не стал дожидаться окончания всей этой какофонии. Он рванул по склону вперед и вверх, Аля бежала за ним полуоглушенная, перепрыгивая наобум мелкие окатыши и крупные валуны, опасаясь вовсе не встречной или догонной пули, а — неудачно скользкого камня, который рассечет кожу, расколет коленную чашечку, разобьет пальцы и тем обречет ее на беспомощную сиротливость здесь, на чужом берегу, никому не нужную и всеми забытую…
Фигуры выскочивших из автомобиля на взгорке молодцев мигом нарисовались на краю обрыва в позе поясных мишеней, подсвеченные сзади фарами собственного автомобиля, а спереди — затухающими всполохами пламени на месте падения поверженного вертолета. Та самая блуждающая фара, что еще пять минут назад, до появления геликоптера, мутно рыскала в просторах акватории, скакнула в трясущихся от волнения руках, желтый луч уперся в искореженные обломки на месте аварии, а следом… Грохот не менее чем: четырех автоматных очередей разрубил воздух; трассы пуль чертили тьму в направлении к берегу и в диком, паническом беспорядке долбали разбитое железо, камень, рикошетировали от голых окатышей, зарывались в мелкую гальку, выбивая из нее высокие, секущие все и вся фонтаны.
Маэстро даже не бежал, он скакал по камням широким махом, в каком-то непостижимом рваном ритме, выпустив давно руку девушки; она же — поскользнулась-таки и растянулась плашмя на камнях, пребольно ударившись лицом и раскровянив щеку… Подняла голову: чудом никем не замеченный Маэстро уже был в мертвой зоне, скрытый небольшим каменным козырьком плато, того самого, на котором стоял автомобиль. Боевики же, давно оправившись от шока и придя к осознанию собственной смертности, скрылись, залегли за камнями и оттуда уже потявкивали экономными короткими очередями в белый свет, а вернее, в темную ночь, контролируя черное и пустое пространство.
Маэстро поднял вверх левую руку. Как ни удивительно, Але показалось, что жест она поняла; перехватила один из пистолетов обеими руками, уперла тяжелую рукоять в землю, прикинула расстояние… Маэстро вновь подал знак. Аля кивнула, словно он спиной мог ее видеть; нет, он не видел, но девушке почему-то казалось, что чувствовал, точно чувствовал, и знал, что она не струсит, не зароется с голо&ой среди обломков камней, не смалодушничает, не предаст.
Маэстро обернулся, замер, высматривая ее в кромешной темноте, нарушаемой лишь всполохами редкого огня, заметил, улыбнулся ей ободряюще, снова сделал жест рукой, сжав. несколько пальцев в кулак и проведя полукругом над готовой. Аля кивнула, а мужчина, не медля уже ни секунды, кошкой, горным барсом начал, карабкаться по склону: мягко, легко, бесшумно. Девушка давно засекла места, где загорались огоньки выстрелов и откуда неслись смертоносные трассы… Как только Маэстро, готовый к броску, замер за последним козырьком, нависавшим в полуметре от той площадки, на которой стоял автомобиль, она прицелилась и трижды выстрелила по ближайшему камню, из-под которого велся беглый огонь. Пистолет послушно подпрыгнул в руке, девушка перекатилась в сторону и снова трижды спустила курок, но уже по другой цели… Пауза — и снова огонь, по третьей!
Маэстро в одно мгновение оказался наверху, перед машиной. Голубоватое пламя заплясало на раструбах глушителей двух короткоствольных автоматов, что он держал в руках; по нему тоже стреляли, но он казался заговоренным. Маэстро передвигался, словно смерч, с виду — медленно и вяло; даже если он и оставался на месте, тело его, словно состоящее из шарниров и гуттаперчи, продолжало плавно перемешаться в пространстве… Маэстро на мгновение даже показался Але куклой театра марионеток — так неожиданны и странны были его движения. Они походили бы на танец фламенко, вот только… Когда-то это был танец любви, сейчас… сейчас — это был танец смерти.
Здоровенный, похожий на броневичок мощный «лендровер» вырулил из-за ближнего взгорка и почти без звука плавно покатился вниз, к площадке, на которой Маэстро остался совсем один. Верхний люк на «лендровере» откинулся; сначала показался ствол, потом — небольшой человечек в кепке-бейсболке… Он умело и быстро установил на крыше треноги ручного пулемета, вжал приклад в плечо, передернул затвор, прицелился… Аля даже не поняла, почувствовала: Маэстро со своего места еще не видит автомобиль, неровность мешает, и через секунду, как только он окажется в зоне кинжального огня, очередь сметет его неминуемо и молниеносно! Ни о чем больше не думая, девушка вскинула обеими руками тяжелый пистолет, задержала на выдохе дыхание и плавно спустила курок. Пуля попала в треногу, пулемет скакнул в сторону и вверх, как взбесившийся варан… Аля успела послать вторую пулю, промахнулась, крикнула что было мочи:
— Маэстро, за взгорком!
Девушка не была уверена, услышал ее Маэстро или нет. Но когда «лендровер» перевалил через холмик и по прямой, на скорости помчался на Маэстро, тот выхватил из-за пояса похожий на ракетницу пистолет, раздался мягкий хлопок, что-то тяжелое ударило в лобовое стекло, и оно раскрошилось разом, словно от попадания булыжника. В два прыжка он оказался у кромки площадки и прыгнул вниз.
Жуткий взрыв выбил стекла и двери у машины, малиновые росчерки несущегося во все стороны пламени вырвались из искореженного салона вместе с криком заживо сгорающих людей, который тут же и смолк, а автомобиль продолжал .катиться по инерции и под уклон, застыл на несколько секунд на окраине плато, балансируя, будто ныряльщик на гребне скалы, и — обрушился вниз. В воздухе раздался еще один взрыв — может, рванул бензобак, чудом уцелевший после выстрела мини-гранатомета и первого взрыва, может — граната, что была у людей в машине… Падая, тяжеленный «лендровер» буквально рассыпался на части, осколки металла, конструкции несло взрывной волной во все стороны, Аля прильнула к земле, ожидая, что, как только машина коснется твердого грунта в каких-то двадцати метрах от нее, будет еще взрыв, жуткий, страшный… По его-то как раз и не произошло. Сюда долетела только искореженная груда раскаленного полуоплавленного металла, меж кусками которого, словно в исковерканной кладбищенской ограде, были намертво вмурованы обугленные останки тех, которые до этой ночи считали себя солдатами удачи и любимцами фортуны.
Аля подняла голову, огляделась… После мертвенного света, упругого уханья взрывов, стрекота выстрелов, после смертельной опасности, в истлевающем свете гаснущего пожара море казалось просто темным провалом, раззявленным влажным ртом на лике земли… И еще — Аля вдруг увидела дракона! Громадный, он даже не всплыл — объявился из пучины… Капли отливающей металлом жидкости скатывались с матово блестящей чешуи чудовища, массивная, чуть вытянутая вперед башка с двумя светящимися фиолетовыми глазами медленно поворачивалась на массивной шее…
Дракон с видимым любопытством озирался по сторонам и был вовсе не похож ни на какого доисторического ящера; больше всего он напоминал дракона, каким его изображали китайцы на древних вазах Таиской династии. Але даже не показалась странной мысль, что сейчас этот громадный — зверь? чудовище? призрак? — выпростает из-за спины перепончато-чешуйчатые, как у нетопыря, крылья, и они легко поднимут эту многотонную громаду в темно-звездную россыпь неба.
Девушка зажмурилась, втянув голову в плечи, и замерла так, не находя в себе мужества снова открыть глаза. Более всего она опасалась, что вот откроет их, а ничего не произойдет, и она снова увидит то же чудовище с тетраэдрной башкой и добродушно-коровьим взглядом фиолетовых глаз. И это будет означать только одно: разум оставил ее, и все, что ее ждет теперь, — это одинокое безумие, а с ним — «дом скорби»: слюнявые, потекшие лица больных с угреватой от недостатка витаминов и солнечного света кожей и с потухшими глазами, словно выгоревшими до цвета серой больничной байки; неопрятная, пахнущая потом и нечистотой постель, грубые жирные санитарки, уколы, головная боль, непрекращающиеся ночные кошмары, рядом с которым это драконье видение покажется просто эйфорией!..
Что-то ухнуло позади. Аля даже. не успела испугаться — просто крутнулась на месте, чувствуя, как от страха разом насквозь промокла спина… Но ничего сверхъестественного там не оказалось; Аля смотрела во все глаза на разваленный остов вертолета: огонь изменил центр тяжести громоздкой машины, она передвинулась к краю плато, с шуршанием осыпая вниз мелкую, как щебенка, гальку.
Девушка снова обернулась: море дышало покоем; никакого чудовища, никаких галлюцинаций; сон разума кончился, девушка вздохнула облегченно… Встала, пошла вперед, разыскивая взглядом Маэстро.
Огляделась. Самое поразительное, что автомобиль, который Маэстро хотел захватить, так и остался стоять невредимым на плато; дверца в нем была все так же приоткрыта, в салоне горел свет, стереосистема послушно крутила нескончаемую кассету, и только желтый луч прожектора уже не рыскал по черной глади моря, а, словно оставленный без хозяина нагловатый телок, тупо таращился в землю. Треск стрельбы, грохот разрывов — все стихло разом; слышны были лишь шепот волн и шелест огня, да где-то в стороне — работа лопастей другого вертолета; но или он находился слишком далеко от места схватки, или влажный морской воздух сыграл обычную свою шутку, смещая расстояния, а только этот звук воспринимался девушкой как неопасный, далекий, мнимый. А магнитола в салоне автомобиля продолжала крутить совсем несовременную мелодию, от которой у девушки сладко замирало сердце…
Для меня нет тебя прекрасней, Но ловлю я твой взор напрасно. Как виденье, неуловимо Каждый день ты проходишь мимо…Сердце сжимало даже не горечью — жалостью… Грустно. Раньше даже призраки были — о любви, сейчас даже, шутки — о смерти… Разве можно в таком времени выжить?..
— Аля!
Маэстро показался из-за груды камней метрах в пятидесяти от девушки, приветливо помахал рукой.
— Влад! Ты не ранен? Мы победили?
Ответить он не успел. Два вертолета вынырнули из-за обрывистой гряды.
Сначала раздались какие-то странные хлопки, в воздухе ощутимо и навязчиво запахло чередой, болотом и травяными зонтиками дурмана… А потом… Огонь рухнул с неба, как бешеная белая лава. Ослепленная, девушка упала ничком, вжалась в грунт, сомкнула до боли веки, но они продолжали пульсировать жгучей болью… Мечущееся оранжево-желтое раскаленное жижево наплывало на нее, грозя выжечь зрачки… Аля терла глаза кулачками, слезы заливали их, она пыталась вздохнуть, но становилось еще хуже: к рези в глазах и слепящему свету прибавился еще и кашель, перехватывающий горло резиновым жгутом, душащий… Грохот лопастей стал монотоннее, девушке показалось, что она слышала сквозь вертолетный гул и стрекот выстрелов, но это вполне могли быть и галлюцинации… Девушка почувствовала, как чьи-то руки схватили ее в охапку, скрутили, бросили на вибрирующий пол, как этот пол задрожал мелко-мелко, а сердце сначала замерло, а потом — камнем полетело вниз.
Аля почувствовала, как холодный солоноватый ветер студит щеку, врываясь в растворенную дверцу… Она поднесла ладони к лицу, ощупала… Щека чуть саднила, на губах был вкус крови, а на веках — обильная липкая влага… Неужели?..
Неужели она ослепла, неужели свет солнца погасили для нее навсегда и глаза ее лопнули от того нестерпимого белого жара?! С часто бьющимся сердцем девушка разомкнула ресницы… И почувствовала, что слезы потекли сами собой, разъедая ссадины на щеке и губах… Она — видела! Видела радость мгновенно заполнила все ее существо. Аля не смогла сдержаться, она даже застонала от восторга… И пусть вокруг были враги, пусть она в их власти, жизнь пульсировала, металась, искрила в каждой живой клеточке ее существа, словно младенчески выкрикивая одно, вечное, торжествующее: «Я — вижу! Я — живу! Я — дышу!» Пусть даже единственное, что она разглядела сквозь пелену слез, была несущаяся внизу черная земля, по которой, словно по преисподней, метались смутные всполохи огня и серые тени. Тени — в аду.
Часть десятая ПРИЗРАК БЕЗУМИЯ
Глава 58
Але показалось, что она потеряла сознание: небо словно загустело, стало гудроново-черным, и девушка погружалась в его вязкую массу, не испытывая страха, а лишь сожаление — что жизнь закончится так скоро и так бесславно, удушье ее почему-то не пугало — ей совершенно не хотелось дышать; к тому же руки, ноги, грудь — все сковало холодом так, что вздохнуть она бы не смогла, девушка ощущала свое тело, но ощущала его хрупким, словно первозимнюю льдинку, только-только появившуюся на студеном оконце родничка после первого хрусткого утренника…
Звезды мелькали вокруг блесткими светляками, плясали ведомый лишь им одним вечный танец; ритм его все ускорялся, превращаясь в навязчивое многоцветное мельтешенье, и от этого начинало ломить виски и зубы, а головная боль становилась стойкой и неотвязной, как вой механической бормашины. И еще — девушку преследовал запах резеды и чего-то болотно-липкого, клейкого, как лягушачья слизь, и ей хотелось смыть эту мерзкую слякоть, она вытянула руки, но они оказались спутанными зелеными стеблями осоки, которые прямо на глазах превращались в пятнистых липких змеек, а грязный туман, клоками оседавший откуда-то сверху, уже давил грудь, вызывая удушье… Девушке казалось, она понимала, что это сон, но притом — боялась: боялась, что не избавится от него, не сможет выбраться отсюда и так и погибнет в гнилом и холодном бредовом кошмаре… И исчезнет и из этого мира, и из памяти людской, будто никогда и не жила.
Острая несправедливость всего была нестерпимо горька. Аля почувствовала, как слезинки катятся по щекам, шмыгнула носом, сглотнула соленый комок в горле, закашлялась, рванулась, выгнулась всем телом — и острая влажная осока еще больнее впилась в запястья и лодыжки… Аля проснулась от боли.
Девушка лежала на диване с высокой спинкой, совершенно нагая, умело связанная по рукам и ногам тонким капроновым шнуром. Диван был допотопный, старинный, но обтянутый совсем недавно тонкой черной кожей: она была вся новехонькая, только что не хрустящая, будто плащ киношного эсэсовца, и прохладная; деревянная же основа — ценного дерева, с витыми ножками, похожими на лапы льва, дракона или какого-то неведомого сказочного зверя. Лапы эти по щиколотку утопали в ультрасовременном и ультрамодном белоснежном ворсистом паласе, выделанном из ангоры, будто бурка бека или шейха; тут же, у ножек дивана, хрустким крахмальным комком валялась простыня, которой девушка была укрыта и которую сбросила в неспокойном сне. Комната была не большой и не маленькой; окна занавешены плотными портьерами, за которыми угадывались деревянные французские жалюзи; теплый предутренний ветерок проникал сквозь них нежно и невесомо, будто боялся потревожить чей-то сон. Ну да, кроме дивана, который являлся скорее произведением искусства, в комнате была еще и широкая кровать под балдахином, укрытая парчовым тканым покрывалом, белым с серебром, и шкаф-купе, покрытый тонкой инкрустацией и тоже белый, как океанический лайнер.
Человек, которому все это принадлежало, не просто любил роскошь: он знал в ней толк и вкус.
Дверь открылась бесшумно, и в комнате появился долговязый и долгоносый субъект. Он был худ, высок и жилист; холеное лицо можно было бы назвать красивым, если бы не капризный изгиб тонких губ, который не просто портил — уродовал лицо этого взрослого мужчины тем, что придавал ему сходство с развращенным, распутным и избалованным подростком, причиняющим зло и боль другим вовсе не потому, что он не может представить последствий своих поступков, а, наоборот, потому, что прекрасно их .представляет, и именно чужая боль, жестокая, острая, безнадежная, забавляет его более всего на свете.
Мужчина был одет во все черное, и, как поняла Аля, тоже не оттого, что придерживался какого-то прописного стиля «от кутюр» или хотел казаться мрачнее или суровее: просто черный цвет был для него наиболее естественным. Он развалился в кресле рядом с кроватью, с видимым удовольствием усталого человека откинулся в нем, вытянув ноги в безукоризненно вычищенных туфлях, вытряхнул из пачки «Мальборо» сигарету, прихватил губами, шаркнул колесиком «Зиппо», с наслаждением затянулся.
Аля продолжала ощущать себя странно; у нее ломило затылок и чуть-чуть виски; так же вот ныли и корни зубов, но потом она поняла — боль эта ненастоящая и вызвана дикостью и ирреальностью ситуации, в которой она сказалась. Девушка лежала нагая, связанная, рядом с ней был мужчина, а не гей. Это Аля умела чувствовать безошибочно, но его появление не вызвало у девушки ни ужаса, ни волнения, ни стыда, словно она уже в своих снах пережила все мыслимые и немыслимые страхи. Или просто психика так защищалась, и рассудок после проигранных мнимых кошмаров не желал понимать кошмар реальности, чтобы сохраниться?
— Вы кто? — спросила Аля и удивилась, до чего хриплым стал ее голос.
— Я? — Мужчина, гримасничая, приподнял обе брови и стал похож на Буратино из какого-то давнего фильма. Але даже показалось, что сейчас он запоет блеющим тенорком:
«Был поленом — стал мальчишкой, обзавелся у-у-умной книжкой, это оч-чень хорошо, даже оч-ч-чень хорошо…» Но вместо этого долговязый непроизвольно дернул губой, как дворовый пес, обнажив верхние клыки — такой была его улыбка, — и произнес негромко:
— Я — Глостер. Можешь называть меня так.
— А я думала — Гамлет, — равнодушно и нарочито гуняво, с ударением на второй слог, просифонила Аля голосом завзятой маньки, торговки-лотошницы с Чугуевского мясного ряда или мохерщицы-передовика с чулочно-мотальной фабрики.
* * *
Пусть на мгновение, но Глостер оторопел. С долю секунды в его глазах тенью плыло нечто, похожее на озадаченное раздражение, обращенное даже не на девушку, а на не присутствующих здесь помощничков, дескать: «Мы вам заказывали эскалоп а-ля Рабле с фрикасе, а вы нам что? Жареную селедку под майонезом и куриные пупочки с репой? Фи!» Потом лицо его обозначило улыбку, если можно считать улыбкой растянутые к краям тонкие, как кайма, бесцветные губы.
— А ты не из пугливых… — начал Глостер.
— И это хорошо? — попыталась продолжить его мысль Аля, на этот раз нагловато-самоуверенным тоном истасканной курвы не без способностей.
— А что же здесь хорошего? — поспешно срезал Глостер. — Не нужно мне подыгрывать, девочка, не нужно со мною играть. Ничего не нужно. И знаешь почему?
— Знала бы прикуп….
— И этого говорить тоже не надо. Люди слишком часто повторяют расхожие пошлости вместо того чтобы достойно промолчать.
— Промолчать, чтобы за умную сойти?
— Ну вот, опять… Видишь ли, убогое дитя… вся беда в том, что я — враг целесообразности.
— А враг целесообразности есть враг самому себе… — риторично, словно пастор-пуританин в конце пятичасовой праздничной проповеди, прогнусавила Аля и тут же получила хлесткую затрещину, такую, что чуть поджившие губы лопнули снова, и по подбородку потекла струйка крови.
— Я же сказал, я не терплю пошлость в любой ее форме, — тихонечко и как бы ласково прошелестел одними губами Глостер. — Надеюсь, теперь я доходчиво это разъяснил.
— Лучше не бывает. — Аля попыталась сцепить зубы и не злить этого явно слабоуравновешенного субъекта, но характер не послушался разума. — Послушайте, Глостер, эсквайр, пэр и лорд, а не находите ли вы также далеким от благонравия голую связанную девицу? Может быть, мне позволено будет оде…
Але не удалось завершить фразу: снова жесткая оплеуха хрястнула по лицу, из носа потекла струйка крови, на глаза непроизвольно навернулись слезы и…
Самое худшее, что реальный кошмар происходящего наяву вытеснил давешние страшные сны, и девушке стало жутко по-настоящему. Она вдруг поняла смысл сказанного: «Я — враг целесообразности». Дескать, барышня, мне от тебя ничего не нужно, я тебя связал не из соображений пользы, это у меня такая вот эстетика или эклектика — дьявол разберет этих тихопомешанных шизоидов!
Аля тряхнула головой: дура, нашла время мудрствовать! Сосредоточься!
Победить можно любого мужика, если ты в него не влюблена, мужики — как дети: их главным качеством является тщеславие! А этот Глостер еще и дерганый, как запойный манежный клоун, оставшийся поутру без опохмелки… Жаль, что пришлось за это знание поплатиться в кровь разбитыми губами, но Аля подозревала, что за настоящие знания в этой жизни люди могут заплатить только здоровьем или самой жизнью, и ничем иным…
Нет, это не годится совсем никуда! Или она наглоталась пакостного газа, или ее накачали наркотиками так, что мысли текут и липнут, будто часы на картине Дали — под воздействием силы тяжести и по пути наименьшего сопротивления?.. И кажутся потому такими значимыми, сверхценными, являясь на самом деле общеизвестной банальщиной, обрамленной красивой словесной шелухой?.. Аля оглядела себя, связанную, и собственное обнаженное тело не вызвало у нее ничего, кроме гадливости; мурашки пробежали по коже, девушка постаралась свернуться в комочек, но ей это удалось плохо — мешали путы. А тут еще и затылок вновь заломил тупой, нудящей болью, пробирающейся постепенно, исподволь, куда-то внутрь; ей очень хотелось заплакать, но слез как раз не было, совсем не было, а была жуткая сухость во рту, такая, будто она не пила несколько дней, и губы ее потрескались вовсе не от ударов, а от нестерпимой жажды.
А Глостер тем временем бросил беглый взгляд на притихшую девушку:
— Ты испугалась? Тебе больно?
— Я пить хочу, — прохрипела Аля.
— Это от жажды у тебя морозец по коже?
«Ты похож на змею!» — хотелось выкрикнуть девушке в лицо этому уроду, но… Аля не понимала, что с нею происходит… Она чувствовала, что этот человек с изломанной, изувеченной душой был для нее опасен чрезвычайно, что он убьет ее, что… Но притом вместе со страхом она ощущала еще и жалость… Жалость, переходящую в острую, смертную тоску по миру, такую, будто она этот мир уже покинула и обретается в некоей серединной сфере, названной Алигьери «чистилищем». Черт! Черт! Черт! Зачем, зачем ей сейчас все эти пустые, никчемные мысли?! Ведь ей так страшно и так хочется жить! Или человек крутит эти примитивные до тошноты фразы и понятия в осиротевшей душе, лишь бы не оставаться в пустой и постылой тишине?.. Лишь бы не знать, не ведать, не ощущать, как безмерно его одиночество?..
Эти мысли неслись и неслись, Аля почувствовала, как слипаются глаза.
— Я замерзла… Мне холодно… — произнесла девушка еле слышно — и провалилась то ли в кошмар, то ли в спасительный обморок. И снова вокруг нее заклубился туман, принимая форму видений, жухлых листьев, осеннего ветра и первого, сладкого на вкус, снега.
Мне холодно. Но грустно только здесь, Где морось пробирает до костей. Угли в камине заблестели влажно От стылой сырости ничейного жилища. В червленом серебре — шары цветов. Над парком, неподвижною портьерой, Застыло небо в сумерках дождя, Промозглое ненастье предвещая. Едва проглянет солнце — меркнет день. В сусальной позолоте блики листьев. И старый пруд заволокло травой И тиной. Скоро ляжет вечер. А под ногами — скрежет битых стекол, Унылых черепков из прошлой жизни. А запах ветра так похож на снег!.. Мне грустно здесь. И холодно вездеГлава 59
На этот раз Аля очнулась оттого, что губы обожгла огненная жидкость. Она вынужденно сделала несколько глотков, закашлялась, почувствовала то рту характерный вкус poмa и то, как сразу поплыла голова… Девушка открыла глаза и увидела перед собой лицо того садюго долговязого в черном, назвавшегося Глостером.
— Ну вот и славно… А то — в обморок плюхаться! Ни с того ни с сего… А ведь не кисейная барышня! — Глостер отнял квадратную бутылку-флягу с улыбающимся мордастым негритосом на этикетке от туб девушки, некоторое время смотрел на нее с нескрываемым сарказмом. — Как из «стечкина» палить, так без истерик обходилось, а как… — Он не договорил, встряхнул в руке флягу и сам основательно приложился к горлышку.
Пил Глостер с видимым удовольствием, держа бутылку, как горнист трубу, с локотком чуть на отлете, в позе, означающей явно понятный для посвященных, но неведомый Але шик; пил быстро, как пьют воду .или водку, пока хватало дыхания; когда бутылка основательно полегчала, резко вдохнул, поморщился, провел языком по губам, будто знаток, желающий по послевкусию определить срок выдержанности напитка… Его бледные досель щеки порозовели, Глостер расслабленно опустился в кресло, закурил, выдохнул струю невесомого голубоватого дыма, улыбнулся и эдак по-мещански, умиротворенно, произнес:
— Ну-с, барышня? На чем мы остановились? — Говорил он так, словно они с час .назад вели научную дискуссию, потом — раэошлнсь да трапезу в столовой, скажем, академгородка, но это был только повод ввиду того, что один из оппонентов слишком увлекся и занедужил сердцем… Пришлось прерваться на время, и вот теперь…
— Где я?
— Хороший вопрос! Продолжишь? «Что со мною будет?» Ты это хочешь спросить?
— Глостер по-птичьи склонил голову набок, и Але почему-то сразу стало ясно, что этот жест он у кого-то перенял, может быть и неосознанно.
— Нет — Ну надо же, какая умница!. Ты права. Права. Ибо на вопрос: «Доктор, а я умру?» — что может ответить честный целила-врачеватель? «А как же!» — вот что!
Как ты думаешь, девица, Фрейд был; честный врачеватель?
— Я думаю, он был тихопомешанный псих.
— Хм… Может быть, может быть… Он жил на грани и на сломе. На сломе двух самых жестоких веков минувшего тысячелетия: девятнадцатого и двадцатого.
Поневоле сбрендить. — Глостер глубока затянулся, выпустил струйку, полюбовался густым плотным дымом, уже слоями устилавшим пространство. — Да, девятнадцатый был прозван напыщенными поздними современниками веком железа, и, крови. Как они нарекли бы двадцатый, если бы дотянули хотя бы до его середины? Да и начинался он скверно, как анемичный рассвет, — с блеклых, бельмовых роговиц газовых фонарей на улицах, с блеющих голосков поэтишек больного, рахитичного, чахоточного первого десятилетия, прозванного ими же «серебряным веком», с геометрических ужастиков модернистов и неистребимой человечьей гордыни — как же, из лошадно-картечных суворовско-наполеоновских войн, из якобинских ужасов рубежа восемнадцатого и девятнадцатого столетий — прямо в небо аэропланами и дирижаблями! И — все для: блата человека! И беспроволочный телеграф, и авто, и телефон, и… и — столетие войн! И — столетие лагерей! И все — под разглагольствования о мире, демократии, разоружении… Знаешь, какой тотем я бы присвоил отошедшему веку? «Овчарка немецкая, демократическая». Смешно?
Но Але было совсем не смешно. Девушка, снова почувствовала холод. Еще больше ее смущала и пугала полная ненормальность ситуации: она лежит нагишом, спутанная па рукам и ногам, словно пойманная в джунглях никчемная обезьяна, а в это время лощеный нервный безумец изощряется в понятийных изысках и словесных эквилибрах!
Глостер уловил ее настроение мгновенно. Подошел к диванчику, спросил вроде как участливо, будто угадав ее мысли:
— Что? Непривычно?
Аля не успела ни ответить, ни вообще хоть как-то разумно отреагировать на его слова — да к какая реакция будет разумной, если ты раздета да еще и запакована, как муха в паутину, как бройлерная курица — в сетку?! Но все же девушка сумела сделать над собой усилие, спросила:
— Вы что, боитесь, что я убегу? Или просто куражитесь?
— Надо же, «куражитесь»? Милая дева, в слове «кураж» французские и английские корни, и означает оно «мужество», «отвага». Где здесь проявлять отвагу? — Глостер широким жестом развел руки, подошел к бару, взял другую бутылку, налил хрустальный стакан коллекционным коньяком почти до краев, выпил в несколько глотков, обвел комнату-будуар помутневшим, погруженным в черные сумерки собственной души взглядом, далеким в эту секунду и от этой комнаты, и вообще от всего сущего на этой земле… Глостер застыл будто изваяние. Перевел взгляд на Алю, долго и пристально смотрел на нее, сначала, по-видимому, пытаясь для самого себя уразуметь, кто она такая, откуда взялась и почему — голая…
Потом взгляд сделался осмысленным, словно у естествоиспытателя над наколотой на булавку той самой несчастливой мухой… Глостер растянул губы в целлулоидной американской улыбке, но произнес фразу, совершенно не соответствующую той искусственно-официальной маске, что он на себя надел:
— В этом мире только отвага и имеет ценность, но она никому не нужна. А потому… А ничего «потому». Жизнь скучна, больна и конечна. И раз отвага никому не нужна… Остается лишь развлекать себя… куражиться… куражиться. Именно так. — Глостер закурил, несколько раз вдохнул и выдохнул дым. — А что до твоего нынешнего положения… Будем считать, это имеет воспитательный смысл. Вот именно: воспитательный. Педагогический. — Глостер эдак по-профессорски закатил глаза, замер, сложив руки на груди, и сразу стал похож на крякву с разинутым клювом. Впрочем, это впечатление сразу же исчезло, как только он начал говорить: бегло, быстро, почти глотая окончания слов, словно боялся, что его оборвут на полуслове.
— Каждому человеку полезно побыть в таком вот, я бы сказал, хамском уничижении, — уверенно произнес он, даже не глядя на Алю, но явно имея в виду именно ее. — Каждому, «Был поленом — стал мальчишкой, обзавелся у-у-умной книжкой…» Эту пеленку мы слышали все детство… Ехидненькая надо признать, песенка! А что на деле? А на деле — все наоборот! Тебе никогда не приходилось попадать в вытрезвитель? — Глостер глянул на девушку и, не дождавшись ответа, кивнул сам себе:
— Ну да, что это я? Ты, поди, и спиртное попробовала уже после того, как вытрезвители исчезли. Хм… А следовало бы… Ей-ей, следовало бы!
Каждому!
Глостер снова плеснул в стакан, выпил, взгляд его стал раздумчиво-размягченным, как у страдающего близорукостью ботаника-таракановеда, впервые за десять лет лишенного привычных, укрупняющих мир линз и потому так же вот, впервые, получившего возможность исследовать не иссохшие трупики насекомых, а заглянуть во тьму собственной, ссутуленной и затурканной в сутолоках будней тщедушной души…
— М-да… «Был мальчишкой — стал поленом…» Вот что чаще всего и бывает в жизни: по-ле-ном. О чем я? Ну да, о вытрезвителе. Вот представь: человечек, уставший от серой убогости окружающего, от ватной стены вокруг, от мусора в углах — вот он воспарил на винных парах к экстазу эйфории, стал царем и диктатором, стал мировым гением, стал бессмертным — и вдруг… Его крутят, как за-полошного, бросают в заблеванную машину мордой в эту вот самую блевотину, везут в дежурное дощатое здание, раздевают, да еще и снимают на фото — голого, пьяного, беспомощно-бесформенного… А если он еще «царит» в своих грезах над миром? Тогда — по почкам, и моча с кровью, и тяжкая кровавая блевотина от ударов в живот, и пьяное беспамятство, и страшное пробуждение с дикой, жуткой тревогой, в измазанной чужими экскрементами койке, с засиженной мухами тусклой желтой лампочкой под сводчатым потолком, запахом немытых тел, страха и полной капитуляции перед жизнью, с дверью, задвинутой с той стороны на литой засов… А потом — поскрипывающий новенькими портупейными ремнями румяно-веснушчатый сержант, этакий деревенский пельмеша-увалень, с натугой выводящий в протоколе неподатливые буковки…
А что наш герой? Он лишь приниженно кивает, лишь бы исчезнуть отсюда… Он вытрезвился, его вернули в: то состояние зверя, какое ему и подобает. — Глостер вздохнул, закончил уже без грусти, без пафоса и без скорби:
— Вот так кончается господство человечка над вечностью! Тварь, скотина, животное — вот что мы растолковываем друг дружке раз за разом и все никак не можем растолковать…
Выкобениваются людишки, не желают знать истинного, вот это вот, исконное, глубоко в них: «Тля я дрожащая или — право имею?» Да тля, конечно же тля, мусор, навоз — и Глостер замер, будто задумавшись, потом произнес вполне миролюбиво и без всякого наигрыша:
— К чему я это? К примеру, мадемуазель, только к примеру. Вы, из поколения «не рабов», кажетесь себе раскованными, веселыми, господами своих жизней… Вы самоуверенны и самомнительны… Вот потому я и велел тебя раздеть и связать: я хочу, чтобы ты поняла: ты никакая не красавица, не богиня и не госпожа; ты голая пупырчатая самка. Твоя мнимая красота и совершенство не стоят ничего, и воля твоя — ничего не решает!
Теперь Глостер застыл, посреди комнаты, глаза его будто заволокло матовой дымкой, они сделались мутными" как стекло пивных бутылок; руки он снова скрестил на груди… Адя было подумала, что этот фигляр продолжает играть теперь какого-нибудь божка или идола, но нет: все тело Глостера сотрясла судорога, лицо посерело, он кое-как, боком проковылял на негнущихся ногах к просторной кровати, рухнул на нее как подкошенный — будто кто-то выбил у него из-под ног землю.
Выгнулся всем телом, словно в столбняке, закусив губу — струйка крови мгновенно потекла по подбородку. Але он вдруг почудился упырем, только что умертвившим очередную жертву…
Все это продолжалось совсем недолго, может быть, всего несколько десятков секунд, но Але показалось, что время иссякло, что она лежит здесь непостижимое количество лет, что… Она представила себя голой дряхлой старушонкой, жалкой, скукоженной, с изможденным, испещренным морщинами лицом, с пергаментно-шершавой кожей, с обрюзгшими складками на животе, бедрах, спине… И словно далекий голос напевал под гитарный аккомпанемент стихи:"Ты так прекрасна, . ты так прекрасна, но ты пойми, что красота твоя не вечна…" А видение… Видение было столь пугающим и реальным, что девушка была готова умереть .немедленно, сейчас же, лишь бы никогда не увидеть этого наяву. Оглядела себя: нет, все нормально…
Но… странно, никакого облегчения не наступило. Или — этот безумный Глостер добился своего, и страх она теперь будет носить в себе всегда?
От своих мыслей она очнулась, когда услышала характерный металлический звук: обоюдоострое лезвие выкидного ножа мутно и томно переливалось прямо перед ее лицом .девушка даже не успела испугаться, как капроновый шнур, стягивающей ее запястья, распался, и руки стали свободными. Потом Глостер подал ей спортивную куртку, разрешил:
— Набрось.
Вслед за этим мужчина протянул ей наполненный на две трети солнечно-янтарной жидкостью широкий толстостенный стакан.
— Коньяк, — пояснил он. — Пить в одиночестве — плохой признак. Вот я и решил делиться. Ядом нужно делиться — не то дьявол наказывает немощью. — Глостер развел руки в показном бессилии, оскалялся в улыбке. — И не думай, красавица, что я пугаю тебя специально. Жизнь вообще уродлива, я вовсе не исключение; особенно уродливы люди, ибо не многие из них искренни, большинство — ходят в личинах, притворяются… Меня не бойся, я могу лишь убить… Бойся их! Они — совратят тебя сказкой о добре и бессмертии — и погубят пуще и злее!
Аля беспомощно обвела взглядом комнату, себя, жалкую и растерянную… Нет, умом она понимала, что именно такую ситуацию, возможно, хотел смоделировать этот человек в черном, но — зачем? Зачем она ему нужна? Ведь не . затем же, чтобы слушать идиотские речи и быть единственным зрителем в этом театре одного актера… Зачем?
Глостер вернулся в кресло, взял свой бокал, налил до половины, приподнял, разглядывая напиток на свет.
— Ты спросишь, зачем ты здесь? — произнес он, но Аля даже не удивилась тому, что он расслышал ее мысли. Она давно знала, что люди могут слышать, улавливать мысли других; в наш «просвещенный век» они просто «заболтали» собственные способности, Заменив телепатию телевидением и ясновидение — гаданием… А впрочем, она вполне могла произнести свой вопрос вслух. — Зачем?
Девочка, тебе просто не повезло. Ты — рыбка, ставшая живцом. По правде говоря, мне совершенно наплевать, останешься ты жить или умрешь… Как правило, живцы если и выживают, то только затем, чтобы стать очередной наживкой… Комуеще нужны такие калеки?
— Я… я похожа на калеку?
— Как все мы, люди войны. Как все хищники, У нас протез вместо души. — Глостер совершенно непритворно вздохнул, отсалютовал девушке бокалом:
— Ты — хищник по крови, девочка, а хищнику нет жизни вне войны. Так? Так. Ну что, за честность? Или за правду?
«Кому нужна такая честность и такая правда?» — пронеслось в Алиной голове, но она ничего не сказала, только успела скривиться в усмешке… Что поделать, если фортуна играет на чужой стороне, где-то там, в дальней дали, несбыточной, как телевизионное Зазеркалье… А в твоих краях колоду тасует рок, и колода та оказывается загодя крапленной и меченной, и надежда твоя на жизнь еще не умерла только потому, что ты сама — живая… А, будь что будет… Лучше быть пьяной, чем мертвой! Тремя глотками Аля осушила бокал, разом почувствовав, как комната смягчила предрассветные очертания и искусственный свет стал казаться теплым и живым. Да! Лучше быть пьяной.
Глава 60
Глостер тем временем закурил, пыхнул дымом, развалился расслабленно в кресле. Потом встал, снял с кровати атласное, шитое серебром покрывало набросил его на Алю, накрыв ее почти целиком, хмыкнул:
— А так ты похожа на распутную юную монашку, которую тайно принимает в своей уединенной келье нестарый еще аббат, наставляя в святом послушании и предавая наказанию розгой плоть за неуемное буйство духа… Ну а я… Поверь, милая девочка, я не гей, но что-то мешает мне воспринимать твою наготу с соблазном и чувственностью. Может быть, потому, что рядом со смертью порой совсем не до любви? — Глостер вздохнул непритворно тяжко. — А знаешь, что мешает? Всего-то сознание того, что через несколько — минут? часов? дней? — нет, скорее все же часов твое красивое тело станет именоваться «неопознанным трупом»… А еще через пару дней в твоих внутренностях станут копошиться черви.
Чего еще, по правде говоря, бояться нам, цивилизованным и современным, давно не страшащимся ни дьявола, ни Бога. — Глостер глупо и принужденно хмыкнул:
— Мы, цари природы, — боимся червей! — Он закрыл глаза, устало провел ладонями по лицу, спросил Алю тихо, вкрадчиво:
— Тебе страшно жить?
— Я хочу еще выпить.
— Тебе страшно… — удовлетворенно кивнул Глостер. Всем страшно.
Этот Глостер был прав: ей было не просто страшно ей было жутко до колик, и никакой алкоголь не помогал, он только застилал сдерживаемыми слезами все сущее вокруг, но вот превратить эту реальность в кошмарный сон, заставить исчезнуть с тем, чтобы девушка проснулась… Проснулась… Где?.. В гостиничном номере в Приморске? Дома в Княжинске? И где ее дом на самом деле? Или — его у нее никогда не было, и все, что случилось с нею с самого рождения, — всего лишь бред, жалкая прихоть какого-то из падших ангелов, решившего хоть так развеять скуку этой жизни, пока не пришло время вечной смерти?..
Мысли эти неслись, ускоренные алкоголем, но и им Аля была рада: лучше уж мысли, чем те самые «виденья гробовые», которые так умело вызвал в ней этот «черный человек»… Или — что-то его напугало или унизило когда-то давно так, что с тех пор он пережигает этот свой страх и унижение в пламени чужих страхов, чужих унижений, чужих жизней… И — что? Пожалеть его теперь?
А Глостер тем временем спокойно отхлебнул виски и. приподняв бровки, сделался похожим на иноземную куклу-марионетку и затянул нарочито гнусавоватым тоном усталого и расстроенного механического фортепиано:
— Твой дружок Маэстро сумел ускользнуть. Каким чудом ему это удалось — не знаю. Но он исчеэ. Из-под пулеметного огня.. — Глостер закатил глаза, вздохнул:
— По-правде сказать, все мы думали, что он давно играет свои игры далеко отсюда, в мире теней… Но призрак восстал и очень мешает… Нет, не скажу, что он мешает живым, кто назовет живым Лира? Но… Маэстро мешает нашим мирским владыкам делать свою игру по поводу смерти. — Глостер скривился:
— А когда игра была другой? Людям нравится только вот эта, кровавая.
Глостер снова поднял свой бокал, отхлебнул, опустил глаза долу.
— Кажется, я уже упоминал Фрейда? — Он обвел глазами комнату. — Тут до меня квартировал сибаритствующий хазарин по прозвищу Ричард, ныне покойный…
Большой был до наук и других хитрых штучек охотник… — Глостер, не торопясь, встал из кресла, подошел к шкафу, выудил книжку в темно-синей обложке, открыл, полистал. — Ага, Фрейд. Так вот, как заметил этот дотошный еврейчонок, «мы бы не возражали против смерти, если бы она не полагала конец жизни». Каково? «Жизнь теряет содержательность и интерес, когда из жизненной борьбы исключена наивысшая ставка, то есть сама жизнь». Банально? Еще как! Верно? Абсолютно. А вот еще…
«В области вымысла мы находим то разнообразие жизней, в котором испытываем потребность». Ну да, в кино, в книгах, & легендах, в мифах людишки с удовольствием и восторгом умирают с одними из героев, но — понарошку… Жаль, что с другими — так же, понарошку, живут… Продолжая гнить в своих постылых клетушках, по странной прихоти архитекторов называемых квартирками. — Глостер вздохнул непритворно печально, произнес тихо:
— А впрочем… прав был Фрейд.
Жизнь этих людей была бы вполне сносной, кабы не смерть. — Помолчал, добавил:
— Да и наша тоже. Выпьешь еще?
Аля пожала плечами, подняла голову и произнесла-хрипло, слыша свой голос слоено со стороны:
— Почему нет? Лучше быть пьяной, чем мертвой! Глостер расхохотался, присел рядом, бесцеремонно, по-хозяйски положил ладонь на голое колено девушки, повел по внутренней стороме бедра вверх. Аля застыла, чувствуя, как слезы снова закипают на глазах, а где-то в душе ледяным туманом клубится ярость… Больше она не думала ни о чем! Рука сама собою кошачьей лапой метнулась ж лицу мужчины, ногти царапнули по коже, оставляя рельефный кровяной след. Девушка готова была уже нанести удар кулаком с левой, но Глостер оказался быстрей. Он .цепко перехватил запястье девушки так, что кисть разом побелела, вывернул руку, толкнул Алю назад, на диван. Девушка одним движением подтянула спутанные ноги к животу и, выгнувшись, попыталась пятками ударять мужчину в лицо. Удар пришелся вскользь, Глостер ушел уклоном, рывком схватил Алю за волосы, притянул к себе.
Глаза его горели азартом и восторгом:
— Кровь! Кровь бунтует! Кровь! — Глостер хлестнул дважды Алю по щекам, наотмашь, снова толкнул на диван и теперь смотрел на нее с восхищенной яростью зверя. — Чудо что ты за девка! Чудо! Я не ошибся! За такой Маэстро приползет…
И — найдет свою смерть и свой покой! С этого благословенного берега уйдет только один из лас. — Глостер плеснул на ладонь водки, промокнул царапину, поморщился… Не глядя бросил девушке покрывало. — В тебе есть грация дикой кошки, но что такое любовь в сравнении со смертью? Там результат — легкое мгновенное содрогание, здесь — восторг перед непознаваемым! Восторг!
Аля, полуоглушенная ударами, сначала слабо понимала, о чем это он.
Единственное слово, которое болталось в голове, было простым: «Безумец. Он настоящий безумец». Ярость мешалась с болью, девушка закуталась в покрывало, подняла лицо… Что-то было в ее взгляде такое, что заставило Глостера даже не замолчать — заткнуться на полуслове.
— У тебя такай взгляд, словно ты хочешь меня убить, — проговорил он очень медленно и очень четко.
— Да. Хочу. Очень хочу. Но не смогу. — произнесла Аля и сама не узнала своего голоса: таким он был хриплым и чужим.
— Ты человеколюбива?
— Тебя убьет Маэстро.
— Вот как? И ты этому будешь рада? Аля пожала плечами.
— А если удача будет не на его стороне?
— Маэстро тебе не победить. Никогда.
— Ну? Что ты замолчала! Договаривай! Мне его не победить… Почему?! Ты ведь знаешь почему! — Голос Глостера стал высоким, как скрежет железа по стеклу, и к концу фразы вообще сорвался на истеричный визг, словно лай оголтелой балованной болонки, которой в благородном подъезде прищемили лапу полутонной дверью. — Ты ведь знаешь, да?.. Потому что у него… договор со смертью?!
Аля промолчала.
— Ну что ж… Даже если и так, — неожиданно спокойно констатировал Глостер после минутной паузы, за это время или совершенно успокоившись, или — приняв для себя какое-то решение. Ухмыльнулся:
— Но это не значит, что я не смогу его убить. Ведь смерть — дама переменчивая… Сегодня одного любит, завтра — к другому благоволит… Впрочем, даже в смерти есть что-то хорошее. Тот из нас, кто умрет сегодня, не состарится никогда. «Давай вечером умрем весело…» — замурлыкал Глостер вполне жизнерадостно, с удобством устроился в кресле и как ни в чем не бывало отхлебнул из бокала. — Чтобы у тебя не осталось иллюзий, красавица… Тебе рассказать, кто такой Маэстро? Демон? Герой? Демиург? Как бы не так! Фигляр, актеришка, превративший свою жизнь в жестокую балаганную пьесу… «Весь мир театр, и люди в нем — актеры…» Вот только умирают в этом балагане по-настоящему! Дьявол!
Глостер зачиркал кремнем зажигалки, пытаясь прикурить, но это ему все не удавалось. Он пробежал взглядом по полкам, увидел коробок длинных сувенирных спичек, одним движением выскочил из кресла, словно вытолкнутый пружиной болванчик, подошел к секретеру, схватил коробку, прикурил, затянулся с видимым наслаждением, застыл, перехватил за остывшую головку, с удовольствием наблюдая за огнем, пока спичка не сгорела дотла, превратившись в скрюченную черную каргу… Перетер остов большим и указательным пальцами в труху, сдунул остатки сажи.
— Вот и вся жизнь… Без прикрас. А иллюзии… Все иллюзии лепятся в Голливуде, особенно по поводу смерти! Все! Даже мода на убийство. Как говорят?
«Это только кино». Кино. Там — чистенькие агенты и агентессы, компьютеры, обеспечение… И это — война?.. Чушь, вонючая собачья чушь! Сначала бывает дерьмо, и ничего, кроме дерьма! И выживает в нем самый гнусный червь из тех, что рождены под солнцем, луной или звездами! Тот, что может слиться с окружающей грязью, стать тленом, пустотой, ничем. Только он выживает! Зачем? Чтобы жить с психологией выползка?.. Вернее — с психопатией змея?.. С навязчивым страхом смерти и желанием ею повелевать! Ибо это — единственный способ ей хоть как-то противиться!
Маэстро — выжил, и ты думаешь, он другой? Этакий полубезумный, но благородный Гамлет?.. Как бы не так! Да его давно не интересует ничто в этом мире, даже власть! Он забавляется только смертью! И ты еще смеешь надеяться на этого жестокого шута, на этого палача из бродвейского мюзикла?
На лбу Глостера выступил пот, глаза лихорадочно заблестели. Он опустился в кресло, прикурил очередную сигарету, произнес гораздо медленнее, словно за несколько последних часов устал больше, чем за всю жизнь:
— Забавы со смертью… А кто из людей не забавлялся ею? Все в мечтах только и делают, что примеривают смерть — сначала на недругов, потом на друзей и близких, потом на себя… Одни — из жалости к себе, другие — из неутоленного тщеславия… Игра такая у нас, нелюбимых обезьянок Господа Бога… выродков животного племени… Ты хоть знаешь, что наши ближайшие сородичи, шимпанзе, единственные изо всех животных ведут друг с другом продуманные войны на уничтожение и убивают друг друга из чувства мести или зависти?! А человек? В свое время хилый духом ницшеанец Максим Горький возглашал с самоуверенностью посредственности: «Человек — это звучит гордо!» А по Шекспиру?.. «Ведь даже дикий зверь имеет жалость! Я — жалости лишен. Так я-не зверь!» Человек…
Продажная тварь, жалкое, жадное, никчемное создание, предавшее и Создателями мир, и само себя.
Глава 61
Глостер упал в кресло, длинное лицо его сделалось печальным и бледным; вернее, даже не бледным — белым, будто усыпанная тальком маска арлекина.
— Может быть, а кажусь тебе извергом? Или исчадием ада?
— К чему так громко? — Хмель ударил девушке в голову, она чувствовала, щеки ее пылают — от гнева или азарта, Бог знает. — Вы никакое не исчадие, вы просто обезумевший от страха кретин! Преодолеть этот страх не можете, а поделиться им вам не с кем — вокруг только суетящаяся толпа жвачных или хищных, одержимых тем же бесом: ужасом скорой смерти, даже нет, не то… ужасом ее неотвратимости, приговоренности к ней! Вы не верите в Бога! Вы ни во что не верите!
— Браво! Ты неповторима в своем гневе! Если так пойдет дальше, я начну верить… верить в то, чта ты, красавица, не просто пустая оболочка для услаждения похоти… Я поверю, что в тебе — дух! Не Божий, нет… Или — душа?
Страстная, неутоленная душа грешницы и куртизанки, красавицы Изабеллы Гриделли… Бедной, искренней и кокетливой восемнадцатилетней девчонки, признанной ведьмой и сожженной завистливой и распутной толпой черни ранней весной 1493 года по наущению приора флорентийского монастыря беспощадного Джироламо Савонаролы! Зачем? Зачем ему было это нужно? Быть замаранным кровью совсем не праведницы — гулящей девки?.. Словно ее смерть могла уберечь Флоренцию от чумы, унесшей жизни двух третей населения Европы! Впрочем, и сам Савонарола, этот фанатичный моралист, не уберегся: нет, не от чумы, — от власти! Болезнь, даже смертельная, разит как кистень — безрассудно и неразборчиво; власть — ты только вслушайся, вслушайся в само слово — это шелест рассекающего воздух меча, это посвист аркана, захлестывающего горло того, кто смеет поднимать против нее чернь, .. Джироламо Савонаролу, грозу еретиков и ведьмы, приказал повесить сам Папа… Труп «благочестивого приора» сожгли, пепел — развеяли… Или — Папа хотел остановить чуму кровью этого хищника? — Глостер вздохнул, прошелестел одними губами:
— Неисповедимы пути Господни… Как и путь дьявола! — При этих словах он резко обернулся к девушке и уставился на нее; зрачки его были неестественно расширены, веки — воспалены, словно у того самого фанатика и аскета, проведшего несколько ночей без сна в подвалах святой инквизиции за допросами обольстительных испанских ведьм. — А ты? Ты не боишься сгореть?
— Прекратите, Глостер! Прекратите! Это вы, вы безумно боитесь! Боитесь и жизни, и людей, а потому — убиваете!
— Люди… Девочка, ты предлагаешь их любить?
— Я предлагаю их жалеть.
— Жалеть? Людей? — На лице Глостера было написано искреннее изумление.
— Люди хотят быть счастливыми? Только и всего.
— Хуже. Люди хотят быть бессмертными. Вот в чем вся пакость. Бессмертными.
— Глостер не спеша налил Але почти полный стакан коньяку, протянул:
— Пей!
Девушка замотала головой, но Глостер напиток не убрал, ей не осталось ничего, как взять толстостенный стакан обеими руками… А собственно, что она потеряет? Координацию движений? Девичью честь? Аля нервно скривила губы от идиотизма болтающихся, как беспризорные коты, мыслей… В несколько глотков осушила стаканчик, откинулась на спинку дивана, подобрав под себя ноги и укутавшись в покрывало. Алкоголь мягко коснулся мозга бархатными лапками, окутал мерцающим теплым туманом…
Что происходит? Чего добивается Глостер? Ждет. Тянет время. И снова ждет.
Есть хоть что-то более изматывающее, чем ожидание? Особенно если это ожидание схватки с Маэстро, которое должно закончиться смертью одного из них… Стоп!
Почему — одного? Глостер навязчиво, параноидально ненормален, но притом он — боится и жаждет… Жаждет славы и короны «черного демона»! А неверная молва тех, среди кого они оба жили последние годы, приписывает этот сомнительный титул, эту жутковатую доблесть Маэстро! И важно то, что он, Глостер, в этот титул верит, верите мистической искренностью! А это означает, что подсознательно он ждет не схватки, а смерти! Своей смерти! Он верит, что умрет через несколько часов — или минут? — потому что нельзя победить человека, у которого договор со смертью!
А что ей от этого? И почему она жива до сих пор? Потому что — наживка? Или просто Глостер играет7 Играет только затем, чтобы показать себя равным Маэстро!
А это означает… Господи, что же делать?! Этот псих, «враг целесообразности», может убить ее в любую минуту! Это будет его вызов, его месть Маэстро. «Да, я не смогу победить тебя, но смогу отнять у тебя то, зачем ты пришел, — девчонку!»
Или — еще хуже: Глостер не просто убьет ее, он как бы принесет в жертву повелителю, князю тьмы, как залог послушания и преклонения, и тогда — ему даруется победа над Маэстро?! Надежда на жизнь от хранителя смерти! Господи, какой страшный бред!
— Э-эй? Ты там жива? — услышала девушка голос Глостера. — Или уснула?
— Нет. Я не уснула.
— Не время спать перед рассветом… Хорошая строка для начала стихотворения, а?.. Может, мне пристало бы быть поэтом?
Как время сглаживает годы — так море сглаживает раны.
Не те глаза у непогоды, а сны тревожны и желанны, А сны полны непостоянства — то недоверчивы, то строги, И хрупкий бред ночного пьянства простят языческие боги.
Светясь сиренью и рубином, вино лукаво и надежно — Оно, как прежде, правит миром, ему, как прежде, верить можно!
И фиолетовые грезы, как лунный свет, мягки и гибки .
Несостоявшиеся слезы несостоявшейся ошибки.
И в аромат осенних листьев бреду покорно и устало, Тону, как в наважденье истин, : в пурпурном золоте бокала…
Лишь в днях, составленных по датам, лишь в снах, оставленных по годам, Неотсиявшие закаты и — невзошедшие восходы.
— И невзошедшие восходы… — повторил Глостер с такой внутренней тоской, что Але пусть на миг, но стало жалко этого странного человека, похожего то на религиозного фанатика, то — на смертельно запуганного обывателя, призванного играть совершенно чужую и чуждую ему роль… — Восходы остались там, за несуществующей линией горизонта… Хотя… были и поэты, но разве они сумели исправить хоть что-то?.. Разве успели?.. — Глостер Вздохнул непритворно грустно:
— «Мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по сути своей…» А теперь «век-волкодав» прибрел к закату старой шелудивой псиной — и каков итог?
Девушка ничего не ответила, да и не нужен был Глостеру ничей ответ. Он привольно и, как казалось, вальяжно развалился в кресле, вытянув ноги, рассмеялся в голос, продолжил свой темпераментный монолог, но в интонациях Глостера было куда больше тоскливого разочарования и желчи, чем веселости…
— Жизнь должна хоть как-то скрашивать людям ожидание смерти, а что вместо этого?.. Хомут и плеть, называемая властью. И никого на деле не обманывает отсутствие колючей проволоки, сторожевых вышек, лающих псов… Бежать все одно — некуда! Вывернуться-, выдернуться из своего навозного житья-бытья не дано никому, и именно потому наши быдлатые «новые русские» отличны от своих «старых» собратьев чаще всего лишь объемом брюшка да тяжестью бульдожьих брылей! А слюна у «новых» и «старых» течет по-прежнему обильно; людишки — животные ненасытные, их неистребимое желание жрать, хавать, глотать все, что попадает в пасть, и лапать, хватать, вылизывать истекающих соком самок или самцов да млеть под тихую, злобную завистливость менее удачливых тварей или то, что он, Глостер, в этот титул верит, верит с мистической искренностью! А это означает, что подсознательно он ждет не схватки, а смерти! Своей смерти! Он верит, что умрет через несколько часов — или минут? — потому что нельзя победить человека, у которого договор со смертью!
А что ей от этого? И почему она жива до сих пор? Потому что — наживка? Или просто Глостер играет. Играет только затем, чтобы показать себя равным Маэстро!
А это означает… Господи, что же делать?! Этот псих, «враг целесообразности», может убить ее в любую минуту! Это будет его вызов, его месть Маэстро. «Да, я не смогу победить тебя, но смогу отнять у тебя то, зачем ты пришел, — девчонку!»
Или — еще хуже: Глостер не просто убьет ее, он как бы принесет в жертву повелителю, князю тьмы, как залог послушания и преклонения, и тогда — ему даруется победа над Маэстро?! Надежда на жизнь от хранителя смерти? Господи, какой страшный бред!
Восторженное холопство пресмыкающейся и жестокой толпы — вот и все удовольствия, доступные смертным… Смертным!
Да, еще я зависть! А у нее все виновны изначально! Одни в том, что талантливы, другие в том, что бездарны! А правит… правит всем агрессивная, заполняющая собою все и вся посредственность! Именно она придает мерному чередованию времен образ то ли катящейся с горы колесницы, то ли отрезанной Юдифью головы Олоферна.
Впрочем, есть у человечков еще удовольствие куда более утонченное; аскеза и связанное с нею помрачение рассудка, считающиеся «просветленным состоянием души»… Да-да, вера в загробную жизнь, в бессмертие — не что иное, как душевная болезнь, сумасшествие, безумие, присущее человеку, самому злобному и тщеславному из всех животных… Почти как в Книге: «Змей был хитрее всех зверей полевых…»
Лукавое самомнение человека столь велико и самодостаточно, что он выдумал себе тотем и назвал его Богом… Или — Бессмертием. А затем поступил просто: уподобил его себе, только и всего! Не нашел ничего лучшего, как обвинить человекобога в собственных грешках, великих и малых, и — казнил! Казнил! Человеку не нужен никакой Бог, кроме него самого, но вот дать бессмертие он бессилен. А потому сохранить власть над паствой может лишь тот, кто сеет смерть. Господствует над нею. А уж как он называется — вождь, фюрер, везир, конунг, каган, хан, князь — никакой разницы. Никакой. Ведь над смертью он господствует временно, лишь на тот краткий миг, что ему позволено ею! Это только смерть приходит навсегда.
На-всег-да!
В этом и завет, и закон, и пророки! «И земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Ты скажешь, там далее — «…и Дух Божий носился над водою»? И Он создал и твердь, и звезды?.. — Глостер закинул голову назад и уставился в потолок, словно за этой мнимой преградой он видел лучистые и ясные глаза звезд на небесной тверди… — Далее — всего лишь словеса. Декорации. О, Господь был великий путаник, вот Он и расцветил мир, как ребенок — белый лист бумаги. Травка зеленеет, солнышко блестит… Но под этой травкою, за раскрашенной декорацией дворца — все та же бездна, бурая земелька, в которую и ляжем. Все. И земля будет безвидна и пуста и тьма над бездною.
Глава 62
Аля сидела оглушенная, опустошенная и подавленная. Сначала ей показалось даже, что там, за окном, за маревом тюлевых штор уныло плавает серый сумрак рассвета, но потом она поняла: нет, ночь еще темна, это люминесцентные лампы заливают двор неведомого ей особняка белым неживым светом. Наступила апатия и вялость. Ее взгляд медленно, будто птица с перебитым крылом, блуждал по комнате, и Аля даже не вполне осознала, что она хочет найти и зачем… Она искала пистолет. И мысль у нее тоже была одна: найти, приставить вороненый ствол к виску — и нажать спуск. Ибо только смерть спасает от страха небытия.
Судорога омерзения и гадливости передернула все ее тело, будто она только что руками схватила липкую и скользкую тварь! Ну надо же! И мысли бывают подло-змеиные ! По спине неслись волны ледяной изморози, девушку трясло как в лихорадке… Как?! Как этот дешевый балаганный шyт, этот кривляющийся паяц, этот манежный ярмарочный клоун довел ее до того, что единственным спасительным действием ей показалась смерть?!
Весь этот сор, мусор, хлам нужно вымести из головы немедленно, или она завязнет в паутине липких слов и пугающих понятий, которыми обвивает ее этот человек… Зачем? Чтобы задушить?
Против безумия есть только один довод — разум, но его логикой нельзя убедить безумца. Сумасшедшие .живут в своем собственном мире, мире гротескного кино, и заставить больной, помутненный рассудок выйти оттуда к свету невозможно… Но ведь и у нее нет другого пути и другого выхода! А что, если Маэстро был ранен в этом ночном побоище? Он сумел уйти, скрыться, но был ранен , тяжело ранен и сейчас умирает где-то один — среди моря, чаек и скал?.. И никто ее не спасет, и этот умалишенный: Глостер будет издеваться над нею до тех пор, пока не убьет или хуже — не сведет с ума, не превратит в подобное себе существо, липкое от страха и измученное бесплодными умствованиями! Но… этот злой, нескладный человек говорил псевдологичные вещи, но сейчас, в это тревожное предутреннее безвременье между светом и мраком — пес знает почему — они казались истинными! И это страшило девушку больше всего? Неужели она уже сходит с ума?!
— Жизнь моя никому не приносит радости… — услышала она голос Глостера и вздрогнула: настолько близким было совпадение, тождество его мыслей и ее собственных. — И мне самому противна, и окружающим — в тягость.
— Просто вы — трус, — услышала Аля свой голос будто со стороны.
— Вот как?
— Да. Знаете, что я придумала? Лучший для вас способ победить Маэстро., .
— Неужели? И какой же?
— Застрелиться.
— Застрелиться? — Глостер откинулся на спинку кресла и захохотал мелким булькающим смехом, словно пьяный дачник, которому втайне от строгой супруги рассказали веселый скабрезный анекдот, и анекдот этот останется упоительным грешком в его размеренно-унылой, пузатой, пропахшей тещиным борщом и несвежими простынями жизни. — Застрелиться… Забавно. Но я не могу этого сделать.
— Да? Почему же? Ведь у вас нет… э-э-э… договора со смертью? Как у Маэстро?
— Вот об этом никто знать не может, ~ посуровел Глостер.
— Даже вы сами?
— Даже я сам.
— Ну а тогда — чем вы вообще рискуете? Ничем. Смело берите пистолет и стреляйте в рот. В случае удачи — навсегда избавитесь от страха. В случае неудачи — тоже: будете уверены, что смерть сделала вас своим избранником и оставила пожить на радость себе и горесть окружающим. Красивое предложение?
Аля Говорила и говорила и поневоле замечала, что ей даже напрягаться не приходится: слова лились вольно и легко, и если сначала ей приходилось заставлять себя, играть веселость и раскованность, то теперь… Странно, но она чувствовала собственное непринужденное обаяние, будто не сидела полупьяной со спутанными ногами… Или — люди действительно привыкают к рабству и оно перестает их тяготить? А скорее, психика защищается в любом положении, даже в самом стесненном, и независимо от осознанной воли человека его подсознание само вырабатывает наилучший путь к спасению и нужно только ему подчиниться?.. Ну да, если не страдаешь скрытым комплексом саморазрушения или самоубийства… Впрочем, люди, отягощенные злом, смертью или неволей, не страдают от своих тягот потому, что одни — принимают их за доблести, другие, счастливые, — не замечают вовсе.
— Ну и что же ты замолчала, милая дива? Да-да, именно дива, ты меня не перестаешь удивлять!
— Так что вы скажете о моем предложении? Глостер пожал плечами:
— Русская рулетка, только без азарта и вариаций. Это скучно, а потому — безынтересно.
— Почему же? Целых два варианта, и оба — беспроигрышные.
— Беспроигрышных лотерей не бывает, — упрямо возразил Глостер.
— Это выигрышных не бывает! Любая лотерея — чистое наперсточничество и жульничество.
— Может быть, тогда прекратим играть в слова и…
— И — что? Сольемся в страстном поцелуе? Или — в искрометном экстазе? Я не предлагаю вам лотерею, я предлагаю вам действие. Любое действие рассеивает беспокойство. А то, о котором говорю я, — излечивает страх.
— Смертью?
— Вы знаете другое лекарство от страха?
— Ты права. Другого нет. Страх можно потерять только вместе с жизнью.
— Есть чего бояться? Вы ведь сами сказали, жизнь вам в тягость…
— А если и так? Может быть, именно потому мне доставляет особое удовольствие лишать ее других? Тех, кому она дорога? Таких, как ты?
Глостер замолчал, прищурился, рассматривая девушку… А Аля не успела ничего ни подумать, ни приказать себе: эмоции, флюиды от направленного на нее недоброго взгляда заставили трепетать душу с затаенной в ее непроницаемой глубине надеждой на избавление, как будто зайчишку, спрятавшегося в капустных листьях и случайно обнаруженного в этом жалком укрытии… Ее хитрость не удалась: девушке лишь показалось, что она поймала ту самую безумную волну Глостера, настроилась на нее и теперь сможет сыграть с ним свою партию… Или — удалась? Аля заметила в руках мужчины пистолет, итальянскую «беретту», на ствол которой Глостер быстро и умело накручивал длинный профессиональный глушитель.
«А глушак-то зачем?» — пронеслось в Алиной голове, но вслух она уже ничего сказать не успела. Глостер подхватил невесть как оказавшийся в этом странном будуаре маленький серебряный колокольчик, тряхнул легонько… Нежный, мелодичный звон нарушил тишину безмолвного особняка. Через несколько секунд дверь бесшумно отворилась. Аля. даже была готова увидеть на пороге какого-нибудь восточного грума, но нет: там стоял среднего роста спецназовец в пятнистом комби. Он спокойно и вопросительно смотрел на хозяина.
— Курт, что там с нашим «ползуном по скалам»? — услышала Аля вопрос Глостера.
— Ищем.
Девушка замерла, напряженно вслушиваясь, догадавшись, что речь идет о Маэстро.
— И успехи?
— Как сквозь землю провалился.
— Этот мог и сквозь землю. У него там все свои. — Глостер скривился в улыбке. — А сейчас, Курт, приведи мне того из Ричардовых мальчиков, который…
— Остался верным мертвому сюзерену?
— Да. Приведи мне его. Только побыстрее.
— Есть.
— Один здешний охранник совершенно не понимает ситуации, — пояснил Але Глостер. — Стрельбу затеял. К чему, если сила солому ломит? — Глостер скривился:
— Идейный. Такие хуже всего.
Глостер опустился в кресло. Он сидел, сосредоточенно глядя в одну точку, пока дверь снова не открылась. Курт втолкнул в комнату невысокого парня лет двадцати двух; по инерции тот сделал несколько шагов, явно припадая на раненую левую ногу и морщась при этом. Остановился, задержал взгляд на девушке., но не дольше, чем на обычном предмете обстановки, вопросительно посмотрел на Глостера, и во взгляде этом Аля даже не различила — угадала тихую, обреченную тоску.
Глостер продолжал торчать в кресле прошлогодним манекеном, но Аля явственно ощущала исходящую от него энергию агрессии и угрозы… И еще — чего? Больше всего это походило на запах гнили.
— Ну? — Глостер развернулся всем телом к Але. — Ты готова к эксперименту?
— К эксперименту? — не сразу поняла девушка.
— Да. Как ты сказала? Смерть — это не лотерея, а истинный спорт. Рулетка.
— Я? Так сказала?
— Не важно. Важно, что именно так я и понял. — Глостер повернул голову и уперся взглядом вошедшему в переносицу:
— Ты боишься смерти?
Парень заморгал, как от рези в глазах, будто на него был направлен луч дальнобойного авиационного прожектора.
— Я не слышу? — повторил свой вопрос Глостер.
— Боюсь.
— Вот видишь! — Глостер снова развернулся к Але; — Он боится смерти. Что и требовалось по условиям игры.
— Какой игры?.. — запоздало пролепетала Аля. Глостер поднял руку с оружием, раздался невразумительный хлопок, словно лопнул наполненный водой шарик… Парня, что стоял посреди комнаты, ткнуло прямо в лоб, будто торцом длинной палки: голова его дернулась назад, затылочная кость надломилась, желтое месиво мозга в бурой сукровице брызнуло на беленую стену напротив, а труп ничком, как мешок, завалился на ангорский палас.
Глостер стоял чуть склонив голову набок, словно старательный ворон на пашне, высматривающий из парящей земли толстого червячка… Констатировал капризно:
— Врут фильмы… Бурое на белом — грязно, и никакой эстетики. У них там кровь — алая. Потому и красиво. Интересно, как называется эта краска?.. — Он прикрыл веки, забормотал себе под нос:
— «Красная, красная кровь, через час уже просто земля…» Хлеба и зрелищ… Во все века обыватели требовали кетчупа и крови… Вот жизнь и выдавливала их на палитру… Всем нравится, когда много красного… — Глостер открыл глаза, поморщился от увиденного, посмотрел на девушку, словно ища у нее сочувствия, втянул носом воздух, поморщился:
— А запах действительно отвратный. Как на бойне.
Аля силилась вздохнуть и не могла… Слезы уже вовсю застилали глаза, а горло резало, словно перехваченное хлестким татарским арканом… Девушка сделала усилие, попыталась вздохнуть — и закашлялась. Кашляла она так, словно организм решил вывернуться наизнанку… Изо рта на палас стекала какая-то жижа, девушка извивалась, все пыталась вздохнуть — и не могла… Она почувствовала только, как сильная рука вздернула ее вверх, увидела мельком летящую на нее пятерню, боль алой вспышкой разорвала щеку, запульсировала малиновым и багровым, желтые неровные шары горячо заклубились под черным бархатом век… Аля сделала вздох — и заплакала, зарыдала, завыла в голос… Голова ее кружилась, и в этом вращении девушка, казалось, явственно видела и аспидную черноту преисподней, и фиолетовый сумрак полуночи, и мерцающую дорожку Млечного Пути, рассыпавшегося в звездную пыль.
Глава 63
Когда она открыла глаза, ей показалось, Глостер нависает над ней черной тяжкою глыбой; он действительно стоял рядом с диваном, наклонившись к Але и приблизив к ее лицу свое так, что она чувствовала приторно-сладковатый запах его кожи; но притом лица мужчины Аля не видела.
Она различала только жутко раззявленный слюнявый рот, и он казался Але пастью змеи, готовой ее сожрать.
Что уж там прочитал Глостер в ее мятущихся страхом зрачках… Спросил:
— Ты считаешь меня чудовищем? Да? Девушка зажмурилась, отпрянула назад, почувствовав спиной холодную неживую кожу дивана, прошептала еле слышно, сама почти не разбирая своих слов:
— Ради Бога…
— Бога?! Какого Бога?! — взвился Глостер. Все лицо его исказила гримаса ненависти и страха. — Ты, животное, какой тебе нужен Бог?!
Он метнулся по комнате, будто ослепленная вспышкой молнии крыса, оскалившись и пиная на своем пути какие-то мелкие предметы… Замер у полки с книгами:
— Бог? Слушай, каков твой Бог! Слушай! Глостер уверенно выбрал Библию, его руки, лихорадочно перелистывающие страницы, дрожали. Он остановился, отыскав нужное место;
— Слушай! «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеска пола. И все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота… И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин?.. Итак, убейте всех детей мужеска пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеска ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший человека и прикоснувшейся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день… И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч, крупного скота семьдесят две тысячи, ослов шестьдесят одна тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеска ложа, всех душ тридцать две тысячи».
Глостер смотрел на Алю просветленно-торжественно:
— Ты поняла? Людишки не смогли выдумать себе Бота, отличного от них самих!
Красиво? Каждому по роду его: мелкого скота, крупного скота, ослов и, наконец, девочек, не знавших «мужеска ложа»… Все подсчитано, записано, занесено!
Каково? Ты скажешь, это «иудейские сказки»? И Бог христиан есть другой Бог? Как бы не так! Спроси, и тебе ответит любой раввин, любой ксендз, любой православный поп: Моисей и бывшие с ним действительно были избранными, лучшими из людей, живших тогда! Представь, если таковы были лучшие, какие же — остальные?.. Или — тебе мало? Слушай еще! Бывальщину про Елисея, а? Того, который наблюдал вознесение самого Илии в огненном вихре на небо. Слушай! — Глостер перелистнул страницы:
— «Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся, и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка».
Сорок два ребенка! Тридцать три коровы! Свежая строка! — блеюще затянул Глостер, по-скоморошьи пританцовывая на месте с книгой в руках. — Свежатинка.. — Помолчал, вычерчивая носком ботинка на паласе ведомый ему узор. — Голодные были медведицы в том лесу, а? А что Елисей? А ничего! Побрел себе дальше, солнцем палимый. Не будут обзываться, блин! — Глостер хохотнул громко и совсем невпопад, произнес, понизив голос до шепота:
— Таковы были лучшие. А кто тогда мы, дети кровавого, беспощадного века, вступившие в тысячелетие запуганными, затравленными шавками?.. Если еще наши отцы истребили своих лучших в бесконечной войне, что терзала век? Кто остался? Только такие, как я. Или — как ты. Хищники.
Звери. — Глостер застыл посреди комнаты в академической позе, сложив на груди руки, некоторое время с интересом истинного ученого рассматривал труп на полу и только потом заговорил — размеренно и монотонно, будто читал лекцию нерадивой студентке:
— Любить людей — пошло, ненавидеть — глупо. Остается только одно: убивать.
Избавлять землю от этих тварей. Пожалуй, единственное, что еще не разочаровывает меня, Маэстро и Лира, — это игра, вечная игра в нечет и чет… Впрочем, это развлекает, забавляет и то большинство людей, которое называют у нас подавляющим. Эти и сами боятся жить, и другим не дадут! Они терпеть не могут настоящей жизни, но обожают мифы, о-бо-жа-ют. Красивое словечко? В нем — почти обожествление! А что есть миф? Та же игра воображения, пустота, заумь, ничто…
Великое Ничто правит этим миром, но мы боимся пойти ему навстречу, прикоснуться к нему, стать его частью, пасть в его холодный, черный зев, в чрево, где все бесплодно и нет ничего, кроме могильных червей, превращающих мнимую красоту и совершенство человеческих существ в глину, и прах, в небыль…
Глостер остановился у открытого бара, налил себе в стакан бренди, выпил жадно, как воду, по-видимому не ощущая ни вкуса, ни крепости. Резко развернулся к девушке, крикнул зло:
— Что ты молчишь? — Грубо схватил ее за плечи и начал трясти — больно, жестко, словно тряпичную куклу. Алина голова болталась безвольно, но девушка не произносила ни звука, и это еще больше злило Глостера. — Тебе нечего ответить?
Так я сам скажу! Ты можешь возразить только одно: дескать, все до Христова пришествия были «ветхие люди», а значит, грешные по рождению, а Он — искупил людей из греха и ада своею кровью… И — что? Я спрашиваю — что? По смерти Спасителя прошло две тысячи лет — мир изменился? Люди стали лучше? Добрее?
Глостер снова замер, закрыв глаза, словно поразившая его идея была столь навязчива и ярка, что ослепляла.
— А может быть, вся история человечества не больше чем сон? Сон разума, рождающий чудовищ? Летаргия в полете от звезды к звезде, и нам просто не хватает кислорода, и нас мучит кошмар, от которого мы не можем очнуться, потому что не имеем на это мужества? Или — нужно произвести какое-то действо, которое перервет замкнутый круг убогого мироздания?.. Уничтожит ядовитую тварь, змею, жалящую себя в пяту!
Поглупевшее лицо Глостера излучало присущий дебилам покой, глаза же, напротив, сияли живым нервным восторгом, горячечной лихорадкой немедленного действия.
— Нужна жертва! — торжественно возгласил Глостер с неподкупной шизоидной убежденностью. — И мне — и миру! Но не такая, что принесли люди две тысячи лет назад: безвинный Агнец не может своей кровью искупить кровь предательства…
Здесь нужна кровь хищника! — Глостер смотрел наАлю, глаза его сияли тем самым безумным восторгом и покоем. — Здесь нужна твоя кровь! И — моя! Мы смешаем ее, и мир освободится из кровавой круговерти превращений, и люди станут свободными, и наши души…
Он запнулся; волнение перехватило ему горло и мешало говорить… Теперь каждая черточка его лица была как бы пронизана сиянием радости и благодати, вот только благодать эта была не покойной, а нервной, демонической, на грани тяжкого срыва, на грани уничтожения… В руках его уже отливал темной синевой обоюдоострый клинок… Глостер медленно двигал им из стороны в сторону, любуясь томным переливом тусклой стали… Дыхание его сделалось прерывистым, речь — вкрадчивой, голос — тихим, с ноткой нездешней грусти, чарующим…
— Ты успела предать кого-нибудь? Да?
— Я… я не знаю… Наверное… — Аля отвечала односложно и устало, будто заколдованная ритуалом этой странной волшбы.
— Не важно… Это совсем не важно… Я успел предать многих. Очень многих.
И тем — спас их самих от греха вероломства. Таковы люди: они предают не с тем, чтобы выжить, — они всегда так жили! И — так живут!
Странное наваждение сковало девушку. Мысли ее были ясны, вернее даже, Аля видела, чувствовала окружающее с контрастной, гротескной яркостью и понимала совершенно отчетливо, что стоящий в нескольких шагах от нее мужчина ненормален, крайне опасен, что она в его власти и беззащитна, но эти мысли не вызывали у нее никакого страха. В голове было гулко, и только одинокая и совершенно сейчас неуместная фраза звучала и звучала с монотонной навязчивостью, напеваемая грассирующим баритоном Вертинского: «Измельчал современный мужчина, стал таким заурядным и пресным…» У Али вообще не осталось эмоций, не осталось ничего, кроме усталости и пустоты. Сейчас этот психопат ударит ее клинком, и бег ее дней прервется, но Аля не чувствовала по этому поводу никакого сожаления… Вернее…
Она хотела не умереть, нет… Она хотела оказаться в дальнем-дальнем летнем дне, дне из детства, когда солнце заливало квартиру всю целиком, и мама что-то хлопотала на кухне, а папа играл с нею… А за окном вздрагивал воздух от упругих духовых маршей, нарядные люди неторопливо текли вдоль улиц, веселые, добрые и тогда — еще не такие чужие друг другу, как теперь… Наверное, это и было счастье.
— Дьявол! — коротко вскрикнул Глостер, девушка подняла голову, наваждение разом исчезло: Глостер стоял посреди комнаты и беспомощно, как пятилетний, взирал на порезанный палец, из которого быстрой длинной струйкой сбегала кровь.
Брови мужчины были удивленно вздернуты, он смотрел не отрываясь, как капли падают в белоснежный ворс ангорского паласа, окрашивая его ярко-алым. Глостер обратил шалый, растерянный взгляд к девушке, будто призывая ее засвидетельствовать настоящее чудо:
— Ты видишь?! Она — алая! Совершенно алая! — Действительно, кровь была яркой, какой бывает только в кино или в снах, и падала медленно… — Она — настоящая… — прошептал Глостер одними губами, взгляд его словно подернулся пленкой, как куриный глаз, лицо превратилось в отрешенную блекло-мятую маску, одним движением он перехватил нож и сделал шаг к девушке…
Аля сжалась, подобралась, ожидая удара… Сердце забилось, затрепетало пойманной рыбкой, а душу затопила щемящая, как осень, как грусть об ушедшем навсегда лете, тоска… Она покидает этот прекрасный мир так рано, даже не успев ничего, даже не увидев собственных малышей и не сумев никого сделать счастливым… Аля зажмурилась, чувствуя, как слезы закипают на ресницах…
Но боли не было. Совсем. Девушка открыла глаза и не сразу узнала окружающее сквозь разводы собственных слез.
Глостер стоял посередине комнаты бледный, как привидение, и слепо таращился широко открытыми глазами в пространство перед собой. Так он стоял, боясь сделать хотя бы шаг, ощупывая пустоту свободной рукой, накрепко зажав в другой боевой нож. Вот так, на ощупь, он сделал шаг к дожу, на котором замерла девушка… Еще шаг… И еще… Жуткий запоздалый ужас нахлынул, ледяным валом; наваждение исчезло разом, Аля заметалась, закусила губу, чтобы не закричать, но стона удержать не смогла. Глостер услышал, сориентировался по звуку, начал двигаться увереннее… Улыбка зазмеилась на губах, и на лице так и застыло глуповато-блаженное выражение, словно это и впрямь был не убийца, а деревенский увалень, простак, вздумавший подурачиться и поиграть с кокетливой девицей в жмурки.
Аля дернулась, но поняла: из-за спутанных ног никуда не сможет убежать, Глостер распорет ее ножем раньше, чем она успеет, проскочить мимо него в другую половину комнаты. А Глостер вдруг застыл, замер на месте, прижав ладонь к голове и раскачиваясь, как китайский болванчик; зрачки его невидящих глаз расширились так, будто свет для него померк разом, сгустился до темно-фиолетового сияния…
Нижняя губа Глостера отвисла, из горла вырвался звук, тяжкий и неприятный до дрожи, словно скрежет песка по стеклу, а на лице отпечаталась дикая, всесокрушающая боль, завладевшая его телом… Сейчас он не ощущал ничего вокруг.
И ничего не желал. Боль освобождает душу от пустых мудрствовании, а совесть — от пустых обязательств.
Глостер медленно, будто куль с сырым овсом, осел на пол и рухнул навзничь, прикрыв своим телом руку с зажатым в ней ножом… Аля чуть не заревела от досады! Куда можно убежать стреноженной? Но времени hit на то, чтобы медлить, ни на то, чтобы отчаиваться, не было. Девушка мигом отбросила прочь покрывало; ноги ее были накрепко перехвачены капроновым шнуром под коленкам и у лодыжек. Аля попробовала ногтями — тщетно: слишком умело накручены узлы, их можно или перерезать, или… Да! Перегрызть! В одно мгновение Аля подтянула колени к груди, наклонилась так, что достала зубами путы, вцепилась в них… Разбитые и покусанные губы разом треснули, кровь потекла по подбородку; девушка почувствовала боль в деснах: капроновые нити резали, как осока… Слезы закипели на глазах, но она продолжала терзать зубами неподатливый тонкий шнур, пока не выплюнула изо рта бурые от крови кисточки — концы перетертой веревки.
Оглянулась. Глостер продолжал лежать у кресла неподвижно, рука с оружием была так же неловко подвернута. А может, у этого параноика инсульт и страх наконец-то добил его? Подползти, попытаться вытащить нож?.. Пет! Стоит Глостеру, даже полупарализованному, только двинуть рукой с отточенным и скорым, как тень, клинком… Нет, подходить к нему близко Аля боялась: ей казалось, он, даже мертвый, схватит ее и утащит с собой в черную пузырчатую бездну… Девушка лихорадочно пыталась обнаружить хоть что-то острое. А может быть?.. Ну да: нужно разбить бокал и его осколком разрезать веревки на лодыжках!.. Кое-как она встала; затекшие ступни свело острой болью так, что Аля едва не упала. Собралась с силами, прыгнула по белому .паласу раз, другой, и тут — комната закружилась, тоненькая теплая струйка покатилась из носа, густые капли падали спелыми земляничными ягодами и зарывались в белизну ангоры… Ноги сами собой подкосились, и девушка упала ничком на пол.
Если она и потеряла сознание, то совсем ненадолго. Комната вокруг как бы медленно вращалась. Аля сделала усилие, приподнялась на локотках — и увидела себя в громадном зеркале шкафа-купе. Худенькая, как подросток, девчонка, с измазанным кровью лицом, с припухшими от побоев носом и губами… В нескольких шагах от нее лежал застреленный Глостером человек. Остекленевшие глаза мертвеца мутно таращились в пространство; голова его была повернута так, что девушке казалось: убитый смотрит именно на нее.
Аля с трудом справилась с накатившим приступом тошноты и животного страха: ей даже показалось, что волосы шевельнулись у нее на .голове…. Девушка опустила взгляд, упрямо тряхнула головой, закусила губу и, не обращая внимания на кровяную струйку, вновь попыталась встать… Но дурнота и слабость снова закружили голову грязными клочьями мохнатого, солоноватого на вкус тумана, остро царапающего горло, будто горько-удушливый дым… Руки не выдержали напряжения, Аля ткнулась лицом в белоснежный палас и замерла так, чувствуя, как слезы застилают лицо душно-горячей волной, словно уставшее от зноя море.
Часть одиннадцатая ПУТЬ ВОИНА
Глава 64
Кровь ударяла в виски, будто механический молот. Удары были частыми и тяжкими, и каждый красил мир грязно-желтым. Только потом Аля поняла, что это — стук ее сердца. Во рту она чувствовала солоновато-приторный привкус крови.
Кое-как изогнувшись, перепилила ребристым осколком только что разбитого бокала путы на ногах. Капроновая веревка разошлась как бы сама собой; девушка обессиленно растянулась на полу, чувствуя лишь, как пульсирует кровь в порезанных в спешке подушечках пальцев. Грязно-желтая пена превратилась в красновато-бурую, потом — в белоснежную… Аля лежала, зажмурившись, и отдыхала, пытаясь переждать головокружение и первую голодную эйфорию мнимой свободы. Кровь била в виски, будто механический молот.
Движение девушка не услышала — уловила — и в одно мгновение оказалась на ногах. Глостер стоял в полутора метрах от Али и глядел на нее со странной смесью удивления и злорадства. Припадок прошел, но Глостер словно еще не вполне осознавал, где находится, кто перед ним. Притом отливающий тускло-сизым клинок боевого ножа был направлен острием вперед, а змеистая улыбка, блуждающая на его губах, и полубезумный блеск в глазах не предвещали ничего, кроме смерти.
Аля не думала ни о чем. И ни на что не рассчитывала. Одним прыжком она сократила расстояние между собою и Глостером, сделала ложный выпад рукой, заставив его инстинктивно дернуться в сторону. Неуловимым, быстрым движением девушка бросила ногу вперед и вверх… Глостер успел среагировать, чуть отклонился, и все же первый удар пришелся в пах, второй, локтем, — в подбородок, пусть вскользь, но этого хватило, чтобы еще не вполне пришедший в себя Глостер потерял равновесие. Он покачнулся, защищаясь, дважды отмахнул рукой с зажатым в ней ножом; лезвие со свистом рассекло воздух над головой девушки. Аля присела и уже из этого положения дикой кошкой метнулась к креслу, туда, где на паласе, забытый, маслянисто, чернел пистолет с навернутым на ствол хоботом глушителя.
Оружие она достала в броске, кувыркнулась через голову, падая за кресло…
Глостер тоже прыгнул. Его длинное сильное тело распласталось в воздухе, когда пробочным выхлопом прозвучал выстрел.
Затворная рамка равнодушно лязгнула, выбрасывая гильзу; ощутимо запахло прогоревшим порохом. Пуля ударила в грудь, тяжелое тело грузно рухнуло на пол и замерло. Аля застыла, боясь пошевелиться, ощущая лишь одно: вот, только что она застрелила человека, пусть даже он был худшим из людей… Больше всего девушку испугало, что сама она не испытывает ни жалости, ни грусти, ни сострадания — ничего… Раскаяния тоже не было. Только холодный, будто ледяное пламя, ком застыл в груди острой занозой, и теперь, стоило ей пошевелиться или даже подумать что-то, он отзывался во всем теле вялой слабостью, покорностью… Перед чем? Может быть, именно так и подступает к человеку небытие?
Рассуждать было некогда. Движения Али сделались суетливы и расчетливы одновременно. Она нашла на стуле и собственный купальник, и спортивные брюки, но натянула только штаны, поплотнее запахнула куртку, а кроссовки зашнуровала особенно тщательно. На цыпочках подкралась к двери, затаилась, прислушиваясь…
Подошла и к окну. Выключила бра, тихонечко отодвинула портьеру, заглянула за жалюзи: вся территория была залита мертвенно-белым люминесцентным светом; трава в таком освещении казалась сделанной из жесткой синей проволоки, живые цветы на клумбе — бумажными, бутафорскими, похожими на кладбищенские украшения, пергаментные фантики на длинных проволочных остовах… И еще девушке казалось — за каждым оконцем этого странного «приюта призраков» замерли такие же, желающие слиться с тьмой и стать похожими на тени, люди. Сейчас они напряженно и опасливо всматриваются о искусственный, неживой свет, заливающий пространство, и ждут…
Чего? Восхода, пения птиц или наступления вечной непроглядной тьмы?..
Аля вздрогнула суеверно: стоило только ей подумать об этом — и свет погас.
Тьма первое мгновение казалась абсолютной, но уже через секунды все осветилось беспокойными желтыми лучами-проблесками ручных фонарей. Скрытые за их светом фигуры не метались, напротив, внимательно наблюдали за тьмой, рассекаемой узкими, как клинки, лучами, и даже Але стало ясно: фонари наверняка установлены на короткоствольных автоматах, и каждая замершая, затаившаяся в ночи фигурка готова огрызнуться на любую опасность, реальную или мнимую, разящим огнем.
И огонь полыхнул — ярко, желто, метрах в ста позади здания; следом — ухнуло, проурчало утробно, будто громадный, прильнувший к земле хищник дрожал перед прыжком, не в силах сдержать ярость, потом — упруго сжало воздух. Ночь осветилась оранжевым и ослепительно белым, и только потом раздался взрыв, вой, скрежет раздираемого металла, беспорядочный грохот сжигаемой пулеметной ленты и рвущегося вертолетного боекомплекта.
— Ничего себе курорт… — прошептала Аля еле слышно и застыла у окна, прижавшись спиной к стене.
В коридоре кто-то был. Он шел к двери, шел быстро, уверенно и бесшумно, и замедлил шаг только перед комнатой. Скорее всего, это был тот самый Курт.
Заметив, как тихо внутри, возможно, обратил внимание и на то, что свет погас здесь раньше, чем на территории… И что он тогда решит? То, что его начальник занялся с девчонкой любовными утехами?.. А зачем тогда Глостеру понадобился пленник? Хм… Кто и когда задает начальству вопросы? Никто. Или — Курт куда опытнее, чем предполагает Аля, и он вполне способен решить, что…
Додумать она не успела. Створка двери медленно отошла в сторону, но за ней никого не оказалось. Аля замерла, поймав пустой черный проем в вороненую рамку прицела.
А двор тем временем осветился снова — там словно начали лопаться хлопушки фейерверка, потом — будто неисправный движок забарабанил с дробной частотой «пальцами» по кожуху… Потом «движков» стало несколько, но все они долбали по-разному, и теперь это стало походить на состязание каких-нибудь народных музыкантов — один лепит палкой по горшкам, другой — по забору, третий — просто гремит себе таратайкой!.. То, что это работают автоматы с глушителями на стволах, Аля поняла сразу: сами выстрелы были почти бесшумными, но пули, натыкаясь на препятствия — стены, заборы, ветви деревьев, «звучали» неодинаково, и именно это создавало ту странную, вибрирующе-дробную какофонию звуков, что билась теперь внизу. Но что более всего удивило девушку — ей было не страшно, совсем. Может быть, потому, что стреляли не в нее?
Только когда загрохотали короткие, прицельные очереди полновесных «Калашниковых», Аля поняла: там идет настоящая война, вот только кто воевал, с кем, за что?..
— Глостер! — позвали из провальной черноты распахнутой дверцы.
Дальше… Хлопок, вспышка, комнату заволокло угарным туманом, и Аля потеряла сознание, . Но в беспамятстве она пребывала лишь секунду-другую, не больше, очнулась, ощущая тревожное удушье и монотонную головную боль; кровь струйкой текла из носа, а в комнате…
Две фигуры, похожие на тени, плавно, по-кошачьи, передвигались по замкнутому кругу ограниченного пространства, и только короткие выпады и редкий звон соприкоснувшихся боевых ножей выдавал огромное внутреннее напряжение смертельной схватки. Один из бойцов был Маэстро. Другой…
То, что Глостер остался жив, Алю совершенно не удивило. И не было в этом никакой мистики: слишком громоздко упало его подсеченное пулей тело, чтобы оказаться мертвым. Сплющенный кусочек металла увяз в кевларовых слоях мягкого бронежилета; подсознание девушки это отметило четко, а вот подумать над собственными ощущениями у нее не было ни времени, ни возможности, Аля повела вокруг взглядом: пусто. Куда она уронила оружие и было ли оно вообще? В голове продолжала пульсировать размеренными оранжевыми вспышками боль, делая невозможным никакие воспоминания, но заставляя воспринимать сущее зримо и рельефно.
Девушке не было страшно, ей было горько. Глостер оказался проворнее и напористее. Алин выстрел лишь на некоторое время отключил его сознание, а теперь, вооруженный двумя обоюдоострыми короткими ножами, он наступал, и Маэстро не мог ему противостоять… Может быть, потому, что устал, но хуже всего другое — Маэстро был ранен, и, судя по всему, серьезно. Он припадал на правую ногу, правая рука висела плетью, свой нож он держал левой, и проворства у Маэстро хватало лишь на то, чтобы хоть как-то смягчать удары. После каждого сближения Аля все реже слышала скрежещущий звон металла. Глостер доставал противника, рассекая кожу и мышцы, нанося ранения… Але было хорошо видно: грудь Маэстро залита кровью, и если он еще держался на ногах — то только чудом.
Пожалуй, единственное, что ее удивляло, — это лицо Влада. Оно было спокойным и безмятежным, словно он не ощущал ни боли, ни напряжения смертельной схватки. Именно эта умиротворенная отрешенность выводила Глостера из себя более всего остального; вымученным оскалом он напоминал сейчас изгнанного из стаи волка-оборотня.
— Ты думаешь… Ты думаешь, что умрешь безмятежно?.. — Глостер сделал артистичный выпад с разворотом корпуса; новый глубокий порез рассек правую руку Маэстро, которой он в последний момент попытался защититься от удара. — Я хочу, чтобы ты умер с болью… С дикой болью и ревностью: что лучший — я, а не ты, что ты ничего не сумел в этой жизни! Даже — отомстить!
Але было понятно: Маэстро теперь настолько слаб, что Глостер может покончить с ним одним решающим ударом… Но он почему-то медлил.
— Так я тебе скажу одну вещь… — прохрипел Глостер, контролируя клинками расстояние. — Чтобы в аду тебе было горше… Помнишь Хачгарское ущелье?
Пусть на мгновение, но лицо Маэстро потеряло невозмутимость. И он снова пропустил разящий удар клинка, сумев лишь слегка самортизировать его подставленным эфесом, изменить траекторию и тем уберечь себя от неминуемого смертельного ранения.
— По-о-омнишь… Я ви-и-ижу, что помнишь… Ты знаешь, что приказ на уничтожение подразделения Барса, вашей группы, отдавал Лир?.. Знаешь… А знаешь, кто этот приказ исполнил?.. Кто координировал минометный огонь? Кто командовал группой зачистки?..
Глостер ощутимо тянул время. Теперь его болезненный оскал излучал торжество.
— Ты по-о-онял?! Я вижу, ты по-о-онял! Это был я! Я! — Лицо Глостера стало жестким и безликим, словно безлесная равнина, по которой некогда прошел ледник, превратив все окружающее в пустынное подобие небытия. — Ты ведь не ждал этой боли?! А теперь — оставайся с нею навсегда! Навеки!
Глостер ударил правой. Маэстро блокировал удар неожиданно жестко, а левая Глостера, вооруженная вторым ножом и летевшая со стремительной быстротой в солнечное сплетение, рассекла пустоту… Удивление смертной тенью упало на лицо Глостера — и застыло оборванным криком: нож Маэстро вошел в правое, незащищенное бронежилетом подреберье мягко, разрывая печень… Глостер рухнул на колени, хватая ртом воздух. Маэстро наклонился к нему, прошептал:
— Ты забыл, что у меня договор со смертью? Лицо Глостера от ранения или страха сделалось белым как саван; обеими руками он зажимал рану и упал бы, но приставленный к шее клинок не давал ему даже пошевелиться.
— Я хочу знать имя Лира, — произнес Маэстро. Глостер молчал. Словно выброшенная на берег рыба, он лишь беззвучно открывал и закрывал рот. Маэстро оскалился жестко, сделал неуловимое движение рукой с ножом… , Глаза Глостера помутнели от непереносимой боли; сейчас в них не осталось ничего человеческого, только кричащая беззвучно и оттого особенно жуткая мольба прекратить страшную муку.
— Имя Лира? — спросил Маэстро тихо; он был сейчас будто первый из демонов ада, и именно в его власти было-продлить ту муку, что держал он на острие клинка, или отправить бедного грешника дальше, в безвестное небытие смерти.
Глостер назвал имя Лира и тем — выкупил себе скорую смерть. Маэстро двинул рукой, тело Глостера на мгновение напряглось — и безжизненно рухнуло навзничь.
Глостер был мертв.
Глава 65
Дальнейшее Аля запомнила смутно. То, как они прорывались сквозь темные коридоры, как Маэстро чуть не силой тащил ее, полубесчувственную, за собой, как сине-белый огонек пламени расцветал на раструбе ствола бесшумного автомата, рассылая вперед смертоносный свинец и оберегая их этим заградительным огнем, как красиво расчерчивали небо трассирующие пули, как взорвался бензобак громадного, похожего на гигантского жука, «лендровера», как бойцы в масках бежали сквозь ночь и падали, скошенные бесстрастными пулями этой войны. бывшей для всех чужой… Раньше Аля думала, что чужой войны не бывает, теперь… теперь она знала: не бывает чужой смерти. Каждый, умирая, уносит в небытие частичку этого мира, как море — горсть песка. Навсегда.
Маэстро гнал машину на громадной скорости через ночную степь, куда глаза глядят, лишь бы подальше от места схватки. Аля помнила, как они забрались в этот автомобиль под перекрестным огнем ночной перестрелки, как проломили хлипкие жестяные ворота в дальнем углу пансионата, близ хозяйственных построек, как вырвались в затухающую ночь… Погони за ними не было. Когда твое время отсчитывают не стрелки часов, пусть даже и секундные, а проблески пулеметных трасс, перестаешь обращать внимание на несущественные мелочи… Вроде уносящегося в ночь автомобиля.
Неожиданно тяжелый «лендровер» стал забирать в сторону, теряя скорость.
Маэстро упал головой на руль, заваливаясь всем телом на бок… Аля сумела кое-как выправить машину; автомобиль проюзовал по инерции несколько метров, пока не застыл как вкопанный в неглубокой колее усталым распаленным рысаком.
Маэстро был без сознания. Футболка у него на груди стала мокрой от крови.
Аля сначала подумала, что это от множественных ножевых ранений, но когда она начала перетягивать их найденным здесь же, в угнанной машине, бинтом из аптечки, обнаружила, что Маэстро ранен и в спину, причем серьезно: три черных входных отверстия от пуль и ни одного выходного. Одна из ран пузырилась розовой кровяной пеной при каждом хриплом вдохе: пуля засела в легком. Маэстро был жив лишь чудом. Теперь он умирал. Але хотелось расплакаться от безнадежности ситуации и собственной беспомощности, но слез не было. Впервые за последнее время к ней пришло ощущение жестокой, беспощадной решимости… Оно не сумело еще оформиться в какие-то образы, но одно Аля знала точно: то, за что погиб ее отец, а теперь умирал Маэстро, — иллюзия, но такая иллюзия, ради которой не жалко потерять жизнь, ибо без этой иллюзии мир превращается в жалкое стадо, в скопище жующих жвачных, в свору ненавидимых всеми, ненавидящих друг друга существ.
— Где мы? — Маэстро открыл глаза, как только девушка попыталась подвинуть его с водительского места.
— Не знаю. В степи. Потерпи. Пожалуйста, потерпи… Я сейчас… Мы…
Сейчас я сяду за руль.
Аля боялась погони. Те, кто напал на особняк и вступил в бой с людьми Глостера, не были бандитами, это очевидно. Тогда — кто они? Силовые спецподразделения, подчиняющиеся местным властям? Что будет, если они уже выслали погоню и скоро захватят и ее, и тяжелораненого Маэстро? Ни в какую справедливость со стороны любых властей Аля не верила давно; да и поднять вертолеты на охоту за нею и Маэстро тоже вряд ли было возможно без приказа или хотя бы разрешения тех же самых властей. Впрочем… Эти мысли не вызвали у Али никаких эмоций, даже горечи: в наше убогое время люди чести стали такой же редкостью, как и снежные барсы, а потому зеленые банкноты, сложенные пухленькой стопкой, перевешивали любые погоны. Даже золотые.
— Не нужно за руль. Погони не будет еще с час. Им не до нее, — прошептал Маэстро, не раскрывая глаз. — Тебе нужно уходить, как рассветет. Машину брось.
Меня тоже. Уходить будешь через поселок, до него часа полтора пешком, к свету дойдешь, дождешься рейсового… Деньги… Не забудь деньги… Оружие не бери…
Оно станет помехой.
Маэстро не раскрывал глаз, и Але показалось, что он уже бредит.
— Ты не волнуйся, миленький… Мы сейчас поедем… Я договорюсь в больнице… Мы выходим тебя… Я сумею договориться… Ты не сомневайся, я так вытащила Гончарова тогда, помнишь?..
— Погаси свет, я хочу посмотреть на звезды.
— Свет? Какой свет?
— В салоне. Захлопни дверцы.
— Ага. — Аля энергично кивнула. Ей удалось вытащить Маэстро из машины; теперь он полулежал, прислонившись спиной к дверце автомобиля.
Маэстро перевел дух, снова повторил:
— Не бойся, погони не будет. Им сейчас не до погони.
— Кто там воевал?
— Люди Глостера и отряд спецназа морской пехоты.
— Откуда они взялись?
Маэстро улыбнулся одними губами:
— Я нашел в одной из сумок мобильник и позвонил.
— Позвонил? Куда?
— Трудно сказать… Я набрал кодовый шифр десятилетней давности…
Введенный на случай "времени "Ч".
— Что такое "время "Ч"?
— Война. Все остальные коды меняются, коды "времени "Ч" меняются тоже, но есть оперативный дежурный, который реагирует на все вызовы по прежним кодам.
— Оперативный дежурный — где?
— Вот этого я не знаю. Или в Генштабе, или в Главном штабе ВМФ, или еще где… Я дал примерные координаты и назвал свой старый кодовый позывной…
— И — что?
— Как, видишь, группа прибыла в течение часа. Спецназ морской пехоты Черноморского флота… По-видимому запросили Космический центр слежения, те подтвердили: на побережье стрельба и взрывы… В войсках стратегического назначения не любят полагаться на догадки, слишком велик риск, тем более, я назвал и мой личный код допуска. Посмотрели по компьютеру — и поверили. Мой код, хоть и устаревший, был кодом высшего допуска.
Маэстро вздохнул, и Аля увидела на его лице довольную улыбку — насколько может быть довольной улыбка у человека с несколькими тяжелыми пулевыми ранениями.
— Что ты им сказал?
— А это уже не важно… Я сумел… Смог… — Маэстро закрыл глаза, и Аля решила, что он потерял сознание, но это было не так: он просто отдыхал от боли.
Ночь была удивительно теплой и звездной. Уже затихли цикады, тьма сгустилась перед рассветом, и Млечный Путь казался осколками Луны, рассыпавшейся в звездную пыль. Сейчас Маэстро смотрел на это мерцание мириад звезд, и казалось, душа его уже тяготится телом, стремится воспарить туда, в этот ясный, мерцающий свет, но какие-то страшные, черные силы держат и держат его на. земле, пытаясь затянуть еще глубже: в бездну…
— Только не говори мне, что я буду жить, — прошептал Маэстро девушке, улыбнулся, добавил вымученно:
— Я устал от жизни. Если то, чем я занимался, можно назвать жизнью… Но хуже другое: жизнь устала от меня. Время теперь такое. — Маэстро замолчал, сглотнул несколько раз, попросил:
— Дай воды.
Он напился из найденной Алей в салоне пластиковой бутылки, закрыл глаза, дыхание его сделалось частым и неровным. Аля вздохнула про себя: ведь каждому из всех живущих на этой планете людей так немного нужно — чтобы его похвалили и чтобы пожалели. Только и всего. А Маэстро… Его так давно никто не жалел, что… Аля чувствовала, как слезы горячо закипели на глазах, как слезинки катятся по щекам, ощущала на губах их солоноватую влагу…
* * *
Маэстро заговорил. Речь его была хриплой, порой сбивчивой, несколько раз зрачки его расширялись так, словно мир вокруг меркнул, становился черным от боли, и тогда он замолкал, пережидая, пережигая эту боль еще большей, той, которая таилась в его душе и которую он выдавливал из себя, будто застарелый нарыв… А потому он говорил и говорил, теряя силы… Аля даже не пыталась остановить его: девушке показалось, он беседует вовсе не с ней и не у нее ищет сочувствия…
— Время умирать, а мне совсем не страшно… Почти… Я так устал, что хочу только одного: чтобы не трогали… Жизнь покатилась совсем не туда, куда хотелось, и вот теперь… Впрочем, это аксиома… Человек, идущий к цели, не только никогда не достигает того, что хотел, но теряет и то, что имел. Иллюзии.
Когда пропадает последняя, человек умирает. Бывает, что иллюзии остаются, и тогда… тогда человек не умирает… Он перестает быть с нами. Он уходит.
Уходит. Ты никогда не задумывалась над тем, что во всех языках кроме слова «смерть» есть слово «уход», обозначающее как бы то же самое, но… другое?
…Когда-то у меня была собака. Нет, щенок, Лаврик. Белый, толстый и несуразный дворняжка… А еще он был глупый и добрый. И по двору-четырехугольнику из шести хрущевских многоэтажек я с ним даже не гулял: он сам бродил, играя с ребятами… Носился взапуски, только лай слышался из разных концов двора, и уши развевались, как белые платки. А потом Лаврик пропал. Я искал его по всем окрестным дворам, улицам, переулкам, искал до ночи, пока уже мама сама не разыскала меня и не увела домой, уверяя, что это кто-то из ребят взял пса к себе поиграть и завтра он непременно найдется.
…Ночью я решил не спать. Решил ждать утра, чтобы не пропустить рассвет, когда можно было бы пойти по приятелям и отыскать пса. Я то представлял, как он будет махать мне хвостом, улыбаться счастливой перемазанной мордой — собаки ведь улыбаются, ты же знаешь… А то — видел, его продрогшего., одинокого, потерянного, слепо тыкающегося в чужие башмаки и туфли, обнюхивающего прохожих у магазинов с той даже не приниженностью, с той виноватой тоской в глазах, какая только и бывает у брошенных собак и детдомовских детей.
…Лаврик нашелся. Его принесли через два дня к нашим дверям убитого, с мотком железы ой проволоки, намотанной вокруг шеи… С перебитыми лапами…
Потом., через много лет, я узнал: увел его один алкаш, хотел продать каким-то. шорникам-ремеслухам на шапку за бутылку, а то и за стакан, . да те, видать, выпивоху послали: мала псинка, не выкроить из нее ни шапки, ни навара. Вот тот алкаш собаку и придушил… А перед тем лапы перебил зачем-то., .. — Маэстро замолчал, невидяще глядя в звездное небо. — Сколько может зла быть в человеке, а? Не поленился принести потом и бросить во дворе, мертвого, там, где полтора десятка детишек плакали о нем в голос… Об алкаше этом я узнал, когда того уже на этой земле не было: укатался… — Маэстро прищурил глаза, прохрипел едва слышно:
— Скоро, знать, увидимся. В аду. Вот тогда я и расплачусь.
Аля вздрогнула: так жесток и хрипл был голос Маэстро, так лихорадочен и сух взгляд его темных глаз, и не было в них ни покаяния, ни раскаяния.
— Ты спросишь, почему я, убийца, вспоминаю перед смертью о собаке, погибшей много-много лет назад?.. Просто… у меня было счастливое детство. Отца я помню, но не очень, он умер, когда я был ребенком, безотцовщина если и тяготила меня, то лишь иногда — завистью к сверстникам… Ну да, у нас было абсолютно счастливое детство как раз потому, что мы этого не понимали и считали, что так и должно быть и так будет всегда… Смерть щенка, да еще такая, — словно накрыла наш дружный двор темной, не для всех заметной сетью-паутинкой… Ну а для меня… Помнишь слова Йозефа Геббельса? «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак». После смерти Лаврика я был лишен и этой возможности… Я боялся… Я боялся, что существо, которое я полюблю, оставит меня… не по моей воле.
А потом… Я рос, и мир вокруг уже не казался радостным, и я помнил всегда об убитом щенке, и смотрел на людей, и видел, что многих, слишком многих не волнует ничто в этой жизни, кроме собственного брюха… А потом я нашел другой мир. Театр. Там бушевали пусть выдуманные, но настоящие страсти, герои были сильны и благородны, дамы — прекрасны и чисты… В этом мире стоило жить.
…Тогда, двадцать пять лет назад, было другое время. Совсем. И то, что теперь норма, тогда… Я поступил в театральное, успешно… Зеленые скверы, по утрам, вместо завтрака, — газировка за копейку, портвейн из горлышка, ликер бенедиктин, который отдавал неведомыми химикалиями… Тогда я влюбился… в девушку изумительной, редкостной красоты… Я не сомневался: если красоте и суждено спасти мир, его спасет именно такая красота!
…Мы репетировали «Гамлета». Моя избранница была Офелией. Я любил ее. Я был в нее влюблен. Я ее боготворил. Но никак не решался подойти, чтобы… Может быть, тебе смешно это слышать, но мне было восемнадцать, и тогда было другое время… А тем вечером, после репетиции… Я видел, как она пошла в пустую аудиторию, и почему-то решил, что пошла она туда намеренно и ждать станет именно меня…
Маэстро улыбнулся горько, и эта улыбка на бледном, будто усыпанном тальком лице, казалась приклеенной.
— Мне ничего от нее не было нужно: просто видеть и любить. Ничего больше.
Это было все, что я хотел ей сказать. А может быть, я и. теперь лукавлю? Скорее всего, да… Я любил ее, я ее желал, я был счастлив и хотел быть с ней… Я хотел рассказать, как я ее люблю, и тогда, я знал, и без того цветной и солнечный мир взорвется таким сиянием, что… Наверное, у меня тогда было слишком много счастья, а я хотел, чтобы счастьем стал весь мир. Глупо. И очень эгоистично по отношению к тем, которые… Но разве юность знает слово «глупо»?
Этот мир принадлежит юным до тех пор, пока… «Веселись, юноша, во все дни юности твоей, пока не призвали тебя на суд…» — Лицо Маэстро скривилось в горькой улыбке. — Я ждал сияния. Так могло бы быть. Но все вышло по-другому. Как в жизни.
…Я шел к аудитории тихо, словно боялся потревожить мечту… Получалось, что я крался. А когда приотворил дверь, сразу увидел ее… Она стояла на коленях перед мастером курса, нашим златоустом, знаменитостью, импозантным, упитанным господинчиком, и ее голова в короне золотых волос ритмично двигалась…
Наверное, я сразу понял, что там происходит, но не сразу поверил… А жирный седовласый сатир развалившись сидел на стуле, как языческий божок, будто принимая поклонение низшего существа… Должное и успевшее наскучить подношение ему, идолу, кумиру… Тяжелые брыли на упитанном лице плавно тряслись, толстые, чувственные губы были влажны и напоминали двух красных мокрых улиток… Он поглаживал старательную красавицу по волосам, что-то выговаривая хорошо поставленным баритоном, от благородных обертонов которого млели все бальзаковские дамы в тысячах кинотеатров страны… Губы божка кривились в судороге наслаждения и — недовольства; он прихватил девчонку за волосы, повернул так, чтобы видеть ее глаза, что-то сказал ей-и захохотал! Смеялся довольный собой, и хрестоматийный лик штатного благородного отца или оскорбленного трагика казался мне жуткой, скабрезной лубочной маской… Что еще?.. Это смешно, но он еще и покуривал. Неспешно так себе слюнявил дорогущую, бывшую тогда исключительной редкостью американскую сигарету «Мальборо», и ароматный дым другой жизни был слышен в пустом, гулком коридоре, где я замер гостиничным вором, беспризорной дворнягой, никому не нужным паяцем, уже вычеркнутым из этой жизни…
Я был раздавлен. Уничтожен. Растоптан. Наверное, я хотел убить этого человека, ведь я ему верил… Как верил и в то, что искусство… Как он говорил?.. «В искусстве нет места фальши и лжи. Там прибежище гения, истины и Бога». Наверное, это действительно так, вот только «гением, истиной и Богом» наш раскормленный сибарит считал себя. Наверное, я хотел убить его. Но тогда я еще не умел убивать. Я просто ушел из той жизни. В другую. В ту, из которой возврата уже нет.
— Ты говоришь о взрослости?
— Нет. О войне.
Глава 66
Маэстро прикрыл глаза, а когда начал говорить, было видно, с каким трудом ему даются слова.
— Война уродлива. Но парадокс в том, что и тогда, и сейчас пропаганда окружала ее ореолом геройства, удачливости, славы… С таким же успехом ореолом славы можно окружить и чуму. Гнойные язвы, кровавые, в сгустках… И кровь горлом, и скорая смерть — только тем, кому повезло… Война похожа на наркотик: безумная эйфория и долгая, пожизненная мука… Когда с тебя словно живьем сдирают кожу, и терпишь это только потому, что хочешь выжить… А чтобы выжить на войне, необходимо одно: поверить, что твоя жизнь значит куда меньше, чем твое назначение. Барс знал это. А я… — Маэстро вздохнул, дыхание его было сиплым и тяжким, кровь запузырилась розово на губах, он закашлялся было, кое-как, в полвздоха перевел дыхание. — И все же… Тогда для нас, пацанов семидесятых, война была навсегда канувшим прошлым, прошлым пусть страшным, но героическим. — Маэстро пошарил рукой вдоль туловища, попросил:
— Аля, прикури мне сигарету.
Пожалуйста.
Девушка только кивнула, чиркнула кремнем зажигалки, затянулась сама несколько раз. Маэстро прикусил фильтр зубами, и Аля видела, что зубы у него тоже розовые от крови.
— Сейчас… американцы успели наснимать сотни, тысячи фильмов, где статисты-супермены пачками кладут статистов-неудачников… И тем — наплодили целое поколение, для которых убийство — символ удачи, простое движение пальца на спусковом крючке, при которым ты не убийца, ты просто устраняешь препятствие. И реальная война, погребенная под километрами целлулоидной пленки, уже подрумянена и подкрашена, и ее трупный оскал публика все чаще принимает за победную ухмылку хозяина жизни… Как бы не так! Разлагающийся, гниющий труп, который жрут мухи и чьи внутренности выклевывают вонючие, неопрятные птицы с голыми головами, — вот лицо войны, настоящее, уродливое и паскудное, какое и бывает у смерти.
Маэстро выплюнул сгоревший до фильтра окурок, снова показал на пачку, попросил Алю взглядом. Девушка при курила, вставила зажженную сигарету ему между губами; Маэстро затянулся раз, другой, третий… Пока резкий, как шквал, приступ кашля не заставил его согнуться пополам, сплевывая кровавую мокроту.
— Маэстро, пожалуйста, — не выдержала Аля, — тебе нельзя курить, у тебя пуля в легком…
— Не беспокойся, девочка. Сейчас уже нет ничего в этой жизни, что мне было бы нельзя. Странное ощущение, надо тебе признаться.:. Может быть, это и есть полная свобода?.. Тогда я просто везучий, а? — Он подмигнул Але, но она только опустила голову, чтобы Маэстро не смог увидеть ее слез.
— Сначала мне везло. Я отнесся к войне как к сцене. Я не принял ее всерьез. Да и… Полтора года службы в разведбате спецназа ВДВ… Я желал быть первым — и стал им. Афган был потом.
Маэстро отдышался, попил воды из бутылки, заговорил снова, теперь уже не открывая глаз:
— Говорят, для того, чтобы убить человека, нужно преодолеть барьер…
Наверное. Но не на войне. И не тогда, когда тебе едва минуло восемнадцать. Когда ты совершенен, любим Богом и людьми и тем — бессмертен! Когда единственной твоей серьезной печалью является то, что мир пока не разглядел, как ты блестящ и как гениален!
А барьер… Его нельзя преодолеть никогда! Можно просто перестать ощущать каких-то людей равными себе — вот и все преодоление, и вся премудрость! Не станем же мы сетовать по поводу того, что прихлопнули комара? Муху? Моль? Тем более, чаще всего другого способа выжить, кроме как убить врага, у тебя нет.
Истина в том, что на войне убийство становится просто работой. Только и всего.
Но… беда не в этом. Беда в том, что на войне, как и везде, убивают просто так.
Для удовольствия или по глупости. Потому что кто-то другой считается «чужим» и «врагом». Так было и так будет. А жаль.
…А потом они приходят в твои сны. Приходят почему-то не солдатами, не воинами, приходят маленькими беспомощными детьми… И — молчат. Ничего не говорят, ни в чем тебя не обвиняют, и ты начинаешь думать… Ну да, ты убил не только тех, в стеганых ватных халатах, в широких шальварах, в пятнистом камуфляже, ты убил детей… Неродившихся детей. Так сходят с ума. Или просто остаются там, на войне: война, как и чума, редко отпускает свои жертвы.
…А первого я не видел. Но я знаю, что я его убил. Я убил его из засады, когда мы несли боевое охранение. Шел их караван. Далеко, очень далеко, стрелять не имело никакого смысла. Но мой напарник «купил» меня на «слабо». У нас была винтовка безо всякой оптики, и все же я решился: помню, как вжимал приклад в плечо, как выравнивал дыхание, как ловил далекую, едва видимую фигурку на мушку в прорези прицела, а она — расплывалась, и я был уверен, что не смогу попасть, и упорствовал, и задержал дыхание, и взял упреждение, и повел спусковой крючок плавно, стараясь угадать между ударами сердца… Выстрел хлестнул кнутом, далекая фигурка словно запнулась разом и ткнулась в землю, будто перекинутый на дверце крючок… А я — ничего не ощущал, слышал только слова напарника, что-то вроде: «А ты, братка, не трепло…» Мне даже напиться тогда не удалось. Я пытался перебить, разогнать вязкую горечь, засевшую в сердце тупою занозой, но анаша не помогала, только башка кружилась с непривычки, а я продолжал смолить уже третий долбан, пока не вывернуло наизнанку, пока не превратился в бесчувственное бревно… Под утро я уснул, уснул с тяжелой, будто чугунной башкой, ничего не чувствуя и ничего не желая.
Вот первого убитого в рукопашке я запомнил хорошо. И его белые глаза… И раззявленный рот… Он нарвался на меня случайно, выскочил из-за дувала, только успел ухватить рукоять ножа, закричать… А я с маху вогнал ему штык-нож в сердце, пробив грудину. Выдернул, крови на лезвии почти не осталось, но я автоматически отер лезвие о его халат — и побежал дальше. Впереди была работа.
Много работы. Так много, что я почти забыл о нем, помнил только побелевшие от ужаса глаза и кулак, намертво вцепившийся в рукоять ножа… Я даже орнамент на этой рукояти помню. А вот его самого — нет. И-не хочу вспоминать. Впрочем, с этим, вторым, было много легче: мы вернулись без потерь, с двумя легкоранеными, а вечером было много водки. Водка нужна, чтобы ты мог справиться с памятью.
…Сначала война кажется игрой. Обычной детской игрой в войнушку. И так продолжается долго. И в разведбате под Рязанью. И пока чахнешь в лагере в Таджикистане, когда рвота и понос от теплой тухлой воды, мутной от грязи и розовато-приторной от марганцовки, становятся привычными, когда трясешься и деревенеешь от ночного холода, дуреешь от дрянной анаши, пыли, опостылевших дынь, змей и прочего, что еще несколько дней назад казалось экзотикой… И вот — первые двое заболевших увезены, скрюченные желтухой, и ты думаешь про них «не повезло», не понимая еще, что им-то как раз повезло, повезло отчаянно, что пацаны эти остались по эту сторону границы, по эту сторону водораздела, по эту сторону жизни, и не важно, выжили те, что попали под афганское небо, или нет, никто из них не остался прежним. Никто.
…Так продолжается, пока следуешь с караваном, где «брони» больше, чем «мяса»: покой и благолепие. Война для тебя еще не началась. Это только в американских фильмах про Вьетнам гробы везут навстречу новобранцам; у нас тогда, в первые год-два, невзирая на потери, сохраняли мину «мирной помощи братскому народу», и тайны все были не от чужих — от своих… Но и это не важно: ничего не значат чужой «цинк» и чужая смерть, когда тебе девятнадцать, когда ты молод, когда ты бросил любовь и выдуманный мир, чтобы что-то доказать… Ты находишь для себя другую сцену только для того, чтобы блистать. Блистать, и ничего более!
И в свою смерть я не верил, как не верят в душу и ее бессмертие правоверные атеисты: истово и беспрекословно! И пока не верил — был бессмертен! Бессмертен!
…А бессмертие на войне — до первого боя. Как и вера в нее. Судьба берегла меня долго. Когда отправляли «цинк» в соседних подразделениях, это не задевало ни ума, ни сердца. Наши же стояли на постах вдоль шоссе, как на курортах: кашеварили, спали… Или «духи» на тот час дали нам отсрочку, или кто-то сильный, куда выше гор, решил: пусть побудут в горах людьми, не склоняющими головы… Ведь горы красивы, если с них не стреляют. Удивительно красивы. В Афгане — старые горы, нет там снежных шапок, тысячелетних ледников, закутанных в облака седых вершин Но… все равно красиво: коричневые, как охра с прозолотью, горы и — синее-синее, как синее море, глубокое, бесконечное небо… И предвечерний надвигающийся холод, и мрак тени — в тех горах не бывает полутонов, и оседающая, крашенная заходящим солнцем пыль после того, как проедет раскрашенный аляповатый местный автобус… И вот уже ночь, студеная, непроглядная, пугающая и еще — чужая, совсем чужая… И даже не жуть в ней, в той ночи, а неотвязная, как зубная ломота, тоска — нудотная, тянущая, пульсирующая порой остро, до жути. Кажется, что ночь эта не кончится никогда, и никогда не увидишь белого света… И жмешь тогда гашетку ногой, и пулемет пляшет, как бешеный, высылая в черно-фиолетовую пустоту неба, в сутулые силуэты ближних гор оранжево-желтые всполохи трасс, заставляя расцветать склоны разрывами… Твое бессмертие на войне длится до первого боя. До первой потери. И не важно, с чьей она стороны.
…Того афганца убило в ночном бою. Осколком мины раскроило живот, сверху донизу, и мучиться бы ему суток трое с такой гнусной раной, да Аллах помог: другой малюсенький осколочек ткнул тихонько в висок и тем отправил правоверную душу в ихний рай. А бренное тело осталось лежать на взгорке, на ничейной, всеми простреливаемой земле. «Духи», как у них водилось, обобрали покойника догола и так и бросили. Не его одного, еще двое убитых осталось, только этот — будто на сцене лежал, с вывернутым животом… Потом рассвело. Потом появились мухи.
Жирная копошащаяся черная масса насекомых, блестя перламутровыми пузцами, облепила труп. Она двигалась, как единый организм, тяжелела, насыщаясь… Потом прилетели черные медленные птицы. Они спускались к раздувшемуся за полдня бесформенному почерневшему трупу, вырывали черные же куски мяса, вздымая вокруг, будто назойливый тяжкий дым, стаи ленных от сытости мух, отлетали, мотая плешивыми головами, разрывали и сглатывали куски, возвращались к трупу…
Хлопанье их крыльев, противный, визгливый клекот, каким они словно переругивались, как крикливые тетки неведомо какой национальности на всеплеменном базаре, и зудение перламутровых мух-трупоедов — все это было и видно, и слышно на блокпосту, и я до боли зажимал уши ладонями, уткнувшись взглядом в коричнево-серую пыль под ногами… Ни есть, ни пить я не мог уже несколько дней, даже перестал ждать, когда нас сменят; и каждый раз, когда вспоминал о лежащем там, на склоне, судорога сводила пустой желудок острой режущей болью, я хватался за живот руками, и тогда высокий, визгливый клекот птиц бил по перепонкам, и я падал на землю, подтянув колени к подбородку и снова зажав уши так, будто стремился раздавить, расплющить собственную голову.
…А потом был сладковатый дым анаши. И мир становился тупым и серым. И долго, очень долго оставался таким, чтобы к ночи превратиться в туманное забытье, похожее на раннюю московскую осень, прозрачно-дождливую, с ясным небом, с прохладой продуваемой всеми ветрами березовой рощицы на взгорке, с золотыми монетками листьев, с запахом прелой земли и близкого скорого снега… Утром приехали двое сержантов-"дедков". Уж такое было их «негритянское счастье» — сразу после двухмесячной учебки попасть в Афган, прослужить здесь все два года срочной и стать тем, чем стали, — волками этих гор! Первое, что они сделали, это обматерили нашего лейтенантика, потом один из них подошел к пулемету, прицелился и… Крупнокалиберные пули в полминуты превратили разлагающийся труп на склоне в ничто, в пыль. Черные птицы взлетели, заклекотали недовольно, но кружить над блокпостом не стали — тихо и медленно отвалили за гору и исчезли.
Такой была первая смерть, которую я видел на войне близко. С тех пор она не сделалась краше.
Маэстро теперь уже сам выудил из пачки сигарету, чиркнул кремнем, аккуратно прикрыв огонек ладонью, затянулся несколько раз кряду, не выпуская фильтр из губ. Судя по тому, как дрожали его руки, все эти манипуляции стоили ему усилий и боли, но выглядеть слабым он не желал. Затушил сигарету одним движением, произнес едва слышно:
— Мы все, девочка, ты слышишь, все состоим из таких жутких, больных воспоминаний… Но загоняем их далеко-далеко, потому что и жить с ними невмоготу, и умереть без них просто. Вот мы и наваливаем сверху всякий хлам: ненужные сплетни, глупые сериальные переживания, нелепые обиды и ссоры — и таскаем их в усталой памяти беспрестанно, как короб на костлявой спине… Лишь бы не помнить того, что смертны. — Он вздохнул тяжело, воздух с сипением выходил из легких. — К чему я тебе это говорю, девочка? Не повторяй моих ошибок; на войне не скроешься от жизни, как не спрячешься от нее в нудной и монотонной серости будней. Не забывай об этом, девочка… Будь мудрой. Живи.
Глава 67
Аля вздрогнула. Ей стало не по себе, но и какие-то слова утешения или ободрения, обращенные к Маэстро, показались сейчас совершенно неуместными и лживыми.
— Ты не думай, девочка, я не сдался. Просто… я слишком хорошо знаю, что со мной. И сколько мне осталось. Я так часто видел смерть, что не могу сейчас ее не узнать… Помнишь у Есенина? «Черный человек на постель мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь…» Или у Гумилева? «И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувши в густом плюще…»
Когда-то я очень хотел сыграть Гамлета… Теперь… Зажги мне, пожалуйста, еще сигарету… У меня деревенеют руки, — Маэстро… извини… Мне нужно спросить… Аля чувствовала, как сердце ее словно падает в бездну; слезы застилали глаза, степь была темной и безмолвной, ночь превращалась в сумерки, растворяя в себе все сущее, и лишь где-то там, вдалеке, угадывалось море, и было слышно его тихое, сонное дыхание, его мощь, его спокойная леность… Море было живое. И все же — сердце продолжало трепетать, словно над бездной: окружающий мир был слишком похож на мираж, на фантастическую декорацию, и Але вдруг показалось, что и она и Маэстро участвуют в очередном акте пьесы, прописанной незаурядным, но безжалостным гением.
Впрочем… Каждый гений безжалостен уже потому, что правдив. Аля знала это. И все же, все же…
— Влад… Но ты же не умрешь, правда?..
— «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет…» — попытался шутить Маэстро, но кровавая пена снова запузырилась на губах… Слова давались ему с трудом: лицо сделалось даже не серым — восковым, как посмертная маска; он прошептал одними губами:
— Я не смог стать Моцартом, и душа моя пропадет со мною, вот в чем беда.
— Маэстро, это не так, это просто гордыня… Подожди… Ведь ты не можешь умереть! Ты же не умер тогда, на берегу! У тебя же… договор со смертью!
— Договор со смертью? — Лицо Маэстро исказилось. — Никто не знает о смерти больше, чем я. Может быть, только Лир… Нельзя договориться с тем, чего нет.
Смерть — это дьявол, ложь, нежить. Нельзя договориться с сатаной, ибо сам договор будет ложью.
— Но ведь я даже читала, что… были люди, которые…
— Они все умерли. «Итак, слушайте слово Господне… правители народа сего… Так как вы говорите: „мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, — потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя“. Посему, так говорит Господь Бог: …И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит».
Девушка только замотала головой:
— Я ничего не поняла!
— Смерть, как и зло, существует только по воле творящих ее смертных, будь то люди или бесы.
Аля чувствовала, как сердце снова будто летит в пропасть… Все смешалось: безлюдная и кажущаяся бескрайней степь, пространство, пронизанное меркнущим звездным светом и запахами полыни, недавний ужас и азарт, жажда. желание выжить… И — Маэстро, умирающий от ран и от нежелания существовать дальше в этом мире… Как это может быть?.. Как может человек, видящий в любом предмете возможное оружие, а в любом человеке — врага, как он может подниматься до высот размышлений о жизненных смыслах?.. Ну да, именно это было странным и непостижимым и пугало: Маэстро жил в этом окружающем жестоком мире, более жестоком к нему самому, чем ко многим, но не только в нем… Он жил и в другом мире, в том, что казался девушке вымышленным, жил совершенно органично, словно родился именно там; миры переплетались в нем, и пользовался он понятиями каждого мира столь естественно, что девушке вдруг почудилось… Может быть, оба эти мира реальны абсолютно, нет, не только для Маэстро, но и для всех людей, только люди не желают этого знать, потому что признать тот, другой мир, слишком тяжко, это все равно что признать приговор своей никчемной жизни, полной пустопорожней болтовни, тщеславия, суесловия, злобствования, зависти, немощи и скорби… Проще — не замечать ничего и ничто не признавать… Почему все так? Бог знает.
— Маэстро… А как же душа? Душа бессмертна?..
— Бог милостив.
Маэстро замолчал. Горло его вдруг сковал жестокий спазм, лицо сделалось серым, глаза закатились, губы дрожали; тело скрутило, он извивался по земле, как выброшенный на раскаленный песок морской угорь, дрожал, хрипел, царапал ногтями шею, словно пытаясь сбросить несуществующую удавку… Когда он размыкал ресницы, глаза блестели горячечным блеском, а все тело напряглось, изо рта, вместе с розовой кровавой пеной, рвался крик, Маэстро кусал губы, но стон этот прорывался, снова и снова…
— Влад, пожалуйста, не умирай… — Аля приникла к нему всем телом, прижала к земле, пытаясь сдержать судороги, и почувствовала, как оно обмякло, и услышала слова молитвы, и вспомнила, как похожую читала над нею бабушка Маня давно-давно, в детстве, когда она…
— Пресвятая Владычице Богородица… Отведи уныние, забвение, неразумие… и вся скверныя и лукавыя помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума… и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен… и избави меня от многих лютых воспоминаний и от действ злых освободи… — Голос Влада становился тише и глуше, пока не сделался легким и почти неслышным, как дыхание.
— Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного… — это было последнее, что услышала девушка.
Маэстро замолчал, Аля почувствовала, как расслабилось его тело, и в душе ощутила почему-то невероятное облегчение. Она чуть отстранилась, постаралась улыбнуться:
— Ну, вот видишь, Влад, приступ прошел, и теперь…
Маэстро глядел тускнеющими зрачками в дальнюю даль Млечного Пути; лицо его было умиротворенным и уже нездешним.
Все, что произошло дальше, Аля ощущала как во сне. И то, как найденной в машине саперной лопаткой рыла неглубокую яму, и то, как обкладывала уже засыпанную могилу камнями, собранными вокруг, и то, как бесчувственно и молчаливо сидела, усталая и опустошенная. Не было ни мыслей, ни слез, ничего.
Вспоминала и то, как ехала до окраины поселка на этом громадном чужом автомобиле, как толкалась по рынку, невидяще вглядываясь в людей и товары, как села в какой-то автобус, который ехал и ехал весь день, а сердобольная соседка пыталась накормить ее хлебом и самодельной колбасой. Она даже не помнила — ела или отказывалась… Спала она в автобусе или нет, и куда она ехала, и о чем были сны, и были ли они вообще… Ничего этого Аля потом вспомнить не сумела.
Очнулась от спасительного морока она лишь ранним утром и поняла, что ехала всю ночь и что это Княжинск, и, сойдя с автобуса, почувствовала спиной свежую прохладу, а под ногами еще мокрый, чисто вымытый асфальт, и дневная сутолока еще не захватила миллионный город, но транспорт уже пошел, и вскоре Аля была уже перед своей дверью и открыла ее взятым у соседки ключом, — та еще посетовала на худобу девушки… И, постояв десять минут под горячими струями душа, упала в свою постель, свернулась калачиком и, засыпая, чувствовала, как слезы горячо греют шеку, и, когда теплые грезы, похожие на желтое, наполненное золотистыми колосьями поле, уже уводили ее в сон. она вспомнила…
«Будь мудрой, девочка… Живи».
Часть двенадцатая ОБРЕТЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Глава 68
Порой все, что у нас остается, это наши сны. Сон, повторяющийся из ночи в ночь, душный, монотонный, наваливался на Алю каждую ночь тяжкой ватной стеной.
Она металась в этой смертной духоте, пока лоб и щеки не обдавал пронизывающий до костей ветер. Ей казалось, будто она карабкается по почти отвесной ледяной стене, и острые иглы льда впиваются в ладони, и дыхания не хватает, а небо, бывшее несколько минут назад ослепительно синим, заволакивает сначала белесая, потом сероватая, а потом и грязно-лилового цвета дымка: дымка ползла, закрывая уже собою полнеба, превращаясь в наполненную грозными грозовыми разрядами тучу, и из нее неслись снежные, с ледяными шариками градин, вихрящиеся смерчи… А руки девушки уже немели, замерзшие пальцы становились почему-то красными и хрупкими, как кораллы, и казались такими же ломкими… И страх падения становился реальным, как тот самый снежный вихрь, и девушка ждала падения и того, как жестокий удар исковеркает ее тело, превратит в мятую бесформенную груду, сделает похожей на старую тряпичную куклу с разбитым фарфоровым личиком.
А потом снился какой-то заброшенный барский дом с прогнившими, когда-то крашенными рыжей краской половицами, с облупившимися изразцовыми печами, с запущенным, одичалым двором, заросшим крапивой и бузиной по самые окна, с оборванными обоями, с истлевшим тюлем на рассохшемся фортепиано… Когда девушка коснулась клавиш, басовая струна загудела сипло, и надтреснутый звук длился и длился и плыл по комнатам этого выстуженного сырого дома, казалось и жилищем никогда не бывавшего… А вокруг уже стелился горький дым, впитавший в себя запахи прели, плесени и скверно горящих старых газет, и девушка знала: это в соседней комнате два завшивленных бомжа с гнилыми сколами зубов под красными воспаленными губами жгут костер, но вовсе не для того, чтобы согреться… Лица бродяг были скрыты неопрятными черными бородами, как у русских мужиков, какими их показывают в голливудских фильмах, и наружность бродяг походила на цыганскую, а потому казалась ненастоящей, гротескной, диковинной и дикой.
Костер они жгли прямо на полу; огонь занимался скверно, желто-сизое пламя жгутом вихрилось по плотным и сырым ворохам тех самых старых газет, заплесневелых книг, выцветших биографий никому уже теперь не ведомых вождей…
Снимки на желто-черной, изъеденной плесенью до черноты газетной бумаге тлели медленно, сопротивляясь язычкам пламени, дымили, искажая лица, превращая изображенных на них людей в обитателей преисподней… Железные наркомы и пламенные комиссары сгорали, не оставляя по себе ничего, кроме пепла. И Але становилось жутковато и горько до полной безнадеги: людская жизнь представилась вдруг колесом, катящимся по унылому проселку без цели, без смысла, без любви. Ей казалось, что и новый век, и новое тысячелетие могут принести лишь новые страдания: человечество становится дряхлее, но это совсем не то же, что мудрость.
Девушка хотела бежать из этого выстуженного, холодного дома — и не могла найти выхода, и ей становилось страшно, что теперь придется жить здесь всегда, до самой смерти… Там, за лесом, возведут бараки, где будут обитать строители узкоколейки — длинной, идущей через всю обитаемую сушу и упирающейся двумя полосками стали в студеный океан… А внизу, под многокилометровой толщей земли, в узких штольнях шахт чумазые и худые люди, похожие на чумные призраки, будут гнать и гнать составы вагонеток с урановой рудой туда, за колючую проволоку, где из нее изготовят плутоний и начинят им ядерные ракеты… Плутон — так называли римляне владыку царства мертвых. Plutos — так именовали они богатство. Или они правы? И мирское богатство может быть лишь не праведным и взрастать только на крови и смерти?.. И люди незаурядные в конечном счете ничего не стоят, они лишь питают своим умом и талантом смерть, и земные монархи нужны коварному царю подземелья лишь затем, чтобы бросать в топку новые и новые жизни… А потому и их посмертное существование — лишь гнилой газетный глянец, превращающийся в прах под желтыми языками пламени преисподней.
Кто из земных властителей владетельной «принца тьмы»?.. Ему платят дань все: пастухи и землепашцы, нищие и короли, храбрецы и подонки, мудрецы и невежды, пророки и прелюбодеи… А молчаливый Харон перевозит и перевозит смертных на ту сторону Леты, принимая в оплату мелочь, все, называвшееся некогда жизнью: разменную монету, истертую, с прозеленью, медь, на которой уже не разобрать ни царственных профилей земных владык, ни цены, ни достоинства. Воды забвения покрывают все. Девушке даже чудилось, что она видит эту реку: вода в ней была черной, густой, маслянисто-вязкой, как нефть или ртуть.
Аля в панике пыталась бежать от страшной реки и снова оказывалась в ничейном заброшенном особняке, где, кроме запаха тлена и плесени, кроме пронизывающей сырости и липкого, затхлого, пропитавшего все и вся страха, не было ничего.
…Такие были теперь Алины сны. И пробуждение было смутным, нервным, больным. Обрывки сна-бреда висели в усталой памяти клочьями грязного малярийного тумана… Сначала Аля подолгу смотрела в низкий потолок, даже не пытаясь понять, где находится: просто лежала и смотрела, будто боясь вступить в новый день, такой же больной и бесконечный, как и предыдущие. Но и сны… Аля давно уже стала бояться спать. Хуже было другое: она боялась жить. Сущей мукою стало для нее куда-то выходить, но и дома оставаться было невмоготу. Да и то, где она теперь жила, вовсе не было ее домом. Так, пристанище.
Из Княжинска она уехала почти полгода назад. Потому что больше не могла там находиться.
Олег Гончаров пропал. Вернее, ей удалось узнать, что он арестован в Германии по подозрению в контрабанде антиквариата. Ну а поскольку в антиквариате он разбирался, как коза в тригонометрии, Аля не сомневалась, что Олега подставили. Причем те, кто фабриковал дело, так торопились, что даже не потрудились разработать более правдоподобную легенду якобы совершенного Гончаровым преступления. Боялись, что он успеет вмешаться в южные разборки?
Тогда почему его просто не застрелили? Этого Аля не знала, да и сетовать было бы глупо. Не менее глупо было и лететь к нему в Германию: ничем она помочь не могла, сослуживцы Олега поручили дело грамотному адвокату, а один из них выразился предельно просто:
— По нашим теперешним делам так подставлять Гончарова никто бы не стал, да и не смог бы. Наверное, все дело в его прошлом. — Сказал, пристально посмотрел на Алю, столь пристально, что ее так и подмывало добавить: «Или в моем настоящем». Но — смолчала. А сослуживец тем временем добавил:
— В любом случае вызволять его из узилища мы не торопимся.
— Почему? — спросила Аля даже не по наивности, по инерции.
— В немецкой тюрьме убрать человека куда сложнее, чем у нас на воле.
— «Убрать» — в смысле «убить»? Молодой сотрудник только кивнул.
— Мы хотим прежде разобраться в причинах. Аля снова не нашлась что ответить. Она шла домой как в воду опущенная. Вялая мысль о том, что вот ее-то как раз убрать не составит никакого труда, не вызвала у девушки ни паники, ни даже особой тревоги: ее естество словно загодя смирилось со всем страшным, что могло произойти с нею в ближайшем будущем.
Дома она тихо и монотонно слонялась по комнатам, пила кофе, пыталась читать… Аля чувствовала себя бездушным тряпичным манекеном, и лишь назойливая мысль о самоубийстве как о надежном средстве против затянувшегося кошмара бытия казалась ей спасительной и была не просто мыслью, а самой человеческой из всех эмоций в эти две с небольшим недели.
Все закончилось ранним сентябрьским утром. Еще не забрезжил рассвет, как длинный, требовательный звонок в дверь расколол сумрак квартиры. Аля не вполне освободилась от пут своего всегдашнего безумного сна, когда увидела себя в зеркале в прихожей. Сумасшедшая девица в короткой ночнушке с выхваченным из-под подушки пистолетом, который она сжимала так, что побелели костяшки пальцев. Ни о чем не думая и ничего не решая, а только желая избавиться от дикого, непрекращающегося, назойливого звона, она щелкнула задвижкой и отступила на шаг от двери.
Дверь медленно отворилась. Мужик лет шестидесяти — в кургузом пиджачишке, пузырящихся на коленках брюках и сношенных штиблетах — двинул в прихожую, «уперев рога в землю» и вмиг заполнив узкое пространство стойким запахом перегара. Он утробно урчал что-то невразумительное, потом взгляд его уперся в Алины коленки; мужик разом поднял всклокоченную голову и произнес озадаченно:
— О-о-о!
Аля узнала соседа, Константина Иваныча, живущего этажом ниже, и только тогда ощутила, что с силой жмет на спусковой крючок. Охваченная страхом, она почему-то не сдвинула флажок предохранителя, и только это спасло загулявшего отца семейства от гибели.
— О-о-о?! — снова повторил Константин Иваныч. Направленный ствол не произвел на него никакого впечатления; он икнул, обвел взглядом прихожую, с полминуты изумленно таращился на полураздетую девушку, снова икнул, выдавил нечленораздельное извинение, кое-как развернулся, уткой покачиваясь, окинул девушку прощальным взглядом, вздохнул горько, ссутулился и, пошатываясь, побрел по ступенькам вниз.
Аля притворила дверь и даже не опустилась — сползла по стенке на пол.
Судорога пробежала по рукам до самых кончиков пальцев. Она-то понимала: ни в чем не повинного выпивоху — не застрелила только чудом! Внутреннее напряжение, что копилось в ней, застилало теперь мир колеблющейся пеленой, но слез не было: девушка просто сидела и подвывала по-волчьи. Из Княжинска она уехала тем же вечером. Это было настоящим бегством.
Подмосковный городок Чудовск, где она нашла убежище, был тих, покоен и умиротворен. Нет, наверное, были здесь и свои «цезари», и свои «бруты», но ее это не касалось совершенно. Она и вышла-то на неприметной станции как раз потому, что никто бы и не подумал ее здесь искать. Ничто не связывало Алю с этим местом, для нее это был случайный город, точка на том материке, каким является Россия.
Домик, где она сняла комнату, она тоже разыскала по наитию: ей понравился полный желтых осенних цветов палисад, запах антоновских яблок, ходики, уютно стучащие в гостиной комнате… Да и хозяйка, Оксана Петровна, окликнула ее сама, когда Аля почти бесцельно брела по тихой, полной опадающих листьев улочке незнакомого города.
— Ищешь кого-то, девонька? — спросила хозяйка, оторвавших от цветочных клумб, присмотрелась к Алиному лицу, добавила:
— Или бежишь от кого-то?
— От себя, — не задумываясь ответила Аля. Разговорились. Да что разговорились — говорила хозяйка, заметив в девушке и неустроенность, и метания… Предположила измену мужа — Аля опровергать ее не стала. Девушка первая спросила комнату или Оксана Федоровна предложила сама — теперь было не вспомнить, а только у нее Аля и остановилась. В первый вечер она засыпала, напившись чаю с пирогами, а в глазах стояли слезы от тоски по собственному дому и спокойному уюту, и еще всплыла странная фраза, слышанная то ли от Олега Гончарова, то ли от Маэстро: «случайный контакт». Здесь ее не найдут.
Не найдут. Не найдут. Слова стучали, словно поездные колеса на стыках, а ей и снился поезд, несущийся невесть к каким берегам сквозь туманную снежную мглу.
Глава 69
Аля посмотрела в окно. Липкое марево, лишь по недоразумению сохранившее название «зима». И оттепелью назвать эту унылую непогодь трудно… Странно…
Сейчас ей казалось, что лета не было совсем, что зима длится вечно и никогда не кончится. И эта слезливая сырость не кончится ничем хорошим. Девушка вздохнула: везде после такой вот мятой мороси наступает весна и лето, а у нас снова зима.
Дни ее были похожи один на другой, и каждый был мучителен. Сначала, как только она начала жить у Оксаны Петровны, ей казалось, что пройдет неделя-другая и она освободится от своих жутких кошмаров, от всегдашнего теперь страха, и уедет, и что-то предпримет. Но не тут-то было… Аля жила словно в бреду. Осень, сначала яркая и нарядная, скоро превратилась в серую и слякотную непогодь; потом настала зима, погрузившая и этот небольшой дом, и сам город в тихое оцепенение.
Дом Оксаны Петровны: ходики, коврик с лебедями на стене, портреты артистов из журнала «Огонек», вышитые рушники — все это создавало уютную и простую обстановку конца пятидесятых, да и весь этот крохотный, затерянный на заснеженных равнинах страны городок жил словно затаенной, пусть по-своему кропотливой, но тихой жизнью. Комната, что находилась в распоряжении девушки, отдельный вход и кухня — все создавало ощущение уединения и, казалось бы, должно было приносить чувство защищенности, но… тревога росла. И постепенно становилась напряженной и болезненной. Девушку стал пугать любой шум, рев мотора за окном, выхлоп машины, гулкий ночной стук каблуков по заиндевевшей земле, скрип снега под ногами раннего прохожего… Все то, что и составляло обычные звуки маленького городка, казалось Але враждебным, а постепенно и становилось для нее таким.
Потом приходила тревога за Олега. Але представлялось, что его выпустили из немецкой тюрьмы, и он мечется одиноко по ночному городу, полному лишь пустых глазниц чужих окон, и ищет ее, и не может найти… Или" того хуже: ей начинало казаться, что его давно уже нет в живых, и существует он только в ее снах, редких светлых, какие все-таки случались среди обычных кошмаров.
Но потом и это прошло. Постепенно Але стало казаться, что живет она здесь уже тысячу лет, на крохотном острове, состоящем-то всего-навсего из небольшого, полного заснеженных деревьев, палисада, двух-трех улочек — и все… Дальше — пустота. Не было никакой страны и никакого мира; события, о которых рассказывали пустоглазые, словно манекены, телеведущие, война в дальних рубежах, парады кинозвезд за океаном, гавайские пляжи, страдания мыльных киногероев, шутки упитанных комедиантов от политики — все это было виртуально, мнимо и не имело никакого отношения к действительности. А действительностью была улочка, несколько домов, кооператив, где сытно пахло селедкой, колбасой, ржаным хлебом, пряниками и где быстроглазая продавщица Варвара меланхолично обвешивала старушек-покупательниц только затем, чтобы те могли полаяться с нею всласть… А еще — был запах антоновских яблок, чай и болтающийся маятник часов, отсчитывающих неизвестно какое время… Не было в этом мире никакой Москвы, никакого Княжинска, не было Черноморского побережья с древними скалами, не было моря, солнца, облаков, чаек. Ничего не было.
И еще — каждую ночь, во сне, Аля искала квартиру, жилище. И находила наконец, но квартира оказывалась холодной и сырой, похожей на подвал, и тоскливая мэета охватывала девушку еще в полусне, и, проснувшись, она понимала, что то, что она находила, вовсе не было ни для кого жильем… Девушка часто просто боялась спать дальше; она нарочно пыталась вызвать в памяти события лета, пережитым страхом пытаясь вытеснить страх теперешний, может быть, и мнимый, но оттого не менее мучительный. Умом девушка понимала: возможно, Глостер, этот жестокий, больной человек, что-то сломал в ней, ранив и самую душу, но Аля верила, что ранение это не смертельно: Душа оживет, и она снова сможет радоваться.
В таком вот странном оцепенении прошло почти полгода. Или больше полугода.
Вся штука в том, что время в stom месте не значило ничего.
Порою за чаем она совершенно отмякала душой; обычай общего чаепития был заведен в доме Оксаны Петровны давно и с тех пор неукоснительно соблюдался: пусть и муж давно умер, и дети разъехались и писали редко… Постепенно за этими вечерними посиделками Аля рассказала Оксане Петровне всю свою жизнь, и, несмотря на то, что старалась она рассказ свой смягчать, для женщины, проработавшей всю жизнь сельской учительницей, это было дико. Впрочем, собственная жизнь в этих стенах и самой Але виделась странной, словно роман из ненастоящей, вымышленной жизни.
— Что-то, гляжу, извелась ты, Алена, совсем, — вздохнула как-то Оксана Петровна за вечерним чаем. — Вон спала как с лица, одни глазищи и остались, даром что в потемках не светятся, прости Господи.
— Просто я сплю плохо, — ответила Аля.
— А чего так?
Аля пожала плечами:
— Нервы.
— Нервы… — повторила Оксана Петровна. Спросила участливо:
— Твой-то, видать, скрывается?
— Что?
— Да слышала ты, глухарку из себя не строй. Хоронится твой-то, насолил, видать, кому, вот и хоронится. За мужика ты страдаешь. И не возражай, я, чай, не слепая. Ну? Скажи, не права я?
— Права.
— Во-о-т. Ты не гляди, что мы здесь глушь глушью, а телевизор, он ведь везде — окно в мир, — Оксана Петровна вздохнула, — правда, в том окне последние десять лет нам все больше помойки изображают да покойников, прости Господи… К чему я? Какой такой нынче бизнес бывает, мы тоже ведаем, учены. А все же я тебе одно скажу, девонька: счастливая ты.
— Я? Счастливая?
— Ну да. Молодая, здоровая, красивая, и мужика своего любишь. И он тебя, знать, тоже. Скажешь, не так? То-то. Приметливая я. Потому как — жизнь прожила.
Оксана Петровна задумалась о чем-то своем, далеком, подлила себе чаю.
— Ты береги это в себе. Любовь — дар, редкий дар, не всем дается, не всеми хранится… А что времена лихие?.. По правде сказать, я других на веку и не упомню. Просто, знать, у тебя судьба такая — с неспокойствия и горя великого жизнь начать, а потом, глядишь, и образуется все… И достаток придет, и счастье. А беды — перетерпи, перебедуй. Беды — тьфу, о них потом и не помнится, радостное в душе хранится, оттого и живы пока, — Оно будет у нас, это «потом»?
— А как же! Ты надейся. Я в войну пацанкой вроде тебя была, и такое случалось, что вроде и надежды никакой не оставалось ни выжить, ни пожить по-людски… ан и выжила, и замуж пошла, и детей нарожала, и вот двоих внучков Бог дал… — Оксана Петровна вздохнула, перекрестилась. — А то ли грешна в чем, раз одна на старости, то ли Господь так решил: лучше деткам и внукам в Княжинске да в Москве быть, чем здесь, в глуши нашей прозябать… Мне что, я пенсионерка, а молодым здесь совсем не жизнь… Не то чтобы скучно — маетно. Может, и правда, так лучше. А я потерплю. И письма пишут… Я как в церковь хожу, всегда прошу Богородицу: пусть не мне, пусть им… — Оксана Петровна снова вздохнула. — Хотя, как придешь домой, а дома пусто и холодно, и посетуешь — да за что же мне такое, чтоб одной старость мыкать, а потом подумаю… Нет, все же — пусть им.
Любить детишек можно только для них, чтобы им лучше было, да не по твоему велению лучше, а по ихнему разумению да по Божьему умыслу, пусть бы у тебя на сердце и десять кошек скребли… Те, что для себя деток своих любят, и не любят их вовсе — так, игрушки себе завели, чтобы на старости было кем помыкать да изводить хотениями и прихотями вздорными.
Оксана Петровна замолчала, подслеповатые и выцветшие глаза ее вдруг сделались глубокими и темными, как речные полыньи.
— Я так себе думаю, Аленка, может, беды людские как раз оттого, что не знают люди, что такое любовь… А потому и не ведают, что творят… И вместо облегчения любимому человеку — себе, гордости своей потачку творят… Любовь…
И что только этим словом не называют, а на самом деле… Помнишь, как Христос сказал Отцу своему? Не как Мне лучше, а как Тебе… И еще вот что я себе думаю… Люди разучились к добру стремиться, потому как не замечают того добра… Добрые — они кроткие все, тихие, неприметные, а дела их живут после них долго, но как бы сами собой, и редко люди запомнят и поблагодарят хотя бы в душе своей… А злые — они на виду, они роскошь да силу свою сатанинскую выказать, хотят, чтобы как можно больше душ христианских смутить и тем — погубить… И словечко сейчас какое ведь в моду вошло — «крутой»! Не «бедный», не «богатый», не «добрый» — в тех то словах и «беда», и «добро», и «Бог» слышатся, а в этом что, в «крутом»? Неподступность одна, словно утес какой заброшенный и людьми забытый, крутояр жуткий, откос, с которого падать как раз легче легкого — вниз, в преисподнюю.
Оксана Петровна снова передохнула, отхлебнула чаю из блюдечка.
— А твой-то Олег, знать, мужчина сильный?
— Сильный. Вот только добрый он.
— Да ты никак сетуешь? Добрый, значит, не крутой, хороший. И счастлива ты с ним будешь, так что не переживай так уж шибко… Если у него сейчас и нелады какие и нестроение, все образуется… Лишь бы руки не опускал.
— Он не опустит.
— Вот это и ладно. А то ведь как сейчас многие из молодых: чуть какая незадача — поводья бросают, дескать, жизнь сама собою к какому берегу прибьет.
Не будет так-то! Жизнь, если ее самой себе предоставить, черт-те куда заведет! А так и бывает, когда возничий без царя в голове, — вот она, жизнь та, и скачет себе, и пляшет норовистой кобылкой, и несется опрометью, рысью да наметом, очертя голову да не пойми куда — как сквозь туман или дым какой… А там, в тумане, — тот самый крутояр и поджидает, до поры от людей схороненный… Жизнь такая: загордишься, забудешься, залюбуешься собою — шею сломишь начисто, это просто, а править — уже и времени не осталось, все время твое пшиком пустым и вышло.
Аля вздохнула. А тревога все не отпускала, крутила, будто ночная вьюга, будто режущая острыми закраинами льдинок степная пурга, иссекающая в стылой круговерти все живое, и сердце падало в холод, и душа убегала от страха перед высотой. Или — пропастью?
— Что-то ты бледная совсем, девка. Или — дела женские начались?
Аля пробурчала в ответ что-то невразумительное.
— Ну так иди приляг. Чего тут старуху слушать? — Оксана Петровна вздохнула:
— Вот время бежит… Вроде и неспешная жизнь совсем в Чудовске нашем, райцентрик, и всех бед за пять лет — на пять зубов положить и щелкануть, что орешки… Время порой нудотное здесь, встанешь затемно утречком и не знаешь, как до сна дотянуть, — до того и муторно, и долго, и тоска… А как жизнь прожила — и не упомнить. Стерлось все, будто песок под волной. А если и помню что, так как с Васей моим еще в сорок восьмом к морю ездили в санаторий, в Судак-город, что в Крыму… Как вчера все было, я и платьице свое белое в синий цветочек как сейчас вижу, и как Вася был одетый, и ладный какой был… А нету уж ничего. Ничего нету. Только вот ходики на стене все тикают. ; Вот жизнь и прошла. Прошла.
Ладно, Аленка, видать, не у одной тебя сегодня настроение бесовое, прости Господи… — Оксана Петровна перекрестилась, вздохнула:
— Пойдем-ка спать, с Богом. Утро вечера мудренее.
Аля только кивнула, пошла к себе в комнату… Видение было ясным, как при вспышке блица: Олег, ее Олег лежит на снегу, пытаясь подняться, ему это не удается, он барахтается беспомощно, а кругом — никого, только высокие бетонные перекрытия и грязный, в налете копоти и гари, снег… От этой картинки у девушки снова зашлось сердце, а ноги будто подкосились сами собой. Она присела на кровать, чуть прилегла и тут же уснула как убитая. Без сновидений.
Глава 70
Следующим утром будто кто толкнул Алю в плечо: просыпайся! Она посмотрела в окно: было очень светло от выпавшего за ночь снега. А у нее было такое ощущение, будто она очнулась от долгой болезни. К черту Глостера. К дьяволу!
Пусть мертвые погребают своих мертвецов, а она хочет жить — и будет жить! Долго и счастливо! У нее есть любовь, и никто, никто у нее этого не отнимет!
Бодрая и даже самую чуточку взвинченная, Аля быстро позавтракала в махонькой кухоньке. Нужно ехать. Ехать. Но не в Княжинск — в Москву. Разыскать Лира и… Кроме нее никто не знает его настоящего имени; она должна найти Лира — и уничтожить. Раздавить как паука! Иначе он уничтожит и ее саму, и Олега, и тысячи людей, даже тех, что сейчас еще совсем дети: они вырастут и попадут в сотканную этим упырем наркотическую паутину, и в этом будет виновата она, Аля, потому что знала, но не сумела, не смогла, не решилась остановить! С этим она жить не сможет. И отец будет ею недоволен. Аля верила, что и он, и мама смотрят на нее откуда-то сверху и помогают ей невидимо… Но выполнить то, что назначено ей, она должна сама. Потому что никто вместо нее этого не сделает. Никто на всей земле. Никто.
Аля наскоро выпила кофе в одиночестве — Оксана Петровна подрабатывала вахтершей на вязальной фабрике, сутки у нее были рабочие, — быстро оделась и вышла в город. Направилась в самый центр. Ей многое нужно было обдумать, а лучше всего думается при быстрой ходьбе или беге. Полугодовое затворничество подействовало на девушку удручающе: она стала не просто дичиться людей, она сама себе казалась некрасивой, угловатой, неловкой. Но два или три заинтересованных мужских взгляда быстро вернули Але уверенность в себе.
Заснеженный центр районного городка не был похож ни на Париж, ни на Ниццу, но свое очарование в нем было, Чистенькая площадь, чуть в отдалении — горуправа, памятник Ильичу, указывающий на недостижимый коммунизм, не достроенная в прошлом веке и забитая по сей день красного кирпича церковь и, конечно, супермаркет, зазывно мерцающий тонированно-зеркальными стеклами. А Але вдруг захотелось уюта и комфорта, она и нырнула в эту мерцающую нездешней жизнью зеркальность.
Внутри, кроме магазина, оказалось и небольшое чистенькое кафе, превращающееся по вечерам в центр тутошнего благолепия и крутизны. Столики под скатертями, небольшая эстрада, вечнозеленые кучерявые кустарники: все как положено.
Аля присела за столик у окна. Это тоже почти по-европейски: сиди и наблюдай, спокойно потягивая аперитив, за проносящейся за окном жизнью… Вся шутка была лишь в том, что там, за окном, жизнь не проносилась, а тихонечко млела, нежась под мягким свежевыпавшим снежком. Через дорогу бежала умная белая с черным кошка, двое прикинутых пацанков покуривали у блестящего полировкой и никелем «гранд-чероки», пузатый водитель несуетливо протирал и без того сияющие стекла в «Волге» кого-то из городских папаш среднего звена, вдоль улицы неспешно шествовал прямо-таки хрестоматийный батюшка — солидный, в рясе, с окладистой рыжеватой бородой, в темном пальто и цигейковой шапке-пирожке. Не Париж и не Ницца. Ну и слава Богу. Ни там, ни там Аля так и не удосужилась побывать.
— Что будем кушать? — Замерший у Алиного столика официант был скорее похож на трактирного давних времен: статный, спокойный, средних лет мужчина, одетый, правда, не в косоворотку и не во фрачную пару, а, по дневному времени, в свитер и толстые теплые брюки. Он беззастенчиво рассматривал девушку, и Але не составило труда догадаться, что, скорее всего, он и не официант вовсе — кто-то из руководителей заведения, скорее всего мэтр, из любопытства решивший сам обслужить незнакомку. По правде сказать, она, наверное, казалась здесь по-настоящему редкой птицей: столичная барышня, по капризу судьбы отставшая от проходящего курьерского… Если здесь вообще когда-либо останавливались курьерские.
— Ничего, — просто ответила девушка. — Я не голодна. Если можно, бокал муската, десерт и кофе, очень крепкий, большую чашку.
— По-турецки, эспрессо, капучино?
— По-турецки. И пол-ложечки сахара.
Мэтр с достоинством поклонился и пошел выполнять заказ. А Але вдруг стало по-настоящему хорошо: словно не было этого почти полугодового испуганного затворничества, ночных кошмаров, головных болей… Чем-то это заведение напоминало ей… что? Ну да, описанные стариной Хемингуэем харчевни в засыпанных снегом горных альпийских деревушках. Если бы еще камин, и огонь в нем, и запах сосны… Ну нет, это уж слишком.
Зазвучала музыка: давняя, изысканная мелодия Поля Мориа; казалось, мэтру доставляло удовольствие обслуживать девушку. Бокал с мускатом появился на столе незамедлительно. Аля, размечтавшись и заглядевшись в окно, сама не заметила, когда и кем он был принесен; отпила глоток, ощутила во рту вкус уставшего от солнца винограда, а в груди — тепло, подумала, что хорошо бы заказать еще рюмочку выдержанного «мартеля», вдохнула аромат вина, зажмурилась довольной, пригревшейся на солнцепеке кошкой… Как мало нужно для счастья! И пусть это счастье длится всего мгновение, Аля знала, что запомнит его навсегда и будет вспоминать всю жизнь.
Но все хорошее кончается всегда быстрее, чем мы ожидаем. Откуда-то из глубин заведения, которое на беглый взгляд показалось Але вовсе необитаемым, объявился тщательно зализанный черноволосый субъект, затянутый в черную кожу, как s чулок, но этот наряд не добавлял субъекту ни стильности, ни мужественности.
— Вы решили отдыхать в одиночестве? — Молодой человек одарил Алю долгим взглядом карих бархатистых глаз, улыбнулся, разом небывало похорошев, добавил красивым баритоном:
— Меня зовут Иван.
— Аля, — неожиданно для себя ответила девушка и покраснела: и с чего она решила, что он ;не мужествен? А обаяние? Ну надо же, какой голос!
— В это время дня особенно хорош сухой мартини, — вкрадчиво добавил Иван, — а еще лучше — рюмка хорошего коньяку.
Аля машинально кивнула, глядя на молодого человека взглядом, каким африканские дикарки смотрят на деревенского колдуна и мага. Ей даже показалось, что он слышит ее мысли!
— Аля… Есть что-то волшебное в этом имени, — произнес Иван, красиво играя обертонами голоса, а Алю словно окатило ушатом чистой холодной воды. Слова этого фигляра были сладки, как патока, и так же липки. Видно, пересидела она «соломенной вдовой»… Девушка разом увидела ситуацию словно со стороны и чуть не рассмеялась в голос: от недолговечных чар местного Казаковы не. осталось и следа. Аля прищурилась: ну да, красив, слащав, вкрадчив. Альфонс? Или — сутенер? А скорее всего, и то и другое.
Иван, не заметив происшедшей с девушкой перемены, произвел неопределенный жест загорелой (солярий он в здешних палестинах посещает, что ли?) волосатой дланью, закованной в дутый золотой браслет. Аля даже поморщилась, китч в стиле мафиозо сицилиано был просто омерзителен, но на барышень из сельца Малые Грязи или Глубокие Броды должен был производить неотразимое впечатление.
На жест откликнулся хлыщеватый халдей. Он принес два запотевших бокала, в которых уютно позванивали кубики льда. Минуту спустя полная официантка принесла заказанный кофе и десерт.
— За знакомство, — поднял свой бокал Иван. Произнес он это столь самодовольно, что Аля уже не смогла сдержать улыбки: альфонс был просто карикатурен.. У девушки же. стойко завертелась в голове фраза из какого-то водевиля:
«Меня мама в детстве назвала Альфре-е-едом». Она еще раз глянула на молодого человека: ну надо же! Сидит этакий нарцисс-подснежник, Ваня. Пупкин, покуривает и балдеет от самого себя… А люди где-то сражаются, погибают, срываются с вершин, умирают под лавинами, под шквальным огнем, несутся степной ночью невесть куда, одержимые кто — жаждой золота, кто — стремлением к власти, кто — долгом, самоотверженностью или отрешенным отчаянием… А в этом затерянном на просторах материка Русь премилом кабачке цветет отретушированным цветиком-семицветиком шмаро-воз Ваня, баловник, душка, котик-затейник, завлекалочка вылупившихся из недальних селений и. весей давалок и отрада зажиточных дам-с. Чудно.
Але захотелось сказать ему что-то резкое и обидное, но она так и не придумала что.
— Из Москвы? — продолжая пребывать в уединенном величии, непринужденно поинтересовался Иван.
— Нет. Из Игогоевска-на-Усяве.
Налет досады искривил чувственные губы парня: разве кролики шутят? Но досада быстро уступила место интересу. Иван развел губы в вежливой улыбке:
— У тебя здесь встреча?
Вместо ответа, Аля скучающе уставилась в окно. За время уединения она подрастеряла искусство быстрого отшивания прилипчивых смазливых дураков, да и — сама виновата: пусть ненадолго, но интерес она к нему проявила, мужчинка это уловил, и тщеславие не позволяет ему отвалить. Люди вообще не прощают невнимания к себе, а уж такие лощеные самчики — и подавно.
— Слушай, девчоночка… — начал Иван, и теперь в его голосе явственно слышались нетерпеливо-агрессивные нотки уязвленного самолюбия. — Если ты думаешь, что…
Аля даже вздохнула от облегчения: как должна отреагировать на такой хамский тон уверенная девушка? Просто.
— Ко-о-отик, — резко перебила его девушка, — шел бы ты допивать свое пойло в одиночестве, а?
Подействовало. Ванюша стушевался. По-видимому, в славном Чудовске с ним так разговаривали только подружки хозяев.
— Если ты кого-то ждешь… — скроил он понимающую мину.
— Жду, — резко перебила его Аля. — Хрустящее счастье. Свеженькой такой зеленью.
— В смысле?.. — опешил Иван.
— Ты не в моем вкусе. Мне нравятся толстощекие мужчины. Бенджамина Франклина видел?
— Кого? — не сразу нашелся Иван.
— Сотню баксов. Иван прищурился:
— В час? Или — за ночь?
— Хамишь? Иногда лучше жевать, чем говорить.
— А то — что?
— Работу потеряешь. Вместе с красой лица.
— Ты что, бикса, угрожаешь?
— Не-а. Предупреждаю.
— Даже так?
— Ага.
Иван откинулся на стуле, пыхнул сигаретой, закутался в сизое никотиновое облако, как в одеяло:
— Крутая, да? Может, раз такие разговорчики пошли, хоть обзовешься? Кто, чья будешь?
— Обойдешься.
Иван посмурнел и стал похож на разозленного пуделя, зачем-то причесанного с гелем:
— Вот что, девка. Я человек с понятием…
— С понятием — это когда пальцы веером и зубы в наколках. А ты «кот», причем не Чеширский, а самый что ни на есть грязный подвальный котяра… Вот и знай свое место.
— Не беспокойся, знаю. — Иван даже осип от сдерживаемой злости, но на рожон лезть поостерегся: порода такая. — Может, ты и впрямь крутоватая шмара и лежишь под кем-то из поименных братков, тогда извиняйте, обознатушки-перепрятушки… Но если ты, сучонка, мне сейчас вкручиваешь и чернуху лепишь, то лучше тебе линять скорехонько и прямо сейчас и никогда нигде в этом городе не маячить! Уразумела?
Лощеный самчик встал, отвалил восвояси и затаился где-то в полутьме зала.
Настроение у Али испортилось совершенно. Сама виновата. В чем? В том, что дура.
Аля вздохнула, отхлебнула ставшего теплым кофе, он был горьким. Чего она сюда приперлась? Кого-то ведет по жизни интуиция, кого-то фортуна, а ее — хромая судьба. Нашла альпийскую харчевню! Наверное, романтизм в российской провинции неуместен. Хотя… Разве есть большие романтики, чем мы? Нет, нечего гонять мысли по кругу. Аля допила вино: на этот раз мускат показался приторным и отдающим псиной. Она открыла сумочку, решив расплатиться и побыстрее уйти, пока засевшая острой иголочкой тоска не разрослась и не превратила солнечный зимний день в тревожно-метельный морок.
Глава 71
Двое мужчин и девушка вошли стремительно. Тот, что покряжистей, устроился за явно насиженный столик, другой, бритый наголо, массивный, долгорукий, в длинном кожаном реглане, враскачку пошел к стойке; его гладкий затылок только что не пускал зайчиков, а в чуть тронутом алкоголем Алином мозгу сама собою завертелась песенка из любимого старого мультика: «Мы бандитто, гангстеритто, мы кастетто-пистолетто… ага…» Детский сад — трусы на лямках! Аля успела заметить, как в резиновых улыбках растянулись губы бармена и официанта, как почтительно подсеменил к вошедшему Ванюша Казанова и зашептал что-то на ухо прибывшему боссу… Аля подумала, что убираться следует пошустрее, не хватало ей еще больших разборок в Малом Урюпьевске, и тут обратила внимание на девушку, что пришла с парнями… Сердце часто заколотилось.
Сначала Аля даже не поняла почему. Ну да, походка: так двигаются только на подиуме. Что еще? Стильная стрижка, мальчишеская угловатость… Девушка присела к столику, почувствовав на себе Алин взгляд, обернулась… Да! Это была Ирка Бетлицкая. Собственной персоной. Несколько секунд обе девушки застыли, будто сцепившись взглядами, Ирка побледнела, потом залилась краской, потом уставилась в стол, и Аля почти физически ощутила ее смятение! Пришли за ней? Вычислили?
Даже присутствие двух крепких и явно не склонных к излишнему анализированию парней не придавало ей бодрости: страх некрасиво испятнал лицо и шею, Бетлицкая жадно схватила выставленную кряжистым початую фляжку коньяку, отвернула пробку, щедро плеснула в фужер и выпила махом.
Аля не думала ни о чем. Встала, подошла к столику, присела, мельком улыбнулась малому, произнесла, глядя не на него, а на Ирку:
— Познакомишь с мальчиками, Ирунчик? — Помолчала, испытывающе глядя в лицо девушки, добавила, вроде смешливо, но голос ее ощутимо дрожал — от обиды или гнева? — этого она и сама не знала:
— Господин гангстер, угостите даму сигареткой?
Пацан собрал невысокий лоб морщинками, осмысливая непривычную мизансцену.
Аля же, не дожидаясь разрешения, выщелкнула из пачки сигарету, уронив еще несколько на стол, прикурила от чужой зажигалки, затянулась, пропела чуть слышно, выдыхая дым и едва сдерживая себя:
— «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет о нас страна…» Ну что ты так растерялась, Ирунчик? Разве не видишь, я сама как на иголках? Встретить дорогую подругу, да в таких палестинах… — Аля почувствовала, что почти задыхается, что еще немного — и она залепит этой шмаре по голове чем-то тяжелым.
— Ты хоть понимаешь, сука, что ты мне жизнь поломала?
Ирка, видимо, уже разобралась, что их встреча действительно случайна и никого из людей покойного Ландерса здесь нет. Вздернула подбородок, посмотрела на Алю зло:
— А почему я должна тебя жалеть? У тебя и муж крутой, и жилье в столице, и… ничего, не сахарная, выцарапалась. Я так всю жизнь живу.
— Тебя пожалеть?
— Обойдусь. — Ирка тоже взяла сигарету, затянулась, успокаиваясь. — Тебе просто не повезло.
— Тогда? Или — сейчас?
— Слушай, Егорова, ты тут не ерепенься! Ты здесь никто, поняла?
— А ты — крутая бикса, да? А если сообщить пра-а-аль-нм пацанам подробности твоего летнего отдыха на крымском взморье? Поймут, ежели по понятиям?
Глаза Бетлицкой сузились, она прошипела, почти не раскрывая губ:
— До вечера не доживешь.
— Была бы дурой — и до сегодня не дожила бы. Ты ведь меня в покойницах числила, а?
— О, у нас гости, и без охраны! — Бритый вернулся. уронил массивное тело на никелированный стул, и Але даже показалось, что тот ощутимо прогнулся. — Тоже с Дачи?
— С какой дачи? — быстро переспросила Аля.
— Ни с какой. — Бритый глянул на Бетлицкую. — Вопрос снят.
— Ирунчик, ты бы меня представила, а? И не бойсь, я — не ты.
— Разгордилась, да? — зло огрызнулась Ирка. — Да будь у тебя такая жизнь, как моя, тебя бы выучили дерьмо хлебать столовой ложкой! И не сидела бы ты такой гордой! Ведь такая же шлюха, как и все, а выкобениваешься, что целка майская!
Ненавижу таких!
Бритоголовый попытался обратить перепалку в шутку: собрал лоб гармошкой, изображая картинку «задумчивый супермен», растянул губы в «американской» улыбке, спросил глухо, голосом гнусавого переводчика боевиков:
— Что это было?
— Тут это, Глобус, дуркуют соски, — приняв шутку за вопрос, с натугой выдавил из себя коренастый. — Не пойми с чего.
— Чего не поделили, красавицы? — оскалил Глобус крепкие зубы. — Таких ног в этом захолустье всего две пары, и обе — ваши. А я юноша не жадный. — Слово «юноша» Глобус произнес с продуманной иронией, и Але показалось даже, пусть на мгновение, что все его одеяние вкупе с нарочитой бритоголовостью — чистой воды маскарад, не сильно и скрываемый: дескать, вообще-то, я горный инженер, ну да у нас в войсках форма такая. — Подтверди, Мямлик?
— Ну, — угрюмо кивнул коренастый.
— Так чего не жить, девчоночки? С такими данными можно жить или хорошо, или очень хорошо. — Задумался, сказал совсем уж назидательно:
— А вы — собачиться… То было, это было… Быльем все поросло, списано, забыто. А мы-то — живы! Ну? Как говаривал незабвенный Василий Макарыч Шукшин, тезка мой, кстати, — Глобус степенно кивнул голым черепом вроде как в полупоклоне, — а не соорудить ли нам, лапочки, хорошенький бордельеро? Или, как в песне поется, «танго втроем»? Не, вы на Мямлю не глядите, я не извращенец, да и делиться не привык.
Ну как, деточка? — посмотрел он на Алю. — В постельке и помиритесь.
Бетлицкая смотрела на Алю с ощутимым злорадством. А Аля… Неожиданно для себя самой она покраснела до самых кончиков ушей, почувствовав себя девочкой-подростком, словно незнакомые гормоны только-только начали будоражить кровь, а тут еще ей сказали стыдную, но такую желанную непристойность… Ну надо же! Ей казалось, что в своих полуобморочных ночных метаниях она совсем забыла, что такое чувственность, а тут вдруг… Нет, естество играет с ней идиотские шутки: сначала с красавчиком Ванюшей, теперь вот — с этим бритым переростком с головой похожей на… Аля даже закрыла лицо руками, а краска полилась на шею.
— Ну вот, я вижу, мое предложение попало на благодатную почву… — заулыбался во весь рот тезка Шукшина. — Мы поладим. Помолчал, предложил:
— Коньяк? Шампанское?
— Водку, — выдохнула Аля.
— У тебя чувствуется школа. — Лысый глянул в сторону бара, хлыщеватый официант, ловивший цепким собачьим взглядом каждое его движение, лопнувшей резинкой сорвался с места, замер у столика в почтительном полупоклоне.
— Водочки… — процедил, почти не разжимая губ с зажатой в них сигаретой, Глобус. Официант почтительно чиркнул спичкой, дождался, пока бос прикурит, затушил фигурным круговым движением. — И сам сообрази чего закусить, соответственно.
— Слушаюсь, — прошелестел халдей одними губами.
— А я буду коньяк, — Бетлицкая смерила Алю ревнивым взглядом, закончила:
— французский.
Халдей не двинулся с места. Глобус выдержал намеренную паузу и только потом кивнул:
— Выполняй.
— Слушаюсь, — снова выдохнул официант и испарился, оставив после себя душок приторного дезодоранта.
— Ну что, деточка, лошадок гнать не будем?
— А чего их гнать по зимней поре? — в тон ему ответила Аля, уже вполне справившись с собой. — Вот только…
— Что — только?
— Нам бы с Ирунчиком отлучиться, припудрить носики. — Аля с вызовом глянула на Бетлицкую. Взгляд у той словно застыл, зрачки сузились.
— Это — дело… — благосклонно кивнул Глобус. — Как там в песне поется?
«Эх, снег-снежок, белая метелица…» Только вы не особо там… Не перестарайтесь с марафетом. Меня полудохлые послушные рыбки давно не заводят.
— Не беспокойся, зайчик, эта краля для тебя веревкой совьется, если нужно, — с придыханием заверила Глобуса Ирка, добавила:
— И не гони… «Снежок» гонки не любит. Мы пошли?
Глобус только кивнул. В это время уже подскочил халдей, наполнил рюмку босса водкой из запотевшего, подернутого слезой хрустального графинчика; следом полная официантка уже несла широкое блюдо, на котором дымились исходящие сытным ароматом горячие мясные закуски. Аля уже направлялась вслед за Иркой, когда услышала сзади смачное разламывание горячей курицы, хруст нежных хрящиков под крепкими зубами, и ей вдруг стало противно до омерзения: животные.
Туалет сиял новехоньким кафелем, умывальная комната была неожиданно чистой, и пахло здесь каким-то цитрусовым освежителем-дезодорантом. Але подумалось вдруг, что смывать кровь с белого должно быть удобно… Бетлицкая шла впереди, запнулась на миг… Подчиняясь даже не интуиции — инстинкту, Аля резко отпрянула в сторону, и вовремя: Иркина рука с зажатым между пальцами бритвенным лезвием скользнула быстрым махом в каком-то сантиметре от ее лица! Не думая ни о чем, Аля ударила девку ногой по голени и тут же добавила крепко сжатым кулачком по голове, так, что рука зашлась от боли. Удар пришелся в висок; Бетлицкую повело, и она неловко, боком, ткнулась в кафельную стену и сползла по ней.
Выпавшее из ее руки лезвие серым бликом осталось лежать на безукоризненно чистом полу.
Глава 72
— Ну? Что ты медлищь? Кончай меня! — Ирка вжалась в стену затравленным зверенышем, но смотрела зло и непримиримо. — Одного мы поля ягоды и, чую, из одного инкубатора! Неспроста тебя выбрали! А я, дура, разнюнилась! Тебя прислали, потому что личное, да? Ну, что ты моргаешь испуганной курицей? Или ты, или я… — Бетлицкая попыталась приподняться по стене, но неожиданно кровь хлынула носом, и она снова беспомощно соскользнула на пол.
Аля достала носовой платок, намочила в ледяной воде, приложила. Еще горсть принесла в ладошке и вылила Ирке за шиворот. Та вздрогнула, посмотрела на Алю едва прояснившимся взглядом; несколько раз вдохнула судорожно, словно что-то мешало ей дышать, — и заплакала, завыла в голос, размазывая по лицу слезы и кровь.
— Никто, ты понимаешь… никто… никогда мне ничем не помог… Никто не гладил по голове… Никто не жалел… Никогда ни один мужчина не дарил мне цветов… Никто не любил, никто… Только… только трахали, как мерзлую баранью тушку… Алька… Некуда мне бежать в этой жизни… Убей меня, пожалуйста, убей, у тебя получится… — Ирка попыталась вздохнуть — и снова захлебнулась рыданиями. Перевернулась на живот, сжалась; рыдания смолкли, но спина тряслась в судороге.
Аля беспомощно заметалась глазами: позвать на помощь этого Васю Глобуса?
Никуда не годится! Да и… разговорить Ирку нужно: она-то как в тишайшем городке очутилась? Да в такой компании? И кто такие эти Глобус с Пельменем, или как его там?
Ведро! Видно, уборщица оставила: цинковое, и совсем новое. Недолго думая, Аля набрала ледяной воды по самые ушки, разбрызгивая по полу, поднесла — и сразу, махом, вылила подвывающей Ирке на голову! Та вскинулась разом, села, тараща глаза, то открывая, то закрывая рот, как выдернутая ловким рыболовом с самого дна камбала. Несколько секунд она смотрела так на Алю, потом по-собачьи тряхнула головой, разбрасывая во все стороны брызги, спросила разом севшим голосом:
— Ты что, с ума сошла?
— Сойдешь тут с тобой!
— Дура ты, Егорова!
— Не дурей тебя!
— Вода же ледяная!
— А чего ты хотела? Вина красного и мужика рыжего? — Аля не сдержала улыбку: Бетлицкая была сейчас похожа на озадаченную мокрую курицу. Но вспомнила, что по вине этой несуразной пацанки ее чуть не смололи в порошок жернова местечковой войнушки, а ее Олега интернировали в Германии, и — что с ним теперь?.. Але стало горько, словно ушат ледяной воды она опрокинула только что именно на свою голову, а теперь кровь застучала в висках, и мир возвратился к тому, чем он был для нее сейчас: выложенная белой кафельной плиткой умывальня туалетной комнаты заштатной кафешки, залитый водой пол, аромат дешевого дезодоранта и еще какой-то дежурный запах, какой бывает только в казенных местах.
Дверь приотворилась, в ней показалась голова коренастого Мямли. Какое-то время он тупо глазел на сидящую у стены Ирку, мокрую, как воробей, на ее измазанное кровью лицо; его сонные глазки маслянисто отражали свет, словно он пребывал в мутной полудреме, пребывал постоянно и, выплывая из нее, обозревал черно-белый мир без удивления, без интереса, без лукавства, а лишь затем, чтобы бросить в утробу что-то съестное и замереть в вялом функциональном анабиозе до следующего приема пищи. Сейчас пищи не было, потому и просыпаться насовсем не стоило. Алю его «потусторонний» взгляд даже не раздражал: многие существуют так всю жизнь, от кормежки до сна и обратно.
— Вы чего это? Подрались все-таки? — произнес он с видимой натугой.
— Кровь носом пошла, не понимаешь? Со «снежком» девка пожадничала, вот и… — пояснила Аля.
— А-а-а… — наморщил парень лоб, что-то себе соображая. — Вы тут не очень-то… А то будете как клячи занюханные, Глобус этого не любит, — Будь спок, — отозвалась Ирка. — Пусть подождет минут пять, я хоть умоюсь.
— Умывайся, подмывайся, что хошь делай. Время есть. Глобусу по мобильнику звякнули, он щас отъехал на стрелку, минут на сорок… Меня оставил. Я вас подожду за столом. А вы пока это… в порядок приводитесь все-таки… А то, — он кивнул на Ирку, — страшна, как крыса водяная. Даже на вид скользкая.
— Вали, пельмень! — вякнула на него Ирка. — Век бы твои поросячьи буркалы не видеть.
Маленькие глазки коренастого сузились, словно совсем заплыли.
— Ты бы у меня поговорила, кабы не дачная была. Да не Глобусова. Ниче, придет срок. Посчитаемся.
— Ты считать-то умеешь, варнак мордатый?!
— Ладно, поговорили. Чтобы через полчаса были как пенки на молоке, белые и пушистые, поняли?! — Мямликова голова выдернулась из приоткрытой двери и исчезла.
— Раскомандовался… Каток асфальтовый… — прошипела Ирка.
— Кто они вообще такие? Вместе с Глобусом?
— Глобус — авторитет здешний, Мямлик — шестерка у него. Чего тут неясного?
А тебе они зачем? — насторожилась Ирка.
— Для гербария! — рассердилась Аля. — Ты что дуру из себя строишь?!
Думаешь, как меня подставила там, в Южногорске, жизнь моя стала краше и веселее?
Полной приключений и неги?
— А ты на меня не ори! — вскинулась Ирка. — Ненавижу я вас, таких гладеньких и чистеньких… В детстве мамашки вам носики платочками промакивали, папашки — в шубки заворачивали… И по жизни у вас одна забота: как из хрущевок выдернуться да по жизни вперед пихалками пробиться, не так?.. А я что помню?
Квартира была как хлев сучий… А родительница моя без бутылки не засыпала! И мужики к ней ходили грязнее грязи, а как мать напьется и уснет — на меня, десятилетнюю, взбирались… Больно было… И хоть бы один, хоть из интереса приласкал или слово хорошее сказал… Самое ласковое, что я слышала, было — «давай». Или — «становись». Только и помню из детства — боль, голод и страх, что у матери выпить нечего, а значит, бить будет… Но голод — пуще. Часто — жрать нечего было совсем. Счастливое детство, да?
Аля отрешенно пожала плечами. Бетлицкая смерила ее взглядом, усмехнулась горько:
— Вот мы с двумя пацанами и начали пьяных выставлять. Сначала — выпивох обирали. Потом — глушить стали. Ну и ухайдокали двоих: получилось, что до смерти. Я на малолетку попала… Там — вообще плохо, за забором, и казалось мне, из-за этого забора мне ни в жизнь не выбраться… Да люди «добрые» помогли…
Заботливые… Фонд превращения скотины в животное… Ну и что? У них я впервые в жизни поела досыта.
— Когда; надоест себя жалеть, сообщи. Ирка подняла глаза, и Аля заметила, что взгляд ее снова стал жестоким и жестким, как наждак.
— Жалеть? Ха-ха. Да у меня все х-хорошо. Просто з-заме-чательно! Ты что, думаешь, я хоть минуточку страдала, что того гладкомордого Ландерса завалила там, в Южногорске? Да ничуточки! Жизнь такая: одни обжираются до отрыжки, а другие в этой их блевотине живут! Так пусть хоть боятся: пуля в любой башке одинаковые дырки делает! Пусть боятся!
Ирка достала пачку, выудила сигарету, чиркнула кремнем зажигалки, затянулась жадно.
— Ну что ты на меня пялишься, как муха на дерьмо?! Что ты в моей жизни понять можешь?! Весь сволочизм в том, что и мать моя жива… Спивается где-то втихую… А я… как мертвая. Точно, как мертвая.
Словно какая-то пружина дошла до предела растяжения в Иркином теле; плечи ее опустились, и девчонка заплакала, — но теперь тихо, устало, обреченно:
— Жалеть… Ну и жалею себя, ну и что?.. Никто никогда меня не жалел…
Всегда одна, и все вокруг — как волки… — Подняла взгляд:
— Что ты так смотришь? Не нужно мне ничьего сочувствия, поняла?! А ты — беги к папашке с мамашкой, они тебя и в попку расцелуют, и по головке погладят!
— Мои родители сгорели, — неожиданно для себя произнесла Аля бесцветным, как дешевая бумага, голосом. — В машине. А я ничем не могла им помочь.
Ирка вздрогнула, будто ее хлобыстнули поперек спины широкой ременной плетью.
Аля продолжала, отрывисто, тихо и монотонно, словно робот-автомат:
— А до этого за нами гнались на машинах. И на вертолете. Стреляли. Я потом ничего не помнила. Жила в детдоме. Много лет. Я даже не знала, кто я и чья.
Узнала совсем недавно… А от папы и мамы не осталось ничего. Даже могил. Только я. У меня постепенно жизнь как-то налаживаться начала. Год назад. Потом появилась ты, хорошая такая, застрелила Ландерса и подсунула мне черный пистолет в сумочку. С тех пор я в бегах. — Она остановилась, поперхнувшись, чувствуя, как слезы комком подкатывают к горлу, сдержалась:
— А вообще… Живи как знаешь.
Только когда будешь стрелять, не забывай, что у богатых тоже есть дети. И люди вокруг — живые… И еще… На чужой смерти свою жизнь не построить. Никому.
Прощай.
Аля развернулась, собираясь уйти. Ирка вскочила, схватила ее за руку:
— Егорова, подожди… Пожалуйста, подожди! — Иркины глаза сделались совершенно беспомощными, словно она много лет носила очки, а теперь вдруг сняла.
— Аля… Что мне делать? Что?
— Живи.
Глава 73
Ирка отвела взгляд, уставилась немигающе в белую стену:
— Как жить?
— Как сможешь.
— Я никак не смогу! Ты просто не знаешь… Нужно… Никто ниоткуда меня не отпустит… живой.
— Откуда не отпустит?
Ирка только покачала головой.
— Хочешь помощи? Тогда говори! Мне тоже с этого крючка слезть надо! Может, сумеем вместе?
Ирка бросила мгновенный взгляд на Алю, и той показалось, что она разглядела в нем надежду, слабенькую, как искорка на пепелище.
— Что такое Дача? И почему ты меня испугалась, когда увидела? Да говори же!
— Я подумала, ты пришла меня убить.
— Почему ты так подумала?
— Потому что ты жива.
— До-о-обрая девочка Бетлицкая.
— Какая есть! — окрысилась было Ирка, но сразу сникла. Помялась, добавила:
— Тебе удалось убежать, и я рада этому. Честно.
— Бег был… с большими препятствиями.
— Слушай, Егорова… А почему они выбрали тебя?
— В смысле?
— Пистолет куда проще было бы подложить какому-то парню. Тому же Бовину, к примеру.
— Бовин — парень?
— Ну, с виду…
— Я бегаю быстрее. И — стреляю лучше.
— Ты стреляла?
— Нет, исполняла фугу ре минор Баха. На кастаньетах. с оркестром и хором оч-ч-чень привлекательных мальчиков.
— Ты чего, крутая?
— Я быстрая.
— Я тоже хочу быть быстрой. Я хочу сбежать от них. Оттого и с Глобусом связалась.
— Глобус — местный авторитет?
— Да.
— А — Дача?
— Это вроде базы. Или дома отдыха. Там мы живем.
— Кто — «мы»?
— Я, Оля Петрова, четверо охранников.
— И кого они охраняют? Вас?
— А чего нас охранять? Куда мы сбежим? Вернее… Нет, за территорию Дачи мне не положено… Но — сидим мы на ней уже больше полугода, и соглядатаи наши ошизели от безделья и скуки… Олька, вообще, еще более дерганая, чем я. Она… она как и ты: сначала детдом, потом колония. Что ей терять? Ничего. Вот только странная она.
— Странная?
— Читает ночи напролет дурацкие любовные романы. И даже плачет по ним.
— Да не по ним она плачет. Доброты ей в этой жизни не хватает. И любви.
— А кому хватает? Люди делятся на две категории: или волки, или — скоты.
— Но и люди есть. Я это точно знаю.
— Значит, ты счастливее меня, Егорова.
— Может быть. Так как ты со своей дачки утекла? На пару с Олей охранников утешали?
— Ну да. Нам что, жалко? Это, конечно, не по правилам, но все же — живые люди…
— Пока живые.
— Хм… Егорова, а ты ведь тоже — «добрая»…
— Ага. А также — белая и пушистая. Так чего ты к Глобусу прилепилась?
— Васеньку заботит существование Дачи. Не, у них изначальное замирение, но и он сам, и его крыша из законников понимают: сколько веревочке ни виться…
Догадаться, что мы — «временная творческая группа», у Глобуса мозгов ой как хватило, а кому охота иметь голимых киллеров на своей территории? Случись чего, с него спросят. Да и самому, поди, неспокойно.
— То есть ты решила использовать его, он — тебя.
— Ну, симбиоз. А Глобусу нужно — биоценоз.
— Хм… Откуда ты, девочка с колониально-малолетним образованием, такие слова мудреные знаешь?
— Вот от Глобуса и знаю. Он универ московский закончил, что-то там биолого-химическое. У него даже одно время и погоняло было такое — Ботаник, но Васенька быстренько эту кликушку отмел. И по головенкам каким-то бестолочам надавал: действительно, какой он «ботаник»?
— Угу. Глобус — погоняло куда как масштабнее. Все же — карта мира.
— Честно? Глобус неглупый. Вернее, умный. Он ведь тоже лазеечки ищет, как соскочить с этого кайфа…
— Какого кайфа? Он что, шировой?
— Да нет! Я же говорю: он умный. Он еще песню любит, напевает постоянно:
«Ой да налетели ветры злые. ой да с восточной стороны…»
— Знаю я эту песню, оптимистическая такая — Ну вот, тогда ты понимаешь… Время меняется, он это давно почуял. И чтобы ветер его не смел, он и хочет слинять. За самый дальний бугор. Какое сейчас самое популярное словцо в стране? «Зачистка». Так вот: он считает, чистить будут всех. Как ни кинь, а силовики — самая крутая мафия, зачем им конкуренты? Сохраниться можно или став крутым и законным, это Глобусу не по чину, или крупным, настоящим бизнес-дядей, а это — не по деньгам. А обратно в «ботаники» — уже поздно, да и не по нутру ему. В смысле — не по характеру.
— И он решил — за бугор?
— Ну.
— И ты — тоже?
— Там места всем хватит.
— С ним?
— А это как получится…
— И отвалить вы хотите не пустыми…
— Догадливая ты — страх.
— А не боишься, что возьмете вы куш, а он тебя…
Бетлицкая прищурилась:
— Не боюсь. На нашем Диком Востоке — как на ихнем Диком Западе: побеждает не тот, что умнее, а кто стреляете первым.
| — Если попадает.
Иркино лицо на мгновение стало жестким, словно закаменело.
— Я попаду.
— Так с чего ты решила, что я пришла тебя убить?
— Ну… Я подумала… Я увидела твое лицо…
— Испугалась?
— Честно? Да. Я думаю, и Глобус бы испугался, если бы знал, кто за Дачкой стоит.
— А кто за ней стоит?
Ирка свела губы, метнулась беспомощно глазами.
— Что ты теряешь? Сказала "а", говори "б".
— Командир нашей группы… такой человек… Сначала мне даже показалось, что я влюбилась в него. Потом поняла: я его боюсь. Ужасно боюсь. И даже не потому, что отправят опять в колонию или куда похуже… Так боятся только во сне.
— Во сне?
— Ну да. Бывает, приснится такой… оборотень. И не убежать от него, не уйти. — Ира зябко передернула плечами. — Я и сейчас его боюсь.
— Как зовут этого потустороннего?
— Глостер.
— Глостер, — повторила Аля одними губами. — Его ты можешь не бояться. Он мертв.
— Ты его… встречала?
— Да. Больше он никому не сделает вреда.
— Ты его…
— Я в него стреляла. Ни неудачно. Его убил другой человек.
Лоб Бетлицкой обметала испарина, она беспомощно повела взглядом по голым блестящим стенам, потом побледнела, а от выступившего липкого пота заблестело все лицо.
— Что с тобой? — спросила встревоженно Аля.
— Погоди… Я сейчас… — Девушка лихорадочно закрутила головой по сторонам, будто кто-то вот-вот должен был к ней приблизиться, выдохнула резко, забралась в карманчик джинсов, вынула малюсенький цилиндрик, аккуратно отвинтила крышечку, оказавшейся внутри крохотной лопаточкой зачерпнула микроскопическую горсть порошка, высыпала на руку, нервно поднесла к лицу, вдохнула, замерла, зажмурившись, зачерпнула еще, снова вдохнула, подняла на Алю сияющие глаза, сказала восторженно:
— Глостера больше нет! Жить будем! Жить!
— И давно ты пользуешь «снежок»? — нахмурилась Аля.
— «Белый снег, белый снег, белый снег, синий лед…» — даже не слыша ее, напела Ира. — Помнишь, у Джека Лондона роман был? «Дочь снегов»? Я — дочь белой расы, и снег для меня не саван, а покрывало… Как хорошо! Белое безмолвие…
Белый восторг!
— Кокаин никого не спас. А погубил многих.
— Я стараюсь спастись вовсе не от смерти — от жизни.
— Можно выбрать или одно, или другое.
— Ка-акая ты ну-у-удная, Егорова… Хочешь? протянула Але цилиндрик.
— Нет.
— Ты не понимаешь… Ты даже не понимаешь, что ты сказала! Если Глостер мертв, то я — свободна. Свободна! К этому не так просто привыкнуть. Ты и не представляешь, как я его боялась! Вот ведь: крутила с Глобусом, строила планы — так, не планы даже, мечты… Но я никогда не решилась бы, если бы он был жив. — Внезапно глаза ее помутнели, как море от внезапно налетевшего шквала. — Ты… ты видела его мертвым?
— Да.
— А может быть, он был только ранен?! Не ври мне!
— Он убит.
Ирка Бетлицкая мечтательно закатила глаза, произнесла, распевно:
— «Это сладкое слово „свобода“…» Какая-то насквозь искусственная фраза, правда? Где-то я ее слышала… Нет, не помню. Свобода мне напоминает весенний снег. Но не такой, какой в городе бывает, а лесной — глубокий, чистый, пахнущий оттепелью, хвоей и чуть-чуть — весной… И ты даже еще не знаешь, исполнится ли эта весна, но ждешь ее, мечтаешь, а на душе уже тепло, словно уголек тайный мерцает, и сердце заходится от предчувствия… Предчувствие весны — как предчувствие счастья. «Это сладкое слово — свобода…»
Беглицкая помолчала, раскачиваясь с носка на пятку и прикрыв веки, подняла взгляд на Алю:
— Я не хочу больше ждать. Я уезжаю. А ты? Хотя… Что это я? Я даже не знаю, откуда ты взялась!
Глаза ее подернулись влажной пленкой. Аля не успела отреагировать: одним мгновенным движением Бетлицкая выдернула откуда-то из-под куртки маленький никелированный пистолет, щелкнула предохранителем, приставила ствол к Алиному лбу… Рука ее чуть подрагивала, голос стал сиплым, девушка была готова сорваться или — в слезы, или — в истерику.
— Ну?! Только не ври мне! Тебя Глостер послал? Чтобы меня убить? — Голос ее дрожал, и дышала она часто-часто, будто бежала стометровку. — Отвечать! — взвизгнула Бетлицкая, перехватила рукоять пистолета обеими руками, облизала мгновенно пересохшие, жаркие губы, палец ее медленно повел спусковой крючок. Аля поняла, никакое слово не сможет уже остановить Ирку, пыталась заглянуть ей в глаза, но встретила в них лишь вялую темень: взгляд Бетлицкой был влажен и пуст, как плещущаяся в черной полынье вытравленная ночная река.
Глава 74
Дверь туалета скрипнула петлями, Аля ощутила, как напряглась разом рука девушки, сжимавшая оружие; в таком состоянии достаточно капли, чтобы лавина сдерживаемого страха покатилась, сметая все на пути всполохами пистолетного огня. Дыхание перехватило, Аля зажмурилась, ожидая выстрел… Бетлицкая крутнулась на месте, выстрел щелкнул, как пастуший кнут, Алино сердце, казалось, готово было выпорхнуть из груди, но вместе с судорогой пережитой жути по всему телу волной катилось ликование: стреляли не в нее, она жива, жива!
Аля открыла глаза: Ирка с пистолетом в руке стояла к ней вполоборота; сунувшаяся в дверь туалета уборщица со вздохом осела на пол. Лицо ее стало белее мела.
Аля прыгнула на руку, державшую пистолет, попыталась вывернуть, но не тут-то было: Бетлицкая с неожиданным проворством и силой вырвалась, затравленно забилась в угол, дергая стволом; потом взгляд ее упал на лежащую у стены женщину-уборщицу. Она глядела на Ирку застывшим взглядом, а губы ее бесшумно двигались — причитала или молитву читала, Бог весть. Бетлицкая вжалась в стену, зажмурилась и вдруг — отбросила пистолет, а сама отвернулась к стене, вжалась в нее, будто ожидая казни.
Аля метнулась было к упавшей уборщице, но заметила пулевую расщелину в дверном косяке: женщина была не ранена, просто смертельно напугана. Бросилась к Ирке: та уже сидела на полу, глядя в пустоту и царапая ногтями лицо. Аля отдернула ее руки и с маху залепила звонкую пощечину, не смогла остановиться, шлепнула с другой руки, еще, еще… Ирка завалилась на бок и заплакала… Аля почувствовала, что тоже плачет. Третьей заревела женщина-уборщица: кое-как встала, глянула на девушек и тихонечко, по стеночке вышла из умывальной.
Ирка снова достала из карманчика джинсов тюбик с порошком. Аля кошкой вцепилась было в пластмассовый продолговатый цилиндрик, но Ирка взвизгнула:
«Пусти! Мне ну-у-ужно», — резко двинула Алю локтем, вывернулась, метнулась из умывальни в туалет… Аля закрыла лицо руками. «Белый снег, белый снег, белый снег, синий лед…» Белое безумие… Оно еще никого не спасло, а губит — без разбора и жалости.
Бетлицкая появилась спокойной, умиротворенной, искрящейся, как снег под солнцем.
— Ну надо же… Как будто в черный омут — бух! А сейчас — хорошо…
Девушка закружилась под слышимую только ей одной музыку, счастливо прикрыв глаза, напевая:
В полях под снегом и дождем, Мой верный друг, мой верный друг, Тебя укрыл бы я плащом От зимних вьюг, от зимних вьюг, И, если б дали мне в удел Весь шар земной, весь шар земной, — С каким бы счастьем я владел Тобой одной, тобой одной…
— Аля… А ведь я еще буду счастлива, правда? Несчастье — это разлука с теплом… Но ведь снег не холодный… Я в это верю. Только нужно, чтобы было побольше снега… Много-много… А то от людей — только грязь. — Махнула невидящим взглядом по полу, удивленно приподняла брови:
— О! Пистолет! — Наморщила лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. — Кажется, я стреляла? — Быстро нагнулась, подобрала никелированный, больше похожий на игрушку, чем на оружие, браунинг, полюбовалась отливом на накладках рукояти, сработанных из перламутра, понюхала ствол:
— Точно, стреляла. — Вопросительно посмотрела на Алю:
— Не в тебя? — И сама же и ответила:
— Нет, не в тебя. Ты жива. — Успокоенная, вздохнула, зажмурившись:
— Знаешь, почему я люблю снег? Он — нежный. Ну что, пошли?
— Куда? — Але казалось, что вся накопившаяся за полгода усталость навалилась на нее разом сейчас и ничто не заставит ее сдвинуться с места. И еще — она словно наяву видела, как сгорают тоненькие, нежные паутинки нервов после только что пережитого стресса.
— На волю.
Дверь туалетной комнаты распахнулась почти настежь. В проеме стоял лысеющий человек лет сорока пяти, с обвисшими усами, краснолицый и очень плотный. Живот значимо возвышался над плетеным ремешком, обтянувшим жирные чресла. Казалось, на лбу его большими печатными буквами написано: «НАЧАЛЬНИК».
Не сумев стать действительно «биг боссом», он, по-видимому, решил догнать неосуществленную мечту собственными телесными габаритами. За его широкой спиной маячил стриженый охранник. Он смотрел с живым любопытством и чуть-чуть — со страхом.
— Ирэн, кажется, ты перебаловалась с порошочком…. Стрельба в приличном заведении ни к чему. Дай-ка сюда свою игрушку. — Он протянул широкую крестьянскую ладонь.
Бетлицкая, казалось, и не слышала: чуть склонив голову в сторону, рассматривала усатого, словно большую гусеницу: толстую, но для коллекции явно негодную.
— Шери-и-иф, — длинно протянула она. — Вот именно, игрушку. Разве можно кого-то убить из этой спринцовки? — Она вскинула никелированный пистолетик, и зрачок ствола уперся пузатому в живот. Бетлицкая моргнула несколько раз, глядя в лицо Шерифу пустым взглядом, зевнула. — Уйди, пожалуйста, куда-нибудь подальше.
Твои габариты меня нервируют.
Голос ее был спокойным и вялым. Шериф зло сверкнул глазами, процедил сквозь зубы:
— Ты еще доиграешься…
— Вестимо, доиграюсь… — легко согласилась Ира. — С такой-то игрушкой. — Лицо ее вытянулось по-фельдфебельски. — Пшел-пшел! Руссо полицай!
Шериф сплюнул, но нарываться на пулю от безмозглой, отлетевший во власть «белого безумия» девки не захотел. Кивнул помощнику коротко:
— Пошли. Это Глобусова шмара, вот пусть он с ней и разбирается. — Бросил Ирке зло:
— Только шпалер спрячь, мы ж не в Калифорнии.
— Яволь, герр Шеррифф! — шутовски приложила два пальца к виску Ира.
— Шлындра, шалашовка гнутая! — выругался Шериф и удалился.
— Видала, что Глобусов авторитет с бывшим участковым сделал? Чудо. За два года Шериф, пока здесь главой вышибал служит, как на дрожжах раздулся, знай утробу набивает! Впрочем, Глобус и для местного райотдела — своя выгода: в районе, окромя мелкого воровства да цыган с маковой соломкой, — никаких преступлений. Вся здешняя братва если и шухерит, так только в столицах, а здесь — ни-ни.
— Это ты за полгода сидения на Даче выяснила?
— Нет, это за два месяца общения с Глобусом. И с его братками.
— Настоящие братки?
— Да так. Судя по телепрограммам, бывают и хуже. Ладно. Хватит болтать.
Пошли.
— Далеко?
— Я — в Москву, ты — куда хочешь.
— Ты перестала бояться своих… э-э-э… работодателей?
— Я сейчас ничего не боюсь. — Замерла на секунду, спросила:
— Ты точно не хочешь?
— Чего?
— Припудрить носик.
— Нет. От мозгов через год-другой труха останется.
— Да? Надо еще прожить эти год-другой. — Взгляд девушки остановился, зрачки будто превратились в два кусочка льда. — Прожить.
Она снова вынула цилиндрик с кокаином, на этот раз — вдохнула быстро и глубоко, выдохнула.
«Ветер! Ветер на всем Божьем свете!» Хорошо-то как! — И, толкнув ногой дверь, стремительно вышла прочь. Аля ринулась следом, невольно увлеченная ее азартом.
— Эй, Мямлик, все кости сторожишь? — крикнула Ирка сидящему за сервированным столом коренастому. — Смотри, придет хозяин, все равно все отберет!
Аля не знала, нарывалась ли Бетлицкая на скандал, но поведение Мямлика на этот раз было более чем странным: он не огрызнулся, не глянул злобно: только вежливо растянул губы в улыбке, будто это была шутка. И еще Але почудилось, что так в ресторане не сидят: так сидят на сцене, под направленными на тебя лучами юпитеров или взглядами десятков пар глаз. Или — под прицелом пистолета.
Ирка Бетлицкая ни на что не обращала внимания. Что-то тихо про себя напевая, она летела к выходу из ресторанчика как на крыльях. Аля чуть поотстала.
Двоих вышколенных, поджарых пареньков она заметила поздно: первый метнулся откуда-то из придверной портьеры, второй встал из-за стола у входа, развернулся… Реакция Бетлицкой была необыкновенно быстрой: снова жестким кнутом щелкнул выстрел, тот, что прятался за портьерой, упал, словно сбитая мячом кегля; второй ринулся на девушку, сшиб с ног, и они рухнули ничком на затянутый ковровым покрытием пол. Мужчина ударил раз, другой, третий… Ни на Алю, ни на тройку других посетителей заведения он не обращал никакого внимания.
— С-сука, — прохрипел раненый. Пуля пробила ему голень, боль, должно быть, была адской. Приказал напарнику:
— Тащи девку в машину.Тот, что бил Бетлицкую, мгновенно заломал ей руку, рывком поднял с пола.
— Гад, падаль! Глобус тебя на куски порвет! — совсем по-ребячески взвизгнула от бессильной боли Ирка.
— Остывает уже твой Глобус. В кювет откатился, — морщась от боли, прохрипел заковылявший к выходу раненый. — Скоро мы тебя к нему отфутболим. — Он ступил неловко, взвыл от боли, прорычал:
— П-шла!
Аля поняла вдруг, что она глупым манекеном стоит прямо посреди зала, оглянулась беспомощно: ни того бугая, Шерифа, ни красавчика Казановы, ни Мямлика в зале не было: все ретировались скоро и качественно. И еще она поняла: это те самые ребятки, с Дачи.
Подумать она ни о чем не успела. Все смешалось: жалость к себе, жалость к этой непутевой и совершенно сумасшедшей Ирке, усталая полугодичная маета бессонных ночей, запах снега, страх, лицо Маэстро, вспышки выстрелов там, в черной ночи у моря… Это видение мелькнуло единым мигом, как дуновение сухого, напоенного пьяным хмелем ветра… Нет, она ни о чем не думала и ничего не просчитывала.
Глава 75
Свой голос Аля услышала словно со стороны: резкий и почти незнакомый:
— Стоять! Обоим! На пол! Живо! — Короткие команды сыпались звонко и четко, будто горошины на дно жестяного таза. Аля стояла, сжимая обеими руками крупнокалиберный тупорылый, сработанный из полимеров «вессон». Оружие она выхватила из мягкой подмышечной кобуры, до того надежно скрытой под курткой.
Дальнейшее происходило для Али, словно в замедленной киносъемке. Первый противник падал, выкручиваясь всем телом; вороненый ствол в его руке выворачивался в ее сторону, еще секунда — и горячий огонь выплеснется оранжево-алым всполохом и сметет ее, уничтожит. Второй тоже не спал: он с силой толкнул Бетлицкую на пол и уже направлял пистолет в сторону Али.
А мысли текли медленно-медленно… Аля понимала, что не успеет. И значит — никогда не увидит Олега, никогда не будет шествовать по застеленному ковровой дорожкойj подиуму, никогда не станет матерью и не приласкает своих детей…
Жаль. Вот это действительно жаль. Она нажала спуск, пистолет в ее руке подпрыгнул; пуля, ввинчиваясь в сгустившийся воздух, ударила первого в плечо, бросив мужчину на пол; спазм вырвал пистолет из его руки и отбросил в сторону.
Аля еще только поворачивалась ко второму, а его ствол уже был нацелен ей в голову. Не уйти.
И тут — тело его дернулось, словно в тряпичного болванчика в кукольном театре запустили откуда-то снизу тенисным мячом. И — рухнуло бессильным кулем.
Ирка Бетлицкая стреляла с пола, выдернув из-за резинки на щиколотке миниатюрный двуствольный «дерринджер». Она тут же перекатилась на живот и, не целясь, выстрелила еще раз, в того, которому Аля пробила плечо.
Девятимиллиметровая пуля угодила ему в подбородок и разрушила мозг.
— Й-а-а-а! — Ирка вскочила на ноги; в глазах ее плескалось безудержное безумное веселье: стынущий кокаиновый морок держал цепко, не выпускал. Девушка быстро обвела взглядом зал, только что не пританцовывая на месте, быстро подобрала пистолет, подмигнула Але, выкрикнула: «Воля!» — и ринулась прочь.
Она напоролась на выстрел, сухой, как треск жердины. Аля видела, как девчонка словно запнулась на миг, приподнявшись на носочках; пистолет в ее руке дважды тявкнул куда-то в белый свет, и она ничком свалилась с порожка в нежный, только что выпавший снег.
Аля, затаившись за затененным стеклом, выглянула наружу. Автомобиль. В нем, бессильно упав головой на руль, сидит водитель. Словно спит. Дверь распахнута, на сиденье — пистолет. Это он стрелял в Бетлицкую. Но и она не промахнулась. На виске — яма, черный провал.
Аля осторожно вышла на приступочку, и тут — словно тень метнулась откуда-то сбоку, налетела, сшибая навзничь. Это оказалась девчонка, ее ровесница. Аля успела схватить нападавшую за отворот куртки, нырнула вниз, подставляя спину, — тело само вспомнило жестокие детдомовские уроки. Девчонка упала навзничь, Аля — на нее; перехватила Руками ворот, сжала что было силы. И тут — уши словно затопило взрывной волной, так было больно: девчонка ударила ее, да так, что Аля почувствовала во рту привкус крови. Полуоглушенная, она замерла, пережидая дурноту и боль, девчонка вывернулась, вскочила, рука ее скользнула в куртку, выхватывая оружие. Аля тоже подняла пистолет… Обе девушки дышали часто и хрипло, каждая понимала, что на выстрел другая ответит выстрелом. Победить в этой заполошной схватке было не дано ни одной из них.
— Осторожно, Оля… Ты же не хочешь умирать… — тихо сказала Аля. Желтые круги все еще плыли перед глазами, барабанные перепонки пульсировали болью. — Я тоже не хочу.
Удивление на миг вспыхнуло в глазах противницы.
— Ты из команды?
— Нет.
— Откуда тогда знаешь, как меня зовут?
— Бетлицкая сказала.
— Все ты врешь. Я знаю, я свое отработала. Вы меня убьете? Смена состава?
Так?
— Да пошла ты! Я вообще здесь слева! И знать ничего о вас не хочу!
— Ты местная?
— Вроде того.
— Как оказалась здесь?
— Случайно.
— А пистолет у тебя откуда?
— От верблюда. Слушай, опусти ствол. А я уберу свой, — Аля помедлила. — А то очень страшно. Правда. Руки с оружием медленно опустились.
— Так откуда у тебя оружие? — снова спросила Оля.
— Подобрала.
— Ты в кого-то стреляла?
— Да.
— Убила?
— Нет, ранила. Ирка оказалась ловчее.
Ольга оглянулась на лежащую в двух шагах Бетлицкую: глаза ее безжизненно и пусто смотрели в низкое зимнеенебо.
— Отловчилась. А вообще… стерва она была. Живых не оставляла.
— Все равно ее жалко.
— Что-то ты не похожа на жалостливую.
— Зато ты — очень похожа, — огрызнулась Аля.
— Всех жалеть — жалелки не хватит. Слушай, а ты, случаем, не «вешалка»?
— Кто?
— Не модель? Из Княжинска?
— Н-нет.
— А похожа. Дылда, как они все. И Ирка была такая же.
— Сама ты — пигалица. Причем злая.
— А ты добрая, да? Добрые со стволами по шалманам не таскаются, а в детских садах воспиталками сопят. Ну что, убрали пистоли? Совсем? На раз-два, только без фокусов, не в цирке. Да и сматываться, надо. Менты здесь квелые и не очень-то куда торопятся, а уж при таком огнестреле — и подавно. Но СОБРы — круты. Да и в уголовке есть борзые, вполне могут накатить. Ноги делать надо. — Оля пристально посмотрела в глаза Егоровой. — Похоже, ментов ты боишься больше пистолета.
— Больше, — спокойно подтвердила Аля.
— Я их тоже не жалую.
Успокоившись, Ольга сунула пистолет за пояс джинсов, Аля одним движением уложила свой в кобуру, но ремешком не закрепила: на случай.
— Ну что, подруга, как играли — веселились, подсчитали — прослезились…
Разбежались?
Оля быстро подошла к автомобилю, одним сильным движением вытянула убитого водителя из-за руля. Села сама.
Из дверей ресторана так больше никто и не появился. Молоденький милицейский сержантик показался было из административного здания, да тут же заспешил обратно.
— Что стала столбом? Нужно срываться! Сейчас этот «кусок» телефон накручивает. Минут через десять СОБРы подтянутся, они с войны — бешеные. — Ольга вздохнула, глянула на Алю:
— Что-то ты домой не торопишься, «местная». Подвезти?
— Подвези.
Аля плюхнулась на переднее сиденье, хлопнула дверцей. Повернулась:
— Может, Ирку заберем? Жалко же… оставлять.
— Дура! Живых жалеть нужно. — Ольга жестко свела губы, повернула ключ, отжала сцепление. — Ничем мы ей уже не поможем. Ничем. Да и — каждый сам за себя.
Аля оглянулась и долго смотрела на Ирку Бетлицкую: снег на ее лице уже не таял.
— Она всегда любила снег, — тихо сказала Ольга. Помолчала, вздохнула:
— Снега у нее теперь будет вдоволь.
Автомобиль сорвался с места. Он несся сквозь парящие снежинки, словно сквозь белые незабудки. Девушки молчали. Город остался позади.
— Тебя далеко подбросить, «местная»?
— На станцию. На железку.
Минут через тридцать машина остановилась. Вокзал — маленькое зданьице на продуваемом всеми ветрами перроне.
— Покурим? Намерзнуться успеешь.
— Давай.
Снег все падал и падал. В салоне было тепло и уютно, а о том, что произошло совсем недавно, девушки по молчаливому уговору не вспоминали.
— А все-таки? Ты — модель? — спросила Ольга.
— Так. Подрабатывала.
— У вас красиво. Только скучные все какие-то. И одинаковые.
— Завидуешь?
— Чему? — Ольга вздохнула. — Хотя — завидую. Парень у тебя есть?
— Есть.
— Дома?
— В тюрьме.
— Охо-хо.
— Не у нас. За бугром. Его подставили.
— Все так говорят. А в тюрьме плохо. Он у тебя сильный?
— Да. И добрый.
— Что-то не верится.
— Так бывает.
— Мир устроен глупо: добрые и отважные погибают первыми.
— Некоторые остаются.
— Мне такие не попадались. — Ольга вздохнула. — Завидую. Что дальше-то делать собираешься, залетная?
— Жить.
— Я тоже хочу… Вот только мне негде и не с кем… Ирка тоже срываться хотела, не успела. Глобуса наши манекены чикнули. Ирку решили стереть. Убить ее должна была я. Да не сложилось у них.
— Ты к ним вернешься?
— За пулей?
— И — куда?
— Мир велик.
— А чем заниматься станешь?
— Да чем угодно. Только не войной. А вообще-то, я море люблю. Уехать бы куда-нибудь, где снега нет и тепло… Под водой плавать. Там тихо. — Ольга вздохнула:
— Ладно, поговорили. Удачи, что ли?
— Прощай.
Аля открыла дверцу, вышла.
— Знаешь… — На миг Ольгино жесткое лицо помягчело, глаза стали мечтательными, и оттого вся она как-то разом похорошела, и Але показалось, что девушка куда моложе, чем она подумала сначала. — А все-таки… так хочется счастья.
— Мне тоже. Пока.
— Пока.
Аля хлопнула дверцей и пошла к зданьицу вокзала. Автомобиль обогнал ее, приветственно вспыхнув фарами, развернулся — и через несколько минут скрылся за снежной пеленой.
Еще через четверть часа Аля сидела в жарко натопленном вагоне, в пустом купе спального вагона. Проводница, усталая, замотанная тетка, спросила только:
«До Москвы?» — взяла деньги, сказала: «В пятое». Потом появилась, принесла стакан горячего чаю: «Грейся».
Аля сидела и ни о чем не думала. Только слушала, как колеса дробно повторяют на стыках: «В Москву… в Москву… в Москву…» Где-то там, за тонированной чернотой пуленепробиваемых стекол, затаился Лир. Умом Аля понимала, что пытаться добраться до него было полным безрассудством; но помнила она и слова Олега: «На войне невыполнимых задач нет. Нужно просто придумать простое и конструктивное действие, которое окажется непросчитываемым противником по полной глупости задуманного».
Стрелять в Лира было глупостью полной и очевидной хотя бы потому, что подобраться к нему на расстояние выстрела было нельзя. Немыслимо. Невозможно. Но Аля знала, что сделает это. Потому что невыполнимых задач нет. Правда, есть гибельные. Но об этом лучше не думать.
Аля отхлебнула чаю, покрутила колесико радиоточки. Музыка зимнего блюза показалась Але грустной и беззащитной; безыскусный голос певца с легкой хрипотцой перебирал слова, и они наполняли собой пространство.
Еще один рассыпался букет, Укутав зиму снегом хризантем, И человек, ушедший в лунный свет, Стал невесом, как сигаретный дым… Мерцая в сонном снадобье луны, Туманом таял у твоей свечи — Опять слова безумства и весны Шептал в очаровании ночи… И исчезал порочный круг примет В угольях обжигающей любви, И юный, недоверчивый рассвет Сиял, как купол Спаса на Крови. Промчались кони облаком — и нет. Корнет был восхитителен и нем, И лунной далью отлетевших лет Он кутал зиму снегом хризантем.Аля смотрела за окно, и ей показалось, что снег, наконец, кончился, и стекло оплывает дождем. Только ощутив на губах солоноватую влагу, девушка поняла, что плачет.
Глава 76
Город по окраинам был стыл, сер и бесснежен. Зима словно боялась заходить в этот тревожный мир, вибрирующий проводами высоковольток, поездами подземки, людским страхом; мир тетраэдров и параллелепипедов, в которых, словно в сотах иллюминаторов, испуганно теплились невнятные желтые огни. Ночью город становился вял и глух, а утром был похож на невымытую посуду: полусонные люди брели сквозь него, как сквозь необходимость. Но Лир знал, что город, этот механический монстр, врезавшийся в леса и долы скелетами железобетонных конструкций, застеливший поля гудроново-асфальтовыми клиньями трасс, — этот город был разный.
Для одних он был сутолочным и склочным, состоящим из ребер эскалаторов, грохочущих вагонов метро, круглосуточных пивных ларьков, тоскливого похмелья и утра, тусклого, как забытая на голой земле под дождем пивная бутылка… Для других — город был наполнен запахами дорогой кожи салонов автомобилей, мягким покачиванием под мерное, ритмичное причитание стереосистемы, предупредительными швейцарами в галунах, живыми цветами и струнными квартетами в залах ненавязчиво дорогих ресторанов… Для третьих это был троящийся город-урод, существующий, как полудохлое рахитичное чудовище, как блеклая и скользкая рыбина — от дозы до дозы… Усыпанное оспинами лицо негра, чек в потной руке, эскалатор, коридор, подъезд… и — взрыв, феерия, праздник, когда город и мир расцветают мириадами красок, когда сатана веселится, хохочет и сам пляшет по твоей прихоти и соизволению, и все затем, чтобы… Когда ты очнешься через несколько часов в сточной вонючей луже, с первым, тревожным, как хруст стекла на зубах, страхом близкого кумара, с изъязвленными, гангренозными ногами, — вот тогда дьявол и станет пировать, насмехаясь, оставив тебя, былого калифа на час, подыхать в зловонной помойной жиже… Труп никому не интересен, даже сатане: его в этих скелетных закоулках ждет новая паства, обреченная закланию.
Лир редко подходил к окну посмотреть, что за ним. Он ненавидел этот город и этот мир.
Впрочем… в этой жизни у человека всегда есть выбор. Между скверным и очень скверным: или попасть в наезженную колею и плестись в ней в упряжке с толстомясой супругой, волоча тяжеленный воз с детьми, домашним скарбом, родственными обязательствами, тихими полуизменами, преферансом по копеечке, лысиной, животом, прокисшими щами, блошливой кошкой — любимицей полоумной тещи, плестись без цели и смысла до самой добропорядочной кончины… Это — не бегство от одиночества, это ожидание беззубой старости и унизительной смерти — только кажется, что чем большим количеством крючков из дач, машин, любовниц и обязательств ты зацепишься за жизнь, тем позднее прибредет костлявая тетка…
Забывая, что каждый и рождается и умирает в одиночку. Слабым и беспомощным. Прах — человек и потому возвращается в прах, из которого вышел.
В этой жизни у человека всегда есть выбор. Можно все сделать не так: просто упасть в пустую неприкаянность независимого одиночества и выть от тоски… Когда жалость к себе не с кем разделить, когда мир постепенно сужается до размеров стен жилища-обиталища, но не дома… И это не зависит ни от количества денег, ни от блеска, какой имеет твоя жизнь в глазах окружающих. Что ни выбирай, все скверно. Впрочем, люди тщеславны: при любом исходе усилий они наклеивают на лица модные целлулоидные улыбки в международном стиле «cheese» и всем естеством изображают если не полное счастье, то довольство, заставляющее ближних завидовать. Чужая зависть — как пластырь на незаживающей ране собственного неудовлетворенного тщеславия и незадавшейся жизни; люди завидуют видимой атрибутике успеха. Хотя… есть еще власть. Но… никто никем в этой жизни не правит, а правит — жестокий закон стада, где задние напирают на передних, топчут оступившихся или ослабевших и рвутся, рвутся из последних сил, чтобы быть первыми в этой гонке, называемой жизнью… Первыми пред толпой, троном, временем, вечностью, смертью… Первыми перед воротами живодерни.
А когда запах чужой крови уже щекочет ноздри, когда приходит ясное понимание, что скоро твоя собственная жизнь унесется быстрее мимолетной летней тени и то, что от тебя останется, вовсе не будет тобой — лишь мертвой оболочкой, полной нечистот и требухи, — упираться уже поздно. Твое время уже закончилось, и никто не отметит это, как и на старте, звоном медного колокола. Живодерня — живодерня и есть: все прозаично, размеренно, буднично. Это только для тебя твоя смерть — событие, для остальных… Для кого — случайность, для кого — досадное недоразумение, для кого — некая философичная данность. И то, как ты прошел через свое время, уже не оправдает ничего в прошлом… Или — оправдает?
Лир откинулся в кресле. Черная туча, казалось, закрыла полнеба. Вот оттого и мысли столь бессвязны и черны, что кажутся бредом сумасшедшего. В пустыне. Ну да: мир — пустыня, в которой каждый старается оттянуть миг небытия. И каждый оказывается в конце концов побежден, ибо даже победитель не получает ничего.
Лир ненавидел. Ненавидел этих людей, этот город и этот мир. Вернее… Это даже нельзя было назвать ненавистью: это было презрение. Ко всему. К строениям, к деньгам, к людям, к тому, как эти животные, движимые стадным инстинктом, позволяют собою манипулировать — и как жаждут властвовать!.. Впрочем, он был человеком, и ничто не было чуждо ему, особенно пороки, вот только с годами из всех доступных развлечений осталось только одно: власть. Впрочем, эта игрушка стоила всего остального. Но не сегодня… Сегодня Лир не мог заставить себя отойти от окна: стоял, всматриваясь в грязноватую дымку, словно пытаясь высмотреть что-то, ведомое лишь ему одному, что-то значимое… То, от чего зависела его жизнь.
Сегодня Лир боялся. Боялся смертельно, не понимая ни источника своего страха, ни его причины. Предчувствие? Страх накатывался волнами холода, в одно мгновение обращая его, Лира, в недвижную ледяную статую. Ему казалось, что и сердце перестает биться, и кровь застывает, становится вязкой и густой, как мазут, и сосуды, сжавшись в пароксизме страха, не пропускают кровь к мозгу, и тот начинает галлюцинировать, представляя выдуманное сущим… Лир боялся. Но это его даже развлекало. Может быть, потому, что страх — единственная сильная эмоция, способная развеять скуку пережидания жизни и заставить жить?.. Страх сильнее власти? Ну конечно! Власть человечья конечна, самый влиятельный владыка, посылающий на смерть миллионы воинов, не властен над собственной смертью: нечто, чему нет объяснения, отнимет и его жизнь, и его корону не по праву и не по закону… По прихоти.
Случая, судьбы, рока?
Лир маялся. И эта маета пугала его горше страха. Он знал: так маются на войне солдаты перед тем, как их настигает смерть. Или — это просто старость?..
От окна он отошел, как пьяница от бутыли с кьянти. Чего ему бояться? Маэстро мертв, это теперь доказано, его, Лира, власть, восстановилась в куда более обширных, чем ранее, пределах и покоилась на таких грудах золота, что… А то, что она была тайной, только придавало обаянию этой власти особый аромат, тонкий и изысканный. И все же, все же…
Дверь неслышно отворилась, строго одетая женщина средних лет вкатила сервировочный столик, постояла с полминуты, ожидая, не будет ли особых распоряжений, и, не дождавшись, молча исчезла за дверью. О том, что она вообще была в этой комнате, напоминал лишь аромат свежесваренного кофе и горячих булочек. Пора второго завтрака.
Лир подошел к столику, раздумчиво взял булочку, разрезал, приготовился намазать ее маслом, отложил, налил из джезвы в чашечку густой горячий кофе, отхлебнул… И — едва не выронил ее из рук: ему почудился запах горького миндаля, какой бывает при добавлении в пищу цианидов… Холодная испарина мигом обметала лоб Лира, сердце ухнуло куда-то вниз, как в пропасть, ноги подкосились сами собой, и он буквально свалился в кресло, выпустив из пальцев точеную белую ручку… Чашка упала на пол, бурая жидкость, дымясь, впитывалась в ковер, а Лиру казалось, что на шею ему накинули удавку, и он задыхается… Нет, умом он понимал, что, глотни он цианида, уже давно лежал бы обездвиженно на этом самом ковре… Он понимал, но… ум отказывался повиноваться логике, сейчас он подчинялся эмоциям. Ведь жизнь так коротка и… Может, ее у него, Лира, не было, совсем не было? Так, невнятный сон неизвестно о чем… Нет, когда-то, давным-давно, была и рыжая девчонка, и лукавство в ее глазах, и что-то еще…
Жизнь так коротка…
Жизнь ведь так коротка и печальна — Все мы можем с тобою позволить:
Эту ночь, безоглядно-венчальную, Ни к чему нелюбовью неволить.
Подарю тебе звездные полночи, Забытье или счастье минутное, Позабытость пленительной горечи, Ликованье бесстыдно-распутное, Подарю удивленность желания, Веселящую глупость похмелья, Запоздалую сладость раскаянья, Молчаливый покой утомления.
Невесомую дымку рассветную Ночь приблизит, туманом играя, Красоту, в суете незаметную, Ты увидишь, глаза открывая…
Утро вспыхнет зарницами дальними, Будет ветер листву беспокоить…
Эту ночь, безоглядно-венчальную, Ни к чему нелюбовью неволить.
Странное, зыбкое, давно забытое очарование вдруг охватило Лира, и это очарование вдруг показалось ему болезнью, сродни сумасшествию… Любовь? К дьяволу! Мир жесток и уродлив, и как ни старайся украсить его иллюзиями… Лир оглядел серый кабинет, где по углам затаились неясные тени… Он ощущал вокруг странную, пугающую пустоту; мрак будто сгустился вокруг, стал осязаемым, завил, заплел Лира в свой липкий кокон, и Лир застыл, замер, боясь пошевелиться и чувствуя рядом лишь близкое присутствие чего-то жуткого…
К дьяволу! Лир подошел к бару, налил коньяку в тяжелый хрустальный стакан, выдохнул и выпил коллекционный напиток легко, как воду. Постоял, прислушиваясь… Нервы чуть обмякли — словно натянутые, готовые оборваться струны превратились в вязкие веревочки из теста, они провисали безвольно в черном и пустом пространстве… Лир тряхнул головой, прогоняя наваждение.
Наплескал еще с полстакана, вернулся к креслу, сел, включил пультом соединенный с компьютером небольшой экран, где высвечивалась текущая информация, морщась, словно от зубной боли, смотрел на строчки цифр… Нет, все было хорошо, даже замечательно. В делах. А вот во всем остальном… Лир чувствовал, что время непостижимо меняется, и это огорчало его до слезливой жалости к себе. Ему казалось, что нового времени ему уже не дано.
И еще — была обида. Столько лет! Столько лет он упрямо и кропотливо строил теневые связи и создавал связки, столько лет он висел в паутине собственных построений, подкармливая одних, пожирая других, делая подвешенными тряпичными болванчиками третьих… Ему нравилось, что некогда могущественная система государства сделалась похожей на скованного, спутанного по рукам и ногам Гулливера, а чернь всех мастей и рангов, чиновничья, преступная, финансовая, роскошествовала, хозяйничала в стране, как в чужом постылом подворье, разбирая все и вся, превращая подгнившую, но сладкую, будто перезрелый ананас, империю, в кучу гнили, наполненной черными, с перламутровыми брюшками, трупными мухами… И когда новый молодой скоморох вдруг взбирался на приступочку близ властного Олимпа, Лир только щурился, с удовольствием предвкушая движение ниточки-паутинки в чисто вымытых узловатых пальцах… А теперь… время менялось. Время.
Ну да, время. Время течет неодинаково в каждом возрасте. И людишки обманываются: в детстве, когда каждый день длиною в год, предстоящая жизнь представляется им бесконечной, как тысячелетие… Но дни лукавы, и мелькают, мелькают глумливой чехардой… И вот человечек уже стар, уродлив и одинок. И некому защитить его от смерти, потому что каждый умирает в одиночку. Впрочем, как и живет.
Время течет неодинаково в разных местах. Там, где тепло, оно размеренно и длинно, как в детстве, а на холоде… Люди прячутся, пережидая холод и вместе с ним — и время, попадая будто в ямы, в которых остановилась замкнутая серой сутолокой будней жизнь, и люди пережидают ее покорно, оглушая свой страх водкой… И, даже зная, что другой жизни у них не будет, живут блекло, скудно и скупо… Или это зачем-то нужно? Кому?
Лир встал и снова подошел к окну. Затаившийся за ним в мутной дымке громадный город внушал страх и неумолимо притягивал к себе, как пропасть. А потому Лир смотрел и смотрел, пытаясь углядеть в невнятном сумраке что-то важное для себя — или просто зачарованный вязким предсмертным мороком.
Глава 77
Москва встретила непогодой. Снега здесь не было. Ветер колол крошечными ледяными стекляшками, бросая в лицо девушки зябкую-заметь поземки. Перрон продувало насквозь. И Аля стояла на этом перроне, недоуменно крутила головой, словно пытаясь понять: «Где я? Что мне здесь нужно?» Люди с баулами и сумками медленно перетекали с перрона в подземные переходы.
Девушка слилась с потоком и нырнула в метро; вереницы людей плавно опускались вниз, в коридоры подземки, будто в другую реальность. Але подумалось, что люди в таком мегаполисе — словно маленькие кровяные тельца в сосудах, артериях большого механического монстра, биоробота; одни — усталые, отработанные или просто не совпавшие с тяжким ритмом гиганта, отторгались, превращаясь сначала в обузу, потом — в прах. На их место заступали другие — сильные, уверенные, жаждущие славы, богатства и власти, готовые покорить этот город и этот мир… Некоторые получали то, что жаждали, теряя по капле не кровь, но душу. Город выпивал таких до донышка, превращая в подобие составляющих его строений. Людские потоки оживляли созданного людьми монстра, но и без него обойтись уже не могли. Город концентрировал волю и силу каждого, соединял в систему — и пользовался для своего процветания и роста. Здания, узлы коммуникаций, дороги — все это росло, ширилось, давая людям лишь коротенький ночной роздых, чтобы с утра снова и снова перемалывать людские жизни в нагромождения камней, проводов, металлоконструкций. Город знал, что он переживет всех этих мелких теплокровных, снующих жалкими двуногими зверьками, одержимыми страстями и страхом. Город казался себе вечным.
Аля тряхнула головой: усталость была серой и ватной, оттого и лезли в голову непрошеные и совсем невеселые мысли. Не думать. Отдыхать. Просто двигаться в потоке.
Аля рассматривала людей. Нет, это ее собственное настроение играло с ней шутку: зачем придумывать мнимые и страшные сказки, когда есть вокруг и жизнь, и движение, и любовь? Аля заметила, что ее ровесники, веселые и очаровательные, стремились поймать ее взгляд, и девушка вдруг поняла, что до сих пор жила и теперь живет совсем не правильно: никогда, никогда не было в ее жизни той беззаботности, что видела она на лицах сверстников; что-то похожее на зависть мелькнуло и исчезло в душе; это не ее вина и даже не ее беда: просто судьба у нее пока такая. И может быть, она труднее, чем у многих, но, наверное, еще больше таких, кому приходилось куда горше, чем ей. К тому же-у нее была надежда.
Когда у тебя нет больше ничего, надежда — не так мало.
Правда, был еще и страх. И — любовь. И страх за Олега, и страх потери…
Только потом был страх за себя. Але даже казалось, что это не очень-то нормально, но поняла: просто она гордая. Если жить, то жить хочется только так, как достойно человека, — с любовью, с достоинством и смыслом. По-другому она не хотела. А может быть, она все-таки счастливая? Ведь дар любви дается не всем, еще труднее его удержать… Но она будет стараться. Иначе не выжить.
Аля нахмурилась. Нужно сосредоточиться на деле, хватит посторонних мыслей.
Хотя… если мысли о любви считать посторонними, все остальные — просто никчемны.
И все-таки… Аля понимала, почему не желает думать о предстоящем. Она едет затем, чтобы застрелить Лира. Он — страшный человек, и Аля боялась…
Боялась, что не сможет подобраться к нему, что ее схватят и убьют раньше, чем…
Боялась, что не попадет. Но еще больше боялась, что просто-напросто не сможет выстрелить — и убить. Все происшедшее с ней за последние полгода, казалось бы, должно было ожесточить девушку, но вместо этого она вдруг стала остро чувствовать… беззащитность. И свою собственную, и других людей… Горячий металл, вылетая из стволов, обрывал не только жизни, но и надежды на счастье, и Але казалось, что с каждым убитым горя на земле становится больше. Не какого-то отдельного, а общего, которое не разбирает ни рас, ни племен, ни вероисповеданий и настигает жертву и в жалких лачугах, и в роскошных особняках так же неотвратимо, как смерть.
И еще — Але было жалко себя: она боялась, что пропадет в этом мире: каждому человеку отпущен свой предел стойкости. Але казалось, что она его исчерпала. Хотя… девушка не собиралась лгать сама себе. Она знала, что куда сильнее, чем себя считает… Но от этого Але не было легче, и она не становилась счастливее.
Лир загнал ее в угол, и ей некуда бежать в большой стране и на круглой земле, нигде она не будет свободна от страха. А страх… Страх губит все вокруг, превращая людей в безвольные тряпки, в комнатные растения, живущие от полива до полива, в спивающееся стадо. Она не будет бояться. Она сможет.
Лир… Воображение девушки уже нарисовало гнусного карлика-уродца, полузверя. Это его идея делать киллеров из девочек-подростков, это он губил тысячи, десятки тысяч людей, наживаясь на войне и героине… Карлик-уродец… А на самом деле Лир может оказаться благообразным пенсионером с блестящей лысинкой, благодушным и благочинным, и Аля… Нет, она сможет. Словно наяву Аля увидела Ирку Бетлицкую я нетающий снег на ее губах… Маэстро, отважного, изломанного и такого одинокого… Увидела в черном стекле поезда метро себя: потерянная девчонка с беспомощными глазами… Она сможет. Сможет, и точка.
И действовать нужно наверняка. Просто события нынешнего утра совершенно выбили ее из колеи. Нужно собраться. И не торопиться. Сейчас она просто прикинет, как действовать, осмотрится. Как можно подобраться к Лиру? Дожидаться на улице возле офиса корпорации, пока тот соизволит покинуть прибежище? Но во-первых, он может выехать из подземного гаража в бронированном лимузине. А во-вторых, она никогда его не видела, знает только имя и место… Проникнуть в здание? Как? Под видом девчонки — разносчицы из пиццерии? Это из не нашего кино.
Так не пойдет. Да и не получится.
А что бы стал делать Олег? Как-то он говорил: никогда и нигде не удавалось ни одно покушение, если в нем не принимала участие служба охраны опекаемого лица. Начиная с Авраама Линкольна и кончая Джоном Кеннеди и Ицхаком Рабином. Но валят же всяких авторитетов, причем пачками! Да, но не такого уровня, как этот Лир. Служба безопасности отследит любой объект, немотивированно появившийся в зоне ее ответственности, и постарается в кратчайшие сроки его прояснить и нейтрализовать. А исключения? Бывает, что система не заметит чужака? Да. Только в том случае, если чужак будет выглядеть ее частью, частью системы. Але остается только поступить в корпорацию на службу и стать любимой секретаршей Лира… Или соблазнить начальника его охраны, и тот, воспылавший любовью, сам зарежет патрона кухонным ножом и без наркоза. Бред.
Но Лир уязвим. Любой человек, даже самый могущественный, — не робот, не монумент и не статуя Командора. Человек из мяса и костей, со своими привычками, болезнями, слабостями. Смертный. А это значит — его можно убить.
Аля поежилась… Если бы ей предстояло стрелять в горячке боя, защищаясь… А так вот холодно планировать убийство… Назвать предстоящее дело не «убийством», а «ликвидацией»? Или еще проще — «акцией»? Профессионалы так и делают. Просто работа. Аля вздохнула: не получится из нее хладнокровной и расчетливой мегеры. Вот только… Аля понимала, что у нее есть шанс… устранить Лира. Но вот шансов остаться в живых — почти нет. К этой мысли еще нужно было привыкнуть.
Девушка вынырнула из метро почти через час — и не узнала город. Вокруг смеркалось; метель кругами носилась над камнями брусчатки, жутковато завывая между двумя высокими неровными кубами, облитыми зеркальным стеклом: в одном из них Лир.
Аля беспомощно оглядела огромную, выстуженную площадь между двойной громадой корпорации, и ей стала очевидна вся бессмысленность затеи. Найти в этих «кубиках» человека было задачей непосильной! А выследить и уничтожить того, кто руководил и владел всем этим, — просто немыслимо. На мгновение Але показалось, что она осталась совершенно одна в этом огромном мире лязгающих механизмов, зеркальных стен, низкого неба, за которым вовсе нет солнца, а лишь такой же холодный космос — из камня и льда. Словно в бреду, девушка брела через площадь, а шквальный ветер гнал у ее ног вихри поземки. Будто маленькие смерчи, они ластились у ее ног снежными водоворотами, а Аля все шла и шла — затерянная фигурка между двух громадных, облитых зеркальным стеклом кубов, никому не нужная. Живая… Пока — живая.
Визг тормозов она услышала поздно. Два желтых глаза противотуманных фар выросли прямо перед ней, тяжелый бампер дорогой иномарки поддал девушку, словно тряпичную куклу, и она неловко шлепнулась на полированную жестким наждаком смерзшегося снега брусчатку.
Водитель выскочил сразу, испуганно глядя на нес. От одного из «кубиков» корпорации к ней бежали несколько мужчин в форменных кожанках — охрана.
— Да что я? Она же как полоумная шла, ни черта не видела! — жестикулируя, оправдывался водитель.
Аля попыталась встать, еще ошеломленная падением, но ногу свело дергающей болью, и она снова опустилась на камни.
— Может, «скорую» вызвать? — спросил кто-то из охранников.
— Не нужно «скорую». У нас медчасть поосновательнее будет, — произнес мужчина постарше, скомандовал:
— Берите девушку — и в медпункт. — Он наклонился, участливо рассмотрел ее лицо, заглядывая в глаза. — С головой все в порядке? Не тошнит? Голова не кружится?
— Немного, — тихо сказала Аля.
— Ну что застыли?! — прикрикнул начальник на охранников. — Взяли аккуратно — и к нашему врачу.
Сильные руки подхватили ее, понесли. Аля обхватила мужчину за шею, прижалась к его плечу и вдруг почувствовала себя, как в дальнем-дальнем детстве, уютно и защищенно.
— Да у тебя слезы на глазах, дочка, — произнес тот, старший. — Так больно?
— Нет, это просто от ветра, — тихо произнесла Аля, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь. — Метель.
Глава 78
Лир дремал, устроившись в кресле, и дрема его измотала. Он проснулся уставшим и раздраженным: ему снилось, что он бегает за какими-то бесплотными тенями по бесконечному подземелью, лабиринту, облицованному белой кафельной .плиткой… Это было похоже на переходы подземки. Но еще больше — на морг.
Какая-то вязкая бурая жижа сочилась сверху и стекала по кафельным стенам, с потолка свисали грязные, похожие на сталактиты сосульки, под ногами то и дело проскакивали большие юркие крысы; время от времени то одна, то другая поднимала мордочку и всматривалась в редких здесь людей… Лир понял, что эти ночные звери Хотят увидеть: достаточно ли ослабел человек, чтобы стать им кормом… Ну да, где-то он читал, что крыс на земле по крайней мере впятеро больше, чем людей, и созданная ими цивилизация куда долговечнее и организованнее человечьей…
Неожиданно он почувствовал тяжесть под левой лопаткой, вскинулся и обомлел: здоровенная, жирная крыса запрыгнула ему па плечо и сидела теперь, тараща махонькие подслеповатые глазки и дергая поросшей седыми волосками верхней губой, под которой матово и желто топорщились острые резцы… И еще — от крысы мерзко пахло: какой-то гнилью и еще почему-то хвоей, струганой сосновой доской и свежеотрытой могилою.
Лир закричал, дернулся, сбрасывая с себя жуткую тварь. Он бежал по бесконечному кафельному коридору, а выхода все не было, коридор казался лабиринтом, под ногами шмыгали мерзкие твари, похожие на ящериц; они что-то мерзко верещали, когда он наступал на них, шмыгали россыпью из-под ног, а Лира с ног до головы разом покрывал омерзительно-липкий пот, вонючий, как перегной болотной тины и лягушачьей икры.
Он бежал, его безумный крик беззвучно стыл в горле, как кусок льда. Он уже потерял всякую надежду выбраться из жуткого лабиринта, как почувствовал свежий, сквозной ветер… Через мгновение Лир выскочил из-под земли по переходу. Вокруг, влажно поблескивая брусчаткой, под вихревым танцем белой вьюги замерла площадь.
Кремлевские башни были почему-то сложены не из кирпича, а из багряного, со светлыми прожилками, гранита; посреди площади, рядом с Мавзолеем, застыл на вздыбленном коне Медный всадник, а дальше… дальше шли ряды могил: под восьмиконечными крестами, под простыми фанерными, с красной солдатской звездочкой в навершии, обелисками, под известняковыми надгробными камнями, украшенными звездой Давида… Еще дальше причудливой вереницей тянулись литые фамильные склепы, отмеченные гербами старинных русских родов и значимых фамилий.
«Что это?» — пронеслось в воспаленном и подавленном воображении Лира…
«Лобное место!» — проорал ему в ответ гнусавый и противный до омерзения голос.
«Что?» — Лир заметался в смятении: тьма сгустилась, снег плотной пеленой обволакивал его уже со всех сторон, лепил в глаза, в уши, набивался в рот…
«Лобное место! — снова визгливо донеслось до него. — Голгофа!»
Лир испуганно шарахнулся в сторону — и обмер: он оказался на самом краю ущелья; дно его было сокрыто черной дымкой. Но Лира напугала не бездна, его напугал зверь: гибкий барс мягко ступал по серебристому снегу, скаля белые клыки; его густая шерсть переливалась в лунном мерцании… Барс подошел к краю обрыва, прыгнул — и исчез за дымной завесой… А Лир остался стоять в полном изнеможении, один, между погостом и пропастью.
Пробуждение Лира было больным и усталым. Голова пульсировала тупой монотонной болью так, что ему пришлось забросить в рот целую пригоршню таблеток, запить боржоми из початой бутылки и еще с четверть часа безразлично таращиться в пустоту, пока он начал соображать хоть что-то. Боль не прошла, затаилась, но Лир почувствовал себя вполне сносно, щелкнул кнопку на пульте, зажигая экран большого телевизора… И — сразу скривился, словно от изжоги: опять эти молодые да ранние! Они, никогда не стоявшие в дерьме, воспринимающие мир таким простым — есть правда для избранных и ложь для всех, ползущих к власти влажными, липкими гусеницами, — они раздражали его больше всего остального! Он, Лир, обладая громадным влиянием и возможностями, вынужден был считаться с этими циничными белозубыми марионетками! Впрочем, они и не артачились, просто называли свою цену и под клиентами если и суетились, то редко: те теневые фигуры, что готовы были эту цену заплатить, и придавить свою куклу могли жестко, одним движением, как половой — таракана. Но Лир был не согласен с тем, что цену эти мальчики и девочки назначали себе сами: он привык к тому, что в этой стране назначать цену всегда было прерогативой покупателя.
Но более всего Лира страшило то, что он оказался вне времени и вне власти.
Про него словно забыли. Кроме тех румяных марионеток, при власти объявились собранные, похожие друг на друга люди, словно связанные одной нитью, одной судьбой, одной целью. И люди эти не суетились: они брали власть спокойно, как поводья у привыкшего к опостылевшей воле одичавшего мустанга… Их молчаливая дисциплинированность пугала Лира. Но почему, по-че-му?! Почему такая несправедливость? Он, Лир, лееял свою власть, как любимую женщину, как мечту, потому что ничего, кроме власти, у него не было. И вдруг эта лукавая потаскушка падает в руки другому… Или — он, Лир, недооценил Систему? О нет! Уж он-то знал ее силу и ее мощь… Просто поменялось время. Совсем. И Лир прозевал эту перемену. Нужно наверстывать. Мерить версту за верстой, нагоняя. Губы старика искривились гримаской… Лир знал одно: он не отдаст никому реальной власти. И если уж не удастся ее удержать — пусть правит война. У войны не бывает господ.
Только слуги. Лир щелкнул выключателем, экран погас. — Лаэрта ко мне, — произнес он по селектору. Лаэрт появился незамедлительно. Уже через минуту он стоял напротив: лицо упитанное, розовощекое, ну чистый серафим, впрочем, тренирован, да и характерец есть; мягковат, правда, парниша, но пусть уж на побегушках будет Лаэрт, это лучше, чем непредсказуемый гений Маэстро или истеричная сила Глостера. Будь у Лира в приближенных по-прежнему Глостер, он бы чувствовал себя в изменившемся времени ой как неспокойно! А с этим прибежищем витаминов, с этим пудингом по имени Лаэрт он, Лир, справится как-нибудь. Правда, Лаэрт хитер: уцелеть, когда погиб Глостер, — задача не из простых, и он ее выполнил. Но это Лира даже забавляло; хитрость, просчитывая ходы, порой забывала о простом правиле: тому, кто получает пулю, не нужны ни карьера, ни деньги, ни власть.
Такова жизнь: людям не чуждо ничто человеческое, особенно смерть, но жить с этой мыслью им невмоготу, вот они и ловчат, пытаясь той самой хитростью уравнять шансы. Тщетно. На этой земле лишь один владыка и царствует, и правит — страх; остальные при нем — похоть, лень, словоблудие, пьянство, чревоугодие — суть шуты гороховые.
Внезапно Лир почувствовал страшную усталость, словно прожил без сна весь двадцатый век, теперь уже прошлый, и именно с него спросят за все жертвы, которые жрецы Молоха принесли своему гневливому ненасытному божеству…
Глава 79
Пока босс молчаливо мерил шагами комнату, Лаэрт не проронил ни слова. Лир повернулся к нему неожиданно, спросил:
— Лаэрт, ты боишься смерти?
Розовощекий блондин если и был смущен, внешне остался совершенно спокоен: пожал плечами, и по одному этому жесту Лиру показалось, что если Лаэрт к кому и относил слово «смерть», то только не к себе. И хотя это было характерным для большинства людей. Лира пусть немного, а позабавило. Мысли Лира свернули на обыденные дела, и это успокоило: исходить желчью неразумно. А власть… Да куда она денется, если твой союзник — война?
— А Глостер? Он боялся? — спросил он Лаэрта, и испытующе уставился в глаза помощнику.
— У него теперь не спросишь, — отозвался тот, словно растворив настойчивый и острый взгляд Лира в бледной мути роговиц.
— Боялся. И ты — боишься. Но Глостер… Он был глуп. От страха он решил побрататься со смертью. А эта дама не выносит братаний и фамильярничанья. И вот — результат. А ведь незаурядных талантов был малый этот, Глостер, и надежды ведь подавал… А, Лаэрт?
Глаза Лаэрта подернулись странной белесой дымкой, будто он пытался вспомнить некогда слышанное и не вполне еще заученное; он и не решился бы это повторять, но уж очень хотелось блеснуть, а потому произнес фразу с осторожной, чуть смущенной улыбкой:
— Так уж вышло: в конце сказки добро победило разум, Любимый сюжет у здешнего люда.
— Именно! — взвился разом Лир. — Чуда им подавай! Чуда! Вот им! — Лир сложил кукиш и выставил его перед носом Лаэрта, словно он и был тем самым орловским землепашцем. — Пусть копошатся в собственных слезах, соплях и крови! — Лир брюзгливо опустил нижнюю губу. — Согласись, Лаэрт, ведь это же бред — не слышать голоса рассудка!
— Бред, — с добропорядочным видом старательного хорошиста подтвердил Лаэрт.
— Одно скверно… — произнес Лир задумчиво и очень печально. — Не знаю, как это бывает, но… В этой стране действительно случаются чудеса… Потому что только здесь в них верят. Страна больших детей. Здесь всегда побеждает добро.
Разум безжалостен к слабым, а на Руси испокон любят юродивых… Знаешь, как называют Россию ученые-аналитики Запада? Сердце земли. Или — земля Сердца.
Страна больших детей. Поэтому их всегда обманывают. Русские — дикари: только те покупались на блестящую мишуру и зеркальца, а эти — на сказки о добре и справедливости. Другим сказкам они просто не верят. — Лир вздохнул. — Когда-то Петр Ильич Чайковский пересказал цветущей, похожей на перезревшую лилию в напитанной удушливыми испарениями оранжерее, Российской Империи страшные сказки Гофмана. Кажется, тогда лишь он один слышал движение той жуткой и неумолимой силы, что надвигалась на Россию в облике карикатурных уродцев, крошек цахесов, но страна, погруженная в суету купли-продажи, в самодовольство и бюрократическую серость вицмундиров, не расслышала предупреждение гения. А черный лебедь уже кружил, кружил, и круги его делались все уже… И серый крысиный король уже примерял на себя царство в смутной тени дворцовых подземелий… «Кто был ничем, тот станет всем…» — Лир прикрыл глаза, закончил ожесточенно:
— Поступь ослепленной черни.
Лаэрт молчал, и на лице его застыло выражение полнейшей преданности: «Как вам будет угодно». Губки, сложенные бантиком, мягкий румянец щек… Лиру даже стало смешно: а ведь он было заподозрил…
— Так зачем же я тебя вызывал? — спросил Лир, словно про себя, добавил:
— Не помню. Склероз стариковский, будь он неладен. Ну иди, поработай пока с бумагами, а я… Все дело в том, что я еще не вполне проснулся. Задремал, понимаешь, и… Ступай.
Лаэрт кивнул, направился к двери странной, деревянной походкой: спина его была неестественно прямой. У Лира мелькнула даже дурацкая мысль: наверное, именно так ходят на казнь. Но не жертвы: начинающие палачи.
— Постой! — повелительно остановил Лаэрта Лир. Встал с кресла, подошел, спросил, заглядывая в лицо:
— Не знаешь ли ты, к чему снятся барсы?
— Барсы?
— Барсы! Львы высокогорий! Дикие снежные кошки! Возбуждение Лира было не наигранным: он действительно был не на шутку взволнован. Лаэрт растерянно кивнул за окно:
— Метель.
— Метель? Ну да, метель, — раздумчиво повторил Лир, уставясь в беснующуюся темень за окном. — Метель… — Лир прикрыл глаза, вспоминая заснеженную площадь из своего тяжкого сна. Какое там было время? Зима? Или — никакого?.. Никакого!
Там, в его сне, часы на главной башне страны были сработаны из единого куска гранита; малахитовые стрелки замерли безжизненным прямоугольником. — Метель… — Лир снова обратил тусклый взгляд за окно. — Бесы, что ли, куражатся?
Он долго смотрел в непроницаемо матовую темень, разлепил губы, прошептал:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы, что делать нам!
В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам…
Бесконечны, безобразны, В мутной месяца игре, Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре…
Лир помолчал и повторил безо всякой интонации:
— Метель.
Лир повернулся и шаркающей, старческой походкой этошсл к дальнему концу кабинета, где за скрытой за дубовой панелью дверью был вход в жилые помещения и в спальню.
— Время разбрасывать камни и время собирать, время жить и время… Не у каждого хватит мужества поглядеть в лицо своему прошлому. Еще меньше тех, кто рискует видеть будущее.
— Простите, Лир?
— Видеть будущее… Для тех, у кого оно есть. — Лир поднял глаза, заполненные влажной мутью; было заметно, что ему пришлось сосредоточиться, чтобы вернуться сюда, в эту комнату. — Не важно, Лаэрт. Для тебя все это не важно. Для слуг нет времени. — Лир задумчиво посмотрел на помощника слезящимся старческим взглядом, и горькая гримаска на долю секунды исказила его тонкие губы… — «Жизнь нежна, как осень перед снегом»… — проговорил он едва слышно, потом сказал уже громче:
— А мне… мне страшно жить… Страшно.
Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне…
Лир снова вздохнул — горько и вместе с тем кротко:
— Мне страшно жить, Лаэрт. Беда не в этом. Беда в том, что умирать мне еще страшнее. — Лир вздохнул, закончил хрипло, едва слышно:
— Ступай, Лаэрт. Я устал. Мне нездоровится. Пойду лягу.
Лаэрт несколько секунд стоял манекеном, пока патрон не скрылся за дверью.
Потом осторожно, будто в комнате находился покойник, вышел из кабинета, снял трубку с телефона отсутствующего секретаря, набрал несколько цифр, сообщил бесстрастно:
— Лир болен.
На том конце трубки повисло молчание, пауза продолжалась с минуту.
— Вызовите врача. Пусть поможет старику. Позаботится.
— Слушаюсь.
— Да. Так будет лучше всего. Проследите за всем сами, Лаэрт.
— Слушаюсь.
— Только так, чтобы все было достоверно.
— Так точно.
В трубке щелкнуло, но не последовало никаких гудков, словно там, на том конце линии, и не было никакого собеседника, а одна лишь вязкая пустота небытия.
Глава 80
Все вокруг было белым. Белые простыни, белые стены, белые абажуры ламп.
Но, как ни странно, Але здесь показалось уютно. Внимательный немолодой доктор тщательно осмотрел подвернутую щиколотку, заключил с явным облегчением:
— Растяжение. Перетянем, и все будет хорошо. Как голова?
— Пока на месте.
— Не болит?
— А чего ей болеть?
— Тошноты нет?
— Разве что от жизни.
— Ну что ж, все действительно хорошо. Если больная шутит, то она — здорова. — Позвал:
— Евгения Степановна!
Пожилая медсестра с перевязкой справилась быстро. Она была молчалива и работала быстро и профессионально. Только один раз, затягивая повязку, спросила:
— Не больно?
— Нет.
— Пальчики чувствуешь?
— Да.
— Пошевели.
— Ой!
— Больно?
— Чуть-чуть.
— До свадьбы заживет. — Евгения Степановна улыбнулась, почти не разжимая губ, но Аля знала — женщина улыбается по-доброму и искренне: у нее глаза улыбались.
— Спасибо, — от души поблагодарила Аля. И подумала: вот ведь странная жизнь, кажется, кругом тебя такие беды обступают — не продохнуть, но и люди вокруг случаются добрые и сочувственные… Или — это Бог ее, Алю, бережет?
Доктор, отлучавшийся куда-то, вернулся, лукаво глянул на Алю, опасливо покосился на дверь, за которой скрылась медсестра, отошел к шкафчику с инструментарием, открыл, достал запертую притертой резиновой пробкой колбу с коричневато-янтарной жидкостью внутри, две мензурки, вернулся.
— Не сомневайтесь, барышня, коньяк наиотборнейший. — Доктор разлил жидкость по мензуркам двумя скупыми точными движениями. — Я хоть и простой лекарь, но служу в непростом месте: здесь иной подносить врачам не принято. Ну, за здоровье? Чтобы лапка не болела! И давайте без церемоний: моя сестричка Евгения свет Степановна большая противница алкоголя в любой форме, так что… — Доктор со знанием дела закатил глаза, «хлопнул мерзавчика» эдак по-врачебному, почмокал, смакуя, воровато оглянулся, долил себе еще мензурку.
— Вы москвичка? .
— Да, — соврала Аля.
— Вот и славно. Вызовем автомобиль, и он доставит вас к папе и маме в целости и сохранности. — Доктор приподнял свою мензурку, задорно блеснув толстыми линзами очков в темной черепаховой оправе:
— За здоровье! Пейте-пейте, барышня, вам нужно, сочтите за лекарство. Не каждый ведь день на вас машины наезжают…
— Машины — не каждый.
— А поклонники одолевают?
— Когда как.
— А это как раз неплохо, девочка. Будет что вспомнить из того, что необязательно рассказывать внукам. — Доктор теперь уже медленно, с удовольствием прикончил свою порцию, Аля последовала его примеру.
— Ну? Чувствуете букет? То-то! Из закромов самого Ильи Ивановича!
— А кто это — Илья Иванович? Президент корпорации? Доктор захохотал над ее словами, как над милой шуткой ребенка:
— Президент корпорации у нас — ширмочка. Болван. Сиделец. — Только теперь Аля заметила, что доктор уже хорошо принял за сегодняшний день.
— А Илья Иванович… Кто же он? Доктор рассмеялся заливисто, сделал комически-страшное лицо, выпучил глаза, произнес:
— Мамамуши! О-о-о!
— Кто? — не поняла Аля.
— Это из Мольера, деточка. А вам — что вам скажет должность Ильи Ивановича? Ничего. Ровным счетом. Ну и забудьте.
То ли потому, что коньяк мгновенно вступил в голову, то ли оттого, что доктор оказался таким обаятельным симпатягой, но Аля вдруг спросила, неожиданно для самой себя:
— Он — Лир?
Доктор как раз пытался прикурить длинную папиросу с золотым ободком, поперхнулся, закашлялся… Снял очки, какой-то облезлой тряпицей протер и без того безукоризненно чистые линзы, глянул на Алю близоруко и оттого совершенно беспомощно, мучительно покраснел и только тогда переспросил:
— Извините, я не расслышал. Что, простите?
— Илья Иванович — это и есть Лир?
— О Господи… Лир… А мне послышалось… Да не важно. — Доктор махнул рукой. — Не важно. Это так. Давнее. И личное. Жизнь течет, как песок сквозь пальцы…
Евгения Степановна вылетела из соседней комнаты собранная и взволнованная:
— Викентий Ефимович, в восьмой блок, срочно. Похоже, у нас там обширный инфаркт.
— Бригада?
— Уже поднимается.
— Иду. — Доктор кивнул, глянул на Алю. — Вы посидите, деточка? Евгения Степановна, а где Вера? Женщина, похоже, смутилась, даже порозовела:
— Я… я ее отпустила пораньше.
— Вот как? У женщин свои секреты?
— Так уже через полчаса другая бригада заступает, и подумала… — неубедительно залепетала старшая.
Доктор провел взглядом по кабинету, остановился на Але:
— Послушайте, деточка… Вы не побудете здесь буквально пять минуточек, я кого-нибудь из бригады сразу пришлю… Если вдруг будет вызов, вон та лампочка загорится, вы уж вот эту кнопочку нажмите, переключите селектор мне на трубочку, хорошо? Наши жмоты… Как на вывеску тратиться или в кабаке зеленью размахивать, на это — пожалуйста, а то, что у меня сплошная допотопь со связью, это никого не волнует… Посидите? Пять минуточек?
— Ну конечно. — Аля энергично кивнула. Доктор заговорщически подмигнул:
— Только, барышня, курточку снимите и накиньте халат. Не ровен час какое начальство заглянет… А так — для них все мы на одно лицо. — Доктор вздохнул, и в его вздохе явственно ощущалась давняя, затаенная горечь:
— При-слу-га.
— Викентий Ефимович, потом налюбезничаетесь! Лифт подошел! — раздался из коридора голос вновь построжавшей Евгении Степановны.
— Бегу! — Доктор выскочил из дверей медпункта, мелькнув в двери полами белоснежного халата, как крыльями.
Аля шваркнула «молнией» на куртке и почувствовала, как краска медленно заливает лицо: пистолет! Подмышечная кобура была подогнана идеально, плоский полимерный «смит-и-вессон» сидел в ней как влитой и под двумя куртками — дутой синтепоновой и джинсовкой — был совершенно незаметен. Аля сбросила верхнюю, взяла с вешалки белый халат, надела, он пришелся ей впору. Оглядела себя в зеркале: нет, ничего не заметно, ничегошеньки. Присела за стол с селектором.
Агрегат и вправду был старенький: богатые потому и богаты, что тратят деньги только на себя.
И тут навязчивая мысль занудила тоскливой мухой: а что она, собственно, здесь делает? И что собирается делать? Але вдруг стало очевидно: она не героиня и бросаться под танк, называемый «Лир», ей совершенно не хочется! И к чему она только полезла к милейшему доктору с вопросами? Дура! Как любят повторять англичане, любопытство губит кота! А кошку-и подавно. Особенно гуляющую сама по себе, вот как она сейчас. И еще Аля вдруг поняла: да, там, на юге, все было жутко, но много проще: рядом был сильный, отважный, незаурядный мужчина, который и принимал решения. И нес за них ответственность. А значит, и за нее, Алю. Если бы, если бы Маэстро остался жив… Если бы рядом был Олег…
Что ей сейчас делать? Ведь, судя по всему, корпорация сама по себе занята вполне легальным и уважаемым бизнесом, а то, что в недрах ее, точно заноза, торчит мирным таким Иван Иванычем или Петром Петровичем некий Лир — лорд, пэр и эсквайр, как и Маэстро, большой любитель и знаток Шекспира, — знают только посвященные. И приставать с глупыми расспросами к встречным-поперечным — это нарваться как раз на такого. Что будет дальше — даже представлять не хочется.
Если Глостер был у Лира любимый ученик, то каков сам учитель?
Аля зябко передернула плечиками. Нет, сегодня она ни к какому действию просто не готова. А вот что будет самым умным — это подружиться поближе с доктором Викентием Ефимычем. Человек он порядочный, к ней сразу задышал неровно, так почему бы и не захаживать к эскулапу на чашку чаю и мензурку коньячку? Да и знает он что-то о Лире — вон как смешался разом, папироской поперхнулся… К тому же у радушного доктора-жизнелюба, судя по всему, что ни день, то посиделки.
А значит, из отделов люди подтягиваются, о том о сем калякают, к ней привыкнут, стесняться перестанут, глядишь, все и само собой узнается. Это — мысль. Первая здравая за весь длинный сегодняшний день. До этого были лишь ахи и охи. Не считая стрельбы.
Ободренная принятым решением, Аля подошла к столику, плеснула себе в склянку янтарного напитка, выпила для куражу — а ну, доктор, даром что в годах, все истолкует просто и однозначно и, попользовав инфарктника, почувствует кураж с подъемом и полезет прямо сейчас обниматься? Хороша она будет: ма-а-асковская ба-а-арышня со стволом под мышкой! Нет, чтобы с доктором все получилось, как надо, нужно быть чуть хмельной и немного дурочкой. Самую малость. Вот как сейчас.
Не успела Аля вернуться за селекторный столик, как дверь медпункта распахнулась и вошли двое. «Из охраны», — это была первая мысль при виде двух крепких серьезных молодых людей. И еще — они были одинаковые. Нет, конечно, разные, но выражение лиц и молчаливо-размеренная манера держаться делали их похожими.
— Врач? — коротко спросил один, пегий по масти, а в остальном бесцветный, как выцветшая штора.
— Нет, Викентий Ефимович на вызове, инфаркт, и вся бригада там, но я сейчас позвоню, или позвоните сами… — затараторила было Аля, но «близнецы» переглянулись, пегий, он был явно старшим, оборвал девушку:
— Ты кто?
— С-сестра, — чуть запнувшись, произнесла Аля и добавила для убедительности:
— Процедурная.
— Собирайся. Пойдешь с нами, процедурная. — Старший помолчал, помутнел глазами, словно на месте Али было что-то не совсем ему приятное, закончил:
— Быстро.
— Нет, я не могу… — Аля заметалась взглядом, не зная, что делать: из процедур она умела делать лишь две: ставить градусник и кормить малиновым вареньем. — Викентий Ефимович сейчас…
— Твоя сумка? — поднимая с кушетки кофр с красным Креслом и проигнорировав ее лепет, спросил другой. Был он белесый, невыразительный и какой-то потертый, словно пиджак из секонд-хэнд. Присмотревшись, Аля заметила, что он по возрасту старше напарника; в интонации его слышался едва ощутимый акцент, и Аля для себя тут же окрестила его прибалтом.
— Моя, — автоматически кивнула Аля.
— Возьми. Пошли.
— Но Викентий Ефимович…
— Достала ты уже со своим Викентием! Мы из блока "С", уразумела?
Аля только кивнула: судя по их тону, блок "С" был здесь чем-то особенным.
— Тогда — пошевеливайся!
По коридору они двинулись цугом: впереди пегий, Аля посередине, прибалт — замыкающим. И пошли они почему-то не в холл, а в самый конец коридора; там пегий просунул в прикрытую щитком скважинку желтый бронзовый ключ с мудреной сейфовой бородкой, повернул, провел через щель приемника магнитной карточкой, похожей на кредитку, и сезам открылся. Пол лифта был устелен ковром, стены — сплошь зеркальные. Поднимались в полном безмолвии, даже трос не скрипел; о том, что лифт пошел вверх, Аля догадалась лишь по тому, как упало, словно в омут, сердце.
И еще — она чувствовала напряжение спутников, будто они конвоируют опасного вооруженного рецидивиста… Или действительно с каким-то биг-боссом случилось что-то непредвиденное?
На сердце у Али сделалось тоскливо и пусто, а в голове крутилась лишь одна фраза: «Все, девочка. Влетела».
Глава 81
Коридор блока "С" был абсолютно пуст. Настолько, что казался совершенно необитаем. Аля догадалась, что они находятся на самом верхнем этаже здания. Шли вдоль одинаковых дверей, замкнутых электронными замками, людей в этом коридоре не было вовсе. Здесь не было даже теней: одинаковое серое освещение лишь едва-едва выкрадывало из мрака затянутый ковровым покрытием пол, и только тот участок, где проходили люди, освещался матовым светом из скрытых длинных плафонов по бокам. Это создавало мучительную иллюзию, что и впереди и позади ничего нет и серый сумрак заканчивается просто пустотой. А еще Але показалось на мгновение, что и мира-то никакого нет, вообще нет, а есть — вот эта высвеченная дорожка из ниоткуда в никуда, и она идет по ней уже тысячу лет. Никак не меньше.
И мотаюсь, цел покуда, не чета снобам, занудам, прилечу из ниоткуда, улетаю — никуда, сочиняю дальни страны — там моря, там океаны, там богатство чистоганом и безделья нет следа…
Эти песенные строчки пронеслись в голове девушки и показались ей полным бредом: море? Что такое «море»? Это же из другого, нездешнего мира!
Неудивительно, что люди, проводящие в этих стенах большую часть жизни, так легко относятся к чужой смерти. Для них она выражается пустой цифирью обезличенных потерь, реальная боль и реальная кровь остается вне таких коридоров, да и что эти люди называют потерями? Ведь вместе с жизнью человек теряет солнце, море, снег… Вместе с жизнью он теряет способность любить… Кто в здешних полутемных неживых лабиринтах может оценить это?
— Пришли, — безэмоционально, просто констатируя факт, произнес тот, кого Аля обозвала про себя пегим. И еще… В его голосе девушка почувствовала большое внутреннее напряжение. И до того ей было неспокойно, а теперь…
— Назвался груздем… — нервно хохотнул за спиной девушки прибалт.
Слово «груздем» он произнес с придыханием — «хрустем». Аля вспомнила, что такая манера произношения в фонетике называется «аспирация», вот только откуда взялось это знание и зачем оно ей теперь?.. Напряжение в тусклом, словно наполненном невидимыми электрическими разрядами воздухе разрасталось, но и его Аля ощущала несколько отвлеченно и даже равнодушно: будь что будет. Всему приходит конец, любому кошмару… Пожалуй, серьезно ее беспокоило лишь одно: внешне все было буднично и скучно до зевоты! Она и зевнула — раз, еще…
«Близнецы», пегий и белесый, переглянулись, уж кто и кому моргнул — было не заметить. Пегий поднял руку и нажал кнопочку зуммера — дверь открылась, их ждали.
За дверью находился обширный секретарский «предбанник», уставленный дежурной офисной мебелью. Мерцали экраны компьютеров. Навстречу шагнул молодой еще человек, ну истинный херувимчик: белокурый, голубоглазый, с розовым природным румянцем на щеках, будто только что спустившийся с рекламы кукурузных хлопьев. Тренированное тело, будто сплетенное из мышц и сухожилий, без единой жиринки, делало его статным и представительным. Аля догадалась: пухлые губки и ангельский румянец на щеках очень молодили этого парня, на самом деле ему было куда как за тридцать! Портили его глаза: бледно-голубые, они, казалось, совсем выцвели в сумраке этих коридоров и стали похожими на влажную тряпку. Аля даже плечиками передернула: как она могла решить, что он красив?!
Румяный блондин долго смотрел на Алю, потом сказал:
— Откуда вы ее притащили?
— Из медпункта. Блондин только кивнул.
— Готовы?
— Да.
— Пошли.
Блондин крепко-накрепко прихватил Алино запястье.
— Вы что? Больно! — едва слышно сказала она, поддавшись общему настроению.
— Молчи, — свистящим шепотом просипел блондин, толкнул дверь, рванулся вперед, увлекая девушку за собой.
— Он там. — Блондин подбородком указал подручным на дверь в глубине комнаты. — Спит. Ну, что стали? Он — безумен. А потому — опасен. Пошли! Живо!
«Близнецы» переглянулись. Прибалт достал из внутреннего кармана маленькую коробочку, оттуда — наполненный шприц. Снял защитный колпачок, надавил поршень, капелька слезинкой сорвалась с жала и растворилась в ворсистом ковре.
Бесшумно ступая, оба двинулись к двери.
— Сделайте аккуратно. Чтобы ни единого синяка, — бросил им в спину блондин. Пегий только кивнул, сосредоточившись на задаче.
Аля замерла, уже начиная догадываться о своей роли здесь… Мысли скакали лихорадочно, как подогретые допингом ахалтекинцы: ее взяли, как куклу, сейчас умертвят кого-то там, за дверью, потом — расправятся с ней, как с «врачом-вредителем», «убийцей в белом халате»… Возможно, и «заказчик» уже прописан и указан в сценарии: иначе — зачем бы огород городить, гораздо проще — уколоть принципала самим безо всяких фокусов… Сердце билось часто-часто: как только эти двое скроются за дверью, нужно ударить блондина по голени, вырвать руку, выдернуть-пистолет… Ребятки принимают ее за настоящую медсестру, и в этом ее преимущество.
Два выстрела треснули сухо, как сухие заборные жерди; следом — еще два, контрольные. Оба, пегий и прибалт, неловко, будто заваленные ветром снопы, упали замертво, ткнувшись в густой ворс ковра. Оцепеневший было от неожиданности блондин выпустил Алину руку, крутнулся… Снова треснуло, и его сшибло на ковер: он завалился рядом с массивным дубовым столом; пиджак на плече быстро набухал кровью.
Аля обернулась. У стены, в скрытом до этого в книжных стеллажах алькове, стоял невысокий, сухой старичок с гладко зализанными остатками волос и жиденькими водянистыми глазками под жесткими кустиками бровей. В руке его чернел маленький пистолетик. Блондин, прижимая ладонь к раненому плечу, прошептал только:
— Лир…
Аля замерла: тот, кто причинил ей столько бед, — вот он, рядом… И что ей теперь делать? Но старик, казалось, не обратил на нее ни малейшего внимания. Он скривился в ироничной усмешке; зрачок пистолета смотрел прямо в грудь скрючившемуся на ковре блондину.
— Милый Лаэрт, тебе уже стоило бы знать… «Сумасшедший…» — сымитировал старик интонацию блондина. — Такую роскошь, как безумие, может позволить себе только здравомыслящий человек. А все-таки забавно. Лаэрт, кто бы мог подумать?
Я, грешный, считал тебя лишь блеклой игрой моего воображения, а ты, ворон этакий? Решил, что вырос и пора клевать хозяина? — Лир рассмеялся скрипучим нервным смехом. — Беда с вами, слугами. Впрочем, раньше властители были мудрее: по смерти их жены, слуги, чада и домочадцы находили упокоение в том же кургане, что и владыка. Кому на ум приходило изменить господину? То-то. А нынешние… Все — себе на уме. Забывая, что меняются лишь времена, а нравы — остаются. Никому не нужны чужие рабы.
Лаэрт молчал, глядя на Лира с ненавистью. А тот — расхохотался весело и беззаботно:
Ты мог бы о короне возмечтать. Но духи лжи, готовя нашу гибель, Сперва подобьем правды манят нас, Чтоб уничтожить тяжестью последствий.— Ах, милый Лаэрт, слуги никогда не становятся господами; лишь на малое время могут они получить иллюзию господства, и только… Ну да не .расстраивайся… Смерть — вот надежда убогих: она не оставляет иллюзий и уравнивает всех.
Аля боялась пошевелиться. В нескольких шагах от нее стоял массивный стенной шкаф, но Аля понимала, что вряд ли успеет добежать до него, выхватить из внутренней кобуры пистолет: старик не промахнется. Двоих киллеров он расщелкал за пару секунд и даже в лице не изменился. Нужно ждать: рано или поздно он ошибется. Странно было лишь то, что Лир ее как будто не замечал. Или — намеренно игнорировал? Почему?
— Тебе больно, Лаэрт… и это тебя мучает, — продолжал тем временем Лир. — А ведь боль — всего лишь напоминание о том, что жив. Мелочь. Хм… Как сказал один алгебраист, сумма ничего не значащих мелочей равняется смыслу жизни-Он слукавил. И сформулировал всего лишь правило. Утаив, что все остальное попадает в исключение: любовь, страсть, предощущение счастья, страх пустоты… Все. — Лир вздохнул:
— Впрочем, все, что не укладывается в формулу существования, нас и губит.. Например, жизнь. Иди предчувствие победы. Люди так жаждут заполучить желаемое, что, сталкиваясь с действительным, оказываются или деморализованы, или мертвы. Что нередко одно м то же. Ведь ты шел сюда побеждать, лукавый раб? И что в итоге? Ты забыл о духах лжи.
Лир, наконец, бросил внимательный взгляд на Алю, и она почувствовала, как падает сердце: в выцветших глазах Лира она не увидела ничего, кроме пустоты, — Я спросил тебя, Лаэрт, к чему снятся барсы… Барсы снятся к победам.
Где ты взял эту девчонку? Ну, что ты лупаешь глазками, как поповская дочь на выданье? Это ее вы с Глостером ловили на славном побережье. Ха-ха, и где теперь Глостер? — Лицо Лира посерьезнело, сделалось жестким. — Так откуда ты ее вытащил, мальчик? Из рукава?
Лаэрт, бледный от боли и кровопотери, повернулся, глянул на Алю озадаченно.
— Хм… Ты не играешь, Лаэрт. Значит, она нашлась сама. Упорная девочка.
Хм… Закономерно. Настает «время барса». С этим приходится считаться. Когда-то этот отважный зверь стал одним из тотемов на Руси, его принесли на своих щитах викинги. Но Русь молчалива и скрытна, как ее леса… Медведь вытеснил барса.
Этот сильный медлительный хищник всегда был и царствен, и справедлив, мишка — владыка лесов, и его время придет, но сейчас…. Только неукротимые сердцем воины, берсерки, барсы способны пройти по тем тропам, что неведомы для остальных. И провести по ним других. — Лир вздохнул совсем по-стариковски:
— Мне обидно… Я не смог удержать власти, но и вам, Лаэрт, приживалам, она не достанется. Власть — не милостыня, чтобы бросать ее нищим. Власть — не барские обноски, чтобы ее примеряли лакеи. Ее получат только бесстрашные духом, а удержат лишь те, кто может слиться с бесконечной душой этой земли. А я — уйду.
Пока. Барсам еще понадобятся «люди тени»: только мы, крысы, ориентируемся в темноте и зловонии человечьих отбросов, мы живем там, где не место царственным львам снегов.
Лир снова посмотрел на Алю, словно оценивая ее, произнес, качнув в ее сторону вороненым стволом:
— Видно, судьба привела тебя сюда, чтобы поставить точку в затянувшемся фарсе… Мне вовсе не хочется тебя убивать, но… Ты забралась слишком высоко для котенка. Слишком. — Он повернулся к Лаэрту:
— Ты веришь в судьбу, Лаэрт?
Судьба — это когда вся жизнь — не что иное. как суд на тобой… И каждый твой поступок оборачивается потерей, и каждое твое действие рождает фантомы, влияющие на судьбы других… Я хотел стать вершителем, что в итоге? Вечность? Нет.
Пустота. Зияющая яма.
Глава 82
Лир снова замер, слегка прикрыв веки, но ни Аля, ни Лаэрт не сделали даже попыток, чтобы переломить ситуацию. Казалось, старик обладает той странной гипнотической властью, что пугает отсутствием всяких объяснений собственного могущества.
— Время… Оно даже вино превращает в уксус… И каждый из нас — раб времени… И разве возможно поверить, что вода может стать вином? А человек — Богом? Но ведь поверили же, поверили! И вовсе не с пришествием Христа: чудеса никого ни в чем не убеждают, даже воскрешение Иисусом Лазаря сочли трюком. Люди — суть стадо, а потому поклонение скотине, твари им понятнее… Во времена так называемого Возрождения люди забыли Бога, и одни — снова стали раболепствовать перед тельцом, другие — вместо раззолоченного скота возвели на амвон двуногую обезьяну — человека и стали даже выписывать название этой жалкой, одержимой страстями и похотью дерзкой твари с заглавной буквы: Человек.
— Что вы строите из себя святошу?! — неожиданно для самой себя выкрикнула Аля. — На вашей совести столько крови, что ее не отмолит и сотня праведников!
— Браво! Браво! Ты понял, Лаэрт, чем слуга отличается от господина? В данном случае — от госпожи? Ведь вам обоим — время умирать, но ты сидишь бледнее тени, и в твоей трясущейся заячьей душе бродит шалая мыслишка — о спасении…
Так? А вот девчонка — хороша! Она сейчас не думает ни о смерти, ни о жизни, попранная «справедливость» заставляет ее говорить! Ну, красавица? В чем еще ты обвинишь бедного пенсионера? В святотатстве?
— Грязный старик! Вы омерзительны своей ложью! Для вас люди… падаль! Вы хуже всех скотов! Хуже!
— Браво! И слова-то какие?
Лир захохотал булькающим смехом, получая явное наслаждение от ситуации.
Так прикрываю гнусность я свою Обрывками старинных изречений Натасканными из священных книг.
— Все так, девочка. Но ты никогда не задумывалась, что людям нужна вовсе не правда, а лишь видимость благопристойности? И за нею, как за завесой, они совершают худшие из злодейств!
Аля попыталась возразить, но Лир повысил голос:
— Не перебивай! Ты так и умрешь в счастливом неведении! А мне еще жить и жить…
Лир постоял, чуть склонив голову набок, словно петушок, прислушивающийся к возне в курятнике, и вдруг ни с того ни с сего снова засмеялся, но теперь звонко, словно нашкодивший карлик:
— Жизнь — игра. И как в ней не позабавиться с этими зверьками, которые отчего-то мнят себя разумными? — Лир согнал улыбку с лица:
— По правде сказать, мне наскучило все, даже собственная жизнь. А уж власть и подавно. Но умирать отчего-то не хочется! Смириться? Не-е-е-т. Сейчас я просто поставлю точку и исчезну. В маленькую железную дверь в стене. Помнишь Буратино и папу Карло? Уйду в мир мещан и уродцев и буду развлекать себя мелкой склоч-кой и игрой по копеечке. Для этого у меня достаточно миллионов. Ну а власть… Такие, как я, нужны любой власти. Каждый должен знать свое место: и место под солнцем, и место под сенью мрака. Замков без призраков не бывает. Особенно замков царственных.
Прощайте.
Черты Лира исказила странная гримаска, за мгновение превратившая морщинистое личико фиглярствующего старикана в жесткую маску с застывшими, будто кусочки мутного льда, зрачками: он поднял пистолет…
Первый выстрел треснул сухо, второй прозвучал так, будто большой школьной линейкой ударили плашмя по металлу. Лаэрт метнулся перекатом под защиту массивной столешницы, именно в нее угодила первая пуля, вторая — в окованную бронзой ножку, стилизованную под львиную лапу.
Аля мигом метнулась к шкафу, в панике ожидая горячего штыкового удара между лопаток… Выстрел щелкнул, с хрустом выдрав из шкафовой ребрины длинную сухую щепу, но Аля уже была в безопасности. Она сунула руку под мышку, ухватила рукоять пистолета, дернула что было сил… Чертыхнулась про себя, вспомнив, что забыла отшпилить державший ремешок, наконец, справилась с ним, замерла, ощутив в руке привычную тяжесть оружия, передернула затвор и только тогда почувствовала, как взмокли ладони — да что ладони, вся она была мокрой как мышь, холодный пот не просто обметал лицо, он ледяными струйками стекал за шиворот, и Але казалось, будто ее, живую, погрузили в кошмарный трупный рефрижератор.
Снова щелкнул выстрел, стреляли не в нее, Аля несколько раз вдохнула и выдохнула, облизала пересохшие губы, приготовилась… Дыхание сделалось медленным и глубоким, она словно услышала голос Маэстро: «Будь мудрой, девочка… Живи». Главное — не бояться. Невыполнимых задач нет. Пора.
Приглушенные сумерки комнаты словно сгустились, ударили разом со всех сторон, Аля открыла рот, пытаясь вдохнуть режущий, шершавый воздух, ей это не удалось, следом была ослепительно яркая вспышка, и девушка упала на ковер, выпустив оружие. Она не слышала ничего. Подняла голову, увидела ноги в маленьких, словно детских ботиночках; они шествовали по ковру туда, к столу, за которым затаился Лаэрт.
Выстрелы щелкали один за одним, как удары бича, но Аля их не слышала, она чувствовала сотрясение воздуха всей кожей и со своего места видела только вытянутые ноги Лаэрта: в их податливую мякоть врезались пуля за пулей, вырывая куски… Наверное, он кричал… Но Аля не слышала ничего. Она подняла ладони к ушам, почувствовала что-то липкое и мокрое, посмотрела: они были в крови-Кровь текла и из носа. Аля увидела свой пистолет метрах в четырех там, на ковре…
Попыталась приподняться на руках, но не смогла… Тело плетью стелилось по ковру, и Але стало жутко: неужели у нее поврежден позвоночник и она теперь стала обездвиженной колодой?.. Слезы обиды за всю свою нескладую жизнь покатились из глаз, а вместе со слезами пришла боль… Болело все тело — мышцы, сухожилия, ныли зубы, Адя пощупала их языком и поняла, что они кровоточат и качаются… Но она чувствовала свое тело до самой последней мышцы, она — жива, она — сможет.
Сможет!
Сейчас просто собраться — и потихонечку туда, где матовым прямоугольником застыл пистолет. Туда.
И тут Аля увидела, как Лира словно подкосило: что-то ударило его по ногам, будто доской, старик нелепо и неловко взмахнул руками и упал спиной на ковер.
Из-за столешницы рванулся Лаэрт, его искаженное болью и яростью лицо было страшным. Одним движением он захватил шею старика… В правой руке Лира мелькнуло махонькое, словно маникюрное лезвие, он чиркнул им по руке Лаэрта, но хватка того не ослабла, пальцы сомкнулись на шее Лира, руки заученно, тренированно сделали неуловимо быстрый поворот, что-то явственно хрустнуло, старик засучил ногами, дернулся всем телом и затих бессильной тряпичной куклой… Лаэрт смотрел на тело Лира, возможно не вполне осознавая, что произошло… В сторону девушки он даже не взглянул. Дополз на локтях до приставного столика, кусая губы и превозмогая боль, набрал номер; что-то щелкнуло в динамике, потом зазвучал длинный зуммер, который оборвался внезапно, и тишину помещения заполнило невнятное шуршание.
— Лаэрт вызывает Клавдия… — прохрипел в трубку раненый.
— Клавдий слушает Лаэрта, — ответил ему монотонный механический голос.
Але сначала это показалось галлюцинацией, пока она не догадалась, что аппарат просто-напросто переключен на громкую связь… Но главное было другое: она — слышит. Пусть глухо, как сквозь толстый слой ваты, но — слышит.
— Клавдий слушает Лаэрта, — повторил голос. Лаэрт сидел смертельно бледный. Крови было много, обе брючины были пропитаны ею, но его, казалось, это мало беспокоило… Губы Лаэрта посинели, он заметался глазами, почему-то остановил взгляд на микроскопической ранке, надрезе, оставленном почти игрушечным стилетиком Лира, поднес ко рту, словно хотел поцеловать надрез, лицо его стало совсем белым, Лаэрт прошептал одними губами слово, и Аля прочла его по ним: «Миндаль».
И еще Алю совершенно поразило, что этот человек улыбался. Вернее, тот оскал, что болезненно кривил его посиневшие губы, трудно было принять за улыбку, а вот взгляд… Он был полон тихого сияния, больше всего схожего с помешательством.
— Клавдий слушает Лаэрта, — снова требовательно и монотонно прозвучал в комнате металлический бездушный голос.
Казалось, Лаэрта хлестнуло струной. Он собрал все свои силы и прохрипел едва слышно:
— Король уме…
Лаэрт не договорил — замер, смахнул аппарат на паж, рванул ногтями горло, раздирая кожу, — и боком завалился на ковер. Мертвые роговицы безжизненно таращились в потолок, мутно отражая приглушенный свет.
В комнате наступила тишина. Аля встала на четвереньки, превозмогая боль во всем теле, проползла полметра, еще, уткнувшись взглядом в серый ковер. В голове с настойчивым постоянством крутилась стихотворная строчка:
«Опустило небо печаль в серую трясину дождей, отцветает горький миндаль на губах великих вождей…» Строчка повторялась и повторялась заунывной заезженной пластинкой, пока не остановилась сама собою: Аля вспомнила, что запах миндаля остается от отравления цианидами… Крутящийся мир вокруг постепенно прекращал вращение, становился таким, каким он был всегда: безжалостным и прекрасным.
Аля нащупала наконец-то рукоять пистолета, крепко сжала его в ладони, встала, оглядела комнату. Так она и думала; Лир, не желая рисковать, взорвал какое-то устройство, обладающее мощной волной, но не дающее осколков. Сам он в это время скрылся в своем алькове, и вышел, чтобы добить Лаэрта и ее. Добротная мебель выдержала удар. Да и стекла целы, они литые, наверняка пуленепробиваемые и сделаны по особому заказу. Аля вздохнула: раз стекла целы, значит, и с ней ничего страшного. Это просто контузия. Контузия, только и всего. Правда, боль…
Ну что ж… Боль — это напоминание о том, что жива.
Аля подошла к окну. Ей даже показалось, что она слышит заунывный вой ветра. Площадь стыла далеко внизу маленьким каменным пятачком, а за окном, в свете направленных в ненастную проседь неба прожекторных лучей, свивались вихрем снежинки и, словно маленькие невесты, все танцевали и танцевали в окружающей мир тьме свой нескончаемый белый танец.
Глава 83
Поезд мчался сквозь ночь. Аля стояла в коридоре спального вагона и смотрела на черное стекло. Ее собственное отражение было таким, что сквозь него она видела и медленно проплывающие во тьме деревья, похожие на проволочные бутафорские каркасы, и спящие крохотные деревеньки, занесенные снегом по самые крыши, — редко-редко где мелькнет огонек, да так и исчезнет в смутной ночи, будто случайная печная искорка, так и не успевшая никого согреть.
Головная боль наваливалась волновыми накатами и измотала Алю так, что ей хотелось плакать. Она и плакала совсем недавно на какой-то заброшенной стройке, среди железобетонных каркасов, сиротливо громоздящихся в ночи, среди длинных проржавелых труб, тянущихся из промерзшей, засыпанной снегом земли… Да что плакала — она выла в голос, размазывая по лицу слезы… Ей снова казалось, что она одна, совсем одна на всем земном шаре, и дальние светлячки окон в панельной многоэтажке — ничто, мираж; чужой уют и семейный покой только растравлял душу, добавлял в ее неустроенное, мерзлое одиночество горчинку зависти…
…Там, на последнем этаже замершего здания корпорации, Аля провела по меньшей мере час. Сначала она просто нашла в комнате отдыха ванную, смыла все еще сочащуюся из ушей и носа кровь, там же, в ванной, обнаружила и маленькую аптечку и выпила целую горсть обезболивающих. Потом вернулась в кабинет, разыскала на небольшом столике бутылку коньяку, сделала несколько глотков прямо из горлышка и обессиленно опустилась в кресло. Будь что будет, но у нее уже просто не было сил. Совсем. Сейчас прибежит охрана, и ее или убьют, или задержат. Ну и пусть. Рукоять пистолета в ладони давала иллюзию власти над жизнью и смертью, прежде всего над своей собственной.
Но никто так и не появился. Ни через пять минут, ни через десять. И тут Аля по-настоящему забеспокоилась: у нее появилась надежда. То ли Лаэрт и люди, стоявшие за ним, очень хорошо подготовились к акции устранения Лира и ближняя охрана была удалена заранее, то ли сам мертвый сюзерен любил уединение и не слишком поощрял появление людей в его секторе без особого вызова, уверенный в собственном неуязвимом величии… Аля вскочила с кресла, почувствовав, что голова уже не болит. Настроение было каким-то истерично-приподнятым, и ей даже пришла шалая мысль открыть окно и улететь и из этого мрачного кабинета, и из этого холодного мира туда, где всегда царствуют солнце и море и где живут сильные и добрые люди…
Аля тряхнула головой, прогоняя наваждение, огляделась. Нужно уходить, но… Что это изменит? Лир мертв, но появится новый «человек тени» и станет распоряжаться жизнями и судьбами людей так, как сочтет нужным или, хуже того, целесообразным. Двадцатый век, заменивший понятия достоинства и чести понятием целесообразности, вряд ли отступит без боя… И она погибнет в этом бою, как уже погибли ее родители, как погиб Маэстро, как погибнут сотни и тысячи людей… Из этого мрачного кабинета нет выхода. Нет.
Аля закрыла лицо ладонями… О чем она думает? Зачем" зачем ей эти мысли о вселенском несчастье и нестроении? Нужно бежать, но прежде… Ведь хранил же Лир где-то информацию? И там есть и о ней, и об Олеге, и об Оле… Пока эта информация существует — все они словно на поводке, который так легко превратить в удавку… Но — где? Скрытый сейф? Возможно, что и сейф, но там наверняка деньги, а вернее — информация о деньгах, счетах, банках" корпорациях… Аля подумала, что, даже прикоснувшись к такой информации, она сгорит быстро и безвозвратно и сожжет вокруг себя всех, кто ей дорог. А вот оперативная информация… Досье, каналы связи… Она не может быть запрятана далеко. Тогда — где?
Аля бегло оглядела кабинет. Стол чист. Подошла. Ровные ряды ящиков.
Дернула один, другой… В третьем обнаружила три тугие пачки долларов: видимо, деньги предназначались кому-то из подручных на ближние, непосредственные расходы, вряд ли Лир собирал наличные в шкафчик или прятал под подушку. В любом случае хозяину они уже не пригодятся. Не мудрствуя, Аля засунула деньги за пазуху.
А что она, собственно, ищет? В чем хранится информация? Папки? Скорее дискеты или лазерные диски-накопители. Ничего. Ничегошеньки. И тут в нижнем ящике Алл обнаружила маленький компьютер, «лептоп», в специально для него предназначенном чемоданчике. Включила, экран засветился мерзлым зимним светом.
Файлы не были закрыты ключами — да и зачем? Этот кабинет был сам по себе сейфом, коробочкой, до которой не так-то просто добраться… Да и покойный Лир, как и любой человек его лет, не слишком-то доверял машине, а потому пользовался простейшими программами.
Аля приникла к экрану. Замелькали имена, схемы, псевдонимы… Девушка почувствовала, как холодный пот обметывает лоб: та информация, что находилась в этом железном ящичке, стоила не один миллион долларов… Искушение легкой раззолоченной тенью заклубилось в сумерках кабинета, но холодные цвета экрана отрезвляли: за бесстрастными колонками цифр и сухими росчерками схем было слишком много крови.
Наконец среди множества файлов Аля нашла папку с досье. Азарт мешался с усталостью. Аля попробовала несколько режимов поиска, пока не нашла файл «Барс».
Замерла на секунду, увидев фотографию отца-такого молодого… Здесь было все: и досье на нее саму, и на Гончего… На мгновение Аля подумала, что все ее усилия бесполезны. Лира вряд ли можно было назвать легкомысленным, где-то существуют копии всех этих материалов. Но… Лир был одержим властью. А власть не делится.
Ни на двоих, ни на многих.
Копии существуют, но Лир их спрятал так, чтобы и найти мог только он.
Один. Как он сам сказал? Власть — не милостыня, чтобы бросать ее нищим. А если так… Аля отошла на несколько шагов, одним движением передернула затвор и, почти не целясь, мягко нажала спуск. Выстрелы грохотали до тех пор, пока металлическая коробочка не превратилась в пробитую пулями железяку. Процессор от прямого попадания разлетелся в труху. Время Лира остановилось.
Девушка тщательно обтерла носовым платком поверхности, которых касались ее пальцы, рукоять и щечки пистолета, вложила его в безжизненную руку Лаэрта. Еще раз оглядела комнату беглым взглядом: трупы ее не пугали, ну а души этих людей, бывших тенями при жизни, сейчас отправились туда, где им самое место.
Теперь — уходить. Ключи, и электронный, и сейфовый, у того, пегого, что лежит сейчас с проломленным пулей затылком. Но тогда… Тогда ей придется как-то проходить внешнюю охрану корпорации, да еще и давать объяснения милейшему Викентию Ефимовичу… Даже не давать объяснения — притворяться, лицедействовать.
А на это у Али совершенно не было сил. Да и доктор мгновенно поймет: что-то неладно; Аля чувствовала, еще кровоточат десны, да и слышит она плохо, как сквозь слой тины, пропитанной вязкой болотной жижей. Но Лир, кажется, говорил что-то про маленькую железную дверь?
Аля подошла к алькову. Внимательно, сантиметр за сантиметром, осмотрела поверхности: ничего. Но как-то ведь приводились в действие механизмы, что открывали и закрывали нишу? Девушка снова окинула взглядом комнату… А что, если… Она быстро подошла к телу Лира: так и есть, в левой руке зажат маленький брелок в виде жука-скарабея, на нем — колечко с ключами. И сам брелок… Аля покрутила игрушку в руке, надавила на головку, раздался едва слышимый щелчок, крылышки сдвинулись… Брелок оказался пультом. Аля нажала одну из кнопочек: стеллаж с книгами бесшумно двинулся на место, закрывая альков. Нажала другую: открылся. Девушка вошла в альков, снова произвела манипуляции с пультом. Тяжелая дверь медленно затворилась. Теперь Аля оказалась в совершенно темном каменном мешке; фосфоресцировали только кнопочки пульта, и их было всего две. Она нажала одну, другую, но ничего не произошло. Альков не открывался. На миг девушке стало страшно: а вдруг Лир и здесь предусмотрел какую-нибудь скверную пакость? И она окажется заживо погребенной в этом металлическом мешке? Сердце забилось часто-часто, но Аля сумела волей утихомирить чувства: сам Лир не собирался здесь умирать, он хотел жить.
Успокоиться. Может, она что-то нажала не правильно? Аля снова надавила головку скарабея в другую сторону до характерного легкого щелчка. Теперь снова на кнопочку. Стена беззвучно отошла в сторону, открыв едва освещенное пространство. Аля зашла внутрь. Створка закрылась. Кругом снова гладкие, отливающие матово стены. И ни одной кнопки. Ну, жучок, миленький, выручай! Снова манипуляции с крохотной головкой, нажатие кнопки. Сердце словно ухнуло в бездну: лифт пошел вниз. Где он остановится?
Через полминуты движение закончилось. Аля вышла, створки за ней закрылись.
Она оказалась в каменном колодце из красного кирпича, перед ней — обычная дверь.
Вернее, не вполне обычная: металлическая, ну да сейчас редкий житель не обзавелся такой для душевного спокойствия. На первый взгляд она казалась монолитной, но, приглядевшись, девушка заметила узенькую прорезь, в которую входил один из ключей на связке Лира. Аля вставила ключ в скважину, чуть повернула, и дверь легко открылась. Впереди был туннель. Аля двинулась вперед, дверь прикрыла неплотно: еще неизвестно, не кончается ли этот туннель казематом?
Может, покойный Лир был еще и садист и в подземелье ее ждет дюжина прикованных к стенам скелетов? Нет, скелеты — это слишком театрально, но… Позади раздался щелчок, потом — коротенькая, похожая на магниевую, вспышка — и девушка оказалась в кромешной темноте. Кое-как отойдя от испуга и минутной слепоты, пошарила по карманам, вытащила зажигалку, чиркнула кремнем. Дверь, видимо изначально вправленная в каменный ларчик под определенным углом, захлопнулась сама собой под воздействием силы тяжести. В неровном свете пламени Аля разглядела, что никакой скважины для ключа с этой стороны нет. На всякий случай надавила на металл: никакого эффекта. Капкан.
Но что это была за вспышка? Скорее всего, сработал какой-то встроенный микровзрыватель, заклинивший механизм замка: дверь теперь нельзя открыть ни с одной из сторон. Предусмотрительный Лир опасался преследования; если бы его противники, паче чаяния, все же обнаружили бы и альков, и скрытый лифт, здесь всех ждало бы разочарование: такую калиточку и пушкой развалить непросто. Одно радовало: если Лир предполагал «билет в один конец», значит, есть выход.
И Аля пошла вперед, время от времени чиркала кремнем и пыталась рассмотреть что-то впереди, но видела вокруг только своды. Сначала они были красного кирпича — видно, на месте теперешнего небоскреба из тонированного стекла раньше стояли лабазы какого-то купчины, и подвалы с переходами — того времени. Потом туннель стал уже и суше. Аля снова чиркнула кремнем: этот кусок строили недавно, стены художественно заляпаны застывшим цементом, одно время была такая мода даже подъезды облицовывать, да прошла: споткнуться, да ненароком по такой терке лицом — ни один косметический хирург не залатает. Идти стало труднее: крохотный светлячок зажигалки не рассеивал мрак, пляшущий огонек лишь смещал свет и мрак, меняя их местами, и от этого у Али возникало странное чувство, будто она бредет по этому нескончаемому подземелью уже многие годы, будто здешнее время и время там, наверху, совсем разное, и когда она снова объявится на поверхности, то окажется не только в другом веке и в другом городе, но и в другой стране.
Глава 84
Когда вокруг снова появились кирпичные своды, Але стало казаться, что она бредет по замкнутому кругу и что никогда, никогда выхода из этой преисподней ей не найти… Дважды, когда панические мысли захватывали все ее существо, Аля опускалась прямо на пол, выискивала сигареты и подносила огонек зажигалки. Нет, курить ей совсем не хотелось, но этот обыденный ритуал возвращал ее усталое воображение к реальности.
Мимо невзрачной дощатой двери Аля едва не прошла: она находилась в маленькой нише справа. Девушка чиркнула колесиком зажигалки, пламя вспыхнуло, наклонилось и угасло под напором тоненького сквозняка. Аля почувствовала, как забилось сердце… Она налегла на дверь, но та оказалась запертой. Паника не успела затопить мысли — у нее же ключи! Аля снова зажгла огонек, рассмотрела дверную скважину, нашла в связке самый простой ключ… Дверь пришлось дважды толкнуть плечом: она отсырела и просела. В лицо Але дохнул стоялый воздух подвала жилого дома, напитанный сыростью, запахом прелой картошки и квашеной капусты. Аля закрыла дверь, заперла ее: а то забредет какой наркоша и заблудится насмерть; с этой стороны дверь ничем не отличалась от десятков дверей убогих сараюшек, в коих жильцы хранили зимние припасы, немудреный старый скарб и ненужную рухлядь.
Поплутав несколько минут между загородок и закутков и даже больно стукнувшись коленкой о какую-то трубу, Аля наконец отворила входную дверь, поднялась по ступенькам и оказалась на улице, за решетчатой загородкой, словно зверушка. На волшебной Лировой связке ключа от этой загородки не было; да ее и сварили совсем недавно, даже покрасить не успели.
Что делать? Орать? И чего она добьется? Ее услышат, и кто-нибудь из бдительных жильцов непременно вызовет милицию. Аля обессиленно опустилась на ступеньки, подложив грязную дощечку. Сидела и тупо смотрела на горелую спичку под ногами. Где-то она читала или слышала… Люди похожи на спички. Только одни, сгорая, зажигают костры, у которых можно согреться, другие — пожары, а от третьих, — от третьих просто прикуривают.
Как уснула, Аля не заметила. Ей снились какие-то глумливые рыла, а прямо над ней нависло морщинистое личико уродца карлика; от него пахло картофельной гнилью, Аля пыталась отстраниться, но гнусный старикашка сам придвигался все ближе и шептал шепеляво, с присвистом:
"Скоро мы все исчезнем… в маленькую железную дверь в стене… Уйдем в мир мещан и уродцев, и станем ими, и будем развлекаться мелкой склочкой и копеечной игрой… Но мы вернемся! Такие, как мы, нужны всякой власти… — Уродец захохотал меленько, прошелестел:
— Замков без призраков не бывает, ты поняла? Ты поняла?! Поняла?!" — Черты Лира исказила странная гримаска, за мгновение превратившая морщинистое личико фиглярствующего старикана в жесткую маску с застывшими, будто кусочки мутного льда, зрачками, рот его ощерился в беззубой улыбке, и из этого рта донеслось скрежетанье железа, а следом — надрывный свиной визг!
Аля вскинулась, и первое, что она увидела прямо перед собой, — морщинистое беззубое лицо старика, заросшего неопрятной бородой, в шляпе с обвисшими полями, скрывавшими глаза. Открытая дверь подвальной клети продолжала жалко повизгивать на ржавых петлях, а Аля закричала так, что могла бы разбудить полквартала.
Старик отскочил как ошпаренный, не удержался на ногах, рухнул и зашелся длиннющей матерной тирадой, в которой Аля различила два приличных слова — «шалашовка» и «бикса вокзальная».
Решетчатая дверь оказалась открытой, Аля мгновенно взлетела на четыре ступеньки и побежала сквозь спящие дворы. Потом был какой-то забор, Аля проскочила туда, побежала, перепрыгивая через присыпанный снегом строительный хлам, пока не споткнулась и не упала с маху в рыхлый и мягкий снег… Судорога свела живот, перед глазами стояло перепуганное, грязное лицо подвального бомжа, а Аля хохотала и не могла остановиться… Хохот перешел в истерику, девушка каталась, по земле, колотила кулачками жесткий наст под только что выпавшим снежком, выла, ревела, кричала, пока не забилась в какую-то щель между бетонными плитами и не замерла там, всхлипывая и подвывая тихонечко… Голова была пустой и ясной. Лишь обрывки фраз плавали, тихо покачиваясь, словно в стоялой луже:
«…Ты никто… ты нигде… ты никому не нужна… не нужна… не нужна…»
Аля лежала так, пока совсем не окоченела. Ночь была морозной и звездной, а сами звезды бесконечно далекими и тусклыми. Девушка огляделась: даже в дальних домах погасли огоньки. Люди легли спать, завтра им на работу… Они — дома. Ей тоже нужно домой. Домой.
Аля встала, умылась снегом, выбралась со стройки. Словно в награду за все мучения почти сразу рядом с ней остановилась машина такси — настоящая, с зеленым огоньком и с шашечками. Аля закемарила в теплом салоне, на вокзале быстро расплатилась, в одной из палаточек купила простенький баул и несколько пакетов с едой, деньги вынула из-за пазухи, завернула в пергаментную бумагу из-под колбасы да так и кинула на дно сумки вместе с бутербродами, пошла в кассы, взяла билет на ближайший поезд до Княжинска — в спальный, других не было, и через полчаса оказалась в отдельном купе. Вагон был полупустой, Але казалось, что стоит ей коснуться подушки, и она сразу заснет, но нет: она сидела, смотрела на проносящиеся за окном огоньки, и на душе было так пусто, что хоть воем вой…
Она и тихо подвывала, но глаза были сухие: то ли слезы все уже выплакала, то ли устала так, что сил на жалость к себе просто не осталось.
А сон все не шел. Стоило ей закрыть глаза, как мерещилось искаженное лицо Лира и шуршал в ушах его шепоток… Жаль, что не купила коньяка: сейчас бы напиться и уснуть, и пусть все летит в тартарары… Вместо этого она вышла в коридор и так и осталась стоять у окна.
Поезд мчался сквозь ночь. Аля смотрела в черное стекло, и ее отражение было таким, что сквозь него она видела и медленно проплывающие во тьме деревья, похожие на проволочные бутафорские каркасы, и спящие крохотные деревеньки, занесенные снегом по самые крыши — редко-редко где мелькнет огонек, да так и исчезнет в смутной ночи, будто случайная печная искорка, так и не успевшая никого согреть.
— Не спится? — Рядом с Алей остановился совсем пожилой господин. От него попахивало хорошим коньяком, а щеки были сплошь в тоненьких склеротических жилках. — Не помешаю?
Аля только плечами пожала: ни на что у нее не было сил.
— Меня зовут Станислав Алексеевич.
— Елена Владимировна, — устало произнесла Аля.
— Может быть, просто Елена?
— Тогда лучше — просто Аля.
— Вы не подумайте, Аля, я вовсе не собираюсь приставать или навязываться с дурацкими излияниями… Просто вы стоите так одиноко, что я подумал… Это очень плохо, когда ночью человеку одиноко. Даже в дороге. Хотите коньяку?
— Хочу.
Станислав Алексеевич на минуту скрылся в купе и вернулся с квадратным хрустальным графином и двумя стаканчиками. Налил Але, поднес:
— Прошу.
— Спасибо.
Коньяк был хороший. Очень хороший. Аля почувствовала, как все тело словно налилось ртутью, голова стала тяжелой и сонной.
Попутчик тоже выпил. Потом он что-то говорил, Аля слушала, но слышала едва-едва, словно сквозь плотную завесу.
— Вы меня не слушаете?
— Почему же…
— Хм. Пожалуй, вы правы, девочка. Слушать стариков — не большое удовольствие… Вот и мой сын… А, ладно… Смешно. Когда тебе двадцать, ты готов тратить время, нервы, здоровье на развлечения, когда за тридцать — ты гробишь все ради карьеры, признания, самореализации. Когда за сорок — заботишься о семье, строишь какие-то планы уже на детей, хочешь и ими утвердиться в этом мире… А когда минует седьмой десяток… Выясняется, что толком ты так ничего и не сделал… Не совершил ни прекрасных безрассудств, ни великих деяний… И любовь удержать не смог… — Станислав Алексеевич вздохнул горько. — И тебе уже ничего не нужно, но хуже другое… Ты никому не нужен, а у тебя уже нет ни молодости, на здоровья, ни честолюбия. И уж подавно — любви и счастья. Твое время прошло.
Короткий зуммер крохотного мобильника прервал разговор. Станислав Алексеевич поднял трубку к уху, нахмурился сосредоточенно, заговорил по-английски. Даже голос у него изменился: стал властным и четким. Наконец, он завершил разговор, повернулся к Але, вздохнул:
— Вот и получается, что к жизни стариков привязывают привычки И — обязательства.
— Лучше, чем ничего, — произнесла Аля устало, лишь затем, чтобы что-то сказать.
«Ничего… ничего… ничего…» — механически запульсировало в мозгу; голос был похож на тот, что звучал из аппарата связи там, в кабинете Лира.
— Что с вами, Аля?
— Что?
— Вы так побледнели…
— Ничего… Обычное недомогание.
— Может быть, чем-то помочь?
— Помочь?.. Нет… Нечем… — тихо произнесла она и тут — выпалила неожиданно для себя самой:
— А можно мне позвонить?
— Конечно, — Станислав Алексеевич протянул ей аппарат.
Лихорадочно, почти ни о чем не думая, Аля набрала номер. Трубку сняли после первого же гудка.
— Да!
Аля почувствовала, как перехватило горло.
— Алька, это ты?! Не молчи! Говори! Я ничего не слышу! Кое-как сглотнув соленый комок, Аля выдохнула в трубку:
— Оле-е-ег…
— Алька! Ты где?
— Олег… Ты — дома…
— Алька! Ну не молчи! Где ты? Я был в Германии, были неприятности, сейчас все нормально… Где ты?
— Я… я в поезде… Еду домой… домой…
— Откуда едешь?
— Я… я… из Москвы… Не беспокойся… У меня все хорошо… У меня все очень хорошо… Я буду завтра утром… — Аля почувствовала, что не может больше говорить, спазмы перехватывают горло… — Я… завтра… буду… дома… Дома. Я тебя люблю.
Поезд влетел на мост, за окном замелькали металлические перекрытия, громадные, словно ребра дракона, в трубке что-то щелкнуло, связь прервалась. Аля опустилась прямо на ковровую дорожку… Слезы были горячими, и от них становилось легче.
— У вас все хорошо, Аля? — наклонился к ней Станислав Алексеевич.
— Да. Спасибо. У меня все хорошо. Теперь у меня все хорошо.
— Вы счастливая, Аля… Простите старика… Я уж было подумал… Нет, сам я для любовных ристалищ совсем стар… Но у меня сын… И я подумал было… Вы вот стояли у окна, такая несчастная, а глаза… Никогда: я не видел таких глаз… Он бы не смог в вас не влюбиться… Простите уж старика. В сватовстве я был бы совсем неуклюжий посредник… Так, фантазии… Это все коньяк. Хотите еще коньяку?
— Нет, спасибо.
— А я еще выпью чуть-чуть. — Он помолчал, глядя в мутную черноту окна, произнес тихо, словно про себя:
— Мне уже за семьдесят, а я так и не научился быть счастливым.
— А я знаю, — неожиданно для себя сказала Аля, улыбнувшись. — Счастье — это соучастие друг в друге… И сочувствие. Ведь людям на самом деле так немного нужно: чтобы их похвалили и чтобы пожалели. Только и всего. Один человек счастливым быть не может. Но вы ведь не один?
— Наверное.
— Значит, вы сможете. Сможете, ведь правда?
— Правда, — улыбнулся старик. — Я попытаюсь.
— У вас получится, вы только верьте… — Аля подняла усталый взгляд:
— А сейчас я пойду посплю, ладно? Сегодняшний день был невыносимо длинным! Он у меня не умещается.
Станислав Алексеевич церемонно поклонился Але:
— Спокойной ночи, сударыня, — сгорбился и пошел в свое купе.
— Спокойной ночи, — ответила Аля ему вслед.
Колеса размеренно постукивали на стыках — и тем создавали тот размеренный уют, который только и бывает в зимних поездах, в хорошо натопленных вагонах и в чистых купе. Поезд несся сквозь ночь и время, а белые блуждающие огни где-то там, на путях, разрывали тьму, высвечивая сказочные узоры, сотканные на окне ночным морозцем… Теперь, поздней ночью, все, произошедшее за один только день, показалось Але давним и дальним кошмаром… А колеса стучали только одно слово: домой, домой, домой… Аля закрыла глаза и уснула.
Ей снилась гора. Она уходила в высокий простор неба, и ее вершина терялась там, в синей выси. А на склоне горы Аля увидела барса. Сильный гибкий зверь спокойно и уверенно шел вверх по тропе, которую он угадывал среди россыпей камней и ледяных глыб лишь по ведомым ему одному приметам. Снежинки переливались на его шкуре, как тысячи крохотных бриллиантов, и он был красив.
…Барс замер. Перед ним дымилась широкая расщелина; дно ее было сокрыто в бездонной бездне, откуда поднимался удушливый, грязный туман. Барс стоял на самом краю расщелины. Земля дрогнула, из-под лап барса посыпались мелкие камни, и на какое-то мгновение он стал похож на маленького испуганного котенка… Уже стена ущелья стала падать пластами, и времени не осталось вовсе… И барс — прыгнул. Бросок его был стремителен; могучее тело распростерлось над пропастью, шкура снова засеребрилась. Барс махом перелетел расщелину, мягко присел на лапах и, не оборачиваясь, пошел по ведомой ему тропе. Вперед и вверх. Что было нужно ему на такой высоте, никто не знал.
Аля открыла глаза. Мерное покачивание мчащегося через ночь поезда, блики на укутанном морозным узором стекле… Ей показалось, она вовсе не спала, а видела все наяву… И еще она почувствовала, как щиплет глаза. Поднесла ладони к лицу и поняла: это просто слезы. Только и всего. А колеса продолжали отстукивать: домой, домой, домой… Аля улыбнулась счастливо, закрыла глаза и снова "уснула. Теперь ей снилось море.
А поезд летел сквозь мглу, и люди, спящие в вагонах, верили, что утро будет ясным и солнечным и что дни их на этой земле продлятся. И шел снег. Он падал в полном безветрии, тихо и нежно, словно хотел сокрыть до поры светлую тайну, хранимую этим народом и этой землей.
Примечания
1
Из монолога Гамлета. (Здесь и далее примеч. автора.)
(обратно)

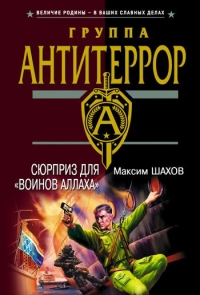
Комментарии к книге «Время барса», Петр Владимирович Катериничев
Всего 0 комментариев