Петр Владимирович Катериничев Тропа барса (Барс-2)
Часть первая НАЕЗД
Глава 1
Коля Воронов отзывался на погоняло Ворон. И специальность у него была самая что ни на есть уважаемая: карманник. Коле было тридцать семь, за спиной — две ходки, но оба срока он хватал как водится: первый — по молодости, второй — по глупости.
Первый раз, еще в восьмидесятом, закатали двести шестую, пьяную хулиганку, с прицепчиком; второй, в девяносто первом, — хранение и употребление. А по основной специальности его подловить кишка тонка у мусорков.
Но поменялось все. Раньше пощипать любого лоха — и сотка, а то и две, как здрасьте! Времена те прошли. Государство своим работягам деньги вовсе платить перестало, так и ворам не жизнь. Думать головой надо, если она голова, а не футбольный мяч.
Жаль, не вышел Коля ни ростом, ни сложением, про таких говорят: шибзик. А он шибзик и был. И даже если по фирме прикинуться — все одно не проканает. Среди богатых таким не потусуешься. Нет, кое-что на жизнь он добирал, на всяких выставках-продажах, где публика слоняется, разинув хлебальники… На булку с маслом добыть вполне можно.
Коля и добывал. Аккуратно платил долю в общак, прижился у одинокой бабенки в Вишневом — до Княжинска рукой подать, ездил каждый день, как на работу; был он тих, по-своему трудолюбив, и бабенка, Оксана, была им очень даже довольна: пил в самую меру, на приносимые деньги дом расстраивался постепенно. Все как у людей, Вообще-то щипачи работали бригадами, так сподручнее и риску меньше: передал «взятку» пареньку на подхвате — и уже нет статьи, и не докажешь! Но Воронин любил работать сам, один. Интереснее ему так было, что ли? Он бы и объяснить не смог.
Правда, порой тоска брала. Не чтобы с чего-то особого, а так, по жизни; ударялся Ворон по кабакам, просаживал денег немерено, пил, кутевал с прошмандовками…
Это был у него вроде как отпуск. А потом опять к той же размеренной и неторопливой жизни. Да и чего еще надо человеку? Иметь на хлеб с маслом, теплую да незлобивую бабу под боком да несильно борзеть, чтобы опять небо в клеточку не высветилось да баланда в алюминиевой миске перед рожей не замаячила. Нет, жизнью своей Коля Воронин был доволен. Почти.
А «почти» заключалось вот в чем. Была у него мечта. Верил Коля в свой воровской фарт, искренне верил, по-серьезному, как игрок. И тихо порой шептал что-то, как молился на везенье, и ждал то особое ощущение, когда знаешь — сейчас, сейчас попрет карта, и готов был все и вся запродать за такой вот момент и забывал, на том он свете или на этом… И вообще, работа у него была такая, что… Нет, кто не испытывал, никогда не поймет! Когда возвращался домой, да взбирался на бабу, да та стонала под ним как заведенная… Как оглядывала потом Оксана его хлипкую «хвактуру» да говаривала: «И откуда что берется? Доходяга доходягой, а жрешь за троих и „паришь“ за семерых». Он отвечал просто: «Маленькая блоха больнее кусается», а сам-то знал: после пережитого волнения, азарта, когда вот, могли за руку схватить, и вообще… После этого разрядка нужна. И он ее имел.
Но мечта есть мечта. Это почти святое. Ворону хотелось фарта, настоящего фарта, чтобы уши торчком. И еще — хотелось славы. Нет, он не завидовал ни этим качалам, «мясу», торпедам, живущим так удало и так недолго, ни авторитетам крутым из воров — сам понимал, до таких верхов и тронов у него и характеру маловато, и умишко не сфурычит. Сейчас такая крутизна пошла, что умища иметь нужно пуд. Это тебе не царем или там президентом, тут если где прокололся, косяк запорол, так и налетел на пулю. Да и много всего нужно, чтобы сошлось так вот по судьбе, у него не сложилось и уже не сложится. Но…
Ему хотелось сорвать Куш. С большой буквы. И пусть после выплат в общак, после кутежа останется чуть-чуть, зато пойдет о нем. Вороне, слава: фартовый! А ежели куш будет велик круто, братва и через пять лет, и через двадцать, и через сто о нем попомнит: дескать, был такой Ворон, фартовый вор, и жил по понятиям.
Нет, никакого преступления века вроде ограбления банка, музея или там выставки исторических драгоценностей он не замысливал, но в фарт верил: должно же и ему когда-то повезти. В какой-то книжке он читал про одного вора: жил себе тихо, еще в советское время, держал ребят на «железке» близ ювелирной скупки, и один из тех его парнишечек сторговал у старушенции брошь за четыреста рублей тогдашними деньгами, считай, как за одну оправу рыжую; ни старушонка цены не знала, ни этот лох-мальчонка, а в броши той каменюка был, алмаз с голубиное яйцо в цену немереную! Дальше писатель уже наврал: пошел, дескать, тот вор, сдал эту реликвию историческую то ли в музей, то ли еще в какую контору, да еще и срок за нее потянул — решил честным стать и на свободу после отсидки с чистой совестью выйти! Тьфу! Чем такое вкручивать, лучше бы в альфонсы тот писака подался, бабам арапа заправлять: бабы, они любят, когда врут складно да красиво!
Так и жил Коля Воронин да ждал: должна ведь удача ему хоть раз так-то, по-крупному улыбнуться, а?! А уж он тогда эту синюю птичку за хвост и в клетку — не упустит!
Осень приносила оживление в его профессиональную жизнь. Начинали работать театры и выставки, показы и презентации… И хотя люди в карманах не носили пачки баксов или бриллиантовые колье, на жизнь нащипать можно было с верхушечкой, с пенками.
Фестиваль «Альта-мода» обещал быть урожайным. Четыре бригады воров готовились к событию. Тут было что пощипать. «Новые» с супругами, подругами и чадами… Да ладно супруги, сами фазаны были птичками жирными: «котлы» по десять штук «зелени», заколки для галстука с бриллиантами, ручки от «Картье», самые недорогие — по три штуки… Есть где разгуляться! Пацаны работали в прикиде полных альфонсов: костюмы с иголочки, прически — волосок к волоску… Нет, не перевелись еще спецы!
А Коля Ворон, как всегда, пошел по индивидуальному «графику». Естественно, тупорылую охрану он проскочил так, словно их и не было: кургузый мужичок в пристойном рабочем халате и с большой потертой сумкой, полной каких-то проводов, плоскогубцев, зажимов, с маленькой металлической лесенкой… И бодигарды не обратили на него внимания. Ведь работяга для «вратарей» при дверях — часть пейзажа. А тут еще такой вавилон! Была бы охрана хоть немного профессиональная, а то так: отметится, что мероприятие под контролем, и известное на весь город агентство «Армард» отрабатывает свои денежки как положено — тупо и не суетясь.
Ворон еще с утра чувствовал азартное возбуждение. Он собирался работать по девчонкам: особого навара это занятие не приносило никогда, но многие из этих краль были подружками очень значительных задниц, а потому в сумочках вполне могли оказаться и баксы сотенными бумажками, и часики от Картье или «Ролекс», и другие дорогие цацки. Что-то попадется сегодня? Ум Ворона был ясен; он пытался было всякими доводами угомонить разыгравшееся воображение… Но…
Душа чуяла скорый фарт. Крупный. Сначала Коля взялся вычислять, кто будет этим «фазаном», потом плюнул: фортуна не любит рассуждений. Ты ей или веришь, или…
Или всю жизнь пашешь мужиком за твердую пайку. Третьего не дано.
Загодя он отомкнул махонькую каптерку электрика: сам электрик его стараниями запил вглухую; нет, Ворон с ним не пил, просто зарядил ребят, что выпивали в забегаловке рядом, а те уже загрузили Толика-электрика по самую маковку. По опыту Ворон знал: после такого принятия на грудь даже сама мысль о выходе на работу противна; ну а чтобы она была совершенно потусторонней, сунул Толяну в карман несколько крупных купюр, чтобы тому было чем занять себя, когда проспится. Сумку и халат он позаимствовал, как и ключи от каптерок и подсобок, причем не навсегда — следующим вечером собирался найти способ вернуть. Ибо четко знал: после сегодняшних краж начнется шум, завтра мероприятие будет наводнено шестерками, и ладно бы только ментовскими — под началом многих терпил, которых сегодня общипают, бывшие волки розыска, а сейчас — не раньше, просто загрузят в машину да так потолкуют, что отдашь то, чего не только не брал, но чего и в свете никогда не было!
А шорох начался куда раньше. Неужели умыкнули что-то этакое? Или у такой персоны, что она обиделась и высочайше повелела устроить показательный шмон?!
Такое было в прошлом году: то ли в поезде, то ли на вокзале у замминистра самых внутренних дел подломили портмоне. Так этот терпила закрыл вокзал на неделю!
Еноту понятно, доходы попадали: воры, кидалы, билетчики, проститутки, квартирники недополучали с пассажиров, менты вокзальные недополучали с них всех, но тут уж ничего не попишешь: стихия. Да и министры не каждый раз ездят.
Не-ет. В коридорах проскакивало множество людей, вроде бы бесцельно, но Ворон опытным глазом отметил их целенаправленное ничегонеделание. Он уже подумывал, как бы отыскать себе достойное электрика занятьице, чтобы не маячить и прикинуть ситуацию, когда к нему обратились:
— Ну вот, наконец-то! — Красивая, стильная дама лет тридцати взяла его за рукав халата. — Пойдемте! Там задохнуться можно!
Она устремилась вперед, Ворон шел за ней, присматриваясь. Девчонок было множество, все они свалили шмотки — сумочки, сумки, пакеты в малом зале; кто-то из красоток за вещичками бдил, но бдение это было таким, что стащить половину «изобилия» мог бы даже ленивый! Ну да это потом. Ворон верил своему чутью, а чутье подсказывало: не суетись!
— Вы только посмотрите! Здесь задохнуться можно! В маленькой гримерной набилось человек пятнадцать — двадцать девчонок. Здесь же работали стилисты. От сушилок, электрощипцов да и от дыхания набившихся в комнату людей духота действительно была страшная.
— Я уже двадцать минут пытаюсь связаться с кем-нибудь из вашего начальства!
Девчонки скоро в обморок начнут падать!
— Ну, это совсем лишнее…
— И по всей этой линии не работает ни один кондиционер. Напротив во всех гримерных работают, а здесь — нет.
— Разберемся, — авторитетно пробурчал Ворон, щелкнул для порядка тумблером. — Это на щите смотреть надо. И по другим гримерным, если последовательное соединение…
— Да смотрите где хотите, только исправьте! У меня уже здесь голова раскалывается, а всего минуту стоим! — Она обратилась к девушкам:
— Оля, Лена и Оксана, вы готовы? Быстренько, в пятый блок, посмотрите расписание. Олег хочет по этой коллекции хотя бы один прогончик устроить полностью, а то… — Она снова посмотрела на Ворона:
— Сумасшедший дом! Ничего не успеваем! — И выпорхнула.
Ворон прошелся по гримерным, засветился. Теперь у него было полное право слоняться везде. Он снова пересек малый зал, где девочки складывали вещи под надзором то одной, то другой не слишком внимательной красавицы, прошел в коридорчик, нашел в закутке распределительный щит: почему бы не сделать доброе дело и действительно не исправить систему вентиляции? На щите должна быть схема.
Он открыл гвоздиком смешной замочек, а когда увидел того лощеного лоха, словно кто шепнул ему: сейчас.
Мужчина с «дипломатом» шел скоро. По краю зала. Когда он почти приблизился к коридорчику, то сделал неуловимое движение и подхватил из кучи вещей сумку — кожаный рюкзачок. Это движение его осталось не замеченным никем, кроме Ворона.
Сам он поспешил уткнуться в щит, причем открыл дверцу так, чтобы у незнакомца даже сомнения не возникло, что он мог видеть.
Молодой человек скоро прошел мимо Ворона и скрылся в туалете для сотрудников.
Обратно он появился через пять минут с той же сумкой и с «дипломатом», только «дипломат» был заметно полегчавшим, а рюкзачок — заметно потяжелевшим.
Возвращался в другой коридор мужчина тоже через малый зал, и Ворон успел приметить, что бросил он рюкзачок совсем не в ту кучку, из которой взял. Причем обратно его он нес ни от кого не таясь, вроде подруга попросила доставить; подошел к куче вещей, отпустил комплимент девчонке-"стражнице", видно, пошутил или поприкалывался и положил модную сумку среди других вещей: дескать, Оля передала, сама срочно побежала краситься.
Сердце Коли Воронина билось азартно и скоро: это фарт. Он не заспешил, не поленился пройти за молодым человеком и заметил: того пасли. Причем два хвоста — пареньки в джинсовках, сидевшие в служебном кафе с насквозь прозрачными стенками, — чуть ли не вздохнули облегченно, когда «объект» объявился, преспокойно сел за столик и заказал чашку кофе с коньяком: судя по всему, они потеряли его несколько минут назад вчистую, но суетиться, бегать и искать в наглую по каким-то своим причинам опасались.
Один из хвостов проговорил нечто в переговорную рацию, лежавшую на столе, в чем тоже не было ничего необычного — почти у всех здесь были такие: главный режиссер действа командовал с пульта настоящей армией ассистентов, костюмеров, художников по свету, девушек-менеджеров агентств, каждая из которых, в свою очередь, своей стайкой длинноногих моделей.
Права была красивая дама: сумасшедший дом. Но то, что в мутной воде легче рыбку ловить, — факт. И, судя по всему, в этом «пруду» рыбачил не он один.
Ворон вернулся в маленький зал. Одни девушки переодевались к показу, другие носились взад-вперед по ведомым им делам. Рюкзачок лежал там, где его оставили.
Заметил Коля и девчонку: молоденькая, лет семнадцати, русоволосая, она порылась в груде вещей, спросила что-то у стоявшей рядом девушки — та только плечами пожала; видно было по лицу, что она расстроена. Потом к ней подошла та самая красивая дама, что-то сказала; девочка глянула на часы и направилась в служебное кафе.
На сцене грохотала музыка. Девчонки прибегали, убегали. Рюкзачок никого не волновал. Коля Воронин закрыл распределительный щит, дождался, когда вокруг кучи с ве' щами никого не окажется. Вышел из своего закутка озабоченно, деловой походкой. Проходя мимо кучи вещей, уронил лесенку. Наклонился поднять. На него не обратили особого внимания. Движение было скорым, отработанным: рюкзачок исчез в объемистой рабочей сумке Ворона.
Он прошел коридор, еще один. Проскочил по кругу еще пяток коридоров, убедился: никто за ним не следил. Через пять минут оказался в каптерке, закрыл за собой дверь на хлипкий шпингалет, перевел дух. Сердце стучало гулко и часто: будет смешно и глупо, если он потянул пустышку и все эти штучки — просто игра воображения. Закурил, перевел дух и только потом расстегнул рюкзачок, развязал.
Увидел, как чуть-чуть подрагивают руки. Запустил их внутрь и выудил обычный целлофановый пакет. Всего восемь увесистых, вглухую запаянных пакетов из толстого целлофана, в каждом — белый порошок. Мужчина улыбнулся одними губами: в том, что это не мука, он был уверен точно.
Ворон почувствовал, как колотится сердце и пот заливает глаза. Уходить, и немедленно!
Автоматически он затолкал все обратно в рюкзачок, сам рюкзак уложил в свою объемистую сумку на самое дно: бросать его в каптерке — это как себе в суп плюнуть! Если рюкзачок найдут-таки здесь, то его очень скоро вычислят, выдернут и вывернут наизнанку. В прямом смысле.
Сверху он уложил кусок дерюги, мотки проволоки, инструменты, стараясь, чтобы какой колюше-режущий инструмент не продрал ненароком рюкзачок. Хотя кожу продрать и непросто, береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет. А то и похуже.
Теперь нужно было чисто уйти.
Не торопясь, Коля выкурил половинку «Примы», вытащил из внутреннего кармана кургузого пиджачишка загодя припрятанную фляжку с водкой, сделал крохотный глоточек, прополоскал рот, чуть-чуть плеснул на пиджак. Загасил пальцами бычок, приклеил к нижней губе. Из каптерки объявился с самым деловым видом, но пошел не через служебный выход, а за кулисы. Полюбовался представлением, дождался, пока музыка дошла до заключительных аккордов и девушки начали спускаться с подиума, пробурчал нечто, шмыгнул в темный зал. Его глаза привыкли к темноте, и потому он уверенно шел по проходу до двери, над которой зеленым горело: «Выход».
Глава 2
После тьмы зала вестибюль сиял, Ворон прищурился, окидывая все единым взглядом, и тут же опустил глаза. Давешний молодой человек шел в сопровождении двух других не менее подтянутых, но куда более накачанных и деловых; притом держался он достаточно беззаботно и свой пустой «дипломат» нес уверенно. Итак, хлопчика повязали, и он веселится, что «приземлят» его чистеньким, как голубя из Ноева ковчега. Хм… Надо думать, он уже нашел или еще найдет способ поделиться со товарищи, где уже заныкал драгоценный белый порошочек, и вот тут их всех ожидает разочарование. Очень крупное разочарование. Головы полетят или мозги из этих голов — в пол, в потолок, на мостовые…
Он вышел почти вслед за молодым человеком и сопровождающими, заметил, как того усадили в «Волгу», успел сделать вывод: комитетчики. Хотя здесь они назывались и по-другому, ну да комитетчик, он комитетчик и есть, его хоть горшком назови, хоть корытом — по повадке видать.
Коля шел не спеша, запрыгнул в кстати подошедший троллейбус, снял халат и спрятал сверху в сумку, проехал пару остановок, выскочил, нырнул в метро, два раза поменял линию, вышел наконец на нужной остановке и уже спокойно и не дергаясь добрался до станции. Электричкой до Вишневого было минут пятнадцать.
Дома он оказался в половине двенадцатого. Оксана ждала, в доме вкусно пахло варениками. Коля отомкнул дверь ключом, вошел на кухню. Женщина возилась над раковиной. Ворон уронил сумку, одним махом задрал ей подол и спустил трусы.
— Ой! — вздрогнула Оксана вроде от неожиданности, зашептала скороговоркой:
— Погоди, налетный…
Но когда он вошел в нее, она оказалась влажной и готовой: она ждала, заметила, что он подходит, и ждала, повернувшись спиной, выпятив сдобную задницу так, как ему всегда нравилось… Они повалились на пол, женщина кончила раз, другой, третий, а он знай гонял, зверея и возбуждаясь. Его «парень» был как каменный, он снова развернул женщину спиной, вытащил и с маху вогнал его, влажного, в другую щелочку. Она напряглась сначала, но снова стала постанывать, а он двигал животом, словно неутомимая машина, пока не зарычал, перехватив руками ее спину…
— Ну вот, теперь синяки опять будут, — ласково прошептала женщина, оглаживая его продолжающее стоять «орудие». — То-то ты как бешеный бык… Просто бык, и все…
— Она поцеловала его, а Колян лежал на спине и чувствовал спокойствие и блаженство; казалось, сейчас какая-то фраза «Я тебя люблю» — и он заплачет, разрыдается, будто маленький ребятенок, уткнувшись Оксанке в грудь… Но такой глупости она не говорила никогда. И не скажет. А он и подавно. А жаль.
Ворон встал, заглянул в умывальник, подхватил оставленную в прихожей сумку.
— Ты чего, есть не будешь?
— Пока не буду.
— Я и вареники приготовила, с поджарками, как ты любишь.
— Не, Ксюха, потом. Утром. Сейчас устал как зверь.
— В «скворечнике» ляжешь?
— Угу. Там воздух свежее.
— А то ко мне бы под бок.
— Завтра.
— Ну завтра так завтра.
Николай поднялся по скрипучей лесенке в крохотную пристройку, которую называл «скворечником», плотно задернул шторы. Вытянул из сумки пакет, из него — плотный увесистый пакетик. Чувствовал, как дыхание снова стало неровным. Когда-то он баловался кайфом и знал, что… Подстелил на столик чистую белую бумажку, достал бритвенное лезвие и, разом решившись, полоснул по плотно набитому пакету.
Немного порошка просыпалось на газету, он послюнявил палец, окунул в липкую массу, положил на кончик языка. Героин. Исключительной очистки.
Ворон откинулся на койку, ощущая во рту специфический привкус. Пошарил на столике, вытащил из пачки сигарету, взял зажигалку, чиркнул кремнем. Прикурил.
Долго смотрел на язычок пламени. Захлопнул крышку, огонек погас.
Он лежал и смотрел в потолок. Восемь пакетов. В каждом, если прикинуть, граммов четыреста. Вернее, четыреста граммов. Этот товар любит точный счет. Значит, три килограмма двести граммов. Качество отменное. Ну а общую сумму он может сосчитать и без калькулятора, если грамм этой «дури» на рынке стоит двести пятьдесят долларов. Если он, Ворон, ошибся, то только в сторону уменьшения.
Пожевал губами, стараясь явственнее ощутить привкус на кончике языка…
Удивительной очистки «дерьмо». Сработали из азиатского сырья где-нибудь в здешнем НИИ хорошие лаборанты. Такой очистки на шаромыжку не добиться. Снова пожевал губами. От общей суммы кружилась голова и без всякого кайфа.
Сегодня был фарт. Вернее, Фарт! С заглавной буквы! То, что находится в этих пакетиках… Это будет… Николай снова пожевал губами, и как он ни старался, сосчитать не мог. Выругался, спустился вниз, взял старый задроченный калькулятор, с каким Оксанка приторговывала всяким тряпьем на рынке, вернулся и нажал поистертые кнопочки…
Как он ни был готов, цифра его поразила.
Восемьсот тысяч долларов! Восемьсот тысяч! Долларов! Лежат на полу в «скворечнике»! Сейчас, когда любой отморозок за пару штук «зелени» кончает молотком престарелую старушку, будто она и человеком никогда не была! Восемьсот тысяч долларов!
Это был Фарт!
Ворон снова стал тискать истертые клавиши счетной машинки. Даже если взять самую низкую, даже оптовую цену куда более грязного «дерьма», чем это, цена улетает за полмиллиона долларов. Влегкую.
Ворон почувствовал, как устал. Он был не фраер и не лох, чтобы решить, что такую партию «дури» он сможет спихнуть легко и без потерь, минуя, скажем, Кондрата или Беню-одессита. Хотя… И Украина велика, а Россия — и подавно. К тому же он, хоть и не часто, катался по кайфу, все хаты и всех сбытчиков знал. Такой «дури» в Княжинске не было. Никогда. А за каким рогом она оказалась в «Юбилейном»? Тоже понятно и еноту: титулованных гостей съехалось, как грязи. Ясно, что Карден вряд ли потащит наркоту в сумчаре через бугор, а вот кто-то из педерастических мальчиков или плоских анемичных девочек в этом безразмерном ворохе одежек-без-застежек — вполне. Коллекция Кардена Houte Couture — это звучит. Ни один поганец не решится детально шмонать выставочную одежонку от маэстро, не рискуя налететь на звиздюлину от своего же начальства: все-таки впервые почетный гость в независимой Украине! А Княжинск — тот же Париж, как любят заявлять батьки из Верховной Рады!
Кто-то продумал все кардинально. И это кто-то не Кондрат и не Беня: у этих даже на двоих думалка так кучеряво не сработает. Получить «дурь» от черных дрянной очистки, запустить по городу и окрест — это они мастера, а вот сработать через высокую моду — кишка тонка! Так к кому же обратиться? К самому Автархану? Повод?
Повод ох какой значимый: кто-то гонит наркоту на Запад мимо него, да в таких количествах, да такого качества! А в Западной той Европе эта «дурь» — ишь, даже язычок радуется, очищена — суши весла! — улетит в цене к четыреста за граммулечку! Даже если по низшей цифре, это… Мужчина снова потискал пимпочки калькулятора… Миллион двести восемьдесят тысяч! Долларов! Уф! Ворон перевел дыхание, чувствуя незнакомое прежде напряжение и какую-то тяжелую, тревожную усталость. Хорошо, хоть Ксанке успел заправить: сейчас не то что «гонять дурака» не хочется, а и не шевельнешь его ни краном, ни домкратом, хоть всех этих подиумных красотулек нагишом перед ним построй! Да и не любил он худых. Баба, она в теле должна быть, чтобы дышало все… Хм… Понятно, чего эти банкиры хреновы, по слухам, импотенты все: им бабу трахать надо, а у них сплошная цифирь в башке крутится, да немаленькая, да мыслишки гонят не догонят одна другую: как бы не налететь так, чтобы голова на плечах осталась в неприкосновенности. Да и опять же трахать этим банкирам кого? Тех же таранок худосочных, мода теперь такая, хошь не хошь; может, их с пивком и хорошо употребить, а ему, Коляну, нравились сдобные, как пышки, и горячие. И снаружи, и внутри.
Фарт… Нужно теперь помыслить, как этот фарт обернуть в деньги… В хорошие деньги. Да чтоб голова на плечах задержалась. Он ведь не банкир какой-нибудь, чтобы башку не жалеть. Своя, не чужая. А спешить ему покуда некуда.
Чтобы как-то отвлечься от тревожных и непривычных мыслей, Колян вытряхнул все из сумки на пол. Ага. Косметичка со всякими бабскими причиндалами, проездной, читательский билет с фотокарточкой. Красивая девчушка, только маленькая еще. А глаза — просто обалдеть можно. То ли досталось ей уже на коротком веку, то ли…
Нет, точно досталось, Ворон повидал этаких глаз. Глебова Елена Игоревна. М-да…
Не повезло сегодня Глебовой Елене Игоревне: сумчару умыкнули. А может, наоборот, повезло: забери комитетчики, или как их там, этот рюкзачок, ей бы отмываться до костей, и все одно — не отмыться. А сумка, подумаешь, — погорюет и плюнет, а впредь умнее станет. Это уж точно.
Еще в сумке оказался мишка. Забавный такой плюшевый медведик, довольно тяжеленький: внутри был механизм. Надо думать, механизм тот сломался давно; плюш на шкурке пообтерся совсем, один глаз — свой, другой — перламутровая бусинка пришита, но пришита крепко, видать, давно медведика чинили, может, лет десять тому; а у девчонки той или детство еще не отыграло, или друг это ее… Вот и таскает везде.
— Ну что, Потапыч, не ведал, что ко мне попадешь? Погляди, как живет фартовый Ворон, позавистничай. Все одно — не скажешь никому, а потому от тебя никакого вреда. Правда, и пользы немного, а, косолапый?
Колян поставил медведика на широкий подоконник, щелкнул ногтем по голове, и она закачалась плавно из стороны в сторону.
— Не соглашаешься? То-то, что не соглашаешься… Может, видывал ты в своих лесах игрушечных куда поболее всего, что людишки знают, а, Потапыч? Молчишь? Ну молчи, молчи… Молчание — золото.
Ворон взял еще сигарету. Хватит попусту языком молотить. Думать надо. И решать.
А то ежели чего, узнает кто из братвы, так они и решат: скрысятничать вздумал Ворон-падаль, куш утаить! Вот тогда и будет о-го-го. По всей форме. Так что как ни крути, а надо к Автархану… Больше не к кому. Пятьдесят кусков ему, Коле Ворону, уж точно обломится, и слава среди братвы — это уже навсегда. Сначала тишком пойдет, шепотком, а все ж…
Ворон чиркнул кремнем, поглядел долгим взглядом на огонек… А все ж… Вот именно: не попробовать этой «дури» — ну никак нельзя. Получится, что он как пес какой: сцапал добычу, поднес хозяину, и сиди голодный, облизывайся, пока косточку дадут. Не, не попробовать нельзя. Нужно даже попробовать, обязательно!
А то вдруг не так вкусна сметана, как бела? Аккуратно заклеил скотчем отверстие в пакете, оставив только то, что просыпалось на бумажку, — граммулечку.
Остальное загрузил обратно в рюкзачок, а его сунул в шкаф, в самый низ, да прикрыл сверху хламом. Вот бабы! У Оксанки этих платьев — груды, а никакой тряпки спроста не бросит: жалко. Грузит куда можно и куда нельзя — баба!
Колян глянул на часы. Четверть второго. Время есть: отлетай, сколько душа пожелает, Оксана никогда его не будит, если он в «скворечнике» залег; да и к «дури» она относилась спокойно — конченым он вроде не был, а что соломку вываривал… А кто в Вишневом не вываривал? Наоборот, порой он сварит себе дозу, уколется да такое в постели устроит, что… «Болт» как каменный, по три часа соколом летает! Сама Оксанка, правда, ни-ни. «Дури» не терпит, считает баловством зряшным. Вот то ли дело горилки, да на зверобой-траве, выпить, да закусить богато, да песен попеть. Это она охоча.
За размышлениями спустился Колян по скрипучей лестнице; починил бы давно, да такая ему и была нужна: никто втихаря не подберется. А у него там, в шкафчике, «тулка» да патроны с жаканом да картечью: и криминала никакого, а так пропишешь кому незваному, если что, — никакой «Макаров» таких дырок не понакрутит.
На кухне зачерпнул Колян водички из ведра, выпил, чувствуя, как зубы стучат о железо кружки: уже подперло. Не, он не конченый, но уж очень «дурь» хороша, и удерживаться нет ни охоты, ни резона. Да и заслужил он сегодня, точно заслужил.
Зачерпнул еще кружку, бросил туда ложку столовую, поднялся в «скворечник».
Осторожно подхватил сухой бумажкой щепоть порошка, ссыпал в ложку, аккуратно, на пальчиках, по капле, наносил в нее воды. Откинул крышку зажигалки, чиркнул кремнем, подставил ложку под огонек, с удовольствием наблюдая, как пузырится по краям жидкость, прежде чем сделаться однородной. Подержал, пока остынет, аккуратно, по капле, слил в приготовленный пузырек темного стекла.
«Боян» он тоже приготовил загодя. Не какой-нибудь одноразовый стручок, как у всякой там нечесаной швали: фирмовая машинка, своя. Аккуратно наполнил шприц, чуть притравил, пока не показалась на кончике иглы крохотная капля, согнул руку в локте.
Он не конченый и даже не наркоман; так, случается у него, конечно, раз-два в месяц, но это баловство, не больше. Вот и «дорожка» тут как тут, даже и жгута не нужно. Ловко и ласково он проткнул вену, подождал полсекунды и мягко надавил на поршень, давил, пока не опорожнил шприц. Горячая волна мгновенно прошла по телу, стало тепло, голова закружилась, но едва-едва… Ворон извлек шприц, положил на столик, прикрыл полотенцем. Откинулся на подушку.
— Ну что, Потапыч, поехали? — щелкнул он плюшевого медведика и откинулся на постель, прикрыл глаза, ожидая, чувствуя уже первый, самый сладкий «приход».
Мишка укоризненно качал головой.
— Не одобряешь, косолапый? — приоткрыл на мгновение веки Ворон. — Ну и дурак.
Вам, медведям, кайфа не догнать. Так и живете сиротами.
Ворон снова упал на подушку, но не ощущал уже ничего. Тело стало легким, как пух, а легкий, ласковый ветерок поднимал его и готов был мчать к невиданным красотам и невыразимым наслаждениям…
Медведик стоял на подоконнике и косил укоризненно лиловым глазом. Голова его продолжала покачиваться из стороны в сторону, и блики света, играющие в темном зрачке, делали этот взгляд осмысленным, печальным и мудрым.
Глава 3
Хуже всего, когда тебя предают.
Алена смотрела в окно, в последний дождливый день осени и завидовала ему. Осень еще не разучилась плакать. А она сама…
Мысли метались обрывками, и ей казалось, что похожи они на мусор. Вернее… В голове крутились обрывки каких-то песен, мелодий, стихов… Девушка посмотрела в окно. Темень. И капли стекают по стеклу… Как слезы…
Какая тишина и в доме, и за окнами, В ушах шуршаньем ночь.
И улицы блестят проталинами мокрыми.
Не спится, чем помочь?
Ноябрь перед закрытием слезливо и дурашливо Расплакался дождем, Сливая все события, и важные, и бражные, Под сетчатым плашом.
Последний месяц осени дождем в окошко просится:
Прими и обогрей.
Впусти. Котенком ласковым ноябрь свернется сказкою У теплых батарей.
Сказка… Сказки пропали все… Давно. Они остались в той жизни, которую она не помнит. Совсем.
И еще она, словно наяву, слышала мелодию песни, популярной лет десять — пятнадцать назад, когда была совсем маленькой… «Куда уехал цирк, он был еще вчера, и ветер не успел со стен сорвать афиши…» Афиши тоже уже все сорваны, и ветер безразлично метет обрывки чьей-то недавней славы, успеха, восторга… И все бы это тоже ничего… Хуже всего было… Хуже всего, когда тебя предают…
Телефон прозвонил трижды, сработал автоответчик. Девушка осталась сидеть все в той же отрешенной позе на узенькой софе, прикурила новую сигарету от истлевшей до фильтра, глотнула из стоящей на полу большой бутылки, глубоко затянулась дымом…
— Глебова, возьми трубку, это я, Настя! — прозвучало из динамика.
Та только равнодушно глянула на аппарат и безучастно отвернулась к окну.
— Алька, возьми трубку! Если не возьмешь, я не знаю, что я сделаю! Пойду к Кузьмичу, и мы выломаем дверь, возьми немедленно!
Горькая полуулыбка мелькнула на губах девушки, она подняла трубку:
— Да?..
— Уф… Значит, жива…
— А чего со мной сделается?..
— Голос у тебя какой-то странный…
— Уж какой есть.
— Глебова, ты чего? С позавчера — ни слуху ни духу… Ведь договорились же! Я тебе уже обзвонилась. И в дверь вчера ломилась. Ты где была-то?
— Дома, — меланхолично ответила девушка.
— А что вообще с тобой случилось?
— Ничего.
— Ага, «ничего». А то я тебя не знаю. И голос хриплый. У тебя что, простуда?
— По жизни.
— Слушай, да ты напилась!
— Да…
— Что случилось, Алька?
— Ни-че-го. Ровным счетом.
— Ты одна?
— Я всегда одна…
— Я сейчас спущусь. Поняла?
— Хм…
— И не хмыкай! Если не откроешь — дойду до Кузьмича и сделаю как сказала!
Выставлю дверь к чертовой бабушке! Поняла? Ты меня знаешь.
Девушка положила трубку на рычаг. Снова взяла бутылку и основательно приложилась. Смотрела на стекло в дожде, пока мелодично не пропел дверной звонок. Поднялась с постели, отомкнула защелку, повернулась и побрела в комнату.
Настя вошла в прихожую:
— Глебова, ты чего нагишом слоняешься? На девушке действительно не было надето ничего, кроме белых носочков. На вопрос она никак не отреагировала — возможно, она его даже не услышала. Молча вернулась в комнату и рухнула на кровать.
Настя, крупная энергичная шатенка лет двадцати семи, двинулась следом, села в кресло перед низким столиком, взяла бутылку, понюхала:
— Сладкие вина — сладкие грезы… Чего пьешь-то, а?
— Мускат.
— Я не о том.
— А-а-а… — апатично отозвалась девушка. — Будешь? Настя сморщила чистый лоб…
И пить ей в такую рань не хотелось… Но девке надо помочь.
— Буду. А чего попроще есть?
— Смотри сама.
Настя подошла к открытому бару.
— Да тут уже и смотреть нечего. — В баре оставалась бутылка лимонной водки и квадратная емкость с шотландским виски — в этой плескалось на донышке, едва-едва.
Настя окинула быстрым взглядом комнату. Нет, мужчин здесь не было, бар Алька расфурычила сама. Сколько же она выпила, мама дорогая!
— Глебова, ты чего, в «синеглазки» решила заделаться по ускоренной программе?
Девушка лежала, завернувшись в простыню, лицом к стене.
— Так и будешь бревном лежать?
Молчание.
Настя передохнула. Это что же должно было случиться, чтобы девку так развезло? И не от спиртного — по жизни? Вот блин!
— Ладно, хочешь лежать — лежи. Но с подругой-то за компанию выпьешь? — решила она переменить тактику.
Настя ловко откупорила маникюрным ножичком бутылку водки, прошла на кухню, вытащила из морозильника простую эмалированную кружку, полную полупрозрачного льда, одним ударом выкрошила два огромных куска, бросила в толстостенные бокалы, плеснула водки, едва-едва, воровато оглянулась на дверь, долила водой прямо из-под крана, вернулась в комнату.
— Кушать подано. Дерябни с дорогой подругой, — протянула девушке стакан.
Та выпила равнодушно. Поставила стакан у кровати. Он неловкого движения подушка упала на пол. На простыне лежал пистолет.
— Ото! — Настя одним махом опорожнила стакан, успев пожалеть, что плеснула себе слишком мало водки, взяла оружие за ствол, посмотрела, чуть сморщив носик, брезгливо, словно продавщица бутика «Валентине», обнаружившая в фирменном белье лежащую там промасленную шестеренку трактора «Кировец». — «Возьмем винтовки новые, на штык флажки и с песнею в стрелковые пойдем кружки…» — пропела она хрипло. — У тебя чего, детство заиграло?
Ленка подобрала подушку, накрыла «мелкаш», легла на спину, глядя в потолок остановившимся взглядом.
— Глебова, да прекратишь ты молчать?! Пьешь как ломовая лошадь, ствол под подушку заныкала… Не, я никогда не разделяла твоих спортивных увлечений, приличной девушке совсем не обязательно уметь стрелять, ей нужно иметь мужчину, который просто исключит всякую возможность баловства с оружием, будь оно по делу или без… — Настя замолчала на секунду, потом произнесла серьезно:
— Ты кого отстреливать собралась, а? Что случилось?
Глаза девушки наполнились слезами, она закусила губу, но не произнесла ни слова.
— Вот что, девка! Если…
— Погоди, Настя… Лучше… Лучше, если ты уйдешь.
— Почему это?
— Они могут прийти когда угодно.
— Кто — они?! Колись давай! Я тебе боевая подруга или где?
— Ты все шутишь… А тут что-то очень серьезное. Боюсь, и твой Женька нам не поможет. Да и… Никому не нужны чужие проблемы.
— Это мне решать: поможет, не поможет. А проблемы… Если мы перестанем помогать друг дружке, то вымрем. Как стадо дебильных мамонтов.
Настя налила себе водки, сморщила нос, выдохнула и выпила по-мужски, махом, запила теплой кока-колой, вытянула из пачки сигарету.
— Можно хуже, но некуда. Никакого сервиса в ваших апартаментах, девушка. — Закурила, выдохнула дым. — Рассказывай. И никуда я не уйду, ты меня знаешь!
Аля не замечала, как слезы катятся по щекам. Настя поглядела на подругу внимательно, вздохнула… Надо же, как девку припекло!
А Лена смотрела в потолок и не думала ни о чем. С Настей Сергеевой ей вдруг стало совсем спокойно. Была она совершенным исключением из всех и всяческих правил женской дружбы: независтлива, незлословна… Может быть, потому, что, будучи старше на целых десять лет, восприняла когда-то Лену так, как взрослая кошка воспринимает отданного под ее опеку котенка.
…Глебовой было четырнадцать, когда три года назад она поселилась у бабушки Веры, и первое, что она сделала, — это подралась во дворе. Попросту разбила носы двум рослым стриженым пацанам, хотя и ей тоже досталось. Они вмиг почувствовали, что явление русоволосой, стремительной и улыбчивой пацанки может стать прямой угрозой их безусловному лидерству в этом старинном, затененном тополями дворе.
В тот день Ленка вышла во двор, заспешила с ведром к мусорным бакам… Путь ее проходил в аккурат мимо лавочки, где в мирной летней тени лениво припухали три паренька и Валька Кукушкина с Надей Гадалкиной — в дворовом лексиконе их давно переименовали в Несушкину и Давалкину.
Несушкина, кою природа к шестнадцати годам щедро одарила безразмерной грудью, густыми рыжими волосами и простоватым, усыпанным веснушками лицом, колыхнула под майкой могучими прелестями, брезгливо сморщила покрытый тройным слоем тон-крема купеческий носик-пуговку и произнесла:
— Плоскодонка… И корма — хоть доски стругай… — Она отвернулась, всем своим видом показывая свое отношение к этой ошибке природы: «ни сиськи, ни письки, и попка — с кулачок».
Но ребята, похоже, так не считали. Худенькая, длинноногая, стремительная девчонка словно летела над землей, чисто промытые льняные волосы струились в теплом ветерке, и ребята на нее просто загляделись. Да и новизна:
Несушкина и Давалкина стали давно вроде как дежурно-безотказным вариантом, и «новье» было воспринято как надо. Надька Давалкина первой заметила этот взгляд, покраснела от злой досады: как раз вчера она сумела-таки заарканить Мишку Бодухина, по кличке Бодун, и претендовала в отличие от многомерной товарки на «постоянку»… Появление этой новенькой могло поломать все так славно ложащиеся расклады.
— Вот это ножки… — восхищенно процедил Витька Корзун, когда Лена приподнялась на носочки и чуть наклонилась, вытряхивая ведро, Надькина досада разом превратилась в глухую, тяжелую ненависть. Ее собственные ноги были попросту кривыми; в занятиях сексом такой недостаток был несущественным, но позволить себе надеть такую вот юбчонку она не могла, а потому парилась в джинсах.
— Чего за девка? — повернул стриженую шишковатую голову Бодун.
— Детдомовская. Бабка Вера, Николаева, ее привезла откуда-то.
— Ни-колаева, ни-двораева… Родственница, .что ли?
— А хрен ее знает…
Лена возвращалась, Бодун коротко свистнул, та даже ухом не повела.
— Эй, доска гладильная, далеко припустила? — звонко крикнула Несушкина. — Подойди, поздоровайся с людьми… Или вас, выблядков детдомовских, манерам не учили?
Девчонка повернула потемневшее от обиды лицо, на глазах заблестели слезы, она хотела ответить что-то резкое, но поняла, что не получится, что расплачется просто-напросто перед этой раскормленной клушей, закусила губу и пошла прочь.
— Да не торопись, киска, жужжи сюда мухой, чего сладкого дадим! — хрипло выкрикнул Корзун, по кличке Муха, был он мальчиком на посылках, бегал за водочкой и сигаретами для Бодуна и приговаривал постоянно: «Мухой слетаю». За что и стал Мухой.
Лена замерла, развернулась, выдохнула резко:
— Соси сам, недомерок… — и пошла дальше, легкая, стремительная, будто недоступная ни их пониманию, ни их похоти.
Компания на миг оцепенела от такой наглости. Муха вопросительно глянул на Бодухина:
— Бодун, за такую борзоту пусть ответит.
Тот безотрывно смотрел на стройные загорелые ноги, лакомо причмокнул толстыми, как у негра, губами… Был он уже крученный жизнью парниша, только две недели, как перестали таскать по следователям: так же, втроем, трахнули они малолетку-скрипачку из соседнего двора. Он бы и сел, и потянул с пацанами групповуху, если бы нутро оказалось похлипше, а так: девка та вышла-таки без мамашки то ли в магазин, то ли еще куда, Корзун с Гнутым давно ее припасали, взяли в «коробочку»; Бодун спокойно подошел, вынул из сумки дешевую китайскую Барби, пузырек, вытащил притертую пробку и, не торопясь, вылил соляную кислоту кукле на голову. Девочка с ужасом смотрела, как плавятся волосы, как морщится и чернеет разрисованное личико, а тот произнес только, едва разлепляя толстые губы: «Если мамашка твоя заяву не заберет из ментовки, то… — Протянул девочке изуродованную куклу. — А это тебе. На долгую добрую память».
Дело было прекращено. Никакие заверения ментов в том, что и дочь, и ее саму защитят, не помогли: мамашка успела смотаться в дурдом, добыла какую-то справку и написала, что ее дочь больна и все ей просто привиделось. Сожженная кислотой кукла произвела на нее впечатление…
Так что раздумывал Бодун недолго: за эту детдомовскую и заявку подать некому, а еще — девку надо будет во всех позах на «Кодак» отщелкать да бабке Вере фотки с чистосердечным нашим почтением поднести, пока она эту сучку прописать не успела: на бабкину квартирку уже давно люди имели виды; сама бабка — сердечница, глядишь, и копыта откинет пошустрее. Наследников у нее нет, квартирка без всякого мошенства отойдет городу, а там чинуша уже давно поимела на лапу и ордерок выпишет Гуне Старшему… Ему, Мише Бодухину, как раз капнет штука «зелени»… Да и авторитет это дельце среди братанков подымет — дело не последнее.
Все эти мысли промелькнули в шишковатой и еще не вполне отошедшей от вчерашнего жрача Мишкиной голове разом, за секунду, но решили все не они: Бодун не отрывал глаз от упругой попки, едва прикрытой коротенькой юбкой… Волна желания горячо прихлынула в пах, потом — в голову., .
Девки тоже искательно смотрели на вожака. Эта сиротская дура сама напросилась: как только ее пустят в подвале «на хор», станет она просто общей давалкой, рангом куда пониже их обеих, а то бросят ее пацаны вовсе «под колеса» — обслуживать водителей-дальнобойщиков да зарабатывать пацанам на пивко с водочкою…
— Твое слово, Гнутый, — спросил для проформы Бодухин долговязого сутулого парня, лениво жующего фильтр сигареты длинными и желтыми, как у лошади, зубами.
— А чего тут базлать зря… Править надо биксу, а то…
— Бодун, уходит! Должна ответить! — снова подвыл Муха.
— Ответит… — хрипло выдохнул вожак. — Давайте су-чонку в подвал, там и потолкуем…
— А ну артачиться начнет? — загоношился тот.
— По почкам — и под белы руки. Двое парней скорой рысью сорвались с лавки, предвкушая развлечение.
— Ты чего так завелся на эту? — ревниво протянула Надька, положив руку на взбухшую «мужскую гордость» кавалера. — Разве она сможет так, как я? — И облизала пухлый округлый рот.
— Не болтай, — разлепил Бодун губы-пельмени. — Идите с Несушкой пацанам пособите, а то меня обездвижило, блин. Ну да сердцу не прикажешь, — довольно гыгыкнул он, кинув взгляд на штаны. Сейчас, сейчас эту длинноногую сучонку затащат в подвальчик, распнут нагишом на матах, нужно только решить, как лучше попервоначалу, на спинку или на животик… Что и говорить, девка хороша, как нездешняя… Бодун звякнул ключами и, прихрамывая от образовавшегося неудобства, побрел отмыкать ржавый висячий замок подвала, еще два года назад приспособленный им для сходняков и увеселений…
Двое догнали Лену у подъезда, Муха перекрыл двери, Гнутый стал сзади.
— Не спеши, па-а-адруга, — протянул Муха. — Говорливая ты больно, а за база-ар ответить надо.
Гнутый, оказавшись чуть ниже стоявшей на ступеньках девочки, одной рукой приподнял ей юбку, ладонью другой провел по бедрам:
— А ножки гладенькие…
Наседкина с Давалкиной шли не спеша, предвкушая длинное и забавное представление.
Удар локтем был молниеносен, послышалось противное чавканье, Гнутый опрокинулся навзничь, на спину… Маленький, ростом ниже Али, Корзун даже не понял, что произошло, увидел только, как напарник кувыркнулся спиной в пыль, и дальше не видел уже ничего: удар растопыренной пятерней пришелся по глазам, резанула резкая боль, он зажмурился, и тут жуткая боль в паху перехватила до самого горла — девчонка просто двинула коленкой вперед и вверх, снизу, со ступеньки, врезав перегородившему дорогу парню точно и резко. Тот кулем завалился на бок и засучил ногами.
Алька резко обернулась, в руке ее тускло блеснуло тонкое бритвенное лезвие.
— Ну что, клипсы пудреные, кто первая хочет стать буратиной?
Девки замерли. Алька сделала шаг со ступеньки. Девки обе разом бросились прочь, Давалкина заверещала тонко:
— Боду-у-ун! Она нас порежет!
Услышав испуганный визг, Бодун выскочил из подвальчика, разом оценил «картину битвы» и с неожиданной для такого увальня скоростью и проворством ринулся к девчонке.
Аля тоже разом поняла, что против этого мамонта она — как мотылек против танка.
Глаза у парня были жесткие, туповато-свинячьи… Девочка знала такой взгляд. Он будет ее бить тяжелыми тупорылыми полувоенными ботинками на шнуровке, пока не изломает. Совсем.
Девочка метнулась по лестнице вверх, перепрыгивая через три ступеньки, нажимая на все звонки. Они звучали в пустых квартирах гулко и обреченно. Все, ей теперь никто не поможет! Сзади уже слышался грохот подкованных металлическими набойками «гадов». Он отставал всего на этаж… На пролет… На полпролета…
Выскочила на площадку последнего, четвертого этажа, с маху влетела в тяжелую железную дверь, мертво уцепилась за ручку и нажала звонок.
— Вот так, сука! — Бодун настиг, одним движением намотал волосы на руку. Она зажмурилась, ожидая удара.
И — дверь открылась. На пороге появилась молодая женщина в длинном халате, очень красивая, спокойная, плавная.
— Что происходит, Бодухин? — спросила она, приподняв тонкие брови.
Парень молчал. Глаза его, мутные, блеклые, казалось, не видели ничего. Аля испугалась, что сейчас он ударит и эту женщину, ударит страшно, на излом. Но…
Глаза его чуть изменились, словно сработал переключатель, стали вдруг не то чтобы испуганными, но какими-то заискивающими.
— Да вот, с подружкой разбираюсь.
Волосы девочки он отпустил, но схватил за шиворот платьица так, что оно едва не треснуло, и выпускать не собирался.
— Странная у тебя любовь… — насмешливо произнесла женщина.
— А чего она… — гыгыкнул Миша. — Ладно, мы пойдем.
Ждать Аля не стала. Ребром сандалика быстро ударила парня по голени, хватка ослабла, она рванулась, платьице треснуло; кусок остался в руке увальня, а девчонка нырнула под руку женщины, в проем растворенной двери.
— Ах ты…
Парень озверел от боли, метнулся следом, но женщина перегородила собой проход:
— А тебе, Бодухин, туда нельзя. У меня ребенок маленький…
— Да она!..
— Нельзя. Карантин. Ты понял? — Женщина произнесла еще раз раздельно, по складам:
— Ка-ран-тин. Лицо Бодуна побелело, рот ощерился.
— Ну ладно, Сергеева… Когда-нибудь ответишь. Не все твоему крутому резвиться… Как-нибудь и мы порезвимся…
— Что? — жестко и коротко спросила женщина, снова чуть приподняв тонкие брови. — Что передать Евгению Владимировичу?
— Ничего. Это я так. — Парень развернулся и загрохотал ботинками вниз по лестнице. Дверь закрылась.
— Чего, Настька обломала? — встретил его внизу Гнутый.
Огромный сбитый кулак со стремительностью пущенного из катапульты булыжника раздробил Гнутому лицо; тот влетел спиной в стену, сполз на пол и затих.
— Пасть разевать он будет… — в сердцах произнес Бодун. Крикнул:
— Муха!
Корзун, старавшийся слиться со стенкой, дабы самому не попасть под горячую руку, объявился мигом и застыл в выжидающем и смиренном молчании.
— Смотайся за водярой, принеси пару пузырей. Пошел!
— Я мигом! — отозвался парниша и, чуть согнувшись, потрусил к магазину. Перечить Бодуну, когда его обломали, нельзя. Он и так-то бешеный, а сейчас… Хорошо полтинник в заначке есть, на пару пузырей хватит. И на закусь останется.
Бодухин вышел из подъезда. Обе девки сидели на лавочке тише воды, ниже травы.
— В подвал обе, живо! — велел парень.
Сейчас он оттянется с этими, а русоволосая… Ее он еще достанет. Ох как достанет! Обеих, эту кралю рыжую тоже! Карантин у нее! Он ей покажет карантин!
Дайте срок!
Бодун глубоко вдохнул чуть спертый, пахнущий мокрой кожей воздух подвала.
Щелкнул выключателем, зажглась тусклая лампочка, освещая шведскую стенку, два истертых мата, дощатый стол, промятый до пружин диван. Прикрыл за собой дверь.
Девки глядели на него приниженно и преданно.
— Ну что стали?! На колени обе! И — ползком ко мне! — велел Бодун, уселся в продавленное кресло, прикрыл глаза, ожидая, когда ловкие девичьи руки расстегнут брюки и освободят ставшую горячей и упругой плоть…
…А Глебова проскочила комнату стремглав, ничего не видя перед собой.
Остановилась лишь в самой дальней, в детской, словно вдруг налетела на невидимую стену, вдохнув запах молока и еще чего-то, что называется уютом и домом, что, она помнила, у нее тоже было когда-то… Ноги разом ослабли, девочка села на пушистый коврик, сжалась в комочек, закусив руку, чтобы рыданиями не потревожить спящего в кроватке малыша…
Настя Сергеева подошла и села рядом. Погладила девочку по голове, та разревелась пуще. Настя только вздохнула. Она была далека от философических обобщений о жестокости мира, просто дала девчонке выплакаться, гладила по худеньким плечам и приговаривала тихо: «Ничего, ничего, все пройдет…» А Аля повторяла и проторяла, поскуливая: «Все равно, все равно я никому не нужна… Никому в целом свете…»
Потом Настя поила ее чаем с малиновым вареньем…
Глава 4
Лена открыла глаза, посмотрела вокруг. Настя сидела в кресле и читала журнал.
Подняла голову, уловив движение:
— С добрым утром, дорогуша. Ты ушла в сон, а будить я тебя не стала.
— Никто не звонил?
— Не-а. Я телефон выключила.
— И в дверь тоже не звонили?
— И в дверь тоже.
Лена села на диванчике, мотнула головой. Внезапно лицо ее потемнело, словно она вспомнила что-то очень неприятное, плечи опустились, губы сложились в скорбную гримаску… Настя подумала: какая же Алька все-таки еще пацанка, но вслух произнесла:
— Не киснуть! А ну под душ!
— Под душ?
— Живо!
Настя быстро схватила подругу за руки, сдернула с кровати, подтолкнула в сторону ванной. Девушка включила воду, сжалась в комочек: горячую по эту пору всегда выключали. Потом привыкла, подставила лицо под струи…
— Будет! — скомандовала Сергеева, появляясь с жестким вафельным полотенцем. — А то ангину заработаешь! Вытираться, быстро! И приоденься, это тебе не подиум — нагишом шастать.
— А там никто так и не шастает.
— Тем лучше.
Когда Лена появилась в толстом махровом халате, в комнате стоял густой аромат только что сваренного кофе. Две чашки дымились на маленьком столике.
— Роскошно… — Лена глотнула, обожглась, стала пить медленнее.
Настя прихлебывала свой, внимательно наблюдая за девушкой. Терпеливо ждала, пока та прикончит чашку, сходила на кухню, долила из джезвы до краев. Лена взяла сигарету, закурила.
— Что случилось, Аленка? — спросила Настя. Взгляд девушки снова потух, выражение лица стало жалобным, но губ она не разомкнула, продолжая молчать.
— Глебова, ты же знаешь, я не отвяжусь, я настырная! С моей лучшей подругой происходит черт-те что, она пьет как последний извозчик, и ты думаешь, я стану такт проявлять? Алька, что случилось?
— Самое плохое.
— Да?
— Сашка меня предал.
Настя постаралась сделать лицо безразличным, посмотрела в окно:
— Что, к какой-то еще девчонке в койку залез? Или в свою затащил? Нашла из-за чего переживать! У мужиков это бывает куда чаще, чем мы можем даже себе представить. — Помолчала, добавила:
— Да и с нами такой грех нет-нет да и случается. Если бы лишь это… Тогда что?
Он меня выставил, — хрипло произнесла Лена. В смысле — решил расстаться и сделал это… таким «джентльменским» образом? Вот коз-зел!
— Да нет… Я пришла к нему… Я пришла к нему отсидеться, сказала, меня преследуют…
— Преследуют?!
— Да. А он… Побледнел сначала. Потом взялся меня ободрять… А потом — убеждать, что все мне привиделось… Сказал, что нужно обратиться к психиатру…
И смотрел так, словно я сумасшедшая. Дура! Зачем я рассказывала ему о психбольнице и вообще все?! Просто… Просто мне казалось, что ему можно рассказать все, понимаешь, Настька, мне казалось, что я могу рассказать все кому-то, кроме тебя… Мне хотелось, чтобы был мужчина, который… Ты же понимаешь!..
— Ага.
— Ну вот. А потом… Потом приехала та машина, я ее в окно разглядела… Он снова стал белый как полотно… Да и я не ожидала, что они найдут… Наверное, у кого-то из девчонок узнали… Подошли, звонили в дверь, но света мы не зажигали, сидели тихо, как мыши… А дверь у него металлическая…
— Погоди, Алька! Кто тебя преследует?! И когда это было?! Начни сначала!
— Сначала?.. — повторила девушка вопрос, кажется не вполне понимая его смысл. — Сначала… Вчера вечером…
— Ты же работала на показе, в «Юбилейном»… откуда все остальное-то взялось?!
— Дверь они ломать, конечно, не стали, да и не смогли бы… — Алена произносила фразы медленно, и Настя сообразила, что подруга ее вопроса даже не услышала, ей нужно было выговориться. — Вечер был уже поздний, любой из соседей, затей они скандал, милицию мог бы вызвать, а я так поняла, никаких скандалов с милицией им не нужно…
— Кому — им? — попыталась все же Настя уточнить.
— …поэтому они стали звонить. По телефону. Знаешь, это жутко, когда пять звонков, десять, двадцать, сорок… Телефон мы сразу не выключили, а потом Саша сказал, что делать этого нельзя: вдруг кто-то стоит за дверью и слушает звонки… И если они поймут, что мы дома, то… А так — у них не будет уверенности… А потом телефон звонить перестал. И гудеть перестал: видно, они провод выдернули, чтобы, если мы все же дома, никуда сами прозвониться не смогли, в милицию или там еще куда…
Лена потянулась за сигаретой, прищурившись, вынула из коробки спичку, по чирку попала только с третьего раза, сосредоточившись, откинулась обессиленно на подушку кресла. Выдохнула дым.
— А потом он меня выгнал. Выставил. С ним началось что-то вроде истерики… Он стал говорить, что мои разборки его не касаются, и нечего к нему на хвосте водить бандитов, и что я сама во что-то влезла, но свои проблемы каждый должен решать сам… Я пыталась ему объяснить, что сама не понимаю, что происходит, но он… Я даже не рассказывала ему, как все страшно было на самом деле, пожалела… Настька, я ему совершенно не нужна, понимаешь, совершенно… Так, кукла для постели… Но… Но ведь он был такой хороший, он такие слова говорил… Раньше… И еще… Насть, что, мужики все такие трусы? Ведь твой Женька совсем не трус, хотя с виду вовсе не герой…
— Лен, я тебе говорила, эти спортсмены — все самовлюбленные кретины. Но ты разве слушать что-то хотела? Чуть с тобой не поругались тогда насовсем! Я и замолкла тогда, чего усугублять, а подумала себе: жизнь сама покажет, who is who…
— Он меня выставил. Ночью. Так разнюнился, что… Все выглядывал из-за тюлевой занавески: машина стояла… Он даже допытываться не стал, в чем дело, да я сама и до сих пор не знаю, но он даже не попытался узнать… Испугался, что я скажу что-то, стал меня убеждать, что мне лучше уйти… Что и сам он тоже смоется к приятелю, живущему в том же доме… Ха… Думаю, он с перепугу вообще рванул куда-нибудь за тридевять земель! А меня выставил в пустой черный подъезд и закрыл за мной свою массивную дверь. У него там три замка и засов, все сварное, танком не проедешь… А я присела на корточки у мусоропровода и плакала…
Знаешь, было желание выйти и сдаться… Если бы они должны были меня просто убить, я бы так и сделала… Выстрел — и тебя нет. А зачем жить, если ты никому не нужна?.. Настька, ты понимаешь, он меня предал! Я… Я бы никогда его не предала, честно, а он…
— Не горюй, Глебова. Просто ты приняла этого Сашеньку за другого.
— За какого другого?
— Когда встретишь — поймешь.
— Встретишь… Насть, жить, когда никому не нужна, незачем… Вовсе… Ну скажи, ну почему так?! Была баба Вера, добрая была, хорошая, и умерла… Еще я бабу Маню любила, еще давно, до детдома… Она тоже умерла… Насть… Почему добрые умирают, а злые живут?! И бьют друг друга, и стреляют, а не переводятся…
Знаешь, я из детства своего помню какие-то картинки: дом деревенский, и квартиру помню, и маму с папой помню, вот только не лица, а руки… А лица не помню…
Словно огонь их заслоняет… Почему, Насть?.. Я же в дом ребенка когда попала, мне десять лет было… Сначала я и не говорила ничего, молчала. Невропатологи разные меня смотрели, это еще когда баба Маня была жива, она все заботилась да и по врачам меня таскала… А потом, как умерла она, меня никто никуда не водил…
Росла себе, как трава… «Сахарная тростиночка, кто тебя в бездну столкнет…»
Ты знаешь, эту песню я тоже помню из самого раннего детства, из которого не помню почти ничего… Песни какие-то помню, голоса, стихи… Считалочку вот помню: «Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…» Знать бы еще, за каким?..
Девушка уронила истлевшую до фильтра сигарету в пепельницу, замолчала.
Отхлебнула черной, уже остывшей жидкости:
— Бр-р-р… Гадость какая.
— Кофе надо пить или горячим, или холодным. А вино детям — вредно.
— Да ладно тебе… Понимаешь, такое чувство после всего, что улитка скользкая в горле застряла… А спиртное ее смывает… А вообще… От такой жизни… Мне кажется, мне не восемнадцать скоро, а восемьдесят…
— Так кто за тобой гонится? И почему? И как ты от них смылась?
— Смылась просто: дом, в котором Сашка живет, имеет такие балкончики на лестницах, там ведь лифт, по лестницам люди только ночами ходят, когда лифт отключен… И еще балкончики по торцам в коридорах… Спустилась я тихонько, как мышка, на третий этаж — на второй побоялась, вдруг они там стоят, окошко открыла, спрыгнула…
— С третьего этажа?
— А там крыша магазина… Потом на землю… Потом рванула, пробежала с квартал.
Машину боялась ловить сначала… Ну не пешком же идти… На каком-то «жигуленке» сюда доехала, вернее, не доехала, остановить попросила метрах в ста, на Житомирской, домой прошла дворами, закрылась… открыла бар и… Да и не придет им в голову меня дома искать: решат, что таких дур уже нет. Вот, одна осталась, перед тобой сидит.
— Алька, ты можешь сосредоточиться хоть на минуту?! Кто — они? И что им от тебя нужно?! Если бы я была медичкой, но тут же бы набрала 02 и отправила тебя, дурку: деллириум трерум.
— Чего?
— Белая горячка. На почве систематического отравления алкоголем молодого неокрепшего органона. Кстати, ты давно пьешь?
— Вчера весь день, ночью, когда просыпалась…
— Ну ты даешь! Ни один козел не стоит того, чтобы так убиваться.
— Да я не из-за… Просто плохо, когда тебя предают. Совсем плохо.
— Кто бы спорил. Знаешь, Алька… Я в журнале каком-то читала. Эксперимент такой проводили то ли с мышами, то ли с крысами… Клетку, где эти крысы сидели, делили на две части. Под полом одной части проводили электрический ток, там же оставляли еду. Крыса пошла кушать, а тут ток. Ну, не убойный, но неприятный достаточно. Сначала животные визжали, а потом привыкли. Тащили еду на «хорошую» половину и там отдыхали. А ученые взяли и поменяли условия. После первой, совершенно такой же безобидной дозы тока на «хорошей» половине крысы орали благим матом на своем крысячьем языке, словно их режут! Две сразу откинули лапы, остальные были в нешуточном возбуждении несколько дней: метались, жрать отказывались. Когда тех, дохлых, вскрыли, оказалось, что они скончались от инфаркта! Померли не от тока, а от стресса, ты поняла?! От возмущения, что та территория, которую они считали безопасной и защищенной, их «ударила»! Вот и у тебя получилось то же самое… Ну и конечно… Просто ты долго одна росла, ни любви, ни ласки особой, вот и запала на первого попавшегося, который тебе принцем сказочным показался… Ладно, стресс для тебя не смертельный, а впредь умнее будешь.
— Насть… Но ведь люди — не крысы…
— Не-а. Многие — куда хуже, — Хуже… Да и… Знаешь, как не хочется порой быть умнее?
— Знаю. Уж поверь мне, знаю. Я пока Женьку своего нашла, всякого нахлебалась.
Все по той же бабьей дури. А он пусть и не идеал, и наорать сгоряча может, и собак спустить — я не обижаюсь. На самом деле он добрый и очень сильный. По характеру. За ним — как за железным занавесом. В хорошем смысле этого слова. Вот у меня подружка есть, еще со школы. Галька Высоцкая, гуляет от мужа как заведенная. «Почему?» — спрашиваю. А она отвечает: «Скучно». А я вот тебе скажу: просто не любит она своего Андрея, да и мужа держит за мешок с деньгами и за ширму одновременно. Со школы такая была: чтобы все внешне было тип-топ, а за «ширмочкой» этой — твори что хочешь! А он ее любит. Такие дела. Сергеева закурила, выдохнула.
— Ладно, что-то я тебя завоспитывала, как старая свекровь «любимую» невестку!
Глебова, а ты чего по телефону не отвечала?! Я же тебе названивала незнамо сколько! Отозвалась бы, а то пропала девка, и все тут.
— Да я только сегодня догадалась на автоответчик переключить и на громкую связь.
— Слушай, а виски и мускат ты так в одиночку и приговорила?
— Ну.
— Сильна.
— Да я и сама не пойму… Пила, думала: должна от такой дозы давно срубиться, а… Потом даже не засыпала, а словно в яму проваливалась.
— Погоди, Глебова. Давай разберемся. Так кто же тебя все-таки преследует?
— Не зна-ю! — раздельно, по складам произнесла девушка. — Наверное, бандиты.
— А почему?
— Им нужна моя сумка.
— Сумка? Какая сумка?
— Ну, рюкзачок, помнишь?
— Помню. А зачем?
— Не знаю.
— Так отдала бы! У тебя что там, акций «Газпрома» на сто миллиардов?
— Я не знаю, что в этой сумке и где она вообще, ты понимаешь?! Не знаю!
— Прекрати орать.
— Да не ору я. Просто нервы.
— Понятно.
— Сумка пропала.
— Когда?
— Да в «Юбилейном», во время показа. Там же тусовка какая, ты подумай! Только из нашего агентства тридцать человек девчонок, а всего, наверное, под сотню. Если не больше. Два каких-то детских театра, жонглеры с клоунами, какие-то администраторы бешеные, менеджеры из разных агентств, охрана, продюсеры, да еще и хрен знает кто, кого только не было; Меня девчонки предупреждали: не отходи от кучи, кто-то должен за вещами смотреть, а там разве уследишь? Сумочки пропадают, туфли, платья, сотовые телефоны. На таких мероприятиях всегда столько воришек орудует, да и девчонки, наверное, есть, которые крадут. Вот кто-то сумочку и умыкнул, пока я на подиуме была занята.
— В этой сумке точно ничего не было такого?
— Да точно.
— Так. Рассказывай дальше. Как все было.
— А как? Просто. Пришла я с показа, посмотрела, у меня до следующего выхода, в другой коллекции, еще час, пойду, думаю, в буфет кофейку выпью. Стала сумку смотреть — нету! Побежала в буфет, Наташку Сегейкову там встретила, так и так, говорю, сумка пропала. А она пожала только плечами: девки вообще на взводе, у кого туфли умыкнули, у кого — просто деньги. Наша Оксанка к администрации: дескать, так, мол, и так, бригада воров работает, а те только: смотреть, барышни, за вещами надо! Как будто тут усмотришь! Короче, ко всей свистопляске добавились еще какие-то мужички, видно, из того агентства, что взялось этот performance охранять, да еще другие, то ли из милиции, то ли хрен знает откуда!
Впрочем, сначала я не особо переживала, думала еще, найдется сумка, просто взял кто-то из девчонок зачем-нибудь — помадой там попользоваться или… Да мало ли!
Ну, попила кофе, пошла еще один показ отработала, думаю, класс — отдыхать.
Никакой мой рюкзачок так и не нашелся, хотя больше у девчонок из нашей группы ничего и не пропало; конечно, сначала было жалко, все-таки двести баксов стоит, ну да ты меня знаешь — если обо всем жалеть, жалелки не хватит! Решила: нищей я от этой потери не стала, да и вообще добро — дело наживное. Будут деньги — еще куплю. Куда больше было жалко мишку. Помнишь, такой маленький, плюшевый, он еще заводился ключиком, на спине, сзади…
— Ну да. Он у тебя в шкафу всегда стоял. — Вот его больше всего и жалко. Я, дура, мишку с собой как талисман взяла: это же первый мой большой показ. И вот что вышло. Даже не знаю как жалко! Ведь это у меня единственное, что осталось от детства. Которого я не помню. Совсем.
— Не грусти, Алька. Может, когда-нибудь…
— Ага, не грусти… Я сама так раньше думала: ну должна же когда-нибудь я все вспомнить! Фигушки!
— Ничего. Как только исполнится восемнадцать, возьмем у моего Женьки денег и махнем к какому-нибудь светиле-профессору.
— В Москву?
— Да куда надо, туда и махнем! В Москву, в Рим, в Копенгаген! Должен же быть человек, который разберется, что у тебя произошло в детстве! И ты все вспомнишь!
Может, и родители тебя ждут не дождутся…
— Настя… не надо… пожалуйста… — Девушка закрыла лицо руками. — Я же уже не ребенок маленький, чтобы ты меня кормила сказками про родителей.
— Извини. Да я и не кормлю. Все же-а вдруг?
— Были бы… Короче, если они живы, давно нашли бы. А если не нашли, значит, не нужна я им. И Саше не нужна. Ни-ко-му.
— А ну, прекрати хныкать! Мне нужна, поняла! И Женьке моему! И Олежеку маленькому больше всех нужна, ты же от его кроватки не отходила, он тебя чуть не второй мамой считает, а уж сестрой — подавно! И бабе Вере была нужна, и бабе Мане! Ну же, Ленка, прекрати!
Девушка смахнула слезы:
— Извини, Насть… Это я так. Больше не буду.
— Будешь, еще так будешь! Но давай как-нибудь потом похнычем, на пару, ладно?
— Ладно.
— Так что такое там все-таки произошло?
— В «Юбилейном»?
— Ну да.
— Произошло. — Аля наморщила лоб, вздохнула, повторила тихо:
— Еще как произошло.
Глава 5
— Отошла я от девчонок, показ закончился, еще в буфете кофе чашку выпила, поболтала. А уже вечер, домой пора… Тут подходит парниша, вежливый такой, прикинутый по фирме, дорого, но видно сразу: слуга. Вообще-то красивый парниша, только… Красивый как зверь, как животное… И еще — от него словно опасность какая-то непонятная исходит, словно… Ну ты понимаешь…
— Ага. Навидалась.
— Вот и я навидалась. Но многие девки как раз от таких и тащатся больше всего.
Ладно. Короче, подходит и вежливо так сообщает: со мною поговорить хотят.
Знаешь, подиум место такое: кто только не крутится, одни — дела делают, другие — девчонок в подруги зовут; у «новых» классная подруга — такой же атрибут, как галстук или представительская машина, никак иначе нельзя, престиж. Ну я и подумала: какой-нибудь пан ясновельможный решил в «куклы» пригласить. Почти у всех девчонок кто-то такой имеется. И тут тоже искусство: не хочешь — не соглашайся, но откажи так, чтобы человек не обиделся. Проще всего сказать:
«Занято». Тогда и вопросов не возникает. Не всегда, конечно, но как правило.
Если не жлоб полный или не лох из породы «задниц»: эти ни фига не понимают, ну да их не так много. Хотя и не так мало.
— Задниц?
— Ну да. Есть такая порода. Это чьи-нибудь дети или родственники. Зятья, к примеру. Их на какое место посадили, на том они и сидят. И не рыпаются. Те, которым местечко скверное досталось, — то есть когда-то, когда папашка сажал, очень клевое было местечко, ученым секретарем или просто умником-кандидатом в институте каком-нибудь научно-завернутом. И делать ни фига не нужно, и съезды-выезды, и булка с хорошим куском масла, а то и с икрой сверху. Но времена изменились, и остались эти задницы не при делах и злы на всех, особливо на родителей, которые их не на то место усадили. И делать ничего органически не способны, а жаба ест: их ровесники кем-то стали, а он все сидит ученит да на папашкином «жигуленке» семьдесят второго года выпуска на дачку с грехом пополам ездит…
— Чего у него там пополам?
— Не вяжись к словам.
— Ленка, тебе сколько лет? — удивленно приподняла брови Настя.
— Восемнадцать скоро, а то не знаешь.
— Вот я и думаю…
— Да нет, не сама я такая разумница, я же в агентстве третий год кручусь, а девки разные, чего только не наслушаешься. Та с этим живет, та-с тем…
Интересно же.
— Погоди, но научные работники — это оч-чень давно.
— Ну. Лет десять назад. А то и двенадцать. Но у нас и ветераны есть: одной двадцать восемь, а она дефилирует — упасть не встать!
— Алька!
— Чего?
— ЕСЛИ бы не выкармливала тебя с соски, как щас врезала бы!
— За что? — искренне удивилась Лена.
— Ве-те-ра-ны… — сымитировала Настя.
— А… — Девушка покраснела, прыснула в ладони, подняла лицо. — Ну я же в другом смысле.
— Двадцать восемь — это, по-твоему, старушка?
— Нет, просто… Насть, ты чудо как хороша, я всегда хотела быть на тебя похожей.
— Ладно, не подлизывайся. Еще попомнишь. Если бы одни люди старели, а другие нет, это было бы очень обидно. А так…
— Насть, я правда не хотела…
— Ладно. Давай дальше.
— АО чем я говорила?
— Ну да. Память-то девичья. О «задницах».
— Нет, ты меня не сбивай…
— Подошел к тебе кто-то.
— Ага. Подошел. Вежливый, приятный, корректный. Правда, морда тупая, как у носорога. И глазки такие же, свинячьи.
— И много ты носорогов видела?
— Да ладно тебе. Это я чтоб понятнее было. Ну вот. Этот говорит: дескать, некий внимательный господин пообщаться желают. Думаю себе: пойду пообщаюсь, от меня не убудет. Лощеный самец провожает меня к люксу, — знаешь, эти костюмерные в «Юбилейном» еще с тех времен остались, там всякие народные артисты гримировались, а когда торжественные заседания проводились, разные крутые перцы водочку, надо полагать, кушали… а когда концерты — там . и Алла Пугачева, и мужчинка ее, «махонький Филиппок», короче, звезды одни прихорашиваются или отдыхают, — тут у меня, дуры, и сердечко забилось: думаю, вдруг сам Пьер Карден заметил, какая я умница, красавица, рукодельница…
— И писаешь чистым апельсиновым соком.
— Ананасовым. И решил включить в какую-то свой постоянную группу.
— Карден? А его каким ветром к нам занесло?
— Не шаришь ты в вопросах высокой моды, Сергеева.
— Да уж чем богаты…
— Там же в рамках фестиваля «Альт-мода» еще и конкурс молодых дизайнеров проводился; Кардена пригласили председателем жюри. У них там давно в тираж вышел, вот его к нам и таскают.
— Ущучила. «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил…» — хмыкнула Настя.
— А чего ты от меня хочешь?! Что, скажешь, не так?! Да спроси любую девчонку из тех, что на кастингах тусуются. Каждая верит, что когда-то придет час, и ей скажет кто-нибудь — Карден, Валентине или хоть Стивен Спилберг: милая девушка, только вас у нас и не хватало!
— Угу, или: «Сударыня, не вы ли хрустальный башмачок обронили? Давайте-ка примерим!..»
— Или так. Почему нет? Сказка, а в сказки хочешь верить! Ведь не зря же их столько! Без них, наверное, не выжить. Совсем. Знаешь, в детдоме про своих родителей целые истории сочиняют! И ждут, ждут… Даже если точно помнят и мать-пьяницу, и отца, умершего с перепоя, а все равно сочиняют и верят в это и с теми, кто не хочет играть в эту игру, дерутся насмерть! Потому что без сказки не выжить ни там, ни здесь!
— Не заводись, убедила.
— Еще бы! Короче, подводит меня этот служка к двери, приоткрывает галантно и в спину — толк! Вот, думаю, дебил! И испугалась сразу: вдруг, думаю, какой-нибудь маньяк? Тем более никто особенно из знакомых и не видел, как он меня увел, да и увидели бы — кому какое дело! И времени уже одиннадцатый час… Не по себе мне стало, чего объяснять!
А этот — дверь за мной закрыл, стал рядом с нею, как грум, ручки сложил и в какую-то ведомую ему точку на стене уставился: прямо монумент, только одеколоном зачем-то опрысканный. Огляделась: кресло, маленький столик, в кресле — мужик, грузный слегка, но здоровый, а лица его особо и не разглядишь: свет был сзади, это он мое хорошо видел. Да и свет боковой, были включены только бра, верхний не горел.
В комнате люкса, кроме меня, этого мужчины и парня у меня за спиной, «монумента», никого не было. Но была дверь, ведущая в другую комнату или в ванную, я не знаю: в первый раз я была в таких апартаментах и, если честно, больше не хочу. Ну а дальше — вообще жуть какая-то началась…
«Как вас зовут, милая девушка?» — произнес этот, за столом. Голос у него был странный для такого крупного мужчины: вкрадчивый, ласковый, как у певца из тех, что романсы поют. Но и неприятный чем-то, чем, я сказать не могу, неприятный, и все. Сиплый, вот. «Что вам нужно?» — спросила я, уже поняв, что ни в какой Париж меня приглашать не собираются. Хотя спокойно так спросила. «Это вместо „здравствуйте“? Деловой подход». — «Нормальный», — отвечаю я, а самой все же страшно. Пацанка сопливая, дура безмозглая — поперлась на ночь глядя с Карденом почирикать! Запихнут, думаю, сейчас в мешок, потом в машину и — привет родителям. Тем более, что и родителей-то никаких нет.
— Воображение разыгралось.
— Ну разыгралось, а что? Знаешь, когда за спиной какой-то жлоб маячит, а перед тобой сидит мен с голосом кастрата или сифилитика и фигурой ожиревшего молотобойца… Заволнуешься тут.
«У нас проблема, — заговорил он снова. — Мы потеряли одну вещь. Она в вашем рюкзачке. Эта вещь нам нужна». — "У меня тоже проблема, — ответила я ему в тон.
— Рюкзачок мой потерялся. Вместе с вашей вещью. — Помолчала и добавила:
— Которая вам нужна".
Мужчина ничего сначала не ответил, опешил, что ли, от такой наглости? Только склонил голову по-птичьи набок и произнес высоким голосом, будто сорока: «Вот как?» — «Ага».
Настька, наверное, я дура! Не нужно было так отвечать! Даже не знаю, что меня завело: нет чтобы сказать просто: украли сумку какие-то козлы! Повыпендривалась!
Хотя понятно: уж очень противно, когда… Короче, когда настраиваешься на что-то хорошее…
— На Кардена, например…
— Например. А вместо этого тебя просто строят, как буратину какую: ты нам, кукла, не нужна, нам нужна твоя сумка, мы там вещички свои сложили. Выдай-ка нам их и вали отсюда, и радуйся, что отпустили, а не в печке спалили, как полено…
Вот и сорвалась. Короче, он мне не поверил.
— Не поверил?
— Угу. Не знаю, что там за ценность они уложили и зачем в мою сумку, а только…
Голос у него стал на полтона ниже, вообще превратился в шипение какое-то:
«Потерялся, значит? Вместе с нашей вещью?»
А я снова, как дура, нет чтобы честно покивать: украли, ребята, и знать не знаю, что за вещь ваша там, говорю: «Ага. И с моей». — «Что же у вас там было ценного?» — «Медвежонок». — «Медвежонок?» — «Ага. Плюшевый такой. Он еще головой качает, если ему чего не нравится». — "Плюшевый медвежонок качает головой… — задумчиво так произнес он снова своим шипящим голоском, потом снова:
— Плюшевый медвежонок качает головой…"
Думаю, дурдом какой-то, говорю, стараясь, чтобы вышло развязно; знаешь, я в раннем отрочестве в разные истории попадала и поняла одно: порой чем наглее, тем лучше.
«Ну я пойду, мальчики. Найдется сумочка, подошлю, это без балды», — разворачиваюсь и… утыкаюсь в грудь этому мастодонту. Тот меня схватил, развернул, свел сзади локти так, что больно стало, а этот, в кресле, все повторяет, да еще голос мой пытаясь имитировать, отчего его собственный становится еще противнее: «Медвежонок… Плюшевый такой… Он еще головой качает…»
Вот тут мне стало по-настоящему страшно: ну, думаю, маньяки сумасшедшие! Может, нарочно сумку стибрили, нашли какой-нибудь платок носовой да дрочили на пару, а тут — хозяйку платочка захотелось. Нет, ты не думай, я же в дурке два месяца прокантовалась, помнишь, я тебе рассказывала… Отличить психа от имитатора на раз сумею. Так вот, этот, сипатый, точно псих! Натуральный! Ну а дальше вообще жуть была. Сидел он, сидел, потом позвал, будто собаку: «Дина!»
Вышла Дина из той самой маленькой дверцы, но не собака, а девчонка. Лет, наверное, как мне, по виду — модель, вся в черном… И волосы черные. А взгляд… Слушай, она наркоты, по глазам видать, такую запредельную дозу приняла, что ничего не соображала, абсолютно… И мурлыкала, мяукала, шеей крутила, как настоящая кошка…
«Киска ты моя черненькая… Сядь на своего котика…» — просипел этот.
Девка, мурлыча, подняла юбку-эластик до пояса, трусиков на ней не оказалось, села перед креслом на пол, расстегнула мужчине брюки, долго там мусолила…
Потом уселась ему на «палку» и давай раскачиваться и орать, как кошки на вязке орут… Потом слезла, снова села у кресла, лизать начала…
А я думаю: точно влетела. И этот, сзади, крепко держал, у меня синяки на запястьях, можешь посмотреть, и главное, невозмутимый как удав. Молчу — а что делать-то? Орать? Эта «киска» уж так орала, что мертвый бы расслышал! Но ведь это артистическая гримерная для самых-самых, здесь стены звукопоглощающим материалом уделаны, двери двойные, да еще и с прокладкой поролоновой — склеп.
Тоскливо так стало, что и сказать нельзя!.. И чего, думаю, я такая «везучая»?..
А этот, в кресле, вдруг говорит своей ширнутой подружке: «Ты теперь не киска, ты теперь мишка плюшевый… Мягкий такой мишка… Плюшевый… повтори…» — «Я мишка мягкий, плюшевый…» — покорно произнесла та. «Он еще головой качает туда-сюда, туда-сюда…» Мужчина взял ее крепко за волосы и давай ртом нанизывать… Затих, застонал, видно кончил, спросил меня тихо, еле слышно:
«Так твой мишка головой качал? И ты так хочешь?»
А я губы кусаю, чтобы не зареветь в голос!
И вдруг…
Одним движением он повернул ей голову как-то набок, послышался неприятный треск, девчонка засучила ногами по ковру и замерла… Он убил ее, ты понимаешь?! Убил!
Одним движением! Словно эта девочка и не человек была, а так, зверушка никому не нужная… Голова ее безжизненно упала на грудь, словно у куклы, а он взял за волосы, помотал из стороны в сторону: «Или так?!»
Я заорала, заметалась, парень этот, сзади, заткнул мне рот. Ноги подкосились, но он удержал, я не упала.
Сиплый наклонился вперед, его лицо попало в полоску света.
Ну и урод же он! Вернее, даже не знаю, как объяснить…
Глаза шальные, но не безумные, и взгляд такой, словно он в тебя раскаленный прут втыкает! И еще… Вроде все в лице нормально — если можно считать нормальным такого параноика, — но оно… Оно как бы сделано из двух разных лиц, из двух кусков! Когда-то, видно, это был уродливый шрам, но хирурги-пластики потрудились на совесть; может, ему вообще лицо изменили, но остался, шрам не шрам, какая-то красная полоса… Словно трещина на зеркале! И мне стало совсем жутко.
А Сиплый сказал: «Мишка плюшевый… Нам не нужны ни ты, ни мишка… Рюкзачок здесь?»
Не знаю почему, но я кивнула или моргнула, во всяком случае, он понял так, что я ответила утвердительно.
"Вот и умничка. Это тебе урок: не пожелай чужого добра. И не играйся со взрослыми дядями в вымогательство. А то шустрая сейчас молодежь вызрела, а, Шалам? — обратился он к мордовороту, что стоял сзади. Не дожидаясь его ответа, спросил у меня:
— Так где рюкзак?"
Я уже боялась им сказать, что не знаю. Почему-то казалось, что, пока они считают, что сумку я где-то припрятала, меня не тронут. Там было что-то ценное для них, очень ценное…
«Я… Я не могу объяснить… Я в этом дворце всего во второй раз… Я показать могу…» — «Ну что ж… Значит, так: проводишь Шалама к рюкзачку, и вместе вернетесь. Ты там ничего не трогала?»
Наверное, я мотнула головой, но не помню даже, ничего точно я не помню, кроме его лица…
«И не вздумай привлекать к себе внимание: документы у него, — он кивнул на моего сопровождающего, — в полном порядке, если что, просто скрутим и увезем, как наркоманку… И смерть этой плюшевой киски тебе покажется скорой и легкой, как поцелуй, ты поняла?»
«Я поняла».
"Ну вот и умничка. А за эту кошечку не переживай особо: конченая была. столько марафета на себя изводила, что… Конченая. Хотя и заводная. А ты заводная, а? И не волнуйся, маленькая шлюшка: свою дозу ты получишь, ха-а-аро-шую дозу, я умею быть благодарным… Если ты будешь послушной… — Он снова засмеялся, на этот раз меленько, кашляюще, словно какой-то механический человечек. Приказал этому парню, Шаламу:
— Пойди осмотрись".
Он отпустил меня, отомкнул замок, вышел. Вернулся, распахнул приглашающе дверь, протянул руку, чтобы взять меня за запястье… Я стояла вроде ветоши, дышала впол-вздоха, а тут — сорвалась! Знаешь, как-то разом накатило: терять мне было нечего, и еще я поняла, что, как только он меня схватит, из этой железной лапы мне уже никогда не вырваться! И от них — тоже!
Но все это я даже не думала, просто врезала ему мыском в пах, резко разогнув ногу в колене, — в детдоме это у меня был коронный удар, если с пацанами дралась! Я попала. Не ожидая, пока он согнется и рухнет, пнула его в голень, и этот Шалам упал на бок, как столб, а глаза — абсолютно белые от боли. Сиплый, видно, опешил от такой борзой прыти, вряд ли даже из кресла успел встать, да я на это не смотрела — летела по коридору со всех ног. Через выходы, ни через главный, ни через служебный, я не побежала: Сиплый мог вполне расставить там своих людей и связаться с ними по «говорильнику». Это я рассказываю долго, я соображалка у меня на полном автомате работала, со скоростью пули!
Выбралась я через второй этаж, там, где кабинеты администрации, выбила ногой замок в одном, они там хлипкие, запирать-то нечего; вбежала, затаилась на секунду, посмотрела из окошка через жалюзи: никого. Всего ведь секунд сорок прошло, как я подорвала, может, «вратарей» этот Сиплый и оповестил, а вот оцепить здание не успел, или у него людей столько не было, но какие-то люди, наверное, все же были! Так что медлить — ну никак!
Пошарила взглядом по полкам, схватила какое-то полотенце парадное, рушник, из-под портрета Тараса Шевченко, обмотала кулак, одним ударом выставила стекло: оно там «цельноскроенное» было, под кондиционер, ни одной «открывашки», без звона было не обойтись. Кое-как выдрала осколки и выпрыгнула во двор «Юбилейного».
На звон кто-то уже бежал. Я юркнула под машину, под ближнюю. Несколько пар ног протопали мимо. Вся территория двора была огорожена забором железным типа фигурного такого частокола, но в плюще, не видать: лезет кто, не лезет… Они, видно, побежали к дальнему концу, а я выскочила и стремглав — к воротам. Выбегаю — у двери два охранника о чем-то базарят, меня не видят, вернее, внимания не обращают. А я… Два раза выдохнула, промчалась по затененной территории, затаилась и дальше пошла как на подиуме: плавно, спокойно, хоть и чуть пружинисто. Ни дать ни взять подгулявшая девка домой идет не спеша… Если они и срисовали меня, то среагировали не сразу; а я, как только дошла до угла первого же дома, рванула так, что ветер в ушах засвистел! В прямом смысле! Хорошо еще, сообразила сразу после показа туфли снять и кроссовки надеть… Хм…
Кроссовки-то у меня обыкновенные, румынские, на них никто не позарился… А рюкзачок — сплыл… И с чем-то таким сплыл, за что шею сворачивают даже не по делу, а показательно!
Знаешь, сдуреть можно, сколько я пробежала! Это дворами-то и переходами!
Потом… Словно ступор какой наступил: почувствовала, что задыхаюсь, упала на землю, и меня вывернуло… Таких судорог у меня в жизни никогда не быдо! Лежала где-то на траве и корчилась, как червяк! Наверное, еще и рыдала, не помню…
Одно знаю точно: не орала. Горло словно обручем схватило, и никак этот обруч не сглотнуть… Наверное, сколько-то лежала в полном оцепенении… Потом… Потом оклемалась, выбралась на дорогу… Уже ночь была… Или вечер совсем поздний…
Шла по улице, какие-то машины притормаживали, приглашали, а я такая, видно, отмороженная была, что они снова по газам — и уезжали: кому дура ненормальная нужна? Ты знаешь, я брела и все повторяла какую-то дурацкую детскую считалочку:
"Ехала машина темным лесом за каким-то интересом… Инте-инте-интерес, выходи на букву "С". Странно… У меня такое чувство, что это со мной уже было… В других обстоятельствах, в другое время, когда-то, но было… Или… Или я действительно ненормальная и схожу потихоньку с ума?..
Так я и добрела до Сашки, пешком. Побыла у него. А потом… Потом машина приехала. Наверное, ихняя. Часа в три ночи. Потом… Потом он меня выгнал.
Настька, а ведь я ему даже не говорила, что на самом деле произошло, сказала только, пьяные какие-то на машине привязались, а я им стекло выбила. В джипе. И все равно он меня выдал. Предал. Хуже всего, когда тебя предают…
Алена замолчала, перевела дыхание, закурила, спалив в одну затяжку полсигареты.
— Потом, когда домой пришла, напилась, как баобаб в тропический ливень. Залезла в ванну и там заснула. Как на кровать перебралась, не помню — автопилот. Потом снова прикладывалась, ночью.
Девушка опять замолчала.
— Может, тебе выпить налить? — тихо спросила Настя.
— Нет. Хватит; То просто я сдурела малость. От переживаний. Напьюсь — тут меня тепленькую и возьмут. Хватит. Я хочу жить, я это точно знаю. Это сначала плохо совсем было, из-за Сашки. Насть…
— Да?
— Ведь будет же у меня в жизни еще что-то хорошее? Ради чего стоит жить, правда?
— Обязательно. Иначе и быть не может.
— Вот и я верю.
Девушка помолчала, задумчиво поводила по полировке стола пальцем.
— А знаешь, что я себе думаю, Насть? Все было там жутко и страшно, но… Больше всего меня напугало… его лицо. Этого Сиплого. Словно… Словно я видела его уже, в каком-то давнем ночном кошмаре… Или в жизни?.. В той жизни? И еще — мне кажется, я знаю его имя: Карачун.
— Кто-кто?
— Что-то непонятное у меня в башке вертится… «Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…» Карачун — это злой колдун, который хотел погубить девочку и плюшевого мишку Потапа… Насть, если бы знать, что же все-таки случилось в той жизни! Я ведь в интернат попала, как глухонемая была: ничего не говорила, ничего не слышала… Потом только на имя стала отзываться. Живут же люди: и имя есть, и фамилия, и дом… И вместо того, чтобы быть счастливыми… Ладно, это все лирика.
Длинный звонок разорвал установившуюся на миг тишину.
— Я же выключила телефон, — вскинулась Настя.
— Это не телефон, — разом посеревшими губами произнесла Аля. — Это дверной.
Спокойно встала, вынула пистолет из-под подушки, быстро оглядела, щелкнула предохранителем, взвела курок, произнесла тихо и абсолютно спокойно:
— Можно открывать.
— Можно открывать, — повторила Аля тем же лишенным всякого выражения голосом. И добавила:
— Но нужно ли?
— Алька, может быть… — Настя смотрела на подругу как-то по-новому: та подобралась и изменилась разом, словно превратившись из девочки, жалующейся старшей сестренке на детские обиды, во взрослую девушку, которую несчетно раз обижали на ее коротком веку и которая умеет давать сдачи.
— Не может. — Девушка свела губы резко и жестко. — Все просто: я застрелю любого, кто посмеет… Настя, это не люди. У них другие правила. Но пусть не думают, что я не смогу по ним сыграть. — Она подошла к двери, спросила резко:
— Кто?, — Аля была уверена: стрелять через дверь не будут. И еще металась мысль: почему они звонят? Конечно, эту дверь одним ударом не собьешь, дом сталинский, дверь и замки — тех же времен, а лишнего шума им не нужно, и все же…
— Елена Игоревна Глебова здесь живет? — спросили за дверью.
— Что надо?
— Пожалуйста, включите телефон. С вами хотят поговорить.
— И все?
— Все, — ответили из-за двери. Потом она услышала шаги человека, спускающегося по лестнице.
— И все, — повторила Аля обессиленно. Вернулась в комнату. Вставила штекер в розетку.
Звонок раздался незамедлительно. Она сняла трубку и услышала голос, от которого все ее тело от омерзения покрылось мурашками:
— Вы меня не забыли, девушка? Глебова Елена Игоревна?
— Нет, — ответила она коротко и услышала свой голос словно со стороны — грубый и резкий.
— Вот и славно… — сипло забулькало в трубке. — Оставим в стороне романтические перипетии нашего вынужденного знакомства, перейдем сразу к делу.
— Я слушаю вас, — быстро ответила Аля.
— Вы забрали чужое. Вы что, собираетесь бегать всю жизнь? Всю жизнь не пробегаешь, особенно такую молодую, как ваша…
— Я слушаю вас, — еще жестче повторила девушка и сама удивилась собственному самообладанию: что-то подсказывало ей, что вести себя следует именно так.
На том конце провода возникла пауза. Она продолжалась десять секунд, пятнадцать, но нарушать ее Аля не собиралась. Ей почему-то казалось, что скажи она, что у нее нет того, что они ищут, и она не доживет даже до сегодняшнего вечера. Вряд ли у этого Сиплого было желание расшифровывать свою персону в связи с тем, что находилось в ее рюкзачке, а он уже сделал это… Сейчас главное было выиграть время. И дозвониться Жене, Настиному мужу. Когда у тебя за спиной сила, подкрепленная стволами и деньгами, чувствуешь себя куда увереннее.
— Ну что ж… — проговорил Сиплый. — Значит, будем играть на деньги.
— Будем, — подтвердила Аля.
— Вы нам наврали вчера — мои люди обыскали весь дворец, но вашего рюкзачка там не было.
— Да? — удивленно отреагировала девушка, и это удивление было вполне искренним.
И еще — у нее возникла полная уверенность, что разговор она строит правильно.
— Но вы должны отдавать себе отчет в том, что дом блокирован, телефон прослушивается, этаж блокирован также и покинуть свою квартиру вы не сможете. И это означает, что мы сможем встретиться с вами, даже если вы этого не захотите.
— Да? И что?
— В смысле?..
— Чего вы этим добьетесь? Того, что вы ищете, у меня здесь нет, и где это, я вам не скажу…
На мгновение Але самой стало смешно: «Доктор, у меня это…» Но только на мгновение… Что же это за вещь все-таки, если из-за нее убивают? Какой-то страшный государственный секрет? Но как тогда он попал в ее сумку? Ветром занесло? Вот ведь везет как утопленнику!
— Есть разные способы воздействия… — просипело на том конце провода. — И после некоторых из них никто не назовет вас не только очаровательной, но и девочкой даже. Вы превратитесь в старую покалеченную каргу… — Голос был монотонен и равнодушен, и у Али не было никаких сомнений, что это не пустые угрозы.
Девушка покраснела разом; страх, ужас помимо ее воли парализовал, спазм сковал горло; она прикрыла трубку ладонью, глазами указала Насте на стакан. Та поняла все мгновенно, моментально смоталась на кухню. Так же, прикрывая трубку ладонью, Аля сделала глоток, судорога отпустила.
— Чушь, — произнесла она веско и неожиданно даже для самой себя. — Чушь. Тогда вы не получите то, что вам нужно, никогда.
— Да?
— Именно. Я не знаю, где сейчас мой рюкзачок.
— Не знаете?
— Совсем.
— А что же случилось?
— Да ничего особенного…
Аля лихорадочно пыталась сообразить, что же ответить. Может быть, сказать правду? Сумку украл неизвестно кто… И тогда… Тогда весь этот кошмар прекратится разом…
Нет. Не прекратится. И если бы она тогда, в комнате, сказала это, ей просто бы свернули голову, как мороженому цыпленку… Думай, думай! Ведь он почему-то совершенно уверен был сразу, что она знает, что в сумке, и просто не хочет отдавать. Что-то ценное, но не деньги. И не документы. Что?! Драгоценности?
Или…
— Вы же сами понимаете, — произнесла она тихо, чуть дыша, осторожно, — я не сумею реализовать…
— Я рад, что вы это оценили…
— …и не хочу, чтобы мне свернули шею…
— И это правильно…
— Но… — Аля сделала паузу, передохнула. Конечно, что еще могли запихнуть в ее сумку, кроме… Она вспомнила девочку Дину, ее шальные глаза, ее мяуканье…
Вспомнила сиплый голос: «За эту кошечку не переживай особо: конченая была, столько марафета на себя изводила, что… А ты заводная, а? И не волнуйся, маленькая шлюшка: свою дозу ты получишь, ха-а-арошую дозу…» Этот Сиплый, конечно, псих, и по нем плачет и спецбольница, и плаха, но… Он сразу решил, что она наркоманка и именно поэтому не отдала то, что в сумке… Нар-ко-ти-ки.
Какая сволочь?! Какая сволочь подставила ее в такую гнусную бодягу?! Какая сволочь?! Ладно, потом. Надо выпутываться.
— Я вас внимательно слушаю… — почти вкрадчиво напомнил голос.
Аля облизала пересохшие разом губы. Сколько же «дури» могли запихнуть в ее рюкзачок? По самым скромным прикидкам — на пол-лимона баксов… Кто, зачем — это вопросы второстепенные. Нужно придумать, как выпутаться быстро… Ведь если этот Сиплый нагрелся на такую сумму, то он не только сам нагрелся, но и подставил кого-то… Наркотики — бизнес коллективный. А если так, то положение Сиплого немногим лучше ее собственного… Думай, девчонка, думай!
— Я отдала рюкзачок…
— Да? И кому же?
— Одному человеку. Он не станет интересоваться, что там.
— Зато мы сразу поинтересуемся: кто он, где живет, чем занимается…
— Это немолодой человек. И дорожит мной.
— Хм…
— Где он живет, я не знаю.
— Девочка, не вешай лапшу на уши взрослым!
— Я не вешаю. Я объясню. Сами понимаете, мне не нужен целый мешок «дури»…
— Пожалуйста, без комментариев. Давай назовем это… спички.
— Спички так спички. Мне не нужен мешок спичек. Совсем не нужен. Но мне нужны деньги на жизнь.
— Жить стоит хорошо.
— Стоит. Я подстраховалась. Короче, если этот человек не позвонит мне через определенное время, товар…
— Э-э-э…
— Ваши спички сгорят. Синим пламенем. Безвозвратно.
— Барышня, вы отдаете себе отчет…
— Отдаю, — оборвала его Аля. Снова наступила пауза.
— Хорошо. Сколько вы хотите?
— Сущую безделицу. Двадцать тысяч.
— Это хорошие деньги.
— Еще бы.
Трубка помолчала, потом сиплый голос произнес:
— Согласен. Это ваш фарт, за него нужно платить. Давайте обговорим условия. И не по телефону.
— Подождите. Вот что. Я хочу, чтобы вы поняли одно, дядечка…
— Да?
— Я действительно не знаю, где… спички. Вы можете полить меня кислотой и обколоть наркотиками, но сказать этого я вам не смогу. Потому что не знаю. Вы поняли? Это и есть моя страховка.
Трубка помолчала. Потом оттуда послышалось:
— Разумно.
— Я старалась.
— А вам не страшно, барышня?
— Страшно. Но хорошие деньги без риска не бывают. Без серьезного риска. Не так?
— М-да… Какая молодежь выросла… Я хочу спросить…
— Да?
— Девочка… Ты балуешься… со спичками?
— Разве по разговору не ясно, что нет?
— Значит, я ошибся. Старею.
«Да ты полный псих и кретин, по тебе дурдом давно слезами умылся, тебя, козла, вязать нужно к койке накрепко, а еще лучше — шею свернуть, чтобы уж насовсем…» — промелькнуло у Али, но вслух она произнесла:
— Старость — не радость, — и с удивлением подумала, что вышло у нее достаточно насмешливо.
— До старости еще дожить нужно, — жестко просипело в трубке. — Дожить. — Голос стал деловым и жестким. — Итак, как теперь выражаются, забиваем стрелку?
Не гнать! Думай, девочка, думай! Нужно выиграть время! Ну да, ду-май…
— Мне нужно подумать.
— Как долго?
— Пятнадцать — двадцать минут.
— Хорошо. Я перезвоню через пятнадцать.
— Через двадцать.
— Через двадцать. Да, барышня… Мне жаль, что я вас принял за… Действительно, жаль.
— Жалость — сестра любви, — неожиданно вырвалось у Али.
Трубка забулькала сиплым смехом, потом послышались гудки отбоя.
— Уф. — Аля перевела дыхание. — Налей еще воды. А лучше… лучше… Лучше пойдем в ванную…
— Зачем?
— Затем.
Девушка запустила душ, подхватила несколько капель на ладонь, плеснула себе в лицо.
— Ну как, Настя?
— Сильна!
— Что, правда?
— Я вообще удивлена сверх всякой меры… Знаешь, это гены.
— Гены?
— Ну да. Характер.
— Жизнь у меня была спартанская, вот и характер.
— Нет, Алька. Понимаешь… Ты на агрессию отвечаешь еще большей агрессией…
— Да ты что? На самом деле я чуть со страху не уписалась. Это звонил тот дегенерат, что девчонке шею свернул за просто так!
— Ладно. Вот выберемся из этой бодяги, и твоим прошлым я займусь сама, — резюмировала Настя.
— Вот именно. Если выберемся.
— В душ забрались — опасаешься прослушки?
— Ну да.
— А откуда ты…
— Да брось! Каждое второе кино про шпионов, а каждое первое — про бандитов. Тут и дура просечет.
— Так они же в квартире не были…
— Ну и что? Я как-то видела — направляют такой лучик на стекло…
— Алька… Мой Женька разбирается в аппаратуре — работа такая; то, о чем ты говоришь, — лазерный луч, считывающий колебания оконных стекол. Это очень дорогая аппаратура. Очень.
— А у этих бандитов денег, я думаю, немерено. Я догадалась, что было в рюкзачке.
— Вы что-то говорили о спичках…
— Ну. Это он так наркотики решил обозвать.
— Погоди-погоди… То есть он сразу предложил назвать одно другим?
— Ну. Мало ли кто подключится к линии…
— Слушай… А ведь это называется — залегендировать.
— Как?
— Кагэбист этот твой псих со шрамом. Они все, работавшие на контору, малость того: легендируют все, что нужно и не нужно. От греха. Школа.
— А ты-то это откуда знаешь?
— Да у Женьки моего на фирме отдел собственной безопасности из них и состоит. — Настя поморщила лоб. — А в ванную пошли правильно. Лазер они вряд ли уже приспособили, но все может быть. А скорее всего… Карташев, он у Жени работает, говорил как-то, что любой телефон, даже если в него никакие прибамбасы не установлены, может работать как подслушивающее устройство: там ведь мембрана есть, нужно только подключиться через узел… А я — дура. Надо было сотовый из дому захватить. Только… Кто ж знал, что такая бодяга завернется…
— Ладно, Насть. У нас есть пятнадцать минут, нужно решить, что делать.
— Женьке звонить.
— Если у них такие деньги — а в сумку, по самым скромным прикидкам, героина влезет на пол-лимона, а если кокаин — так и вообще на лимон… Если у них такие деньги, то и возможности — о-го-го. Не дадут они нам прозвониться. И из квартиры выйти не дадут. Только… Только я одно поняла: этот Сиплый прокололся, крупно прокололся, и вряд ли кому-то из тех, кто над ним, это понравится…
— А может, он — главный.
— Может. Только если у него и нет шефа, то есть партнер или партнеры, которые такую ошибку могут не простить. Поэтому он будет действовать сам, через людей, которые подчиняются лично ему и больше никому. Значит, есть шанс.
— Какой?
— Прорваться. Здесь мы в капкане, Сиплый не соврал. Нам нужно убираться из этой квартиры.
— Выходить на оперативный простор?
— Ну да. Хотя бы до ближайшего телефона, а лучше — до конторы твоего мужа.
Настька, ты же умница, ну придумай что-нибудь! У меня уже бестолковка совсем не работает на отдачу!
— Голова, дорогая подруга, дана женщине для того, чтобы на ней причесон делать.
А мы все время используем ее не по назначению.
— Жизнь такая.
— Ну тогда давай думать.
Глава 6
Ворон оклемался полностью только через день. К обеду. Он лежал на диванчике расслабленно, чувствуя на сомкнутых ресницах любое движение воздуха, словно заново переживая рожденные белым порошком грезы. Если бы… Если бы можно было не возвращаться в этот мир и жить там… Но там жить нельзя, там можно только подыхать. Обманка. Этим хорошо оттянуться, но увлекаться нельзя: постепенно превратишься в скрюченного трясущегося доходягу, которого бросает в жар и холод при одной мысли о ширеве…
Колян приподнялся на диванчике, вдохнул всей грудью. Тело было еще в сонной истоме, и мысли шевелились лениво, но Ворон лишь хмыкнул: этой лени предаются только недоноски; ему, Ворону, нравилось жить, жить в этом мире, пусть он и жесток, и несправедлив… А потому… Он теперь уже резко вдохнул, выдохнул, встал с постели. Главное, ничего не откладывать. Решил — делай, и никак иначе!
Быстро оделся, спустился в кухню. Ксанки не было, и немудрено, третий час. Выпил подряд три стакана крепчайшего чифиря, перевел дух — хорошо. Вышел к станции, на электричке добрался до города. Теперь позвонить.
Набрал номер. Прослушал три длинных гудка, положил трубку, набрал снова. После трех гудков в мембране зазвучал приятный женский голос:
— Вы дозвонились по телефону… Оставьте свое сообщение после короткого сигнала…
— Николай Воронов хочет встретиться с Николаем Порфирьевичем, — произнес в трубку Ворон и нажал отбой.
Вышел в скверик, не торопясь выкурил сигарету, другую. Пятнадцать минут прошло.
Вернулся к автомату, снова покрутил диск, набирая на этот раз другой номер.
Трубку сняли.
— Да? — ответил приятный женский голос.
— Ворон, — произнес он.
— В восемнадцать десять ждите у памятника, — ответили ему.
— Дело срочное, — не удержался Колян.
— В восемнадцать десять.
В трубке зазвучали гудки отбоя.
Странно. Судя по всему, Автархан залег. А чего ему было залегать? Вроде спокойно все, все поделено, все работает. Деньги в общак идут, братва довольна, зоны греются… Ладно, не его это, Ворона, дело. Ему свое сделать, и хорошо. И ладно.
До шести время было. Ворон зашел в небольшой ресторан, заказал себе двести водки и полбутылки сухого красного: начинал томить легкий кумар, и перебить его алкоголем было самое время.
Глава 7
Мужчина со шрамом энергично растирал себе щеки ладонями.
— Вот стерва, а, Шалам! Хар-р-рошая стер-р-р-ва! Сколько ей лет?
— Восемнадцать скоро.
— С ума сойти — детки пошли! Все просчитала. Жаль такую соску просто в расход запустить, я бы с ней поигрался… в кошки-мышки. — Мужчина чиркнул спичкой, закурил:
— Перемотай-ка запись. Прослушаем.
Помощник щелкнул клавишей мини-диктофона.
Человек со шрамом сидел сосредоточенно. Какая неприятность! А ведь все катилось так хорошо! Или слишком хорошо?
Пробная партия наркоты прошла на ура. Очистка идеальная: две лаборатории НИИ с мощнейшей, поставленной еще в те годы аппаратурой справлялись с очисткой и переработкой даже значительной партии сырья в два-три дня. Поставка самого сырья — лучше и желать нельзя. Канал транспортировки отлажен. В городе «дурь» продавать не собирались: все поделено и расписано, и высунуться — никакого дохода, одни убытки по разборкам. Время пока не пришло.
Перспективы богатейшие. Черт! Сколько труда положено, чтобы какая-то глупая случайность…
Или не случайность! И его сейчас просто используют жертвенной фигурой в неведомой ему комбинации?
Черт!
Сначала он принес этих полудурков из службы безопасности. Шпионов они, козлы, ловят! Корень поступил правильно: забросил весь товар в случайную сумку, а то бы здешние служивые порадовались — ловили карася, а поймали щуку! Вот бы разошлась пресса: «Белая смерть идет из России». Козлы! Шпионов они ловят… А то, что героин, а в ближайшем будущем крэк будет призводиться у них под носом… Трижды козлы!
Корень поступил правильно. И пасти товар было нельзя, это могло привлечь внимание. Кто мог знать, что у каких-то нелегалов на этой модной тусовке назначен контакт и местным спецам дана жестокая накрутка: контакт этот отловить и пойманных показательно высечь! Политика.
Вместо этого спецы повязали Коренева. М-да… Это случай. Просчитать его было невозможно. И кто бы мог подумать, что эта целка-пигалица, заглянув в свой рюкзачок, мгновенно оценит значимость находки, ее ценность, и теперь это грозит поставить всю комбинацию раком! Вернее, раком поставят именно его, Краса! Всегда кто-то должен стать крайним. Ошибок Лир не прощает. Это принцип.
И лишних людей задействовать нельзя. Пока там считают, что проходит штатный вариант с малым коэффициентом сложности… Нужно спешить.
Мужчина чувствовал себя прескверно. Ему казалось, что шрам налился кровью и теперь уродует его лицо. Шрам… Если бы можно было… Нет. В этой жизни никто ничего не может изменить. Каждый тащит свой воз. И всем гнить в земле. Тогда лучше не менять свою природу. Живешь — живи, подыхаешь — подыхай. Сам он собирался еще пожить. А вот девчонке этой, Елене Игоревне Глебовой, такой шанс уже не выпадет. Теперь быстренько прослушать запись и решить, блефует она или нет. В любом случае девка отчаянная: поставить осознанно на карту свою голову против денег — на это не каждый мужик способен! Но в такие игры безнаказанно не играет никто.
Хорошо бы… Крас облизал губы, почувствовав, как запульсировала на виске жилка… Хорошо бы подарить ей… сильные ощущения перед кончиной… Он представил ее нагую, связанную, распятую перед ним, сглотнул… Нет. Нельзя.
Нельзя так рисковать. Девку придется просто убить. Без всяких изысков.
Побыстрее.
— Готово, шеф, — сообщил Шалам. — Включать?
— Включай.
Он сосредоточился, с легким сожалением проводив мысль, что с девкой нельзя будет позабавиться. Ничего. Шлюшку он себе отыщет, как только разберется с этим.
В момент отыщет. Времена хорошие: деньги куда дороже людей. Впрочем… Других времен это стадо, называемое человечеством, никогда и не знало.
Ворон вышел из ресторанчика в прекрасном расположении духа. Не спеша направился через скверик к памятнику Чкалова — месту встречи. До назначенного времени был еще час. Хорошо бы подойти ровно в шесть десять, чтобы братаны не маячили на крутой машине. Маленькая площадь «У Валерика» вовсе не была предназначена для стрелок; так, подхватить человечка, наоборот, высадить. В скверике гуляли мамашки с колясками, сидели бабульки.
Внезапно радужное настроение у Коляна улетучилось, как сплыло. Он и сам не мог понять почему. Будто заноза засела где-то глубоко, в самой душе. И не выковырнуть ее оттуда ничем. Словно…
Ну да. Взгляд этой девчушки, с фотографии… Видать, пацанка еще совсем, дите — ишь, мишку плюшевого с собой таскала… И глаза дитячьи, как озерки. Вот только… Горя эти глаза видели немало, в этом Ворон разбирался — повидал.
У него могла бы быть такая дочка. В аккурат бы ей сейчас полных семнадцать было.
Ну да, могла бы. И Олька как раз забеременела в восьмидесятом. Олимпиада еще была. Если бы все ладно складывалось, в ноябре — декабре и родила бы… Потом все полетело наперекосяк, хоть не вспоминай. А тогда — только из армии дембельнулся, гулевал; ну, известное дело, что дембель, что дебил — разница небольшая. Благо водки тогда и бормотухи всякой было море разливанное, а шоферить на базе стройматериалов — такая работа, что хошь не хошь, а не уворовать чего просто грех, все одно пропадет, как в прорву. Да и начальство пример подавало, только крали те начальнички доски не кубометрами, а вагонами и составами. И параши никогда не нюхали. Вот и думай, кто есть главная мухобель в этой жизни. А с трибун орать были мастера и тогда, и теперь. Не люди — порожняки, мать их! Как неслись, так и несутся по жизни, громыхая на стыках, а после них только шпалы покореженные остаются. Вернее вместо шпал — судьбы людские.
Ладно, мутота все эти мысли, а чтой-то гложут они его… Ну да, глаза этой девчушки… Такие могли бы быть у его, Коляна Воронова, дочки. Вот и задело…
Тогда Олька его из пьянок и вытянула. А пьянки те бесконечные были: пиломатериалы шли направо-налево, и влететь бы ему по восемьдесят седьмой, за хищение госимущества в особо крупных, если бы не Олька.
Умная она была уже тогда баба, жизнью битая. И мужиком своим битая не раз.
Двадцать пять ей было, на пяток годков старше, а муж ее непутевый то в запое, то в загуле, то неизвестно где. Ну и зажил у нее Колян. И не просто зажил… Теперь он знает: счастье это было. Как домой с работы приходил, жена, хоть и нерасписанная, а наоборот, по паспорту — чужая, встречала таким взглядом распахнутым, что он ее глаза до сих пор живые видит. А муж ее, Сашка, запропал куда-то с полгода как; соседи говорили, на заработки подался, а Олька, да и сам он только ждали, когда объявится, чтобы заявление им, значит, подать. С Сашкой на развод, с ним, Колькой, на регистрацию.
И еще — очень она ребеночка хотела. Дочку. С Сашкой не получалось ничего: у него от пьянок тех постоянных что-то с железками случилось или триппер когда нелеченый носил, а только не было от него детей, и все. А у них все так заладилось тогда…
И Олька, как забеременела, вся аж засветилась. И берег он ее, и фрукты-овощи сетками приносил. И даже проигрыватель дорогой купил, импортный: вычитал в газете «Труд» на перекуре в каптерке, что беременным, им полезно музыку классическую всякую слушать, Баха там или Моцарта, — тогда детки рождаются умные, спокойные и пригожие. Берег он ее. Да не уберег.
«Благоверный» возвернулся из какой-то тьмутарака-ни, а Олюня — на шестом месяце была, всем уже видать. И слова ей сказать не дал: в живот пнул, сначала кулаком, потом сапогами… Убил ребенка, падаль. Уже потом врач, что саму Олюню спасал, сказал ему, Коляну: девочка была. И сама Оля говорила, что девочка, что она слышит, как та техается, нежно и тихонечко…
А Сашок этот напакостил — и пропал. Колян искал его везде. Нашел бы — убил гниду сразу, на месте, руками бы придушил, хотя и меньше был чуть не вдвое. Не нашел.
Напился вусмерть. Три дня так пил. Доктор тот сказал, что деток у Олюни больше не будет теперь. Колян пил и плакал. А тут — прознал, что этот козел драный у какой-то бабенки в Лопатине хоронится; завел самосвал — и ходу. Менты вроде тоже его искали, да, видно, не шибко: Сашок этот, до того как зашибать крепко начал, в мусарне-то и служил. Да и молва какая? Наказал-де мужик гулящую свою бабу.
Малость погорячился, да с кем не бывает.
Наехал Колян в это Лопатино вечером. В клубе еще веселье шло полным ходом: в честь Олимпиады, что ли, или студенты-стройотрядовцы устроили танцы — теперь уже не вспомнить, да и не важно это. Водяру глушил как проклятый.
Тогда он в клуб тот чуть не на самовале и въехал: ктой-то по дороге подсказал ему, что Сашок в аккурат там пляшет-развлекается. Потом… Потом, как записали в протоколах, монтировкой нанес телесные повреждения средней тяжести тому-то и тому-то, мирным сельским обывателям… Короче, статью навесили.
Вот тут начальнички с базы и раззадорились: ревизия на них какая-то пришла, а под такое дело чего ж свои грехи на безответного не списать? Закрутилась машина…
Пока суд да дело, Олька, хоть самой тяжко, за него переживала. Хлопотала, по начальникам всяким ходила. Без пользы. Срок навесили. План ведь, он и в суде был план.
Олюня ждать обещалась.
Одно сложилось: Сашка этого все же приземлили. Уж очень ему условно вытягивали кореша, да все бабы на поселке взбеленились, пришли чуть не демонстрацией к суду. Дали трешник. Смешно… Ему, Коляну, за два поломанных носа — трешник, и этому гниде за убийство девчонки неродившейся да за бабу насмерть покалеченную — тоже. Аффект, как там адвокатишка выражался. Состояние сильного душевного волнения.
Ну да он, Колюня, тоже не в слабом волнении остался. На всю жизнь. Не досидел тот Сашок свой трешник.
Уперся Колям, на работу болт забил, рогом на всех вертухаев пер, как чумной, — все затем, чтоб в братву прописаться. Крутым стал. Еще срок прицепом взял.
Бился, а через два годика на ту зону, где Сашок стружку гнал, перевелся.
Разбирался сам, без свидетелей. Вспоминать не хочется. Почуял тот Сашок, что баба чувствует, когда ей живот уродуют. Ой как почуял! Потом он этого козла тряпичного под пресс уложил. Записали: несчастный случай. На зоне, там тоже свои показатели были и свой план.
Вот такая вот история.
Олюня его так и не дождалась. Угасла, как ему написали, от недуга какого-то женского. Но он-то знал: от тоски она умерла. Как прознала, что деток у нее больше не будет, так тоска ее и съела…
…Ворон тряхнул головой. Обнаружил, что на лавке сидит, щеки в слезах, и прохожие быстро семенят мимо: пьяный. Лишь одна бабулька притормозила, справилась:
— Что, сынок, плохо тебе?
— Плохо, мать. Плохо.
Сорвался он с лавки, побежал. Девчонку эту, Ленку, у которой глаза как озерки, выручить надо немедля! Сейчас! Получается, подставил он ее! Не по злобе пусть, по глупости, а подставил! Вот ведь мать-перемать! В жизни никого не продавал и не подставлял, а тут — «дурь» попутала, марафет драный!
Колян рванул через дорогу. Теперь он думал только об этой девчонке. Имя, фамилия есть — адрес узнают мигом. Только бы успеть!..
Тяжелый самосвал тащился едва-едва. Колян прибавил ходу, обходя машину спереди.
Легковушка вынырнула невесть откуда, на скорости, наподдала под ребра. Ворона подняло в воздух, он полетел спиной вперед, нелепо двигая руками… Увидел лицо девчонки, совсем рядом, будто живое, а не на фотографии… Глаза смотрели ласково и внимательно: что же ты, Колюша… Ну да, Олюня так его называла:
Колюша. Больше никто. Никто.
Мужчина замер, ткнувшись затылком в жесткий каменный бордюр тротуара, успев прошептать одними губами:
— Оля…
* * *
Непоняток Автархан не любил. Как и все. Все непонятное таило опасность. Николай Порфирьевич посмотрел на часы. Четверть восьмого. Ворон так и не объявился.
Ворон был правильный вор. Пусть и без полета, но правильный. Жил по понятиям, не рвач, не пустомеля. Если он просил о встрече, значит, что-то случилось.
Может быть, у самого Ворона, а может…
На встречу он не пришел. Братки прождали на машине почти час, потом отвалили.
Приехали к Автархану в Заречное, доложились: не было. Пропал.
Автархан не любил, когда его люди пропадают даже сами по себе, но особенно не любил, если пропадают они после того, как назначалась встреча. На которой человек хотел сказать важное. Такой, как Ворон, попусту базлать не станет.
Автархан нажал кнопку звонка. Появился молодой мужчина в костюме с иголочки, лицо умное и волевое, глаза спокойные и внимательные. Новое время требует новых людей. Если ты в него не вписываешься, то оно само тебя спишет. Со всех счетов.
Автархан прекрасно знал, что не может обладать многими талантами и достоинствами; у него был другой талант: подбирать людей по способностям и оплачивать по труду. А потому его теневая империя работала как военный завод двадцать лет назад, без сбоев и накладок. Если трудности и случались, их устраняли. Вместе с теми, кто эти трудности создавал по глупости, жадности или недомыслию. Иначе было не выжить. Стая должна освобождаться от тупых, неповоротливых и слабых — или погибнут все. Волки живут по законам волков, овцы — по законам овец. Выбирай и живи.
— Присаживайся, Сергей.
— Спасибо.
— Я хочу, чтобы ты нашел Ворона.
— Воронова Николая Павловича?
— Да.
— Он пропал?
— Он просил о встрече. Ему было назначено «У Валерика» в восемнадцать десять. На встречу он не пришел.
— Я понял. Разрешите выполнять?
— Ворон не будет звонить или суетиться попусту. Меня не было в стране, я прилетел час назад, иначе встретился бы с ним незамедлительно. Меня беспокоит этот звонок.
— Я понял, Николай Порфирьевич.
— Две возможности. Первая: что-то или кто-то угрожает самому Ворону. Но это маловероятно. По такой мелочи он не стал бы обращаться. Ворон крут. Разобрался бы сам. Я бы давно его поднял на другой уровень, но ему нравится та жизнь, которой он живет. Он вор и не хочет жить иначе. Вторая возможность: что-то или кто-то угрожает нам. Это может быть серьезно. Разыщи его в кратчайшие сроки.
Узнай, что произошло. В средствах ты не ограничен. В людях тоже. Возьми Бутика с бригадой и привлекай всех, кого сочтешь нужным. Результат, любой результат, сообщай немедленно. Мне лично. По мобильному. В любое время. Я жду твоего звонка. Удачи, Сергей.
Молодой человек встал и вышел. Автархан откинулся кресле. Приказ отдан. Теперь оставалось ждать.
Глава 8
Мужчина со шрамом сидел в «вольво» рядом с водителем и курил сигарету за сигаретой. Посмотрел на себя в зеркало. Нет, все это нервы. Эмоции. Хирурги постарались на совесть. Если и можно заметить в лице какую-то асимметрию, то только внимательно присмотревшись. Мужчина остался доволен.
Итак, кто у нас будет? Фефочка. Фефочка Леночка. Из поколения, выбравшего пепси и денежные знаки. Запрятавшая куда-то рюкзачок с порошком на три четверти миллиона долларов. И грозящая своей куцей активностью развалить построенные цепочки.
Мужчина чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Когда-то… Когда-то он мог использовать всю мощь подчиненных ему и не только ему структур, чтобы выполнить задание. Теперь… Хотя он привык. Он привык принимать решения и нести за них полную ответственность. Тем более в мутном отстойнике, образовавшемся на территории СССР и обзываемом теперь аббревиатурой, заканчивающейся на «гэ», можно было наловить разного. В любом случае сам он стал много богаче и не стеснял себя в средствах. Как в средствах чего-то добиться, так и в средствах на что прожить. Хорошо прожить.
Никакой шумовой вариант недопустим, в подчинении у него всего восемь человек и весьма посредственная техника. Естественно, заяви он о возникших сложностях, найдутся и техника, и люди — дело даже не в стоимости товара, хотя сумма сама по себе очень хорошая, дело в отлаженных тропах… Предположим, девка не соврала и действительно передала порошочек какому-то своему престарелому почитателю, у которого встает раз в квартал и только на нее. Тот послушно отзвонится, или не отзвонится, или, к примеру, не получит условный сигнал и простенько и без затей сунет все эти мешочки в мусоропровод. Будет удачей, если они перекочуют на свалку, где и сгинут под отходами. Пока не докопается какой-нибудь бомжара…
Денежные потери придется списать. Хотя это плохой вариант.
Но есть еще очень плохой.
Если вышеозначенный старый пердун-меланхолик, хм… надо бы его залегендировать, пусть будет Старый, как-то разбирается в наркоте. Когда-то сам баловался или еще что… И по жадности и недомыслию решит он наварить деньжат и с одним пакетиком податься к мелкому сбытчику… Скажем, к тому, у которого покупал когда-то…
Что будет в этом случае? Сбытчик поднимет волну, «телега» поползет наверх, и «папы» скоро узнают, что в их городе кто-то без них, самостоятельно, наваривает серьезные деньги. Через какое-то время информация просочится через агентуру или двойничков и к местным правоохоронцам, и к здешним чекистам. Да. Это очень плохой вариант.
Но есть еще очень-очень плохой.
Предположим, Старый труслив, законопослушен и неглуп. Тогда, поковырявшись в пакетиках, проинструктированный этой пепси-целкой на случай ее безвременной кончины или пропажи, попрется прямиком в Службу безопасности и выложит там всю известную ему правду-матку. Чекисты начнут активную разработку; опять же через некоторое время, причем гораздо более короткое, чем при втором варианте, будут информированы и «крестные».
Все это будет означать только одно: вся построенная на Запад цепочка, вся цепочка поставки сырья сюда с Востока, лаборатория, люди, все будет провалено целиком и окончательно.
Его самого в этом случае ждет очень долгая и экзотическая смерть. Лир любит такие фокусы. Как он сам выражается, они имеют воспитательное значение для «личного состава».
Сука! Сука эта Глебова Елена Игоревна, без малого восемнадцати лет… Стерва!
Есть и еще вариант. Этакий вариант "2". Вся эта завязавшаяся бодяга — вовсе и совсем не цепь случайностей, а хорошо организованная неким неизвестным противником закономерность. Ее цель не ясна, да и выяснить это вряд ли возможно на данном этапе разработки. Ну а саму пепси-целку водят втемную на неизвестной длины поводке некие дяди, как наживку. И даже не для него, Краса. И даже не для Лира. Дьявол!
Шалам тупо смотрит на приборную доску. С ним нельзя посоветоваться: его ментальное развитие не перешагнуло рубеж двенадцатилетнего учащегося из школы для умственно отсталых. Но никаких задач, кроме «осмотрись», «принеси», «убей», перед Шаламом и не ставилось. С ними он справлялся очень хорошо: недостаток мозгов в лобной доле сполна компенсировался великолепным звериным чутьем. Чутьем на опасность. Чутьем на затаившегося вблизи хищника, может быть, более извращенного и дерзкого, чем он сам. Чутьем на смерть.
С ним нельзя посоветоваться, но сверить его реакцию со своей стоит.
— Что скажешь, Шалам?
— А чего тут говорить, босс? Сучка заныкала порошок, конечно, не дома. Где-то рядом с конюшней, где эти кобылки жопами вертели. Вернулась. И уписалась со страху, когда вы Динке хребет поломали. Сейчас с очка не слезает. Хорошенько потрясти — и расколется, это как пить дать!
— Что там от Кривого?
— Слушает. Она никому не звонила, да он бы и не дал. Ей тоже никто не звонил.
Насвистела она насчет этого поклонника, вот что я думаю.
— А если нет?
— Вы — босс, вам решать.
— Погоди, Шалам. Ты скажи, как тебе разговор показался ?
— Показался?
— Да фонит что-то. Не знаю что, но фонит. Пойти по-простому и разобраться на месте, что и как.
— По-простому, говоришь…
— Ну.
— Вот и у меня — фонит.
— А я что говорю… Эта сучка…
— Замолкни, — резко оборвал он подручного. — фонит. Это может означать и действительно самый простой вариант: девчонка испугалась и вульгарно лжет. Тогда второй и третий отпадают сами собой. А может… А может, и… четвертый. Полную непонятку. Вариант "2". Но…
Но ведь не это его действительно беспокоит, не это! А что?
Мужчина откинулся на сиденье автомобиля, постарался полностью расслабиться…
То, что он ощущает, должно всплыть… Само собой… Это была даже не мысль…
Какая-то неуловимая, тончайшая, ускользающая нить, тень мысли… Он легонечко пытался ухватить это невесомое, как паутинка, ощущение… Ну же… Ну… Да!
— Дьявол!.. — выругался он облегченно. — Дьявол! Знаешь, Шалам, что больше всего меня беспокоит во всем этом на самом деле?
Парень вопросительно посмотрел на шефа. Но тот не шевелился. Продолжал сидеть, глядя в одну точку. Словно укачивая, лелея, повязывая к другим только что явившуюся ему мысль. Достаточно вздорную, чтобы быть истинной.
— Я не могу отделаться от чувства, что эту девчонку я когда-то видел… Или знаю. Или знал другую, похожую на нее… Или… Вчера, как только ее рассмотрел как следует…
Шалам вежливо пожал плечами. И делал вид, что слушает. То, что у босса крыша не на месте, особенно по бабскому вопросу, — без балды. Но к его сексуальным заворотам он относится достаточно равнодушно. Даже к смертельно опасным для его вынужденных партнерш. Девки для того и сделаны, чтобы их трахать. А зачем еще? И если боссу для расслабухи нужно не просто завалить телку, а еще и порвать ее на куски или придушить, что кошку, — так у него работа нервная. Тем более шлюх как грязи. Непереводно. Одной больше, одной меньше — кому это интересно? Уж ему, Шаламу, точно вразбубон. В полный.
Сейчас босс просто метет пургу. Полную лажу. Очередной заскок. И Шалама это не сильно заботило. Его заботило другое: к боссу он подвязан накрепко. Насмерть. И если чего, то его башка ляжет рядом с башкой босса. Нет, всех когда-нибудь кончат. Жизнь вообще ничем хорошим не кончается. Только смертью. Ну да это бредни. Он, Шалам, еще хочет пожить. И баб поиметь. И водчоночки да коньячку попить всласть. Вдоволь. А там — хоть трава не расти.
Босс закончил излияния. Молчит. Полоску на харе рассматривает. Интересно все же, кто его так разукрасил? Хотя — не его это собачье дело. Меньше знаешь — легче спишь. Особенно в их стае.
А хозяин в это время еще раз прокачивал варианты. Как ни кинь, а этот дебил подсказал сейчас единственно правильное действие. Чтобы разобраться, что и как, необходимо обострить ситуацию. Если есть какие-то серьезные противники, они непременно проявятся. Так или иначе проявятся. Нужно только наблюдать.
Внимательно наблюдать. И грамотно подстраховаться.
Мужчина поднес к губам рацию:
— Я — первый, вызываю второго и третьего.
— Второй слушает первого.
— Третий слушает первого.
— Усильте внимание. Продолжайте контролировать этажи. В случае любого изменения ситуации — вы поняли, любого: «скорая помощь» к бабульке приехала, пьяный вышел на лестницу побуянить, — немедленно информировать. Немедленно!
— Есть.
— И ничего не предпринимать без приказа.
— Есть. — Конец связи.
Мужчина поменял частоту рации.
— Я — первый, вызываю четвертого.
— Четвертый слушает первого.
— Что нового?
— Никаких контактов объекта не зафиксировано.
— У нее не может быть сотового телефона?
— Почему не может? Вполне. Только она им не пользовалась.
— Вы уверены?
— Аппаратура бы среагировала.
— Вы уверены?! — Мужчина повысил голос.
— Виноват. Да. Я уверен.
— Приказываю: усилить блокировку объекта. Ваша аппаратура сможет перехватить сигнал по любому каналу связи?
— Перехватить — нет, зафиксировать, что сигнал был, — да.
— Вы контролируете весь дом?
— Такой задачи не ставилось. Да и… Все-таки шестьдесят четыре квартиры…
— Теперь ставлю. Но конкретизирую: ловить только спецсвязь.
— А телефонную — нереально.
— Четвертый!
— Виноват.
— Вы поняли задачу?
— Так точно.
— Вы хорошо поняли задачу?
— Да.
— Выполняйте. Как только вы зафиксируете любой сигнал, проинформируйте немедля.
Вы поняли? Не-ме-для.
— Есть.
Мужчина перевел дыхание, снова поменял частоту:
— Я — первый, вызываю пятого и шестого.
— Пятый слушает первого.
— Шестой слушает первого.
— Двор и дом в зоне уверенного контроля?
— Так точно. С обеих сторон. Хотя не идеально, но контролируем вполне.
Не идеально… Мужчина и сам знал, что не идеально; ну да за неимением гербовой пишут на простой.
— Приказываю: в случае появления подозрительных объектов докладывать сразу и быть в готовности открыть огонь. На уничтожение.
— Есть.
— Огонь по основному объекту — только на поражение. И только по моему приказу.
— Есть.
— Вопросы?
— Вопросов нет.
— Выполняйте.
— Есть.
Мужчина перевел дух. Еще один человек. Он занят тем, что ему поручено.
Осталось… осталось только задействовать Шалама.
Тот смотрел на босса с обожанием. Шалам всегда чувствовал невидимую дистанцию, которая отделяет его от этого человека. Дистанцию непосредственной власти. И его охватывало так похожее на восторг чувство сопричастности этой власти, пусть не такой, как раньше, но все же мощной, сильной, способной отдавать приказы и добиваться их исполнения. Он ждал, когда отдадут приказ ему. Тогда он тоже станет работающим звеном прекрасно отлаженной машины, созданной этим человеком со шрамом, сидящим рядом на сиденье автомобиля. Человеком, которым он сейчас восхищался и которому готов был простить любую слабость за ту силу, какая от него исходит.
Мужчина закурил, сделал несколько затяжек, выдохнул:
— Ты прав, Шалам. Эта сучка что-то крутит. Ты пойдешь и потрясешь ее как следует.
Подручный расцвел. Его идея, его! И босс ее принял!
— Есть, — ответил он, едва сдерживая радость. Хозяин хмыкнул про себя: дебил, он и есть дебил. Как бы не перестарался. Поэтому добавил:
— У тебя после позавчерашнего с девкой личные счеты…
— Да я…
— Можешь засунуть ей в задницу каленую кочергу, но… Чтобы осталась целой и невредимой! Понял?!
Шалам беспомощно лупал на шефа белесыми ресницами.
— Поясняю: надави на эту девку как следует, но никакого вреда не причиняй.
Напугай, можешь придушить слегка или палец сломать. Чтобы было очень-очень больно, но безвредно.
— Совсем безвредно?
— Ты понял меня? — повысил голос мужчина.
— Извините, босс. Я понял.
— Не куражься. Слушай связь. Возможно, подойдет спец. Если для того, чтобы ее разговорить, понадобятся препараты.
— Да на хрена нам спец, босс?! Эта сука безо всяких медицинских штучек зачирикает у меня, как птенчик по весне! Все выложит, что знает и что не знает, прямиком на блюдечко!
— С голубой каемочкой…
— Чего?
— Ничего. Выложит — хорошо, но «потрошитель» подойдет все равно. Такой порядок.
— Понимаю.
— Вот и славно, что понимаешь. Готов?
— Всегда готов, — гыгыкнул Шалам, вскинув руку в пионерском приветствии.
— С замками справишься?
— А чего с ними справляться? Квартира не сейф. Шалам открыл бардачок, извлек оттуда остро отточенный нож, моток скотча, металлическую коробочку из-под шприцев: там он держал какие-то ножнички, щипчики, которые использовал так умело, что жертвы жалели, что вообще родились на этот свет.
— Пошел! Да, рацию поставь на передачу, послушаю вашу беседу.
— Ага. — Глаза Шалама блестели, он радостно открыл дверцу и не спеша, вразвалочку, словно пытаясь растянуть предвкушение предстоящего удовольствия, двинулся к двери подъезда.
Крас поднес к губам рацию:
— Первый всем: начало операции.
Эту фразу он произнес трижды, последовательно меняя частоту. Закурил. Замер, откинувшись на спинку сиденья.
Он еще раз прокачивал принятое решение. Все правильно. Если за девкой кто-то стоит, этот кто-то так или иначе проявится. Вот тогда можно будет с легким серд-цем доложиться Лиру: так, мол, и так, против нас работают профи. Для него.
Краса, это было бы лучше всего: в играх профессионалов он чувствовал себя как карась в пруду. Лир и подавно. Ну а если девка блефует или действует на свой страх, то Шалам выдавит из нее все, что она знает. Было в Шаламе… было в нем что-то бесконтрольно-звериное; когда он чуял близкую кровь, ноздри его трепетали, лицо приобретало какую-то отрешенность… Жертвы чувствовали это кожей, выражение лица Шалама пугало их даже больше, чем предстоящая боль. А уж он-то, Крас, знал: настоящая боль развязывает любые языки.
Пожалуй, мужчина боялся бы своего слугу, ведь зверь способен на все. Боялся бы, если… в себе он чувствовал зверя, рядом с которым Шалам был просто беспородной дворовой шавкой. Зверя, опаснее, беспощаднее которого нет.
Он снова прикрыл глаза. И будто наяву, увидел девчонку — нагую, связанную, распятую, беззащитную перед его желанием. Перед его любым желанием. Сглотнул слюну, притронулся к лицу, чувствуя, как наливается кровью, пульсирует шрам.
Все люди — звери. А это означает только одно: чтобы выжить, нужно быть самым безжалостным из них.
Глава 9
— Капкан. Кап-кан. — Аля смотрела в одну точку. — Не знаю я способа прорваться.
Никакого. Кроме этого. — Она ласково притронулась к оружию.
— Хороши игрушки… — прокомментировала Настя.
— Ты знаешь, а мне нравится.
— Хм… Откуда у тебя к этим железкам такая нежность?
— Не знаю. Я же рассказывала, с двенадцати лет стрельбой занимаюсь, еще до переезда сюда. С детдома. А в шестнадцать стала мастером.
— Слушай, а ствол-то этот у тебя откуда?
— От верблюда. Классная штука, скажи?
— Ты что его, из тира, где тренировалась, заныкала?
— Вот еще… Мне его подарили.
— Кто?
— Давно. Константин Петрович Фадеев. Он в нашем детдоме дворником-сторожем работал. У него еще протез был вместо ноги, деревяшка. Он как раз стрелковый кружок и вел.
— Ему что, разрешили?
— А кому какое дело? Там, кстати, одни ребята были, только я — пацанка. Я у него в сторожке подолгу сидела, а когда он заболел — ухаживала. Насть… долгая это история. Просто как баба Вера меня к себе решила взять, дядя Костя мне «марголин» и подарил. На память. Он умер потом через неделю. Совсем уже старенький был.
— От чего умер-то?
— Наверное, как все. Жить устал.
— А чего ты раньше не говорила, что у тебя пистолет есть?
— А зачем кому говорить? Чтобы отобрали?
— Даже мне?
— Насть… Это теперь я тебя знаю, а как приехала… Ну тетка, ну добрая… А чего бы ей доброй не быть, когда муж тароватый, дом полная чаша и вообще во всем — ажур. В смысле — алее. Так что… Так что лежал он себе, в тряпочку промасленную завернутый, в чулане. Иногда я его доставала, когда баб Веры не было, чистила… И вообще — он красивый. Ты знаешь, этот Марголин, конструктор, он почти слепой был, эту машинку лепил, считай, на ощупь, из глины…
— Нет, Алька, — задумчиво произнесла Настя. — Ты не увлечена стрельбой, ты… Ты относишься к оружию как к другу. Давнему.
— Насть, сама не знаю. Не помню. Как и все мое детство не помню. У меня из детства только мишка и оставался. А теперь вот и его нет. Только порой картинки какие-то… Знаешь, наверное, совсем раннее воспоминание, младенческое: лежу в колыбельке, питаюсь и… гильзами играю, на веревочке. Как погремушками.
— Может, ты — дитя войны?
— А разве тогда была война? В восьмидесятом.
— Война всегда.
— А жаль.
— Еще как жаль.
— Вот что, Настька. Делаем так. Ты сидишь тихо, как мышка. Я иду на прорыв.
— Аленка…
— Погоди. Я все рассчитала. Двоим теткам прорваться куда труднее, чем одной. Я не пойду вниз, во двор, я на чердак полезу. И выйду из четвертого подъезда.
Скоро стемнеет. В городе растворюсь — ни одна собака не найдет. Никогда. Да и… не будут же они за мной всю мою жизнь гоняться, ведь так?
— Они столько не проживут.
— Вот и я надеюсь.
— Аленка…
— Погоди. Ко всему, если ты останешься, мне будет легче: вдруг меня все-таки прищучат, выручать кому? Тебе. И Женьке. Ну что, решили?
Настя задумалась, по обыкновению сморщив чистый лоб, откинула назад густые каштановые волосы, резюмировала:
— Ты права. Даром что пацанка, а мозги у тебя работают. Прямо сейчас рванешь?
— Не-а. Уже прошло девятнадцать минут. Должны позвонить, никуда не денутся.
Мешок наркоты просто так никто не бросит. Как и чемодан денег.
— И о чем ты с ними теперь говорить станешь? Ведь звонка никакого не было.
— Плохо, блин! Хоть бы какой-нибудь кретин позвонил: если они слушают, я бы ввернула пару фраз порасплывчатее, пусть побегают! Хотя нет. Этак я подставлю «за так» ни в чем не виновного человека. О чем говорить?.. Да не знаю, о чем говорить! По ходу что-нибудь придумаю. Когда не врешь, а фантазируешь, звучит куда убедительнее. Я права?
— Права.
— Вот. Главное — время у них еще выторговать. Хотя бы чуточку.
— Ты подорвешь, а я тут им иллюминацию устрою! Можно с силуэтным стриптизом за закрытыми шторами: пусть думают, что ты дома!
— Вот уж нет, Сергеева. Ты умная-умная, а иногда такая дура!
— Во! Вырастила сестренку на свою голову!
— Нет, правда. Да они решат, что это я, накатят, застанут тебя… Насть… Им человека убить — как пописать… А у тебя Женька и Олежка. Хорошо хоть, что Олежка в селе у бабушки. — Алена вздохнула, подытожила:
— Так что не суйся.
Женьке и Олежке без тебя будет совсем плохо.
— Еще у меня ты.
— Спасибо, Насть. — Аля потерлась носом о плечо подруги. — Просто не знаю, как бы выжила без бабы Мани, без бабы Веры, без Константина Петровича, без тебя… — Она замолчала на секунду, добавила уверенно:
— Да никак бы не выжила. Не было бы меня давно. Совсем. — Вздохнула, озабоченно сморщила нос. — Что-то они не звонят? Уже полчаса почти прошло. Странно. Может, мы за шумом душа звонок пропустили?
— Вряд ли. Телефон у тебя довольно громко пиликает.
— Странно. — Алена закрутила кран, шум падающей воды прекратился. Только капли капали… Кап-кап… Кап-кап.
Девушки переглянулись. В наступившей тишине было отчетливо слышно, как проворачивается ключ в замке.
* * *
Мобильный прозвонил в четверть девятого. Автархан поднес трубку к уху:
— Да.
— Это Снегов.
— Слушаю, Сергей.
— Ворона сбила машина. Он в реанимации.
— Так-так… — протянул Автархан как бы про себя. — Состояние?
— Тяжелое. Чудом остался жив. Проломлен затылок. Сейчас — без сознания. Когда придет в сознание и придет ли вообще — неизвестно. Как неизвестно, останется ли жив.
— Ты озадачил врачей?
— Да. Они работают. Поехали за нейрохирургом Полянским, домой. Будут через полчаса.
— На гонорары не скупись.
— Естественно.
— Кто его сбил?
— Какой-то «жигуленок».
— Водитель?
— Скрылся. Милиция усиленно ищет.
— Вы приняли свои меры?
— Да. Есть показания свидетелей, цвет машины, две цифры номерного знака… Но город большой… тем более и цвет, и номера поменять в наши времена — это как постричься.
— Особенно если его готовились устранить.
— Да.
— Что утверждают свидетели?
— Случайный наезд. Он выскочил из-за самосвала прямо перед «жигулем». А тот шел с хорошим таким превышением скорости. Возможно, водитель был нетрезв. Потому и слинял.
— Возможно. Все возможно…
— Да… В крови Ворона — изрядное количество алкоголя. И наркотики.
— Наркотики?!
— Да.
— Он не злоупотреблял. Иногда баловался. Что за «дурь»?
— Пока не определили. Ждем ответа из лаборатории.
— Мусора не мешают?
— А зачем им? Рядовое ДТП. У них таких — .полкило задень.
— Охрану выставили?
— Естественно. И машина у больницы на постоянку. Связь со всеми устойчивая.
— Какая больница?
— Таракановская.
— Почему туда?
— Они сегодня по «Скорой» дежурные.
— Сам там был?
— Да. Трогать его не рекомендуется, поэтому в другую палату перевели его соседа.
Обещают подтянуть необходимое оборудование.
— Нужно, чтобы сделали.
— Уже делают. Ерема присматривает за этим.
— Хорошо. Хотя, если разобраться, ничего хорошего. Твои соображения?
— Похоже на несчастный случай.
— Уж очень похоже! Вот только что он хотел сообщить мне? Мне лично, и никому больше, а, Сергей?
— Ты знаешь, где он кантовался в последнее время?
— Выяснил. В Вишневом. Он с женщиной одной живет. Уже года два. Оксана Миргородская, тридцать два года…
— Мне не нужна ее биография. Вот что… Я хочу, чтобы ты съездил к нему домой.
Сейчас. И произвел там натуральный шмон. Может, Ворон оставил чего: записку, знак, он парниша был неглупый. Скорее всего, мог не на виду оставить, заныкать, но ты найди!
— Да, Николай Порфирьевич.
— Все, что не вписывается в его образ жизни, любые странные бумаги, вещички…
Короче, пройдись по хате этой по полному профилю.
— Да.
— Все, что нароешь, грузи в джип — и ко мне. Да, попроси эту подругу его…
— Оксану…
— …Оксану проехать с тобой. Попроси, а не требуй, понял? Сообщи, что случилось с ее мужиком, посмотри реакцию. Тут важно, она в деле или нет.
— Понял.
— За сколько управишься?
— Часа за два.
— Постарайся быстрее.
— Я понимаю. Постараюсь.
— Удачи, Сергей Георгиевич.
— Всем нам.
Автархан прикрыл на мгновение веки. Затылок ломило нестерпимо, болели глаза. Так было каждый день, порой голова начинала ныть тупой тяжкой болью сразу, как только он просыпался утром…
Потом. Это — потом. В их деле не предусмотрено ни тайм-аутов, ни передышек, ни санаториев. Потом. Он вытащил из коробочки две облатки с обезболивающим, запил минеральной, посидел, пережидая пульсирующие толчки в висках. Поднял трубку внутреннего телефона:
— Буряк прибыл?
— Да, Николай Порфирьевич. Ожидает.
— Пусть войдет.
Через минуту дверь растворилась, франтовато одетый мужчина лет пятидесяти прошел в комнату, дождался приглашения сесть и закурить, вынул массивный золотой портсигар, оттуда — сигарету с золотым ободком, чиркнул кремнем зажигалки.
— Меня интересует Ворон, — безо всяких предисловий произнес Автархан.
— Что именно, Николай Порфирьевич?
— Ты курируешь щипачей…
— Молодежь в основном. Семена. Мелочевка. Ворон — другого полета птица. Он работал всегда сам, один. Если угодно, воровство всегда было для него хобби. И еще — он никогда не крал у работяг. Не брал последнего. Я пытаюсь привить молодежи понятия — не очень-то удается. Все помешались на деньгах, крутизне, девках. Никто не хочет работать, все хотят только получать.
— Илья Семеныч, я уважаю твой образ мыслей, но сейчас не до философий. Ворона сбила машина. При невыясненных обстоятельствах. Непосредственно перед этим он хотел связаться со мной. Лично. Настаивал на встрече.
— Наслышан.
— Ну раз наслышан… Что делал Ворон в последнее время?
— Воровал… Отдыхал… Снова воровал. Ведь Вор-он.
— Бурый… Конкретно. Чем он занимался на прошлой неделе, вчера, позавчера — А чем он мог заниматься? Все тем же. Автархан только плотнее сжал губы. Если его и раздражало поведение Буряка… Впрочем, с некоторых пор его раздражало почти все. Причина проста: головная боль и бессонница. Усталость. Страх.
Беспричинный, изматывающий, особенно ночами. Старость?
Но показать это нельзя. Никому. Нужно оставаться сильным и властным. Таким, каким его привыкли видеть. Таким, каким он себя считал. И еще… Он знал главное: с людьми нужно разговаривать на их языке. Уж таковы люди: никто никогда никому не верит, только себе; свое мировоззрение, свою философию каждый считает единственно правильной, превращая почти в религию и поклоняясь ей; в спорах не рождается никаких истин, каждый носит свою истину в себе, и горе тому, кто посмеет •в ней усомниться. Люди не прощают неприятия себя. Никому. Поэтому хочешь повелевать — терпи. Терпи чужие слабости, чужую глупость — и пользуйся ими. Любое качество другого человека можно использовать в свою пользу; нужно только правильно расставить людей. По способностям или неспособностям. Ну а то, чего терпеть не можешь, — устраняй. Вместе с человеком, так надежнее. Власть не терпит неразрешимых противоречий. И во все века разрешает их наилучшим способом: мечом или плахой.
Черт! Все проклятая голова! Болит уже второй месяц, не давая отдыха. И гоняет по кругу дурные мысли…
— Буряк, ты что, заболел? — медленно, тяжело выговаривая слова, спросил Автархан собеседника.
— Разве я выгляжу больным?
— Ты выглядишь полным придурком! И если ты устал, тебя заменят.
— Что вы, Николай Порфирьевич! Я чувствую себя бодрым, как никогда! — попытался сострить Буряк, но, глянув в черные, как жерла стволов, зрачки Автархана, осекся побледнел так, что лицо его стало нехорошего серого цвета. Ходили слухи, что Автархан болен, что пора его менять… Что он живет понятиями прошлого, а это сейчас — как башку положить на рельсы, прямо перед поездом! Хе-хе! Как бы не так! Он играет! Он играет со всеми, как кошка с мышами… — Виноват! — добавил он.
— Говори. Четко, связно, быстро.
— Позавчера Ворон работал в «Юбилейном». Но это все, что я знаю.
— Вчера он не пришел?
— Нет. Хотя тусовка была хорошая. У меня там четыре бригады было, мальчики пощипали очень результативно.
— Ты видел его позавчера?
— Да, но мельком. Он не любит бригад и всегда один.
— Дальше, дальше…
— Ну… Он под технаря этого самого «Юбилейного» косил. В халате был. С сумкой.
С такими электрики ходят.
— Или сантехники?
— Нет. Сантехники с чемоданами.
— Где он работал?
— В кулуарах.
— И что он там мог искать?
— А черт его знает! Честно?
— Иначе нельзя.
— У Ворона в последнее время в голове фонарь. Светит, но не греет.
— Поясни.
— Бывает, неделями пропадает, по слухам, лежит, в потолок смотрит. Я несколько раз предлагал ему к пацанам присоединиться, для них — наука, ему — напряг небольшой; отказывался. Что он себе думал — не знаю. Только улыбался так странненько, словно открыл бертолетову соль или решил теорему Ферма. Или скоро решит. Короче, фонарь.
— Бурый… А может, он ее действительно, решил?
— Чего решил?
— Ну эту самую теорему…
— Вот уж хрен. Скорее шизота приперла.
— И при нем скажешь?
— Да нет, чего… — замялся Буряк, понимая, что запорол косяк. — У всех свои слабости.
— То есть так: ты его видел в «Юбилейном» мельком. Он точно один работал?
— Как монах в келье.
— Ребят ты опросил? Может, из них кто чего заметил?
— Опросил. Никто ничего.
— Мистика просто.
— По правде сказать, Ворон — щипач знатный. И как появляется — непонятно, и куда исчезает с дела — неведомо. Как привидение. Талант.
— Так, — произнес Автархан, опустив веки. Боль потихоньку ушла, но не совсем, затаилась где-то в глубине под черепом. Вообще-то нужно это решить, когда будет время. Если оно когда-нибудь будет.
Ворон. Если бы он надыбал что-то этакое раньше, то и на контакт с ним вышел бы немедля. Значит, «этакое» случилось или произошло в «Юбилейном». Вот только что?
— Так, — повторил Автархан. — Тогда давай по порядку. Несвязухи, менты, особисты, персоны… Тусовка была представительная?
— Крутая. И всех этих — как грязи! Плюс у каждой задницы — своя охрана, в эфире — треск, шум, мат-перемат, черт-те что! Но ты ж сам знаешь, Автархан, в такой мути щипать — одно удовольствие! Да все они уроды! Потом еще с уголовки набежали, как пацаны двоих крепко пощипали, а толку? Наши все уже прибрались с башлями: слезами плакал прокурор, слезами мусор обливался!..
— Погоди, Бурый, подумай… Кто в той тусовке торчал. Суетился не по делам, не в связи с терпилами или не по этой службе…
— Кто и всегда — комитетчики. Служба безопасности. Эти уроды драные думают, что самые умные, а у каждого словно на лбу три буквы курсивом отпечатано! были они там не про нас… Да! — хлопнул себя по лбу Буряк. — Повязали они одного, но тихонечко, как у них принято, приятный такой, неприметный малый с чемоданчиком, с «дипломатом». Блондин. Шли через вестибюль, как дружбаны и корефаны, потом в машину этого блонди усадили и отчалили. — Буряк хмыкнул, подытожил:
— Шпион, наверное. Их щас как червей на помойке.
— Шпион, говоришь?
— Ну, Автархан, а зачем нам этих трудностей? Мы же не комсомольские мальчики: тех булкой с икрой не корми а дай что-нибудь отмочить этакое, чтоб население не скучало и ему было чего героически преодолевать… — Поймав быстрый взгляд шефа, быстро добавил:
— Все, молчу.
Автархан вздохнул. Понятнее ситуация не стала. Скорее наоборот.
Зазвонил телефон внутренней связи.
— Снегов приехал.
— Пусть войдет, — приказал хозяин. Посмотрел на посетителя.
— Я подожду в гостиной?
— Да, так будет лучше всего.
Буряк облегченно вздохнул, встал и быстро вышел. Встречаться со Снеговым он не желал. Этот парниша, непонятно откуда взявшийся у Автархана два года назад, выполнял для хозяина очень деликатные поручения. Касающиеся и братвы, и не братвы. То, что к блатному миру он не относился никак, никогда не сидел и, похоже, не собирался, давало ему лишь преимущества: по приказу Автархана он шерстил все и вся. Набирая притом авторитет среди братвы. Ходили слухи, что он внебрачный сын Автархана, но наверняка никто ничего не знал. И еще — этого молодого человека опасались. Он был умен, стремителен и, казалось, совсем не знал страха. Ни перед кем и ни перед чем. И глаза у него были спокойные и ледяные, как у Кая после общения со Снежной Королевой. Под стать фамилии, если, конечно, это была его фамилия. От Снегова следовало держаться подальше. Это знали все, кто не дурак. Илья Семенович Буряк дураком не был. Встречаться лишний раз с отмороженным интеллектуалом? Оно ему надо?
Довольный, что успел разминуться с автархановским «особистом», Буряк подошел в гостиной к бару, открыл, налил себе большую рюмку водки, выпил, не передыхая повторил, уселся в кресло у камина, вытянув ноги из туфель, с удовольствием пошевелил пальцами, чувствуя исходящее от горящих поленьев тепло. Ему стало хорошо, УЮТНО. Там, за окнами особняка, стояла темень. Непроглядная.
Глава 10
Лицо Сергея Снегова было спокойно, а вот глаза, обычно безразличные и безмятежные, даже слишком безмятежные для его специфической деятельности, изменились: потемнели, словно в их глубине заплясало холодное пламя расчетливого азарта.
— Что? — коротко спросил Автархан, заметив его состояние.
— Наркотики. Героин.
— Много?
— Больше трех килограммов.
— Круто. Хозяин?..
— В том-то и дело… Я отдал в нашу лабораторию на анализ, а пока дал понюшку Косому. На пробу.
— И что Косой?
— Исключительный порошок. Он даже языком зацокал. Такого раньше в городе не было.
— Это значит, у нас проблема. Но меньшая, чем у тех, кто…
— Наверное.
— И где Ворон порошочек этот «прислонил»?
— В «Юбилйном». В девичьем рюкзачочке.
— Так, — произнес Автархан быстро. — Так. На Ворона похоже, чтобы он ни с того ни с сего прибрал рюкзачок у девки, если вокруг «кошельки» стаями бродят?
Снегов пожал плечами:
— Я недостаточно хорошо его знаю.
— Зато я хорошо. Очень хорошо.
Картинка сложилась мгновенно. Служба безопасности, парень, которого вывели под белы руки. Он успел передать товар подельнице, а та или прошляпила, или еще что — про то Ворон знает, но пока он между жизнью и смертью болтается, не скажет никому; героин, по самым скромным прикидкам на семь сотен тысяч «зелени», оказался у Коляна.
— А Ворон не зря ко мне рвался, а? Снегов только улыбнулся.
— Улыбаешься? Оч-ч-чень мне не нравится, когда кто-то в моем городе мешками наркоту носит, а я об этом не знаю. Как девку устанавливать будем?
— Уже. Глебова Елена Игоревна, восьмидесятого года рождения. В ее сумке был читательский билет.
— Адрес?
— Пробили: Севастопольская, дом 14, квартира 12.
— Так. Первое. Завтра — сходняк. Но только наши. Ни Кондрату, ни Бене — ни полслова. Мотивировка простая: со стукачом разбираемся. Сделаешь?
— Легко.
— Второе. Четыре бригады — дежурные по усиленному варианту. Третье. Сам при трех машинах к этой девке. Птицей. Машина прикрытия, машина охраны, машина спецов.
Если ее нет, засаду поставишь, сам — в розыск. Не мне тебя учить.
— Сделаем.
— Сережа… Волком рыскай, но найди! Сам понимаешь, дело нешуточное. Гм… Не зря вторую неделю селезенка ноет. И голова… — Автархан достал еще две облатки, кинул в рот, запил, выдохнул:
— Достань мне эту девку! А тех, кто за нею… Они собственное дерьмо жрать будут, козлы! Достань!
— Достану, — спокойно, с улыбкой пообещал Снегов и вышел из комнаты.
Три джипа рванули в сторону города на предельной скорости. Снегов сидел во втором. Улыбка не покидала его лица, сердце билось размеренно, чуть чаше, чем обычно. Снегов был человеком действия. И потому исповедовал самый простой принцип: действие рассеивает беспокойство.
Замок щелкнул один раз. Аля сняла пистолет с предохранителя, тихонько, на цыпочках проскользнула в комнату, успев показать Насте глазами: стань за дверью!
Та, тоже босиком, проскочила в просторной прихожей за дверь, под старую, массивную, еще бабушкину вешалку-стояк, и скрылась за ней целиком.
Второй щелчок.
Дверь приоткрылась сначала едва-едва, на щелочку. Потом еще. Здоровенный парень осторожно, стараясь не шумнуть раньше времени, прошел в коридор, прислушался.
Дверь в комнату распахнулась настежь, яркий свет залил коридор. Девушка держала пистолет двумя руками.
— Стоять, козел!
От неожиданности Шалам замер, в голову ударила хмельная волна гнева, притупляя чувство опасности: какая-то мокрощелка его, Шалама, будет пугачом стращать!
— Ты чего, целка, оборзела? — прохрипел он. Звук собственного голоса приободрил.
Свет бил в глаза, рассмотреть пистолет он не мог, но откуда у этой биксы нормальный ствол? Газовик, таракана из него завалить можно, да и то если сначала связать и хорошенько отмудохать!
Примерился: до девки метра два, как раз на прыжок…
— Да я щас с тебя с живой кожу сдеру, паскуда! Он успел только начать движение ногой. Выстрел грохнул тупо, пуля раздробила коленную чашечку; Шалам ничком упал на пол и завыл, подтянув ноги и обхватив голень ладонями.
— Заткнись! — скомандовала девчонка. — Следующую пулю в пасть вгоню!
Боль была дикой, но слова эти он расслышал. И поверил. Замолчал разом, закусив ворот куртки.
Аля быстро подошла к парню, воткнула ствол ему в рот и бросила:
— Только дернись! Настя!
Сергеева появилась из-за вешалки, глядя на подругу так, словно видела привидение.
— Обыщи его, быстро!
Настя похлопала по карманам куртки, извлекла металлическую коробочку, включенную на передачу мини-рацию… Ее Аля мгновенно выхватила у подруги и силой запустила в стену: машинка развалилась на несколько частей.
— У него больше ничего нет… — растерянно произнесла Сергеева, поглядывая на девчонку все так же странно.
Алена провела Шаламу по поясу брюк левой рукой, выхватила заткнутый за ремень маленький пистолет.
— Ого! — только и произнесла она, рассматривая оружие.
Парень лежал, не двигаясь. Он соображал. Болевой шок прошел. Нет, боль по-прежнему была нестерпимой, но… Пока эта сука рядом, он ее достанет. Сейчас дергаться слишком опасно. Бикса стреляет даже не на движение, на намерение действия. Предугадывая его характер. Нет ничего хуже смертельно напуганной стервы с реакцией профессионального боксера, у которой в руках «волын». Но он Шалам, ее достанет. Как только она уберет ствол. Это была ее ошибка — подойти так близко. Он эту ошибку использует.
Дальше подумать он не успел. Девушка одним движением, без замаха, припечатала Шалама в лоб так, что он ткнулся затылком о плинтус, мгновенно встала, отошла к стене. Рассмотрела трофей.
— Ничего себе. — Внимательно и быстро девушка изучила миниатюрный пистолетик.
Рассмотрела клеймо фирмы-производителя — в полумесяце три буквы: «АМТ». Дальше «САL.45; ВАСК UР». Произнесла с искренним восхищением:
— Вот это машинка!
Игрушка для профи: размер муравьиный, калибр — слона валить можно! — Отщелкнула обойму, констатировала:
— Шесть патронов. — Одним движением вернула обойму на место, поставила оружие на боевой взвод. — Как он тебе-то достался, дебил?
Шалам приподнял разбитую голову и замер: на него смотрел зрачок его собственного оружия. Ощерившись от боли, Шалам попытался привстать…
— И не думай! — повысила голос Аля. — Сорок пятый тебе вторую заднюю ногу отстрелит по самое «не балуйся»! — Добавила, скривив губы:
— А я не промахнусь.
— Перевела дыхание:
— Сколько у вас людей? Где?
— Тебе не уйти… — разлепил парень спекшиеся от боли губы.
— А тебе и подавно! Сколько людей?!
— Много.
Грохнул выстрел. Почти не целясь девушка вогнала пулю из «марголина» в плинтус в сантиметре от головы лежащего на полу громилы.
— Отвечать! Быстро! Связно!
Парень сглотнул. Открыл рот, будто рыба, выброшенная на горячий песок нежданным штормом. Облизал губы.
— Ну!
— Двое. На лестнице. Сверху и снизу. — Сделал паузу, снова сглотнул. — Еще двое.
Снайперы. Контролируют двор и улицу.
— Чудесно. Все? Шалам молчал.
— Все?!
— Еще босс. В машине.
— Этот сиплый урод со шрамом? Шалам молчал, стиснув зубы.
— Он?
— Да. Тебе не уйти, девка.
— Какая машина?
— «Вольво».
Алена подумала, спросила:
— Ребята, вы бандиты или…
Шалам только скривил губы. Боль вернулась, теперь она пульсировала тяжкими ударами, и он понял, что не сможет достать эту девку. И еще… Еще он осознал, что горше и позорнее для себя ситуации и придумать бы не смог даже нарочно: девка-малолетка прострелила ему колено, похоже, сделала инвалидом, завладела оружием и сейчас допрашивает его, двадцатипятилетнего крутого парня… И он…
Он отвечает на ее вопросы, потому что… Потому что боится. Ее, эту маленькую шлюху. Почему? Шалам понял: он привык, что за ним стоит сила, он привык работать в команде… А эта девка… за ней он чувствовал такую силу, которой не обладал никто, кого он знал. Даже босс.
Алена повернула голову к Насте:
— Уходим. Живо! Теперь тебе оставаться нельзя!
— Алька… Это — ты? — наконец произнесла Настя, оправляясь от шока.
— Ага. Крута, как поросячий хвост. Насть, это жизнь такая. А вообще-то я белая и пушистая.
— Алька… У тебя глаза шальные. Совсем шальные.
— Ошалеешь тут. Значит, так: берешь мелкаш, с ним управляться просто; стреляешь в любого, кто помешает! В любого! Ущучила?
— Аленка… Я не смогу…
— Зато я смогу!
— А с этим что делать? — кивнула Настя на раненого.
— С этим?.. — Аля прищурилась, скомандовала Шаламу:
— В ванную ползком, падаль, живо!
Раненый переполз через порог, Алена закрыла за ним дверь на щеколду, подумала, завалила дубовую вешалку и приперла, как оглоблей.
— Так ненадежнее будет.
— Он там кровью не изойдет?
— Не успеет. — Глянула на Настю. — Готова?
— Как юная пионерка, — хмыкнула Сергеева, но в голосе ее не было никакой уверенности.
— Держи. — Алена передала ей «марголин». Метнулась в комнату, сбросила халат, натянула вельветовые джинсы, свитерок, накинула куртку, не глядя побросала в спортивную сумку вещи. Все это заняло у девушки не больше минуты.
— Так. Прорываемся наверх. Я иду первой. Если что, прострелю клешню уроду на лестнице. А то и обе. Чтобы у него сомнений не возникало: быть или не быть.
Дальше: ты — домой и дожидаешься Женьку. Дверь у тебя — броня, ее и динамитом не открыть. К тому же, если устроим тарарам в подъезде, кто-то из жильцов непременно милицию вызовет. А я — в бега. Через чердак. Позвоню тебе или Женьке по мобильному. Как только смогу. Все. Приготовься.
— Алька, этот сказал, там снайперы на улице.
— На улицу еще выбраться нужно! Пошли!
Крас напрягся сразу, как только услышал сорванный девичий голос: «Стоять, козел». Затем немудреный диалог и — выстрел. Нет, дебил, он дебил всегда. Шалам не оценил реальность угрозы. И — попался. Стон. Значит, ранен. «Настя, обыщи его». Настя? Что это еще за Настя? И все. В динамике грохнуло, и передатчик замолк.
Мужчина поднял к губам мини-рацию:
— Первый вызывает третьего и второго.
— Третий слушает первого.
— Второй слушает первого.
— Подтянитесь к квартире объекта Кукла. Саму Куклу захватить, всех остальных — уничтожить.
— Всех?
— Да.
— Шалама тоже?
— Вы плохо слышите, третий?
— Виноват.
— Вы различили выстрел?
— Что-то хлопнуло, но это могло быть что угодно.
— Это был выстрел. Девка шмаляет, как боец спецназа. Шалам ранен и наверняка обезоружен. У него ствол, 45-й калибр. Сейчас он у Куклы. В квартиру не лезьте, чтобы не нарваться; дождитесь, когда выйдет. Она обязательно выйдет, деваться ей некуда. И еще… — Мужчина помедлил. — Будьте внимательны. Очень внимательны.
Сдается мне, все очень непросто. Выполнять.
— Есть.
Все очень непросто… Голос этой девчонки… Или его тембр?.. Где-то он его слышал. Давно. Очень давно.
Бред. Этой целке всего восемнадцать. И он, Крас, просто не мог ее нигде раньше ни видеть, ни слышать. Но голос… Он очень похож на чей-то… Слышанный мельком, но в какой-то напряженной ситуации… Черт. Не вспомнить. Если это вообще не паранойя. Черт. Кто эта девка, кто за ней стоит, кто ее играет?! Сама?
Черт, черт, черт!
Джипы влетели во двор на хорошей скорости. Так быстро, что мужчина не успел пригнуться. Фары высветили его застывший на переднем сиденье силуэт. Обе машины проскочили мимо. А вот третья… Она подкатила вплотную, раскрылись дверцы.
Мужчина выхватил пистолет, дважды выстрелил в тонированное стекло джипа и мгновенно, с поразительным для его комплекции проворством нырнул под рулевое колесо, успев открыть переднюю дверцу. Ответные выстрелы грохнули густо, стекла посыпались. Крас, кажется, физически ощущал, как пули впиваются в импортную обшивку салона.
.Взрыв прогремел гулко, отраженный стенами стоявших четырехугольником домов.
Пламя плясало где-то сзади. Крас выполз из машины, перекатился в тень деревьев, выстрелил наугад, переполз и ринулся прочь. Он успел увидеть, как замешкались боевики у двух джипов: упал один, второй. Славно. Снайпер — великолепное оружие, если он воюет на твоей стороне. Даже хорошо подготовленный противник чувствует себя обложенным волком, на которого охотятся с вертолета.
Крас проскочил через дорогу, миновал два проходных двора, сбросил плащ и побежал.
Двор за окном осветился фарами автомобилей, мчавшихся на большой скорости. Визг тормозов. Настя не удержалась, выглянула: два джипа въехали во двор и остановились у подъезда. Третий попытался блокировать стоявшую на выезде в тени деревьев «вольво»… Вспышка еще. Грохот выстрелов из третьего джипа и…
Черный, с затененными стеклами «чероки» будто, приподняло на месте, алое пламя метнулось из бензобака, и автомобиль рванул! Оторванная дверца в наступившей после взрыва тишине с лязгом упала на асфальт. Из двух джипов у подъезда высыпали боевики. Один словно споткнулся, чуть приподнялся на носках и упал ничком. Другой — следом, только неловко, как-то боком…
Алена уже стояла рядом с Настей.
— Алька… — прошептала тихо Настя. — Да там война настоящая…
— Как говаривал Наполеон, неизбежная война всегда справедлива.
— Думаешь?..
— Да некогда уже думать! На войне как на войне! Пошли!
В подъезде было темно. Совсем. Аля поступила правильно: сначала осторожно заглянула в глазок, не увидев свет, выключила весь свет в квартире, глаза привыкли к темноте. Извлекла из комода две завалявшиеся там китайские петарды.
Подожгла запалы. Забросила сумку с вещами за спину. Спросила Настю шепотом:
— Готова?
— Да.
Осторожно, стараясь не шуметь, открыла дверь в коридор, зажмурилась и с размаху запустила туда карнавальные снаряды. Грохот, вспышки; Алена первой выскочила на площадку в наступившую разом темень; заметила, будто какая-то тень метнулась на площадку выше, ринулась следом… пока этот ослеплен вспышкой, у нее в темном подъезде преимущество: ей казалось, что она видит сейчас все, будто дикая кошка.
Внизу хлопнула входная дверь, грохнули выстрелы; нервы у того, кто побежал наверх, оказались слабее: вспышка выстрела, брызнувшая во все стороны у нее над головой известка — все это происходило для девушки как при замедленной киносъемке. Аля направила ствол крупнокалиберного «малыша» на вспышку и плавно спустила курок. Руку подбросило вверх вправо, девушка замерла; услышала, как тяжелый металлический предмет гулко упал на бетон, не чувствуя ног побежала наверх. Наклонилась, подобрала чужой пистолет с длинным хоботом глушителя.
Крупное, лежащее в неудобной позе тело было похоже на выброшенный матрас; оно перегораживало путь, вокруг головы — темное пятно; еще девушка отметила, но как-то машинально, что правой стороны у этой головы будто нет вовсе. Аля перескочила через труп, словно через груду тряпья. Оглянулась. Настя замешкалась внизу.
— Быстрее! — крикнула девушка и не узнала своего голоса.
Подруга двинулась наверх. Грохочущие снизу шаги заставляли ее поторапливаться.
Едва не запнулась о лежащее тело, перескочила. Вбежали на четвертый.
— Открывай, живо! — скомандовала Аля, двумя руками сжимая пистолет, страхуя лестницу.
Настя открыла тяжелую дверь, ухватила девушку:
— Алька, со мной, в квартиру!
— Нет! Убьют обеих! Думай об Олежке! — толкнула подругу в глубь квартиры и грохнула бронированной дверью, услышав, как щелкнул автоматический замок.
Развернулась. Подняла чужой пистолет. Быстро отвинтила глушитель. Шаги спешили наверх. Преследователи были этажом ниже. Заслышав металлические звуки, замерли там, на площадке. Никуда не целясь, девушка нажала спусковой крючок. Еще.
Подъезд наполнился грохотом. Пули в темноте искрами чиркали о металлические прутья, с противным воем неслись куда-то, чмокали в штукатурку. Пистолет в ее руках плясал как бешеный, пока не застыл с откинутой назад рамкой. Девушка выпустила его из рук, и он грохнулся о бетон. Мягко поднялась еще на этаж, взобралась по лесенке; дверь на чердак, как всегда, была закрыта на проволоку.
Развинтила. Подняла тяжелую дверцу, прислушалась: в подъезде было тихо. Совсем тихо. Юркнула на чердак. Уже там услышала вой сирен и заметила проблески голубых маячков. Через слуховое оконце взобралась на крышку. Пробежала, скользя кроссовками, к четвертому оконцу. Набралась смелости, глянула вниз.
Милицейские машины, целых три, воя, въехали во. двор, освещая все вокруг неровным голубым мерцанием.
Оба джипа, один за другим, устремились прочь через вторые ворота. Им никто не помешал; Аля вообще удивилась, что милиция приехала так рано: обычно они появляются уже после разборок, давая сторонам возможность забрать раненых.
Видать, грохот стоял нешуточный, или в каком-то из домов живет кто-то ихний, из начальства. Но нарываться на пулю никто из служивых не спешил.
Аля только фиксировала происходящее и ни о чем не думала. Мысль пойти и сдаться родной милиции ей даже в голову не пришла: законопатят в какой-нибудь специнтернат, а то и в психушку!
Девушка вернулась на чердак, аккуратно спустилась в проем люка: в крайнем подъезде двери у чердака не было вовсе. Легонько сбежала по ступенькам.
Выглянула. Менты суетились у догорающего джипа. Они вдруг стали смелыми: во дворе объявились аж две решетчатые машины, из которых попрыгали бравые парни-омоновцы и с автоматами на изготовку побежали по всем подъездам дома; другие — рыскали по двору. Аля перевела дух. Тряхнула волосами так, что они рассыпались по плечам. Спокойно вышла и двинулась к лазу в бетонном заборчике.
— Эй! — крикнул ей кто-то. — Стоять!
Она оглянулась. К ней лениво двигался парень в камуфляже. Он разглядел, что перед ним девчонка, опустил автомат стволом вниз.
— Дяденька, у меня тут кошка потерялась, Мурка! — сказала она громко. — Пропадет, жалко!
— А ну, марш домой! — гаркнул парень. — Живо!
— Я щас, я мигом! — произнесла девушка, наклонилась, забросила в дырку сумку, потом юркнула сама. Быстро сбежала с горки в тень деревьев и понеслась стремглав, словно полетела.
— Эй, девка! — крикнул омоновец, просунув голову в лаз. Сам он пролезть туда не смог бы и без бронежилета. Да и… Малахольные все стали! И куда ее предки смотрят? Тут такая стрельба, а эта — кошку ищет… Хотя… Может, это и хорошо?
Додумать эту мысль он не успел. В голове что-то разорвалось, и парень боком упал. Маленький, будто подросток, человечек юркнул в лаз, спустился с горки.
Издалека заметил удаляющуюся девчонку и побежал следом. Скоро и бесшумно, словно тень.
А девчонка неслась в ночь и хотела лишь одного: пропасть в этой ночи, раствориться в ней, исчезнуть, чтобы ее уже не нашел никто и никогда.
Через четверть часа Крас был в полукилометре от места схватки. Выскочив из двора, прямо перед собой увидел автобус. Вскочил в него. Нет, он не трус. Просто из любой ловушки есть только одно спасение — бегство. Проехал девять остановок.
Усмехнулся про себя. Был двенадцатый час. Пассажиров в автобусе — не больше пятнадцати человек. Подгулявшие семьянины, возвращающиеся в «лоно супружества» в изрядном подпитии, две некрасивые тетки, семья с ребенком… Словно он, Крас, переместился не только в пространстве, но и во времени… Там — огонь, стрельба, проблемы, здесь… Здесь движение по маршруту. Людям только кажется, что живут они в одном времени, на самом деле — в разных. И свое время каждый себе выбирает сам.
Мужчина сошел почти на конечной, на самой окраине города. Перешел на другую сторону, проголосовал. К обочине припарковался первый же «грач» на стареньком «москвичонке». Окинул цепким взглядом возможного пассажира. Приоткрыл дверцу:
— Далеко едем, уважаемый?
— Улица Щербатова.
— Неблизко.
— Не обижу.
— Сороковник.
— Идет.
«Москвичек» набрал скорость. Крас сидел откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза, ощущая навалившуюся вдруг усталость. Итак, сработал самый дурной, самый непредсказуемый вариант. Вариант "2". Девка — подставная пешка в неведомой комбинации. Вот только.. Вот только где она научилась так стрелять?! И еще — голос. Голос знаком, в этом нет сомнения, только где и когда он. Крас, его слышал? Или он просто неумело моделирует ситуацию, и усталая память играет с ним злые, неумные шутки? Все может быть. Славно лишь одно. Против работают, и пропажа товара не есть результат его неряшливости или недоработки…
Ответственность другая. И прерогатива другого лица. Да и раз уж началась стрельба из всех видов автоматического оружия… Это война. Кто ее ведет против них? Служба безопасности? Местные «папы»? Пусть разбирается Лир. Как говаривал старик Ницше, хорошая война оправдывает всякое дело. А дело каждый себе выбирает сам. Как и время.
Глава 11
Позывной мобильного прозвучал скоро и требовательно. Автархан поднес трубку к уху.
— Снегов.
— Слушаю.
— Засада.
— Где ты теперь?
— В пути. У нас потери. Четверо убитых, трое раненых и обожженные.
— Это серьезно. Как скоро доберешься?
— Через двадцать — двадцать пять минут, если приключений больше не будет.
— Обойдись без них.
— Возможно, опустят усиление. Но мы успеем.
— Кто-то убит из ментов?
— Нет. Но каша крутая заварилась.
— Жду.
Автархан поморщился. Поспать сегодня не удастся. Совсем наоборот, будут проблемы. И их придется решать. Если менты действительно решат «поиграть мускулами» и введут план «Невод» или «Гарпун», всем придется несладко. И тогда Автархану нужно будет внятно объяснить Бене и Кондрату, что произошло. Если…
Если, конечно, все это не придумано одним из них. Хотя город и велик, империя всегда лучше, чем триумвират. Это понимает Кондрат, это понимает Беня, это понимает и он, Автархан.
Мужчина встал, вышел из комнаты, спустился вниз. Пожилой уже человек, мощный, высокий, встал из кресла ему навстречу:
— Что-то плохо выглядишь, Порфирьич.
— Старею. Тимофеич, сообрази мне чифирьку. Как ты Можешь. И сам могу, и братва учена, а как у тебя — ни у кого не выходит.
— Сделаю. Что, молодежь опять что набедокурила?
— Не спрашивай.
— Да я не к тому.
— Ты-то чего не спишь?
— Сам знаешь, Порфирьич, бессонница.
— И днем не спишь. Может, тебе снотворных хороших достать?
— Баловство это.
— Ты, старый, говорят, на церковь денег немерено перевел? А, Тимофеич?
— Годы такие. Надо о душе подумать.
— Да я не в упрек.
— Понимаю.
В ворота засигналили.
— Вона, легки на помине твои станишники, — отозвался Тимофеич. — Пойду отопру.
— Там есть кому.
— Это верно. Лады. Чифирек на костерке сварганю, по-хорошему.
— Я пришлю паренька.
— Давай.
Автархан поднялся к себе. Поговорить с Тимофеичем — это и был отдых. Тимофеич был старше Автархана лет на двадцать; грехов за ним как шелков, да и погоняло было под стать: Малюта. А вот поди ж ты! Пришло к нему вдруг какое-то спокойствие, словно ничего уже с ним произойти не может. Хуже того, что уже было Старик потерял сон. Совсем. Но не выглядел изможденным. Постоянно что-то читает.
Тюремная привычка: не в столь уж давние времена воры сиживали подолгу и успевали прочесть всю классику. Теперь старик ударился в философию. К жизни он и всегда относился со странной отрешенностью: она была, казалось, ему совсем недорога, и, как бывает в таких случаях, судьба берегла его. Или рок?
При усадьбе Автархана Малюта жил вроде как на пенсионе; молодые, гордые своей крутизной, относились к старику как к безобидному чудаку, осколку давно канувшего прошлого. Но Автархан знал: Малюта — это на крайний случай, на самый крайний. Его преданность ему, Автархану, была безграничной; в их мире он знал все и всех, и притом, если Автархану понадобится, старик выйдет на любого зверя и возьмет его. Не силой, так опытом. На куски изрубит и собакам скормит.
Автархан поднялся к себе. Пацан принес кружку с чифирем. Почти сразу следом вошел Снегов. Не остывший от азарта, встревоженный.
Мужчина понял его состояние, произнес спокойно:
— Только не торопись. Люди не столько делают, сколько решают. Если решение неверное, все дела — псу под хвост. А нам этого нельзя. Мы никуда не торопимся.
Рассказывай спокойно. Выпьешь?
— Да.
Снегов встал, подошел к бару, налил себе глоток «Курвуазье», вдохнул аромат, медленно, не торопясь выпил. Постоял, смакуя вкус, вернулся к столу.
— Вот это французы умеют. — Закурил сигарету, выдохнул дым. — Я готов.
— Излагай.
— Рассказывать особо нечего. Въехали во двор, он там проходной, но большой, старый, литерные дома, сталинки послевоенные. Две машины пошли к подъезду. Я во второй. В уголке, под деревцами, «вольво» томится. Фары высветили — мужик за рулем. Чего сидит по эту пору? Я приказал братве: разберитесь. Третий джип, там были Карпуха, Соня, Слон и Киса, рванул к автомобилю. Блокировали. А мы уже у подъезда.
Сначала непонятка, мы не заметили: из «вольво» из «тишака» пальнули. Мы напряглись, когда пацаны уже в три ствола ту «вольво» полоскали… Как выяснилось потом, Соню сразу наповал, Карпуху зацепило крепко. Вот пацаны и развязались. Но ненадолго. «Чероки» на воздух взлетел.
— Гранатомет?
— Нет. Пуля в бензобак. Бронебойно-зажигательная. Откуда эта птичка залетела, определить — никак. Мы высыпали из машин. И тут Карпа — наповал, в голову.
Следом — Сему Маленького. Снайпер работал. Черт!
— Не нервничай, Сережа.
— Я не нервничаю. Только… Когда они успели засаду выставить?
— Это потом. Дальше.
— Дальше. А что дальше? Когда снайпер работает, да еще из тихого ствола. Пацаны растерялись. Я скомандовал: в подъезд, телку брать. Братва в подъезд ломанулась, и злые уже как черти, заведенные. Подымаемся на пол-этажа, а в подъезде — темень лютая; наверху, на втором! что-то ба-бах! И во вспышке этой — фигура стоит.
Пацаны, не примериваясь, из двух «калашей» полоснули. Но тот успел шмальнуть.
Сереге Карому маслину в лобешник загнал. Без вопросов. Понятно, этого стрелка очередями на куски порубили. Я — наверх, Калека и Бутик — за мной. Там тоже выстрелы. Потом стихло. Потом девка кричит что-то другой. Торопиться ребята не стали: уж очень пули густо летали. Я их и не торопил: два ствола в обе руки и сам рванул. Через мужика перешагнул, кто-то его только-только свалил, теплый. На четвертом вроде дверь грохнула, я как раз поднимался, и тут… Стрельба как на полигоне! Залег. Вокруг пули как шмели; от перил рикошетят, от дверей стальных.
Как не зацепило — сам не знаю!
Тут говорильник запищал, Андрюха Деверь, что на вассере остался, сообщает; мусора. Да клал бы я на мусоров, только он добавил: и две машины ОМОНа подтягиваются. Ну, бля! С этими уродами в такой ситуации…! Думаю, положат всех из «калашей», как бобиков, и фамилию не спросят. Велел пацанам: уходим. Ушли.
Слава Богу, снайпера уже не было. Ушли чисто. Пока мы по подъезду танцевали, пацаны раненых подобрали. С «чероки» номера успели убрать. Да, номер «вольво» я срисовал, только, думаю, без толку это, раз такие гнилые расклады. — Снегов прикурил сигарету от бычка, закончил:
— Такие дела…
Автархан сидел недвижно, закаменев лицом. Только произнес:
— Да. Дела. Еще выпьешь?
— Нет.
— Надо выпить. Тебе надо. Снегов пожал плечами. Подошел к шкафу.
— Водки полстакана, сразу, — посоветовал Автархан. Сергей налил, маханул, облизал губы. Выругался.
— Теперь присаживайся. Поразмыслим. — Немного! помедлил, спросил:
— Сам-то что думаешь? По горячему?
— Дурак я. Чего теперь-то думать? Столько пацанов!
— Всяко бывает. А думать… думать невредно никогда. Хотя ты прав, порой поздно.
Нам с тобой пока не поздно. Пока. Ты понял?
— Извините. — Снегов тряхнул головой, собрался. — Я понял.
Глава 12
Автархан думал. О том, что теперь непременно придется известить Беню и Кондрата.
Как и о том, что им придется выложить не только всю правду, но и факты. Которых нет.
Решить все одним рывком не получилось. Снегов с парнями нарвался на засаду. И чтобы выяснить, кто стоит за рюкзаком героина, необходимо хоть что-то знать.
Кое-что есть, но это — слезы. Пока Снегов катался, Автархану принесли результаты анализа зелья. Героин невероятно высокой, бесподобной степени очистки. Он снова входит в моду. Особенно на Западе. И в Штатах. А это означает… В рознице три с лишним килограмма такого товара будет стоить миллион. Что это еще означает?
Только одно: те, что произвели этот товар, готовились переправить его на Запад.
Они работают не одни. Княжинск для них — или только место транзита, или… Или место переработки сырья. И делиться они не хотят. Ни с кем. Ну что ж… Это можно понять. Кто захочет делить такой куш? Никто.
И эти ребята не воры. Не законники. Они похерили все понятия, работая на чужой территории. Ни один законник так делать бы не стал. Опасно: концов потом не развести даже на толковище.
Вывод: необходимо найти лабораторию и исполнителей. Свои каналы на Запад он, Автархан, разыщет. Наркотики — очень хороший бизнес. Упускать его неразумно.
Конечно, потери… И уже есть, и еще будут. Ну да без потерь не бывает. Потери спишутся. Такова жизнь. И еще: нужно найти головку. Тех, что руководят. Это сложно, но осуществимо. И списать всех. Без этого чувствовать себя спокойно нельзя.
И конец от этого клубочка пока один. Девчонка. Глебова Елена Игоревна, 1980 года рождения. Или около того. Вот именно. Около того.
Автархану принесли все, что удалось накопать на эту пацанку. Глебова Елена Игоревна. Родители неизвестны. Фамилию и отчество дали в детдоме. Какой-то провинциальный городок в России. Возраст. Записано: семнадцать лет. Что еще? Вот это интересно: мастер спорта по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета.
Входит в юниорскую сборную.
Стройна, очень хороша собой. Хотя не красавица в принятом смысле. На жизнь зарабатывает моделью. Совсем немного. Плюс стипендия от спорта. Тоже невеликая.
Живет одна. В четырнадцатилетнем возрасте была взята из детдома Николаевой Вероникой Павловной и привезена в Княжинск. Веронике Павловне никакой родней не приходится. Бабулька девочку удочерила: бумаги оформили необычайно скоро.
Почему? Ага! Николаева работала в райсобесе и когда-то в паспортном столе. Все свои, пошли навстречу. А затем бабульке это было нужно? Чтобы не быть одинокой?
Или она пристраивала девочку для кого-то? Или для чего-то? Любопытно… Свой трудовой путь Николаева начинала в МГБ. В сорок шестом году.
Нет! Тут сам дьявол ногу сломит! При чем здесь сорок шестой год? Пустое мудрствование. А всякое пустое мудрствование от лукавого. Хотя… Еще такой вариант: девку подставили ему намеренно. Отдел по борьбе с оргпреступностью или служба безопасности. Правдоподобно? Нет. Девчонку могли, а вот три кило героина — вряд ли. Они ведь потеряли его, совсем. За это по головке не погладят. Могут полететь не только погоны с оперов, но и папахи. А своими папахами генералы дорожат куда больше, чем чужими головами. Факт.
Пока одно ясно как день: девчонка — единственное известное звено цепочки.
Поэтому ее нужно найти. Чего бы это ни стоило. И — как можно быстрее. Размножить фотографию, напрячь всех барменов, таксистов, «грачей», квартиросдатчиков, прирученных мусорков. Всех, кого возможно. И невозможно. Главное — найти девку быстрее. Чутье подсказывало, что в этом деле все решит время.
Автархан поднял трубку телефона и отдал необходимые распоряжения. Глянул на часы. Около двенадцати. Да, теперь все решит время. А время каждый выбирает сам.
* * *
Крас оказался дома около двенадцати. Вернее, в том месте, где он жил в этом городе. Седьмой этаж двенадцатиэтажки, «скромная» четырехкомнатная с холлом и двумя лоджиями. Над лоджией была намертво прибита вошедшая в моду спутниковая тарелка-индивидуалка. Вот только работала она не только на прием, но и на передачу.
Мужчина замкнул за собой массивную, бронированную дверь, задвинул литой засов.
Прошел в кухню, вынул из холодильника початую бутылку коньяку, налил в граненый стаканчик, выпил, поморщился, повторил. Дождался, пока умиротворенное тепло разольется по телу… Сел в кресло, закурил. Почувствовал, как ласковая волна коснулась мозга, сглаживая очертания комнаты и расслабляя натянутые, будто тетива лука, нервы… Вот так, хорошо. Все хорошо. И будет очень хорошо.
Встал, пошел было в другую комнату, но задержался у зеркала. На него смотрел моложавый, крупный, хорошо одетый мужчина. Никакого шрама. Только если приглядеться, если очень приглядеться. Если знать. Он хотел уже отойти от зеркала, как вдруг вспомнилось из Андрея Белого: "Может быть, я и был красив…
Слишком. На грани безобразия. И это я уже… чувствовал… урод уже проглядывал сквозь красавца, истерически ломаясь и хихикая".
Черт! Забыть об этом! Забыть! Чертова девка! Мужчина представил ее снова, нагую, связанную, беззащитную… Нужно было… Нужно было еще там, в «Юбилейном», ее кончить и положить рядом с Диной! Тогда бы не было этого щемящего чувства, будто бы она располосовала ему лицо! Или такая, как она, жалкая, чувственная сучонка!
Все они суки, всех их надо лечить одним лекарством — плетью. И не ласковой, сплетенной из шелка веревочкой, которую так любят мазохистки, а настоящей плетью, нагайкой, разрывающей нежную девичью кожу, срывающей хлестким ударом куски плоти, красящей этих похотливых шлюх в цвет, который они так любят, — цвет крови… Черт!
Крас вернулся на кухню, взял бутылку, налил себе полный хрущевский, жадно заглотал, дергая кадыком, но остановился, не допив половину. Нет. Так нельзя.
Нужно «разобрать полеты». И еще — предстоял разговор с Лиром. Да. Это главное.
Разговор с Лиром. На него нужно настроиться.
А пока — дела текущие…
Крас прошел в другую комнату. Аппарат, стоявший под столом, был довольно компактен. Мужчина набрал простенький шифр; включил позывной. Увидев, что зажглась зеленая лампочка, произнес в трубку:
— Я — первый, вызываю второго, третьего, четвертого, пятого…
— Второй слышит первого.
— Третий слышит первого.
— Шестой слышит первого.
— Докладывайте.
— Я — второй. Открывать огонь без приказа не собирался. Но как только джип блокировал вашу машину, заметил вспышки выстрелов и открыл огонь по автомобилю на уничтожение.
Второй замолчал, ожидая оценки своих действий.
— Вы поступили правильно, — коротко бросил Крас.
— После взрыва открыл огонь на уничтожение по объектам у первой и второй машин, — продолжил тот. — Результативно. Был предупрежден Наблюдателем о приближении патрульных машин ППС. Штатный вариант ухода. Сейчас на объекте "С". Все прошло чисто. Жду указаний.
— Вас понял, второй. Готовность по варианту "М".
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
— Я — третий. В моем секторе ничего не произошло. Получив сообщение Наблюдателя, провел штатный вариант ухода. Сейчас на объекте "В". Все прошло чисто. Жду указаний.
— Вас понял, третий. Готовность по варианту "М".
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
— Я — шестой. Никаких посторонних звонков или переговоров по номеру объекта не зафиксировано. Разговоры в оперативном эфире записаны… э-э-э… по мере возможности.
— Что значит — по мере возможности?
— Аппаратурка слабенькая. У тех ребят, что подрулили на джипах, уровень зашиты переговоров выше, чем… Пробить его на имеющейся аппаратуре не удалось.
— Понял. Дальше.
— Все. Сейчас на объекте "А". Жду указаний. — Готовность по варианту "1".
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
Крас задал нужную волну, подождал, пока передатчик автоматически подстроится.
Как только зажглась зеленая лампочка, произнес:
— Первый вызывает Наблюдателя.
— Наблюдатель слушает первого.
— Докладывайте. Главное, что с объектом Кукла?
— Объект контролирую.
Мужчина почувствовал себя так, будто с ног его сняли пудовую гирю. Или тазик с цементом. В каком-то гангстерском боевике он видел: мафиози топили своих коллег, предавших или просто перешедших дорогу главарю, в океане, предварительно побеседовав с пристрастием или беспристрастием… Потом связанному, сидяшему на стуле человеку ставили ноги в тазик, заливали цементом и ждали, пока застынет.
Час, другой, третий… Изощреннее казни не выдумали даже китайцы!
Шло время, с приговоренным мило беседовали, даже шутили, предлагали виски или сигарету, вспоминали об общих женщинах… А он ждал. Ждал! Нет, не того, когда застынет цемент! Он ждал, что Дик, Пол или Глен, с которым и выпивали, и одних баб трахали, и с фэбээровцами стрелялись из «томпсонов», вдруг… простит.
Отменит приказ. Простит…
И даже когда уже выволакивали из теплой, уютной каюты богатой яхты, и когда тащили к борту, и когда ставили на самом краю — надеялся: сейчас, сейчас! Пока палач не подталкивал тихонько тяжеленький тазик… И тогда — дикий, нечеловеческий крик рвался из горла, чтобы разом захлебнуться в соленой, режущей, как пила, воде, разрывавшей легкие…
…Это не воспоминание даже, представление мелькнуло в голове Краса за долю секунды; он почувствовал, что промок насквозь от пробившего его разом горячего пота… Прохрипел:
— Где она?
— На юго-востоке города. Бегает как газель. Еле угнался. Мужчина отвернулся от микрофона, несколько раз глубоко вздохнул, стараясь выровнять дыхание.
— Хорошо, Наблюдатель. Докладывайте по порядку. Больше ничего обнадеживающего человек Красу не сообщил. Что произошло со вторым и третьим, что с Шаламом…
Хорошо, хоть не потерял девчонку. Это козырь. Если и не в игре, то в разговоре с Лиром точно.
— Вызови автомобиль.
— Уже сделал.
— Ты сможешь повязать девку? Наблюдатель помедлил.
— По обстоятельствам. — Снова помедлил, произнес:
— Она не так проста.
— Это я уже понял. Хорошо. Главное — удержи ее под наблюдением. Любой ценой. До связи.
— Есть.
Наблюдатель отключился.
Крас закурил, задумался. Итак, четвертый и пятый на связь не вышли. И сведений о них Наблюдатель не дал никаких. Или убиты, или… Второе хуже. Много хуже. И еще — Шалам. Если его захватили органы, да еще простреленного… Они вполне могут найти способ его разговорить. А это совсем скверно. Дьявол! Как плохо работать со связанными руками! В Москве он, Крас, уже отдал бы необходимые распоряжения, и Шалама не стало бы в течение часа. До того, как он сможет сказать хоть что-то.
А здесь… Ладно. И это теперь забота Лира.
Крас вышел, походил по комнате, настраиваясь на разговор. Лир — человек слишком серьезный, чтобы ему врать. Фальшь он чувствует как дирижер неверно взятую ноту.
Нужно взять ту ноту, которую он оценит.
Мужчина сел в кресло, спокойно, не торопясь, выкурил сигарету. Он был совершенно спокоен. Сел за компьютер. Кратко изложил все, что произошло. Отбил: «Оценка».
Подумал. Да, это вернее всего. Вариант "2". Это Лир поймет лучше и быстрее, чем что-либо другое.
Перечел написанное. Можно было бы лучше. Но не нужно.
Включил наивысший уровень защиты: если это сообщение и перехватят, расшифровать его смогут лет через сто.
А сто лет — это век. Другой. Кому тогда это будет нужно и зачем, неведомо.
Набрал необходимые шифры, дождался, когда зажжется зеленая лампочка, и нажал «ввод». Система выстрелила сжатый до микросекунды сигнал в ясное ночное небо.
Прошло десять минут. Пятнадцать. Двадцать. Неожиданно вдруг Крас снова почувствовал себя так, будто ноги ему уже обложили цементом… А что, если Лир не выйдет на связь с ним; что, если он уже отдал фатальный приказ, и через несколько часов — или минут? — появятся некие люди и… О, легкой смерти от Лира ожидать не приходится.
Когда прозвучал зуммер вызова, Крас снова весь покрылся потом, будто в сауне.
Поднял трубку:
— Крас.
— Лир. Ну здравствуй, Красавчик. При этом слове мужчину передернуло, но он только плотнее сжал губы.
— Прочел твой опус. И знаешь, что я тебе скажу, как писатель писателю?
— Я слушаю, Лир.
— Уж очень у тебя все складно. Прямо разработка совбеза, да и только. А попроще глянуть?
— Я попытался изложить только факты…
— И удобную для тебя версию. А, Красавчик? Не слышу!
— Я старался быть максимально объективным.
— Ладно… — металлически прозвучало в трубке. — Все это словеса. Пустой звук.
Метафизика. Буду завтра сам. Если упустишь концы — твоя печаль. Понять мне это будет сложно. А простить и вовсе нельзя. Ты понял?
— Я понял, Лир.
— А вот это хорошо. Ну да ты всегда отличался сообразительностью. Когда речь шла о смерти. О твоей смерти, Крас. — Человек на том конце провода замолчал. Наконец в трубке прозвучало:
— Жди.
— Вас встретить, Лир?
— Не маленький. О себе позаботься, Кра-сав-чик! И об этой крале… Глебовой Елене Игоревне… Лучше всего, если она уже будет на объекте "А" дожидаться нашей с ней беседы… Да, Красавчик! И не вздумай с ней экспериментировать, как ты любишь! Иначе это будет твой последний эксперимент в интимной сфере… Нечем будет опыты проводить, Фарадей… — Голос заскрипел словно ножом водили по ржавому железу, и Крас догадался: Лир так смеется.
Связь прервалась.
Мужчина перевел дух. Прошел на кухню, налил коньяку в стакан до самых краев и выпил, умудрившись не пролить ни капли. Присел на табурет, чувствуя, как блаженное отупение обволакивает мозг.
Да. Теперь оставалось ждать. Только ждать. Потому что… Лир есть Лир. Наступило время иных приоритетов и иных действий. Сейчас ему нужно только одно: подумать, как выжить в этом новом времени.
Глава 13
Сколько времени она бежала, куда, зачем, Аля совершенно не понимала. Как не понимала, где теперь находится. Остановилась только в безымянном скверике, где было абсолютно темно. Не скверик даже, бывший сад со сгоревшей танцплощадкой, огороженный неким подобием забора. Видно, кто-то решил использовать место под стройку, да пока не находилось или времени, или денег, или того и другого.
Девушка набрела на остатки лавочки, присела, вздрогнула разом: ей показалось, что там, в темноте, кто-то стоит. Ватное, похожее на матрас тело того, кого она… застрелила. За-стре-ли-ла. Убила. Насмерть.
Тошнота накатила внезапно, как припадок. Алю вывернуло наизнанку, она стояла на четвереньках, а желудок все сводило и сводило судорогой. Девушка подвывала, как маленький бездомный щенок, потом повалилась боком на землю, свернулась клубком.
Теперь ее била истерика. Она кусала землю, царапала ее, кричала в голос, но все звуки терялись в лабиринтах брошенного людьми сада. Как и она сама.
Потом начался кашель. Наверное, слюна попала в дыхательное горло или земля, и Аля судорожно пыталась выплюнуть эту грязную слизь. Желудок снова свело, и она почувствовала внезапно, вдруг, нет, не облегчение — безразличие. Ко всему этому жестокому миру, к своему пребыванию в нем, к себе самой.
Словно все происходило не с нею, сознание регистрировало это происходящее как бы со стороны, оценивая только создавшуюся ситуацию; душа спала и не искала выхода из этого сна.
То, что произошло, вдруг показалось ей приснившимся. Темный подъезд, вспышки выстрелов, запорошившая ее известка, лежащее недвижно на ступеньках тело… Это было, но не сегодня, не с ней…
Девушка огляделась. Метрах в ста, сразу за садом, стоял дом. Темный двор, спящие окна. И никому до нее нет дела. Никакого дела. Она так жила всю жизнь. А если появлялись люди, которые ее любили или просто относились к ней по-доброму, они умирали. Почему так? И зачем так жить? И стоит ли?
Ей было совершенно безразлично, что будет с ней дальше. И будет ли вообще.
Странно… Как только она, казалось, вошла в этот мир, мир подиума, мир, полный сверкающих одеяний, респектабельных мужчин, уверенных в себе женщин, как жизнь сыграла с ней шутку… Очень злую шутку… Или она совсем не нужна этой жизни, она лишняя?.. И вместо того, чтобы уйти, цепляется, мечется, чего-то хочет, на что-то надеется… Надежда умирает последней? Вот уж нет. Надежд у нее не было никаких. Ни на кого и ни на что.
И еще… Ей вдруг почудился запах земляники. И леса. Запах хвои, запах перепрелых листьев, запах близкой земли и будущего, скорого снега… Она это чувствовала так близко и реально!.. И что еще? Вспышки выстрелов, темная, безлунная ночь… Какая-то трава путается в ногах, а она бежит, бежит, бежит…
А потом — огонь. Но не тот, который греет, — огонь уничтожающий и пожирающий, с желтыми звериными зрачками, огонь страшный. И еще лицо. То самое лицо, со шрамом, похожее и непохожее… Языки пламени пляшут в черных, как бездна, зрачках, человек со шрамом указывает на нее пальцем, кричит что-то, она этого не слышит… Совсем не слышит… Бежит со всех ног, путается в высокой траве, стебли больно хлещут ее по лицу, она падает и замирает. Пропало все. Те, кто ее преследовал, тоже… Только лес. И запах хвои. И запах земляничного листа, и травинка, щекочущая ей ноздри, и плюшевый медвежонок, прижатый к груди…
Аля подняла голову, в страхе огляделась по сторонам. Нет, все то же: запущенный сад, дом с пустыми глазницами окон… Ночь. Холодная, стылая. Тогда было теплее.
Стоп! Когда — тогда? Или она действительно сходит с ума? Как ее пытались убедить в этом там, в психушке, когда она, как дура, рассказала свои видения заведующему отделением. Он слушал внимательно, сочувственно кивал, запуская пятерню в бороду… Чистенький, гладкий, с проплешиной, похожий на злого гнома в этом своем белом халате, с пальцами, волосатыми, как у животного… Вот это уже было взаправду, но вспоминать это было неприятно и мерзко. Девушка еще раз тряхнула головой, мир снова словно сфокусировался. Где-то она читала…
Ночь, улица, фонарь, аптека… Бессмысленный и тусклый свет. Пройдет еще хоть четверть века, Все будет так. Исхода нет. Исхода нет… исхода нет…Аля наклонилась к сумке. Вынула пистолет. Просто… Уйти просто… Всего-то нужно — плавно, нежно повести крючок… И потом — ничего. Совсем ничего.
Внезапно она услышала, словно наяву, чей-то смех, говор… И еще — голос. Такой знакомый. «Ехала машина темным лесом за каким-то интересом… А в машине сидела девочка Аля. И у нее был мишка Потап. С виду он был плюшевый, а на самом деле живой и умный. Когда-то злой колдун Карачун набил его опилками и заставил танцевать для потехи…»
— Ехала машина темным лесом за каким-то интересом… Мишка Потап… Злой колдун Карачун… — прошептала девушка одними губами.
Она закрыла глаза, чтобы увидеть лица, но не смогла. Только голоса… Ведь были же у нее мама и папа… Почему, почему она ничего не помнит? И почему жизнь так несправедлива к ней?..
Аля посмотрела на пистолет, зажатый в ее руке… Что на нее нашло такое? Она…
Она чуть не убила себя!
Девушка тряхнула головой, выдохнула. Нашла в сумке сигареты, прикурила. Голова закружилась, но вкус никотина перебил какой-то солено-металлический привкус во рту. Еще раз осмотрела оружие. Отщелкнула обойму. Красивая все-таки игрушка.
Нужно только к ней приноровиться. И еще… Оставить один патрон. Для себя.
Попадать к этому Сиплому живой после всего… Нет! Последний патрон она оставит для него! Но… Где же все-таки она его видела раньше?..
Снова оглядела пустой сад. Какой-то он жуткий. И вовсе не лес. Все, что люди забыли, бросили, будь то дома, сады, погосты, населяют какие-то тени. Совсем не добрые тени. Нелюдь. Нужно уходить отсюда. Немедленно.
Тьма казалась материальной. Девушка встала и пошла туда, где, как ей представлялось, находится шоссе. Шла спокойно. После всего пережитого встреча с каким-нибудь маньяком-мастурбатором показалась бы ей просто-напросто невинной шуткой.
На окраине сада заметила колонку. Старая, ржавая. Но из нее тоненькой струйкой бежала вода. Аля сразу почувствовала, как сухо в горле, будто туда горстями напихали жесткого, как наждак, песка. Она подошла, прополоскала рот, горло, но пить не стала — уж очень привкус болотный! «Не пей из лужицы, козленочком станешь». Потом умылась. Достала косметичку, зеркальце. Казалось, от лица остались одни глаза. Огромные, опушенные густыми ресницами. И губы. Сжаты так плотно, будто она боится сказать что-то невероятно тайное. Если бы так!
Порылась в сумочке. Денег было немного, но достаточно. Вышла на шоссе. Подняла руку. Затормозила первая же машина.
— Куда спешим, красавица? — осведомился веселый и бодрый водитель «жигуленка».
Для него рабочая ночь только начиналась.
— Уже никуда, — спокойно произнесла Аля. — В центр подбросите?
— Такую красотку — даже даром.
— Даром не нужно. Себе дороже станет, — Обижаете, девушка. Разве я похож на сексуального маньяка?
— А разве я похожа на ночную бабочку?
— Вообще-то нет. Забирайся, чего зря стоять. Говорю же: подвезу бесплатно, все равно в центр еду.
Бросил быстрый опытный взгляд на пассажирку, заметил и синеву под глазами, и красные, чуть припухшие веки…
— С парнем поцапалась?
— Ага. И не с одним.
— Не переживай, красавица. Не стоим мы этого.
— Да? А чего стоите?
— Любви.
Девушка сжала плотнее губы:
— А вот в это я не верю. Совсем. Водитель пожал плечами:
— Жизнь длинная. Даст Бог — еще встретишь. Всему свое время.
Автомобиль тронулся, набрал обороты. То, как за ним на почтенном расстоянии двинулся другой, Аля не заметила. Не заметил и водитель. Нажал клавишу магнитофона, и в салоне зазвучала песня:
Для меня нет тебя прекрасней, Но ловлю я твой взор напрасно — Как виденье, неуловимо Каждый день ты проходишь мимо, А я повторяю вновь и вновь:
Не умирай, любовь… Не умирай, любовь… Не умира-а-ай, любовь…
Автомобиль мчался на предельной скорости. Аля смотрела в темное ветровое стекло; время от времени блики неживого люминесцентного света падали на ее лицо. Да. Ей нужно пересидеть эту ночь. Пережить. Но не одной. Нужно туда, где люди. Свет и много людей. Настоящий свет.
— Куда подрулить, лапуля? — отвлек ее водитель от невеселых мыслей. — Центр маленький, особенно на колесах. Свет и много людей…
— К «Валентину».
Ого! — только и произнес водитель, оценив респектабельность места. — Это я зря с тебя деньги не запросил!
— Да есть у меня деньги, расплачусь.
— Не разбираешься ты в людях, барышня. Шучу. На чашку кофе в этом паноптикуме хоть хватит? А то одолжу. Безвозвратно.
— Хватит, — улыбнулась Аля. — И даже на мороженое останется.
— Много не ешь, горло заболит… А ты действительно красивая. Не влетишь? А то — только скажи: к папе с мамой вмиг доставлю.
— Это вряд ли.
— Хозяин барин. А хозяйка в таком случае — барыня.
— Извините… Одна маленькая просьба…
— Да хоть две!
— Можно я… Можно я переоденусь в вашей машине? А то у меня наряд — совсем не для «Валентина».
— Конечно, зайка.
Девушка перебралась на заднее сиденье, стянула джинсы, нашла в сумочке колготки и коротенькую юбку-эластик, надела; кроссовки сменила на туфли. Заметила, что водитель поглядывает на нее в зеркальце. Спросила:
— Ну как?
— Отпад. С такими ногами, милое дитя, можно жить или хорошо, или очень хорошо.
— Мне кажется, вы порой хотите казаться циничнее, чем на самом деле.
— Это я от смущения.
— Вы верите, что я не…
— Верю. Такая красивая девчонка может убедить кого угодно в чем угодно. Если ты скажешь, что земля плоская, то у меня и сомнений никаких не возникнет. Плоская — значит, плоская.
— Нет, правда… Просто… Мне совсем нельзя сейчас домой. — Аля не знала, зачем говорит эти слова. Наверное, потому, что водитель был хороший. И ей хотелось…
Ей хотелось, чтобы она тоже осталась в его памяти не как ресторанная шлюшка… — Мне нужно просто побыть среди людей. Там, где светло.
— Я понимаю, девочка. Не грусти. Все перемелется — мука будет. Удачи.
— И вам тоже. Спасибо.
Аля вышла из машины и направилась к дверям заведения. Водитель вздохнул, щелкнул клавишей магнитофона.
Подумал я вслед — травиночка, Ветер над бездной ревет. Сахарная тростиночка, Кто тебя в бездну столкнет, Чей серп на тебя нацелится, Срежет росто-о-ок… — зазвучало из открытого окна автомобиля. «Жигуленок» развернулся и умчался в ночь.
Девушка шла к освещенному входу так, словно ступала по натянутой над пропастью проволоке. Она не думала ни о чем. Свет — вот что ей сейчас было нужно. Свет, и ничего, кроме света.
Часть вторая ГРУСТНЫЙ СОЛДАТ
Глава 14
Предают только свои. Мысль не новая, но от этого не легче. Или люди просто меняются со временем? Мы продолжаем считать их своими, а это другие. С тем же лицом, с тем же голосом. Ну да… Лицо меняется, а голос почти нет. Сколько бы времени ни прошло. Вот мы и ошибаемся. А люди… Словно их подменили на похожих, на чужих. Странно… Ты нужен людям, когда им плохо. Когда им становится хорошо, им не до тебя. Они тебя избегают. Как заразного. Особенно если тебе не везет.
Или просто невесело. Хотя и это понятно. Всем нравятся богатые, веселые и здоровые. Никому не нужны бедные и грустные. «Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться…»
Нет смысла оставаться… И негде.
Дома он находиться не мог. Вернее, дома у него не было. Так, жилище. Или обиталище. Нечто на «ще». Пепелище.
Два года он жил так. Сотни мелочей здесь напоминали ее, ее прежнюю… И еще то, как он был счастлив когда-то. А хуже всего… Хуже всего, наверное, то, что он уже не сможет любить. Он не сможет любить так, как любил ее. Никого и никогда.
Мужчина без любви — калека. А женщина? Женщина без любви — это даже не женщина, а просто существо никакого рода и никакого племени. Женщина — это или любовь, или никто. И ничто.
Любовь… Исписаны сотни, тысячи, миллионы страниц… «Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно…» Все просто: постепенно она стала другой. Обособленной от него. Чужой. Наверное, ее тяготила его преданность. Или зависимость от него?
Такая вот странная закономерность: люди больше любят тех, кому помогают, чем тех, кто помогает им. Не все, но многие. Слишком многие. Может быть, благодарность кажется им чем-то унизительным? Гордыня бунтует. И ведет человека в омут. В бездну. Сначала… Сначала падение кажется просто яркой, расцвеченной огнями новогодней ледяной горкой, а потом… Снизу, из тьмы, выбраться наверх уже непросто. Особенно если нет ни сил, ни желания. И сотни, тысячи, миллионы индивидуумов остаются там, в самом низу, трактуя свое безволие и трусость как избранность непонятных. И катятся ниже. За край. Туда, откуда вернуться в люди уже нельзя.
Мужчина тряхнул головой. Мысли бежали, будто дрессированные лошадки по кругу…
Все мы — пленники стереотипов. Каждый — своего. Как в той песне?
Кони бывают серые, кони бывают розовые, Кажется, каждый может выбрать по вкусу коня.
Но… кони меняют масти, могут наездника сбросить, А это людей тревожит: его, тебя и меня.
Вот почему кони алые, с огненно-рыжими гривами В дикой степи несутся вольно, без седоков…
Просто нам всем спокойнее, не торопясь, с перерывами, Ехать тихонько по кругу на розовом пони верхом.
Она тогда сказала Гончарову: «Не переживай».
Нужно пе-ре-жить. Перейти через эту жизнь в другую. Какую, он еще не знал, но в другую. Чтобы выжить. Выбери себе жизнь — и живи.
Мужчина наполнил бокал до краев и выпил до дна. Здесь вам не тут, как говаривают комментаторы нашей сорвавшейся с резьбы жизни. Хлобыстать бордо урожая семьдесят второго года фужерами, как воду… Там бы сочли за глупца или в лучшем случае за чудака. Там такую бутылку демонстрируют всем, чтобы, так сказать, предвкушали.
Там…
Да черт с ними и ихним «там»… Многое у них действительно хорошо — хотя бы то, что любая склянка с пойлом выглядит так же красиво, как и на рекламной картинке… А вот по душам поговорить просто не с кем. И не о чем.
Жизнь замкнута рамками карьеры, бейсбола и хобби. Может это и хорошо. Но очень скучно.
У нас… Прямо по писаниям Льва Николаевича Гумилева — пассионарии всех типов и рангов столбят свое место под солнцем. И умирают, скошенные огнем разборок, ранними инфарктами, депрессиями… На их место заступают другие: умные, осторожные, интеллектуальные. «Мы со вторых печатаем портреты, хоть в этом, право, и не их вина…» Все нормально: нужно было встряхнуть этот гниющий муравейник, называемый «развитым социализмом». Встряхнули, как водится, в самом российском варианте. «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Мужчина долил остатки вина, сделал знак официанту. Ни официант, ни метр ничему не удивлялись. Хочется клиенту утолять жажду коллекционным вином по четыреста долларов за бутылочку? Да с нашим удовольствием, да хоть чайными стаканами, да хоть… Вольному — воля!
Официант вырос у столика:
— Еще бордо?
— Водки, — коротко бросил мужчина.
Он все ждал, когда комок в груди хоть как-то рассосется… На это способна только водка. Потом… Потом, когда комок растает, можно брести в свой грустный пустой дом. «Дома ждет холодная постель…» И добрать. Чтобы не было так холодно. Чтобы до полной черноты… Чтобы назавтра проснуться в скудной бездарности нового настоящего и ничего не желать… Нового? В сорок начинать жизнь сначала? Где оно, это начало? Все свое мы носим с собой. Всегда.
— Какую предпочитаете? — Официант открыл карту.
— Выпью-ка я померанцевой… Она полезная, — вспомнил мужчина горьковского Булычева.
Официант продолжал стоять. Мужчина добавил:
— Пол-литра, конечно. Закусить — на ваше усмотрение.
— Копченый угорь, балык, лососина свежайшая, со слезой, икра…
— Давай всего понемногу и компот.
— Что, простите?
— Компот. Из сухофруктов.
Компот из сухофруктов. Его варили в больших котлах и оставляли на ночь на улице: днем стояла жара, а ночи в Афгане холодные; утром компот пили, зачерпывая кружками, — после анаши жажда была зверская, неутоляемая… И еще — компот был с запахом дома. Того, куда хотелось вернуться. Это было важно.
Вернулись только трое. Из тридцати… Все были молоды и хотели жить, но повезло не всем. Так уж устроено: везет не всем, не во всем и не всегда.
— Извините, но из сухофруктов… Можем предложить персики в сиропе, ананасы, ассорти…
— Черт с ней. Неси кока-колу.
— Слушаюсь. Горячее?
— Эскалоп. И много зелени. Только потом. Позже. А пока… — Мужчина улыбнулся невесело. — Помнишь анекдот? Заходят двое в кабак, заказывают семь бутылочек водочки. «А что будете кушать?» — «Вот ее-то, родимую, и будем кушать».
Официант вежливо улыбнулся и исчез. Запотевший графин с померанцевой объявился на столе почти сразу; два блюда, с мясным и рыбным ассорти, тоже. Накатить большую рюмку и предаться буйству плоти. Поедая мясное и рыбное. Бред эта жизнь.
И ничего, кроме бреда.
Года три назад он осознал вдруг: у него нет ничего, кроме денег. Сейчас легче.
Гораздо. Потому что денег нет тоже. И «семейная лодка» не билась ни о какой быт.
Просто времени обратить на него внимание не было. Нужно было работать. Пахать.
Не замечая ни дней, ни ночей. Он и пахал. И тогда все было если не хорошо, то сносно. Все развалилось потом. Когда материальные проблемы ушли. Стало сразу пусто и ясно. Ибо материя вторична.
Просто они перестали понимать друг друга. И начали говорить на разных языках.
Это как китайский и вьетнамский: восточные люди поют. И ритм есть, и мелодия похожа… А языки разные. И говорящие на них не понимают друг друга. Совсем. И не хотят понимать. Такие дела.
А он… Он любил свою жену. И верил. Верил, что все вернется, что она станет вновь такой, каких сейчас не бывает… Бред. Человек все себе придумывает сам. И счастье, и радость, и сказку. Когда сказка проходит, остается пустота. Полная. И пережить помогает только одно: в жизни сказки случаются куда чаще, чем можно себе представить. Правда, не со всеми. Только с теми, кто верит. Способность к счастью, как и способность к сказке, — внутри нас.
Хотя… Возможно, это тоже иллюзии. Вот только как решить, какой мир более иллюзорен: тот, что внутри нас, или тот, что вовне? Человек, взрослея, лишается иллюзий, жизнь отбирает их у него, одну за другой. Наверное, когда умирает последняя, умирает душа. Хотя некоторые при этом продолжают существовать. К жизни это не имеет уже никакого отношения.
А тогда ему, Олегу Гончарову, оставалось освободиться только от денег. Как часто бывает, ему помогли. С радостью. Брат жены влетел. В очень изрядные долги. А Гончарова даже просить не пришлось — он подставился сам. Как только он сделал это, то стал ей не нужен. Совсем. Она вспомнила, что жизнь прекрасна и удивительна. И ушла к другому. Тот казался ей веселее.
А он ждал. Год. Еще год. Работал как заведенный, но работа не клеилась. Он шел по инерции. На той крейсерской скорости, какую сумел набрать когда-то. Но без ветра в парусах Америки не достигнешь. Кортес не добрался бы уж точно. Да и какой он Кортес… Хотя…
Мужчина, любой нормальный мужчина — завоеватель. Главный вопрос, который серьезно его волнует, — это вопрос войны и мира. Овладения этим миром. Захвата его. Но… Разве можно покорить мир, если нет той, к чьим ногам ты смог бы сложить обретенные сокровища? Просто так, за один ласковый взгляд… Хотя… Как у Александра Сергеевича? «Я не люблю тебя, герой».
Пришло время, и его подставили. Круто. Он уже не удивился: это предательство было не первым в длинной цепи. Боливар — лошадка норовистая и своенравная, как и Буцефал: только для одного. «И пряников, кстати, всегда не хватает на всех».
Вот и славно. В новую жизнь войти нелегко. Кредитка сегодня действует. Кредитка счета, которого де-юре не существует. Завтра, в десять часов утра, как только откроется банк, счет перестает существовать де-факто. Ну а сегодня… Сегодня он расплатится именно этими деньгами. И озадачит официанта чаевыми. Хорошими.
Смешно… Сейчас он как дервиш: все свое с собой. Весь капитал: пять зелененьких бумажек с портретом добродушного Франклина. Да и чего ему не быть добродушным?
Самый популярный мужчина на пространствах одной шестой земли… С названием кратким… Но содержательным.
А завтра… Да и… Стоит ли жить до завтра, если жуя такое дерьмо? Ведь уходить тоже лучше налегке. Лети как пух… «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Порой ему казалось, что он остался совсем один. Все его друзья подгадали уйти раньше. На той войне. Или после. Потому что война всегда.
«Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться…»
Нет… Завтра — это очень далеко. Так надолго лучше загадывать… Или завтра — это уже сегодня? Хм… Глубокая мысль… Как нас учит «Полароид», великий и мудрый «Живи настоящим!»
А вот это правильно! Водочка уложилась на бордо классно. Только несколько смурно. Мужчина тряхнул головой. Теперь самое время для горячего. А то «сегодня» перестанет быть «завтра» и плавно перейдет во «вчера». А что было вчера? То же, что и позавчера: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет…»
Бессмысленный и тусклый… Тусклый и бессмысленный…
Мужчина посмотрел на стол. Водки осталось — на дне графина. Сделал знак рукой.
Официант материализовался немедля.
— Подавайте, друг мой, горячее.
— Сию минуту. Еще водочки?
— Нет. Водки достаточно. Лучше коньяк.
— «Курвуазье»?
— Да. Маленький графин. И продумайте десерт.
— Сделаем.
За столиком на двоих Олег был один. И не желал ничьей компании. Ресторан постепенно наполнялся: он славился хорошей кухней, да и открыт был до пяти утра.
Отсюда можно было пройти на второй этаж, в казино или варьете. Да и в самом заведении было стильно: никаких полуголых девиц, никакого шума-гама от визжащих лабухов; группа музыкантов состояла всего из трех человек; фортепиано и акустическая гитара составляли основу программы. Да, третий музыкант был просто виртуозом: он импровизировал попеременно на трех саксофонах и деревянной флейте.
Очертания зала сделались зыбкими, мягкими. Бордо и водка и бордо… Просто стихи… Гончаров знал, что сидит здесь до утра. Возвращаться в пустую квартиру, в бессонницу или уходить в тяжелое глухое опьянение он хотел. Здесь был свет, и это главное. Свет — вот что ему о сейчас нужно. И ничего, кроме света.
Девушку он заметил сразу. Она вошла в сопровождении метра, готового выпроводить ее вон: проституток в этом с претензией на аристократизм заведении не жаловали.
Для был бар, тоже на втором этаже. Впрочем, иноземное слово «проститутка» к этим жрицам ночи подходило плохо — даже в сглаживающем вечернем освещении они выглядели теми, кем были: потаскухами.
Эта девчонка была не потаскуха. Она быстро, лихорадочно перебегала взглядом от столика к столику: все были заняты парами или компаниями. Встретилась взглядом с Гончаровым, робко улыбнулась, а глаза ее… Он никогда видел таких глаз.
Вернее… Такие были у Тани, когда еще не разучилась смотреть на мир с непреходящим удивлением, заставляя и его видеть свет и краски… Только этой девочки глаза были… Ну да… Уставшими. Смертельно.
Сразу вдруг он понял, зачем она здесь: ей не хотелось оставаться одной в ночи.
Ей хотелось света. Как и ему.
Он поднял руку и приветливо, словно старой знакомой, помахал девушке. Аля победно глянула на метра; тот принял ее вместительную спортивную сумку, а она двинулась к столику мужчины.
— Спасибо вам, — выдохнула девушка и спросила, присаживаясь и устраивая на коленях небольшую кожаную сумочку:
— Я очень помешала?
— Совсем нет.
Официант был уже рядом. Чиркнул спичкой, зажег перед девушкой свечу. Ненавязчиво помедлил…
— Пока — коктейль. Самый легкий из тех, что у вас есть, — не глядя на него, произнес Гончаров. — И карту вин.
— Вы понимаете, я не… — начала было девушка.
— Я вижу. Просто у меня особый вечер. И я хочу вас УГОСТИТЬ. Если вы не против.
— Я не против. — Девушка смотрела на скатерть остановившимся взглядом.
Произнесла только:
— У меня тоже особый вечер. Очень особый.
Официант был умен: с горячим не поспешил; коктейль и карта появились мгновенно; судя по всему, этот не очень молодой человек давно освоил все премудрости своей профессии, главной из которых была: сумей угадать клиента не скупого и готового легко расстаться с деньгами.
Девушка сделала глоток из принесенного бокала. Хотя коктейль и был совсем слабым, Аля, почувствовав на губах вкус алкоголя, попросила:
— А нельзя «спрайт»?
— Можно. Но нужно ли? Тем более если вечер особый? — спросил мужчина, выделив интонацией последнее слово.
— Нет. Не хочу.
В действительности Але очень хотелось выпить. Страшное напряжение, в котором она пребывала почти двое суток, стало тяжким, словно многодневная бессонница, когда человек уже не отличает сна от яви… Но она точно знала: стоит ей выпить хоть немного, и она разревется, разрыдается прямо здесь, а это может закончиться…
Да чем бы ни закончилось, расслабляться пока нельзя. Нужно пережить эту ночь.
Потом, днем, она найдет место, где отоспаться; к кому-то из девчонок она идти не хотела, чтобы не подставлять. Днем будет солнце, и тогда можно забраться на любой чердак и спать. Долго.
Подняла глаза на мужчину. Немолодой и очень усталый. Морщины у глаз. Но было в его взгляде что-то еще, кроме усталости. И это не неуверенность, нет…
Отсутствие наглой самоуверенности — вот что это. И грусть.
— Я вам действительно не помешала?
— Нет. Пить в благородном уединении — дело пустое. Не хочется, но надо.
— Почему?
Он пожал плечами, улыбнулся:
— Осень.
— И только?
— Помните анекдот? Приходит алкоголик к наркологу. На традиционный вопрос врача:
«На что жалуетесь?» — тот вскакивает, хаотично встряхивает руками: «Доктор, по мне постоянно ползают такие маленькие зеленые крокодильчики!» Врач вскакивает со стула, повторяя движения больного: «А что вы на меня их бросаете!» — Мужчина взял сигару закурил. — Зачем вам, милая девушка, мои «крокодильчики»? У вас своих мало?
— Как раз — с избытком. И они совсем не маленькие, — вздохнула девушка.
Официант снова материализовался и застыл рядом со столиком вежливым молчаливым изваянием.
— Так что заказать? — спросил Олег.
— Что-нибудь попроще, — произнесла Аля и тут только почувствовала, как проголодалась.
— Тогда… — Мужчина быстро указал блюда в меню официанту, и тот с достоинством удалился.
Через пару минут появился салат из крабов, красная икра в тарелочке, под которой в специальной посуде медленно таяли кубики льда. Несколько кусочков масла и блины, горячие, дымящиеся… В отдельной рюмке была принесена водка; рюмку официант поставил перед девушкой, рядом бокал со «спрайтом», в котором плавал пузырчатый лед.
— Вы все-таки заказали водку… — произнесла Аля.
— Да. Не обижайтесь, но, по-моему, вам сейчас просто необходимо.
— Может быть. Но я так устала, что, боюсь, сразу поплыву.
— Ну и попутного ветра. Плывите. Утонуть я вам не дам. И непременно закусите горячим блинчиком с маслом и икрой.
— Водку?
— Как говаривал профессор Преображенский, холодные закуски предпочитает только недобитая большевиками буржуазия. Человек понимающий оперирует закусками горячими.
Девушка улыбнулась. За ней так давно никто не ухаживал, что… Нет, приставать — приставали, это сколько угодно, а вот ухаживать…
— Спасибо.
Она взяла рюмку, выпила маленькими глоточками, не торопясь, положила масло на блинчик, сверху — икру, неловко поддела вилкой, блинчик соскользнул и упал на стол.
— Ой! — Девушка посмотрела на скатерть, подняла глаза на мужчину. — А голова поехала…
— Лишь бы крыша устояла.
— У меня нет крыши. Я сама.
— Ну и как — самой? Аля пожала плечами:
— Неважно. Вы же видите. — Снова подняла на него глаза.
— Меня зовут Олег. Олег Гончаров.
— А я — Аля.
— Редкое имя.
— Редкое? — Аля засмеялась. — Алена, Лена.
— Алена — нежнее.
— Я привыкла к Але. А «Лена» мне не нравится. Когда ты — «одна из». Лена — это как просто «девушка».
Она поглядела на него снова, и взгляд ее на этот раз показался Олегу совершенно беспомощным — такой бывает у близоруких людей, вдруг оказавшихся без привычных, укрупняющих мир линз.
— Извините, Олег… Какую-то чушь несу… Я поем, ладно? А то действительно неприлично так пьянеть от рюмки водки. — Глянула на него лукаво. — Но простительно. У меня было трудное детство.
— На самом деле?
— Это как посмотреть. А вообще-то — поговорка такая. Пословица.
Гончаров закурил, чиркнув длинной спичкой. Принесли мясо в горшочке. Алена справилась с блинами и икрой и теперь быстро ложкой ела жаркое. Ему было приятно наблюдать, как она ест, что-то промелькнуло в памяти… Он улыбнулся даже, но улыбка вышла невеселой. Все просто в этой жизни: чтобы мужчина был мужчиной, а не особью мужского пола, даже с деньгами, ему нербходимо о ком-то заботиться, думать, тревожиться, кого-то защищать… Когда этого нет, жизнь становится лишь более-менее сносным функционированием, словно ты не человек, а биоробот. Всего лишь. И не более того.
— Уф… — Девушка откинулась на спинку стула. — По-моему, с едой я погорячилась.
— Это пройдет.
— Чувство излишней сытости?
— Чувство волчьего голода.
— Разве я похожа на волчицу?
— Скорее на загнанного волчонка. Который не понимает, за что его гонят.
Девушка посмотрела в глаза мужчине внимательно, пристально. Сейчас, немедленно ей нужно решить: она верит ему или нет. Иначе — пропала.
В глубине его глаз была только грусть. И еще — усталость. Такая бывает в глазах у больших добрых псов, преданных людьми. Им некого стало защищать: те, кого они любили, бросили их, оставив охранять пустой дом, в который никогда не вернутся.
А пес не способен поверить в предательство тех, кого любит. И умирает даже не от голода — от тоски. А вообще… Собаки — куда лучше людей. Нет, есть злые, ущербные псины: просто люди вывели и воспитали породу себе подобных. А по жизни Алена вообще давно заметила: все хорошие люди похожи на собак или на лошадей.
Только лошади порой еще грустнее. Но грустнее всех — люди.
— Вы чем-то обеспокоены, Аля? — спросил Гончаров тихо.
— Да. Обеспокоена.
Глава 15
Наблюдатель перезвонил в половине первого:
— Она у «Валентина».
— У Валентина? — не понял Крас. — У какого Валентина?
— Ресторан в центре города.
— Разве сейчас еще работают рестораны?
— Я неверно выразился. Комплекс. Ресторан, ночной бар, варьете, казино. Кукла в настоящее время в ресторане.
— Одна?
— Естественно, нет. Подсела за столик к какому-то субъекту.
— Что за субъект? Бандит? Авторитет? Деловой человек? Есть ли охрана?
— Охраны, судя по всему, нет, но…
— Что «но»?
— Это очень дорогой ресторан. Для самых-самых. И, скажем, как-то наехать на неизвестного здесь… Впоследствии могут быть неприятности. Очень большие неприятности.
— Они то ли будут, то ли нет. А те, что уже имеются по вине этой стервы, — совсем не маленькие. Вы контролируете ее?
— Да.
— Говоришь из зала?
— Да. По мобильному.
— Кто еще с тобой?
— Никого. Водитель здешний, по найму. Я его отпустил. Но машина осталась.
— Сможешь захватить девушку?
— Вот это вряд ли. Похоже, она не собирается расставаться со спутником в ближайшее время. А проводить какие-то силовые акции здесь — это… дурной тон.
Здесь люди отдыхают, и соответственно имеется своя служба безопасности.
— Квалифицированная?
— По этому варианту — да. К тому же «Валентина» контролируют и милиция, и государственная СБ — место уж очень видное. Похитить девчонку отсюда не проще, чем в Москве — Вовочку из мавзолея.
— Трупы, даже набальзамированные, никому не опасны. А эта девка… Хорошо.
Вызывай этих, частных… Оплата будет соответственная. Сможешь это сделать быстро?
— Да. На всякий случай я договорился заранее. Прибудут сразу по звонку.
— Ты общался с ними сам?
— Конечно нет. Кто ж с такими общается? Через посредника. Контакт-ответчик на телефоне.
— Они не устанавливают заказчиков?
— А. зачем им? Лишь бы деньги шли. У них полная предоплата.
— И они ни разу никого не кинули?
— А зачем? Репутация дороже. Да и они же не киллеры по персонам. Легионеры.
Пусть и разных… э-э-э… специализаций, но легионеры. А у них конкуренция.
Заказчиков меньше, чем охотников получать бабки за стрельбу.
— Утечек от них не будет? В службу безопасности, к примеру?
— Нет. Эти ребята занимаются слишком специфическим бизнесом. Любая утечка «направо» или «налево» поставит на их деле крест. Ну и на руководителях этой конторы — тоже. В прямом смысле.
— Убедил. Вызывай. Надеюсь, они не страдают излишними комплексами?
Человеколюбием, например?
— Нет. Мы их уже привлекали в прошлом году…
— Разве?..
— Решить таджикскую проблему… Грязную работу выполнили именно они.
— Вот как? Хорошо. Выпаси мне эту курочку. Чтобы к концу ночи она сидела на том насесте, какой я укажу.
— Постараюсь.
— Старайся. Сейчас, кроме тебя, Куклу кто-то контролирует?
— Никто.
— Уверен?
— Да. Я бы… почувствовал.
— Дьявол… — произнес Крас тихо, словно про себя, а мысли понеслись пришпоренными лошадьми. Он оценил ответ. Именно не «заметил» бы, а «почувствовал». Наблюдатель — профи исключительный. И сейчас он, Крас, «метет пургу». Он предпринимает шаги не на то, чтобы действительно захватить Куклу, а ищет… будущие оправдания перед Лиром. Дескать, предпринято все возможное, но…
Чушь! Лир не примет никаких оправданий. Никаких! Если девки не будет завтра утром на объекте "А"…
Все тело который раз за сутки покрылось липким потом. Ну конечно! Он, Крас, единственный, оставшийся от старой команды. Единственный! Если, конечно, не считать Маэстро. Но Маэстро — это совсем особый случай. Он даже не профессионал, он поэт убийств! За много лет он не провалил ни одного активного мероприятия. У него, Краса, провалов тоже было немного, но они были: не ошибается тот, кто ничего не делает… Маэстро — делал и не ошибался никогда. По крайней мере в своем мастерстве, которое он давно считал искусством.
Неспешно, постепенно Лир поменял всех; раньше Крас не обращал на это внимания, было слишком много работы… Теперь… Малейший его прокол, и Лир примет фатальное решение. Или уже принял? Нет, вряд ли… Слишком многое и многие завязаны на него, Краса… Но если сейчас сработать неточно или халатно, Лир…
Вот именно!
Он почувствует это! По-чув-ству-ет! И тогда… Как он сам выражался: "Легче купить новую борзую, чем вернуть азарт старой. Только один человек может наплевать на меняющееся время — я сам. Остальные должны соответствовать.
Несоответствие времени — это больше чем преступление, это ошибка. А платить за ошибки каждый должен сам". Все эти мысли пронеслись стремительно, как комета. — Я еще раз тебя спрашиваю, Наблюдатель: ты полностью уверен, что нашу Куколку сейчас никто не контролирует? Подумай…
— Да. Я уверен.
— В таком случае… не будем огород городить. Захвати ее. Немедленно.
— Извините, босс, я же информировал вас: система охраны комплекса…
— Забудь об этом. С этого момента ты должен помнить лишь об одном: рано утром прибудет… Лир. У меня есть все основания полагать, что, если девка не будет схвачена и выдана ему головой, мы все, все, превратимся во «временную творческую группу». Хорошо, что ты вспомнил Таджикистан, мне нет необходимости объяснять:
Лир не оставляет концов, он зачищает всех!
Крас перевел дух. Единственное, что вызывало некоторое удовлетворение, — теперь не один не чувствует, как сердце летит вверх тормашками куда-то вниз, в бездну… Пусть Наблюдатель побеспокоится, если хочет жить!
— Ты хорошо меня понял?
— Да.
— И вспомнил Душанбе?
— Естественно.
— Тогда мы организовывали зачистку. Если теперь завалим это дело, зачистят нас.
— Понял.
— И времени у нас — только до рассвета. Где, ты говоришь, находится это заведение?
— Леонтьева, 3.
— Я буду сам. Так надежнее. Девчонку до моего приезда из поля зрения не выпускать.
— Есть. — Наблюдатель замялся. — Так что, «частников» не вызывать?
— Как скоро они будут на месте?
— Минут через десять.
— При стволах?
— Как положено.
— Вот и пусть едут. Чем больше мути, тем лучше. Поставь им задачу так, чтобы…
Ты понял?
— Да, босс.
— Действуй.
— Есть.
Да, именно так. Сидеть в этом благоустроенном склепе и ждать, когда кто-то решит твою судьбу? И чувствовать, как убегает время, будто кровь из вскрытых вен? Нет.
Действовать. Самому. Тем более — действие рассеивает беспокойство.
Мужчина рассовал по карманам несколько ампул, баллончик с газом, два бесшумных пистолета. Задержался у зеркала: лицо его было непроницаемым и спокойным. И никакого шрама. По крайней мере, в вечернем освещении заметить его было невозможно. А в ночи — и подавно.
Настроение улучшилось. Он любил вечера и ночи. Ночь — время охоты. Губы скривились в усмешке, мужчина открыл дверь и шагнул во тьму.
Метрдотель Василий Васильевич Ковров служил в этой должности двадцать пять лет.
Клиентов привык распознавать по виду, хотя и разные они были в разное времечко.
Но в последнее время стал уставать. Гипертония? Да нет. Он уставал от другого — от мельтешения жизни. И ум его не желал принимать ее, эту жизнь. Хотелось устоявшегося. А то — вчерашний школяр с «гайкой» с полмиллиона на пальце покровительственно хлопает по плечу, при нем дама, да какая, к черту, дама! — шалава, профурсетка, шалащовка гнутая, только что в мехах да цацках. А завтра — нет уж его, крутого этого; в Америке, там кольт-миротворец уравнивал шансы живых, у нас — «Калашников»: и дырок больше, и пуля весомее! Взамен того — уже и новый гуляет, да с той же шалавой, чтобы пропасть через год или раньше… Не нравилась Василию Васильевичу такая жизнь. Покоя хотелось. Когда пули близко ложатся, какая-то излетная и тебя поцелует. Но бросить работу, и что делать?
Сон уже в старости не шел, и ночная работа Коврову нравилась: сидеть одному без сна в пустой квартире — дело горькое.
А так — домой он приходил утром, ужинал легко и читал кого-то из древних: были люди, были деяния! Не нонешним чета. Хотя… «Эти люди, никому не дававшие покоя, сами не ведали покоя, будучи подобны смерчам, которые все захватывают своим вращением, но прежде сами приведены во вращение и потому налетают с такой силой, что над собою не властны. Явившись на беду многим, они на себе чувствуют потом ту губительную силу, которой вредят другим» — вот что писал Луций Сенека о временах Гая Мария, Суллы, Цезаря. И добавлял:
«И не следует думать, будто кто-нибудь стал счастливым через чужое несчастье».
Да, это так… Ковров повидал немало людей выдающихся — у них было все, кроме счастья.
Ко входу подъехал роскошный джип, метр вышел встречать лично. Эту машину он знал. Молодой человек, вышедший из автомобиля, был правой рукой самого Ав-тархана. Теневого хозяина города. И хотя власть эту он делил с двумя другими, Беней и Кондратом, метр знал: рано или поздно останется только один. Как мудро заметил Тацит, с некоторых пор любая борьба имеет только одну цель: единовластие.
Впрочем, Ковров был вежлив и ровен со всеми: это их игры. Но Снегова выделял.
Помимо прочего, Снегов прекрасно разбирался в людях; в отличие от бандитов был не только бесстрашен, но и умен; умел, что называется, вести светскую жизнь: встречался с политиками, актерами, литераторами, деловыми людьми, крупными чиновниками… В этой упряжке он себя чувствовал не менее комфортно, чем среди боевиков; возможно, Автархан в будущем вообще удалит Сергея от «людей действия» и прикажет сосредоточиться на легализации бизнеса, но прежде тот должен заработать непререкаемый авторитет среди братвы. Впрочем, не его это, Коврова, дело. А уж кто останется на щите, а кто со щитом — то только Господь Бог знает.
Сейчас Снегов выглядел уставшим и озабоченным.
— Ужинать? — вежливо спросил его метр.
— И это тоже. — Молодой человек секунду помедлил. — Да, Васильич, взгляд у тебя приметливый… — Снегов вынул из бумажника фото и предъявил метру. — Девочка эта у тебя не мелькала?
Тот только глянул на фото, расплылся в улыбке:
— У вас хороший вкус, Сергей Георгиевич. Она в зале. Ужинает. Если бы я был предупрежден…
— Что?! — резко переспросил Сергей.
— Ужинает. По правде сказать, вы же знаете, Сергей Георгиевич, у нас репутация… Я не хотел пускать эту девушку, но она убедила меня, что у нее встреча…
— Так она в зале?
— Естественно.
— Веди, покажешь. Только незаметно.
Метр провел Снегова в подсобку охранников; сквозь жалюзи было видно: Лена Глебова действительно сидит за столиком рядом с мужчиной средних лет и уплетает мясо. в горшочке.
— Умопомрачительная девка! — произнес Снегов тихо. Надо же! Только что вылезла из жесточайшей разборки, а ест так, словно с утра посетила массажный кабинет, проплыла три кэмэ в бассейне, повалялась в солярии, взбодрила себя сном и только к ночи вспомнила, что диета сегодня необязательна…
— Сергей Георгиевич, если бы я знал, что вы… В зале не было свободных столиков, да и не приветствуем мы появление в заведении молодых дам без спутников… Этот мужчина помахал ей рукой, как хороший знакомый, и я решил, что встречу ей назначил именно он… Хотя сначала он и произвел на меня впечатление одинокого…
— Волка? — быстро спросил Снегов.
— Не-е-ет. Как бы это сформулировать… Ветерана.
— Ветерана? — удивленно поднял брови Сергей. — На вид ему лет сорок.
— Я имел в виду… В римском понимании этого слова: ветерана-воина, живущего на выслуге. Не очень счастливого… Впрочем, все эти фантазии стариковские…
— Может быть, может быть… Ты по-прежнему увлечен римской историей? Метр пожал плечами:
— Тогда жили титаны.
— А сейчас?
— Сейчас… — Метр замешкался, пытаясь подобрать адекватное выражение. — Сейчас бал правят деньги. Увы, только деньги.
— Люди гибнут за металл. Знаешь, Васильич, я-то, грешный, думаю, и раньше так было. Это потом историки сказок насочиняли, чтобы красиво стало… Кому охота знать, что «человек» звучит вовсе не гордо, что это и есть самая вредная живность на планетке, и не просто тля, а с претензиями… Ладно, Васильич.
Теперь не до философий. Раньше этот человек у вас бывал?
— Один или два раза. Но довольно давно.
— Кто он?
— Я не интересовался. Если бы я знал, что…
— Так. Кого еще ты в зале не знаешь? Быстро! Метр окинул зал скорым взглядом:
— Вон тот, у стены. Компания молодых людей — эти, полагаю, в первый и в последний раз: видно, быстрые деньги подвернулись, быстро и уйдут. Вот тот пожилой господин с дамой…
Василий Васильевич продолжал говорить, Снегов слушал внимательно, а сам цепко разглядывал людей. Судя по всему, девка — подсадка. Ее выставили живцом. Еще пороховой дым не рассеялся там, на Щербатова, а она уже в кабаке отдыхает с каким-то фраером! В их кабаке! Или это Кондрат с Беней решили сыграть свою игру?
Так, как поступает эта девчонка, могла бы поступить либо Мата Хари, либо полная дура! Впрочем, у нее могло не быть возможности выбирать. В любом случае ее должны пасти. Решать, быстро!
Указательный палец уже стучал по кнопкам мобильного.
— Снегов. Я у «Валентина». Наша подружка здесь. Все — Кентавр, Гога, Расик, Комар, Дуче — все ко мне! Вокруг «Валентина» — кольцо! Любого, кто объявится, с дури или еще как, мордой в грязь, мгновенно! Потом разберемся. Да, Автархану скажите. Все.
Дал отбой. В комнатку вошел начальник охраны.
— Что наверху? — спросил Сергей.
— Все спокойно, — пожал тот плечами. — Как обычно.
— Так. У тебя есть нормальные пацаны или только «бодигарды»?
— Есть.
— Нормальным раздай стволы. Если кто сейчас пальбу откроет, мочить без заморочек, ясно?
— Ясно, — А качки пусть маячат на входах-выходах. Остановить они вряд ли кого остановят, так хоть застопорят, пока братва подтянется. Выполнять.
Мужчина исчез.
— Васильич… — позвал Снегов застывшего перед дверьми метра.
— Да, Сергей Георгиевич.
— Что-то вид у тебя озабоченный. Или еще чего надыбал?
— У нее, у девчонки этой, сумка с собой была. Большая спортивная. В гардеробе сейчас. Я сразу не сказал, думал, как вы к ней по другим делам…
— Дела, Васильич, все у прокурора. А у нас так, делишки. — В глазах Снегова уже плясал азарт. — Ну и что хорошего в сумке этой?
— Не смотрел. Прикажете принести?
— Прихрани. На потом. Да, пожелай удачи, старый! — Снегов широко улыбнулся. — Ну как, сойду за комильфо?
— Не без шарма.
— Вот и славно. Пора с этой пацанкой знакомиться.
— А если спутник ее возражать станет?
— Мне? — Снегов одним движением выхватил пистолет из наплечной кобуры, снял с предохранителя, засунул за пояс брюк сзади. — Возражать?
— Сергей Гергиевич… Вы же знаете, как мы к вам относимся. Серьезно…
— Ну, если серьезно… Не успеет.
Глава 16
Когда молодой человек стремительной, раскованной походкой подошел к его столику и по-хозяйски плюхнулся на мгновенно принесенный официантом мягкий стул, Олег Гончаров первым делом вопросительно посмотрел на девушку. И заметил, что та не столько озадачена, сколько испугана.
— Снегов, — коротко бросил тот, — Сергей Георгиевич. Все происходящее в заведении Олег регистрировал боковым зрением: у заказанных столиков расположились спортивные парни, три входа, основной, запасной и тот, что вел в бар и казино, перекрыли несокрушимые «бодигарды». Зал блокировали спокойно, ни от кого не таясь, но в то же время очень корректно: будь Олег один, он бы если и обратил на это внимание, то только как на часть пейзажа. Да… Если бы не испуг в глазах девушки…
— Давайте знакомиться… — искренне улыбнувшись, предложил Снегов.
— А зачем? — спокойно отозвался Гончаров.
— Я пойду, — быстро произнесла Аля, сделала попытку встать, оглянулась, встретилась взглядом с накачанными «манекенами» и снова присела. — Так вот как…
— А что вас удивило, барышня? — осведомился у нее Снегов.
— Меня? — Девушка плеснула себе в бокал из-под «спрайта» коньяк и выпила одним духом. — Ничего. — Повторила, уставившись в одну точку:
— Ни-че-го.
Молодой человек сделал движение рукой, по его знаку к столу метнулся официант.
— Шампанское для дамы… Вы что предпочитаете? — посмотрел он на Гончарова.
— Чай. С сахаром.
— И чай с сахаром для джентльмена. — Снегов выдернул из пачки сигарету, щелкнул зажигалкой. — Вы не хотите представиться? Скажем, эту прекрасную девушку зовут Елена. Елена Прекрасная. По Гомеру — дама раздоров. Если помните, господин Никто, из-за нее погибла Троя. И очень много храбрых воинов. С той и с другой стороны. Вы не возражаете, если мы с милой девушкой отъедем пообщаться?
— Возражаю, — тяжело произнес Гончаров.
— Вы считаете, в сложившейся ситуации ваши возражения будут приняты во внимание?
Как мне удалось выяснить, с девушкой вы познакомились только что; мы не хотим лишних проблем: стоит вам только пожелать, и ваше уединение скрасит та, какую вы выберете. Поверьте, это исключительные модели, редкие. Хотите взглянуть на каталог?
— Слушай, молодой… У тебя странная манера общаться. Если бы я чего-то еще боялся в этой жизни… Но уж точно не тебя и не твоих отморозков…
— Это не отморозки.
— Помолчи. Учись слушать старших.
— Мужик… Зачем тебе чужие разборки? Или чужие войны.
— Чужой войны не бывает.
— Да?.. А ты не боишься, что…
— Слушай меня внимательно, молодой…
— Меня зовут Сергей Георгиевич.
— Сергей Георгиевич… Я давно ничего не боюсь. И никого. Устал.
— Действительно? — иронично приподнял брови Снегов.
— «Кого бояться мне? За злато отвечает честной булат», — хмыкнул Гончаров.
— Ладно. Пустой базар. У меня погибли четверо людей. По вине этой красавицы. Мне это тебе говорить и необязательно, но… Мужик ты крепкий, не порожняк, потому и базарю с тобой… Тебе нужны лишние проблемы? — Снегов помедлил. — Нет? Мне тоже. А потому я намерен узнать у нее то, что мне нужно. Сейчас. — Затянулся, загасил сигарету одним движением. — Разговор — не для посторонних ушей. Если занят делами — должен просечь. Сейчас мы с дамой пересядем за другой столик и поболтаем. Ну а решишь дальше крутизну качать — умрешь. Без обид, такие расклады. Если ты чего-то не понял, переспроси сейчас.
— Он прав, Олег, — тихо произнесла Аля. — Тебе вовсе незачем влезать во все это.
— Она смотрела в стол, на ресницах висели слезинки. — Значит, судьба моя такая.
— Милая барышня… Если накатывают на меня, я могу и потерпеть. Если на такую милую и усталую девочку — не могу. И не проси.
— Ты что, дурак? — совершенно искренне удивился Снегов.
— Я идеалист. Чего и не хватает сейчас по такой жизни, так это идеалов. Не так?
— Господин Никто… По-моему, ты принимаешь плохое решение. Совсем плохое. А люди не столько действуют, сколько решают. Плохое решение куда хуже неудачного действия. Ибо влечет за собой целый ряд действий неудачных, никчемных или губительных. Не сочти за нотацию, земляк… Но лучше для тебя — отваливай.
— Что для меня лучше, я решу сам. Да и решение я принял давно, — усмехнулся Олег, — по жизни. С тех пор я ему просто следую.
Снегов пожал плечами. Лицо его закаменело. Девушка, казалось, совершенно не слышала их разговора. Пока мужчины пикировались, налила себе еще коньяку, выпила, закрыла лицо руками, посидела так несколько секунд…
— Вас прислал Сиплый? — спросила она Снегова еле слышно.
— Сиплый? — мгновенно отреагировал тот.
— Я не знаю, как его зовут; Ну тот, со шрамом…
— Со шрамом, значит? — заинтересованно повторил Сцегов. — Нет, не он. Девушка потянулась за графином, Снегов перехватил ее руку:
— Погоди наливаться. Нам есть о чем поговорить.
В кармане Снегова тревожным прерывистым зуммером запищал мобильный. Тот резко поднес трубку к уху:
— Да?
— Это Кентавр. Мы подъехали.
— Понял.
— Тут какие-то странные типы крутятся.
— Чьи?
— В том-то и дело, что непонятка.
— Чем заняты?
— Тем же, чем и мы. Маячат. Мы глядим на них, они — на нас.
— Менты? ОМОН?
— А пес их знает! На ментов схожи, но те торчать бы до дури не стали, ты же знаешь: мордой в грязь, и вся недолга… И эсбэшники так вроде не работают…
Скорее всего, охранники какие-нибудь, из бывших…
— Никого не признаешь?
— Да их щас развелось, волков, как грязи… Может, и з города, приехали откуда-то по чью-то душу… Но на киллеров тоже не похожи… Уж больно маячат внаглую. И стволы у них по нахалке заныканы: слепой заметит. Значит, разрешение есть. Что делать-то, а, Снег?
Тот задумался… Если развести здесь, в центре, «мочилово», менты точно «Гарпун» с «Неводом» на братву опустят. И Беня с Кондратом будут к Автархану в большой претензии… Черт! Девку нужно колоть, быстро! Она готова расколоться, он чует!
И еще: непонятка действительно угадывается полная, сейчас бы сесть и подумать…
Что-то маячит в башке, а что — не понять… Может, это менты подставу работают?
Не похоже на них: мозгов не хватит работать; тут Кентавр прав, у них проще и понятнее: «Мордой в грязь, а там разберемся!» Тогда кто? СБ? Вопросов, как всегда, больше, чем ответов… и времени нет совсем…
— Стволы — на взвод; проверьте этих козлов на вшивость. Если не в делах, а наемные, очко сыграет, оно не железное…
— Не, Снег, — рассудительно возразил Кентавр, — может и не сыграть. Щас есть конторы, из полных отморозков составленные, из тех, кого в Карабахе, Приднестровье, Абхазии или Чечне почему-то не добили. В крышах у них — полный протек, все на наркоте подсаженные, им пострелять, как мне — пописать… Таким лишь бы мочить, а кого и когда — вопрос левый… А ну как мы их пужать начнем, а они по серьезу?
Снегов прикусил губу. Кентавр прав. Нужно или «огорчать» этих «маяков» по-крупному, или… отвалить. «Стрелы» с ними не было. Чего гнать тогда?..
— О'кей. Сейчас я выйду. Не один. Держать их на мушке, только кто дернется — кончать! Стволы у вас «тихие»?
— Да всякие.
— Работайте «тихими». Не хватает еще всю мусарню сюда завлечь… Все понял?
— А чего тут понимать?.. — неуверенно произнес Кентавр и дал отбой.
Снегов выпил залпом рюмку коньяку, выдохнул. Кентавр прав. Понимать тут нечего.
Потому что непонятно все. Когда на стрелку едешь, все как в тире: или ты, или тебя. Лучший вариант — «мочилово» обойти, по понятиям поговорить… Но не со всеми. А здесь… Ладно, рассуждения — потом, сейчас — действие!
Снегов мельком глянул на Гончарова, произнес вслух:
— Времени больше нет. Разговор у нас с пацанкой конфиденциальный. У тебя последний шанс: уйти.
— Нет.
— Сам создал себе проблему. Твое дело, — произнес он и повернулся к девушке:
— Что за люди подъехали сейчас к кабаку?
— Я… Я не знаю. Правда.
— Где твоя сумка? Рюкзачок?
— Тоже не знаю.
— Ты знаешь, что в ней?
— Теперь да.
— Как порошок попал к тебе в сумку? — медленно, тщательно выговаривая слова, произнес Снегов. — Говори спокойно, но только правду; если соврешь — тебя порежут на ремни вместе с кавалером!
— Я не знаю! Вы понимаете, не знаю! Мне его подложили!
— Да? И кто же такой щедрый?
— Тоже не знаю! Сиплый, наверное. Они зачем-то засунули порошок в мой рюкзачок, а он пропал. Они решили, что это я взяла. Решили накатить, приехали ко мне домой… А я уже боялась говорить, что сумку у меня украли, они бы меня просто убили, и все! Только… Они бы все равно меня убили… Они уже убили одну девчонку, просто так… — Теперь Аля плакала вовсю, не сдерживая слез.
— Не реви! — жестко сказал Снегов, встал, схватил с ближнего стола бутылку минеральной, открыл одним движением, налил полный стакан, протянул девушке:
— Пей Быстро!
Та сделала глоток, поперхнулась, попыталась поставить стакан, но Сергей удержал его у губ девушки:
— Пей до конца! Живо!
Аля осушила стакан до дна, поставила на стол, перевела дух, огляделась так, словно не сразу сообразила, где находится. Произнесла:
— Извините… Я много выпила… — Улыбнулась беспомощно. — Это от страха.
— Говори! Дальше! — поторопил ее Снегов.
— А что говорить? Дальше ввалился здоровый парень, помощник Сиплого… Я его ранила…
— Чего?
— Я стрельбой занималась, у меня пистолет был, «марголин». Вот, из него… А что, дожидаться, пока он меня?
— Дальше, дальше…
— Выбежала в коридор… Да, у этого здорового тоже пистолет был… Я его взяла и решила бежать… Выскочила в коридор, а там… Кто-то летел снизу, ботинки грохотали, я рванула наверх, там — еще человек с пистолетом, он начал стрелять… Я… Я тоже выстрелила, сама не знаю как… Побежала… Наверх…
Слышу: кто-то догоняет… Развернулась и выпустила всю обойму наугад, чтобы отстали… Потом на чердак и — сбежала… Все.
— Все… — повторил про себя Снегов. — Все…
Мысли его летели; складывалась картинка, хорошая картинка! Итак, Ворон «прислонил» рюкзачок, а в него некто заныкал накануне наркоту. Девку использовали втемную, как случайный «баул». Когда сумка пропала, эти решили, что девчонка сама припрятала героин и хочет скачать бабки — по молодости и по жадности. Решили сначала вывести пацанку на «момент истины», потом — мочить, а тут наехал он. Снегов, с братвой. Да и девка подарком оказалась еще тем: завалила пару козлов! Она хоть и котенок, и не в делах, а… Если котенка до крайности довести, он барсом становится! Гены! Все складно.
— Так. Быстро опиши мне этого… со шрамом.
— Значит, вы не с ним…
— Это наш враг.
— Сиплый?
— Это его кликуха?
— Да нет, голос у него просто такой. Когда говорит громко — словно кастрат, когда тихо — голос сиплый становится и неприятный очень…
— Он что, сифилитик?
— А я ему не доктор. Скорее псих буйнопомешанный, вот кто он!
— Какой он?
— Ну какой… Крупный, грузный… Физически очень сильный, но сволочь последняя!
Еще там, в «Юбилейном», он с девчонкой… Он ей шею сломал, двинул просто руками, и все…
— Выглядит как? Ты говорила — шрам у него…
— Ну да… Вернее, не шрам, а… Как бы это сказать… Лицо у него — как зеркало разбитое, из двух половинок… — Девушка руками в воздухе обозначила овал и показала, как проходит уродующая лицо Сиплого полоса. — Наверное, был когда-то шрам, потом он пластическую сделал… На лице — полоска едва различима, но…
Две половинки словно от разных людей прилеплены, и от этого… еще жутче.
— Так, — произнес Снегов.
Налил себе коньяк, выпил с удовольствием. Почувствовал, как по лицу покатился пот — сказывалось нервное напряжение последних часов… Картинка действительно сложилась. Да еще и как нельзя лучше. Пацанка с перепугу намутила этим, они решили… Неизвестно, что они решили, скорее всего, то, что за девчонкой стоят люди. Она при «крыше», а не случайная овца на этом поле… Больше она не нужна: сказала все, вот только… Девку надо поиграть втемную: пусть Сиплый с компаньонами думает по-прежнему; вызвать бригаду из Кострова, нездешних, будут ее возить по городу и мутить дальше… А он, Снегов, на эту наживку Сиплого и словит Хорошее дело. И еще хорошо, что непонятки больше нет. Отец будет доволен.
Надо поставить раком Сиплого со товарищи и прибрать дельце. Денег там — немерено. Так что все — тип-топ.
— Сейчас поедешь со мной, — сказал Снегов девушке, — мы будем тебя охранять.
— А кто — вы?
— Тебе это надо знать?
Аля пожала плечами.
— Это надо знать мне, — произнес молчавший до этого Гончаров.
— Тебе, господин Никто, тоже придется поехать с нами: ты нашел себе проблему, и как ее вытащить, решать уже не мне. Выбора у тебя нет.
— Думаешь?.. — спокойно спросил Олег. Лицо его было безмятежно, но что-то в нем неуловимо изменилось…
— Уверен.
Снегов крепко взял девушку за запястье, привстал, свободной рукой сделал знак охране и… Неловко, боком, медленно завалился на стол и тяжело рухнул навзничь, сметая за собой скатерть вместе с посудой.
Аля метнулась взглядом: похоже, Олег был озадачен не меньше ее. Боевики уже спешили к ним, на ходу выхватывая оружие; старший службы безопасности быстро говорил что-то в мини-рацию…
Гончаров подхватил стол и бросил его навстречу бегущим. Наклонился к неподвижному телу Снегова, провел руками вдоль, выхватил у него из-за пояса пистолет, щелкнул предохранителем… Набегавший боевик отреагировал мгновенно: двумя руками направил ствол на Олега и из всех сил жал спусковой крючок, забыв о флажке предохранителя… Гончаров выстрелил сразу, пуля попала нападавшему в голову, он опрокинулся назад и замер…
В зале началась паника. Самые умные и не слишком хмельные уже успели убраться, узнав Снегова, угадав, что за напряженный разговор он ведет и обратив внимание на перемещения охраны. Но большинство не заметили ничего: уровень заведения был достаточно высок, и о каких-то разборках прямо здесь многие не могли и подумать… Теперь люди заметались по залу; боевики Снегова и охрана мчались с оружием в руках, пытаясь прорваться к столу у стены, рядом с которым теперь лежал их главарь, сшибали на ходу мужчин и женщин, падали вместе с ними…
Грохнуло несколько выстрелов: боевики пытались навскидку завалить Гончарова, но тот, крепко схватив девчонку за запястье, прорывался к запасному выходу.
«Бодигард», маячивший там с несокрушимым видом, с началом перестрелки испарился, словно он был фантом, а не стокилограммовый увалень «ни грамма жира».
Гончаров крутился как волчок, угрожающе дергая стволом и стараясь прикрывать собой девчонку. Наконец нашел то, что искал: распределительный щит, наполовину скрытый портьерой. Три выстрела прозвучали как короткая автоматная очередь; яркая вспышка — и зал погрузился во тьму. Крики, брань, визг женщин, вспышки и грохот «слепых» выстрелов… Вспыхнули фонарики, их лучи повисли в сигаретном дыму; пространство зала расчертили тонкие нити лазерных прицелов. Сквозь беспорядочные крики публики слышались команды; кто-то пытался придать происходящему хоть какой-то смысл… Все перекрыл истошный крик:
— Снегова завалили, волки! Мочить козлов! Всех!
Автоматные очереди загрохотали при входе и на улице. Следом густая сыпь пистолетных выстрелов, снова автоматы…
Бойня продолжалась минут десять… Взвыли сирены, темный зал наполнился фиолетовым мигающим светом маячков служебных машин, автоматы загрохотали слаженно, управляемые опытной рукой командира… Боевики, еще оставшиеся в зале или оттесненные сюда с улицы, огрызались на рокот автоматов одиночным тявканьем «глоков», «Макаровых», «тэтэшек», пока не полыхнуло несколько раз бело и ярко и фиолетовую тьму не заволокло удушливо-терпким газом.
Глава 17
Лицо Автархана словно закаменело. Так он сидел несколько минут, играя желваками на скулах… Сережа убит. Убит. И ничего исправить уже нельзя.
Стоявший у стола громила по кличке Тюлень переминался с ноги на ногу.
— Ну, я пойду? — неуверенно спросил он и тут же опустил глаза, опасаясь встретиться с Автарханом взглядом. Напрасно, в глазах авторитета, казалось, не осталось ничего, кроме боли.
— Да.
— Братве что-то передать?
— Отдыхайте до утра. Мне нужно подумать.
Тюлень кивнул и удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.
Автархан остался сидеть неподвижно. Потери были значительные. Катастрофические.
Казалось, какой-то злой рок в считанные часы разрушил, разметал все, что он, Автархан, кропотливо возводил шесть лет. Его невидимая империя если и не рухнула, то ощутимо зашаталась. «Невод» накрыл город. Две вооруженные разборки за несколько часов — многовато даже для человека такого уровня, как он.
«Валентин» закрыли надолго, если не навсегда. По всем точкам пройдутся железной метлой… Нет, такое бывало и раньше, но теперь… За несколько часов погибли двенадцать боевиков. Погибли на непонятной войне, ибо противника он даже не нащупал.
Братва начнет роптать. Беня и Кондрат уже звонили; они, конечно, предъявят претензии по поводу «Невода» и «Гарпуна», но пугало не это… Снова пойдут слухи… Слухи о том, что он, Автархан, словно змей, переживший свой яд… что он принимает немотивированные решения, которые оборачиваются гибелью пацанов.
Что ему пора на покой.
Ни один король не в силах правом удержать свое королевство. В их системе роль права играл авторитет. Но авторитет перестает чего-либо стоить, когда идет огонь на уничтожение. Пацанам не хочется умирать. Им хочется жить. А потому… Любую власть подпирают штыки. Или мечи. Без этой опоры она — ничто, пустой звук, носимый ветром. Во все века правили только две вещи: меч и золото. А выбирать властителям приходилось лишь одно — что сделать раньше: мечом захватить золото или за золото купить воинов, способных захватить еще больше золота. Замкнутый круг. Змея, вцепившаяся в собственный хвост смертельной, неразжимаемой хваткой.
Змея, яд которой не иссякает никогда. Круг мироздания.
Автархан встал, подошел к шкафу… Лицо его походило на маску: громадным усилием воли он заставил все эмоции уйти глубоко внутрь; но, казалось, это нечеловеческое напряжение окончательно сокрушило его. Автархан глянул на себя в зеркало: на него смотрел изможденный старик, измотанный, усталый. Глаза взирали на окружающее тускло и безнадежно… У самого Автархана не было иллюзий: жизнь прошла, и то, ради чего стоило жить, осталось далеко позади. Ему осталось два года до семидесяти, вроде и не срок, но… Жить незачем.
Сережу убили. Ему было двадцать пять. Он родился в семьдесят втором; сам Автархан тогда потянул червончик, рождения сына не дождался… Сережа так и рос в маленьком украинском городишке, когда в семьдесят седьмом Автархан «откинулся» по большой октябрьской амнистии и впервые увидел пацана. Тогда же он устроил хлопца с матерью в Княжинск. Все-таки большой город, хоть и не главная, а столица… А сам оттоптал еще одну большую ходку, вернувшись только в восемьдесят шестом. А там — и времена переменились.
Характером Серега оказался в него: лез, куда его не просили. Но тут же Автархан проявил волю: для парня, выросшего без мужика в доме, Автархан был авторитетом куда более значимым, чем для братвы.
А потом — дела пошли. Времени не осталось ни на что. Он успел определить парня в университет, тот проучился курс и уже тогда влетел: шебутной донельзя, он подрался с тремя дебилами из-за девки, и грозила ему глупая бакланская статья.
Автархан нажал нужные пружины, Сергей получил «условно» и даже восстановился в университете по его настоянию. Потом в учебу въехал, в экономике стал разбираться на раз; тут Автархан привлек его и к «практике». Зачем он это сделал?..
Снегову, а ему тогда исполнился двадцать один год, бумажное дело показалось липкой рутиной; даже строгость Автархана не помогла: парень был явно в него характером. Втихую он начал сколачивать свою бригаду и по мелочи трясти кооператоров; Автархан подумал — и сдался. Снегов, его сын, стал самым удачливым и чуть ли не самым авторитетным «человеком действия» в многомиллионном Княжинске. Автархан наблюдал за ним с интересом: парень постепенно начал соображать очень во многом, еще чуть-чуть, пару-тройку лет, и Автархан сумел бы сделать так, чтобы его сына «короновали», заслуженно «короновали», по понятиям.
Это была его мечта.
Теперь сына нет. Глупая, тупая случайность. Сергей умер, так и не узнав, что Автархан его отец. Или мать сказала перед смертью восемь лет назад, не удержалась? Вряд ли. Так или иначе проявилось бы. А теперь… Теперь уже и не узнает.
Автархан посмотрел на себя в зеркало. Обрюзгшие щеки, слезящиеся глаза, иссиня-белые зубы-протезы… Старик. И его не сегодня-завтра спишут. И тогда…
Беня жаден. И Кондрат тоже не альтруист. Наплюют на понятия, стакнутся с этими пришлыми и будут деньги грести лопатой. Потери тоже спишут. Как и Снегова. Его спишут все, кроме Автархана да нескольких братков. Но чтобы волки, завалившие Серегу, гуляли да поплясывали, Автархан допустить не мог. Значит, нужно сохранить власть. Всю власть. А власть не любит слабых. Власть — змея, чей яд не иссякает никогда.
Ну что ж… Он знает, как толковать с братвой. О чем с ними говорить. Нужно сначала с ними… Потом с Кондратом и с Беней.
Автархан сам достанет этих сук, что завалили Снегова. Сам! Живьем сдерет с них шкуру!..
Он снова бросил взгляд в зеркальное стекло… Черт! Этот трясущийся старик не опасен никому. Открыл нижний ящик шкафа, достал коробочку, откинул крышку.
Оттуда достал две другие, поменьше. Из первой вытащил несколько больших облаток, проглотил, дернув кадыком, не запивая. Открыл вторую. Рассыпал белый порошок маленькой горкой на зеркальной полировке, выровнял специальной золотой лопаточкой, наклонил голову, приставил трубочку к ноздре… Задержал дыхание и вдохнул потом сразу, глубоко…
Мир словно взорвался, заискрился разом… Автархан переждал немного, вдохнул вторую понюшку. Оставшимся порошком смазал десны.
Открыл бар-секретер, налил коньяку в большую каплеобразную рюмку, на самое донышко, вдохнул аромат, сделал глоток, смакуя вкус спелого, напитанного солнцем винограда, выращенного в счастливых долинах так далеко отсюда… Очень далеко…
Его снова словно ударило: громадная доза принятого наркотика пошла в кровь, мозг заискрился неуемной, неукротимой, бешеной энергией… Она заполняла все жилы и сухожилия, все клеточки его еще достаточно сильного тела… А по духу… Сейчас он чувствовал себя змеем, готовым вцепиться во врага неразжимаемой, смертельной хваткой… Змеем, рожденным для боя. Яд которого не иссякает никогда.
Накат легкого, головокружительного кайфа быстро прошел; Автархан снова глянул в зеркальное стекло: он увидел всклокоченного, сухопарого старика; глаза блестят, но смотрят зорко и цепко; тонкогубый рот плотно сжат, впалые щеки придают ему вид аскета, неистового фанатика, готового не только вцепиться врагу в глотку, но и руками разорвать любого, уничтожить все, что станет на его пути, будь это человек, зверь или сам дьявол. Автархан замер, пережидая, привыкая к невиданному подъему сил; мозг притом работал ясно и скоро. Теперь — действовать.
Он вернулся к столу, не присаживаясь нажал кнопку интеркома, произнес коротко:
— Все ко мне. Немедленно. Сейчас.
Когда спецназовцы, похожие в противогазах на бульдогов, вбежали в задымленный зал, осветили переноской оставшихся, корчащихся в судорогах от ядовитого удушья индивидов. Наблюдатель уютно устроился на переднем сиденье автомобиля, стоявшего в затененном деревцами скверике метрах в семидесяти от заднего торца здания.
Рядом сидел человек со шрамом.
— Они еще не выходили, — произнес Наблюдатель.
— Уверен? — с плохо скрытой тревогой уточнил Крас.
— Да. Этот парень, к которому Кукла подсела, совсем не промах. Как только упал Снегов…
— Его фамилию установили достоверно?
— А что тут устанавливать? Когда один из боевичков гаркнул: «Снегова завалили, волки!» — как раз и началась свистопляска. Парни гавкнули изо всех стволов!
— Хм… — довольно усмехнулся босс. — «Помощничков» положили всех.
— Всех ли?
— Двоих устранил я. Нам ни к чему никакие свидетели. Даже такие мнимые, как наемные легионеры.
— По правде, все они давно за пулей гонялись.
— По правде… Кому она нужна, правда та… Кто ищет, тот всегда найдет. Помнишь пионерию?
— Еще бы…
— Всегда найдет, — словно не заметив его реплики, сказал Крас. — Кто правду, кто пулю. Да, как ты убрал Снегова?
— Элементарно, — хмыкнул Наблюдатель. — «Стрелка». С пятнадцати метров, с руки — это высокий класс.
— Сладкая малина сама себя хвалила…
— Сам себя с утра не похвалишь — весь день как оплеванный.
— Никто ничего не заметил?
— Нет. Уж очень момент был подходящий: этот Снегов схватил Куклу за руку, вскочил… Перекрыл своим сектор обстрела… Да, прямо перед тем он снова с мужиком этим цапнулся, что за столом сидел, все на это обратили внимание, разговор у них был на повышенных…
— Вот это уже славно…
— Ага. Снегова спишут на этого… э-э-э… Одиночку.
— Пусть будет Одиночка, — пожал плечами Крас.
— Это первое. А второе: на нас им не выйти. Никак.
— Ну да… Только ты да я да мы с тобой… — задумчиво протянул босс.
— Хотя Кукла описала вас Снегову. В подробностях. Но сам он уже никому ничего не расскажет. Пребывает в мирах иных.
— Нет никаких иных миров. Просто кусок разлагающегося мяса, — глядя во тьму ночи, произнес Крас. — Тьма кромешная и скрежет зубов… И огонь неугасимый…
— Что? — не понял Наблюдатель.
— Это я о своем… Кто такой этот Одиночка?
— Пока не знаю.
— Давай выкладывай соображения. Ты ведь наблюдательный малый, а. Наблюдатель?
— Не без этого.
— Ну и?..
— У парня хорошая школа. Спецназ КГБ или ГРУ.
— Или чья-то еще?
— Нет. Только два ведомства. Ему лет сорок с небольшим. Тогда других ведомств не было… Вернее… Все «попутное» замыкалось или на первых, или на вторых. Как говаривали древние, третьего не дано.
— Мы не древние. Он может быть действующим офицером?
— В нашей жизни все может быть, — меланхолично заметил Наблюдатель.
— Котин… — назвал Крас Наблюдателя по фамилии.
— Да, босс?
— Ты устал? Котин побледнел:
— Нет.
— Ты все понял из того, что я тебе сказал?
— Про приезд Лира?
— Да.
— Я все понял.
— Чтобы тебе было еще понятнее: я очень давно работаю на Лира; он на плаву до сих пор именно потому, что принимает решения, которые для окружающих выглядят совершенно немотивированными. Он поступает так как никто от него не ждет. Вряд ли он сам может объяснить причины своих поступков, он не логик или не вполне логик… За время работы с ним я не научился его просчитывать, но научился его чувствовать. К чему я это? Пока фатальное для нас решение не принято. Но оно может быть принято при малейшей оплошности или ошибке с нашей стороны. Я все это говорю, чтобы ты не расслаблялся.
— Извините, босс.
— Я повторяю свой вопрос: Одиночка может быть действующим офицером одной из спецслужб? Здешней или российской?
— Да. Исключить это нельзя.
— Второй вопрос. Могла ли эта встреча быть заранее спланирована?
— Да, но…
— С такой же степенью вероятности, как и наоборот.
— Случайность?
— Да. Пятьдесят на пятьдесят.
— Мне плохо верится в случайности. Вернее, совсем не верится, когда вокруг ложатся пули. Очень плотно ложатся. Одна к одной. Ты выяснил, кто такой этот Снегов?
— Да. Личность известная. Руководитель групп быстрого реагирования у одного здешнего авторитета. Одного из самых крутых.
— Каким боком они сюда влезли?
— Полагаю, они задали себе тот же вопрос — и пришли разбираться. Мы ведь на их территории.
— Почему?
— Вышли на героин.
— Каким образом?
— Возможно, Кукла передала сумку кому-то, кто связан с ними. Но реальна и чистая случайность.
— Я же сказал, Котин, не люблю случайностей. Они — результат чьей-то ошибки или недоработки. Если Лир решит, что нашей, то лучше застрелиться прямо сейчас. И еще, что в таком случае хотел выяснить у Куклы этот Снегов?
— Вопросов пока больше, чем ответов. Как в любой комбинации, если разработка начата только что. Со временем…
— Нет у нас этого времени, — раздраженно перебил Крас. — Совсем нет.
Он закурил, молча делал затяжку за затяжкой. Огонек сигареты вырывал из тьмы сведенные губы; лицо в этом неровном, то вспыхивающем, то затухающем свете казалось особенно уродливым, и Котин вдруг понял почему: видимо, когда мужчине нанесли эту жуткую рану, был задет нерв; несмотря на все искусство хирургов-пластиков, сделавших шрам едва различимым, лицо осталось донельзя отталкивающим — мимика левой половины не совпадала с мимикой правой, словно они принадлежали двум разным людям. Не самым добрым людям в подлунном мире.
— Пока мы можем только ждать, — пожал плечами Наблюдатель.
— Будем ждать.
* * *
— Рассказывай по порядку. — Автархан упер взгляд в Кентавра, здоровенного малого, чья внешность напрочь опровергала теорию Чезаре Ломброзо. Почти два метра ростом, глаза огромные, по-детски распахнутые, светло-голубые, губы сложены девственным бантиком, длинные светлые волосы чисто промыты и падают волной на плечи… Короче, парень будто только что вылупился на свет Божий откуда-нибудь из рекламного ролика биошампуня «Три-до-дыр» или поливитаминов «Мечта дистрофика». Звали парня Вася Монахов; одно время его и называли — Монах, пока он однажды, в изрядном подпитии, не взгромоздился на каком-то празднике на коника. Коник был тих и понур, катал себе деток и честно отрабатывал паек, пока его не оседлал Василий. Озадачил девочку-погонялу, которая водила ветерана конезавода под уздцы строго по кругу, денежкой, да и вид могучего обнаженного торса — стояла жара, а развлекательное мероприятие проходило за городом — произвел на девчушку впечатление… Решив, что перед ней новый нибелунг во плоти, барышня легко передала бразды в руки Василия и отошла полюбоваться мастерством выездки. Вася подобрал поводья…
Коник, почувствовав на себе могучего, но совершенно неопытного да к тому же пьяного «в лоскуты» седока, решил, что ему выпала редкая и, наверное, последняя возможность показать: были когда-то и мы рысаками! Ветеран сначала шел себе шагом, потом вдруг сделал немыслимый прыжок и — рванул! Поводья выскользнули из рук седока, он замахал руками, стараясь удержать равновесие, тело его, словно тряпичное, болталось в седле. Какой-то борзый фотокор навел объектив аппарата и щелкнул…
Монах, естественно, с коника приложился, но забыл бы о происшествии вскоре напрочь — чего не начудишь спьяну! — если бы через пару недель снимок фотокора не украсил популярный иллюстрированный журнал.
Снимок получился мастерский. Немного поработав ретушью, поиграв со светом и тенью, просидев ночку-другую за монтажным столом, фотохудожник добился поразительного эффекта: всадник стал кентавром, настоящим кентавром! И поскольку прямого монтажа не было, просто момент был схвачен в движении, в динамике, когда тело всадника словно слилось с телом животного… фото смотрелось с такой достоверностью, что стало кочевать с выставки на выставку, радуя автора удивлением публики, завистью коллег, призами, новыми заказами и гонорарами.
Сначала Вася хотел было разобраться с мастером объектива, но его подружки, видевшие фото «кентавра», приходили в такой раж и возбуждение, что… В конце концов Вася и сам рассмотрел снимок и, пробормотав нечто вроде «И чего спьяну не бывает», разыскал-таки фотографа и заказал ему экземпляр для себя — огромный, в полстены. Его он и повесил в спальне, напротив кровати.
И не ошибся! Вид рельефной мускулатуры, переходящей в тело жеребца, производил на дам-с такое впечатление, будто они лицезрели верхом не Васю, а могучий напряженный пенис! Глаза подруг влажнели и подергивались поволокой, словно у натуральных кобылок при виде породистого жеребца; самые настойчивые требовали играть с ними «в лошадки» и брать их исключительно «коньком»: становились к нему спиной, выгибались, подставляя «жеребчику» голые попки. Популярность Монаха и соответственно его табунчик стали расти в какой-то геометрической прогрессии.
Пацаны тоже привыкли называть его Кентавром; из книжки же он узнал, что настоящие кентавры водились с героями, были мудры и бесстрашны. Эту версию он и рассказывал всем и каждому. Ну а поскольку прозвище Монах подходило Василию, как дворняжке слоновьи «причиндалы», то он и стал Кентавром…
…Автрахан внимательно выслушал рассказ. Все ясно-понятно, кроме одного: если Кукла — овца, случайно попавшая в чужие разборки, то как там оказался этот?..
— Выяснили, как убили Снегова?
— «Стрелкой», — выступил вперед незаметный мужчина лет пятидесяти.
— Что за «стрелка»?
— Это из арсенала диверсантов. Очень высокого уровня. Выпускается из небольшой трубки размером с авторучку. Бесшумна. Смерть мгновенна.
— Видел. В кино. «Ошибка резидента» называется.
— С тех пор оружие существенно усовершенствовали. Сама «стрелка» может легко пробить на расстоянии в десять-пятнадцать метров даже черепную кость, но все же удобнее — в мягкие ткани. В течение минуты-двух «стрелка», изготовленная из специального материала, полностью исчезает. Обнаружить ее невозможно, как и следы яда. Врачи уверенно констатируют смерть от сердечного приступа.
Автархан напряженно задумался. Чувство утраты словно притупилось — все вытеснило холодное желание мести.
— Кто может быть вооружен таким оружием?
— Хотя оно и не афишируется, сейчас — кто угодно. Деньги покупают все.
— Стрелял этот парень, к которому подсела пацанка?
— Еще не выяснили, но скорее всего, да. Разговор у них был очень напряженный…
— Так, — произнес тихо Автархан. — Так. Я хочу, чтобы вы нашли их. И парня и девку. Нашли и уничтожили! Еще лучше — захватить! И вызовите Ливана. Я хочу, чтобы их смерть не была легкой, как яд… Яд покажется им раем! — Мужчина замолчал, добавил едва слышно:
— Яд жизни. Круг мироздания.
Глава 18
Вперед и вверх! Этот немудреный девиз пришел на память Гончарову мгновенно: в горах «вперед и вверх» часто означало единственную возможность выжить.
Закрепиться на высотке, чтобы тебя уже не могли обойти, и ждать, когда подойдут «вертушки»… Они могли и не подойти. Тогда… «Мертвые сраму не имут». Попадать к «духам» живым для спецназовца означало лишь обречь себя на бесконечно долгие муки. Поэтому дрались насмерть. И — выживали.
В темноте Олег крепко схватил девчонку за запястье и рванулся ко входу на второй этаж. Там была такая же паника и неразбериха, как и внизу. Свет… Он так много значил в жизни людей, что его перестали замечать. Вернее, замечают, когда он исчезает.
В здании Гончаров ориентировался неплохо: все эти старые дома однотипны. Черная лестница, с нее можно выбраться вниз, на улицу, позади здания. Но вниз как раз нельзя: перехватят. Вверх. Вперед и вверх!
Замок на чердак был крепким, зато запор — хлипким: от первого же рывка гнилая древесина хрупнула, скоба вывернулась. Олег и Аля поднялись по скрипучей и местами такой же ненадежной деревянной .лестнице на чердак, выбрались через слуховое оконце на крышу.
— А на воле-то как хорошо, — улыбнулся Олег, пародируя хрестоматийного Вовочку, вернувшегося из швейцарской ссылки.
Девушка посмотрела на него; на лице ее застыла странная улыбка, словно она способна была сейчас или рассмеяться, или расплакаться. Но ей казалось, что слез уже нет. Как и выхода. Выхода нет. Только один. Аля встала и, словно слепая, побрела к краю крыши. Один шаг — и все кончится. Все. Она двинулась быстрее…
— А вот этого не надо. — Гончаров перехватил девушку, развернул к себе лицом.
— Пусти меня. Я устала. Наверное, меня не ждали в этом мире. Никто. Если я уйду, всем будет легче.
В ее взгляде усталость и безразличие… И еще — страх.
— Прекрати бояться, слышишь, перестань, — тряхнул ее Гончаров.
Она смотрела на него слишком спокойно:
— Я не боюсь. Ничего.
— Не лги. Ты очень боишься. А от страха умирают. Этого нельзя. Нужно выжить.
— Зачем?
— Назло!
— Я не хочу выживать назло…
— Аленка… Сейчас не время и не место читать нотации. Но ты должна понять!
Радость тех, кто желает тебе зла, смерти, есть еще большее зло! Понимаешь! Нельзя погибать! Нужно выжить!
— Я устала, — произнесла девочка совсем жалобно, — губы ее дернулись. — Я устала!
— На этот раз она почтив выкрикнула фразу, тело ее напряглось…
Не раздумывая ни о чем, Гончаров с маху влепил ей пощечину. На мгновение Аля застыла, вдруг разом обмякла в его руках; Олег ее не удерживал, и девушка опустилась на настил крыши. Слезы хлынули разом, девушка раскачивалась из стороны в сторону, причитая:
— Почему… Почему вы меня бьете… Почему… — Она хлюпала носом и всхлипывала, переводя дыхание, словно маленький ребенок; эффектная девушка исчезла, осталась обиженная, растерянная девчонка, глядевшая на мужчину с недоверием и… надеждой.
Олег облегченно вздохнул: истерики теперь не будет. Спросил буднично:
— У тебя платок есть?
— Что?
— Платок. Носовой. Лучше — чистый.
Девушка огляделась, возвращаясь в реальный мир.
— Платок? Должен быть. Почему мы на крыше?
— Залезли.
Алена щелкнула замком сумочки.
— Ого! — только и произнес Олег, извлекая оттуда пистолет. — Откуда такое богатство?
— От верблюда.
— Тоже хорошо. — Понюхал ствол, хмыкнул, отщелкнул обойму, вставил на место.
Заглянул еще раз в сумочку, вынул глушитель, еще раз осмотрел ствол пистолета, произнес едва слышно:
— Резьба стандартная. Фабричная. — Привернул металлическую трубку к стволу. — И где же такие верблюды водятся?
— Где-где…
— А вот продолжать не надо. Оставим вопросы до лучших времен. Как и ответы на них. — Помолчал, глядя на небо в сиреневых проблесках маяков служебных машин. — Если ответы, конечно, будут.
— А если нет?
— На нэт и суда нэт, — развел руками Гончаров. Прислушался к суете внизу. — Однако засиделись мы здесь, милая барышня. Пора отчаливать.
— Далеко?
— Жизнь покажет.
— И когда она это покажет?
Олег не ответил. Тихонько подобрался к краю крыши и осторожно заглянул за парапет.
— Ну что там? — еле слышно спросила девочка.
— Как в песне. «Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный „воронок“…» — с чувством пропел Гончаров.
— Идем?
— Рано. Пока вяжут пехоту, пока строят посетителей… Генералов понаехало…
Он двинулся к яме люка. Остановился, опустился на крышу.
— Присаживайся. Отдыхать будем.
— Так, может, в самый раз — проскочим?
— Или не проскочим. Запомни, милая барышня: ожидание — просто другая сторона стремительности, натиска, напора. И неизвестно, что требует большей воли.
Куришь?
— Иногда.
— Тебе прикурить?
— Ага, Если можно.
— Еще как можно. Даже нужно. Только огонек прикрывай, ладно?
— Да.
Олег накрылся полой пиджака, чиркнул кремнем. Вынул изо рта сигарету, подал девушке, другой с удовольствием затянулся сам:
— Нигде так не курится, как ночью, на свежем воздухе, в компании хорошенькой девочки и на крыше!
— Я хорошенькая?
— Алена, ты просто красавица. У меня не было времени сказать это раньше. — Олег затянулся, выдохнул, щурясь от дыма; — Слушай, а может, тебе сдаться?
— Как это — сдаться? Ты же сам сказал…
— Нет, я в прямом смысле: пойти и сдаться ментам. Хотя… из пистолета ты стреляла, и, судя по всему, метко… Аля только свела губы.
— Ладно. Это была самооборона. Ведь так? — Олег в упор смотрел на девчонку.
— Да. Так. Но от этого не легче. Я… Я потом чуть не застрелилась в парке.
— И что помешало? Или кто?
— Мама и папа…
— Ну… Я вспомнила их… руки. И голоса. Я ведь совсем не помню своих маму и папу… Только это очень долгая история.
— Потом расскажешь, — согласился Олег. Добавил:
— Если захочешь. Стрелять умеешь, как я понимаю?
— Да.
— Тогда держи. — Он протянул ей оружие. — Кстати, откуда у тебя такой шедевр?
Последняя разработка, этого года выпуска. О ней и вспециальных журналах если что и было, то и то мельком.
— Трофей, — коротко пояснила Аля. Гончаров посмотрел на нее очень внимательно:
Слушай, а ты актерскому мастерству не обучалась?
— Не-а. Но каждая настоящая девчонка от природы артистка. Вам, сильному полу, не понять. Вы порой тупые, как бронепоезда: всего два хода, вперед и назад.
— Пожалуй. Но может, это и хорошо?
— Почему это?
— В бронепоезде что ценно?
— Уж точно не маневренность.
— Угу. Огневая мощь. И — надежность. Абсолютная надежность.
— Хм… — Улыбка девушки сложилась в горькую складку. — Знавала я одного… Тот не то что на броник, на дрезину ржавую не потянет.
— Ну и как звали того колесного?
— Какая тебе разница? Человек без имени.
— Понятно. Порожняк.
— Как ты сказал?
— Порожняк.
— Надо же… В самую точку.
— Ты не расстраивайся сильно, Аленка. Значит, время еще не пришло.
Когда-нибудь…
— Гончаров… — оборвала его девочка. — Мне то же самое говорила одна подруга…
Вот интересно, это у вас от воспитания?
— У кого это — у нас?
— У старшего поколения. Или возрастное?
— Благоприобретенное, — досадливо хмыкнул Олег.
— А вот и нет. Просто… Просто вы романтики. Да. Романтики и идеалисты.
— Не все.
— У вас такого нет. Вообще нет. И боюсь, никогда уже не будет. Наверное, просто жизнь как-то переломилась, и вы остались с той стороны перелома, мы с этой. И всем нам не хватает чего-то… Вам — нас, нашей молодости и понимания мира как данности, нам — вас, вашей убежденности в правоте, вашей романтики… Но такого не будет. Никогда. А жаль.
— Сколько тебе лет? — удивленно спросил Олег.
— Ну вот. Подруга задавала тот же вопрос. Ты знаешь, — с искренним удивлением произнесла Аля, — а мне вдруг стало не страшно. Совсем не страшно. Ведь когда-нибудь это закончится?
— Обязательно.
— Вот. Я потом тебе расскажу все. Просто… Когда сидела в квартире и ждала, мне было жутко. До какого-то дикого отчаяния… Так жутко не было еще никогда Потом… Потом все будто сон какой-то… Ты знаешь, моя жизнь вся — как сон, словно я живу не свою жизнь, чужую…
— А может, ты — зомби? — хмыкнул Олег.
— Да не верю я во всю эту галиматью!
— И правильно делаешь. Психика человека — вещ умозрительно тонкая. И хотя все мы процентов на девяносто одержимы стереотипами или, говоря точнее, архетипами, сочетание архетипов и индивидуальности даст такой причудливый узор, что вмешаться в него любому психиатру не под силу.
— Да? А как же тогда кодирование? От алкоголизма там, еще от чего?
— Эта хитрая и с виду мудреная штучка базируется на одном: на желании клиента, на его собственной воле. Кто хочет пить, продолжают, хоть ты их завнушай!
— Погоди, Олег! Я же читала про психотропное оружие. Если человека накачать, скажем, наркотиками… А в одной книжке тоже читала: там человеку стерли его собственные воспоминания и заменили другими, чужими… Выдуманными. Может, и у меня так?
— Человек не машина. Его нельзя программировать так, как вздумается какому-нибудь ученому гуманоиду. Душа непостижима и бесконечна… Знаешь, начало средних веков было временем мистики. О душе тогда знали куда больше, чем сейчас… Святой Августин тогда же и сказал: «Проникнуть в душу может лишь Тот, Кто ее создал».
— Все это утешительно, но… Олег… Ты такой умный. Может быть… Может быть, ты скажешь, почему я ничего не помню?
— Совсем ничего?
— О своем детстве. До десяти лет, до того, как попа в детский дом.
— Наверное, знаю.
— Да?
— Когда-то в твоем детстве произошло событие, скорее всего трагичное или страшное настолько, что вызвало тяжелейший, глубокий шок… Настолько страшное, что могло бы стать причиной полного разрушения твоей психики, твоего сознания, твоей личности. И тогда память просто-напросто заблокировала все воспоминания об этом событии или цепи событий, а воля, твоя воля, действуя в режиме защиты твоей психики, твоей души от этого разрушения, загнала их глубоко в подсознание…
— Но сейчас я же хочу вспомнить хотя бы своих родителей и не могу! Совсем не могу!
— Значит, время не пришло.
— Опять «время»… А когда оно придет, это время?
— Время есть категория изменения всего сущего. Мира вокруг, людей, их мыслей, стремлений, состояний… Когда ты будешь готова вспомнить, ты вспомнишь. Все.
— Ты знаешь… Я должна вспомнить. Потому что… Потому что у меня такое ощущение, что без этого я и не живу вовсе… Просто переживаю собственную жизнь.
А ведь другой не будет…
А вот это он хорошо знал. Два года… Два года он пережидал собственное одиночество. Или больше? И одиночество началось давно, когда семья превратилась в имитацию семьи?.. Переждать… Пережить… Перейти из этой жизни в другую.
Добрую, счастливую. Выбери себе жизнь и живи.
— Ты вспомнишь, — произнес он.
— Думаешь?
— Уверен.
— Когда буду готова… До этого… До этого дожить нужно.
— Кто бы спорил.
Олег легонько подошел к карнизу, снова осторожно посмотрел вниз. Вернулся, тихо сказал: «Пошли!» — и первым спустился в черный провал люка.
Глава 19
Дальше были коридоры. Темные и пустые, словно катакомбы.
Мужчина и девушка двигались едва слышно, замирая при любом шуме. Спустились на второй этаж. К счастью, на первом пролете никто не маячил, омоновцы стояли ниже, у самого выхода. Слышно было, как они разговаривают. Олег сделал шаг вниз и тут же метнулся назад, присел за перилами, увлекая за собой девушку.
Фигура в камуфляже вынырнула из коридора цокольного этажа.
— Никого, — сообщил он, двигаясь на выход.
— А чего там вообще хорошего? — спросили у него.
— Склады. И пара кабинетов.
— Начальственные, что ли? Они что, себе местечка получше, чем цоколь, не подыскали?
— Да не, там что-то вроде костюмерной. Видно, для шлюх: костюмы как в театре, парики, плетки какие-то, ну, не такие, какими дух вышибить можно, а как в кино… Там же, наверное, их и «топчут», только не клиенты, а братанки, задаром, им положено.
— Суки…
— Кто? Давалки?
— Да вообще… Суки все… Тут пашешь как конь, а зарплата… А эти… Плюну на все и в охранники к ним подамся. Хоть в этот кабак… Без жорева и порева, думаю, здесь сидеть не стану…
— Дурак ты, Серый… Сегодня — жорево, завтра — баланда. Оно тебе надо?
— Дурак не дурак… Тут вся жизнь как баланда… А где Костика потерял?..
— Да щас выйдет. Там выпивки и жрачки — немерено.
— Ты чего, окосел — на задании?
— Всякое задание когда-нибудь кончается. Тут уже всего ничего разобраться осталось. Сменимся — и гуляй банда! А у тебя есть на что? То-то… И у меня нету. А тут той жрачки — хоть попой ешь!
— Погоди… Стецко сказал, «Гарпун» вводят с «Неводом».
— Вот и славно: повеселимся! А веселиться на трезвую голову — это хуже, чем телке насухую вставлять, уразумел, молодой?
— Ладно. Хозяин барин. Ты — начальство, тебе виднее.
— Вот именно.
— Не озябли, шнурки? — Костик вышел из цокольного слегка навеселе. На плече висела сумка, основательно тяжелая. — Приложитесь, пока Бурбон не видит.
— А где он?
— Да все в зале, где же еще. Посетителей этого борделя сеет. Ты же знаешь, он любитель.
— Бурбону бы в НКВД работать — цены б ему не было!
— Ты брось, Бурбон — на своем месте. Ты стакан-то захватил?
— А как же!
— Так, пацаны. По сто пятьдесят, и не больше. Уразумели?
— Как скажешь.
— Уже сказал.
— Тогда разливай, чего зря воздух молотить?
Омоновцы затихли.
Олег сделал девушке знак рукой: вниз. Они спустились в цокольный этаж. Здесь горело тусклое дежурное освещение, все двери были распахнуты. Они заглянули в одну комнату, в другую.
— Ну и как мы отсюда выберемся? На оконцах решетки — только танком такие своротить, — сказала Аля. — Да и ты в такое не пролезешь.
— Годы. Толстый стал.
— Зато не ленивый.
— Не. Не ленивый. — Олег пододвинул к оконцу ящик. — Слушай, а ты и вправду классно стреляешь?
— Да. Мастер спорта.
— Какие люди и без охраны… Забирайся сюда. — Он протянул девушке руку.
— Ну?
— Смотри. «Ниссан» видишь?
— Это не «ниссан», это «тойота».
— Да нет, Алька, там, у скверика. Метров сто до него.
— Ну вижу.
— В бензобак из пистолета — слабо?
— В бензобак?..
— Ты чего, слышишь плохо?
— Хорошо слышу, только…
— Без вопросов. Только ответы. Попадешь или нет?
— Постараюсь.
— Постарайся. Очень постарайся.
— А вдруг там сидит кто-то? — Никого там нет. — Откуда ты знаешь?
— Я же просил: никаких вопросов, — раздраженно произнес Олег. — Считай, интуиция.
— Тут стекло в окне.
— Ну, это дело поправимое…
Подошел к выходу из коридора, прислушался. Видно, служивым спиртное пошло как нектар; слышался веселый говор, смех; кто-то рассказывал о последнем любовном приключении, нарочито привирая, его ловили на слове, он гнул свое… Короче, Юстас Алексу разрешил расслабиться.
— Ну что там? — спросила Аля, когда он вернулся.
— Бойцы вспоминают минувшие дни… Все идет по плану. — Гончаров нагнулся, обмотал тряпкой кулак, встал на ящик и одним коротким резким ударом проломил стекло. «Крэк» — звук был глухой.
— Ну ты даешь. А у меня сердце в пятки провалилось: думаю, звона будет…
Знаешь, я почему-то очень стала бояться шума. Особенно резкого.
— Это нервы. Потом пройдет.
— Думаешь?
— Ага. Когда-то я от выхлопа авто падал на землю и искал рукой ствол… Белым днем, в центре города… Потом прошло. С «глушаком» тоже попадешь?
— Я же говорю: постараюсь. — Аля деловито достала оружие, прикинула в руке, стараясь почувствовать центровку.
— Ну и как?
— Отлично сбалансирован. Даже с этой «трубой».
— За что боролись… Пистоль этот штатовцы для шпионов работали, факт. Где бензобак у этой колымаги, знаешь?
— Ага. Однажды меня на таком катали.
— За город? Пикничок? Банька? — Не болтай под руку…
— Виноват. Исправлюсь.
Алена прицелилась, держа оружие двумя руками. Нежно, плавно спустила курок.
Хлопок, пистолет подпрыгнул в руке.
Было видно, как пуля искоркой чиркнула по металлу автомобиля.
— Чуть правей и ниже… — прошептал Гончаров. Девушка вдохнула, выдохнула, снова плавно, медленно навела ствол.
* * *
Вспышка полыхнула в полной тишине, осветив ночь, будто алая сигнальная ракета; грохот взрыва разметал пламя, разваливая машину. Мужчина и девушка замерли.
— Да! — довольно выкрикнул Гончаров, увидев, как все четверо омоновцев, стоявших у выхода, бросились к взорванному автомобилю. Резюмировал:
— Менты — они как дети… — Повернулся к Алене. — Быстро!
Пробежали по коридору, выскочили из дверей, метнулись вдоль здания, скрытые его тенью… Впереди был скверик.
Машину с потушенными габаритками они не видели и вышли бы прямо на нее… Но тут из-за угла выехал «луноход», Гончаров толкнул девчонку, ничком упал на нее.
«Уазик» проехал метров двадцать и остановился. Оттуда выпрыгнули служивые с автоматами на изготовку. И тут — завелся мотор стоящей в тени деревьев «Волги».
Сквозь острые кусты Олег увидел в свете фар «лунохода», мазнувших по ветровому стеклу, сидящего рядом с водителем грузного мужчину.
— Ой! — вскрикнула Аля, подняв голову.
Олег зажал ей рот ладонью, но девушка с неожиданной силой вырвалась, пытаясь направить на «волжанку» пистолет. Автомобиль на большой скорости выкатился задом из сквера, выехал на дорогу, на газах развернулся и умчался в ночь.
Вслед ему прогрохотали две автоматные очереди. Завелся мотор «уазика», «луноход» тронул с места, но тут же остановился. Видимо, водитель понял бесперспективность преследования: у черной «Волги» был явно форсированный мотор, да и коробка передач переделана — с места она ушла на четвертой задней скорости. Было видно, как офицер что-то кричит в рацию…
Алена лежала, сжавшись в комок, закусив кулак до крови. Плечи ее сотрясала дрожь, Олег сжал ее крепко и не отпускал до тех пор, пока тело ее не обмякло.
— Только не плачь, пожалуйста, не плачь…
— Это… Это был он, там, в машине… Тот, со шрамом…
— Дьявол! — выругался Олег.
Замер, пытаясь что-то вспомнить. Лицо этого человека… Оно было ему тоже знакомо… Но поймать это неуловимое ощущение никак не удавалось. Гончарову подумалось, что, если бы он увидел мужчину из автомобиля еще раз, он бы вспомнил, непременно вспомнил! Он его видел раньше? Кажется, да… Вот только когда и где? Олег прикрыл глаза… Лица, лица калейдоскопом неслись из памяти, сотни, тысячи, десятки тысяч лиц… Скольких же он повстречал за последние «судьбоносные» годы?.. А лицо этого он видел… Ну да, он не помнит, когда и где, но при дневном свете! Или в другой одежде? Нет, никак!
— Дьявол, — сквозь зубы повторил Гончаров.
— Что он дьявол — это точно… — прошептала девочка.
Олег поднял голову, огляделся. Все наличные силы милиции и ОМОНа кучковались вокруг взорванного автомобиля. Аля тоже смотрела туда.
— Слушай, — прошептала она. — А вот интересно, что бы сказал тебе и мне человек, машину которого мы превратили в кучу железа.
— Ничего. Он бы одобрил.
— Ты знаешь владельца?
— Ага.
— Какой-нибудь крутой?
— Очень крутой.
— А кто?
— Я.
— Ну ты ще-е-едрый… Слушай, ты что, миллионер?
— Остатки былой роскоши. Гори они огнем!
Белый «форд-скорпио» выскочил из уголочки на запредельной скорости, сержант-омоновец отреагировал адекватно; очередь из «калаша» вырвала перед автомобилем фонтан асфальтовых брызг. Взвизгнули тормоза, «форд» крутнулся на месте и неловко, боком впилился в «луноход». Бойцы бросились вынимать незадачливых пассажиров. Все они, включая водителя, были пьяны в полный Тарарам; где они наливались — неведомо, но о разборке у «Валентина» вряд ли чего слыхали и направились сюда продолжить веселье и оторваться по полной программе…
Оторвались не они. Бойцы, злые как черти, выдергивали гуляк из авто, методично прикладывали о капот собственной машины и укладывали рядком, не забыв наварить дубинкой, которая по полному недоразумению прозывается «резиновой», по затылку каждому.
До улочки, которая казалась совсем пустой, было метров двадцать, не больше.
— Рванули! — шепотом приказал Олег.
Пригнувшись, они скользнули за кустами; из «лунохода» их не заметили, а бойцы — тех от дела оторвать было бы сейчас труднее, чем быка от красной тряпки…
Проскочив открытое пространство, мужчина и девушка свернули в проулок, пробежали проходной двор и растворились в вязком предутреннем тумане.
Красу было погано. Так погано, что и не передать. Судьба в последнее время взялась шутить с ним злые шутки. Впрочем, других он за этой теткой и не помнил.
По крайней мере, по отношению к себе.
Забавно. Ха-ха. Ну да… Жизнь — штука забавная, но вредная. От жизни умирают.
Чаще — безвременно. Да. Безвременно умирают как раз те, кто не сумел вписаться в изменившееся время. В изменившийся мир. Или создать свое время и свой мир. Бред.
* * *
— Черт! Как все некстати! — Он вставил сигарету в расщелину рта, чиркнул кремнем.
— А от ментов ушли мастерски! Они ждали на Соколовском бульваре, а мы проскочили проулками. Если бы «Невод» уже опустили, такого везенья бы не было.
— Везенье? Но этих двоих, Куклу и Одиночку, мы упустили.
— Сейчас упустили, потом наверстаем.
— Некогда наверстывать. Если их повяжет ОМОН…
— У меня такое чувство, босс, что не повяжет. Этот мужик — парень еще тот, я же говорил.
— Тот, этот… Через час-полтора будет Лир. Что делать станем? Стреляться?
— Зачем? Нарисуем портрет этого паренька, и начнется обычная оперативная работа.
— В обычной оперативной работе все карты — на руках у организованных официальных структур.
— Не всегда. Да и что знают эти структуры? Пока у них на руках рассыпанная колода, и ничего больше. В которой не хватает оч-ч-чень многих листов.
— А ты красноречив, Котин. Как это я раньше не замечал?..
— Куда рулить-то, босс? — перебил тему Наблюдатель.
— На Донцова. Будешь фоторобот составлять.
— Понял. — Помолчал, спросил:
— С машиной что делать?
— Выбросить.
— Прямо сейчас?
— Ну не ехать же на ней в Центральную. Или ты думаешь, Лир душевно поблагодарит нас, если его встретит бригада костоломов здешнего спецназа?
— Было темно. Они вряд ли заметили номера. А черная «Волга» ночью…
— Ты не выспался, Котин. Или устал. Черная «Волга» ушла от них на скорости хорошего гоночного автомобиля. Стоит любому, кто усомнится, открыть капот…
— Разве спецназ когда-нибудь сомневается?
— В спецназе разные люди работают. Каждая контора желает иметь у соседей-смежников «глаза» и «уши». Которые поставляют информацию «мозгам», а «мозги» на то и поставлены, чтобы думать. От машины избавишься, и жду тебя немедленно. Понял?
— А чего тут понимать…
— Ты понял, Котин?
— Выполнять.
— Высади меня на перекрестке.
«Волга» притормозила, вильнула к обочине и, едва человек со шрамом хлопнул дверцей, умчалась во мглистую, уже готовую смениться пасмурным темным утром ночь.
Глава 20
Крас прикрыл за собой тяжелую бронированную дверь, замер, прислушиваясь. В квартире никого. Если бы кто-то был, он бы почувствовал. Именно так: не услышал — почувствовал.
Он прошел на кухню, вылил себе в стакан остатки коньяку, выпил в два глотка. Вкуса не ощутил. Как и облегчения. Тяжелая, тупая усталость, безразличие… И еще — тяжесть, она была хуже боли, хуже жажды, хуже всего… Едва он прикрывал глаза, как видел перед собой связанную голую девчонку, беспомощную перед его силой и властью…
Да! Этот напряг нужно снять немедля! Взять машину, поехать куда-то в центр…
Снять первую попавшуюся малолетку, отстегнуть ее бритоголовым сутенерам денег впятеро, привезти девку сюда… И тогда…
Он чувствовал биение собственного сердца так, словно оно стучало не в груди, а на препарационном столе неведомого вивисектора. Голова плыла куда-то…
Подсознание словно проснулось: он увидел едва занавешенный четырехугольник окна, за ним — пьяная неопрятная тетка, рядом с ней — девочка в платьице, закутанная в залатанную кофту… И кто-то еще… Ну да, он видел эту картинку из собственного окна… Вчера или позавчера…
Крас, не включая света, подошел к окну: да, вот оно, оконце на четвертом этаже в пятиэтажке напротив, занавешенное тряпкой, мало похожей на штору… Свет не потушен. Нечесаная тетка сидит, уперев локти в стол… Алкоголичка. И у нее есть дочь. Лет двенадцати, не больше. Хрупкая, запуганная… Нежный цветочек, выросший на помойке… Все остальное стало для Краса неважным. Вернее, перестало существовать вообще.
Почти машинально он оделся и вышел в гулкий подъезд. Спустился по ступенькам.
Дыхание его было частым, ему казалось, что шрам пульсирует ярко-алым, рассудком он понимал, что этого не может быть, но рассудок все чаще затмевался одним-единственным видением: связанная, раздетая донага девочка… Он потрогал лицо; ему казалось, что шрам снова стал уродующим, багровым, что он налит кровью…
На улице Крас не ощутил никакого облегчения. Было сосем раннее утро, немного потеплело, воздух стал густым и влажным, и он задыхался в этой влаге…Во дворе стояла почти абсолютная темень, только два-три окна зажглись в окружающих домах… Ни о чем не думая, ничего не просчитывая, он направился к подъезду, прикинул квартиру… Поднялся на четвертый этаж. Сердце колотилось.
Дверь была обшарпанной и жалкой. По-видимому, ее не раз и не два открывали пинком: хлипкая щеколда замка держалась неизвестно как. Звонок был оборван. Крас замер на мгновение, поднял руку и отчетливо постучал.
— Кого несет? — настороженно спросил хриплый женский голос.
— Василий, — ответил он наугад так же хрипло, чувствуя, как перехватывает горло.
— Какой Василий? От Вовки, что ли? Крас пробурчал нечто невнятное.
— Чего надо? — спросили за дверью.
— Да баба выставила, — сымпровизировал он. — У меня два «пузыря», распить бы…
Дверь приотворилась, показалось испитое лицо «синеглазки»; ей можно было дать тридцать пять, а можно — и все пятьдесят.
Оглядев мутным взглядом незнакомого мужчину, тетка потребовала:
— Покажь…
Вместо ответа, он с силой толкнул дверь, впихнул женщину внутрь.
— Сходи сама, только живо! — протянул ей деньги. Та алчно впилась взглядом в две крупные купюры. Кто этот мужик и откуда — даже не поинтересовалась.
— Ты это… располагайся, — произнесла она скороговоркой. — Я мигом! Ага?
— А этого… твоего… нет? — наугад спросил Крас.
— Лешки? Не. Только Катька. Спит. Я одним духом…
Тетку колотило. В том, что она напьется прямо у ларька, Крас не сомневался.
Суетясь в предвкушении скорой опохмелки, она накинула пальтецо; карман оттопыривался: стакан. Вышла, старенькие туфли дробно застучали по ступенькам гвоздиками набоек.
Крас осмотрел дверь. Прикрыл, как мог, набросил щеколду…
Девочка спала во второй комнате под стеганым лоскутным, грязным донельзя одеялом. Он зажег свет… Девочка сонно приоткрыла глаза… Сейчас она испугается, закричит, и1 тогда… Все они дикие, похотливые шлюхи… И эта станет такой же, когда вырастет… Нет, теперь уже не станет… Он вылечит ее.
Он освободит ее душу. Болью. Болью и смертью плоти… Сейчас… Сейчас она лишится невинности и умрет… Умрет от высокой боли, боли наслаждения, так и не познав всей мерзости этого гнусного мира… Ее тоненькая шея переломится в его руках легко, как тростинка…
Крас облизал разом пересохшие губы, чувствуя невероятное возбуждение, трясущейся рукой взялся за край одеяла и разом сорвал его с девчонки…
Та спала одетой: в теплых колготках и шерстяной вязаной кофте. Привстала на постели, без малейшего испуга посмотрела на мужчину, на его вздувшиеся спереди брюки, на трясущуюся руку, сжимающую грязное покрывало.
— Ты, дяденька, не волнуйся шибко, а то кончишь сразу, — произнесла она спокойно, даже участливо и… стала стягивать колготки вместе с трусиками. — Ты мамашке деньги отдал?
Крас почувствовал себя так, будто вместо девчонки на постели он увидел муляж.
Глядел на тонкие, белые, в пятнах синяков ноги… А девочка смотрела на его штаны.
— Чего, упал? Не переживай, дяденька, щас я все как надо сделаю, и у тебя получится… Кофту тоже снять? — буднично поинтересовалась девочка. Со скукой заглянула в глаза. — Или ты — лизун? — Она раздвинула ноги, затем, пальцами, губы:
— Ты не сомневайся, я чистенькая, меня мамашка мыться приучила… Ну?
Будешь?
Крас стоял неподвижно. Обвел глазами замызганную комнатку: здесь пахло алкогольным и табачным перегаром, спермой, нечистым бельем.
— Чего, передумал? Ну тогда я оденусь пока, а то холодно. Ноябрь уже, а когда затопят — неизвестно. — Девочка вздохнула по-бабьи, подняла с пола колготки и стала аккуратно натягивать на ступни. Потом снова посмотрела на Краса:
— У тебя, дяденька, водка ведь есть?
— Что?
— Ты водки выпей, только чуточку. А то ты занервничал сильно, вот у тебя и… А выпьешь, все и настроится. — Потом глянула на дверь в другую комнату, перешла на шепот:
— Ты в другой раз мамашке не все деньги отдавай, ладно? Она все одно пропьет, а ей шаль надо купить, скоро зима, а у нее ни шапки, ни шали, — вздохнула девочка. Добавила по-взрослому:
— И за квартиру уже полгода не плочено. Ты, дяденька, деньги пока не забирай, я же не виновата, что тебе расхотелось. А то мамашка меня побьет. Я ей говорю: не бей, синяки же долго не проходят, видишь, на ногах какие, кому это понравится? А она бьет и бьет… Она уже три дня как злая… Не забирай, ладно? А я тебе потом за так дам, уговор? А то водки щас выпей и снова приходи… Я все как надо сделаю, я умею. А кофту я нарочно не снимаю, надо подождать, пока груди вырастут. У нас в классе у двоих девочек уже такие — закачаешься. А у меня — никак. Говорят, капусту надо есть, а она щас дорогая… Зато у меня ноги красивые, мне все говорят… — Девочка вздохнула, натянула одеяло до подбородка. Устроилась головой на подушке, свернулась калачиком. Произнесла едва слышно:
— Холодно очень… А мамка у меня не всегда такая злая. На самом деле она хорошая. Просто жизнь у нее плохая… Не забирай деньги, ладно? Приходи, когда хочешь…
Девочка закрыла глаза и, казалось, сразу уснула. Он смотрел на нее, не понимая, что теперь делать. Опустил руку в карман. Нащупал рифленую рукоять пистолета.
Неожиданно она подняла голову:
— Я забыла сказать: меня Катя зовут. А тебя как, дяденька?
— Меня? — Крас запнулся, пытаясь вспомнить свое имя, И не вспомнил. — Этот…
Игорь, — сказал он первое пришедшее на ум.
— Ты, дяденька Игорь, приходи… Я тебе открою… Девочка устало опустила веки и через секунду уже спала. Крас щелкнул выключателем. Настала тьма. Рукоять пистолета нагрелась в его руке. Но… рука словно приросла к ней, отяжелела так, что вытащить оружие он бы не смог даже под угрозой смерти. Неловко, левой он полез во внутренний карман пиджака, ухватил оставшиеся там купюры, вытащил и разжал пальцы. Тишина стояла такая, что, казалось, он слышит, как они падают на пол… Будто листья осени… Той, далекой, когда он был пацаненком и валялся в их пахучих ворохах в городском парке, и жизнь была впереди, и могла быть такой же лазурной и чистой, как бездонное небо того ясного сентябрьского дня… Могла бы…
Он вышел в коридор, открыл дверь, захлопнул… Щелкнул замок, открыть который было легче легкого…
— Уходишь уже, Костик? Ой, извини… Как тебя зовут-то, забыла?
«Мамашка» невидяще пялилась на мужчину; уже, наверное, минут пятнадцать она, едва держась на ногах, пыталась подняться по лестнице. Бессмысленно улыбаясь, волокла за собой пакет с водкой.
— С дочушкой-то с моей поласкался?.. — хихикнула она. — Нет? Ну так я ей задам!
— В осоловело-пьяных глазах вдруг, словно воспоминание, мелькнул испуг. — А денег у меня уже нету. Потратила все. Приходь потом… Я ее, козу, выпорю, шелковая станет… А то сам выпори… У меня Лешка, хахаль мой, страсть как это любит… Ему она не дает, я не велела… Вот он и злится… Пусть злится… У меня не бордель…
Что-то бормоча, «мамашка» поплелась дальше, мимо Краса, скорее всего забыв напрочь о его существовании.
Тот вышел на улицу. Тяжелый, полный влаги воздух душил. Крас сделал несколько шагов.
— Босс! А я уже забеспокоился!
Крас смотрел на Котина так, словно увидел его впервые. Тряхнул головой. И понял, что ничего не помнит. Что он делал в последние полчаса, где был…
— Нечего беспокоиться, — произнес он, с трудом разлепив губы.
— Вот и я думаю…
Только запах… Чего? Водочно-табачного перегара или прелых осенних листьев?
Мужчина снова тряхнул головой, сгоняя то, что казалось ему наваждением.
— От машины избавился?
— Вчистую.
— Спалил?
— Не-а. В канал за городом. И — концы в воду.
— Хорошо. — Крас глянул на часы. Самолет из Москвы прибудет через сорок минут.
Значит, Лир объявится часа через полтора. Не раньше.
Они поднялись в квартиру. Наблюдатель уселся за компьютер, нашел нужную программу, вышел на кухню:
— Кофеек-то у вас есть, босс? Тот посмотрел на Котина странно.
— Плохо себя чувствуете? — спросил тот участливо.
— Давление скачет.
— Тогда вам лучше чаю.
Котин залил кипятком «Нескафе», вернулся к компьютеру и принялся за составление портрета мужчины из ресторана, залегендированного как Одиночка. Крас подошел и стал сзади. Смотрел, как сменяются глаза, носы, губы… Снова глаза… Брови…
Глаза…
Опустил веки… Произошедшее несколько минут назад он вспомнил вдруг сразу, явственно. Мать-алкоголичка, девчонка без штанов… Глаза… Нет, не ее, другие…
— Стоп! — скомандовал он Котину. Тот поднял взгляд на Краса:
— Да, босс?
— Сохрани эту запись и открой новый файл. Тот быстро выполнил распоряжение.
Снова вопросительно уставился на босса.
— А сейчас составляем портрет девчонки.
— Куклы? А зачем? Все данные у нас есть, фото достать — плевое дело, она ведь моделью подрабатывала…
— Заткнись. Итак, глаза очень большие, серые… Разрез: немного раскосые…
Котин пожал плечами… Вообще-то начинать надо с овала лица и прически, ну да хозяин барин, а босс — тем более.
Он работал молча, следуя указаниям Краса.
На экране вырисовывалось лицо девочки лет десяти… Время от времени Крас замирал, опуская веки… Котину порой казалось, что тот сам не знает, чего хочет, какой портрет старается создать. И был прав, Крас работал от противного: с помощью компьютерного фоторобота пытался восстановить в памяти лицо, которое…
Внезапно всплыло другое: лицо женщины чуть старше тридцати… И вспышка выстрела… И лицо девочки, похожей на…
* * *
Крас почувствовал, как озноб прошел от шеи к пояснице… Или он просто заболел?
Помутнение рассудка, точно такое же, какое было, когда он стоял в комнате; этой маленькой шлюхи и думал об опадающих осенних, листьях…
А если он все-таки не болен, то… Кукла, эта стерва стреляющая, как боец спецназа, вовсе не Глебова Елена Игоревна, а… Крас еще раз всмотрелся в изображение… Закрыл глаза… Серые, огромные глаза девочки смотрели на него из темноты ночи…
Звонок в тиши квартиры заставил его вздрогнуть. Он снова глянул на часы: для Лира еще слишком рано.
Крас вынул пистолет, щелкнул предохранителем, подошел к двери. И услышал слова арии Мефистофеля… И стал белым как мел. Посмотрел на Котина — в лице помощника тоже не было ни кровинки…
Тот, кто стоял за дверью, был во сто крат опаснее, чем Лир. Его называли Маэстро.
Не открыть ему было нельзя.
Глава 21
— Ну здесь и бардак! — округлила глаза Алена, едва переступив порог квартирки Гончарова.
…Им повезло: они попали на автобус, который возил за город рабочих-строителей на возведение особняка какого-то крутого; шел он как раз в нужную сторону. И хотя тот кружил минут сорок по улочкам, собирая работников предприятия «Трансстрой», присутствие большого количества людей действовало на девушку успокаивающе. Люди, едущие на работу… Запах прелой брезентухи, бензина, шутливые подначки… Алена почувствовала себя так, словно все эти взрывы и сама ночь были не настоящими, а увиденными где-то, когда-то — в кино или во сне…
Умом она понимала, что это не так, но странная заторможенность сознания делала восприятие случившегося избирательным… И еще девочке вдруг показалось, что она способна это все забыть, забыть совсем, навсегда, так, что останется только ощущение тяжкого кошмара, какое бывает, когда человек уже днем пытается вспомнить неприятный свой сон и не может… Или Олег прав, и психика именно так защищается от саморазрушения: избирательностью воспоминаний, забвением всего злого, страшного, неприятного?.. Но почему она тогда так хорошо помнит и детдом, и Инессу, и психиатрическую больницу? Там уже точно ничего приятного не происходило… Или там было то, что ее волновало?.. Девушка даже покраснела, вспомнив… Нет, это совсем уже глупые заморочки…
По напряженно-замкнутому лицу Олега и отрешенно-усталому Лены рабочие, которые изредка с любопытством поглядывали на чужаков, видимо, сделали самый простой вывод: папашка отловил свою не очень путную дочку где-то в ночном клубе, прописал ей по первое число и теперь возвращает в лоно семьи. Одежда Гончарова тоже наводила на мысли: видать, бизнесмен из новых, а вот вишь как оно выходит — денег куры не клюют, а пацанкой никто не занимается, дела до нее никому нет, вот и вышла шалава. У Алены сложилось ощущение, что присутствующие в автобусе малярши вздохнули с облегчением, когда они выходили на окраине города: теперь можно было всласть посудачить о богатых, которые все жадины и жмоты и обирают народ, вот Бог их и наказывает… А некоторым, из тех, кто помоложе, и повздыхать: почему это их Коля, Вася или Альберт, которому за сорок всего, ходит обношенный, с пузом, водочку потребляет, когда можно и когда нельзя, ни денег от него, ни… Подтянутый, хорошо одетый Гончаров производил на своих ровесниц неизгладимое впечатление.
До шестнадцатиэтажки, стоявшей в ряду таких же урбанизированных конструкций посреди необжитого, засаженного тонкими чахлыми деревцами поля-стройплощадки, шли минут двадцать. Поднялись на седьмой этаж по уже загаженной, расписанной изображениями фаллосов и соответствующими надписями лестнице — лифт еще не включили. Гончаров отомкнул тяжелую бронированную дверь, отделанную хорошим деревом снаружи и хорошей кожей внутри.
Дверь была единственной роскошью этой однокомнатной. В ней царил самый настоящий бедлам: на широкой тахте скомканное одеяло походило на не ко времени поднятого от зимней спячки медведя, грозного и взъерошенного. Устеленный паласом пол был заставлен пепельницами, но хозяину они, похоже, служили лишь частью интерьера: сигаретный и сигарный пепел горками лежал там, где упал когда-то. На кухне угадывались очертания Монблана из немытой посуды; впрочем, по чашке с остатками кофе, стоявшей в прихожей прямо на полу рядом с затоптанным окурком, девушка легко определила: фарятьевский чайный сервиз, никак не меньше пяти штук «зелени». Аля оглянулась на Гончарова.
— Так ты здесь и живешь? — спросила она, удивленно: собственную машину, стоимостью по меньшей мере вчетверо превышающую стоимость этой берлоги, он приказал взорвать легко, словно был кувейтским эмиром или магнатом с капиталом в изрядное количество нулей после единицы.
— Да разве ж это жизнь? — сымитировал Олег интонацию торговца семечками с одесского Привоза. — Вы себе думаете, молодая барышня, шо можно жить, минуя всяких трудностей? И купюри, шурша, сами себе превращаются в брыльанты и падают на всякую голову? Таки нет! Я вам скажу: если у человека есть мозги, то они у него есть! И не делайте мне круглые глаза, вы же уразумели, дитя, об чем речь…
— Ты что, брал уроки актерского мастерства? — рассмеялась Аля.
— Скорее — делового. В детстве нашим соседом по квартире был Яков Соломонович Лисин. Всю жизнь он страдал: проявиться его коммерческим талантам было негде, и, по сути, в хорошем переводе с псевдонаучного на общеупотребительный еще в ранней юности он наговорил мне столь популярную сейчас книгу «Как стать богатым».
— А сам он был нищим и больным?
— Вот уж нет. Старик Лисин был достаточно зажиточным и денежным человеком по советским временам. И очень любил наставлять: «Один еврей сказал мне как-то: лучше умереть от страха, чем от голода. Он был состоятельный спекулянт, и его посадили. Так он был не сильно умный, вот что я вам скажу! Чтобы человек не страдал ни от страха, ни от голода — об том позаботился сам Господь Бог. В каждой голове, в вашей тоже, молодой человек, миллиарды умных клеток, и каждая себе что-то думает… А если каждая надумает хотя бы на копейку, вы будете миллионером безо всяких конфликтов с законом. Бедность не от отсутствия денег, а от неумения ими пользоваться. А про смерть… Запомните, молодой человек, на всю жизнь, что я вам скажу: лучше умереть в глубокой старости, в своей постели и во сне. Тогда, когда вы просто устанете жить».
— Да? И как он умер?
— Глубоким стариком, в своей постели, во сне.
— Ну надо же! Слушай, а почему тогда… — Она обвела взглядом непрезентабельную квартиру.
— Я не всегда следую советам, — вздохнул Гончаров.
— Это плохо? — спросила Аля, уловив какую-то странную нотку в его голосе.
— Это хорошо. Иначе я не был бы тем, кто я есть.
— А кто ты есть?
Олег задумался на секунду, улыбнулся, видимо стараясь сделать улыбку ироничной, но оттого лицо его показалось Алене совершенно беззащитным.
— Грустный солдат.
— Да? И какой армии?
Олег улыбнулся еще печальнее:
— Победившей.
— А кому они нужны, такие победы? — словно разговаривая сама с собой, произнесла девушка.
Олег не ответил. Принял ее куртку, повесил, спросил:
— Кофе?
— Хорошо бы. Хоть чего-нибудь очень горячего. Слушай, а у тебя ванну можно принять?
— Легко.
— Тогда я туда заберусь сразу после кофе.
— Можно и во время.
— Правда?
— Да.
— Извини… Я не понимаю, что со мной. — Девушку действительно колотил озноб. — Нервы. Это просто нервы.
— Слушай… А нас здесь не найдут?..
— Это вряд ли. Про эту квартирку не знает никто. Даже я сам забыл одно время.
Пока не пришлось вспомнить.
— И сколько… Сколько мы будем здесь сидеть?.. На всю жизнь спрятаться нельзя…
— Давай дождемся утра, а? Народ говорит, оно мудренее вечера. Тогда и решим.
— Давай, — тряхнула она головой и уверенно прошла на кухню. Одним взглядом окинула представившуюся картину, за неимением фартука подпоясалась полотенцем, включила воду, набрала полную мойку воды, плеснула туда шампунь для посуды…
— Может, не стоит? — запоздало спросил Гончаров.
— Молчи, Робинзон. Можешь считать меня Пятницей. Даниэль Дефо приврал: Пятница на самом деле был женщиной, и нашлась она значительно раньше, чем в сюжете его романа. Без женщин мужчины быстро дичают и превращаются в зверей.
Гончаров не нашелся что ответить. Переместился незаметно в комнату и начал прибираться. В этой квартирке он жил всего три месяца: та была продана, нужно было закрыть самые насущные долги и обезопасить не столько назойливых, сколько жестких кредиторов, — как только «стрелка» была переведена с брата жены на Олега, к нему было проявлено навязчивое внимание.
И все потому, что он не чувствовал ничего, кроме тоски. И никаких активных действий не предпринял. Мысли о будущей войне приходили вялые, словно речь шла не о его жизни и благосостоянии, а о чем-то совершенно постороннем, никак к нему не относящемся. Он не желал воевать. Те, кто наблюдал за ним внимательно, приняли это за слабость. И поспешили воспользоваться. Грустная аксиома «предают только свои» подтвердилась в который раз. Он остался совсем один, на развалинах некогда процветающей фирмы, блестящей, вызывающей зависть у многих карьеры.
Пристрелить его, по-видимому, просто поленились: спивающийся неудачник «дойдет» через год-два, его однокомнатная халупа достанется квартирным стервятникам, а сам он пополнит не существующий ни в одном ведомстве список животных, называемых бомжами, если не подохнет до этого времени…
Ему было все равно, как и где он живет. Когда ты никому не нужен, когда тебя никто не любит… Может быть, стоило просто уехать? А куда можно уехать от себя?
Менять место можно только после того, как поменялся сам. И никак не раньше.
Первое время соседка-старушка, жившая этажом ниже, приходила прибираться за скромный гонорар, но потом и это ему стало безразлично. Он заперся и перестал открывать кому бы то ни было. Пил почти три месяца. Решение было плохим: уходить. Совсем. Но до этого нужно было завершить дела: расплатиться с долгами.
Деньгами, конечно. Воевать он устал еще на той войне.
Но… Что же с ним случилось сегодня? Его неукротимая воля к жизни, которая так часто помогала выжить тогда, на той войне, словно спала или затаилась в каком-то замкнутом контуре, оскорбленная тем, чему не знала объяснений, — предательством.
Он не хотел воевать… за себя. Но как только появилась эта девчонка, поставленная в крайние обстоятельства, обреченная ими на гибель, мечущаяся, отчаявшаяся, с тоской и усталостью в глубине огромных серых глаз… В нем проснулся воин. Которому еще вчера не за кого было сражаться. Которому незачем было побеждать. Который спал, пока не настал час, ему назначенный: защитить того, кто слабее.
— Что-то с уборкой у тебя не очень… — усмехнулась Аля, появившись в комнате и рассмотрев его потуги навести подобие порядка. — Кофе варишь?
— Как турок в Стамбуле. — Вот и займись истинно мужским занятием.
Собственную кухню он не узнал. Или девчонка права, и без женщины, которой ты нужен, любящей и любимой, мужчина превращается просто в животное? Не способное ни к чему, кроме функционирования на биологическом уровне: добывать какое-то пропитание, осеменять все равно каких самок, есть, пить, спать?..
Женщины существуют и на войне. Их хранят в памяти, как запах дома, куда хочется вернуться. Не все. Некоторые заболевают, становятся наркоманами войны, а этот наркотик еще сильнее, чем власть; такие погибают невозвратно, их физическое существование может продолжаться еще какое-то время, пока его не оборвет пуля.
Гончаров внимательно наблюдал, как пузырится пена. Нет, конечно, кофе по-турецки нужно варить медленно, очень медленно, в раскаленном песке, чтобы вода в джезве нагревалась равномерно; зерна должны быть непременно свежесмолотый, и не один раз, и порошок должен быть мелким-мелким и мягким, как пыль, — именно тогда его горьковатый, напитанный солнцем вкус переходит в напиток и аромат от одной чашки свежесваренного кофе заполняет все вокруг и превращает обычный мир в уютный, как семейное утро. И еще — не упустить пену; она должна шапкой застыть на краях джезвы, не переливаясь и не оседая. Так кофе должен постоять, но совсем чуть-чуть, и потом разливается в маленькие, безукоризненно белые чашки.
Олег был настолько увлечен этим занятием, что не заметил, как вошла Лена. Только почувствовав на себе ее пристальный взгляд, он обернулся.
— Слушай, Олег… А ты не бандит?
— Нет.
— Честно?
— Честно.
— А откуда тогда… Ты ведь умеешь обращаться с оружием… И вообще…
— Война.
— Ты был на войне?
— Да.
— Чечня?
— Нет. Раньше. Давно.
— Афганистан?
— Да.
Алена вздохнула:
— Извини меня, я дура… Может быть, я пытаюсь узнать то, что ты хочешь забыть…
— Человек ничего не может забыть.
— К сожалению? Или к счастью?
— Когда как…
— А я ничего не помню из своего детства… Это к сожалению или к счастью?
— Бог знает.
— Извини… я не хотела тебя нагружать… Извини… Я тут нашла коньяк в баре. И чуть-чуть выпила. Ничего?
— Даже хорошо.
— Нет, правда, я не пьяница. Просто очень замерзла.
— Ты отогреешься.
— Думаешь?
— Обязательно. — Олег ловко снял с конфорки закипающую джезву. Готово. Наполнил чашки кофе, подвинул одну девушке. — Прошу.
— Послушай, Олег. — Алена пригубила кофе и посмотрела на него внимательно, очень внимательно. — Все как-то странно… Ты можешь мне ответить, зачем ты во все ввязался? Мне важно это знать.
— Если объяснять подробно, то это очень долго.
— А разве нельзя коротко? Только так, чтобы я поняла.
— Можно. — Олег задумался, но очень ненадолго. — У меня не было выбора.
— Разве?
— Да.
— Но ты ведь мог сразу встать и уйти. И уехать на своей роскошной машине, от которой теперь остался только догорающий остов… Ведь этот, которого убили, сказал правильно: «Никому не нужны чужие проблемы». Ты мог бы уйти. Но ты не ушел. Почему? Только не напевай мне про любовь с первого взгляда и все такое — не поверю.
— Да, я мог бы встать и уйти. Но… Из дверей ресторана вышел бы не я. Другой человек. Которого я не знаю и знать не хочу.
— Я что-то не очень поняла…
— Жизнь — штука умная. И подкидывает человеку разные каверзы. Люди их называют проблемами. Или испытаниями. В старину это называлось искушением. Кстати, «искушение» и «испытание» в старославянском ~ — одно слово. Помнишь: «И не введи нас во искушение…»
— Погоди, Олег. Все это теория. Но я же знаю: в жизни все не так.
— В жизни все так. Человек выбирает себе ее сам. Он все себе выбирает сам: место, время, поступок. И проявил он малодушие или низость, он потом это не сможет исправить. Никогда. А жить с этим… унижением в душе просто немыслимо.
— Хм… Может, я еще плохо разбираюсь в людях, но… Каждый легко находит для себя оправдание… Для любого своего поступка, самого низкого, самого подлого…
Ты говоришь: выбери жизнь… А я вот ничего не выбирала, кто-то все выбрал за меня… Нет, Олег, я не нытик, я старалась… Но как только начинаешь выбираться туда, где… красиво, где тебе хочется быть, что-то происходит… И ты снова — как во вчерашнем дне, в той жизни, которая тебе не мила, которую ты не хочешь…
Малодушие, низость… Ты говоришь как подросток, оглянись вокруг! Успешны только те, кто использует других, совсем не задумываясь о том, что с ними будет! Ты понимаешь?! Никто никому не верит, никто никому не помогает, мир сходит с ума и наслаждается своим безумием! — Девушка замолчала, глотнула кофе, произнесла тихо:
— Извини… Не знаю, чего я завелась… Это все коньяк. Я выпью еще?.. Все никак не могу согреться…
Гончаров молча разлил коньяк по рюмкам.
— А можно мне в стакан? — попросила девушка.
— Полный? — удивленно поднял брови Олег.
— Половину. Извини. Я что-то совсем расклеилась. Будто у меня внутри была пружина, а сейчас завод кончился… Извини…
Морщась, Алена выпила коньяк до дна.
— А теперь — в ванну…
— Полотенце в шкафу.
— Ага. Я найду. Да… Еще… Все мои вещи остались в сумке… Там, в кабаке.
— Никаких проблем. К сожалению, дамы сердца у меня нет и предложить тебе что-то более подходящее, чем мои рубашки, я не могу.
— Спасибо. Этого достаточно. Пока… Я пошла…
— Давай. Акул боишься?
— Акул?
— Ага.
— Наверное, боюсь.
— Не бойся. Плавай спокойно. В это время года их нет.
— А раньше были?
— Ага. Китовые. Сейчас ушли.
— Далеко?
— Как всегда, к берегам солнечной Австралии.
— Пешком?
— Ты удивишься, но вплавь. Через Беломорско-Балтийский канал. Они всегда так делают.
— А жаль, — вздохнула девушка. — Китовых я как раз и не боюсь… — Подняла на него глаза: на ресницах блестели слезинки. — Спасибо тебе.
— Не за что.
— Есть за что. Ты добрый.
Олег остался на кухне. Налил себе кофе, плеснул чуть-чуть коньяку. События вечера и ночи мелькали каким-то калейдоскопом, мужчина чувствовал усталость, но внимательно, словно в замедленной киносъемке, прокручивал в памяти все происшедшее. Цель была проста: вспомнить, не допустил ли он ошибки. По опыту он знал: мы переживаем прошлое, чтобы выжить в настоящем и иметь надежду на будущее. Надежда — это уже не так мало.
Прислушался, взглянул на часы. Уже минут тридцать, как девушка ушла в ванную, и с четверть часа, как стало тихо. Совсем тихо. Ни всплеска. Обеспокоенный, он вскочил и быстро пошел в ванную. С маху рванул дверь, та оказалась незапертой, гулко стукнула о стену. Алена лежала в воде с закрытыми глазами, укрытая пеной.
Взгляд мужчины метнулся на подзеркальник, он облегченно вздохнул: бритвенные лезвия покоились в предназначенной для них коробочке и было заметно, что их никто не касался… Черт! Нервы.
Все-таки Олег подошел, тронул лоб девушки. Аля действительно спала. Он легонько коснулся ее плеча, произнес:
— Э-эй…
Аленка отключилась. Напрочь. Олег знал, так бывает: организм защищает свой «управленческий аппарат», нервную систему; сон тогда похож на полную летаргию, во сне мозг пытается справиться с обрушившейся на него махиной информации, обрабатывая и детализируя одно и напрочь стирая другое, то, что может привести к надлому психики и гибели организма. Олег помнил: так спали молодые пацаны на войне после нескольких дней боев. Сначала не спали вовсе, не могли, потом наступал такой вот «убитый» сон. И еще — так спали только молодые. Комбаты — те глушили себя алкоголем. Война была их работой.
Гончаров аккуратно подхватил девчонку на руки, отнес на свежезастеленную постель. Она тихо застонала во сне, попыталась отбиться от чего-то, несколько раз взмахнув руками… Олег прижал ее к себе и держал, пока ее тело не обмякло расслабленно… Уложил на постель. Замер на мгновение, ослепленный ее беззащитной наготой… Красота спасет мир, он и создан Богом для таких вот девчонок, они согревают эту землю своим теплом и заставляют ее вращаться…
Девочка обняла обеими руками подушку, свернулась в клубочек. Олег накрыл ее толстым одеялом, плотно подбил края. Наклонился, подул на лоб — так делала его мама, отгоняя от маленькой сестренки дурные, гибельные сны… Девочка дышала ровно и спокойно. Она спала.
Олег пошел в ванную, залез под душ, делая струю все горячее, насколько возможно, потом — пустил ледяную, снова горячую, ледяную, горячую… Насухо вытерся полотенцем, чувствуя, как пульсирует каждая клеточка… Натянул толстый «кусачий» шерстяной свитер, джинсы. Разыскал на антресолях видавший виды спальник, бросил на кухне, а сам сел за стол. В голове все крутилась и крутилась строчка Окуджавы: «Не обещайте деве юной любови вечной на земле…» Не обещайте.
Никому и ничего.
Сидел, слушая посвистывание закипающего чайника и мягкий шум начавшегося дождя.
За окном мягко стелился туман, и утро все никак не наступало. Плеснул в рюмку коньяку, выпил. Закурил сигарету. Нет, одиночество никуда не делось. Просто спряталось, будто серая тень, и ждет его. А вот дождется или нет — этого теперь не скажет никто. По крайней мере, в жизни его появился хоть какой-то смысл. На ближайшие несколько часов. А дальше он и не загадывал.
Глава 22
— Что с тобой, Красавчик?! Да на тебе лица нет! — Дверь распахнулась, кажется, под напором даже не одного человека-ветра, а целого сонма ветров, ветров-демонов, ветров-стихий, которые бушевали в груди этого человека, в его душе, если, конечно, у Маэстро вообще была когда-нибудь душа…
На земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он царит над всей Вселенной. Тот кумир — Телец Златой…
Напевая, Маэстро обошел все комнаты; занавески в одной еще покачивались, словно от налета бриза, а он был уже в другой, в третьей, в четвертой…
— А вы недурно устроились ребята, а? Котик, как самочувствие? Ты всегда был неумеренно оптимистичен; один приятель как-то сказал мне: «Маэстро, можно спорить на бессмертие твоей души, что Котик когда-нибудь крепко налажает!» — «Не-е-ет, — отвечал я. — Наш Котик просто классный наблюдала, равных ему поискать — не найти…» Потом… Потом я обдумывал ситуацию бесстрастно и соглашался: «Ты прав. Бессмертие души — слишком важная штука, чтобы ставить ее на кон. Котик лажанется!» — Маэстро, который все это время не переставая ходил по большой комнате из угла в угол, вдруг замер, направил на Котина указательный палец, объявил, радостно подвывая:
— И ты — лажанулся! Ла-жа-нул-ся!
Ла-жа-нул-ся! — заговорил он опять скороговоркой, пародируя скандирование фанатов на переполненных трибунах. Замер вдруг, наступила звенящая тишина…
Маэстро приложил указательный палец к губам, прошептал: «Ш-ш-ш-ш…» — медленно направил его снова в голову Котина наподобие ствола, резко опустил большой, словно буек револьвера, прошептал отчетливо: «Пах!» — и устало, понуро, будто разочаровавшись и в мире, и в людях этого мира, опустил голову на грудь, обмяк всем телом, словно снятая с крючка марионетка, беспомощно заметался глазами в поисках, куда бы опустить ставшее таким немощным тело…
Крутанулся вдруг на месте с прежней энергией, воткнул указательный палец в грудь Краса:
— А ты, Красавчик?! Что наделал ты?! Подумать только, три кило первокласснейшего, благородного дерьма улетели в трубу, и, как мне удалось узнать, улетели так бесследно, будто это было не дерьмо, а лебяжий пух! Чем встречает нас этот непримиримый городок, древняя столица славян и варваров?
Облавой! Здешние менты словно насмотрелись кино «Проверка на дорогах»! И буквально краем уха я, как последний лишенец, слышу: стрельба! В городе, где полгода не было ни войны, ни разборок, палят из всех видов автоматического оружия так, как будто на него напали зулусские террористы! Как вы налажали, ребята!
Маэстро опустился в кресло, прикрыл глаза, напел едва слышно:
А на столе лежал чемоданчик, А на столе лежал чемоданчик, А на столе лежал, А на столе лежал, А на столе лежал чемоданчик…Замолчал, уронил голову на руки, плечи опустились вяло и бессильно. Теперь лицо Маэстро выражало глубокую печаль, непритворную скорбь, и вовсе не из-за ошибок каких-то там людишек, чья суть — изначальная греховность… Это была великая, мировая, вселенская скорбь о грехах мира… Лицо Маэстро побледнело до синевы, синими стали и губы, глаза закатились, дыхание стало едва слышным… Котин обеспокоенно взглянул на Краса, но тот стоял неподвижно — никогда, ни разу за много лет он так и не сумел понять, кто есть Маэстро. Гениальный актер, подобного которому еще не знала сцена, ни драматическая, ни историческая? Игры Нерона или Калигулы, живи они в одном веке с Маэстро, показались бы публике просто дешевыми балаганными шутками бесталанных статистов рядом с игрой мастера.
Или он действительно параноик, больной, перевоплощающийся в каждого из придуманных им персонажей взаправду и способный сейчас действительно умереть на месте от охватившей его мировой скорби?..
Притом что Крас знал точно: единственной, любимой, неизменной страстью Маэстро было убийство. Назвать его киллером было бы нелепо: убивал он так, словно ставил назначенную самой судьбой последнюю точку в доведенном до завершения трагифарсе жизни избранной жертвы. Но избирал жертву не он. Это делал Лир. Маэстро поднял усталое, измученное переживаниями лицо… Оно постепенно приобрело пусть блеклые, но все же краски; мужчина произнес тихим, усталым голосом:
— Котин, дружище, свари-ка мне кофе с дороги… Дорога выдалась нелегкой.
Наблюдатель, едва заметно пожав плечами, вышел. Да, он был наслышан о Маэстро, про него легенды ходили… Но может быть, то был другой Маэстро? Этому дешевому фигляру впору играть роли злодеев в бродвейских мюзиклах… Хотя попервоначалу напугал он его, Котина, здорово. Гипноз, что ли? Черт этих психопатов разберет… И Краса, и Маэстро…
— Давненько не виделись, Крас, — весело произнес Маэстро, когда Котин вышел на кухню. — Ты все такой же грязный садист и педофил?..
Крас только поджал губы: Маэстро всегда отличало напористое хамство. Его, Краснова, он не любил; тот отвечал артисту взаимностью. Связывал их Лир.
— Ты что, расстроился. Крас? Ну-ну… Если бы был приказ тебя убрать, тебя бы уже не было… — произнес он буднично.
— Почему не прибыл Лир? Я с ним говорил, и он…
— Это твое дело? — перебил его Маэстро. Лицо Краса потемнело от гнева, Маэстро поспешил добавить:
— И не мое тоже. Да и кто тебе сказал, что Лир не прибыл?
Кесарю — кесарево. А ты и я — слуги.
— Слуги? — поднял брови Крас.
— Тебя это обижает? Дурашка… Конечно, слуги… Помнишь, ста-а-аренький такой фильм… «Слуги дьявола»… Там еще демонстрировался в детском варианте чуть не первый в советском кино стриптиз… Эт-т-то было незабываемо! Я дрочил потом полночи… Фильм стал чемпионом проката… Потом вышел другой: «Слуги дьявола на чертовой мельнице»…
Маэстро свернул самокрутку, затянулся, задержав дым в легких… Сладкий дымок поплыл по комнате…
— Будешь? — предложил он Красу.
— Нет.
— Зря. Очень мозги прочищает… А нам еще предстоит думать, хорошо думать…
— Ты знаешь суть происходящего?
— Естественно. Читал твою… докладную. — Слово «докладная» Маэстро произнес так, будто это было что-то совсем несущественное, мнимое… Или лживое?
Странно… При всей своей неприязни к Маэстро и тайном страхе перед ним, Крас чувствовал их внутреннее родство… И еще он знал: Маэстро питает к нему, Красу, те же чувства…
Маэстро снова затянулся крепко скрученным косячком, прикрыв глаза.
— О чем мы говорили? — спросил он Краса.
— О сути происшедшего, — хмыкнул тот.
— Ну да… О сути… Так вот: все мы на этой чертовой мельнице служим ему… зерном… Пока не превратимся в прах… Жалеть о проходящей жизни? Всякая жизнь — мельница дьявола… А потому всякая жизнь кончается плохо. Смертью. Дебюты разные, финал общий. Ты знаешь варианты? То-то.
Лицо Маэстро в вечернем свете казалось дьявольски бледным. Иссиня-черные волосы подчеркивали эту бледность; Крас всегда удивлялся прямо-таки хрестоматийному совпадению… Будь Маэстро действительно артистом, он бы блистал на сцене в ролях злодеев или фанатиков-революционеров: темно-синие глаза, длинные ресницы, сросшиеся над прямым носом брови, жесткий, некрасиво очерченный рот. Он был похож на сына какого-нибудь беспутного испанского гранда и индианки, дочери инков… Крас знал, что завидует: Маэстро пользовался исключительным успехом у женщин. То, что он жесток и беспутен, казалось, только придавало ему гибельное очарование. Женщины летели на него как мотыльки на свечу, зная, что сгорят, и тайно желая этого… И еще — его руки, тонкие, нервные, выразительные, казались руками скрипача, а не убийцы. Впрочем… Впрочем, наслаждался Маэстро всегда только одной мелодией — немой мелодией смерти. А женщин губил так же легко и изящно, как убивал. В его памяти они не оставляли никакого следа, в душе — горечи или очарования… Хотя душа… Душу ему заменяла страсть. Холодная, рассудочная страсть, походившая больше на страсть статиста к колонкам мертвых цифр… Казалось, и люди для него не существовали как люди, а служили лишь средством того или иного математического действа; лучше всего Маэстро удавалось вычитание. Если и были ему соперники в этом дьявольском искусстве, то только в мире теней.
— В последние несколько часов произошли еще события… — произнес Крас.
— Да?.. В последние часы? Звучит апокалиптически.
— Мы с Котиным нашли девку. Готовы были ее взять, но… Началась разборка со стрельбой и дымом… Местная братва, но с чьей подачи, неизвестно. Кукла скрылась…
— Что, опять?
— …с неким мужчиной. Кто он, кого представляет, неизвестно. Он активно вмешался в разборку между местными бандитами и легионерами, которых мы задействовали втемную. Лет сорока, обладает, по словам Котина, профессиональными навыками в обращении с оружием.
— Времечко такое… Кто сейчас не обладает навыками? Только овцы. А овцы не сидят в фешенебельных ночных клубах. Они ездят на трамвайчиках… Зайчики в трамвайчике, жаба на метле… — Маэстро глубоко затянулся, подержал дым в легких. — Вот только пряников на всех не хватает…
— Я приказал Котину составить фоторобот.
— Мудро, — бросил Маэстро, сделав ударение на последнюю букву. Вздохнул:
— Вот ведь времечко… Вместо людей — фотороботы… И притом — как результативны!
Особенно в стрельбе! Робокопы, рыболовы, душеведы…
Вошел Котин, поставил перед Маэстро и Красом по чашке кофе.
— Я еще нужен?
— Ты нам всегда нужен, милый Котик, — оскалился Маэстро.
— Работай, — приказал Крас. — Когда справишься?
— За пару часов — точно.
— Лучше быстрее.
— Я понимаю. Как повезет.
— Нужно, чтобы тебе повезло через час! — вмешался в их разговор Маэстро. — Ты понял? Через час!
— Я понял, Маэстро.
— Хороший мальчик. И дверь за собой закрой. Поплотнее.
— Да… босс.
— Как легко этот умница меняет боссов, а, Крас? Он наблюда-а-ательный… И хочет жить. Очень хочет. — Маэстро опустил веки, медленно сделал последнюю затяжку, выдохнул дым. — А не пора ли ему буль-буль?.. Тут ведь есть ванна… Или ты предпочитаешь традиционные пути — сломать шею?.. Мальчик, меняющий боссов каждый раз. когда страшно, ненадежен. Только пусть сначала выполнит работу.
— Он отнесся к тебе как к приоритету Лира.
— Правильно отнесся. А ты?
— Что?
— Как отнесся к моему появлению ты?
— Не мути, Маэстро. Мы слишком давно работаем вместе…
— Скорее бок о бок…
— Пусть так. И оба знаем, что…
— Что?! Что мы знаем, Крас? — Маэстро даже не веко-3 чил, взлетел с низкого кресла. — Ты! — Он снова направил указательный палец в грудь Краса, будто ствол.
— Ты знаешь, почему мы еще живы?!
Крас заставил себя растянуть губы в подобие улыбки:
— Маэстро… Это имеет значение для нашего теперешнего дела?
— Красавчик… Это имеет значение для нашего теперешнего существования… Я хочу, чтобы ты уразумел, почему мы живы!
— Случай…
— Не валяй дурака, Красавчик! Этот случай именуется Лир! И никак иначе! Ты — грязный, вонючий, закомплексованный громила-педофил, и я, чадо; одержимое смертью, мы оба ненормальны! Больны!
Лицо Краса потемнело, обе его половины, казалось, поплыли куда-то в стороны, будто льдины под напором ледокола… Крас легко бы сломал этому фигляру шейные позвонки, если бы… Если бы не страх… Маэстро был скор, как пуля. Стоит ему захотеть, и он ударит так быстро и точно, что он, Крас, даже не заметит смерти… Где он приобрел это дьявольское искусство?.. Или никогда не учился, и убивать было для Маэстро так же естественно, как дышать?
А Маэстро хохотал, отчаянно, неудержимо… Смех прекратился так же внезапно, как и начался.
— Или наоборот? И ты, и я совершенно здоровы, а болен мир, смертельно болен, неизлечимо!.. Не так? — Глаза его заблестели. — Ты никогда не задумывался над тем, почему мы, ты и я, люди, умеющие убивать, испытываем… — Маэстро сглотнул вязкий комок слюны, — нет, не страх, а какой-то животный, мистический, неотвратимый ужас перед Лиром? По-че-му? — Он выдохнул, добавил едва слышно:
— И будем испытывать его всегда, пока он не решит, что для нас пришло время смерти… По-че-му?
Лицо Маэстро было бледным, словно маска Арлекина, на ней безжизненно застыла улыбка, будто нарисованная… Сейчас он не играл.
Маэстро встал, начал быстро мерить шагами комнату. Казалось, ему не хватало пространства. Или времени?..
— Почему ты говоришь со мною об этом? — напряженно спросил Крас.
— А с кем еще я могу об этом поговорить? Нас только двое, ты и я, есть, наверное, другие, но они мертвы. Это веская причина, как по-твоему?
Крас не знал, что ответить. Но Маэстро и не ждал ответа: он проговаривал слова лихорадочно быстро, словно боясь, что не успеет их сказать, что его оборвут…
— О, как скучен этот мир! И люди просто-напросто проигрывают заданные им клише, старые пластинки, от которых млели их родители… «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви…» — напел он с козлиным блеянием, пародируя безымянного теперь певца. — Нынешние думают, что они оригинальнее своих предков… Умнее, предприимчивее, злее… А они просто проигрывают эту жизнь… Про-иг-ры-ва-ют!
Дешевая пьеса в дешевом балагане, и каждый стремится сыграть в ней оригинальную роль… Забыв, что успешен лишь тот, кто действует по строгому стереотипу: любой фильм-бестселлер Голливуда рассчитан даже не по минутам, по секундам! Здесь — напугать зрителя, здесь — разжалобить… Здесь — наворотить горы трупов, и побольше огня, грохота, битого стекла, разрушений! Ты заметил, что привлекает зрителей в любом спектакле, будь это моток голливудской пленки или окружающая жизнь? Сила! Грубая, нерассуждающая, молотобойная! Ею, силой, хотят обладать те, кто ее лишен, кто так желает властвовать хотя бы полтора часа экранного времени, если не хватает на это мужества в жизни! Герой крушит, убивает, властвует, и зритель сочувствует ему в этой жизненной пьесе! Как это напоминает игру детей в войну: пиф-паф, а ты жив! Всегда жив! Вечно! Вот только эти овечки, называемые людьми, никак не могут понять: та, киношная, войнушка очень быстро, легко, незаметно может перейти в взаправдашнюю, и тогда им не отвертеться и платить именно им, своей шкурой!
Стереотип правит этим миром! Его величество Штамп! Сделано, апробировано, утверждено!..
Маэстро припечатал ладонь к столу, застыл, глядя в одну точку, будто сомнамбула, речь его еще более ускорилась, но не потеряла ни четкости, ни выразительности:
— Стереотипно все: наши заблуждения, все наши провалы и наши победы…
Стереотипны наши развлечения, наши желания, наши сны, наши иллюзии, наши любови и наши порывы! Уж не знаю кто, сам Господь Бог или его лукавый антагонист, устроил жизнь такой развеселой, но соскучиться в этом балагане нельзя, если…
Стереотип… Он дает медленный, но верный доход. Он делает жизнь стабильной, монотонной, устойчивой! Ты знаешь, где что продают, сколько это стоит, сколько у тебя денег и какое лекарство принимать от простуды! О, людишки обожают стереотипы! Они им милы и понятны! Но только те, которые люди лишь по физическому состоянию, суть которых — стадо! Это они смотрят «мыльные оперы», это они жуют «двойную свежесть», это они плюнули в рожу жизни, поменяли ее на скотское, бессмысленное существование! Им не суждено сгореть, им надлежит пастись! Становиться жирнее и тучнее, растить шерсть и копить жирок! Для хищников! Для нас!
«Плоть и кровь». Помнишь эту голливудскую штучку? Экая претензия на изначальную гениальность проекта, а? А ведь, по сути дела, — мещанская претенциозность, и ничего, кроме нее! Ничегошеньки!
Впрочем, не они первые, не они последние!
Вспомни: «Красное и черное», «Война и мир», «Живые и мертвые»… Стендаль, Толстой, Симонов… Заявка на гениальность уже по названию…
Старина Крас… Подумай, сколько шедевров еще ждут своих создателей… «Огонь и вода», «Добро и зло», «Щи и каша», «Мальчик и солдат», «Убить и выжить», «Жизнь и смерть», «Бабочка и павиан», «Бейсбол и до смерти четыре шага»… Красное и черное, война и мир, живые и мертвые, живые и мертвые, мертвые, мертвые…
Маэстро замер на мгновение, постоял безмолвно, закрыв глаза…
— О, Шекспир был скромнее, он не назвал свою комедийку положений «Любовь и смерть», он назвал просто: «Ромео и Джульетта». Он был гений, он знал, что любовь слишком хрупка и эфемерна, чтобы построить на ней счастье… Другое дело — ненависть. Она тяжела, надежна, незыблема, она переходит из года в год, из века в век, из поколения в поколение, она цементирует семьи, она делает устойчивыми нации, она заставляет убивать! Смерть правит миром, и ничего, кроме смерти!
Монтекки и Капулетти примирились?.. И что же их примирило? Смерть! Надолго ли?
Пройдет время, совсем небольшое, и Монтекки обвинят в гибели любимого сына семейство своих исконных врагов, те — наоборот… И история повторился… Как она повторяется из года в год, из века в век, всегда… Шекспир был гений… Он знал, что всякую сказку важно вовремя закончить… Иначе люди увидят себя такими, какие они есть, и… не поверят! Не по-ве-рят!
А Пушкин? Его маленькая трагедия о дьяволе, завистнике Бога! Александр Сергеевич знал людей: им ближе банальная зависть… И он назвал пьесу не «Бог и дьявол», он наименовал просто: «Моцарт и Сальери». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я…»
Но Бог не может долго терпеть окружающую его ненависть — это самое людское из всех чувств… «Я сыт…» — говорит Моцарт и уходит. Моцарта, гордость империи Габсбургов, гордость Вены, гордость человечества, хоронили стыдливо, без свидетелей, в могиле для нищих бродяг… Но хоронили ли?.. Или он вознеся туда, откуда пришел?.. Ты помнишь, Крас, как сыграл Сальери Смоктуновский?
— Смутно… — пожал тот плечами. Он не искал объяснений «взрыву» Маэстро — тот всегда был эмоционален… Но диагноз он определил верно: он, Крас, действительно чувствовал почти мистический страх перед Лиром; Маэстро вряд ли затеял это представление спроса… Ну что ж… Стоит дождаться продолжения…
— У Смоктуновского Сальери тихий, с трудом выговаривающий слова интроверт, поглощенный своей завистью, а Моцарт — наоборот, одаренный Богом весельчак… Но это не так! Не так! Сальери — о, я это вижу! — нервный, монологи свои он произносит быстро и дергано, он боится, он завидует, он должен быть дьявольски подвижен, ведь он действует… А Моцарт… Он утомлен бессонницей гения…
«Бессонница моя меня томила…» Он устал. Он устал рассказывать людям Бога, которого они не хотят слышать… Он устал записывать созвучия, в которых живущие на этой земле не слышат ничего, кроме мелодий, способных временно развеять их скуку и пережидание жизни…
Эта тупая, бессмысленная толпа судачит о злодействах Буонаротти, не ведая, что гений и злодейство — две вещи несовместимые! Да и откуда им знать эту истину…
Уходят Шекспир, Моцарт, Пушкин… Да, они оставили миру «песен дивных», и люди тешат себя этими песнями, полагая себя подобием Божиим, но оставаясь теми, кто они есть, стадом ненавидящих и ненавистных друг другу существ!
Маэстро опустился в кресло, пот градом катился со лба… Он закурил, выпустил струйку невесомого дыма… На лице его блуждала улыбка, но теперь это была улыбка артиста, заслуженно принимающего восторг зала. Теперь ему остается сказать заключительные слова, решил Крас. И ошибся.
— Король Лир… Ты никогда не задумывался, почему этот старый маразматик вызывает сочувствие? Брошен детьми, предан вассалами?.. Больной, несчастный, добрый старик… Больной и добрый? Ха-ха! Шекспир не так прост; он написал старика таким, каким он и был; его алчное властолюбие не знает границ! И раздача своих владении — вовсе не альтруизм и не явление старческого маразма… Лир всегда был своеволен и своевластен, но вот кровь стала слабее течь в его жилах, наркотик власти не мог гнать ее с такой силой, чтобы восьмидесятилетний старец почувствовал былой азарт, былые страсти; он не желает просто существовать, он хочет жить! А если не хватает своей крови, жизнь продлевают, проливая чужую.
Да, он был король, а потому желал власти любой ценой и не собирался жертвовать ее никому! Власть не милостыня, чтобы бросать ее нищим! И он разделил королевство! «Разделяй и властвуй»! О, старый повелитель знал, чего хочет: ему нужны были власть и война! И он получает власть и войну! Странствуя между дочерьми, возбуждая одну против другой, привлекая Францию и иноплеменные войска… Только теперь он счастлив! Он — живет! Кромешная тьма, изгнание, ливень, гроза, ночь — но он живет! Наркотик войны, наркотик власти, наркотик тщеславия! Его, гонимого детьми, тешит старческое тщеславие, Лир упивается своим изгнанничеством и обманывает всех!.. Одна за другой гибнут дочери, а власть, его власть, не достается никому! НИКОМУ!
Король Лир куда удачливее пушкинского барона, скупого рыцаря; тот не сумел унести в могилу золото, этот так и не отдал никому власти, сделавшись мертвым владыкой бриттов; на острове остались царствовать война, разорение и смерть…
Маэстро устало опустился в кресло. На этот разон был очень бледен и абсолютно спокоен.
— Недурно задумано, не правда ли? Разделить, раздать королевство, чтобы сохранить власть навсегда… Так ты понял, каков Лир? Не шекспировский, наш Лир?
Мы с тобой — всего лишь жалкие слуги смерти, носители зла, исполнители, а он…
Он — безукоризненно, безупречно нормален, расчетлив… Он — как все, а потому он и есть порождение зла! Он понимает это стадо, он внутри и вовне, он и овца, и сторожевой пес, и волк в одном лице… Он — слуга, раб тех же стереотипов, каким следует это стадо, именуемое человеческим, все вместе и каждый в отдельности…
Именно потому он и удачлив, и понятен… Но Лир — не единственный оборотень на этой земле, и, чтобы быть успешным, ему нужны мы. Ты и я. Жалкие психи, сумасброды, жрецы смерти… Время от времени и ты, и я совершаем никем не предвидимые, непредсказуемые поступки… И наше знание словно приобретает новое качество. И тем — приобретает новое качество знание Лира.
Мир жесток. Побеждает тот, кто может уйти от стереотипа, вернее, кто может навязать окружающим новый, желанный стереотип им известного, ими любимого, но всегда — непознаваемого: смерти. Каждый из нас примитивен, но нас обоих просчитать не может никто, даже Лир. А ему и не нужно нас просчитывать, он делает лучше; он нас использует. Ты никогда не чувствовал себя отработанной, жалкой клячей? Вот и я… После каждого дела. Но мы другой жизни не знаем и не желаем никакой другой жизни! И ты и я опасаемся Лира только потому, что нас пугает его непостижимый для нас рационализм и расчетливость, как других пугает наше с тобой отступничество от норм, которые людишки называют моралью… И ты и я — Сальери, и мучаемся мы оттого, что каждый из нас ищет своего Моцарта…
Тебе, Крас, доставляет удовольствие уничтожать красоту и совершенство — и ты ломаешь хребты девчонкам… Как ты мелок… Или лелеешь мечту встретить прекрасную Афродиту и уничтожить Любовь? Не будь дураком. Крас, в женщинах нет любви, нет ничего, кроме похоти течных самок… Любовь — только в воображении гениев… Как жаль, что мы разминулись в веках… Мне надоело забивать овец. Мне нужен Моцарт…
Маэстро снова обессиленно закрыл глаза, и Крас бы не удивился, если бы сейчас Маэстро проигрывал в памяти что-то из сочинений непревзойденного Вольфганга Амадея…
— Готово, — нарушил уединенное безумие Маэстро Котин.
— Фоторобот? — уточнил Крас.
— Да. Сделать для вас распечатку?
— Не нужно. Мы посмотрим на экране. Ведь при распечатке многое теряется.
Крас, а за ним и Маэстро прошли в соседнюю комнату, наклонились к экрану компьютера, рассматривая изображение. Маэстро мельком глянул на Краса, желая удостовериться… Да, на лице того была написана озабоченность. Крайняя озабоченность.
— Ну что ж, дружище Котин… По крайней мере, твой оптимизм тебя не подвел.
Будешь жить дальше таким же бодрячком, — потирая тонкие пальцы, возвестил Маэстро. — Но не обольщайся: все равно пристрелят. Уж поверь чутью мастера! — Снова обернулся к Красу:
— Узнал?
— Да. Гончар.
— Именно. Вот, значит, какие он теперь горшки выпекает! Я-то полагал его давно почившим легионером на какой-нибудь малой войне: уж оч-ч-чень способности были у парня… выше среднего. А он, здрасьте вам, туточки! Вот что, Котик, составляй официальный запрос: Гончаров Олег Игоревич, ну и так далее. Мотивировки придумай сам. Подпиши требование вот этим кодом, — Маэстро вынул из кармашка четырехугольник, похожий на кредитную карточку, передал Котину, — и засылай по системе спецсвязи через Москву. Туда-сюда-обратно… Полагаю, досье и все координаты этого бравого вояки мы получим от здешней службы безопасности часа через полтора-два.
— Если они есть… — утомленно произнес Крас.
— Как не быть! На такого-то молодца! — Маэстро вздохнул, добавил:
— Если ничто не помешает. Ну а что нам может помешать, а, Котик? Правильно мыслишь, ничего, кроме смерти! Ну а смертью в этом городке теперь распоряжаюсь я. Я! Ты понял?
Действуй!
— Есть.
— Гончаров — один из двух бойцов, уцелевших из отряда Барса, — произнес Крас, когда сотрудник вышел, плотно закрыв за собой дверь.
— Что с того? Крас, с каких это пор тебя волнуют покойники? Призраки? Или «мальчики кровавые в глазах»? Хм… Ты же специализируешься по девочкам! Да и Барс был совсем не мальчик — он был хищник, один из самых опасных, кого я когда-либо знал. Этакая странная порода: служебный Барс. Такие не выживают. Или я ошибаюсь?..
— Никаких мальчиков. Кукла.
— Ты стал играть в куклы?
— Подожди, Маэстро. Я имею в виду основной объект:
Глебова Елена Игоревна…
— И ты хочешь ее трахнуть! — взвился Маэстро, гримасничая, потирая руки. — Хотел бы я увидеть это зрелище: крэк, — Маэстро изобразил, как сворачивают шею птице, — и готово! Как там спывають бялорусы? «Ты ж моя, ты ж моя, перапелочка…»
— Прекрати, Маэстро! Не до шуток.
— Ну да, кто же шутит с любовью…
— Лучше посмотри еще один фоторобот. — Крас нажал несколько клавиш.
— Дама?
— Как видишь.
Маэстро впился глазами в экран. Произнес медленно:
— Крас… А это не плод твоей фантазии? — Нет. Я просто «состарил» девчонку.
— Ну что ж… Это любопытно. Крайне. Лиру это покажется забавным. Но не смешным.
— Все-таки вариант "2"? — спросил Крас, и в его голосе Маэстро услышал тайное облегчение.
— Может быть. При такой череде совпадений… Все может быть.
Глава 23
Любовь — это заговор двоих против безжалостного, равнодушного мира. Пусть там свары, дележки, войны… А эти двое счастливы, у них есть любовь. И готовность ее защитить и умереть, если придется, но не отречься…
А мир жесток и завистлив, он знает об этом заговоре двоих и стремится разрушить его всеми силами, всеми соблазнами, всем лукавством, данным ему золотом…
А у них появляется третий… Маленький, беззащитный… Его окружают любовь и ласка, и любонь двоих только крепнет… И счастье кажется бесконечным, безграничным и беспредельным… И так проходит год, и еще год, и еще… И любовь перестает казаться тем, что она есть, — даром, гораздо более ценным, чем ум, талант, красота… И куда более редким.
А мир не устает соблазнять. И вот ей уже кажется, что жизнь, настоящая жизнь, течет где-то рядом, за стенами их тихого дома, за пределами их тихого счастья…
Она ощущает на себе взгляды мужчин и чутким воображением рисует себе что-то иное, прекрасное, полное солнечного света, моря, раскованных женщин, респектабельных, уверенных в себе мужчин, изысканных напитков, цветов, внимания, поклонения, лести… И она начинает считать морщинки у глаз, замечает складочку у губ… Ах, как скоротечно и безвозвратно время, как скучно и банально настоящее, как предсказуемо будущее. Она вспоминает, вспоминает… Лукавая память подсовывает как раз то, что нужно: он, занятый своей бесконечной работой, не подал руку, не похвалил кушанье, не оценил наряд, не заметил, не поцеловал, не… «Не» множатся, дробятся, будто в тысячах зеркал бесконечной анфилады…
Он не сразу замечает перемену. Вернее, замечает, когда уже поздно. Мир покорил и его; ему нужно сделать, сделать, сделать… Ему нужно утвердиться в этом мире, ему нужно стать кем-то, не похожим на других, отличным, создать, как средневековому подмастерью, шедевр, стать в этом мире Мастером… Чтобы она могла им гордиться, чтобы их маленький никогда не знал нужды, чтобы…
Поздно. Все поздно. Заговор любви уже побежден. Остались два одиноких и еще один, малыш… Он самый стойкий, он не может изменить любви, это способ его существования: он любит их обоих… Как маленький солдат, он борется…
Единственным в этой жизни способом — любовью… И когда двое готовы уже сорваться в омут упреков, просит, встав между ними: «Мама, поцелуй папу… Папа, поцелуй маму…» Как самоотверженна его борьба против целого мира лукавства и лжи! И он ждет, надеется… Он хочет победить горы обид, непонимания, гордыни…
Любить ведь так просто и так естественно!
Тщетно. Двое стали одинокими.
Вот только малыш… Он вырастет и будет искать свою любовь и найдет, и, даст Бог, ему повезет, и он окажется более мудр и стоек и сумеет защитить этот дар, и он не угаснет, и человечество выживет…
…Олег открыл глаза. Скверно выбеленный потолок. Газовая плита. Стол. Все как всегда. Только почему он спит на кухне? Ах да, девчонка.
Мир стал реален, рельефен и понятен. Вот только сон… Ему часто снились сны в словах… Слова ложились ровно, связно, ему казалось, что наутро он сможет легко записать все до запятой, и получится хороший рассказ… Но наутро он не помнил ничего. Только ощущение… Сейчас было ощущение утраты. Впрочем, не первый день и даже не первый год. Люди глупы: стремятся к независимости, получают одиночество. Но кому и как это объяснишь?..
Сегодня мир понятен. Девчонка по имени Аля, попавшая в беду. Ее нужно вытащить.
Обязательно. А потом… Потом будет суп с котом. Или ничего не будет. Вот это не важно. Совсем не важно. Просто нужно подняться и сварить кофе.
Олег вышел в ванную, умылся, вернулся на кухню и тут только заметил, что за окном совсем темно. Глянул на часы — стоят. Вышел в комнату. Фосфоресцирующий Циферблат показывал без пяти двенадцать. Ночи.
* * *
Алена спала, разметавшись по постели. Одеяло лежало на полу. Простыня комком — где-то сбоку. Олег наклонился, поднял одеяло и почувствовал, что девочка смотрит на него.
— Где я? — спросила она полусонно, потом произнесла:
— Ой! — Поспешно прикрылась ладошками, извечным женским жестом, полным стыдливости и лукавства, щеки порозовели.
Гончаров набросил на нее одеяло.
— А говорят, девичьи сны полны неги.
— Чего?
— Неги. Безмятежного чувственного покоя. — Он кивнул на сбившуюся простыню. — Не так?
— Смеешься?
— Вот еще…
— Очень хочется есть. Странно, утром я обычно не ем…
— А сейчас ночь.
— Ночь? — Ага. Без двух полночь. Самое время пить херши.
— Ух ты… Весь день проспался…
— Ага. Так что со снами?
— Ты прав, сны были… Лучше бы их не было… А сейчас голова как чужая… Ты извини… Я ночью просыпалась два или три раза…
— И что тебе снилось?
Девочка задумалась на мгновение.
— Пламя. Огонь. Но не согревающий, а… И — лицо. Этого, со шрамом. Словно он смотрит на меня, указывает пальцем, кричит что-то, я бегу, а ноги путаются в высокой траве, я падаю, меня настигают… Извини… — Ты чего беспрестанно извиняешься?
— Хм… Втравила тебя в непонятную бодягу, заснула у тебя в ванной, сижу голышом на твоей кровати и нагружаю девичьими снами… — Аля усмехнулась невесело. — Полными неги. И еще я вылакала твой коньяк.
— Весь?!
— Ну весь — это слабо. У тебя в баре набор — позавидуешь. Но армянского «Отборного» отхлебнула порядочно… Думала, убегу… От того, со шрамом…
Не-а…
— О'кей… Двенадцать. Считай, Новый год. Отмечать будем?
— Будем. Только не в одеяле. Говорят, как встретишь, так и проведешь.
— Значит, встретить надо достойно.
— Угу. Шампанское у тебя в баре есть… А как насчет мехов, вечернего платья, бриллиантов?
— С бриллиантами не сложилось.
— Тогда обойдемся. Буду амазонкой. Обожаю наряды. У тебя в шкафу имеются наряды?
— Хм…
— Ну раз «хм», отчаливай на кухню и жди. Готовься к встрече с прекрасным. Да, Олег… Нас здесь точно не найдут?
— Какое-то время — да. В принципе найти можно любого человека. Это смотря кто будет искать. Но сутки-двое у нас есть. Я же тебе говорил, даже установить принадлежность этой квартирки — дело непростое. Хотя… Если им повезет…
— Ну… Договаривай… Так что будет, если им повезет?
— Тогда нам повезет меньше.
— И что?
— Милая барышня, не из одной везухи складывается жизнь. Будем выкручиваться.
— Фух… Ты прав. Надоело. Надоело думать, что будет. Мы живы?
— Еще как!
— Вот это главное!
Аля скрылась в ванной. Олег услышал шум воды. За окном — та же вода. И уже не первый день. И даже не второй. Осень выдалась донельзя сырой и холодной. Такой, что выходить не хотелось никуда. Да и незачем было. Запасы спиртного он затарил в доме такие, что незачем. А потом… «А потом бросил пить, потому что устал…»
Впрочем, и из депрессии выбраться «на раз» не сумел: измотали бессонницы. День, другой, третий… Мозг гонял по кругу все тех же «лошадок» — воспоминания…
Но… Память не возвращает прошлое и может отнять будущее.
Вчерашняя встряска… Ну да, все просто: ему некогда было рассуждать, нужно было сразу действовать. И потому все его ночные бредни тихо удалились куда-то в глубины подсознания, их вытеснил еще более древний и стойкий опыт — опыт воина.
Нормальный рефлекс любого нормального мужчины: тебе нужно защитить того, кто слабее, а потом… А, не важно, что будет потом, сделай сначала это! Победи и останься живым!
Завтрак, вернее, поздний ужин он готовил машинально: забросил на сковороду два ломтя ветчины, обжарил, разбил яйца, залил кетчупом и припорошил укропом.
Посмотрел на созданное блюдо безо всякого воодушевления — этим он питался уже месяца три, да и то эпизодически: спиртное, говорят, достаточно калорийно.
В комнате зазвучала музыка.
— Э-эй! — позвала девушка.
Он вошел в комнату.
Алена стояла спиной к нему у бара, на ногах — толстые шерстяные носки; тонкая белая рубашка окутывает тело, словно облако, не скрывая очертаний. Свет из бара пронизывает сорочку насквозь…
В руке девушки был бокал с янтарным напитком. Она обернулась: в расширенных зрачках плясали золотистые искорки. Капли бренди скатывались с губ, падали на шею… Она выпила бокал до дна, не отрывая взгляда от мужчины. Ее глаза, днем ясные, теперь были темны и глубоки, как омут.
— Теперь пей ты! — произнесла она хрипло, подойдя к нему вплотную.
Не глядя, наполнила бокал, поднесла к его губам, когда он опустел, откинула в сторону. Забралась руками под свитер, легонько провела ноготками по спине…
Потом — отпрянула неожиданно, закружилась, подняв руки, одним движением сбросила сорочку и осталась нагой. Снова подошла вплотную, надавила на плечи, усадив его в кресло… Олег обхватил ее бедра, притянул к себе, раздвигая языком складки, нежные и трепещущие, словно лепестки едва распустившейся розы…
Девушка откинулась назад, замерла, выгнулась, застонала… Тело ее сотрясла судорога наслаждения… Не открывая глаз, она скользнула вниз, нашла ртом его плоть…
…Она лежала на спине, обняв его ногами, замирала на миг, словно прислушиваясь к чему-то в себе, открывала глаза, смотрела на него невидящим взглядом, снова смыкала веки, закусывала губу и мчалась, мчалась к новому, пронизывающему ее всю наслаждению…
…Некоторое время они лежали неподвижно, безмолвно, в сладкой полудреме, пока не начинали чувствовать беспокойство нового желания… Ее губы скользили все ниже по телу мужчины, ласкали горячий жар его плоти, и она чувствовала растущее в себе желание, и снова кусала губы, и ждала, пока этот жар не станет нестерпимо желанным, и тогда принимала его и неслась, мчалась, летела, пока с губ ее не срывался стон, еще, еще…
— Сделай мне больно… — прошептала она едва слышно спекшимися губами, поворачиваясь к нему спиной. — Пожалуйста…
Он вошел в нее сзади одним движением, девушка вскрикнула, закусила руку, замерла, чувствуя его движения и изумляясь новому, скорому возбуждению…
Почувствовала его горячую влагу, напряжение стало нестерпимым, его палец нежно коснулся ее возбужденного «язычка», и все взорвалось снова стремительным фейерверком…
…Она лежала на подушке, ощущая соленую влагу на губах… Слезы лились сами по себе, а его руки касались ее кожи, и она растворялась в этом тепле…
…Ей снилось, что она бежит через поле… Трава была высокой, но она бежала быстро, и трава стелилась ей под ноги… Обернулась: человек со шрамом бежал следом, спотыкаясь, но он приближался… Приближался… Настигал…
Обрыв был такой, что обойти его было нельзя. Внизу клубился туман, и ей вдруг показалось, что это бездна, что… А сзади она слышала дыхание преследователей… Оглянулась через плечо: ее настигал волк. С желтых клыков падала клочьями пена, а глаза были человечьи… Разумные, расчетливые, злые…
Через всю морду волка тянулся шрам…
Аля сделала шаг и полетела вниз. В клубящийся прохладный туман. В бездну…
Девушка разом открыла глаза. Вместо острых, разрывающих плоть каменьев, вместо холодного, равнодушно? тумана было удобное ложе и тепло сильного тела рядом…
Сердце колотилось часто-часто, но ощущение того, что она жива, пело, пульсировало в каждой клеточке ее тела… Осторожно, словно маленький звереныш, она втянула ноздрями воздух, точно стараясь запомнить этого мужчину навсегда и узнать его потом из сотен, из тысяч, и миллионов… И еще — она чувствовала его дыхание… Он был жив… Они были живы…
— Ты не спишь?.. — шепотом спросила девушка.
— Уже не сплю, — ответил он.
— Может быть, я сошла с ума?..
— Тогда и я тоже…
Аля повернулась к нему лицом, на глазах снова закипели слезинки…
— Я люблю тебя… Ты слышишь? Я тебя люблю… И не нужно мне ничего отвечать…
Я не распутная и не развратная, я не знаю, что произошло… И я счастлива, что это произошло, ты понимаешь?..
Он коснулся губами ее губ, девушка прильнула к нему всем телом, замерла расслабленно, уткнувшись в подушку, заплакала…
— Что-то не так?.. — Он приподнялся встревоженно.
— Все так, глупый… Все так… И еще… Я сегодня убежала…
— Убежала?..
— Да. Во сне… От того, со шрамом… Он был волк. Понимаешь? Волк с человечьим взглядом… Ты на меня не сердишься?
— Сержусь?
— Ну… Я… Даже не знаю, как сказать… Я не показалась тебе слишком…
— Экстравагантной?
— Ну можно и это слово назвать.
— Ты показалась мне замечательной… — прошептал Олег, наклонился, поцеловал.
— Ты не врешь? Правда?
— Правда.
Алена откинулась на подушки и начала смеяться. Сначала голос звучал колокольчиком, потом… Смех захватил ее, перешел в хохот, она схватила подушку и — разрыдалась. Олег обнял ее, сжал так, что перехватило дыхание, она силилась вдохнуть, но не могла… Напряглась всем телом, пытаясь вырваться, и он — отпустил… Девушка дышала часто-часто и смотрела на него изумленно.
— Где ты этому научился?
— Чему?
— У меня была истерика?
— Не знаю, — пожал он плечами. — Не переживай. Все уже прошло. — Он помолчал и добавил:
— Все плохое. Лена вздохнула:
— Ты даже не представляешь, как я хочу тебе верить…
— И не веришь?
— Вот это и было самое трудное…
— Поверить?
— Да. Просто поверить.
— Это всегда самое трудное.
— Ты не обижайся на меня… И не сердись… Я нормальная… Просто… Просто за последние несколько суток я словно три жизни прожила… Ой! — Алена испуганно вскочила с постели. — У тебя зеркало есть?
— Только то, что в шкафу. Она подошла, открыла створку:
— Сделай, пожалуйста, свет поярче…
Олег покрутил резистор ночника. И с удовольствием рассматривал ее обнаженную фигурку. А она стояла и перебирала пряди волос, внимательно осмотрела лицо, окинула взглядом себя всю.
— Уф! — облегченно рассмеялась девочка. — У меня уже глюки.
— С чего вдруг?
— Ты знаешь… Я вдруг испугалась… что поседела.
— Не-а. Ты просто красавица!
— И что? Не родись красивой, родись счастливой, . — вздохнула девушка. Вернулась к постели, откинула одеяло. — Ого! А я думала, только я так хочу… — Рассмеялась возбужденно. — Это у нас нервное…
Он вошел в нее сразу, чувствуя ее влажное тепло. Она кончила почти мгновенно, с придыханием выпустив воздух сквозь плотно сжатые зубы… Замерла расслабленно на мгновение и снова заспешила туда, на пик, чутко откликаясь на его движения, подчиняясь упоительному, нарастающему ритму…
Они обессиленно лежали на спине. Мужчина наклонился с постели, нашел на полу пачку и зажигалку, прикурил две сигареты. Передал одну Але.
— Олег… Ты понял, почему я… Ну, почему я так вот сразу… Набросилась на тебя?.. Если честно, сама себя не узнаю… И фантазии у меня странные…
Просто… У меня был парень, еще два дня назад я думала, что люблю его, а он меня, а оказалось… Он меня предал. Не важно почему: со страху или просто случай представился… Предал, и все… И потом… Если тебе неприятно все это слушать, ты скажи, и я замолчу.
— Но ты ведь хочешь сказать.
— Да. Я хочу. Понимаешь… С ним была не любовь и даже не секс… С ним я просто трахалась. Не морщись и не считай меня… Просто это принятое сейчас словечко лучше всего отражает суть явления… «Трах», и все, и разбежались по своим делам. Словно… Словно не два человека, а… Я у него была как живая кукла.
Просто думала, ему хорошо со мной, а это… «Трах» — и ничего больше.
Совсем ничего.
— Аля, тебе ведь не очень приятно говорить все это…
— Погоди… Просто он был не-на-сто-ящий! А ты — настоящий, понимаешь? Ведь с тобой… Того, что было с тобой, я вообще никогда не испытывала! Совсем! Это было как вспышка, как озарение, как музыка, как солнышко… Ты знаешь, я всегда, все время думала про себя: да, в твоей жизни еще будет настоящее, потом, завтра, послезавтра… или скорее не думала, а словно в уме держала… Помнишь, как в школе? Два пишем, три в уме… Нет, я ничего не рассчитывала, ты ведь понимаешь?
— Да.
— Я говорила себе: жизнь только начинается, завтра будет все как в чудесном сне, и ты должна подготовиться к этому «завтра» и стать прекрасной и удивительной…
Для того, кто в этом «завтра» появится… И вдруг поняла: этого «завтра» может не быть! Совсем! Поэтому не хочу рассуждать… Хочу жить сейчас! Сейчас! Ты понимаешь?.. Я вдруг поняла, что все может окончиться, и я тебя больше не встречу никогда… А может быть, все это произошло со мной для того, чтобы мы встретились?..
Глава 24
— Мы их нащупали! — произнес, входя в комнату, невысокий лысый крепыш. Все знали его как Степаныча, но ни как его зовут на самом деле, ни кто он такой, не знал никто. Он появлялся в особняке Автархана редко, и его появление братва всегда связывала с войной.
Автархан поднял голову, расширенные зрачки сузились, он разлепил губы:
— Парня и девку?
— Нет. Тех, кто убил Снегова.
— Разве это был не тот, что…
— Нет.
Вошедший подошел к столу, положил перед Автарханом листок:
— Заключение экспертов. Поскольку мы искали именно «стрелку», вернее, место, где она вошла в тело… Ее выпустили Снегову в спину.
В спину… Когда-то один авторитет сказал своему брату, каратисту высокого класса: «Ты всю жизнь готовишься к встрече с профессионалом, а завалит тебя дилетант». Так и вышло. И с Сергеем тоже.
Автархан сидел молча. В спину… Хотя что это теперь решает для Сережи? Ничего.
Увы, ни-че-го.
Он заставил себя сосредоточиться:
— Ты нашел стрелка?
— Может быть, и его тоже. Судя по всему, мы вышли на тех, кто все это затеял.
Послушай сам, Николай Порфирьевич. Решение принимать тебе.
Степаныч скрылся за дверью, вернулся через секунду с малопривлекательным мужичком неопределенного возраста в истертой, первого «турецкого призыва» кожанке; глазки мужичка бегали шустро, сметливо; он трусовато покосился на здоровенного Кентавра, подобострастно улыбнулся Автархану, окинул единым взглядом убранство кабинета и, видимо, заключил для себя: денег здесь немерено, если не запорет крутой косяк, то карманы его станут тяжеленькими от баксов.
— Человек я простой, уважаемые… — начал он.
— Я тебе назвал цену за информацию, — перебил его Степаныч. — Задаток ты получил. Перескажи все ему. — Он кивнул на Автархана.
— С самого начала?
— Подробности своей интимной жизни можешь опустить, — хмыкнул Степаныч.
— Да разве это жизнь? Лабуда сплошная… «Грачую» я, уважаемый… — Мельком взглянул на Автархана и упер глаза в стол: от греха. — Ну, значит, стою на своем «москвичонке», жду… понятное дело, у «Валентина» клиент состоятельный, на своих тачках подъезжают, но шмары, те…
— Я же тебе сказал: без ненужных подробностей! — повысил голос Степаныч.
— Подожди, Степаныч… — осек того Автархан. — Пусть говорит как может.
Мужичок пожал плечами:
— Продолжать? Ему кивнули.
— Ну вот. Сижу, значит… Гляжу, тачки одна за одной подъезжают… Из них пареньки выкатываются…
— Наши? — спросил Автархан.
— Да не… Ваших-то я знаю… И Снега — кто ж его не знал?.. Ваши потом прикатили… А эти подъезжали, опорожнялись, мужичков, значит, высаживали и отваливали… И мужички те — один в один волчары, не пацаны, короче. Я ж за баранкой не первый год, таких на раз чую. Ну, думаю, давно тихо было, скоро громко будет… Пора отваливать: ни навару сегодня, ни заработку, одна морока…
А кому нужны лишние трудности или глупая пуля в бестолковке, кроме мусорков? Ну да у них работа такая, им и барабан на шею, и пилотку на голову, а мне на кой это негритянское счастье?
Ну вот. А только совсем без навара оставаться — что я, дурак, что ли? Девок-то всех по «мерседесам» не рассадют; если чего закрутится, посыплются из всех щелей, как тараканы от дихлофоса, да и пешкодралом эти соски давно не ходят: мне как раз копейка и перепадет… Короче, думаю себе: отъеду во дворик, чтобы не светиться, а как маза пойдет, подхвачу на борт четырех голоногих… Я ж не с хорошей жизни «грачую», да и кому тот полтинник лишний?..
Автархан молчал. Хотя было серьезное желание встать и врезать этому шмаровозу по хлебальнику. Самолично. Чтобы разевал пасть по делу. Но — школа… Опер, кум или следак не то что подобную козлятину слушать будут со всем вниманием, ежели им информации нужно нагрести, но и глазенками лупать станут сочувственно, и вздохнут впопад, и поддакнут, и глянут участливо, чуть не со слезой: вообще-то мы знаем, это жизнь такая, а ты — просто зайка, белый и пушистый… На эту подлянку сявки и ловятся.
— Короче, отъехал в скверик, за «Валентином» тем, и под аркой дома встал. Тебя никто не видит, а ты — спокойнехонько сидишь. Из арки той можно и обратно на Леонтьева и, если аккуратненько через двор притереться, на Колядинскую выскочить. Но этого, кроме своих, и не знает никто. Жильцы надолбов нагородили, чтобы все кто ни попадя двор колесами не рассекали, а я знаю: впритирку да левой стороной на бровку въехать, дуры те, надолбы, как раз и обойдешь. Короче, местечко по мне, в самый раз.
Гляжу, а в сторонке — «волжанка». Тоже тихо так притаилась. А в ней — мужик. Я спервоначалу подумал: какой свой брат «грач» присоседился, а только… Когда «грачуешь» уже не первый год да по таким злачным, чужие тут за просто так не поработают, не мне вам говорить.
А тут как раз пальба началась. Да какая! Вот, думаю, е-мое! Пора и ноги в руки, а то ведь… А мужичок тот, что за рулем сидел и не маячил, вылез и неспешненько так пошел через сквер. К месту пальбы. И в каждой руке — по стволу. Только махонькие, у моего пацана такой водяной, спринцовка. Совсем мелкие.
— Как он выглядел?
— А разве рассмотришь путем? Крупный, грузный… Но вот что интересно: шел легохонько, что твоя кошка, да притом… — Водила наморщил лоб, пытаясь подобрать подходящее слово. — Во! Беззаботно он шел, вот что! Словно не на войну, а на пикник развлекаться! Этакий променад… Если бы не стволы в обеих руках…
— Это точно были стволы?
— А то…
— А лицо?
— Да не рассмотрел я лица!
— Это как же? «Волыны» разглядел, а лицо — нет?
— А это кого что волнует! Мне с его лица воды не пить, а вот пистолетики…
Короче, меньжанул я. Думаю, заметит, волчара, решит: за ним пасу… И закатает пару «маслин» в лобешник — привет родителям. Киллер, мля…
Водила перевел дух, словно заново переживая охвативший его тогда страх. Спросил:
— Закурить бы…
Автархан сделал неуловимый знак рукой, рядом с водилой объявился парень, швырнул ему в руки распечатанную пачку «Мальборо». Тот вытянул сигарету, вдохнул аромат:
— Нелицензионка, контрабандный товарец, а? И замер, ожидая, пока поднесут огонька. Но давать прикуривать этому шмаровозу — совсем западло для братана. Он и не дождался. Пошарил по карманам, нашел спички, чиркнул, затянулся, выдохнул дым. Косонул на стул, но сесть ему так и не предложили.
— Ну вот, — продолжил водила. — Вернулся этот киллерюга через пяток минут.
Честно, я бы слинял уже дворами, как хотел, а только… С заднего хода, из «Валентина», почти сразу, как тот исчез, вышел другой мужичок: худощавый, вроде пацанчик. И тоже спокойный как удав. Направился прямиком к той «волжанке». Плюх за руль. Вскорости и большой вернулся: видать, отстрелялся! Сел рядом с водителем. Ну а я себе думаю: попал ты, Покоренко! При таких раскладах не пляшут: четыре сбоку, ваших нет! Только заведусь, эти услышат мотор — и гайки.
Сидеть тихо как рыба об лед да сопеть в две ноздри — что еще-то оставалось?
И эти двое сидят, как в засаде: ждут кого-то. Габаритки все потушены, стекла тонированы, да и стоит бибика как пустая. И не одна она: там, в скверике, частенько машины накоротке оставляют. Если не крутые, кому они в угон нужны? А толкануть сейчас «двадцатьчетверку» — беспонтово. Правда, стоял там и крутой «кар» — «ниссан-патрол». Или хозяину наплевать было, что его «колесам» ноги приделать могут, или настолько он кучеряв, что умчать его тачку без соизволения — все одно что лоб зеленкой намазать: пять лет расстрела и каждый день до смерти!
Водила вдруг рассмеялся.
— И что вы думаете? Рванул тот «ниссан», как хлопушка. Это чуть потом, когда ментура уже подъехала и шерстить кабак начала. Мне, по правде, и спокойнее стало: думаю, при ОМОНе мочить меня эти, из «Волги», не станут: в ментовском ОМОНе те же отморозки, факт — сначала решето из тебя сделают, потом фамилию спросют. Так и приготовился в родном «москвичонке» ночь перекоротать; думал было и вздремнуть, да вздремнешь тут, как же… Все ж на нервах! Отлить хотелось, спасу нет, а дверцу открыть боюсь, чтоб не щелкнуть или еще чего… Чтоб им так жить, этим из «Волги»! А тут эта дура возьми и рвани! Ну тачка, «ниссан» которая!
— Почему она взорвалась?
— А я знаю? Может, мину загодя подложили или еще что… Щас таких мастеров-ломастеров как грязи!
— Машину в куски развалило или как? — переспросил Степаныч, что-то прикидывая.
— Или как. Говорю же: рванула! Из дверей борделя служивые летят во все лопатки, а я себе примечаю: парень с девчонкой тихонько так вслед за ними выскользнули и затаились. Тут вообще свистопляска: на площадку перед сквериком «луноход» влетает, «волжанка» та черная — с места в карьер, задницей, под девяносто!
Развернулась, как в кино, с визгом — и по газам. Менты ей вслед из «калашей», да куда там!
Ну я и ждать не стал: ноги мои ноги, несите мою жопу! Пока суд да дело, скаканул на «москвичонке» через дворик — и ходу! Еду и сам не верю, что из такой несвязуш-ной передряги живым-здоровым выскочил! Не, люди верно говорят: жадность фраера погубит! Чтобы я еще из-за тех денег так нарывался!
Автархан мельком глянул на Степаныча: за каким хреном они теряют время и слушают этого? Но тот выглядел спокойно и уверенно: значит, прокачал уже шма-ровоза, вышел на результат и обставил все как нужно. И хочет, чтобы Автархан все выслушал из первых уст и принял решение. Потому что решения принимает только он.
— Качу, значит, по шоссе, со зверской скоростью. Страх гонит. Вывернулся, а очко, оно не железное. Стопорю авто, отлить надо, да и живот свело так, будто брюквы сырой обожрался. Выскочил из машины на обочину: чувствую, кайф такой, будто кончаю! Аж мурашки по всему телу! Потом за город выехал, на трассу, еще до поста. В шашлычной шоферня тусуется, все больше дальнобой-щики, и фуры их, штук семь, в рядок понатыканы. И ребятки водку жрут! Пьянка, мат-перемат! Что, думаю, за черт? Оказывается, менты «Невод» запустили и сидеть им теперь здесь до второго пришествия…
Автархан лишь опустил веки. Кондрат звонил уже дважды: все эти «Трансэкспорты», «Трансгрузы», «Мегатрансы» — его конторы; сейчас по периметру Княжинска застыли без движения около сотни большегрузных фур; неустойки уже аховые, а если менты или, скажем, особисты разозлятся по-серьезному и решат все трясти в пух и перья, Кондрат влетит в такие бабки, что… По всем понятиям расплачиваться придется ему, Автархану, тогда… Тогда он будет уже не Автархан, а просто жалкий старик… Жить которому останется считанные дни…
А все же… Не Кондрат ли провернул всю эту убойную комбинацию с героином, девкой-подсадкой, со стрельбой и дымом? Уж очень беспроигрышный вариант отстранить его, Автархана. И от власти, и от жизни. На пару с Беней? Это вряд ли. Что хорошо, так это то, что власть поделить нельзя. Ни на троих, ни на двоих. Вот только…
Кондрат умен, но стемешить такую высококлассную операцию ему не под силу. Саму идею сварить — это да, а вот разработать… Хотя отставных аналитиков из конторы — хоть пруд пруди, а эти волки и не такие ватрушки выпекали на государевой службе за совсем маленькие деньги… Но… У Кондрата не было таких разработчиков, он, Автархан, знал бы. Черт! Домыслов много, фактов — ноль.
— …И тут, за разговорами, как обухом по голове: кто-то говорит, самого Снегова завалили! Ну, думаю, дела: большие разборки в малом Техасе, да и только!
Вспоминаю этих, из машины: не дергались, не суетились… Может, они? Ладно, посидел я с шоферюгами с полчасика, нервишки успокоились. Пить не стал, но пузырь водяры взял, литровый: думаю, приеду домой, наклюкаюсь до зелени — и в люлю, хоть бы моя Ксюха кипятком писала, а после такого напряга и расслабон должен быть адекватный!
При последнем слове водила победно глянул на окружающих: и мы люди образованные, книжки читали… Но, не заметив никакой реакции, продолжил:
— Короче, сел на своего «коника» и попилил обратно, в город. Гляжу: у обочины голосует ктой-то. Ну, нога сама по тормозам: мимо денег ехать — тоже не резон.
Стопарюсь, и тут промашку дал, расслабуха-то с дально-бойщиками достала-таки; вместо того чтобы, как обычно, окошечко приспустить да клиентом поинтересоваться… Да уж больно мелким он мне показался: едет себе загулявший мужичок от какой бабенки с канала, чего ж не подбросить?
Он дверцу — дерг, на сиденье — плюх, тут-то я и обомлел: тот, из машины. Из «Волги», водитель. Его-то я добре рассмотрел, когда он к той машине в скверике из кабака тащился. Лицо неприметное, фигуркой, точно вам говорю, подросток, а глянуть внимательней — жилистый, как насос. Щас, думаю, двинет — и прости-прощай родная хата. Не, у меня и отвертка, как бритва заточенная, под сиденьем слева, а я — левша, достать и меж ребер воткнуть… Потом в тот же канал скинуть, и вся недолга… А чего? Я хлопец не трусливый, и вообще…
— По делу базарь, ковбой! — резко перебил его Степаныч.
— Так я ж и по делу… А только подумал: может, и вам какая польза выйдет, если я этого ночного гастролера к месту проживания доставлю? Короче, собрался я с мыслишками — и по газам. Высадил на Шаталовской…
— У подъезда?
— Как же — «сквозняк», проходной в смысле. По правде, страх меня давил, а все же… Чуть «москвичонка» своего отогнал — и за ним. Тишком. Гляжу — нетути. Как корова языком. А тут еще потеплело под утро, туман сел такой, что с пяти шагов не разглядишь и носа… И все же я его выследил! — победно закончил водила.
По морде этого шмаровоза можно было читать, как по газете: видать, нарвался он на клиента точно случайно и в «сквозняке» его не упустил и не спалился только потому, что так уж вышло: туман шаги скрадывает, и этому следопыту-самоучке повезло невероятно; понты же он кидает, только чтобы цену набить. Автархан усмехнулся про себя: получит он свою цену, сполна получит…
— Короче, чуть не воткнулся я в него натурально, вовремя присел, гляжу, худощавый с тем разговаривает, со здоровяком, это у которого стволы были махонькие… В пяти шагах от меня стояли, а вот о чем базар был — не расслышал… А, и еще: худощавый было напрягся… Не, меня он не заметил, но точно говорю, почуял, мля!.. И вроде даже оборачиваться стал, да разговор у него с большим был, а большой, он босс евоный, это я скумекал без дураков.
А вот лица этого, большого, опять не рассмотрел: спиною он был, вернее, вполоборота. Потом вошли в подъезд. Я следом — шмыг! Мышкой… Затаился. Слышу — дверь хлопнула на каком-то верхнем этаже, и не запростецкая, железная.
Вернулся я в «москвичек», посидел, покумекал… Еще в забегаловке от шоферюг слыхал: люди землю будут носом рыть, а киллеров Снега достанут… Вот и…
— Ты хочешь денег? — резко спросил Автархан.
— А кто ж денег не хочет? Есть у тебя на кармане «зю-зики» — ты король, нет — шваль, шантрапа… Да и риск какой был… — Водила упер глазки в стол. — Только вы не подумайте, что я ради денег… Из уважения… Просто деньги — кому они лишние?
Степаныч стоял за спиной шмаровоза. Авторитет едва заметно прикрыл глаза.
— Будут тебе бабки, — произнес Степаныч. — Пошли.
— Да нет, вы не подумайте… Я со всем уважением… Только деньги — разве они помешают?
Водила вышел первым. Степаныч — следом.
— Да, я вот чего еще… — начал водила, оборачиваясь… Неуловимо быстрый удар сломал шейные позвонки, мужик рухнул, засучил ногами в конвульсии и затих.
— Унесите, — приказал Степаныч двум парням. Те равнодушно подхватили тело и потащили прочь.
— Успокоил? — спросил Автархан, когда тот вернулся.
— Абсолютно.
— Больно жаден до денег.
— Не то слово…
— Побежал бы к Кондрату или к Бене? Как думаешь?
— Обязательно. Если еще не сбегал. Деньги для таких, как этот…
— Что думаешь насчет сказанного? — перебил его Автархан. — Ты проверил?
— Да. Все так: Есть там такая квартирка. Хитрая. Ребятишки контролируют вход в подъезд, чердак, окна. Окна занавешены плотно, никак не подобраться… И еще…
В квартирке, в доме напротив, мамашка одна проживает… Дочушку свою, малолетку, в аренду сдает… Ее сожитель, мамашки, Леха Козел, сегодня с утреца деньгами по местной, пивнушке сорил… Славными такими купюрами… У него отродясь больше червонца не бывало.
— Кто у нас там? Не территории?
— Костя Хмель. Мы как подошли по выяснению, сразу, как я рассказ… шмаровоза, самую суть, выслушал. Хмель наведался в ту квартирку…
— Ну?
— Мамашка пьяна в умат, а девчонка рассказала: приходил к ней посередь ночи мужик, крупный, грузный… Лицо вроде страшное, а вообще она тоже плохо помнит…
— Этот здоровяк что, харил девку?
— Не. Что-то у него не сложилось. Потом отвалил. Мы прикинули по времени: как раз он мог и быть этим вторым… Боссом.
— А что насчет… худощавого? Действительно он… убил Сергея?
— Похоже на то. Очень похоже. Я поговорил с Василь Васильичем. С Ковровым. Был такой человечек. Сидел за столиком у стены. Один. Озадачил Васильича крупной суммой. Держался корректно. Самое удивительное… Васильич — ведь очень наблюдательный старик…
— Это да…
— Так вот. Он, как и шмаровоз, описывает просто: худощавый, жилистый, похож на подростка. Притом никаких черт лица не запомнил. Да, болтал этот худощавый с кем-то по мобильному.
— Так, — припечатал Автархан ладонь к столу. — Этих — брать. Возьмешь?
— Честно? Постараюсь. Уж очень несет от всего этого…
— Подставой?
— Спецслужбой. Из трех букв.
— Они все — из трех букв. Которая?
— Может, здешняя, может, российская. Да и любой крупный банк или «Нефтьпром» людей себе не с улицы набирали…
— Наркота им зачем, Степаныч? Ты не мудришь?
— Лучше перебдеть, чем недобдеть.
— Не всегда. Хорошо. Карт-бланш тебе. Полный. Но хотя бы одного ты мне возьми головой. Здоровеньким.
— Если они асы…
— Степаныч, я же сказал: карт-бланш. Задействуй свои контакты где хочешь, пусть их вяжет кто угодно, хоть служба безопасности, хоть черт с рогами, но одного ты мне достань и привези.
Автархан встал из-за стола, подошел к сейфу, открыл, достал чемоданчик.
— Сто штук «зелени». Передашь этому своему… генералу. Пусть расстарается. Так сказать, разовый гонорар. Помимо обычного. Ему кто-нибудь когда-нибудь такие деньги платил за простую операцию захвата?
— Не уверен.
— А я уверен. Никто. И никогда. Потому что это столько не стоит.
Глава 25
— «В поход на чужую страну собирался король…» тихо напевал Маэстро.
Ждать он не любил. И время ожидания считал навсегда вычеркнутым из жизни. Он то вставал и начинал расхаживать по комнате, то замирал на мгновение, закрыв глаза, словно боялся упустить какой-то звук или цвет, то, что для него было даже не самой мыслью, а ее эхом…
Крас сидел в кресле расслабленно — сказывалась напряженная усталость; он не спал и не бодрствовал, просто находился в некоем промежуточном состоянии, похожем на старческую бессонницу: многие старики уверены, что не могут спать вовсе и якобы не спят ни ночью, ни днем, на самом деле сон и явь, давно ушедшее и настоящее, домыслы и иллюзии так смешались в их жизни, что они уже не в силах отличить одно от другого. И к жизни их привязывают привычки.
Крас стариком не был. Его рефлексы чутко улавливали волны агрессии, исходящие от Маэстро, но это не было угрозой для него лично: Маэстро так жил. К тому же… чтобы убить, ему не нужно было ни накручивать себя, ни готовить… Он мог быть в этот момент неукротимым, словно взорвавшийся вулкан, или спокойным, как штилевое море… Для Маэстро убийство не было ни работой, ни актом нелюбви — просто действием. Наверное, смерть казалась ему куда более естественной, чем жизнь, и уж куда более спокойной. И в этом Крас был с ним абсолютно согласен: освобождать людей от их суетной, никчемной, жестокой жизни — что может быть нужнее в этом мире?..
Только золото. Оно — спокойный владыка всего сущего, ибо правит пороками, а пороки в этом мире куда надежнее, чем добродетели… Они позволяют королям властвовать… Ну да, короли властвуют, но не правят. Правит лишь золото, только с его помощью можно получить удовольствие от пороков.
* * *
Маэстро прав: они двое — вне времени и вне жизни их удел честен и прост — освобождать от нее людей. Хотя все мы обезьяны, марионетки того, кто сидит за ширмой и дергает за нитки… Того, кто нас убивает… Убивает без ненависти, без сочувствия, без сожаления… Просто так… Все мы рабы. Его рабы и рабы времени… Время тоже убивает. Сначала душу, потом то, что осталось. Убивает…
И тоже без ненависти, но от этого еще хуже.
На экране дисплея наконец высветилась затребованная информация:
"Олег Игоревич Гончаров, 1960г.р. Призвался 19.10.1979г. Проходил службу в ВЧ3567 89/К; после демобилизации проходил обучение на объекте «Гора».
12.12.1984 г. Присвоено воинское звание «лейтенант».
С 14.02.1984 по 28.03.1988 г. Проходил службу в ВЧ 95684/К.
26.05.1986 г. Присвоено воинское звание «старший лейтенант».
1.12.1987 г. Присвоено звание «капитан» досрочно.
17.04.1989 г. Уволен в запас".
— И это — все? — удивленно присвистнул Маэстро.
— Да, — пожал плечами Котин.
— Ловко…
— Маэстро, ты же знаешь, с тех пор архивы вычистили основательно.
— Крас, заткнись! Заткнись!
Маэстро заметался по комнате, словно загнанный зверь. Остановился как вкопанный, произнес:
— Это наивысший допуск! Все резидентуры… — Он вдруг замолчал, побледнел, произнес еле слышно:
— Лир — ширма?! Марионетка?!
— Этого не может быть! — нервно отозвался Крас.
— Сам знаю! Я знаю куда больше, чем ты даже можешь себе представить!
— Погоди, Маэстро! Рассудим здраво: мы послали запрос, ответ на который должен прийти в Москву от здешней службы безопасности… Только потом — к нам. И уткнулись в наглухо запертые ворота. Что здесь удивительного?
— То, что не здешние, а Москва, ты понял, Москва нам выдала бредятину! Это не досье на человека из группы Барса, это компьютерная распечатка деяний трудного подростка при спермотоксикозе! Поступил, служил, Уволился! Кто-то там играет игру, и очень странную…
— Нас отрезали от информации?
Маэстро нервно заходил из стороны в сторону.
— Да. Или хотят, чтобы мы так считали.
— Кто?
— Конь в пальто. А уж что за попона на нем…
— Погоди… Выходит… Вся эта лабуда — всего лишь «туман»? Операция прикрытия?
— Дошло, наконец?
— Не слишком ли жирно?
— Для кого? Лир всегда был мужчина с замахом: делить королевство так делить! Но не отдавать власти! — Маэстро снова замер, расхохотался и вдруг запел, слегка кривляясь:
— «А на столе лежал чемоданчик, а на столе лежал чемоданчик, а на столе лежал, а на столе лежал…» И — пропал. Или не пропал? Объявился где-то?
Или объявится?.. А мы с тобой как два полудурка… Вернее, один сексуальный маньяк не без способностей, но с полным отсутствием фантазии, другой… Другой — Сальери, ищущий Моцарта и получивший жирную, волосатую фигу! Кукиш с маслом!
Нет, что ни говори, Красавчик, а жизнь дерьмо! Смерть честнее, никого никогда не обманывает: есть так есть! — На секунду он напрягся вдруг, как настороженный зверь, приложил палец к губам:
— Ш-ш-ш…
Как оказались в его руках пистолеты, не заметил никто, настолько молниеносным было движение. Маэстро кивнул на дверь. Крас смотрел на него непонимающе: очередной заскок великого актера? Сам он не слышал ни звука.
— Сейчас будет не-е-ечто… — заговорщицки произнес Маэстро. — Красавчик, Котик, не стойте столбами, одному мне столько гостей встречать — накладно!
Переодевайтесь, государи мои, к представлению! И «лапшу» («Лапша» — средства связи, закрепляемые более-менее неприметно на ушных раковинах (сленг).)на уши: шумно будет…
Быстро подхватил с пола свою сумку, раскрыл, четкими движениями собрал автомат, вгоняя части одну в другую с выверенностью бесперебойно работающей боевой машины. Натянул на голову маску-противогаз и стал похож на инопланетное существо.
Котин и Крас переглянулись. Котин подошел к окну, не трогая занавесок, застыл, пытаясь почувствовать, что же происходит за наглухо задраенными окнами. Крас вышел в коридор и приник ухом к двери. Кивнул.
Нет, это не игра. Вот только каким чувством ощутил все это Маэстро? Объяснить это нельзя, только поверить, что таковое существует.
Котин подошел к шкафу, раскрыл, вывалил на пол мягкие кевларовые бронежилеты.
— Ну вот! — хмыкнул Маэстро. — Война на пороге, а мы не готовы. Вы что, не знаете, что в однобортном уже давно никто не воюет?! — весело процитировал он Герцога из «Мюнхгаузена». Открыл другую свою сумку, очень тяжелую, приказал:
— Котин, облачаешься в «монуменг». Извини, старичок, бронетранспортера я не подвез, но и эта штучка — что надо!
Экипировались они быстро. Котин запаковался в «антикалашников», Крас — в бронежилет полегче. Маэстро в это время обошел три боковые комнаты, прилепил к подоконникам плоские пакеты, освободил «усики».
— Инициативу не отдаем. Как только снимут дверь, бросаем «молнию» — ив прорыв!
Вы оба встречаете гостей в прихожей, я-у окна. Up?
— Uр.
Мужчины замерли. Секунды тянулись медленно, тягуче… Тем, кто с гой стороны, легче: они уже действуют.
Взрывы и звон стекол слились. Хлопнули газовые гранаты. Черные фигуры влетели в центральную комнату с обеих сторон и задергались на шнурках, словно марионетки:
Маэстро стоял посреди комнаты, раскинув руки; в каждой был зажат скорострельный автомат, и каждый изрыгал свинец. Пули перебили тросы, и еще две черные фигуры устремились вниз, на отливающий влагой асфальт. Мельком он глянул на одну из боковых комнат: там на тросе болталось то, что осталось от бочца в черном после взрыва. В остальных, надо полагать, положение аналогичное.
Маэстро быстро двинулся к выход. Металлическая дверь застыла косо в углу, на полу — три трупа в черном. Маэстро обратил на них внимание не больше, чем на бревна.
— Работаем, — приказал он по переговорнику. Показал на пальцах расклад. Поджег запал «молнии». Застыл.
Огонь с обеих сторон прекратился. Нахрапом взять не удалось, теперь командир группы соображает, как перехватить инициативу… М-да, не та подготовка у парней, раньше… Если командиру на то, чтобы принять решение во время операции, нужно еще и думать — дерьмо он, а не боец! Кто ж ему это время даст? Его на всех не бывает!
Легко двинув рукой, Маэстро бросил тяжелый пакетик в подъезд. Зажмурился. Даже сквозь сомкнутые веки почувствовал ярчайшую вспышку.
Увидел спину двинувшегося вперед Котина, он схватил первую пулю, как Маэстро и рассчитывал: должен же быть у этих черненьких хоть один боевой профи! Маэстро шагнул к Котину вплотную, рука с зажатым стволом поднята над плечом живого щита; одиночные выстрелы грохотали один за другим, «глушак» на крупнокалиберную «беретту» Маэстро не прикрепил намеренно: в гулком подъезде грохот выстрелов вызывал нужную ему реакцию у нападавших: растерянность. Ребята — профессионалы, это без сомнения, но вот опыта, настоящего боевого опыта встречного боя с группой, подобной их группе, нет совсем. Даже «щит» не выставили, привыкли вязать отморозков и уголовников — вот и результат!
— Двинулись! — приказал Маэстро. — Счел пошел!
Крас и Котин двинули вниз, попеременно поливая очередями лестницу и площадки.
Маэстро вернулся в квартиру, два выстрела: один в компьютер, другой, прицельно, в процессор. Монитор просто свалил со стола, и тот грохнул тысячами осколков.
Чисто.
Подошел к окну в крайней, угловой комнате. Закрепил трос за подоконник, подвинул болтающийся труп нападавшего, бросил взгляд вниз: никого — и шагнул за окно.
Маэстро скользил по тросу, держась одной рукой; в другой был зажат «кедр», мужчина контролировал крышу. Но никто так и не появился: бойцы сыпанули в подъезд! Кто их теперь обучает?! Или действительно: работа с «моделями», на полигоне — пять баллов, боевой опыт — в минусе? Миролюбивая и независимая теперь бывшая республика ни с кем не воюет, в отличие от империи штабы НАТО захватывать не собирается: партнерство во имя мира… Вот и подготовочка спецов соответственная. В этом говенном мире если и бывает партнерство, то только в противостоянии. Миролюбивая и независимая… «Съесть-то он все это съест, да кто ж ему все это даст?» Древние были мудрее: «Хочешь мира — готовься к войне!»
Все эти мысли промелькнули быстрее вспышки, на уровне ощущений.
Маэстро опустился на асфальт. Броском перебежал за чахлые кусты, выглянул из-за угла. Ну точно, спецназ не милицейский: вместо омоновской машины — два вполне цивильных фургончика; значит, штатная группа, «десяточка», два водителя, связист, надо думать, зовет подмогу, и командарм всей этой порнографии. Итого — четырнадцать.
Еще одна, легковая «тойота» — чуть в сторонке ветошью прикинулась. В ней кто?
Сейчас видно будет!
— Тридцать восемь, тридцать девять, сорок… — Все это время Маэстро продолжал считать, как и его напарники.
Полыхнуло так, будто в квартире был склад бензина. Крас и Котин вынырнули из подъезда и открыли шквальный огонь по автомобилям. Как и следовало ожидать, бронелист. Но нервишки у кого-то сдали: дверца приоткрылась, Маэстро всадил пулю в замок и бросился к фургончику. Парень только поднимал ствол навстречу: он потерял время, пытаясь захлопнуть дверь. Теряешь время — теряешь жизнь! Аксиома в бою, да и не в бою тоже!
Маэстро расстрелял водителя и связиста за пару секунд и нырнул под фургончик.
Вовремя: у «тойоты» опустилось стекло, загрохотала нескончаемая автоматная очередь. Машина тронулась. Пули пистолетов-пулеметов — Крас и Котин огня не прекращали — безвредно чирикали по стеклам легковушки. Уйдет!
Второй фургончик двинулся следом, прикрывая.
— На земле весь род людской… — прошептал Маэстро и спустил курок собранного под машиной мини-арбалета. Стрела, снабженная плаксидом и детонатором вместо наконечника, ударила в бронированный фургон, будто снаряд гаубицы: рваная пробоина, столб огня, фургон завалился набок и примял желавшую удрать «тойоту».
Маэстро сделал напарникам знак рукой; берем! Крас и Котин ринулись перебежками к «тойоте», оттуда рявкнула очередь, Котин запнулся, упал. Крас махнул рукой — в придавленную бибику полетела «молния». Невероятно белая вспышка, Маэстро рывком бросился к авто, выдернул хлипкую дверцу, глянул мельком и тремя выстрелами успокоил навсегда троих. Четвертого, раненого и ослепленного, выволок из «тойоты», бросил на руку Красу:
— В мою машину! Живо!
Сам вернулся к Котину. Тот ковылял едва-едва, припадая на раненую ногу. Поднял лицо, встретился глазами с Маэстро, успел выговорить тихо:
— Нет…
Пуля попала точно между глаз. Маэстро догнал Краса, вдвоем они затащили захваченного в стоявший через два дома «жигуленок». Маэстро сам сел за руль и выехал на шоссе. Вовремя. Навстречу мчались еще два фургона-близнеца и поодаль плелись на полусогнутых несколько милицейских патрульных машин: спешить под пули им совсем не хотелось. На испуганно прижавшийся к обочине старенький «жигуленок» никто внимания не обратил.
— Зачем завалил Котина, Маэстро?
— Тебе что, жалко? — усмехнулся он. Крас оскалился:
— У нас работы еще… И лишние руки…
— Мы чего, ямы роем, Красавчик? Не беспокойся, в четыре руки мы с тобой такую мелодию сыграем… А Котик… Ему просто не повезло. Балласт. Таскать с собой — потеря темпа. Нет? . — Да.
— Ну тогда и болтать не о чем. Обыщи лучше этого командарма.
— Ты уверен, что это и есть…
— Слушай, Крас! За двадцать лет войнушки только оч-ч-чень ленивый не отличит командира от бойца.
— Тогда почему он был в легковушке? Это не по правилам.
— Да они все делали по-дурному, нам что, сетовать на это? Считай, повезло: с полупрофессионалом расправиться куда легче, чем с чистым любителем — того не просчитать, а этот работает такими же стереотипами, что и мы, только куда медленнее: школа не та!
Маэстро свернул с шоссе, заехал в небольшую рощицу, стоящую посреди нового микрорайона.
— Приехали, — ткнул он в бок раненого. Тот открыл глаза, ослепление прошло.
— Кто вы?
— Ну ты спросил! — искренне расхохотался Маэстро. — Тебе что, полную биографию рассказать или обойдешься «объективкой»?
— Вы ответите…
— Заткнись! Ты или дурак, или еще не вполне отошел от шока! Я хотел бы надеяться, что второе, но мотивированно предполагаю, что первое!
Крас умело обыскал раненого, передал Маэстро запечатанную в пластик книжечку и извлеченный из наплечной кобуры пистолет.
Маэстро раскрыл удостоверение, резюмировал:
— Точно. Дурак. И пробы негде ставить. Закурил, внимательно осмотрел документ, убедился в подлинности, весело подмигнул Красу:
— Знаешь, кто этот пенек? Енерал, мля! Местной службы безопасности! — Повернул лицо к раненому:
— Шикуешь, дядько? С такой роскошной ксивой можно только за водкой, ну уж никак не на задание! Или задание это ты себе сам установил?
Молчишь? Ну помолчи пока…
Лицо Маэстро вдруг погрустнело, он стал похож на Пьеро, от которого ушла Мальвина.
— Наплодили кадров… Дожили… Тут кусок хлеба зарабатываешь нелегким мусульманским трудом и что видишь? Молодежь уже в генералах! Не правильно мы живем, Красавчик, совсем не правильно… При Союзе этот бы еще в капитанах похаживал, а? Поди, в свое время гэбэшным опером трудился, на территории, а?
Твое благородие, это ж другая профессия! А смертушка любителей ох как любит, берет живенько, на раз!
Он передохнул, спросил спокойно:
— Исповедоваться сам будешь или препарат вводить? Только не спрашивай, убью ли я тебя: это совсем уже непрофессионально и сильно меня раздражает. Назвался грузом — а дальше свои правила. Итак, играем? Я задаю вопросы, ты отвечаешь, ага?
Раненый разлепил губы:
— Вас найдут…
— Слушай, генерал, не будь козлом до такой степени! Если мы играем, то уж точно знаем, в какую игру! Усек? Вопрос первый: кто нас нашел? Отвечать!
— Степаныч, — обреченно выдохнул пленный.
— Кто такой Степаныч?
— Подполковник.
— Вашей службы?
— Да.
— Отдел?.. Пленный молчал.
— Отдел! Быстро!
— Он — «глубокая внедренка».
— Куда?
— Криминальные круги.
— Имена, фамилии, клички…
— Я не знаю.
— Крас, препарат, живо!
Крас ловко проткнул «стручком» брючину, ввел наркотик. Маэстро молча курил, ожидая, пока секундная стрелка пробежит круг.
— Видишь, как тебе хорошо сразу стало, генерал?
— Ребята, — счастливо улыбнулся пленный, — мы же все свои!
— Во-о-от! Славно, что ты это понял. Итак, от кого получен приказ нас брать?
— У меня такое положение, что я сам отдаю приказы! Любые приказы! Но вы, я вижу, свои… Все надоело! Поехали к девкам! У меня такие девки есть…
— Это ты потом расскажешь. Степанычу зачем это надо?
— О, Степаныч — голова…
— Мы знаем, он «внедрилка». Куда?
— А черт его разберет! Это еще тот волк! Да и когда у нас кто чем делился, кроме денег?
— Деньги?
— Ребята, без обид, я же не знал, что вы свои в доску! Мне за вас заплатили…
Сто тысяч баксов… Хорошенькая сумма… А вы, вы… — пленный давился смехом, — за-мо-чи-ли… всех! Это класс! Поехали к девкам! У меня уже стоит, я точно говорю! Кайф!
— Кто тебе заплатил?
— Бабки? Степаныч принес. Он всегда приносит, но не столько.
— Полные данные на Степаныча! Живо! — прикрикнул Маэстро. Глаза раненого «поплыли», чего доброго, кувыркнется в летаргию, вытаскивать его оттуда — морока…
— Алексей Степанович Кудрин. Подполковник службы безопасности. — Пленный улыбнулся счастливо. — Редчайшая сволочь.
— Он был с вами?
— Не-е-е… Степаныч на такие штуки не ходок. Он мозговитый… Мозговитый…
Ядовитый… Глаза раненого слипались.
— Ты ввел ему всю дозу? — спросил Маэстро.
— Половину.
— Давай бодри! Он еще нужен!
Крас опорожнил очередной шприц-стручок.
Раненый открыл глаза:
— Ка-а-айф…
— Вы взяли наркотики?
— Наркотики… кайф…
— Белый порошок. Героин. В рюкзачке.
— Ничего не знаю… И знать не хочу… Да и…
— Он действительно ничего не знает. Этого придурка даже не посвящали ни во что, — резюмировал Крас.
— Грамотно, — скривил губы Маэстро.
— Подыхает, — равнодушно сообщил Крас.
— Жаль…
— В смысле?
— Что это не Кудрин. Ладушки, зацепка есть. Вываливай этот кусок дерьма из салона — и двигаемся.
Тело выпало в раскрытую дверцу. Маэстро ловко блеснул ножом-бабочкой, плавно полоснул лезвием по горлу, почти отделив голову от туловища…
— Зачем? — искренне удивился Крас. — И так подох бы…
— Для верности.
— Что теперь?
— Ищем. Кто ищет, тот всегда найдет.
— Кого?
— Гончара. Поедем-ка, в райотдел, со служивыми потолкуем. Участкового выдернем: толковый участковый о своем клиенте знает даже больше, чем он сам… Где-то этот барсик залег с девчонкой, чую…
— А Степаныч?
— Вот Степаныча-то искать как раз и не надо. Он сам нас найдет. Его ждет сюрприз. Неприятный.
— Сюрприз?
— А как же! Узнать, что ты не охотник, а дичь — как думаешь, это его огорчит?
То-то.
Маэстро тронул машину, съехал с пригорка… Неожиданно откинулся на спинку сиденья и захохотал:
— Нет, ты понял, Крас, ты понял?.. — Маэстро смотрел на клинок ножа, любуясь переливом стали.
— Что — понял?
В глубине глаз Маэстро словно плескалась мутная, стылая вода…
— Ты… Ты найдешь свою девчонку. А я — своего Моцарта. Потому что сегодня смертью в этом городе распоряжаюсь я. Я!
Часть третья «ТРУДНОЕ ДЕТСТВО»
Глава 26
Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет, Моцарт отечества не выбирает, Просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, Наша судьба то гульба, то пальба… Не обращайте вниманья, маэстро, Не убирайте ладони со лба…Музыка звучала тихо, и двое лежали в полудреме, тела их сплелись… Аля повернулась на бок, свернулась клубочком и заговорила тихо и очень серьезно, глядя на Олега:
— Ты знаешь, эта твоя комната напоминает полустанок… Где ты просто пережидаешь время… Но разве время можно переждать? Ты сошел с одного поезда, ждешь другого, а его все нет… Или движение прекратилось на этой ветке вообще, а ты стоишь один на перроне, огни маленькой станции притушены, дверь заперта, а вдоль платформы лишь ветер и дождь, промозглый, нудный, и бесприютная собака дворняжка, которой ты рад уже потому, что вдруг не один… И кажется тебе, что стоишь ты на этом перроне уже целую вечность… И вдруг появляется скорый поезд, ты напрягаешься, поднимаешь дорожную сумку, в которой все твое имущество, и ждешь… А состав мчит мимо; желто, сыто светятся окна спальных вагонов, в них отдыхают респектабельные, уверенные в себе люди… А ты… Ты ждешь.
Из детдома в Конищеве мы с девчонками бегали на такой полустанок; здесь останавливались только пригородные электрички, да и то не все… И так хотелось унестись в этом теплом сверкающем поезде в тот, другой мир… Вместо этого приходилось возвращаться в старый барский дом, где помещался наш дом, детский…
Но в этом детском, как раньше, наверное, такие же девчонки и мальчишки в барском, мы были крепостными и где на все — барская воля… А уж какой барин попадется — это наудачу: злой, пьющий или добрячок… Или барыня…
— Как ты вообще-то туда попала?
— Из дома ребенка. В Покровске.
— И ты там с раннего детства была?
— В том-то и дело, что нет. Мне было десять, когда меня нашли.
— Нашли?!
— Ну да. Я — найденыш. Или звереныш. Это мне так баба Маня рассказывала. Нашли меня в сентябре, в Спас-Загорском районе. В поле. Знаешь, я была как Маугли: царапалась, кусалась! Из одежды — только какая-то тряпка, половичок… И температура у меня была, жар. Я довольно долго в бреду металась, потом в себя пришла…
— И давно это было?
— Ага. В девяносто первом.
— Подожди… В девяносто первом тебе было…
— Десять лет. Или девять. Или одиннадцать. Я же не дерево, по годовым кольцам не определишь… Записали так, навскидку… Помню, люди за мною ухаживали, и в доме ребенка мне хорошо было, там баба Маня была добрая… Вот только я не говорила ничего, совсем. Почти год. Постепенно научилась. Но… О детстве своем так ничего и не вспомнила… Баба Маня была хорошая, водила каких-то докторов… Те задавали мне кучу идиотских вопросов типа: "Под лежачий камень вода не течет.
Почему?" — писали что-то в бумажки, а дело не двигалось.
Вообще-то в доме ребенка жили одни малыши, это кого родители бросили или погибли. Мне там не положено было находиться, меня оформляли в детский дом, но баба Маня все путала нарочно какие-то бумаги, и я оставалась… И еще… Если честно, то имя — мое, я на него отзывалась, а вот ни фамилии, ни отчества я не помнила. Это мне в детдоме дали: Глебова — потому что в поле, в хлебах нашли, но «Хлебова» — это какая-то совсем странная фамилия бы получилась. А Игоревна — потому что шофера колхозного, что на меня на машине в поле чуть не наехал и потом в тот дом малыша привез, Игорем и звали. Такая вот родословная…
— Небогато, но лучше, чем ничего. Девушка закурила, выдохнула дым:
— Ну вот. А потом баба Маня умерла; она хоть и старенькая была, в умерла вдруг: тромб какой-то сорвался и закупорил сосуды сердца. А как бабы Мани не стало, оформили меня быстро: знаешь, люди к чужой беде легко привыкают, и для них она уже не беда, а так, работа. Вот и попала в Конищевский детдом. Хотя правильнее было бы назвать по-старому: приют. И там он совсем с времен незапамятных, чуть ли не с двадцать седьмого года. Сначала один дом барский и стоял, потом, в шестидесятые или семидесятые, еще пару корпусов пристроили… Парк там был, пруд старинный, но заросло все, как лес… Глушь глушью, но сначала было еще ничего… — Аля вздохнула, добавила горько:
— Если не считать того, что мы там были никому не нужны, абсолютно.
Директором в детдоме был толстый и лысый Тимофей Карпыч; мужичок очень немолодой, себе на уме; крал нещадно, ну а что и как делается между ребятами в детдоме, ему было наплевать… У Карпыча было свое хозяйство в райцентре, в восьми километрах, — свиней разводил… И к ним относился куда лучше, чем к людям. Его так и прозвали: Кабан.
Ребята не то что недоедали — голодали. Стояла какая-то жуткая несуразица с ценами. Кабан грел на этом руки, как мог, купил себе две машины, домище отгрохал… А дети лопали щи пустые, носили какие-то гуманитарные обноски… И еще ходили на кухню просить сухарики: воспитатели тогда еще на свои прикупали хлеб, его сушили на кухне… Тот, что детдомовский, шел на прокорм Кабановым свинкам.
Впрочем, там, где взрослые махнули на детей рукой, Дети организуются сами. И в такой компании закон один: на выживание. Дети ведь куда более жестокие существа, чем взрослые… Или мне только так кажется?.. Да нет, правда: дети более жестокие, но они порой… справедливее. Честнее. Бесхитростнее.
Знаешь, в детдоме особая иерархия. У одних родителей нет точно, и некрасивые они, а потому часто самые злые: у них даже надежды нет, что когда-нибудь их заберут отсюда домой. Но все равно ждут. Родителей или чуда — для детдома это одно и то же. Самое сладкое слово: дом. Что-то призрачное за ним, почти нереальное… Особенно для тех, у кого его не было никогда или кто не помнил совсем, как я… Наверное, еще хуже тем, кто помнил: они знали, что потеряли…
Дом. Всем так хотелось домой!.. Те, у кого родители были живы, сочиняли про них целые истории… Героические, жалостливые… Разные.
…Привезли меня вечером. Отнесли в какую-то канцелярию документы, потом завели в душ, но кастелянша даже помыться с дороги толком не дала, все торопила: рабочий день у нее закончился, а минут через двадцать был автобус на поселок.
Отвели в комнату, показали мою койку и тумбочку; две девочки, что там жили, сидели на койках и уставились на меня с любопытством. А я так устала, что мне бы только до постели добраться, кажется, мигом бы уснула.
— Новенькая, зовут тебя как? — спросила одна, глазастая такая. — Меня — Света.
Артюх. А это Катька Мелвинская, — кивнула она на соседку.
— Аля, — сказала я.
— Алевтина, что ли?
— Нет. Алена. Лена.
— Ну так бы и сказала. Выпендриваешься? Аля-а .. У нас тут была одна Аделаида, а на самом деле — Машка Хвостова. Ты тут лучше не выпендривайся, а то ВИДали мы таких…
Я пожала плечами: и не собираюсь.
— Привальную будешь устраивать…
— Чего? — не поняла я.
— Привальную! Ты чего, дикая совсем! Угощение должна выставить соседкам, и вообще… Скажу тебе по секрету: ты в правильную комнату питала, мы тут классно живем, не то что в четвертой или в восьмой… Они — хамки и холопки. А мы с Катькой — центровые. Так что смотри, куда попадать.. На мордочку ты ничего, да и фигурка тоже… Правильно себя поведешь, центровой будешь, не правильно — в холопки пойдешь, поняла? Ну, показывай, чего у тебя есть?
Она бесцеремонно взяла мой чемоданчик, раскрыла, начала рыться. Судя по лицу, разочарование ее было полным.
— Голота… Ты откуда прибыла-то?
— Из дома ребенка, из Покровска.
— Такая дылда?! Ты чего, подкидыш?
— Никакой я не подкидыш.
— Ну, у тебя мамка или папка есть?
— Конечно есть. Только я их не помню.
— Ври!.. Тут все врут. Есть ли, нет ли… Что ж они тебя, «прикинуть» не могли в этом доме малютки? На выпуск. Ни платьица, ни бельишка путного… Ладно, дурой не будешь — проживешь. Сейчас отбой, сегодня тетка Швабра — дежурная воспиталка, ей Буня уже бутылочку выставил, через час напьется и задрыхает. Тогда знакомиться пойдешь.
— С кем знакомиться?
— С пацанами. Центровыми. Ты чего дурой-то прикидываешься? Они во дворе сидели и тебя оч-ч-чень хорошо заметили!
Я попыталась вспомнить… Да, были вроде какие-то ребята во дворе, что-то даже говорили, когда я и сопровождающая меня воспитательница из дома ребенка проходили мимо… Но вот ни лиц, ни даже голосов вспомнить не могла, устала, вымоталась зверски…
— …Раз ты такая бесприданница… — услышала я Светкин голос. Она царственным жестом вытянула из-под кровати чемодан, раскрыла, вынула короткую белую сорочку, чулки-эластик. — Держи! Наденешь, когда пойдем. А то мне Буня самой шею намылит, если ты девкой-замарашкой заявишься. Да и мала она мне.
— Может, я посплю лучше?
— Ты что, дура совсем? «Посплю-у-у…» Я же тебе говорю русским языком, привальная — это вроде прописки. Или центровой будешь, или холопкой. Нужно показаться…
— Как это — показаться?
— Вот блин! И чего я с тобой вожусь? Отправлю в четвертую, на холопьи харчи…
Просто Буне ты глянулась.
— Кто такой Буня?
— Увидишь. Он у пацанов главный. Ну чего ты на меня уставилась? Щас можешь упасть и дрыхнуть с часочек, пока не разбудят.
Я так и сделала. Только прилегла, сразу провалилась в сон, как в яму. Снились какие-то переезды, поезда, пустые квартиры…
Открыла глаза сразу, как только кто-то тронул за руку.
— Ну че, проспалась? — спросила Артюх. — Вставай. Я встала.
— Пошли.
Обе девки, Светка и Катька, были расфуфырены, в «боевой раскраске»… Они были старше меня, одной лет четырнадцать, другой, Катьке, хотя и тринадцать, как я потом узнала, а выглядела она на все восемнадцать, а то и побольше.
Мы тихонько вышли в коридор.
— Погоди-ка… Зайдем, — сказала Светка, толкнув дверь душа. — Раздевайся и под душ! — Она передала мне тюбик с шампунем. — Импорт. Розами пахнет.
— Что-то ты о ней больно заботлива… — скривилась Катька.
— Помолчала бы.
— А чего это мне молчать? Может, ты ей еще полижешь?
— Заткнись, я сказала!
— Тогда пусть эта краля полижет мне! Как меня прописывали в Гореликах — вот это да, безо всяких…
— Заткнись!
— Не пойму я тебя, Артюх… Ни отношений твоих не пойму… Буню могла бы заартачить на постоянку, так нет, путаешься с каким-то Философом, которого мой Булдак давно бы дерьмо жрать заставил, если бы не Буня… Тот тоже из себя корчит…
Договорить она не успела. Коротко, без замаха, Светка ударила ее кулаком в лицо, другой перехватила за волосы и дважды приложила о стенку…
— Не надо, пожалуйста, не надо… — Я подбежала и стала их растаскивать. Из носа у Катьки текла струйка крови, но она не плакала: смотрела исподлобья, будто звереныш.
— Жалеешь? Дура ты, Глебова. Она бы тебя пожалела, жди… — сказала Артюх, повернула голову к Катьке:
— Ну что, допросилась, кукла крашеная? Еще раз вякнешь что про Буню, вообще буратиной гулять станешь, поняла? Буня мне как брат, поняла? С пяти лет. И если вы с Булдаком станете хавало разевать…
Поняла? Не слышу?!
— Поняла…
— Иди, морду умой, бикса вагонная.
Катька глянула зло, подставила лицо под струю воды…
— А ты чего застыла? Пацаны ждут! Живо разделась — и под душ! Шампунь возьми!
Вот дите на мою голову…
Я запустила душ, стояла, закрыв глаза… Не знаю почему, или устала, или что, но на меня напало какое-то отупение… Как баба Маня умерла, я сделалась ко всему равнодушной. Тут еще этот переезд измотал… Нет, я воспринимала происходящее, но словно со стороны, так, будто это происходило не со мной, или со мной, но не наяву, а во сне, и стоит только захотеть, и сон прекратится. И знаешь, что происходит у меня всегда, как только ситуация становится тягостной или я ее не понимаю…
Шампунь действительно был классный. Это теперь всякий «Джонсон и Джонсон» заботится о вашем здоровье с неотвратимостью механического молота и круглые сутки; тогда, кроме мыла «Земляничного», достать ничего было нельзя, а в доме малютки — и подавно.
Внезапно дверь открылась, на пороге вырос парень.
— Ух ты! — уставился он на меня. Покраснев до корней волос, я успела прикрыться руками и повернуться спиной. — Хватит плескаться, пацаны заждались… — хрипло произнес он, добавив:
— А эта новенькая — вообще… С такими ногами — каблуков не надо…
— Вали отсюда, Кулик! — прикрикнула на него Светка.
— Чего — вали? Говорю же — пацаны уже скучают. Она же не чукча, чтобы ее целый час отмывать… Чего Буне передать?
— Бонжур! Скажи — через десять минут будем. В полном блеске.
Глава 27
— Слушай, Артюх, ты посмотри на эту кралю! — произнесла Медвинская. Лицо она умыла и выглядела не только не битой, но даже и не обиженной на соседку. — Красная как маков цвет! Слушай, детка, ты чего, с пацанами никогда не?..
Я смотрела ей в глаза и молчала, покраснев еще больше.
— Ну сейчас потеха будет! Целочка она у нас! Видно, в доме ребенка действительно малютки одни: откупорить некому было! — расхохоталась Катька, а я вдруг почувствовала какую-то глухую злость… Вернее, не злость, а знаешь… Это когда кошке что-то не нравится, она мурчит, но по-другому… И взгляд у нее меняется…
Я вышла из-под душа, вытерлась, и не тем вафельным застиранным полотнищем, что мне кастелянша дала, а нормальным мягким махровым полотенцем. Надела сорочку, платье, потянулась за трусиками…
Катька выхватила их у меня быстрым движением, усмехнулась:
— Ни к чему… Мы веселиться идем.
— Отдай! — Я выхватила у нее трусы и быстро надела.
— Тоже мне недотрога, — зло прищурилась Медвинская. — Все равно снимать придется!
— Мне что же… — начала я.
— Вопросов поменьше задавай, новенькая, — неожиданно резко ответила за нее Светка Артюх. — У нас все по согласию. А будешь артачиться, пойдешь к холопкам.
Вот их никто ни о чем не спрашивает. Когда, с кем и сколько! Усекла? Пошли!
Я хотела ответить, но сдержалась… А сама чувствую, будто что-то растет во мне, темное, недоброе… Сама себя такую не люблю и даже… Даже боюсь немного… И приходится напрягать всю волю, чтобы это не выпустить пшиком, базарной вспышкой… Не знаю, откуда это у меня. Наверное, подруга Сергеева права: гены.
Мы прошли по освещенному единственной сороковаткой коридору, остановились.
Дверь, на ней табличка: «Комната отдыха». Слышно было, как магнитофон играет.
Катька Медвинская улыбнулась во все тридцать два зуба, распахнула дверь, произнесла голосом ярмарачного зазывалы:
— Пра-а-ашу! Впервые на сце-э-э-не! — и толкнула меня в спину.
Свет после тусклого коридора ослепил. Я зажмурилась. Открыла глаза. Парни сидели полукругом в креслах. На низеньком хохломском столике перед диваном и креслами были расставлены вино, водка, закуска; вкусно пахло жареным мясом. Внезапно я почувствовала, как голодна: привезли меня после ужина, и никто покормить не удосужился. Да и в пути перебивались какими-то пирожками с непонятной начинкой.
Все парни были старше меня, их было семеро. В глазах — любопытство и предвкушение… Рядом сидели четверо девчонок, разряженные и накрашенные. Как я поняла, это и были центровые.
— Вот это ку-у-у-кла… — произнес угловато стриженный парниша. Вернее, стрижка у него была короткая, под машинку; тогда не было еще повальной моды на бритоголовых, и так коротко стригли только в казенных домах: детских, интернатах, дурках… Ну да, шишковатая голова, неровная какая-то, а лицо…
Представь: тяжелая четырехугольная челюсть, резко обозначенные скулы и надбровные дуги… Он вообще был как квадрат: квадратные плечи, квадратные кулаки. И похож вовсе не на подростка, а на маленького мужичка, взрослого и очень злого. И взгляд… Такой взгляд бывает у изрядно пьяных и у отморозков, злых на весь мир…
Впрочем, все это я рассмотрела потом, позже. А тогда…
— Сам ты — Буратино недоделанный! — вот что я ответила ему тогда.
— Что-о-о?! — шипяще произнес он.
— Что слышал. Все разом смолкли.
Квадрат этот встал, потрещал костяшками, словно разминая пальцы…
— Присядь, Булдак… Не суетись, — тихо посоветовал ему молодой парень, разместившийся в большом кресле напротив двери. Вот он был действительно хорош.
То есть не красив, красивы бывают голубые, он был по-мужски хорош: спокойный, собранный, глаза вдумчивые. Если что его и портило, так это рот; вернее, рот был сложен в какую-то брезгливо-равнодушную гримаску… Защищался он так от окружающего, что ли? Знаешь, я давно заметила, каждый защищается от мира как может: один косит под придурка, другой — под крутого, третий как бы витает в сферах… Только… Только образ постепенно сливается с «оригиналом», вот что страшно… Мир побеждает, как от него ни защищайся… Может, стоит быть просто такими, какие мы есть?.. Но это… Это еще страшнее: люди привыкли считать доброту слабостью. А жаль…
— Я же сказал: по-зна-ко-мить-ся. И не прикидывайся деткой большей, чем ты есть!
Или ты разденешься сама, или пацаны тебя разденут! Ну!
Кажется, я оцепенела… Пальцы были как деревянные… Я подняла руки, расстегнула одну пуговку, другую…
Буня сидел прямо напротив. Как сейчас вижу: губы скривила презрительная ухмылка, глаза темные, усталые… Может, мне и показалось, но, похоже, в них я заметила… разочарование.
Знаешь, я ничего не думала и ничего не решала. Словно что-то щелкнуло в голове, все окружающее будто сфокусировалось… Обшарпанная комнатенка с истертым ковром на полу, запах дешевого вина и табачного перегара, какие-то незнакомые мне полутрезвые пацаны и накрашенные девки, магнитофон хрипит что-то дурацкое…
Центровые, как же! Гадюшник детдомовский… И еще — запах мяса… Мяса, украденного у тех детей, что слабее…
Та самая энергия, что копилась где-то внутри меня… Нет, не думала я ни о чем!
Просто как стояла, так и врезала ногой под коленку этому длинному, Циркулю, что у двери. Он припечатался к стенке и сполз по ней: головой приложился о косяк.
Все вскочили: они ждали, что я побегу. Но я не побежала.
Первый же ринувшийся ко мне пацан получил растопыренной пятерней по глазам, потом — ногтями по щеке. Девке этой, Катьке Медвинской, врезала костяшками в нос, и она завыла приглушенно… Почувствовала, как кто-то захватывает руку, дернула, повернулась и словно бомба в животе взорвалась: я потеряла сознание.
…Когда пришла в себя, почувствовала, что спеленали меня крепко; с меня сорвали всю одежду, я лежала нагишом… Глаза мне завязали каким-то полотенцем, чьи-то руки шарили по телу…
— Ну что, Буня, начинай… — услышала я голос Булдака.
— Да эту сучку в самый раз ложкой откупорить, — подвыла Катька: видно, нос я попортила ей основательно.
— Ну, ты чего? — снова Булдак.
— Нет, — сказал Буня.
— Ну нет так и нет, — произнес Булдак хрипло. — А у меня на нее ох как стоит!
Потом — остальные, по очереди: Циркуль, Хриплый, Плохой…
— Я сказал: нет! Никому «нет». Девчонка молодец. А мы не звери.
— Буня, ты чего? Раз у тебя не стоит, то и нечего тут…
— А ну, заткнулся! Девка себя по жизни правильно ведет. За что ее ломать? Она права… Под всех подстилаться — хребет сотрешь!
— Это что, она, значит, благородная девица будет, а мы — шалашовки? Так, по-твоему? — возмущенно завизжала Катька.
— Булдак дело говорит: не хочет по-хорошему, пусть идет «на хор», в холопки! И нечего слюни тут разводить: подстилаться не подстилаться… Или с нами, или в холопки… Третьего не бывает, — произнес кто-то.
Все замолчали. Тишина была почти полной. Я лежала, зажмурившись… Нет, я не хотела плакать, не хотела, чтобы они видели… И чувствовала, как по щекам текут слезы…
— Буня… Ты не горячись… Правила ведь такие… — подал голос один из парней.
Снова стало тихо.
— Плохие правила, — произнес Буня. — Я их меняю. Девчонку — покормить и отправить спать. Никто ее не тронет. Я сказал.
— Ну ты до-о-о-стал!
Послышался хлесткий звук, грохот падения… Девки завизжали, загремела мебель…
Кто-то застонал…
Дрались ожесточенно. Потому что молча. Время от времени слышались только всхлипы и стоны боли…
Я почувствовала, как кто-то развязывает мне ноги, потом руки. Свет упал на лицо неожиданно: с глаз сняли повязку. Буня стоял надо мной; губы разбиты, нос припух… Дышал он тяжело. — Одевайся и уходи…
— Куда уходить? — не поняла я.
— Спать. Света тебя проводит.
Я окинула взглядом комнату: по ней словно смерч прошелся. Пятеро пацанов были избиты в кровь, девки стайкой жались у стены, со страхом глядя на Буню.
— Философ, где ее одежда?
Спокойный, невозмутимый парень пожал плечами:
— Порвана.
— Ладно, накинь что-нибудь, завтра найдем.
Вместе с Артюх я направилась к выходу. И еще я подумала: двое против пяти — совсем неважный расклад. Сегодня они победили, а завтра?.. Об этом «завтра» я думать не хотела. Больше всего я хотела спать.
Булдак лежал у стены; оба его глаза почти совершенно заплыли, лицо было превращено в месиво. Над ним склонился Философ:
— Глуп ты еще, Булдачок, чтобы Буню переиграть… Для любого человека существует всего два мнения: свое собственное и не правильное. И если свое подкреплено силой… А сила — у Буни. Да и как говорили древние китайцы — чтобы победить противника, не стремись стать сильнее, сделай его слабее… Буня это умеет, ты — нет. Так что не трепыхайся.
— Ничего… — прохрипел Булдак, выталкивая слова вместе с осколками зубов. — Я его достану… Я вас всех достану… И тебя. Философ, тоже. Дай срок.
Я как-то добрела до комнаты, прилегла на постель и провалилась в сон. Как в яму.
Глава 28
Первое, что я увидела, открыв утром глаза, был огромный букет роз. Лепестки были нежны и прозрачны, бутоны едва распустились… Я огляделась: в комнате никого.
Потом дверь открылась, появилась Медвинская, увидела розы, прищурилась зло:
— Не знаю, что такого в тебе нашел Буня, чего в нас нет… Но ты не задавайся, детка… Сейчас тебе покатило, а завтра, может быть, не покатит… Фортуна — девушка переменчивая: сегодня с тобой, завтра — с другой. Вот тогда ты и ответишь. За все.
— Будь спокойна, отвечу!
Катька зыркнула на меня с ненавистью и вышла, хлопнув дверью. Почти сразу дверь открылась снова: я думала, она вернулась, забыла что-то… Но это была Светка Артюх.
— Ну ты и спать сильна! — Подошла ко мне, посмотрела внимательно. — Что-то у тебя глаза блестят… — Приложила руку ко лбу. — Да у тебя температура!
Простыла, что ли? Подожди, я сейчас.
Она ушла, вернулась через минуту с тарелкой разогретого вчерашнего жареного мяса.
Есть я хотела зверски, запах был такой, что голова кружилась… Сглотнула, отвернулась:
— Я не буду.
— Ты чего?.. Не капризничай, тебе нужно…
— Я не буду. Я буду то, что едят все…
— Так все это и едят…
— Ври… Вы никакие не центровые, вы просто свиньи… Устроили тут… И отбираете у тех, кто слабее… Лучше с голоду подохну, но с вами не буду…
— Так ты… — Светка удивленно приподняла брови и — расхохоталась. — Так ты подумала, что мы с кухни мясо берем? У детей?
— А откуда же еще?
— Дура ты, Алька, необразованная. Хотя… Ладно, мясо, конечно, ворованное, но не с кухни. Наоборот, одного кулака на рынке в райцентре пощекотали, он нас и угостил. И если бы не Буня и пацаны, все в детдоме действительно бы голодали.
Уразумела?
— Как это — пощекотали?
— Ну припугнули, по морде слегка съездили… А тебе что, жалко? Кулачок этот где-то приворовывает, свинюк откармливает, машину купил, а тебе его жалко? Да он такой же, как наш Кабан, такая же сволочь зажратая! Ничего, и до него черед дойдет.
Аромат от мяса был такой, что у меня закружилась голова…
— Правда не у ребят?.. — тихо спросила я.
— Да говорю же тебе: нет! Ешь давай!..
Мне казалось, что насытиться я не смогу никогда. Но на самом деле моего голодного задора хватило только на один кусок: мне показалось даже, что я жутко объелась… Сказала Артюх, что больше не могу, она только улыбнулась:
— Я тарелку оставлю, потом доешь…
Она собралась уходить; я решилась, спросила:
— Света, а все же… Как вы с Катькой живете в одной комнате?..
— Боишься ее?
— Вот еще! — поспешила ответить я, потом… Потом вздохнула:
— Если честно, да, боюсь.
— И правильно делаешь. Девки все подлые, и я, и ты тоже… А Катька… Ей, конечно, досталось по жизни, но… Завистливая она… Отхватила себе не того парня… Знаешь, ей до смерти хочется быть с Буней, а ее Булдак за собой держит… Вот такие расклады. Так что ты правильно ее опасаешься.
— А у Буни… — начала я.
— Девчонка? На постоянку? Нет. Он холопками обходится.
— Да кто такие эти холопки? У вас что, игра такая?
— Ну это тоже старшие девки, только… Ты же понимаешь, маленькие пока все детки… А эти… Аля, жизнь такая. Хочешь кушать сладко — отрабатывай. Если рисковать характера не хватает, чем ты расплатишься? То-то ж… Снимай трусики и подставляй, что имеешь… Холопки — это те, что сами за жрачку не рискуют, по рынкам не шустрят… А кушать хотят сладко. Вот и выбирай.
— Тогда что же вы вчера мне устроили?
— Смотрины. И ты вела себя молодцом.
— Погоди, Свет… Я глаза этого Булдака видела. Он не простит. Ни тебя, ни меня, ни Буню.
— Булдак — еще тот волчара. Да только не его сила, не его и власть. Ты думаешь, они из-за тебя сцепились? Булдак заматерел за последний год, пацанов подбивает, давно на Буню зубы точит, а тут случай представился… Тем более пацаны расслабились, винцом налились, а тут такая краля замаячила, и один говорит — трахать в очередь, другой — не трогать… За кого станут? То-то.
— Буня ведь рисковал…
— Не без этого. Но Булдака все равно унять нужно было. Ладно, заболталась я с тобой, пора на промысел. — На какой промысел?
— Еду добывать.
— Воровать?
— Ну, можно и так сказать.
— А может быть, заработать проще?
— Негде. Колхоз рядом — сам по себе, как черная дыра. А у мужика какого из подвала тащить… Раньше, когда побогаче жили, сами делились, а сейчас… Всем до себя — как бы самим выжить. Не, мы на базаре в райцентре суетимся: когда фуру почистим, когда — перекупщиков…
— Опасно же…
— Не мы эту жизнь выбрали такой. Все. Мне пора. Отдыхай.
И я снова уснула.
Оклемалась полностью я через неделю. У меня был жар. И самое обидное… Самое обидное было в том, что Буня не навестил меня ни разу. Правда, прислал джинсы, свитер, видно, добыли на том рынке. Я вещи взяла. Я не собиралась отсиживаться; решила: как только болезнь пройдет, буду вместе со всеми.
…Тот день был очень ясным. Свет словно пронизал насквозь листву кленов, расцветил все, и день стал другим, красивым, и все вокруг словно стало другое, и хотелось верить, что это действительно так и что так теперь будет всегда.
Его я увидела, когда он шел по двору к автобусу. Окликнула:
— Э-эй!
Буня обернулся, постарался сделать лицо равнодушным:
— Привет. Как дела?
— Нормально.
— Ну вот и отлично. Завтра на уроки пойдешь.
— А ты сам ходишь?
— Мне некогда.
— Слушай… А как тебя на самом деле зовут?
— Меня? — Было похоже, что он смутился. — Саша. — Парень усмехнулся. — А ты что, не знала?
Я, конечно, узнала и его имя, и фамилию: Буников. Подумала и ответила честно:
— Знала. Но мне хотелось познакомиться с тобой по-нормальному, — Ну вот и познакомилась, — ответил он довольно нелюбезно.
А я стояла как дура и не знала, что говорить дальше… И свой голос услышала словно со стороны:
— Я хочу ходить с вами.
— С нами? В светлое будущее?
— Нет. На рынок.
— Ты знаешь, что мы там делаем?
— Еду… добываете. Для ребят.
— Ты знаешь как?
— Научите.
— Хм… Рано тебе. Повременим.
Мне стало до того обидно!.. Словно меня записали в дети, когда я уже взрослая!
Или он действительно считает меня ребенком? Я почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза…
— Не хнычь!
— Я не хнычу…
— Вот что, рысенок, сделаем так: пока по вечерам начнем с тобой заниматься. В спортзале. Согласна?
— Да, — ответила я.
— Ты не спросила чем… Я покраснела…
— Ну-ну. Не переживай. Будешь осваивать рукопашку. Каратэ. У тебя отличные данные. Теперь поняла?
— Да, — ответила я, стараясь, чтобы он не заметил моего разочарования.
— Вот и славно. До вечера.
Саша махнул рукой и легко побежал к автобусу.
Мы начали заниматься. Утром пробежка, вечером пробежка. Совсем вечером — тренировка. Кроме меня, у Буни тренировались Философ, он был его постоянный спарринг-партнер, и Кулик. Правда, это трудно было назвать каким-то из единоборств. Определенная школа у Сашки, конечно, была: оказывается, он до тринадцати лет жил в Таджикистане, в военном городке, пока не погибли родители.
И занимался лет с восьми. Сейчас ему было почти семнадцать.
Так прошел месяц, потом — еще месяц. Я ходила на уроки: они были не просто нудными, а словно из другой жизни. В этой — борьба за выживание, в той — руководящая и направляющая роль партии большевиков… Шел девяносто третий год, а учебники в детдоме были старорежимные, учителя — вообще… Они приезжали из райцентра, из Зареченска, отбывали часы, а там — хоть трава не расти. Не все, правда.
И еще… Ночами я ревела, уткнувшись в подушку. Сашка не обращал на меня внимания, никакого!
— Страдаешь? — приподнялась на подушке Светка Артюх. Медвинской не было: где-то ее носило. Я замолчала, лицо — в подушку.
— Зря страдаешь…
— Да не страдаю я. Просто вспомнилось…
— Ври… Что я, не вижу?
Тут я не выдержала и снова расплакалась:
— Почему, Светка, почему?.. Почему он не обращает на меня никакого внимания? Кто я для него? Спарринг-партнер? Пацанка? Мы занимаемся в зале, иногда разговариваем о жизни, а потом… Потом я возвращаюсь в эту дурацкую комнату и лежу одна, как дура… А он…
Вот вы тут устроили: холопки не холопки… А что им, живется плохо? Пацаны их угощают, с ними спят… А сегодня? Эти, Павленко и Кураева? Мы стоим с Сашкой в коридоре, я как раз собралась в душ идти в свой, он-в свой. Заявляются, примадонны, в одних рубашках…
«Буня, устал? Пойдем, мы тебе массаж сделаем!» — говорит Павленко. А Кураева нагло так глядит на меня, губы облизывает, переводит взгляд на Сашку:
«Ха-а-а-роший массаж. Расслабляющий…» Потом снова смотрит на меня: «А что, Киска, хочешь с нами? А нельзя! Ты же — центровая, ха-ха-ха…» И пошли обе в душ для пацанов.
Я стояла, будто меня с ног до головы помоями полили. Буня что-то продолжает мне говорить, у меня, чувствую, сейчас слезы на глазах закипят, а тут еще дверь открывается, выкатывается эта Кураева в чем мать родила, становится такой прямо в коридоре и капризно так, губы вытянув: «Бу-у-ня, ну сколько жда-а-ать можно?»
Не помню, что я сказала, — просто сорвалась и пошла. Ты знаешь, я надеялась, он пойдет за мной, а он — остался… С ними… Это что, и есть счастье — быть гордой и плакать ночами?..
— Все же ты еще дите, — пожала плечами Светка. — Против природы не попрешь.
— Да не дите я никакое! Просто я не хочу так! Ты понимаешь? Я хочу чувствовать, что нужна именно я, я, и никакая другая!
— Не заводись, Алька, и меня не заводи. Расслабься. Будет Сашка еще твой, куда он денется…
— Ага, а сейчас в душе с этими… массажистками. Завтра встречу и набью морды.
Обеим.
— А вот этого не надо. Ты же не злая.
— Да? Вот сейчас я так не думаю.
— Подожди. Просто для тебя и Сашки время еще не пришло.
— А оно придет?
— Придет… — неуверенно так сказала Светка. — Ты верь.
— А что мне остается делать?.. Мы помолчали.
— Ты спишь? — спросила я Светку.
— Нет.
— Ты вместе с Сашкой росла?
— Ага.
— Расскажи.
— Не сейчас, ладно?
— А когда? Ты в военном городке жила?
— Да. Мой папа, как и его, был офицером. И погиб еще раньше, в Афганистане. А мы с мамой остались жить в городке: куда было ехать? Мама там в столовой работала.
И погибли они вместе, в девяносто первом, два года назад… Моя мама и его родители… И еще один рядовой, шофер. Поехали в Душанбе, машина — в пропасть…
— Несчастный случай?
— Ага. Так считается. Но я так не думаю. И Сашка не думает. — Светка лежала, сцепив зубы. — Мы еще вернемся туда. Вместе с ним. И все разъясним. Иначе жить нельзя.
— Извини, Свет…
— Да ладно… Хватит болтать. Спать давай.
Глава 29
А на другой день Булдак избил свою подружку, Медвинскую. Жутко избил: сломал нос, покрошил зубы. Кать-кина голова была похожа на кокон: вся в бинтах.
— Доигралась? Допрыгалась? — прищурилась Светка, вернувшись в комнату. — С Булдаком шутить нельзя: он зверь, и место ему — в клетке.
А Катька только плакала беззвучно. Хотя она и была порядочной стервой, а ее было жалко.
Буня разыскивал Булдака все день и всю ночь. Не нашел. Булдак исчез, и понятно было, с чего: за такое художество нужно было ответить, а ответить Сашке он вряд ли бы смог.
Есть Катька отказывалась. Лежала целыми днями и плакала. Я не пошла на занятия и осталась с ней. Светка принесла ей самолично сваренный компот из натыренных где-то яблок и снова исчезла.
— Кать, ну выпей… Сладки-и-ий… — настаивала я. Девка ничего не ела вторые сутки; приезжал врач, щупал ей живот, ну и все, что полагается, сказал, ничего не повреждено, только лицо. А с лица воды не пить. Он так и сказал, чем довел Катьку до истерики…
— Ну-ну, девушка… Это не тот случай, когда медицина бессильна… Чуть-чуть заживет, сделают тебе пластику, Клаудиа Шиффер позавидует.
— Да? И откуда у меня такие деньги?
— У тебя — нет, у Константина Евгеньевича — вполне… Зареченск городишко был совсем маленький, все про всех все знали. А врач, лучший хирург городка, жил совсем не хило, был принят «в кругах»: и сильные мира сего порой болеют, и лучше, если в случае чего их прооперирует классный хирург, и не только за деньги, но и за совесть. А для районного городка весь мир часто и заключен в границах его собственной территории; уже губернский центр — как другая планета, а Москва или Петербург — будто Сатурн с Юпитером или даже альфа Центавра с Андромедой — вне пределов досягаемости…
А Катька заблудила с самыми уважаемым человеком городка — главой райадминистрации и сопутствующих предприятий. Их было немного: трикотажная фабрика, изделия которой можно было носить только по очень большой нужде, завод по производству минудобрений и ремонтные цеха. Но Груздев — так звали мужичка — суетился с не растраченной за годы «застоя» энергией, тихонечко связывался и с областью, и с Москвой, и с забугорьем ближним и дальним, а потому горожане надеялись, что выплывут на волне его неукротимой воли и предприимчивости в светлое капиталистическое «завтра». И такое бывает.
Константин Евгеньевич был невысок ростом, хотя и молод, уже с животиком… Уж насколько он запал на Катьку, только ей и известно было…
— Ублюдок, — произнесла она тихо.
— Кто? — невинно приподняла я брови.
— Да Булдак, кто еще! Падла, сволочь, козел вонючий, скунс позорный… — Невзирая на боль в разбитых губах и Деснах, Катька поливала его такими словами, что и матерый корабельный боцман заслушался бы и прибалдел от ласкающих душу каждого морского волка словосочетаний — Ну ты и ругаться здорова! Раньше надо было думать: или с этим расставаться, или с тем не вязаться…
— Заткнулась бы, Глебова, со своими советами… Ты ж у нас целка мудреная, что ты вообще по этой жизни понимаешь?! Мне что, трахало было от этого Булдака или от Груздева нужно? Просто одной девке ну никак не прожить в этом мире, а со смазливой мордашкой еще хуже, чем без нее!
— Да и ноги у тебя — закачаешься, не говоря о груди…
— Ты чего, Глебова, порозовела, комплименты посыпала?.. Тогда лучше кончай языком молотить, используй его по другому назначению… Хочешь?
— Дура ты злая, Медвинская!
— Да? А ты — добрая? Я на год старше тебя, а если разбираться… Меня отчим трахнул, мне еще восьми не было! А к девяти уже выучил, чему можно и чему нельзя, поняла? Мать быстро прознала, била смертным боем, отчим ее отхаживал тоже за будь здоров, потом напьются оба и помирятся, что твои голубки… В постельку улягутся — и дрыхнут… Знаешь, чего тогда мне больше всего хотелось?
Чтобы подохли побыстрее к чертовой бабушке, вот чего! Грешная я, да? Не хочешь — не слушай, вали отсюда!
— Кать… У всех здесь жизнь раньше была — не сахар…
— Не у всех! Поняла? У Светки Артюх или у Буни, у них родители были, настоящие родители, поняла? Которые их любили! Меня никто никогда не любил! Никто!
Никогда! Я что, жалеть кого-то должна?
Катька перевела дух.
— И они подохли. Оба. Опились какой-то дрянью самопальной и кони двинули. А потом я в детдом попала, в Гореликах: это тебе не здешний курорт, блин! Там меня прописали в первый же день: девки в душе пристали и заставили… Ну сама знаешь… А потом — вроде как в аренду сдали тамошнему завхозу: вот, сука, кто веселился вовсю!
Терпела я это недолго: в один хорошенький денек обломала об мужские достоинства этого пузатого борова, завхоза, биту для городков — он был большой поклонник сего спокойного и рассудительного вида спорта. Не знаю, как ему, а мне в этот момент было хорошо.
Ну и сорвалась, что там было ловить, кроме специнтерната после такого зверского членовредительства? Все свои бумаги я притырила загодя, приехала сюда, прописалась. Меня никто особенно и не искал: Горелики теперь — в другой стране, сейчас и убийц не ловят, и никакой опер не будет попу рвать по поводу физических страданий какого-то завхоза-ублюдка…
А здесь… Здесь как-то сразу стала подругой Булдака. Что ты взгляд-то отводишь?
Да, зверь он, я всегда знала, что зверь, пес ненормальный… А кто лучше?
Скажешь, Буня лучше? Да он избегает всех и всяких постоянок и живет так, словно к будущей войне готовится… Без привязанностей… Тоже зверь, только подобрее… Или поподлее.
— Это чем же он подлый? Деток здесь кто — не он разве кормит.
— И себя не забывает…
— Нет, ты ответь!
— Да ладно тебе. Но скажи, что я не права! Ты вот и не размазня, и цепочка, не то что я, и к нему льнешь — без бинокля видно, что у тебя в трусиках мокро все… И что? Трахает-то он холопок, давалок, потому что перед ними обязательств никаких!
Я почувствовала, как на глазах закипают слезы… Что ж она все-таки такая сука, эта Медвинская?..
— Во-во, пореви еще… Да все я понимаю: просто тебе, как и всем, хочется к крепкому парню прилепиться, без дураков, как мне к Булдаку, раз уж с Буней не получилось… Вот ты и лепишься на постоянку… И наверное, правильно делаешь…
А то… Хочешь, я тебя познакомлю с нормальными мужиками?
— Это из груздевских?
— Груздев, понятно, босс, но там еще есть: Манохин, он районным строительством заведует, и денег у него как вшей у нищего… Он от тебя точно заторчит! А как узнает, что целка, — так и вообще пойдешь на постоянку! Быть постоянкой — это тебе…
— Ну и сука ты!
— А то…
— Это чтоб я Буне не досталась?
— Да пошла ты.
— Стерва ты, Катька, вот тебе и…
— А ты не стерва? Сидишь тут, жалелыцицу из себя строишь! Не нужно мне никаких жалений, поняла?
Я только вздохнула. Катька отвернулась к стене и жала так бревном… Все же ее было жалко. Я знала, что она сейчас плачет. Потому что боится… Боится увидеть свое лицо после, когда снимут бинты… Надо думать, эта сволочь Булдак постарался на славу…
— Ты не переживай, — произнесла я. — Буня, что ты нем ни говори, пацан справедливый… Он достанет Будлака, и тот ответит. Ну изменила ты ему — это, конечно плохо, но чтобы так потом уродовать…
Катька аж взвилась! Да и я хороша — подобрала утешительное словечко, нечего сказать: «уродовать».
— Ты что, правда такая дура или притворяешься?! проорала она.
— Извини, Кать, я не хотела…
— Чего ты не хотела? Ты что, серьезно думаешь, что Булдак избил меня из ревности?
— А из-за чего же еще?
— Ну целка, ну дите! Да плевать он на это хотел, по няла? Он сам меня Груздю и подставил!
— Как это — сам?
— А вот так! Угодить решил большому боссу да жизнь свою устроить попроще да поприкидистей, сутенер елдин! Сдал он меня, как последнюю холопку сдал, вот и все дела! В аренду!
— Груздь что, деньги ему за тебя платил?
— Вот еще… Я все же не дешевка… Уговорил меня Булдак: сказал, нужно поближе к этому Груздю подойти, а потом подломить его хорошенько…
— Как это — подломить?
— Как-как, выставить, и все дела!
— Ограбить?
— Да называй как хочешь!
— Вот это да!
— А чего тут такого? Сама о себе не позаботишься — никто о тебе не позаботится.
Тем более Булдак сказал как только дело провернем, смоемся отсюда подальше..
— Так у вас же ни паспортов, ничего…
— Нашла проблему: с деньгами все можно купить, ты поняла — все! А я выгляжу на все шестнадцать… — Катька вдруг осеклась, добавила почти шепотом:
— Выглядела…
— Тогда почему… — начала я.
— По качану, — огрызнулась Медвинская. — Нет, я правда не понимаю…
— А чего тут понимать?.. Тут видеть нужно, тут нужно пожить так, как живут Груздев, Манохин, Стеклов…
— А что там особенного?
— Чего тебе объяснять, все равно не поймешь… Потому что дите…
— Да ладно тебе… А ты попробуй.
— Попробовать? — Катька задумалась на секунду. — скажи мне, в чем верх мечтаний всех здешних?
— Детдомовских?
— Ну хотя бы…
— Домой. Все хотят домой.
— Ладно, это понятно. А по-простому?.. Теперь задумалась я.
— И нечего лоб морщить, все как в том фильме про «Республику ШКИД»: нажраться от пуза! Или скатерку спереть и рубаху из нее скроить! Не так? Пусть вместо скатерки — джинсовый костюм или там платье, не важно, суть одна. Прикури мне сигарету… — попросила Катька.
Глубоко затянулась, выдохнула дым.
— А вот представь салон могучего «мерса», где пахнет не вшивой дезинфекцией или щами из тухлой капусты… Запах дорогой кожи, какой обтянуты кресла, мерное покачивание, ненавязчивая музыка… Хорошо выбритый, подтянутый спортивный мужчина рядом… Загородный ресторан, больше похожий не на кабак, а на закрытый клуб, — он таковым и является… Хорошее шампанское, вышколенная обслуга, превосходная, изысканная еда… Представь мраморную ванну, а в ней пена пушистая и нежная, как шелк… И запах цветов, когда утром ты просыпаешься в большой постели, а рядом букет только что срезанных цветов, еще в капельках росы… И простыни хрустят и пахнут фиалками… А на кухне тетя Груня уже поджаривает тосты и намазывает их свежайшим сливочным маслом, и икра на льду, и чай такой, что от одного аромата можно сдвинуться, и кофе, и все, чего душа пожелает…
Ты понимаешь, что они живут в другой стране, в другом мире?.. Их заботы другие, их желания другие, их подстерегают другие опасности… Людишки, не важно, детмовские или вольноживущие — все озабочены тем, как бы набить брюхо жратвой, а квартирку-клеть — утварью. Их это уже не волнует, это для них — само собой, но они продолжают рисковать и пахать, потому что хотят быть не последними, хотят быть круче! Ты понимаешь?..
Я уже не говорю о сексе… Груздев, я его называла Папа, — произнесла Катька с ударением на второи слог, — просто гений какой-то в этом деле! Эти наши только сопят и «гоняют дурака», кто как сможет, а Папа… Да что я тебе могу объяснить, целке?.. Ничего.
Знаешь, что было самое трудное? Это уходить оттуда в детдом. На эти кровати с проржавевшей сеткой, на эти рыжие матрасы, глядеть на придурочных детей и еще более придурочных воспитателей с учителями… Меня от этой грязи и глупости тошнит, ты понимаешь, тошнит!..
Физически!
— К хорошему легко привыкаешь… Только…
— Заткнись и слушай, недолетка! И нехрена меня жалеть! Я никого, ты слышишь, никого больше жалеть не буду… Морду Булдак раскроил, зубы повыбивал! Ну и дурак, что не убил! Я его, подонка рваного, все равно достану и порешу, падлу!
Своими, чужими ли руками, а жить он не будет! Ты думаешь, сломали меня? Сама дура, вот и расплатилась собственной физией… Ничего… Слушай меня внимательно. Ля-ля! Я убью, зубами загрызу всякого, кто мне в тот мир вернуться помешает! Здесь все равно не жизнь, и прозябать меня никто не заставит! Никто!
Лучше подохнуть на подлете, чем всю жизнь гнить! Я… Я в Москву поеду…
Скажешь, так меня там и ждут, с порченой физиономией и детдомовским прошлым?..
Ждут, еще как ждут, только они об этом еще не знают!
Слушай меня внимательно, целка глупая, и забей себе в мозги на всю дальнейшую жизнь: я не одна такая! Любой, ты поняла, любой или любая, кто хоть раз попробовал того мира, той страны другой, не захочет жить в этой! И он будет убивать, бить, резать, подставлять, предавать, подстилаться, лишь бы остаться в том мире навсегда…
Катька перевела дыхание.
— Все хотят, не у всех духу хватит. Так вот, Глебова, у меня хватит. Можешь не сомневаться. И больше ни одной глупости я не сморожу. Будь уверена.
Катька замолчала, забычковала сигарету.
— Все. Закончили трали-вали разводить, спать хочу.
— Погоди, Кать… Я одно не поняла: почему на тебя Булдак все же так вызверился?
— А чего тут не понимать? — Катя вздохнула. — Для Булдака я кто была? Пожимаю плечами:
— Подруга…
— Угу… А также подпруга, лошадь и седло… Короче — мясо. Да и для всех здесь… Катька — стерва, Катька — сука, будто кто-то из вас лучше… А он…
Папа… Для него и была деточка, лапочка, зайка… Тебе что, непонятно?
— Значит, все-таки из ревности?
— Тупая ты, Глебова, как толстолобик! Просто достал меня Будак, ты поняла?
Достал! Я ему сказала, что пошел он лесом, а также лугом, полем и другими болотами! Он прямо взбесился! При всем своем нахрапе Булдак еще и псих… Ну и я дура — момент выбрала…
— Какой момент?
— Такой. Булдак с городскими синяками уже стакнулся…
— С какими синяками?
— Ну с блатными… А Папик, Груздев, как раз эту шпану вычищать собрался…
Тут меня словно током ударило…
— Погоди… Но ведь сегодня…
— Что — сегодня?
— Сегодня Буня с ребятами поехал как раз в город… Катька откинулась на подушки, захохотала:
— Ну Булдак, ну курва! Убил, сволочь, наповал убил — и трех зайцев сразу! Мне витрину расквасил так, что чинить замучаешься, Буню под разборку Папе подставил, синяков своих прихранил и Папу Груздя подставил в случае чего: чем бы разборка ни кончилась, а пацаны наши сплошь несовершеннолетки и малолетки! Кукиш мякинный! Если пару сироток отправить к праотцам. Папу со-жрут с потрохами: демократическо-туалетная пресса такой финт не упустит, до костей будет обсасывать, до шкурки, До крайней плоти… Ой, я не могу… Булдак…
Булдак-елдак! А ведь с виду — дебил дебилом!.. Не мо-гу!..
Катьку колотила истерика. Она захлебывалась рыданиями. Я попробовала трясти ее за плечи — бесполезно. Ринулась вниз, на первый этаж, за Светкой… Выскочила во Двор… Она как раз шла навстречу.
— Ты чего сорвалась?!
— У Катьки — истерика…
— Подумаешь…
— Светка! Булдак Сашку Буню подставил! Он уехал?
— Сашка? Ну да. И все пацаны с ним. С час уже.
— Быстро, ты слышишь, быстро за ними! Предупредить!
— Не так спеши. Под чью разборку? Синяков?
— Нет. Груздева.
— Черт!
— Бежим!
— Куда? Автобус припрется через полчаса, если сегодня вообще будет. Нужно на Валерике.
— А если он откажется?
— Отказаться подвезти таких куколок, как мы с тобой — Думаешь?
— Уверена.
— Бежим!
Глава 30
— Нашли дурака… — цыкнул зубами Валерик, тщедушный мужичонка лет тридцати пяти, прислонившись тощей спиной к борту «Москвича» — пикапчика; зубы его были мелкими, как у хорька, и гнилыми, как перезревшие поганки. — Нашли дурака…
Валерик был детдомовским шофером-экспедитором. Росточком — метр с кепкой, редкие всклокоченные волосики постоянно торчали в разные стороны. И еще — был он личной «креатурой» Кабана: возил продукты не столько в детдом, сколько на личную гасиенду директора.
По слухам, была у Валерки в райцентре супружница, крупная суровая тетка, которая бивала бедолагу чуть не ежедневно. И было за что: вечерами Валерик залезал в каптерку, помещавшуюся рядом с душевой девчонок-малолеток на первом этаже, приникал к щелям в дощатой перегородке, отделявшей каптерку от раздевалки, и дрочил до полного изнеможения. Для жены от мужской его силы оставались одни воспоминания, если они у нее вообще были. Говорят, он пытался приставать к девочкам, но пацаны поговорили с ним тишком, и Валерик отвязался. Из каптерки же его даже гонять перестали: что возьмешь с убогого, молью трахнутого мужичонки?..
— Валерик, нам о-о-чень надо…
— За бесплатно не вожу, — скривил он рожу.
— А кто сказал, что за бесплатно? — округлила глаза Светка.
— Не свисти… Денег у вас нет: вторую неделю на капусте гнилой сидите.
— Ну ты и жлоб…
— Поучи еще…
— А бартер?
— Чего?
— Валерик, ты водила или где? Две ну просто очень завлекательные девчонки просят подбросить их до городка, а ты — о деньгах… Пфи…
Видно было, как дернулся его кадык, проталкивая вмиг ставшую вязкой слюну.
— А ты мне не вкручиваешь, свиристелка?
— Вот еще!
— Хм… — подавился Валерик смешком. На его пигмеиском лице можно было читать, как в ученической тетради: вожделение билось с недоверием, желание — со страхом.
— Ну да, вот так и учат шантрапу всякую, — заразмышлял он вслух. — Щас я рот разину да песнями вашими заслушаюсь… С вас станется: вы и овцами прикинитесь, и трусики скинете, а что потом? Иди сюда, нехороший человек Валерик?! Плати за девочек!
— Ты че, Валерик, мандражируешь? Не знаешь, что мы центровые? У нас сплошной коммунизм и демократия в коллективе! Хочу — даю, хочу сама гуляю…
— Свисти… Знаю я вашу банду! Что Буня, что Философ… А Булдак — тот вообще!
Эту вашу Медви некую изуродовал как Бог черепаху! На хрен упало мне такое счастье. Пешком дойдете.
— Вот придурок, а?! — в сердцах воскликнула Светка.
— Может, и придурок, да не такой дурак, как вы думали. Пошли отсюда, мокрощелки…
— Выходит, не стоит у него, — притворно вздохнула цветка. — я тебе говорила?
То-то. Что за мужики пошли… Валерик покраснел от ушей до корней волос:
— Девки, вы че, серьезно?
— Да кто с тобой шутить-то собирается? Так хочется, аж сил нету!
— Ну?
— А ты думал? Мне одна напела: говорит, мелкий мужик что блоха, злее жалит. Вот мы с Глебовой на спор пошли! Я говорю — импотент тот Валерик, как и все здешние, она — наоборот. Решили проверить.
— Да? И что у вас на кону?
— Интерес свой, пиковый. Вот это не твоего ума дело. Ну что, поехали?
Лицо Валерика напряглось, словно он решал самый главный гамлетовский вопрос: нимфа эта Офелия или все-таки курва?
Светка ткнула меня локтем в бок, шепнула со смешком:
— Гигант мысли, титан секса и вообще… Водила решился. Открыл дверь:
— Залазьте. — По-гагарински, бесшабашно маханул рукой, на хорьковом личике — выражение остервенелой решимости, словно именно сейчас он и покорит ее, Вселенную. — Поехали!
Мы обе уместились на переднем сиденье. Изношенный мотор «москвичика» поурчал для порядку, и машина тронулась. Пару раз Валерик попытался стопорнуться на проселке для получения обещанного, но Светка обиженно надувала губки: дескать, за кого вы принимаете, милостивый государь, честных девушек? Да чтобы в слякотную осеннюю пору, да на жухлой траве, да голой задницей елозить? Да ни в жизнь! Притом она взмахивала короткой юбчонкой, как дирижер палочкой, настраивая этого полудурка на напряженное ожидание…
Когда до городка оставалось километра три, Валерик стал на обочину, потребовал:
— Баста. Дальше не поеду. Рассчитывайтесь давайте!
— Расчет так расчет… — пожала плечами Светка, — мы и не отказываемся. — Она подмигнула мне, запустила руки под юбку и стянула колготки вместе с трусиками. — Ну, что застыл, болезный? Доставай свое хозяйство!
Валерик, красный, как томат, неловко расстегнул брюки. Я отвернулась к окну.
* * *
— Что, этот стручок и называется мужской гордостью? — услышала я насмешливый Светкин голос. Скосила глаэ Валерик всеми силами пытался пробудить уснувшую мервым сном плоть. Пыхтел и тужился, как дизель… Послышалось «уф!» — и водила затих.
— Что и требовалось доказать! — констатировала Светка. — Не стоит! Даже кончает лежа! Глебова, с тебя коньяк! С первой же получки!
Вообще-то она жестоко с этим Валериком. Я глянула: он сидел теперь буро-малиновый, но притом — совершенно довольный.
— Чего застыл? — прикрикнула на него Светка. — Скорее рак свистнет, чем твой помазок подымется… Поехали уже, дрочило-мученик!
— Девки… Только вы никому…
— А кому оно интересно? — усмехнулась Светка. Пообещала:
— Могила!
— Вас обождать? — с надеждой переспросил он, когда доехали.
— Да как хочешь! Силенок хватит на обратный путь? — хохотнула Светка и вслед за мной выскользнула из машины.
Город был смурной и стылый по поздней осени. Капли зависли на черных голых ветвях уныло, словно сами деревья были простужены, больны этим многодневным затянувшимся ненастьем. Честно говоря, мы тоже поскучнели, заспешили к оптовому рынку. Шли какими-то закутками между гаражами, ларьками, непонятно что огораживающими бетонными заборами, расписанными известными словами в персональный адрес тогдашних демократических вождей страны… Особенно не жаловали Гайдарчика. А мне вдруг вспомнилось: когда мы ехали в поезде в детдом, я стояла в тамбуре. Вид был похожий: мы объезжали какой-то городишко по окраине.
Тупики гаражей, надписи, ржавый хлам, там и сям свалки разного мусора… Даже жилые двухэтажные дома с торчащими скелетами антенн выглядели брошенными, нежилыми…
«Жуткий город», — произнесла я невольно вслух. Маленькая девочка, прилипшая носом к стеклу рядом, махнула рукой: «А, он поломанный!»
Устами младенца… Поломанный город. Выброшенный, как никчемная, нелюбимая игрушка. Вместе с людьми. Из жизни.
Рынок расположился на огромной Сенной площади на окраине Зареченска. Здесь торговали, как водится, всем.
Светка уверенно протискивалась сквозь толпу к месту, где обычно стопарились наши пацаны. Я плыла за ней, как плоскодонка в кильватере крейсера. Хотя… какой Светка крейсер?..
Ребят мы увидели издали. Они стояли группкой. Напротив гужевались синяки.
Вернее, не сами блатные, а так, пехота, малолетки. Буня и старший в той группе, здоровенный жлоб с лобиком как у морской свинки, о чем-то базарили. Разговор был явно напряженный. Как сейчас принято называть, «стрелка». Это сейчас «уважаемые» на стрелу съезжаются на «мерсах», «БМВ» и джипах. Тогда пацаны делили сферы влияния обычным мордобоем.
Мы со Светкой подошли к ребятам. Обыватели чуяли недоброе; вокруг обеих групп образовалось пустое, мертвое пространство.
— Чего вам здесь надо? — грубо остановил нас Философ.
— Фил, вас собираются подставить! — сказала Светка.
— Светик, нас здесь уже года два подставляют, — усмехнулся Фил, — и ничего живем, хлеб жуем.
— Фил, ты не понял…
— Девки, валите отсюда по-быстрому, а? — произнес он, и в голосе никакой просьбы, только приказ. Глаза Философа блестели недобро… Он смотрел на Буню и этого низколобого спокойно и уперто. — Чую, по-доброму нам сегодня не разойтись.
Уж больно Синус резв, значит, давно по кумполу не получал. Сейчас получит.
— Синус, это тот?
— Угу. У него, кроме прочего, глаза косые, вот свои и прозвали его сначала Косинусом, потом, потому как он вроде паханить у них стал и сильно огорчался на Косинуса, стали Синусом звать. Ладно, кончай базар, девки, валите. Ихние уже подтягиваются; по слухам, кастеты отковали — ручонки-то слабенькие, со спортом не дружат… Но мы им тоже сюрприз наладим, мало не покажется…
— Философ, отзови Буню! — вмешалась я. — Катька Медвинская сказала, Булдак вас подставил!
— Кому?
— Груздеву.
— Блин! — Философ шагнул было к Буне… Поздно!
Удар Сашки был молниеносен. Синуса словно подкосило на месте; пока он падал, голова успела еще дважды дернуться, и он завалился в разбитое ногами грязное месиво окровавленным кулем. И тут…
Тут появился Булдак. Синусоиды расступились, пропуская его вперед.
— Ты, я слышал, меня искал? — Будак смотрел на Буню ненавидящим взглядом.
— Уже нашел! — Буня ринулся на Булдака со стремительностью выпущенной арбалетной стрелы. И — словно на стену налетел! Хлесткий звук, будто широкой доской хлопнули по металлическому настилу… В руке Булдака воронел пистолет; ствол слегка подрагивал…
— Допросился, сука?.. Получи! Получи!
Выстрелы грохотали один за другим… Буня приподнялся на носках и рухнул навзничь.
Все произошло невероятно быстро. Пацаны стояли, словно в столбняке, и тут…
— Не-е-ет! — Светка тигрицей ринулась на Булдака; он успел направить на нее ствол… Я оказалась еще быстрее: с шага прыгнула и в падении хлестнула ребром ладони по его руке… Палец нажал спусковой крючок, пуля ушла в землю, а Светка просто-напросто сбила здоровенного парня с ног, как ураган. Вцепилась ногтями в щеки Булдака так, что полетели лоскуты кожи, потом ткнула в глаза…
Наши пацаны ринулись на чужих. Молча, как волки. Меня кто-то, словно котенка, отшвырнул в сторону…
Дрались жестоко. Кто-то упал в грязь, зажимая ножевую рану, кому-то раздробили кастетом лицо…
Торговцы и покупатели сыпанули в стороны. Милиции, как всегда, не было, и вдруг…
Визг тормозов, хлопанье дверец…
Парни из внутренних войск выскакивали из кузовов машин. Дубинки со свистом рассекали воздух. Били всех: правых, виноватых, случайных… Были здесь и менты местного РОВД: они под сурдинку чистили палаточки, громя все и вся…
Я почувствовала, как меня схватили за шиворот, обернулась: меня цепко держал здоровенный ментяра… Я попыталась вырваться — куда там!
— А с этой что, Палыч? — спросил сержант милицейского старлея, красномордого, толстого, дубинкой он усердно и монотонно бил по голове какого-то невесть как попавшего в переделку кавказца.
— С этой?.. — Старлей глянул на меня, глазки лакомо блеснули. — Вези в клетку…
— Гоготнул:
— Там разберемся…
Я дернулась, пытаясь вырваться, обернулась и хватанула мента зубами за руку. От неожиданности он выпустил воротник, я рванулась бежать, но сержант подсек меня тяжеленным кованым ботинком, будто оглоблей по ногам двинул, и я рухнула подкошенно на землю. Он поднял меня за ворот, с маху впечатал пощечину громадной пятерней:
— Будешь брыкаться, стерва?!
В голове помутилось; я почувствовала кровь на губах; кровь текла из носа… А сержант добавил:
— Прибью!
Схватил меня в охапку, словно куль, поднес к милицейской машине, старой такой, допотопной, с маленькими зарешеченными оконцами, забросил внутрь и захлопнул дверцу. Кроме меня, там были еще четверо: трое молодых девчонок лет двадцати, видно, продавщиц из палаточек, и одна взрослая, лет тридцати, тетя.
Девки смолили сигарету за сигаретой. Все молчали.
Я придвинулась к оконцу, приподнялась на цыпочках. Служивые заканчивали работу.
Избитых, бесчувственных пацанов забрасывали в машины и увозили. Пятеро парней — Булдак, Буня и еще трое, мне незнакомых, лежали без движения. Подъехали легковушки, оттуда вываливались люди в штатском.
— Пошла писать губерния… Пять жмуриков… — прокомментировала старшая.
Куда делась Светка, я не заметила. Зато заметила, что ларьки разгромлены не все — только некоторые.
— Хорошие менты остановили кровопролитие и немножко побили плохих мальчиков, — снова сказала старшая. — Теперь все в одних руках.
— А в чьих? — спросила я довольно глупо.
— Видишь «Волгу» серую? И рядом рыло холеное… — Тетка обернулась на девок, прищурилась:
— Пардон, лицо.
— А кто это? — шепотом спросила я.
— Князек. Груздев.
Груздев… Вот, значит, как. Права Медвинская: Булдак — придурок. И ствол ведь он достал откуда-то… А сейчас лежит, затоптанный, и никто в этом не виноват…
Стихия…
Дверь распахнулась, к нам пинками загнали еще двоих девчонок, — Мент поганый! — огрызнулась одна, отбив руки сержанта, когда он облапил ее попу, «помогая» залезть в машину.
— Ну ты договорилась, паскуда! Приедем в управу, там ты у меня по-другому запоешь! Лично займусь! — с нехорошей ухмылкой пообещал той сержант и захлопнул дверцу.
Машина завелась и тронулась, переваливаясь на колдобинах, как беременная утка.
Не к случаю ругнувшаяся девчонка закаменела лицом. Тут ее товарка еще и подначила:
— Дура ты, Танеева! Чего мента материть? Кусок, он кусок и есть! А теперь — отыгрываться начнет на всех!
— Да? — огрызнулась та досадливо. — А может, мне нужно было еще и подмахнуть ему, козлу меднолобому?
— И чего ты добилась? Только разозлила…
— Да пошла ты! — Распаленная Танеева оглядела нас, остановила на мне взгляд:
— А это что за ребенок? Ей в куклы играть впору, а не в «воронке» разъезжать…
— Детдомовская, видно, — подала голос другая. — Из-за них, недоносков, весь сыр-бор и заварился. Они, видите ли, с малахаевскими пришли разбираться. Синуса решили укоротить…
— Ну, Синуса укоротить давно пора было… — сказала какая-то маленькая толстушка.
— Да?! Теперь из-за этих ублюдков нас всех и подмели. Хорошо еще, если подержат да и отпустят… Только верится в это слабо… Ты что, Палыча не знаешь? Или дело катать начнет, или — раздвигай, подружка, ножки…
— Не имеют права.
— Ха-ха… Право… Забудь это слово, пончик! Прав тот, у кого сила! Еще сама ему и брюки рассупонишь!..
— А может, этой детдомовке морду набить? Чтобы не подставляла всех!
— А ну, заткнитесь все! — прикрикнула на них самая старшая. — Дуры вы, дуры и есть! Вы чего думаете, это менты на драку таким кагалом слетелись? Да пасли они… Загодя пасли… А как драка началась, так и высыпали, что тараканы, из всех щелей…
— Ты чего, думаешь, они нарочно? Подзавели детдомовских, малахаевских, а сами…
— А то…
— Да у Палыча или у начальника ихнего, Карташева, на это мозгов не хватит!
— Зато у Груздя хватит, — подала голос до того молчавшая девчонка, очень хорошенькая зеленоглазая шатенка. — Здесь вся милиция под ним пляшет!
— А ну, хватит языком молотить! — рявкнула на нее старшая, и та разом затихла.
Дальше ехали в полном молчании. Минут через десять машина остановилась, в проеме растворенной двери под явилась довольная красная физиономия старлея Палыча.
— Вытряхивайтесь, мочалки. Разбираться с вами будем. — Два сержанта, тот, что схватил меня, и другой, стоял по бокам.
— Куда их, Василь Палыч? В клетку?
— Место в клетке еще заслужить надо. Веди в вытрезвитель.
Глава 31
Нас затолкали в бывшую вытрезвительскую «спальню»: раньше здесь на крытых клеенкой вонючих топчанах отмокало пьющее население. Вытрезвитель уже не работал — в связи с демократией пить стали много, но с пьяниц теперь никакого навара: очереди на квартиру нет, лишить премии или там еще чего — тоже нельзя, а штраф с них взять — это как шерсти начесать с болотных лягушек.
Собственно, Палыч раньше и правил «трезвиловкой», в период борьбы со «змеем» стал чуть не вторым человеком в городе после первого секретаря райкома: подловить с запашком мог любого начальника, и пожалуйста — показательное лишение должности, партбилета и прочего… Нормальные менты Палыча презирали.
Вытрезвитель стоял на отшибе, за забором, метрах в восьмистах от здания, и подъезд у него был свой, отдельный. А Палыч теперь действительно «танцевал» под Груздевым; бывшего начальника РОВД убрали еще в девяносто первом, в милиции демократил какой-то выдвиженец, постепенно отправил «старичков» на пенсию, набрал своих людей… А Палыч прижился. Славен он был всякими «забавами» еще в бытность свою трезвенным начальником, но сильно буреть опасался; впрочем, менты и тогда свою грязь не шибко старались из избы выносить, а теперь и подавно.
Палыч же в «новое время» почувствовал себя если и не князьком, как Груздев, то первым холопом знатного барина… А у барского холопа, известно, и рука тяжелее, и хлебальник пошире, и безобразит он так, что куда там барину…
Все это нам обстоятельно рассказала та самая, старшая, Даша Строганова.
— Ну, девки, мы влетели… — вздохнув, закончила она.
— С чего это? — не согласилась Танеева. — Нас просто под сурдинку сгребли.
Сейчас пацанов — полная клетка. Тут большого ума не надо догадаться: видать, Груздев решил под себя рынок подгрести полностью. Чьи ларьки громили? Исы Баслаева и Ахмедки. Другие не трогали. Ну а заодно со всем рэкетом порешили.
Вон, — Танеева кивнула на меня, — и детдомовских прибрали, и малахаевских, Синусовых. А мы девки ларьковые, нам все одно, на кого работать: торговка, она торговка и есть. Нам что до ихних разборок? Подержат до вечера или там до утра — и отпустят.
— Угу… Жди…
Дверь распахнулась, на пороге появился Палыч собственной персоной. Морда еще больше раскраснелась; от него явственно разило спиртным. Оглядел нас, лакомо чмокнул сальными губами. Глянул на долговязого сержанта:
— А ты не дурак, что надо сечешь… — С шумом выдохнул:
— Выводи, оформлять будем, по всей форме.
— Всех сразу?
— А то…
Мы вышли, сгрудились в «предбаннике» — небольшом помещении с истертыми добела диванчиками. Трое здоровенных бугаев подпирали стены, за приставным столиком разместился плюгавенький, прыщавый ментик-писарь. Сам Палыч взгромоздился за основной стол. Поднял маленькие свинячьи глазки:
— Давайте по одной, к Масюку… Имя, фамилия, все прочее… И не врать мне! И все вещички из карманов — на стол.
Девушки подходили, называли имя, выкладывали вещи, всякую мелочь: сумочек ни у кого не было, а в карманах мало кто что носит. Палыч рассматривал каждую по всем статьям, ковыряя в зубах отточенной спичкой.
Я подошла последней. Назвала имя, фамилию, возраст… Сказала, что детдомовская…
— Так ты, значит, с этими была?
— С какими «этими»? — переспросила я. По правде сказать, я была как в тумане.
Словно все разом покрылось каким-то мраком. Еще как только все началось… И Сашку Буню убили… Вообще-то я тогда не верила, что его убили… Мне казалось, что он, такой сильный, не может умереть… И все же в голове словно помутилось.
Нет, я воспринимала происходящее, но так, будто это сон… И даже если бы ткнуть меня иголкой, вряд ли бы почувствовала…
— Ваши поножовщину устроили?.. — Он глянул в какие-то бумаги, прочел:
— Булдаков, Буников… Давно надо было вашенское змеиное гнездо раскочегарить… — Он уставился на меня своими свинячьими глазками. — Ты чего тормозная такая?
«Колес» наглоталась?
Я не ответила.
Палыч поднял глаза на девушек:
— Вас тоже касается!
— В смысле? — спросила Даша.
— Наркотики, деньги, лезвия бритвенные…
— Да откуда они у нас?
— От верблюда. На «черных» работали? Работали. Вот и… — Он снова оглядел девушек, каждую с головы до ног, медленно, словно смакуя… Разлепил сальные губы:
— Придется вас обыскать. По всей форме. — Он почмокал, прикурил сигарету.
— Раздевайтесь.
Девушки у стены беспомощно переглядывались… Я же стояла чуть в стороне, словно происходящее вообще меня не касалось. , — Ну что застыли?!
— Как — раздеваться?.. — упавшим голосом произнесла шатенка.
— Молча!
— Мы не будем!
— А куда вы денетесь? Орать станете? Тут стены толстые, наслушались всякого…
Или вы забыли — как? Сейчас мои хлопцы вам помогут. Они еще помнят — здесь в свое время столько пьяных шалав перебывало… И все как шелковые были… — Палыч загоготал мелким, булькающим смехом.
Прекратил смеяться так же неожиданно, как и начал, гаркнул:
— А ну, живо!
От его окрика все вздрогнули. Даша Строганова первой стянула свитерок, расстегнула джинсы… Лицо ее было бледным и замкнутым. Следом за ней, потупившись, стали раздеваться остальные.
— А тебе что, особое приглашение? — рявкнул на меня сержант.
Я вздрогнула, автоматически стала расстегивать пуговицы на блузке…
Девушки остались в белье.
— Ну что застыли? — прикрикнул начальник. — Совсем раздевайтесь!
— Вы не имеете права… — начала было рыженькая.
— Право?! — взъярился он, хрястнул кулаком по столешнице. — Вот мое право! И вот что я тебе скажу, краля… Или через минуту вы будете стоять тут голенькими и завтра утром уйдете по домам, или… Тут такая поножовщина со стрельбой случилась, что по пятнадцать суток я вам просто-запросто запишу! И эти сутки вы здесь с моими орлами и проведете… С утра душ и постельная гимнастика — это я вам обеспечу! А эти орлы устанут, других пришлю… А кто особо артачиться станет, той я самолично двести шестую пропишу — на годик… Вот и выбирайте!
Палыч чиркнул спичкой, прикуривая конфискованный у кого-то из девушек «Кэмел», упер поросячий взгляд в рыженькую:
— Время прошло. Ты — первая. Девушка расстегнула лифчик, сняла, медленно стянула трусики с ягодиц, заплакала, закрыв лицо руками…
— Совсем снимай!
Она подчинилась. Стояла, прикрыв низ живота бельем. Палыч встал, обошел ее, разглядывая, отвел руку с трусиками в сторону.
— Вот теперь я вижу, что и вправду рыженькая, без дураков, — сказал он. Увальни у стены загоготали, смех их был возбужденным, как ржание жеребцов, готовых ринуться на табунчик. Палыч снова обошел девчонку, остановился сзади; — А теперь — наклонись вперед! Руками до пола, как на физкультуре… Ну?!
Он послюнявил палец, провел ладонью по спине, ягодицам… Я закрыла глаза…
Только слышала, как девушка вскрикнула…
— Ну вот, сейчас я уверен, что ты ничего от меня не утаила… Умничка… — Он поднял мутные, хмельные глаза, задержал на мне взгляд, произнес:
— Теперь — ты, детдомовская… Быстро, быстро… Трусы, маечку…
— Ага, — согласно кивнула я, а голову уже волокло знакомой одурью… Как только он оказался в шаге, я резко разогнула ногу в колене, чуть приподняв бедро!
Что-то противно чавкнуло, Палыч застыл, ойкнул… Его подручные словно оцепенели… А я повторила удар… В горле у него забулькало, и он рухнул на бок, как мешок. Я рванулась к двери, но сержант-оглобля оказался проворнее: дубинка угодила в висок, я успела услышать, как он крикнул кому-то: «Загоняй этих сук под засов!» — и потеряла сознание.
Очнулась от боли в низу живота. Пошевелиться не могла: меня просто распяли нагишом, накрепко прикрутив за запястья и щиколотки к краям стола.
Боль была дикой… Сержант вытащил из меня коротенькую дубинку.
— Ну вот, теперь уже не целка… — Задумчиво-добавил:
— Разве что еще раз попробовать?
— Как знаешь, — ответил ему писарь. — У меня на нее и не стоит. Да у тебя, я вижу, тоже. Не девка — кошка дикая. Да и худая… Я люблю крупных бабочек, чтобы в теле…
— Что ж ее, так и отпустить?
— Почему — так? Уже не девочка… — гоготнул писарь. — Был бы Палыч… Он как раз до малолеток охоч… Был. Эта его так двинула, что, глядишь, ему теперь не до девочек будет. Кастрировала просто. Слушай, а что все ж с ней делать?.. Да и с теми, что в кутузке…
— Ну с теми — нет разговоров. Как все уляжется, выдернем мне рыжую, тебе пухленькую, есть там одна, и повеселимся на славу. Они поподатливей будут. А с этой…
Кончать ее надо.
— Ты чего, с ума сошел?
— С ума не с ума… Груздя не поймешь… Он ведь сам всю сегодняшнюю кашу заварил, а… Глянет порой таким волком, словно мы не ему служим, а Царю Небесному…
— Волк, он волк и есть.
— Погоди, не сбивай… Есть у него подружка в том детдоме… А ну как эта ей расскажет, та — Груздю? А он на нас и вызверится… Не пойму я его: гребет все под себя без жалости, а девок или там детей — жалеет…
— Потому что в башке у него все наперекосяк.
— То-то и оно. Так что кончать девку надо.
— Чего, прямо здесь?
— А то… Глянькась, у Палыча в столе «колеса» должны быть, он их от похмелья жрет, когда невтерпеж… Грохнула дверца стола.
— Ну? Есть?
— Ага. Реланиум.
— Много?
— Три упаковки. И еще какие-то, снотворные, видать.
— Этой хватит.
— В смысле?
— Накормим таблетками и вывезем куда-нибудь подальше. Детдомовская, «колес» наглоталась и кони двинула — кого это удивит? Может, у нее парня сегодня замочили, вот она и потравилась от того несчастья… Здорово придумал?
— Голова… Только… Что, так голую и бросим?
— Зачем? Приоденем чуток…
— Так она же без сознания… Как мы ей те таблетки впихнем?
— Очну-у-улась… Я ей как целку ломал, дубьем-то, вздрогнула вся…
— А не заорала…
— Знать, гордая сильно. Вот и подохнет, как все гордые, в канаве.
— Слушай, а может, не будем насмерть травить, а? Не станет она никому ничего рассказывать… Да и девки, те, что в каталажке…
— Девке каждой сейчас — самой до себя… Как и нам с тобой. А если чего, на Палыча все и спихнем, он щас бессловесный и безответный…
— А все же убивать не стоит. Одно дело — целку поломать, так невелика потеря, другое…
— Ты что, правда дурак или прикидываешься? А ну как Груздь действительно прознает? Он, я слыхал, и под Палыча тихой сапой подкоп начал, не любит он беспредела никакого, а тут… Да он нас сначала в камеру законопатит, к блатным, вот тогда и почуешь, как оно, когда очко трещит…
— А сам он сегодня на рынке, что, не беспредел устроил?
— Это чистый бизнес, понял, придурок, бизнес! А Груздь… Он и с нами вась-вась, и блатных, я думаю, не чурается… А пуще всего ему, волку, власть нужна. Своя власть. А власть в том и состоит: кого хочу — казню, кого хочу — помилую. Уж нас не помилует, будь спок! Он на пацанок почему так западает? Потому как у самого деток нет, вот и сочетает заботу и удовольствие… Короче, крыша у него, как у всех волков, протечная, так что нечего зря базар пустой разводить.
— А у тебя не протечная?
— Глохни, молодой! А то я щас тебя самого раком поставлю, понял? Ты чего боишься? Это я — местный, а тебе еще полтора годика срочной оттарабанить, и — пишите письма. Коз-з-зел! Радоваться должен, что к нам попал: и жорево, и порево, и развлечения… А то смотри: сплавим, поедешь вон, в Осетию или там еще куда, чурок разнимать…
Я услышала, как он подошел сбоку, сказал напарнику:
— Голову держи, а я ей буду «колеса» впихивать… Я сцепила зубы, как только смогла.
— Ишь, сука… Не разевает… А если так?.. Боль была жуткой: он нажал где-то за ушами, я открыла рот, он кинул пригоршню таблеток, залил затхлой водой из графина…
— Вот так… Эта порция за папу… Теперь — за маму… Так он повторил раз семь или восемь… Голова куда-то поплыла…
— Вот и славненько. Отвязывай. Теперь не дернется. И давай одевай девку, а то я только раздевать мастак.
Напала жуткая вялость. Звуки слышались как из бочки, веки словно склеило…
— Да что ты с колготками возишься! Юбку набрось да куртку, и хватит! — Гыгыкнул:
— Не простынет — не успеет! А все остальное рядом бросишь. Глянь в оба — чтобы ее вешей здесь духу не было!
— Ты же сам сказал — одевать… — начал, вяло отбрехиваться писарь.
— Сказал не сказал… Найдут, проверят — что решат? Изнасиловал какой-то маньяк…
— И будут недалеки от истины…
— Че-го? Ты что, на меня тянешь?..
— Да ладно тебе…
За окном вдруг раздался визг тормозов. Подъехало несколько машин.
— Кого это черт принес? — услышала я голос долговязого.
— Не наши. Областные.
— Вот, блин! Быстро! Девку в охапку — и в «луноход». Завезешь куда-нибудь за город… И сбросишь: в овраг там или еще куда… Не боись: повезет — так и до весны не сыщут, а до весны еще дожить надо! Ее и искать-то начнут через пару недель, не раньше, после такой-то заварухи… А то и вообще не станут: кому оно надо? Что стал? Бегом, козел! И смотри мне, я ведь не поленюсь завтра проверить, понял?
— Понял.
Писарь натужно подхватил меня, едва не выронил.
— Ты чего, худосочный?..
— Тяжелая… Может, она уже… того…
— Кретин… Вперед, живо!
Я почувствовала, как долговязый подхватил меня, легко, как пушинку, и потащил куда-то. Меня бросили в «воронок» сзади, лязгнула дверь.
— Смотри, молодой, если чего, так самого закопаю!
— Да все сделаю…
— Вот и я так думаю: ты ж себе не враг, а? То-то. Я пойду этих встречу. По уму.
Сколько машина ехала, я даже не поняла. Провалилась в беспамятство. И еще… Я вдруг увидела отца и маму… Я их лиц не помнила никогда, и сейчас не помню, а тогда увидела ясно, обрадовалась очень, потянулась к ним… А они смотрели на меня ласково, словно хотели мне помочь и не могли… Мама говорила что-то, но я не слышала, видела только, как губы шевелятся… Потом они замахали на меня руками — и я очнулась… Какой-то сук больно расцарапал живот, я совсем не понимала, где нахожусь… Услышала только удаляющийся, натужный рев мотора…
Попыталась встать — и упала сразу, меня так и швырнуло на землю. Мне казалось, что лежу я на дне какой-то холодной ледяной ямы, круглой, с отвесными краями…
Края эти переливались и искрились, словно была не ночь, а яркий день…
Посмотрела вверх — действительно, в вышине сияло огромное белое солнце, вернее, не солнце — звезда; и она тоже была ледяная, и от нее веяло стужей, и было невозможно пошевелить ни одной мышцей, оставалось только замерзать, но это было не страшно, а скорее приятно… Ледяное дыхание студеной звезды сковало меня всю, и я приготовилась пропасть в этом безмерном холоде, но снова увидела папу и маму, они что-то кричали мне, и я поняла, что должна подняться и идти… Куда, зачем, я не знала, но обязательно должна была подняться и идти…
Идти…
Боль пронизала все тело, словно тысячи изморозевых иголочек вонзились сразу… А в голове была вялость… Будто я брела теперь среди зеленоватых глыб подсвеченного изнутри льда…
И тут — снова падение и боль, и мир снова стал черным, ночным, и я почувствовала запах прелых листьев и увидела звезды в небе надо мной… Нормальные ночные звезды…
Огляделась… Я лежала на дне оврага; метрах в пяти от меня журчал черный ручеек… Я приподнялась и поползла к нему… Медленно, очень медленно…
Уронила лицо прямо в воду и начала пить.
Ледяная вода.обожгла горло… Но это был уже не тот холод, что от студеной белой звезды… Я пила, пока не засаднило горло и не свело зубы… Я передохнула и стала пить снова…
Потом поползла прочь от ручья… Руки тряслись от слабости, но я все ползла… Я знаю, почему я все это делала… Просто очень хотела жить. Очень.
Нашла наконец твердую кочку, приподнялась и с маху упала на нее животом. Меня замутило… Мне кажется, я даже физически чувствовала, как сонный яд, яд небытия, уходит из меня…
Снова поползла к ручью… И снова — на кочку… Так — несколько раз.
Устала жутко. Глаза слипались, но я боялась уснуть. От земли веяло той страшной ледяной ямой. Ее я боялась. Вообще мысли были прямые, как деревянный метр.
Первая — найти колготки. Я помнила, что они толстые, теплые, шерстяные. И я их нашла! Они висели серым комом на каком-то чахлом кустике. Кое-как натянула.
Запахнула куртку. Наверное, у меня был жар, но вот об этом я как раз и не думала…
Сил не было вообще. Но я поняла: не буду двигаться — замерзну. И я побрела.
Вернее, полезла: этот писарь действительно забросил меня в овражек. Был он неглубок, но трава уже вся пожухла, к ночи ее прихватило инеем, и я раз за разом скатывалась вниз. Дико колотилось сердце, я промокла насквозь, но начинала все снова и снова…
Наверное, мое упорное беспамятство меня и спасло: я не падала духом, не было и отчаяния от бесконечно повторяющихся неудачных попыток… Все я делала совершенно механически, с каждым разом стараясь приноровиться ловчее…
Уж сколько я так кувыркалась — час, два или все пять, — не знаю. Но жалеть я себя не хотела, понимала: как только опрокинусь на спину и стану смотреть на звезды, то пропаду, как жук. Поэтому все, что я видела, — это жухлая трава и холодная мягкая земля, в которую я вцеплялась пальцами, как коготками…
Из оврага я вылезла. И сама удивилась открывшемуся простору. Со всех сторон было поле, покрытое колючей стерней; метрах в ста темнел лес. А на окраине леса — стожок. Он возвышался теплой мохнатой шапкой. Я поползла к нему на четвереньках, кололась о стерню, чувствовала, как саднит ладони… И когда зарылась в его пахучую мякоть, в самую середину, почувствовала дикую усталость. Настоящую усталость. Закрыла глаза, свернувшись клубком, и — уснула. Сквозь сон я слышала писк мышей, шум леса, но спала спокойно: я знала, что мыши неопасные звери для меня, маленькой рыси. Ну да, я казалась себе рысенком и еще… Еще я вспомнила: я однажды уже была рысенком, диким зверенышем, но где и когда — не могу вспомнить…
Что обиднее всего, я больше не смогла вспомнить и лица родителей, только руки — теплые, добрые…
* * *
…Аля повернулась на живот, посмотрела на Гончарова:
— Олег, ты понял, почему я просила сделать мне больно? Ну, когда… Мне… Мне хотелось подарить свою первую боль тому, кого я буду любить… Ты веришь мне?
Он нежно погладил ее волосы, прошептал:
— Верю.
Глава 32
— Три дня прожила в лесу. Погода стояла великолепная, теплая, и лес мне вовсе не казался чужим или опасным. Целые дни я бродила по светящейся солнышком березовой роще, сидела у ручья… Когда сильно хотелось есть, шла к деревне. Деревня была заброшенная, всего несколько домов. Там жили бабки, старушки совсем старенькие; они угощали меня выпеченным в печках пахучим хлебом, картошкой с постным маслом… Наверное, я была странная, и они принимали меня за слабоумную или за блаженную.
То, что со мной произошло, я почему-то не вспоминала. Вернее, вспоминала, но без особой тоски, сожаления или страха. Единственно, я тогда думала, что Сашка выжил. Он не мог не выжить. Я верила, что это так. Не то что мне было совсем не до себя, но… Просто эти несколько дней я жила как травинка, как пронизанный солнцем листок.
А потом вернулась в детдом. А куда еще мне было возвращаться? К тому же три ночевки в стогу меня доконали: стала кашлять, как ненормальная, горло заложило… Я даже не боялась, что там меня могут найти подручные Палыча… Мне было все равно.
А вот как пришла туда, я не помню. Как мне потом сказали, температура была за сорок: воспаление легких. Я-то думаю, началась и нервная горячка: я бредила, звала маму и папу…
Оклемалась еще недели через две. Открываю глаза, смотрю — рядом Катька Медвинская. Сидит у постели. Уже без бинтов, только пластырь на носу.
— Ну ты, Глебова, и страхов наговорила в бреду… — произнесла она, явственно шепелявя: от передних зубов остались одни сколы. — Все в какую-то яму падала ледяную! Сидеть с тобой рядом — и то замерзнешь.
— Что с Сашкой Буней? — спросила я, разлепив спекшиеся губы.
Медвинская помрачнела:
— Убили Сашку. А ты что, ничего не помнишь? Ты же там была…
— Я думала… Я думала, он… — Отвернулась к стене и заплакала.
— Булдак его убил, — произнесла Медвинская, глядя в одну точку. И что творилось в потемках ее души — я не знаю…
— А сам Булдак? — решилась-таки спросить я.
— Сидит. Светка Артюх один глаз ему таки выцарапала… Но это, считай, за меня.
А за Буню… За Буню он еще ответит.
— Светка, она…
— Не знаю, — пожала плечами Катя. — Куда делась, когда… Исчезла. И правильно сделала.
— Кать… — решилась я. — А ведь это… Ведь это твой Груздев все устроил…
Поняла?
— А тут и понимать нечего. Соски мы все рядом с ним. Вот только…
— Что — только?
— Он волк, А волков отстреливают. Рано или поздно, но отстреливают.
— Кто?
— Охотники.
Медвинская помолчала. Усмехнулась невесело:
— Ну как тебе моя физия?..
— Нормально, — пожала я плечами, опустив глаза и надеясь, что вышло не слишком фальшиво.
— Во-во. Что нормально, то нормально. Ладно, я уже отплакала по этому поводу и отстрадала. Кстати, я уже все продумала. В Питере есть один хирург, носы делает — закачаешься. И зубы себе сделаю как у кинодивы, мои мелковаты были. Так что все действительно нормально.
— А деньги?
— Деньги — дело наживное. Это у меня физиономия не в порядке, а все остальное — в полном. Ну ладно, я пошла. Это — тебе.
Катька достала из сумки невероятные по тем временем продукты: нарезанный ломтями балык, сливочный шоколад, хлеб бородинский…
— Это от щедрот Груздева? — не сдержалась я.
— Дура ты. Это от души. А Груздева я с тех пор не видела. И не собираюсь.
— Извини.
— Да ладно…
Вообще-то… Катька Медвинская на самом деле была куда добрее, чем хотела казаться… Жизнь у нее была совсем скверная, другую бы так изломало, что… А она… Да и не особо разбираюсь я в людях. Решишь: плохой или плохая, и ведь правда, хорошего мало, а вдруг человек к тебе другой стороной повернется, и думаешь, словно не он, а брат-близнец, причем воспитанный совсем другими родителями…
Пока я болела, в детдоме многое поменялось. То, что произошло на базаре, случилось как раз второго октября. Шел девяносто третий год. На следующий день в Москве какая-то заваруха началась, и кто с кем там поцапался, я и сейчас не знаю, да это мне и не нужно. А вот Кабана сняли. И не за воровство, и не за то, что его воспитуемые оказались в поножовщину замешаны, — он тогда на чью-то не ту сторону стал.
Почти три месяца, всю зиму, детдом был бесхозным, престарелая завучиха стала «исполняющей обязанности», и забота у нее была лишь одна: как бы во что-нибудь не вляпаться ненароком. А потому она просто не подписывала никаких бумаг. Есть стало нечего совсем. Пустые щи, сухарики. И плохо еще то, что за территорию интерната выходить было себе дороже: мы просто боялись. В Зареченске началась натуральная война, за что — и понять было нельзя. Стреляли друг дружку как бешеные. Кстати, узнала я и про Палыча: по слухам, он получил инвалидность, но о том, что я жива и здорова, не знал. А всех его пятерых подручных расстреляли.
Прямо в машине, уж куда они ехали, никто не знает; одеты были по гражданке, и их помесили из автоматов. Я-то думаю, груздевских это работа, а может, и сами менты для своих этак расстарались: Палычевы придурки и так отвязанные сильно были, а как он в больницу залег, и вовсе распоясались. Зачем такие кому нужны?
Вообще-то зима была очень трудной. Одна радость: это когда мы бегали на станцию и смотрели на проходящие поезда… Ведь должна же была плохая жизнь хоть когда-нибудь кончиться?
Мы там стояли, замерзшие, голодные, в одинаковых малиновых пальтецах и дурацких шапочках с помпончиками, — и мечтали… Придумывали себе жизнь… Будущую? Или — вообще… Ты знаешь, мне порой кажется, что живем мы вовсе не одну жизнь. Не только я, все… Как-то существуем, а в мечтах, в представлениях, в снах — идет другая жизнь, лучше, красивее, справедливее этой… А мы… Мы ее желаем и… боимся. Или просто не находим ни сил, ни отваги действительно ее прожить…
Боимся жить… Быть деятельными, обаятельными, бесстрашными, гордыми, красивыми… Боимся любить, любить беззаветно. А те, кто отваживается, горько платят разочарованием… Почему так?
Одно разочарование, другое, третье… И вот люди уже перестают пытаться… И живут просто так. Тихо, размеренно, сыто или не очень… Словно переживают собственную жизнь…
Ты знаешь, я себе решила: будь что будет, а я не хочу пытаться. Я хочу жить. И — буду.
…А в феврале в детдоме появился беженец то ли из Киргизии, то ли из Узбекистана — Константин Петрович Фадеев. Он устроился работать сторожем-дворником. Прихрамывал, и только через две недели мы узнали, что он одноногий, второй ноги нет — протез. Несколько пацанов и девчонок стали ему помогать. Я — тоже.
Константин Петрович был уже совсем старик. Он был очень неразговорчив, возиться с детьми ему нравилось. А однажды я увидела у него пистолет. Настоящий! Ты не представляешь, что я испытала! Я гладила никелированную поверхность — это был малокалиберный призовой «марголин», я любовалась им… Перебирала патроны…
Потом попросила Петровича научить ухаживать за пистолетом… Я не знаю почему, но оружие ассоциировалось у меня… с детством. Когда все было хорошо, когда я с папой и мамой жила в большой светлой квартире…
Собирать и разбирать пистолет я научилась быстро. А через пару недель Петрович пробил в районном ДОСААФе разрешение открыть стрелковый кружок: он был мастером спорта и тренером там, где он раньше жил. Достал пару совсем списанных мелкашек, сам починил. Ему помогала я и еще один пацан — Васька Яковлев.
Тир мы оборудовали в бывшей теплице. Она была давно развалена: ни стекол, ни растительности. Я помню, как в первый раз взяла в руки заряженное оружие…
Петрович уже до этого поставил мне руку и сразу предупредил, что при ведении огня я сама изменю эту постановку и выберу для себя наиболее удобную.
Все пули я выпустила в полминуты. Меня охватил какой-то необъяснимый азарт!
Думала-все в «молоко», а оказалось… Нет, никакого мастерского норматива я не выбила, но… Пули легли в «пятерочку» густо, чуть не одна в одну! Петрович даже присвистнул:
— А у тебя, девочка, талант. Никогда раньше стрельбой не занималась?
Я только плечами пожала: не знаю я, чем занималась в той жизни!
Из тира я не вылезала месяца три. Петрович где-то доставал патроны, и я всаживала пулю в пулю!
Медвинская еще пошутила:
— Быть тебе охотницей, Глебова! На крупного зверя! А Петрович усмехнулся:
— В каждой шутке есть доля шутки…
Как ни странно, за эти месяцы я сдружилась с Катькой Медвинской. Словно вместе с зубами Булдак выбил из нее всю злость. Но она ничего и не забыла. Просто… По жизни стала тем, кем была от природы: нормальной, незлобной девкой… Время от времени ее забирали на машине, приезжавшей из области, — на пикничок.
Встречалась она с одним и тем же мужчиной, очень в годах, косила для завучихи, что это ее родственник. Появлялась через пару-тройку дней с мешком еды и оделяла всех, особенно маленьких. Как-то сказала мне:
— Ты не подумай, Глебова, что я стерва… Я трахаюсь не за деньги и не за жрачку: просто у меня организм такой, природа свое требует. Без этого даже спать не могу.
Она и внешне изменилась. Вытянулась, стала статной, красивой. Повзрослела. Зубы она вставила в области, а нос зажил сам собой. На нем появилась лишь едва заметная горбинка, придававшая облику Катьки что-то патрицианское. Она и называть себя стала по-другому: не Катя, а Екатерина. Повторяла часто:
— Екатерина Медвинская, звучит? — и сама прислушивалась к звукам собственного имени, словно к музыке.
Весной стало вообще хорошо. Казалось, что-то меняется тихо, незаметно, и эти перемены — к счастью…
Как бы не так!
В марте прислали Инессу. На место директора. Инессу Генриховну Куликову. Это была ее фамилия по бывшему мужу. Естественно, ее и прозвали сразу Товарищ Инесса.
Представь себе худую, злобную тетку; длинные волосы крашены гидроперитом и забраны в пучок, какой в народе называют «кукишем старой девы». Лицо блеклое, губы тонкие, одевалась во все черное. Если ей чего не хватало, так это немецкой овчарки и стека в руке. Все остальное — при ней.
Вместо собаки она привезла с собой Альберта, культуриста лет двадцати пяти.
Устроила его физруком-воспитателем. А он оказался еще и сексинструктором — по совместительству.
Наши холопки — Кураева, Симонова, Кривицкая — воспряли ото сна, как Россия в семнадцатом, как только Альберт Иванович Гулько объявился в спортзале и заиграл мышцей. Посмотреть было на что — девки только что кипятком не писали. Им вообще до появления Инессы было тускло: тихо, по привычке, они наушничали престарелой завучихе, сплетничали обо мне и о Медвинской, но чем занять себя по делу — не знали. А тут такое…
Инесса мигом начала построение. Первым делом за две недели поувольняла из детдома двоих учителей и воспитательницу. Не из вражды к ним, а с той же воспитательной целью. Уволенные попытались качать права, да поутихли: видно, у Инессы оказалась «рука» везде, где нужно, зато оставшиеся все поняли правильно и стали как ручные белки, только что у Инессы с руки не кушали, а на все ее завороты и художества смотрели вполглаза и только как на элементы учебно-воспитательного процесса.
Потом Инесса начала строить воспитуемых. В прямом смысле. Завела тетради нарушений, выбрала среди завзятых стукачей и наушников дежурных, ввела режим: подъем, отбой и все такое.
Потом учинила медосмотр. Из райбольницы приехали врачи; девочек и мальчиков собирали, понятно, отдельно.
Медосмотр так медосмотр. С появлением Инессы мы с Медвинской держались настороженно: эта сорокалетняя тетка, сухая, как выбеленный солнцем ковыль, совершенно менялась, заходя с вечерней проверкой в девичьи спальни: глазки ее масленели, щечки розовели румянцем, и при всяком удобном случае она норовила похлопать по попке понравившуюся ей девочку. Катька сразу и заявила, что она — упертая лесбиянка, а вовсе не пчелка-бисексуалка; в таком случае зачем ей был нужен красавец Альберт Ванныч?
Всех девочек собрали в большой комнате и велели раздеться до трусов. По очереди мы подходили к врачам, те записывали в листочки то, что им нужно. К женщине-хирургу нужно было подходить уже нагишом, потом, в последнюю очередь, к гинекологу: у окна поставили специальное кресло, за ширмой. Инесса самолично удалилась туда вместе с теткой-гинекологом и осматривала девочек.
— Говорю тебе, она — лесбиянка. И маньячка. Я за ширму не пойду ни за что! — шепчет мне Медвинская.
И тут дверь распахнулась, заявился ее Альбертик. Девчонки завизжали было, но скорее для порядку, а он как ни в чем не бывало вошел и плюхнулся в кресло.
— А ну — цыц! — выступила Инесса. — Альберту Ивановичу необходимо присутствовать. Он должен посоветоваться с хирургом. У многих из вас искривление позвоночника, плохая осанка. Всем, кому это нужно, он назначит индивидуальный комплекс лечебных упражнений.
— Ага, лежа на спине… — хмыкнула мне на ухо Катька.
А Альберт Иванович развалился, как сытый кот.
— Ну что застыли? Продолжаем… — рявкнула Инесса. Перед столом хирурга девочки должны были наклоняться в стороны, вперед, назад… Когда младшенькие прошли и подошел черед Кураевой и Кривицкой, те чуть не змеями вились перед этим Альбертиком. Инесса смотрела на их кривляния благосклонно, бархатистым масленым взглядом… Ждала, когда те окажутся в креслице…
— Говорю тебе точно, она извращенка… — тихо произносит мне на ухо Медвинская.
— Пошли отсюда, — шепчу ей в ответ.
Мы разом набросили платьица и направилась к двери.
— А вы куда? — вякнула Инесса.
— Мы девушки скромные и к стриптизу не приученные, — с улыбочкой ответила Катька.
— Глебова! Медвинская! — неслось нам вслед. — Вернуться!
Катька хлопнула дверью так, что остальные слева, должно быть, застряли у Инессы в глотке, Сначала мы думали, Инесса на нас взъестся, но та сделала вид, что нас вообще не существует.
Альбертик же стал оставаться в нашем корпусе за ночного воспитателя; после отбоя холопки сбегались к нему «за выправлением осанки», потом втихаря подтягивалась и Инесса. Не знаю, чем они там занимались таким большим коллективом, но сама Инесса визжала, как циркулярная пила.
Утром вышагивала по коридору, как швабра в юбке, а под глазами темнели круги.
Альбертик — тот жрал за семерых, сиротка…
Так все и пошло, прямо тишь да гладь: Альберт Ванныч обучал старших девок «шейпингу и массажу», самолично обмывал их в душе, за что, собственно, и стал Ваннычем.
Глава 33
Примерно раз в полтора месяца стало наезжать областное начальство: под предлогом медосмотра Инесса устраивала для них «показательные выступления», дармовой стриптиз, загодя отбирая самых хорошеньких малолеток. Девчонки раздевались перед высокими комиссионерами донага, а те, обряженные в белые халаты, с ученым видом рассматривали каждую по всем статьям, хотя к медицине имели такое же отношение, как я-к английскому королевскому дому.
Но — кто поймет эту жизнь?
Все быстро оценили выгоду «показательных шоу». На детдом посыпался водопад гуманитарной помощи, спонсорских пожертвований, денежных вливаний. В детдоме стало жить действительно сносно: учителям прибавили зарплату, обеды и ужины — всегда с мясом или рыбой, все одеты не просто опрятно, но достаточно дорого по тем временам. Душевые облицевали импортной плиткой, закупили телевизоры и даже видики, в кабинете Инессы появился черный деловой мебельный гарнитур «Президент» и компьютер. Плохо было только одно: аппетиты Инессы и ее кавалера разрастались.
Кураева и Кривицкая совращали мальчишек — для себя и совсем еще юных девчонок, детей — для Инессы. Забурели, ходили примадоннами…
Мы с Медвинской жили уединенно: она раз в две недели уезжала с «родственниками».
Я же усиленно занималась спортом: колотила оставшиеся макивары руками и ногами и дни напролет дырявила мишени. Петрович, как и все, знал о том, что происходит в детдоме, но помалкивал: он был очень нездоров, сердце, а остаться на старости лет больным бездомным бомжем — кому хочется? Никому. Инесса же считалась хорошей хозяйственницей и педагогом-новатором. Учителя или приходящие воспитатели, может, и судачили втихомолку, но точно они ничего не знали.
Короче, жили мы сами по себе, детдом — сам по себе. Но Инесса смотрела все большим волком… Особенно на Катьку — про нее было доподлинно известно, что она блудит с каким-то начальником; видать, опасалась: а вдруг огласка? Долго так продолжаться не могло.
…А той ночью ко мне завалились все разом: Кураева, Кривицкая и Ванныч — в полном блеске. Все были в изрядном подпитии.
— Ну что, центровая, дрыхнешь? — начала Кураева. — Хотя какая ты теперь центровая? Так, бикса вокзальная! Что, не ваша теперь власть?
— Выметайтесь отсюда, — сказала я. — Выключите свет и выметайтесь!
— Батюшки светы, какие мы грозные! А никто не боится, поняла? — подключилась Кривицкая. — Сладко жрать при Инессе тебе нравится? Нравится. А жрачку отрабатывать надо. Пошли, я сказала! И пижамку свою куцую можешь здесь оставить, она тебе не понадобится!
— Я сказала — выметайтесь!
— Блин, давно бы тебе морду располосовала, если бы ты Инессе не глянулась! Иди познакомься с мамулей побли-и-иже!
— С кем?
— Инесса — наша маму-у-у-ля. Наша ла-а-а-асковая мамуля… Наша стро-о-о-гая мамуля… — Взгляд у Кривицкой поплыл, словно она наглоталась таблеток.
— Да пошли вы вместе с ней, сучки!
— Кураева, ты слышала? Она нас сучками обозвала!
— Может, ей морду набить?
— Да запросто. Это она в спортзале привыкла мешки молотить, а если по-нормальному…
— Так ты что, не пойдешь? — разлепил наконец губы-пельмени Альберт. — Инесса велела тебя привести. Я встала:
— Попробуй. Приведи.
А голову поволокло той, знакомой мне дурью… Руки повисли расслабленно, тело словно обмякло, готовое в долю секунды взорваться резкой отработанной серией.
— А я и пробовать не стану, — пьяно вякнул Альберт, вознамерился встать с продавленной сетки и тут же снова упал на нее задницей.
— Какой ты ми-и-илый! — Кураева завалилась на Альберта, рукой полезла ему в штаны. — А давай займемся прямо здесь, а? Пусть эта шмакодявка слюни пускает…
— Дура ты, Глебова… — подхватила Кривицкая. Прищурившись, закурила длинную черную сигарету, пыхнула дымом мне в лицо. — Была бы умной, давно в югославском бельишке бы щеголяла. А так — пугало пугалом. И Буня тебе покровительствовал из жалости: девка худосочная и на голову малость трахнутая, жалеть ее можно, а вот любовью он с нами занимался, поняла? Ой, как занимался… Тебе, подстилке ментовской, не понять!
Договорить она не успела. А я не успела ничего подумать. Нога сам собой полетела девке в голову, и Кривицкую смело на пол.
Альберт и Кураева смотрели на меня осоловело, не сразу поняв, что произошло.
Я стояла в боевой стойке.
Альберт осклабился пьяно:
— Ты че, крутая сильно? Щас я тебя, суку, выпорю! На этот раз он вскочил легко, оттолкнувшись обеими руками от кровати. Я сделала ложный выпад рукой и ногой ткнула в пах, коронным ударом, дважды. Он согнулся, я хотела добавить, и — словно что-то взорвалось в мозгу: стерва Кураева зашла сбоку и двинула меня по голове цветочным горшком. Я рухнула в глубокую темную яму.
Я очнулась, связанная по рукам и ногам. Альберт Ванныч стоял в своем неизменном адидасовском костюме рядом с кроватью. Тут же была и Инесса.
— Что будем делать с этой сучкой? — Альберт смотрел на меня, как на бревно, которое предстоит распилить и бросить в печь. — Займешься ею или мне самому заняться?
— Кобель ты… — Инесса провела рукой по моей ноге вверх, больно схватила:
— Ну что, хорошо?
— С-сука… — выдавила я сквозь зубы. Странно, но страха совсем не было. Только злость. — Попробуй тронь… Я тебя пристрелю, поняла?
Инесса поняла. Самое удивительное, что и до меня тоже дошло, что я говорю абсолютно серьезно и способна пристрелить эту стерву безо всякой жалости. Вместе с этим накачанным кобельком.
Пощечина была резкой и звонкой. Инесса хлестала меня по щекам, еще, еще… Я зажмурилась, чувствуя, как рот наполняет кровь от рассеченных губ… Голова загудела, словно колокол, а она все лепила и лепила свои оплеухи… Неожиданно затрещины прекратились. Инесса завизжала, как течная кошка, и кинулась на Альберта, завалила его, уселась сверху… И снова заорала — теперь ее голос был похож на визг циркулярной пилы, под которую подставили железный рельс…
Я плакала. Слезы попадали на разбитые губы, их щипало жутко…
Инесса затихла, встала, подошла ко мне. Бесцеремонно сунула руку в трусики.
Скривилась:
— Сухая, как наждак. — Повернулась к Ваннычу, констатировала, пожав плечами:
— Больная, наверное.
— Сама ты — сука бешеная! — выкрикнула я, выплевывая слова вместе с кровью. В ответ получила тяжеленную затрещину, такую, что голова дернулась и поплыла куда-то — это «мужественный» Альбертик расстарался…
— Ну и что будем с ней теперь делать, мамуля?
— Раз больная — будут лечить. В дурдоме. — От чего?
— Там найдут.
— А все же?
— Отправим ее по наркоте. На месячишко. А та позабочусь: из дурки она уже не выйдет. Никогда.
— А эта ее товарка? Соседка по комнате. Вдруг хай подымет?
— Не подымет. Медвинская та еще стерва, я их на нюх чую!
— У нее Гордиенко в заступниках.
— Точно знаешь?
— А то…
— Ничего. Найдем и на нее управу. А Гордиенко тот — сластолюб, каких мало.
Пригласим-ка его к нам на пикничок, а?
— По полной программе?
— Обязательно. Медосмотр, все такое… Да поглядим, кто ему приглянется… С тремя в коечке покувыркаться куда веселее, чем с одной…
— А если он подставу почует?
— А мы ему — эфедринчику в винцо… Ты же знаешь, что он с людьми делает, а? Не мужчинка, а просто один сплошной пенис! — Инесса облизала губки. — И крошкам не забудь вколоть, чтобы развлекли Михаил Семеныча по полной программе… Так что Катьку, как только объявится, под белы руки — и в дурку, следом за ней…
— А если Гордиенко после эфедринчика свою Медвинскую потребует?
— А мы ему — справочку… Дескать, гонорея у девочки, в диспансере лечится… Я позвоню Эльзе Геннадьевне, договорюсь…
— Так мы что ее, в диспансер запирать будем?
— Кого?
— Да Катьку.
— Тупой ты, Альбертик. А может, это и к лучшему. Ну-ну, не дуйся. Зато красавец — спасу нет. Все девки ревмя ревут. Катьку вслед за этой — тоже в дурдом. Или ты думаешь, Гордиенко в диспансер навещать Медвинскую поедет?
— Хм… Старперы, они странные… Может, он запал на эту Медвинскую?
— Плохо ты мужчинок знаешь. Да и откуда тебе? Как скажем тому Гордиенке, что его подружка гонорею подхватила, да со скорбью скажем, вроде и не знаем об их играх ничего, дескать, мы, глупые, недоглядели, как наша девушка-подросток на базаре со всяким отребьем якшается, что он подумает? Во-первых, о своем драгоценном здоровьице подумает… И не подарил ли он чего милейшей супружнице Елизавете Карповне… Хотя вряд ли: на эту бочку на ножках ни у кого уже не встанет. А потом что подумает? Что сука эта Медвинская… И все они суки… И будет прав. А тут мы его на медосмотр и потянем: дескать, здесь промашка вышла, но мы за здоровьем воспитанниц следим как следует… Пусть налюбуется на все девичьи прелести… А ты с эфедринчиком подсуетись вовремя, понял? Чтобы этого козла бодучего дрожь уже колотила, как мы на него наших нимфеточек выпустим… И — пропал мужчинка… От такого секса не отказываются. Альбертик слушал раскрыв рот:
— Ну у тебя и голова, мамуля…
— Учись. Хотя… — Она оглядела Альбертика так, словно это был не человек, а некий агрегат. — Ладно. А с этой…
— На иглу посадить?
— Не стоит на нее добро переводить. Покормишь «колесами», посечешь ей лезвием немножко вены — да смотри не перестарайся! — и можно сдавать. Скажем, попытка самоубийства. И поведение агрессивное, и все такое… На месяц запрем, а там…
— Она наклонилась ко мне:
— Что, детка, весело тебе? А скоро будет еще веселее… Через пару-тройку месяцев в дурке станешь тихая и по-слушненькая, а?
Вот тогда и поговорим с тобой — в моей спальне…
Я собралась с силами и плюнула ей в лицо. Инесса утерлась платочком и снова хлестнула меня по щеке. Закончила:
— Как шелковая будешь… И бельишко я подберу тебе шелковое… И сечь буду розгой, пока рубашонка кровью не обмокнет… — Глаза ее помутнели, стали как бельма, в них заплескалось тяжелое черное безумие… Я оцепенела от страха.
— Пойдем, мамуля… — дернул ее за руку обеспокоенный Альбертик.
— Что? — Она глянула на него странно. Постояла несколько секунд молча, словно возвращаясь откуда-то, произнесла уже вполне нормальным голосом:
— Пошли.
Сделаешь, как я сказала.
— Не беспокойся. Сделаю.
Дальше… Дальше мне стало все равно. Единственное, было жалко, что не успею предупредить Медвинскую. Кажется, Альберт даже удивился, когда я безропотно позволила накормить себя таблетками. Потом он взял лезвие, предупредил:
— Сейчас будет немножко больно…
Заботливый! И легонько полоснул по руке, вскрыв вены едва-едва, через минуту замотал порез и залепил пластырем.
Машина из дурки приехала часа через два. Сначала они, видимо, побеседовали с Инессой, потом курчавобородый коротышка доктор сделал мне укол, а я, и так после лошадиной дозы реланиума тупая, как оловянная кастрюля, стала и вовсе похожа на выставленное стекло: все отражает, ничего не соображает, если щелкнуть ногтем — звенит. Здоровенный санитар сгреб меня в охапку и отнес в машину.
Все приемные процедуры тоже прошли как во сне. Помню. как выдавали в приемном покое белье и халат, как водили в душ… Потом поместили в смотровую палату. Две девки топотали и орали что-то всю ночь. Полупьяная санитарка появлялась пару раз, материла их и удалялась. Если я и спала, то это больше походило на бред.
Часов в пять утра две эти телки доконались и до меня. Одна потрясла за плечо, спросила:
— Эй, новенькая, покурим?
— Я не курю, — пробурчала я, попыталась накрыться с головой, но та не отвязалась.
— Ты дура или кто?
— Сама ты дура.
— Не. Я шировая. А ты шизюшка, — что ли?
— Нет.
— Тогда шировая?
— Нет.
— Чего ты нам вкручиваешь?!
— Меня сюда директриса поместила. Детдомовская.
— А-а-а… Профилактика. Я промолчала.
— Ты вот чего, девка, сильно тут не залупайся. А то заколют. Выйдешь точно полной дурой, а то вообще не выйдешь, пропишешься. Здесь много таких. А раз ты не нужна никому — тут и сгинешь. Поняла?
Мне стало страшно. Я накрылась с головой одеялом, чувствуя, как на глазах закипели слезы.
— Я — Верка. Мазаева. Мы с Машкой тут от тюряги косим. Здесь вообще-то кайфно, если по уму. И сбежать — легче легкого. Только зачем? Скоро осень, потом — зима.
Перезимуем хоть в тепле. А под лето на юга подорвем. Побежишь с нами?
— Я здесь столько не пробуду.
— Это ты так думаешь. Еще как пробудешь. А если заву понравишься…
— Кому?
— Завотделением. Не боись, он мужик для нас безопасный, потому как голубой. Гей.
И с девками любит просто разговоры разговаривать о наших женских долях. Умный — сил нет. Жаль только, что не мужик… Трахаться хочется — как из пушки! А санитары мной брезгуют. Ты молодая, ты себе живо медбратика найдешь… Или он тебя… Ладно, дрыхни. Нам с Маткой и вдвоем нехило.
Я повернулась на бок и зажмурила глаза. Мне стало жутко.
— Ну че? — спросила девку ее товарка.
— Да шизанутая какая-то. Из детдома.
— Не курит?
— Не.
— Ну и хрен с ней. У нас че осталось?
— Чуточку.
— Давай.
Я уже провалилась в тяжелый, разрывающийся разноцветными кругами сон, когда снова услышала их слаженную топотню по комнате и хриплые выкрики Верки:
— Лайф из лайф, ля-ля-ля-ля-ля, кайф из кайф, ля-ля-ля-ля-ля, кайф из кайф!
Утром меня отвели к завотделением. Очень красивый мужчинка лет сорока, чисто выбритый, с длинными, по моде семидесятых, волосами, выкрашенными в ореховый цвет, потрещал длинными, чисто промытыми пальцами с ухоженными ногтями, поглядел на меня долгим взглядом блекло-голубых глаз, улыбнулся:
— Будем знакомы. Меня зовут Виктор Викторович Ланевский. А вас?
— Аля.
— Очень хорошо, деточка, очень хорошо.
«А что тут хорошего?» — подумала я, но вслух не сказала.
— Тебя тяготит жизнь, Аля?
— Нисколько.
— Это правильно. Жизнь — приятная штука. Ты еще очень молода, но даже не представляешь себе, до чего приятная… Море, солнце, любовь… — произнес он, закатив блеклые глаза к потолку. Надел очки с толстыми линзами и словно разом приблизился ко мне. — Ты знаешь, что такое любовь?..
Глаза у него были внимательные и очень грустные. Мне даже жалко его стало. А в голове мелькнул Сашка — сильный, добрый, с презрительной ухмылкой на губах, так его портившей… Это и была любовь?..
— Знаешь? — Глаза доктора не отпускали. Я выдохнула искренне:
— Нет.
Он удовлетворенно откинулся на спинку мягкого стула:
— Я рад, что ты сказала правду. Ни одна женщина не может понять, прочувствовать, что такое любовь к мужчине! Ни одна! Я… Я тебе расскажу, что такое любовь, — добавил он вкрадчиво. Он достал из стола пачку очень дорогих легких сигарет с ментолом. — Куришь?
— Вообще-то нет… Иногда.
— Прошу. — Он галантно щелкнул зажигалкой, откинулся в кресле за столом. — Женщины… Женщины на самом деле созданы не для любви, а для продолжения рода.
Только для этого они и нужны. Любовь к мужчине для женщины — всего лишь средство… Средство устроиться в жизни, средство иметь детей, средство жить безбедно за счет мужа… А к любви женщины не способны: что не дано, то не дано, — заключил он. Вообще-то он говорил так, будто я была вовсе не девочкой, а геем… Я не понимала почему…
Он словно услышал эту мою мысль:
— Ты ведь пыталась покончить жизнь самоубийством?
— Не совсем так… — начала я, но он перебил:
— Понимаю, понимаю… Девяносто процентов самоубийц — мнимые самоубийцы. Они вовсе не хотят умирать, они хотят, чтобы их спасли… Но проявили к ним внимание, которого им так не хватает… Тебе ведь не хватает внимания?
Я снова пожала плечами.
— Не хватает, — продолжил он. — Всем людям не хватает. Каждый втайне считает, что более умен, талантлив, интересен, чем замечают окружающие. Что заслуживает больше внимания, больше уважения, может быть, больше любви… Попытка самоубийства — не что иное, как попытка устроить себе другую, лучшую жизнь… А некоторые… Это более тяжелый случай: они ярко представляют себе, как окружающие будут жалеть о них после смерти, как будут переживать, что были несправедливы к ним, живым… Эти относятся к смерти не как к состоянию небытия, а словно к иной жизни, из которой они станут в спокойствии или беспокойстве наблюдать эту жизнь… Злорадствовать, смеяться, получать удовлетворение от мук совести тех, кто не оценил их… Таких можно легко убедить не повторять своих попыток: только доказать им, что смерть — ничто…
— Разве это можно доказать? — неожиданно для себя спросила я.
Доктор взглянул на меня с новым интересом:
— Естественно. И я попытаюсь это сделать. Но позже. — Он задумался, уперев взгляд в потолок. — Ну а третий тип… Это и есть собственно самоубийцы… Они к нам не попадают. Они попадают туда, куда хотят, — в небытие. Ибо только они выбирают такой способ самоубийства, при котором невозможно спасение: например, прыжок с небоскреба…
— Что-то я небоскребов вокруг не много видела, — хмыкнула я.
— Иронизируешь? Это хорошо. Это оч-ч-чень хорошо, Аля… Ты мне доверяешь?
— С чего вдруг?
— И это хорошо. Но я думаю, между нами скоро установится доверие. Не может не установиться. Я промолчала.
— Итак, я хочу, чтобы ты поняла одно: я на твоей стороне.
— Да?
— Да. Почему ты решила вскрыть вены? Из-за мальчика?
— Нет. Я вообще…
— Не нужно мне врать. Мы же договорились: доверие. Полное доверие. Кажется, это Ремарк написал: когда идешь к врачу или к женщине, сомнения оставляй за дверью.
— Это написал Богомил Райнов. Болгарин, — сказала я.
— Вот как? И где же?
— «Тайфуны с ласковыми именами». У нас в детдоме эту книжку зачитали до дыр.
Интересная. К тому же я к вам не обращалась, меня к вам доставили. Как мебель.
— Но ты же пыталась вскрыть вены? Понимаю, понимаю…
Я хотела сказать, но потом поняла: бесполезно. Этот доктор, как и большинство людей, умел слушать только себя.
— Видишь ли, Аля… Фрейд был не так глуп… Как и всякий гений, он сумел первым заметить очевидное… А очевидное состоит в том, что все люди — белые, черные, желтые — делятся на девочек и мальчиков, девушек и юношей, мужчин и женщин, и только потом на шахтеров и космонавтов, учителей и банковских клерков, евреев, немцев или зулусов, политиков и коммерсантов, проституток и сутенеров, бандитов и сыщиков, тупых и умных, добрых и злых… Сначала — все! — на мальчишек и девчонок. И выбор профессии, и жизненный путь во многом диктуются этими обстоятельствами… Так вот, я работаю в этом отделении, женском, почти двенадцать лет. И сделал массу интересных выводов, которые совершенно очевидны, но тем не менее никто до меня этого не заметил: женщины не способны любить!
Любить мужчину!
Виктор Викторович смотрел на меня с видом скромного Колумба, только что осознавшего, что он приплыл не в Индию, а открыл новый материк.
— Женщины корыстны, завистливы, лживы… И многие психические отклонения диктуются, провоцируются этим вот заблуждением: женщина считает, что создана для любви, будучи при этом к любви неспособной по определению… Рождается конфликт между личностным "я" и "я" функциональным. Вот она, причина! И попыток самоубийств, и многих, очень многих психических отклонений! Понять другого мужчину, в том числе в сексуальном плане, способен полностью только мужчина!
Женщине нужно посмотреть правде в глаза, согласиться с очевидным — своей неспособностью к любви — и жить так, как ей и назначено природой: выполнять функцию деторождения. Деторождение — слишком важная функция, чтобы приро-Да стала догружать ее какими-то довесками вроде чувств… Не так? — Доктор смотрел на меня внимательно, испытующе. — Как только ты согласишься со мной, причем согласишься не кивком головы, а внутренне, с полной естественностью, можешь считать, что выздоровела. И я буду! уверен, что рецидивов суицида не последует.
* * *
А я слушала его, и мне становилось все тоскливее… То, что Виктору Викторовичу, а не мне место на больничной койке, было понятно без переводчика. И ту ахинею, что он нес…
И все же я решилась рассказать. Мне вдруг стало ясно что он никак не связан с Инессой и не выполняет именно ее заказ. Впрочем, это не значит, что кто-то из врачей не посвящен…
— Поймите, доктор, я не вскрывала себе вены!
— Не вскрывала? — Он поверх очков посмотрел на замотанную пластырем руку.
— Нет. Это сделал наш физрук, Альберт Иваныч.
— Вот как? Он вас преследует?
— Да.
— Наверное, ваш директор, Куликова, тоже вас преследует.
— Да. Вы все знаете?
— Естественно. Это моя работа. Скажите, а вы не думаете, что и среди врачей могут найтись люди, связанные с вашей директрисой и физруком?
Я вспомнила их разговор между собой, сказала совершенно искренне:
— Могут.
— Чудесно.
Виктор Викторович наклонился и стал что-то быстренько записывать маленькими, круглыми буковками в карточку. И тут до меня дошло! Ведь он решил, что я… Что у меня — бред преследования, или как они там это называют…
Я почувствовала слезы на глазах:
— Вы мне не верите?
— Как же можно?! Очень даже верю! Целиком и полностью! И предприму все меры, чтобы выявить агентов вашей директрисы и этого… — он сверился с записью, — Альберта Ивановича в больнице. Незамедлительные меры! И пожалуйста, не плачь!
Терпеть не могу женских слез! Они всегда так неискренни! — капризно закончил он и поджал губки. — Мы встретимся через неделю. А пока — выпишу тебе общеукрепляющее…
— Да я здорова…
— Не сомневаюсь, — произнес он твердо, уставившись мутно-голубыми роговицами в стол. — Но это витамины Никому не вредно.
Потом он нажал какую-то кнопочку. Вошла здоровенная санитарка.
— Проводите больную.
Щелкнул замок, дверь за мной закрылась. Я шла и плакала. А что еще было делать?..
Прав был Философ. У людей есть только два мнения: одно — свое, другое — не правильное. Для лекарей в сумасшедшем доме эта истина была абсолютной.
Глава 34
Дальше… Дальше был коридор. Бесконечный коридор с желтыми стенами. Палаты на день закрывались, и больные слонялись вдоль коридора парами или поодиночке…
Одни разговаривали сами с собой, другие двигались молча, и взгляды их были пусты, как блеклое небо…
И мне вдруг стало казаться, что пройдет еще сколько-то времени, и я стану такой же, как эти тетки… Пускающей слюну, опустившейся, жирной скотинкой, живущей непонятно зачем и непонятно почему…
Сколько прошло времени — сутки? неделя? месяц? Я не знала. Мне кололи какие-то уколы, совершенно автоматически я ходила на обед и ужин… Те, у кого были родственники и кому приносили передачи, быстро, как на дрожжах, поправлялись: они даже не ели, они жрали, находя в еде единственную доступную им радость… А я вдруг отчетливо поняла: если не предпринять что-то, то я здесь погибну. Скоро.
А я очень хотела жить. И быть свободной.
Уколы отменили. Первое время санитарки бдительно следили за тем, чтобы я проглатывала прописанные мне пилюли, потом им это стало неинтересно. Я была дисциплинированной.
Доктор Вик, как его здесь все называли, вызывал меня на беседу дважды. Но под воздействием им же самим прописанных «витаминов» я была апатичной и вялой и по-видимому, совершенно его разочаровала. Естественно как пациент, ибо в другом качестве женщины для него не существовали. Судя по всему, поддержать «детородную функцию природы» он был просто не способен.
Но он всегда присутствовал на банном дне, в субботу; если мужики-санитары из других отделений слетались совсем за другим — к зиме в отделении стало прибавляться совсем молодых и вполне аппетитных девок-наркоманок, и санитары выбирали себе «ночных фей» за чифирек или «колеса», то доктор Вик просто присутствовал, разглядывая обнаженных и в большинстве своем некрасивых женщин, брезгливо опустив уголки рта: он еще и еще раз убеждался в женском не только моральном, но и вполне видимом физическом уродстве и еще раз видел полное подтверждение собственной теории… Как же… Ведь гений тот, кто первым заметит очевидное.
Катька Медвинская появилась в пятницу. Доктора Вика в тот день почему-то не было: то ли приболел, то ли что, и она не удостоилась высокой «уединенции» и консультации по поводу тяжкой бабской доли. Я же уже с неделю как положила бревно на прием пилюль: как только санитарка засыпала содержимое в рот, сглатывала заготовленную слюну, шла в умывальню и выплевывала все содержимое.
Впрочем, так делали почти все, как почти все, невзирая на степень шизанутости, твердо были убеждены во вреде приема «химии» и в том, что врачи — это враги и ничего хорошего от них ждать нельзя, но надо подчиняться, иначе не выпустят домой. Вот это и было общим с детдомом; все хотели домой, даже те, у кого этого дома не было никогда.
Катьку поместили в смотровую. Она озиралась по сторонам, с видом пай-девочки выслушала матерные наставления санитарки и поплелась по коридору. Увидела меня, вскрикнула:
— Глебова!
Я подняла на нее мутноватый взгляд, подкандыбала, шаркая изношенными здешними шлепанцами, словно во мне за эти недели накопилось столько химико-успокоительной дури, что передвигаться я могла только как жареный палтус, полуползком…
— Глебова… — Голос ее стал на полтона ниже, глаза — испуганные. — Ты чего?
— Не ори, — произнесла я тихо и внятно. — Иди рядом и слушай.
— Ага.
Я изобразила медленное узнавание, и мы, как две черепашки, зашуршали по коричневому, в разводах, линолеуму.
— Слушай внимательно, — тихо наставляла я Катьку. — Тебе повезло: врачей сегодня уже нет и не будет до понедельника, если, конечно, Вик не припрется завтра на помывку…
— Кто такой Вик?
— Потом… А это значит, что никаких уколов гадских тебе до понедельника не назначат. Так вот, в воскресенье надо отсюда удрать. Иначе… Иначе нам тут придет каюк. Полный. Ты как сюда?
— А… Эти суки…
— Можешь не рассказывать, я слышала, что тебя тоже сюда собираются спровадить…
Только я боялась, ты в другое отделение попала…
— А откуда ты знаешь?..
— Долго рассказывать. А чего они тебя столько времени мурыжили?
— Эта сука Инесса меня избила. Высекла. Прутом. Вся спина была исполосована. Не могли же они меня в таком состоянии сдать и сказать, что это я панцирной сеткой отлежала… Ждали, пока заживет. И все это время «колесами» пичкали. Сонная стала, как бурая медведица в спячку. Ничего… Дай только выбраться… Инессу укатаю — в первую голову. Так как будем подрывать?
— Завтра посмотрим. По обстоятельствам.
Назавтра обстоятельства сложились ни плохо, ни хорошо. Вика не было; по случаю его отсутствия подвалили четверо санитаров из мужского отделения; они пошептались с санитаркой Зинаидой Филипповной — жутко пьющей и жутко сволочной теткой, — и она им решали устроить «индивидуальную программу». Меня, Катьку и еще пятерых девок «в кондиции» записала в последнюю группу и вызвала нас в душ, только когда отправила на покой всех шизушных и даунов.
Четверо санитаров были тут как тут. Зина глянула на нас полухмельным уже глазом, велела:
— Разоблачайтесь. А санитары вам спинки потрут… — Помолчала, ухмыльнулась пьяно. — Или где еще…
Мы разделись в коридоре; мужчины лениво наблюдали, прислонившись кто к косяку, кто к стенке. Наконец пошли в душ.
Мы с Катькой стояли под одной струей.
— Ну что тут за расклады? — спросила она тихо.
— Обычные, — пожала я плечами. — Зина запродала нас за пару пузырей каждую во временное пользование. Сейчас эти мученики медицины хлопнут водчоночки или коньячку и начнут куражиться…
— Тебя уже выдергивали на эти междусобойчики?
— Не-а. Я под уколами была — чистый даун. Кому с такой интересно? А девки-наркоши, те не столько по мужикам, сколько по наркоте истомленные; санитары подгоняют им «колес» или травки для оттяга — и пользуются в свое удовольствие.
— А что, если нас выберут?
— Вообще-то похоже на то. Видела этого, черноволосого? Его раньше не было. И он глядел то на тебя, то на меня…
— С таким бугаем нам не справиться…
— Посмотрим, — пожала я плечами. — Обычно пьянка начинается в дежурке у санитаров, девок потом растаскивают: кого — в процедурную, кого — в рабочую…
Ночь с субботы на воскресенье — самый оттяг для санитаров.
— А дежурный врач?
— Сегодня Василь Митрич. Старикан. Он на пенсии давно, дежурит так, для подработки, раз-два в неделю. Он же и водочкой приторговывает. Сейчас уже мензурку принял и спит. А дрыхнет он так, что не проснется, даже если бомба свалится прямо на башку.
— Говорят, это и есть легкая смерть. Умер во сне.
— Прекращай свои шуточки, Медвинская! Лучше всего, если нас сегодня выдернут.
Иначе — в пролете. Они все палаты на ключи замыкают, смотровую тоже…
— А если тетка какая психованная писать захочет?
— Да пусть писает в матрас, им-то что! Ты главное поняла? Если нас по палатам закроют, нам не выбраться… А так — у всех медбратиков ключи от внутренних дверей, они одинаковые, а у Зинки и у Толика есть от входных. И от каптерки.
— А каптерка нам зачем?
— Ты что, Медвинская? В больничном халате по городу шустрить собираешься?
— До города еще добраться нужно… Сладко поешь, Глебова… А как мы будем этого гиганта «гасить»? И вообще — их четверо. И эта Зинища — тетка совсем не хилая…
— Во-первых, они сами наклюкаются.
— Но не до такой же степени, чтобы…
— А может, и до такой. Зинаида точно — пьет как насос. А там посмотрим по обстоятельствам. Медвинская, что ты возражаешь все время? У нас что, выбор есть?
— Нет.
— Ну а раз нет, то и…
— Натура у меня такая. Противоречивая.
— Это я давно поняла.
— Ну а раз поняла…
— Хватит плескаться! — услышали мы голос Зинаиды. Красное лицо бабы изрядно посоловело: времени даром не теряла. Она кивнула на застиранные вафельные полотенца. — Обтирайтесь живо и в коридор, белье получать.
Мы вышли. И тут я подумала, что в чем-то доктор Вик прав, как только увидела глаза этих четырех пасынков медицины, долбаков в белых халатах. Это точно, люди делятся на мальчиков и девочек, мужчин и женщин… И еще — на сук и кобелей… И глаза у этих сейчас вполне кобельи, и слюна почти течет из изломанных алкоголем и похотью ртов… И было бы сейчас совсем глупо эту кобелью страсть не использовать, чтобы слинять из этого гиблого места. Я вдруг поняла, что если не убегу сегодня, то действительно свихнусь от этих крашенных желтой краской коридоров, этих худосочных традесканций на стенах, от этого коричнево-грязного линолеума, от этих мутных рож…
И еще — мне вдруг, пусть на мгновение, стало страшно… Будто я снова оказалась в обшарпанной комнатенке вытрезвителя, и сейчас невесть откуда вынырнет краснорожий Палыч…
— Ну? — победно глянула на мужиков Зинаида, словно она самолично вылепила нас из глины и вдохнула жизнь или, по крайней мере, извлекла из пены морской… Махнула рукой — широким хозяйским жестом:
— Выбирайте!
Медбратья сидели как раз за столиком, на котором было разложено белье. Мы должны были подойти к столу…
Зинаида выкликала нас по фамилиям… Девушки подходили, получали новенькие трусики и майки из только что распечатанных пакетов… Меня снова удивила Медвинская: она ступала так, словно на ней была дюжина бриллиантовых колье и горностаевый мех в придачу!
Медбратья брали понравившихся им девчушек и уводили. Видно, заранее было поделено, чтобы без поножовщины.
— Я возьму обеих! — хрипло произнес чернявый здоровяк. — Эту гордую и эту белобрысую!
— Справисся, Русланчик? — подколола Зинаида.
Тот оскалился:
— И еще троих про запас держи, когда эти устанут!
— Не свисти уже! Я баба старая, опытная! Пятерых девок тебе не уездить!
— Что?!
— А на спор?
— Зачем говорить? Дело сделаю, сама увидишь!
— Так ты спорить будешь, черт нерусский, или как?
— На что?
— Пятьсот! — выдохнула Зинаида.
— Заметано.
— Долларов! — добавила она азартцо.
— Да хоть гульденов!
— Гульдены себе оставь… Так что, прямо сразу пятерых и заберешь?
— Двоих пока.
— Ладушки. Я этих пока в дальней палате, в двенадцатой, запру. Только учти, нехристь, я ведь им куда надо самолично слазаю, проверю…
— Спор так спор, — пожал плечами Руслан. — Только ты все и так услышишь… Когда кончаю — ору как резаный.
— Куда поведешь-то?
— В кабинет докторский.
— К Вику?
— Ну.
— Ты смотри не напакостничай там…
— Будь спокойна.
— А чего мне беспокоиться?
Мы во время всей это перепалки стояли молча. Странно, но эти дурные, грубые, необразованные люди относились к нам как к бессловесной скотинке… Или времена такие пришли тупые, или мне в последнее время сплошь скоты попадались?.. Как в песне поется — трудное детство. Или это все равно считается лучше, чем никакого?
— Пошли, красавицы…
Мы вошли в кабинет. Руслан закрыл дверь на ключ.
— Вам чего для завода, красавицы? Марафетику, водочки, «колес»?
— И того и другого, и можно без хлеба, — сказала Катька.
— Меня зовут Руслан.
— Это мы уже слышали.
— Как тебя зовут, гордая?
— Екатерина.
— Как царицу.
— Она была не царица.
— А кто?
— Императрица.
— Если тебе нравится — будешь императрица. А подружку как?
— Ее? Ленка.
— Ленкаенка. Молчаливая она.
— Тебя так заколоть — тоже станешь как макарон вареный.
— Не-е-ет. Я не стану. — Он обозрел нас взглядом победоносца. — Снимайте все.
— А выпить?
— Пожалуйста. — Руслан широким жестом открыл прихваченную с собою сумку. — Вино?
Водка? Эфедрин?
— Вино.
Темный кагор разлили в длинные мензурки, которые Руслан извлек из медицинского шкафа, открыв своим ключом. В глубине шкафа никелем блеснули инструменты.
— За любовь? — произнес он с подъемом.
— За нее, проклятую… — хмыкнула Катька.
— Екатерина… Я никогда не встречал таких, как ты… Ты выглядишь совсем юной девочкой, а ведешь себя как искушенная женщина… Спелая, искушенная, порочная…
— Говоришь много. — Катька сузила глаза. — Пора к делу.
Руслан растянул губы в улыбке:
— Начнем с тебя? Или с нее?
— Ты с меня. А я — с тебя… А она… Пусть смотрит.
Ей есть чему поучиться.
— Е-ка-те-ри-на… — произнес Руслан по складам. — Сними все!
Катька, с тем же выражением лица — балованной, порочной инфанты — выскользнула из трусиков, одним движением сбросила маечку…
— Императрица… — прохрипел Руслан и распахнул халат.
— Ого! — Катька округлила глаза. Ее удивление было искренним и почти безграничным: восставшая плоть сына гор поражала воображение.
— Я достоин тебя, императрица?
— Достоин, князь… — прошептала Катька. Она стала на колени, обхватив его мужскую гордость обеими руками. Горец закрыл глаза. Катька быстро посмотрела на меня, метнулась взглядом к шкафу с инструментами. Я опустила веки: поняла.
Через минуту я присела с ней рядом, передала инструмент из рук в руки…
— Вдвоем? — прохрипел Руслан.
— Никому, никому такой не отдам, — горячо зашептала Катька. — А она — пусть танцует… Или сделает тебе массаж шеи… Массажировать эту волшебную палочку я не позволю никому… Только сама… Сама… — шептала Катька, и даже я не могла понять, играет она или действительно изнемогает от страсти…
Я зашла сзади… Положила руки ему на шею…
— Сними майку… Коснись меня животом… — прохрипел он.
Я выполнила то, о чем он просил. Катька работала мастерски. Мужчина закрыл глаза, задышал часто, ритмично… Медвинская подняла глаза: взгляд ее был спокоен и холоден. Я поняла: сейчас.
Горец заревел каким-то звериным рыком, изливая семя… Одним движением я захлестнула широким пластырем его орущий рот, несколько раз обернув вокруг высокого стула, на котором он сидел. Я почувствовала, как, пусть с небольшим опозданием, напряглись мышцы его громадного тела… Если он только решится, то убьет нас прямо сейчас, здесь, на месте. И тут я услышала Катькин голос: в нем было столько холода, презрения и решимости, что даже у меня мурашки пробежали по коже…
— Только дернись! И твой прибор я унесу с собой! Как амулет!
Почувствовав прикосновение острого как бритва скальпеля, мужчина замер. Я увидела, как волосы на спине у него стали дыбом.
Но любоваться особо было некогда. Я быстро перерезала пластырь и так же, в два слоя, примотала к спинке шею.
— Найди снотворное! — прокричала Катька. Я метнулась к шкафчику. Пошерудила ампулами. Вроде такое мне вкалывали — и я была чахлой, как мерзлый мамонт.
Обломила ампулку, втянула содержимое в шприц… Хотела идти колоть, но Катька крикнула:
— Всю коробку!
— Ты что, он умрет!
Услышав это, Руслан дернулся и снова замер от окрика Катьки:
— Сидеть!
Капли катились по его побелевшему лицу.
— Лучше умереть мужчиной, чем жить кастратом, — тише, но тем же ледяным тоном добавила Медвинская. Я подошла с полным шприцем. Горец не шелохнулся.
— Коли!
Я надавила на поршень. Теперь оставалось ждать. Неожиданно дверь дернулась, послышался совершенно пьяный голос Зинаиды:
— Ну что, Русланчик, остальных приводить или как? Катька нашлась сразу — ответила длинным протяжным стоном.
— Ишь ты… Размяукались, что кошки… — Шаги зашаркали по полу и затихли.
Чернявый затих.
— Катька… — Руки мои дрожали. — Я что… убила его? Медвинская прислушалась:
— Дышит. — Глянула на этикетку от коробки с ампулами. — Хм… От этой дозы такой кабан не подохнет. Но отдохнет хорошо. Часов двадцать, а то и все двадцать пять!
Ну да его побудят раньше! Нет, Глебова, все-таки скажи? Ты когда-нибудь такой прибор видела?
Я жутко покраснела.
— Ну и ну… Ты что…
— Да, — выдохнула я.
— Ну тебе и повезло, — протянула она. — Некоторые всю жизнь проживут, а о таком — только по рассказам знают. Он и лежачий впечатляет. Нет, Глебова, ты не переживай… — Катька быстро оделась. — Оклемается.
— Да я и не переживаю…
— Ха! — задорно усмехнулась Катька. — Это я переживаю. Сама понимаешь, такой экземпляр отхватить, да чтобы рука не дрогнула — это же стресс на всю жизнь!
Преступление перед природой!
— Перед чем? — нервно хихикнула я.
— Перед природой… — попыталась погасить смешок Катька.
Через секунду мы обе свалились на пол в каком-то диком, безудержном приступе хохота… Смех скручивал нас судорогами, из глаз у обеих покатились слезы… А мы не могли остановиться… Словно прогоняя смехом тот жуткий, леденящий страх, который только что пережили.
Глава 35
Через час мы выбрались. Я предложила было забрать с нами тех девчонок, которые…
— Аника-воин, — усмехнулась Медвинская. Но согласилась.
Мы мышками прокрались по желтому коридору; в комнате санитаров спала без задних ног Зинаида, и ее могучий храп разносился по всему отделению. Мы присовокупили ее связку ключей к той, что реквизировали у супермена. Подошли к процедурной.
Оттуда доносились всхлипы. Катька заглянула, осторожно приоткрыв дверь; я за ней.
— Ты видишь?.. Хорошо им. Чего людям кайф ломать, сказала Катька.
— Медвинская… Разве здесь может быть хорошо? Ведь здесь же… несвобода!
— Аленка, ты и не представляешь себе, сколько людей выберут тюрьму, если там будет тепло и сытно. Даже не представляешь…
В каптерке мы выбрали себе шмотки, оделись и ушли в стылую сырую ночь. Куда идти дальше, я не знала.
— В город? — спросила Катька. Дурдом располагался недалеко от областного центра.
Я пожала плечами. Мы оказались в странном положении: ни дома, ни друзей, ни денег, ни документов. С клеймом наркоманок, сбежавших из дурки, которых может стопарнуть любой мент на пространствах разваленного эсэсэра. Но… Мы вдыхали холодный ночной воздух и чувствовали, наверное, одно и то же: свобода стоит того, чтобы за нее побороться. Тому, кто этого не понимает, ее не подарить ни указом, ни революцией, ни деньгами. Потому что это так.
Всю ночь мы промерзли на махонькой остановке, тесно прижавшись друг к дружке. Мы забились в самый угол монументального кирпичного строения, умудрившись даже кое-как покемарить. Утром пришел автобус на Борисоглебск. Денег, экспроприированных у санитара-уникума, хватило на билеты вполне. Даже осталось на еду.
Борисоглебск был маленьким районным городишком, но очень красивым. Здесь был Борисоглебский монастырь, или, как его называли местные, обитель. Покамест там размещался маленький музей, в котором и работал один из бесчисленных Катькиных знакомых. Она его называла Костя Лесной Человек.
Жил он один в огромном доме рядом с монастырской стеной и был при музее сторожем, экскурсоводом, научным сотрудником и всем остальным одновременно.
Летом он уезжал слоняться по археологическим экспедициям, зимой — мирно корпел в Борисоглебске и составлял обширную летопись этого некогда славного края. Ни к званиям, ни к регалиям, ни к деньгам особо он не стремился, а потому был последовательно оставлен, как рассказывала Катька, двумя законными женами и, наверное, десятком претенденток занять эту вакансию.
С годами он стал философом, порос густеющей бородой и стал относиться к этому миру как счастливый ребенок: все, что происходит, к лучшему. От взрослого же у него оставалась время от времени закипающая язвительность, которая мирно спала в обычное время где-то в потемках его образованной детской души и читалась лишь в глазах изречением известного пессимиста Мэрфи: «Все, что начинается хорошо, кончается плохо; все, что начинается плохо, кончается еще хуже». Каким образом это сочеталось в нем с первым посылом, понять было невозможно, но это было так.
Он искренне обрадовался нашему появлению. И на вопрос-утверждение Катьки: «Мы здесь поживем», пожал вроде безразлично плечами: «Живите. Места много», но по его голосу было понятно, что он совсем не так безразличен к окружающему, как хочет казаться. Хотя и диковат.
Борисоглебск в отличие от Зареченска был городок совсем тихий. И вовсе не потому, что в нем было нечего делить: поделились, но как-то по-домашнему, без драк и поножовщины. В Борисоглебске жили в большинстве своем староверы или их потомки; городок сиял чистотой улиц, маковками бесчисленных ухоженных церквей, до блеска промытыми, ничем не занавешенными стеклами домов. Жители словно хотели сказать: «Нам нечего скрывать. Ни от людей, ни от Бога».
Похоже, в нашем трудном детстве наступила пауза на счастливое отрочество. Катька зажила с Костей Лесным Человеком совсем как примерная жена-дочь, я… Я пропадала в музейной библиотеке. Для меня вдруг открылось, что мир наш не так одномерен, что мы такие же, как те, что жили до нас, и после нас будут жить такие же… И, несмотря на все мерзости и тяготы этого мира, люди умудрялись в нем не просто выживать, но жить. И совершали великие, благородные подвиги, и отваживались любить, оставляя миру гаснущую нежность… Я разыскала это стихотворение в какой-то книжке без обложки…
Живет поэт, беспомощно-запойный. Не суетлив, не злобен, молчалив. Беспутный днями, снами беспокойный, Как ветреный блуждающий мотив. Живет, законвоированный днями В капкане серых стынущих домов, А мимо — в осень — странными тенями Уходит череда забытых слов… Слов о любви, о том, что не вернется, О том, что летом не дано понять… Ноябрь дождем простудным в окна бьется, Как птица, не рожденная летать… Живет поэт. Несет свой крест неспешно И за гостями прикрывает дверь… И — царствует! Беспомощно и грешно Без лести. Без восторгов. Без потерь. И в мир бредет. И в нем плывут вокзалы, Гирлянды улиц, провода, мосты… Полны пурпура колдовские балы — Стихов несотворенные холсты… И — пропадает в матовую снежность. И миру, что сгорает в пустоте, Он оставляет гаснущую нежность, Как совесть. И — как память о мечте.Зима прошла, как сон. Добрый, приятный, снежный… Казалось, ему не будет конца, и в этом мире книг я буду жить вечно… Мне было там очень хорошо и вовсе не хотелось возвращаться.
Весной все мы почувствовали беспокойство. Но это не было тревогой… Просто нам было так хорошо, что от этого хотелось побыстрее избавиться. А сосульки в редкие солнечные дни марта переливались влажно и свежо, а лужицы под ногами хрустели хрупким мартовским ледком так, что отчего-то заходилось сердце…
И когда повеяло первым апрельским теплом, мы уехали. В выжженные солнцем причерноморские степи, к морю.
Море было большое. О нем вообще можно рассказывать бесконечно, а вот рассказать нельзя. То лукаво-ласковое, лениво томящееся под высоким, выжигающим все солнцем, то неприветливо-хмурое, ветреное, то грозное, бушующее штормами… Но всегда — прекрасное.
Там, на юге, я влюбилась. В мужчину много старше себя, женатого. Но нам было очень хорошо вместе. И к чему было думать о том, что будет дальше, если этого может не быть вовсе?..
До сентября продолжалась сплошная сказка. Море, лето и любовь. Но все сказки кончаются. А жаль.
За лето я очень окрепла и еще немного подросла. Волосы выгорели добела, сама дочерна загорела и заметила, что редкий мужчина не оборачивается мне вслед. В августе мне стукнуло четырнадцать.
Ребята-археологи нарисовали мне какие-то документы. Вернее, выправили в станичном правлении. Хиленькие, понятно, бумаги, но все же лучше, чем никаких.
В сентябре начало холодать, летнее тепло стало словно прозрачным… И тогда я встретилась с бабой Верой. Она была из Княжинска, а в станицу приехала погостить и отдохнуть к своей давней, еще с войны, подруге — Валентине Александровне, бабе Вале. Мы у нее все лето брали козье молоко.
Бабе Вере было уже за семьдесят. У нее были добрые глаза, окруженные венчиком морщин, совершенно белые, забранные под гребенку волосы, больное сердце и — никого из близких.
Как-то мы разговорились. Я тогда ходила как в воду опущенная. К моему Сергею, ну не моему, а к тому, с которым я жила, приехала жена. Женщина лет тридцати двух, подтянутая, энергичная и властная. Я ревновала. И еще — мне было стыдно. Хотя…
От бабы Веры мои переживания не укрылись. Как-то мы посидели с ней за разговором до полуночи… Потом еще раз и еще… Так уж получилось, я рассказала ей всю свою жизнь, она мне — свою… А потом… Потом — предложила переехать к ней жить. В Княжинск. Я была не то что удивлена, а… Просто настолько привыкла быть настороженной, готовой огрызнуться на все и вся, что любой добрый поступок меня удивлял или… Не знаю.
Посоветоваться было не с кем. Катьку куда-то унесло еще в середине июля. Костя Лесной Человек никакой совет был дать не способен, потому что к жизни относился как к явлению природы: пусть все идет как идет… Может быть, это и было бы самым правильным, если бы в ней не попадалось столько всякой сволочи!
И я решила ехать. Но до этого нужно было появиться и в детдоме, и в Зареченске — забрать документы и все оформить. По правде сказать, я бы и вовсе туда не поехала, если бы… Если бы не плюшевый медвежонок. Это был мой единственный друг, оставшийся из той жизни, из детства, которого я не помнила. И все же ехать туда, возвращаться было очень страшно. Я боялась, что все вернется, а то, что есть у меня сейчас, наоборот, исчезнет…
Если бы не баба Вера, я бы и не поехала. Но она настояла. Она хотела меня удочерить, и хотя я недоумевала, зачем это, она настояла. Потом я поняла: из-за квартиры. Но сначала мы съездили в Княжинск, где баба Вера обзавелась толстенной пачкой всяческих справок. И хотя она была очень старенькая, энергия била ключом: во время войны она, оказывается, сражалась в женском авиаполку ночных бомбардировщиков!
Да, там, в Княжинске, в тот приезд у меня даже произошла стычка с местной хулиганствующей молодежью… С ничейным результатом. Зато я познакомилась с очень хорошей женщиной, выручавшей меня потом много раз.
Когда приехали, наконец, в Зареченск, оказалось, что я смотрю на него так, словно этот город со всем, что в нем происходило, остался в каком-то далеком прошлом, но не в том, что действительно было со мною, а в другом, чужом, книжном… И еще — там я узнала, что ни Инессы, ни Альберта больше нет. Нет вообще. Они сгорели. Отправились на какой-то пикничок или увеселение — и сгорели в деревянной баньке. Заживо. С ними ездили две девчонки-малолетки, но они упрямо твердили всем, что спали в палатке, ничего не видели, не слышали и знать не знают. Да на них особо никто и не давил: детальное расследование этого дельца могло бы поднять со дна столько мути, что все бы районное и областное начальство перебесилось! А это никому не нужно. Новому начальнику РОВД последовал невесть с каких верхов грозный окрик: оставить деток в покое и не травмировать слабую психику допросами. Их и оставили.
А мне одна из девчонок поведала на ушко, что видела недавно Катьку Медвинскую.
Как раз в конце июля, когда банька та и сгорела. Но где и когда она ее видела — не сказала.
Мы с бабой Верой прожили в детдоме больше месяца, пока она хлопотала и выправляла все бумаги. Детки жили здесь по-прежнему неважно: новая директор Мария Григорьевна, или, как ее тут называли, Тетя-Мотя-куда-претя, человеком была незлым, даже душевным, но пьющим, а с пьяницей в начальницах, известно, ни коммунизма, ни захудалого капитализма не построишь… И еще наш сторож-дворник подарил мне свой пистолет, наградной «марголин». Сказал еще тогда странно:
— Ты побереги его, девонька… Не смотри, что маленький… А жизнь мне когда-то спас… Глядишь, и еще кому спасет… И прости меня за все, старика…
Петрович тогда заплакал, я тоже разревелась… Потом, много позже, я узнала, что через неделю он умер.
Когда я с бабой Верой уезжала, детки смотрели на нас во все глаза… И верили, все до одного верили, что их тоже оттуда когда-нибудь заберут домой…
Княжинск сразу показался каким-то весенним, хотя приехали мы туда осенью. Просто в том году была дивная, солнечная осень… И небо было глубоким и синим, не таким, как в России…
Баба Вера определила меня в школу недалеко от дома. А сама я записалась в стрелковый клуб: оружие по-прежнему вызывало у меня почему-то только добрые ассоциации… Кстати, недавно этот стрелковый клуб превратили в пейнт-больный. И обозвали сурово: «Коммандос». Хотя какие там коммандос! Банкиры в войнушку играют и краской друг в друга пуляют… Меня тоже в команду записали, даже в какую-то сборную; но, если честно, мне больше с этими людьми общаться нравилось, чем сама игра. хотя… Азартно. Но как-то пришел «повоевать» какой-то крутой спецназовец, он у одного из банкиров службу безопасности возглавлял. Посмотрел на всю эту самодеятельность, скривился:
— «Детский сад». — "Так ведь тренировка, — возразила я. Спросила:
— А на настоящую войну похоже?" А он ответил:
«Угу. Как козел на верблюда». — «Да? Только в горбе отличие?» — «Не только, — снова улыбнулся, но улыбка эта его больше на оскал походила. — Там после боя трупы собирают. Здесь — коньячок пьют. Вот и вся разница». Ну да это я отвлеклась, хотела ведь по порядку… Хотя что еще рассказывать? Ты знаешь, я ведь на подиуме работала! Сначала попала в агентство моделей: пошла из интереса, меня одноклассница притащила. А потом начала работать на показах и даже кое-какие деньги зарабатывать… Но больше всего мне нравилось, что кругом красиво! Вернее, даже не красиво — стильно. Кстати, знаешь, что означает слово «подиум»? Я специально в словаре посмотрела. Так называлась высокая платформа с лестницей с одной стороны и совершенно отвесными другими сторонами, на которых возводились античные храмы. Храмы богам, так похожим на людей, — со своими дрязгами, завистями, мелкими склоками… Олимпийские боги хоть и были бессмертными, а страсти их терзали вполне человечьи…
А у нас — все то же: бегаешь, носишься как заводная, но вот миг наступает, и ты ступаешь на подиуму полубогиней, и сотни пар глаз прикованы к тебе… Наверное, любая женщина создана для того, чтобы ею любоваться… Любая, любоваться, любовь… Даже слова одного корня… Да и коллекции — это вовсе не то, в чем нужно ездить в троллейбусе… Это просто праздник света, цветов, форм, праздник красоты, и он так нужен людям — у них ведь немного в жизни праздников, настоящих праздников, от которых, когда они проходят, в душе остается радость…
Сначала я немного дичилась… Или — боялась… Мне не хотелось больше никаких разочарований. Но… Когда нет разочарований, очарований нет тоже… А их как раз так хочется!
Да, есть еще одно определение подиума. Так называли места вокруг арены в римском цирке, обычно для высокопоставленных зрителей, с которых они наблюдали гладиаторские поединки, битвы с дикими зверьми, казни… Знаешь, это похоже на охоту. И каждая девчонка одновременно и дичь, и охотница: кому-то нужно заполучить ее, а ей, как Артемиде, нужно сделать один точный выстрел… Чтобы поверженный принц рухнул к ее ногам.
Скажешь, нет сейчас принцев? Зато королей — сколько угодно. Бензиновые, никелевые, нефтяные, алюминиевые, золотые… И среди них — так мало живых… Да и… Под всех подстилаться — хребет сотрешь.
Потом… Потом умерла баба Вера. Тихо умерла, во сне. И я осталась одна. Совсем одна. Без воспоминаний, без семьи, без прошлого… Жить одним будущим? Наверное, это только представляется прекрасным… Будущее без прошлого кажется совсем хрупким, как первозимний лед… Или будущее вообще таково? И человек может так и простоять всю жизнь, не решившись сделать шаг на этот мнимый мостик, под которым угадывается черная пузырчатая бездна…
Знаешь… Я как-то спросила Сашу Буникова: «Почему, чтобы выжить, нужно непременно стать сволочью? Или, по крайней мере, казаться ею?»
Он тогда ничего не ответил. Олег… А ты знаешь?
Гончаров молчал. Что он мог ей ответить? Ничего. Ни-че-го.
— Извини, я, наверное, эгоистка. Ты вот молчишь, а у тебя за спиной тоже немало накопилось… Просто… Знаешь, когда сидишь одна и хочешь рассказывать все это снова и снова… Когда с кем-то поделишься страхом — уже не так страшно самой…
И еще… Каждый раз, когда я рассказываю, все надеюсь: вот, сейчас, скоро я все-все вспомню… Про папу… Про маму… А ничего не вспоминается… Пусто…
Словно я и не рождалась никогда… И живу не своей жизнью… Или вообще — не живу…
Аля встала, подошла к окну, чуть отодвинула штору и замерла.
— Снег выпал… — прошептала она.
— Снег?
— Ага. Это всегда как сказка… Будто все плохое осталось в прошлом, а впереди что-то новое, неизведанное, чистое… Может быть, таким бывает счастье?..
Знаешь, как только я тебя увидела там, в ресторане… У меня было ощущение, что я тебя уже видела где-то, что я тебя знаю, что… Потом, когда мы сюда ехали в автобусе, в эту квартирку, я пыталась тебя представить… Ну, какой ты…
— И какой?..
— Ты оказался еще лучше… — Аля подошла к нему, потерлась носом о плечо. — Таким, каких сейчас уже не бывает. Только ты очень грустный. Олег… А расскажи о себе. Пожалуйста…
— Из меня плохой рассказчик. Правда. Получается всегда или долго, или совсем неинтересно. — Ты говорил, что воевал…
— Про войну? Тут вся жизнь как война…
— А все-таки.
— Я действительно не умею рассказывать.
— Ну… Так нечестно!
— Может быть, потом?
— А оно будем, это «потом»?
— Обязательно.
— Олег… А фотографии у тебя есть?
— Фотографии?
— Ну да. Семейный альбом. Ты и не представляешь, как я люблю рассматривать семейные альбомы!
— А вот семейного как раз нет. Здесь нет.
— А какой есть?
— Один — старый совсем, еще детский. Другой — армейский.
Аля вернулась на постель, села по-турецки:
— Покажешь?.. Это же здорово — иметь альбом о детстве! — Она улыбнулась. — Даже если оно было трудным.
— Да нет… У меня было нормальное.
— Тем более.
— Ты правда хочешь посмотреть?
— Еще как!
Олег встал, вынул из секретера два пухлых томика. Это не были альбомы в принятом смысле: фотографии были напиханы между плотными картонными листами безо всякой системы и порядка…
— Это ты? Ушастый какой! И беззубый!
— В первом классе…
— А здесь — черный, как негр… Знаешь, ты был очень красивый мальчик.
— Да я и сейчас ничего…
— Кто бы спорил!
Аля бережно переворачивала страницы, рассматривая черно-белые фотографии…
— Ты знаешь… Наверное, жизнь раньше была счастливее… А люди УЖ точно счастливее! У них… У них глаза другие.
— Да разные были люди… Всякие. Хотя ты права: столько дерьма на поверхности не плавало.
Она открыла афганский альбомчик — он был не в пример тоньше.
— Это ваш отряд?
— Несколько человек. Здесь не все. Вообше-то в Афгане нам строго-настрого запрещали снимать, но это попервоначалу. Да и…
— Вы после боя?
— Да.
— А чего такие веселые?
— Все живы. Тогда были все живы.
— Олег… А поле боя, оно, наверное, жутко выглядело? Гончаров пожал плечами:
— Скорее странно. Да и не подходит здесь название «поле боя». Не Бородино ведь и не Ватерлоо. Засадами работали: мы на них охотились, они — на нас…
— Я не поняла, почему «странно»?
— Когда «духи» отступали, они, как правило, не уносили убитых, оставляли. Но забирали оружие и одежду. Всю одежду. Как они успевали это сделать в бою — непонятно. На выжженной земле оставались лишь обнаженные трупы. Это… От этого бывало как-то не по себе. Особенно сначала. Потом привыкли. Человек ко всему привыкает.
Аля переворачивала страницу за страницей, рассматривая снимки. Этот лежал отдельно. Он выскользнул из пачки фотографий и упал на пол.
Аля быстро подняла. Еще не рассмотрев как следует, она заметно побледнела…
— Это Афганистан? — спросила она едва слышно.
— Да.
Гончаров тоже рассматривал снимок, думая о чем-то своем, и не сразу заметил ее состояние.
— Это после боя… Вернее… Это не бой был — побоище. Нас подставили, как колченогих щенков. Погибли все, кроме троих. Здесь нас только двое, третий был в госпитале в это время.
— Погибли все… Олег, а как звали вот этого, рядом с тобой?
— Барс.
— Барс?
— Володя Егоров. Наш командир. Девушка замерла; ее рука, державшая фото, словно ослабла разом.
— Олег… Такая фотография была у нас дома… В альбоме…
— Где?
— Так вот почему мне сразу показалось, что я знаю тебя давно… Олег… Это — мой папа.
— Барс?!
— Папа…
Глаза девушки наполнились слезами, она закрыла ладонями лицо:
— Я вспомнила… Я все вспомнила.
Часть четвертая ПРОШЛОЕ: «ТОЛЬКО ТРИ НОЧИ»
Глава 36
19 августа 1991 года, 3 часа 40 минут
Огонек вспыхивал через равные промежутки времени, вырывая у тьмы край света.
Мужчина не произносил ни слова. Женщина пыталась разглядеть его лицо в те крохотные секунды, когда вспыхивал светлячок сигареты, но видела только жесткие, хорошо очерченные губы и крутой подбородок. Все остальное угадывала: темные, почти черные уголья глаз, ямочки на щеках — они всегда словно смеялись, когда он только собирался улыбнуться… И, конечно, она представляла саму улыбку — искреннюю, белозубую, и выгоревшие на солнце вихры, и невероятную нежность сильных, загорелых рук…
В маленькой комнатке деревенского дома пахло сеном, которым был устелен чердак, в приоткрытое окно ветерок приносил ароматы ночного бора, смолы, хвои… И еще было здесь что-то неуловимое, домашнее, что и делает жизнь такой простой и понятной, отметая все несущественное, глупое, тягостное.
— Ты знаешь, Алька похожа на тебя… Даже страшно до чего… Хотя это, говорят, хорошо, когда девочка на отца похожа — счастливая будет, — произнесла женщина тихо. — О чем ты снова задумался, Егоров?
Мужчина ничего не ответил, только покачал головой. Она услышала его вздох.
— Слушай, Егоров, расскажи, какая у тебя была подружка там, в Афгане?
— Наташка…
— Не-е-ет, я не ревную, ты не подумай. Просто никогда не поверю, чтобы такой мужчина, как ты, мог бы обойтись столько времени без женщины… И, пожалуйста, не надо меня разуверять, это будет как-то нечестно… По от ношению к ней…
Только… Только и имени ее говорить не нужно, ладно? А то… Ну ты понимаешь…
Нет, ты не подумай, что я ревновала, когда ты был там… Даже была благодарна ей… Пыталась представить, какая она, и не могла… Вернее, не хотела… Мне просто казалось, что ты лежишь с нею где-то в вагончике, закрыв глаза, она ласкает тебя, а ты видишь меня… И еще — я беспокоилась… — Женщина повернулась на бок, положила голову на ладошку. — Беспокоилась, что она неумело тебя ласкает, и ты так и не сможешь расслабиться и на следующий день что-то сморозишь такое, что тебя ранят… Или, наоборот, устанешь от ее навязчивых, бурных ласк так, что назавтра чего-то не заметишь, упустишь и попадешь в госпиталь… Ты знаешь, я никогда не думала о том, что ты нас с Алькой можешь бросить или… Или — погибнуть… Ты мне не поверишь, но я знаю… Я знаю, что у нас с тобой будет как в сказках: они прожили долго-долго и умерли в один день…
Наташа наклонилась, налила из стоявшей на полу большой оплетенной бутыли в стакан, сделала маленький глоток:
— Как хорошо… Еще холодное и совсем не кислое. Будешь?
— Не-а.
— А я очень хочу пить после, ты же знаешь… Только сегодня вместо воды вино.
— Этак мы с тобою сопьемся, — произнес мужчина, и она почувствовала улыбку в его голосе. — И будет у Альки мама-алкан, папа-алкан и собака Булька.
— Собаку еще завести нужно.
— Заведем. Какого-нибудь ушастого спаниеля.
— И маме Наташе достанется еще один ребенок. А папа, как всегда, станет пропадать по делам… Которые вы, мужчины, почему-то считаете важными…
— Но ведь они действительно…
— Глупый ты, Егоров, — перебила Наташа. — Ты хоть понимаешь, что у нас праздник?
— В смысле?
— Просто праздник. Самый большой праздник за всю нашу семейную жизнь. Это первый отпуск, который мы проводим все вместе: ты, я и Алька. Ты понимаешь, как это важно?
— Понимаю, — пробурчал он.
— Ничего ты не понимаешь… Ты большой, очень сильный и очень добрый, но ты порой… Ты что, думаешь, я хоть на грош верила той белиберде, что ты писал в письмах? Про штаб, виноградник, тихие будни и теплые звездные ночи дружественного, идущего по пути социалистического строительства Афганистана?.. А сейчас? Пропадаешь постоянно, то на неделю, то на три, то на месяц…
— Не сопи…
— А я не соплю! Ладно ездил бы в те же командировки, как нефтяники или газовики… А то ведь… И не завирай только, что ты отдыхаешь на прибалтийских пляжах! Я это по загару вижу!
— Наташ, ты же знаешь, работа…
— У всех людей, кроме работы, есть еще и дом!
— Ты мой дом, — тихо произнес мужчина, наклонился и поцеловал жену в мочку уха.
— Ты и Алька. — Он помолчал немного, добавил:
— Если бы вас не было, мне стало бы некуда возвращаться. А так — я же всегда возвращаюсь. И всегда помню о вас. И пишу вам письма.
— А вот это просто здорово… Ты даже не представляешь, как мы с Алькой ждем твоих писем! Звонки — это не то. Люди привыкли перезваниваться, а я не могу привыкнуть, словно, кроме двоих, при разговоре присутствует кто-то третий… И говорить приходится о всякой ерунде, а вовсе не о том, что важно…
— А ты знаешь, что важно?
— Конечно. Важно то, что я тебя люблю. Важно то, что ты меня любишь. Ты меня любишь, Егоров?
— Да.
— Странные вы, мужики. Вы это, даже если знаете, говорить не спешите. Или боитесь показаться слабыми или сентиментальными?
Он пожал плечами.
— А зря. Для нас очень важно это слышать. Всегда. Важно то, что у нас есть Алька и что она нас любит, а мы ее… А все остальное… Кстати, у тебя отличный слог, я раньше и не подозревала… Может, тебе бросить эту бодягу и в писатели заделаться?
— Там без меня… хватает.
— Вот-вот. Егоров, почему ты такой увалень по жизни — Увалень?
— А то…
— А тебя окрутил — на раз!
— На два! Глупый, это я тебя окрутила, понял? Я! Когда ты ко мне в самоволку из училища бегал, девки наши просто от одного твоего взгляда чуть не кипятком писали! Ну как я могла не заарканить такого ловеласа? К тому же о тебе легенды ходили!
— Легенды?
— Не прикидывайся тут паинькой и не делай круглые глаза! Тоже ягненок… Ты знаешь, как тебя вахтерши в общаге институтской прозвали?! Тигра Полосатый!
— И почему?
— А ты же все время в тельняшке шастал, забыл? Тетки те так и судачили: вчерась опять приходил Тигра Полосатый девок портить! Глаза он округляет!.. Ты же, кроме нашей обшаги, полмикрорайона девок перепортил! И нет чтобы каких-нибудь давалок, а то самых что ни на есть краль! Маменькиных дочек! Просто гигант какой-то!
Немудрено, что скромная и целомудренная девушка Наташа положила на тебя глаз…
— Как на мишень?
— Угу. В хорошем смысле этого слова. Я тебя припасла.
— Чего?
— Или выпасла. Ты же в тир зачастил, а на меня — ноль эмоций. Обидно, понимаешь ли! Девушка из кожи вон лезет, девяносто восемь из ста просто играючи, с руки, выбивает…
— Так уж и играючи…
— А ты думал… А этот легендарный Дон-Жуан стоит, как финиковый пальм посреди поля… Нет, правда, Егоров, колись, почему на девушку внимания не обращал? Я и штанишки себе в полный обтяг пошила, и на голове революцию цвета устроила, а он… Думаешь, не обидно было? Не может такого быть, чтобы ты меня не замечал!
— А я замечал, еще как замечал, у меня даже дыхание перехватывало…
— Ага… И молчал, как пень. Если хочешь знать, я ревела тогда по полночи в подушку, понял?! Мучил бедную девочку, супостат!
— Даже не знал, как с тобой поговорить… Все-таки школьница была, как-то неловко…
— Во-во. С этими, из общаги, ловко было? С ними ты находил общий язык! — Женщина усмехнулась. — Опять же в хорошем смысле этого слова. А все-таки я тебя поймала, ага?!
— Ага, — мягко улыбаясь, кивнул мужчина. — Но ногу-то ты подвернула по-настоящему.
— Чего не сделаешь ради любви! Погорячилась. Зато как ты меня на руки взял и до самой машины «Скорой помощи» через двор пронес — я будто на крыльях летела. И — никакой боли, сразу прошло все. А в «скорую» тебя не пустили, помнишь?..
— Да.
— И ты поймал какую-то машину и сопровождал меня эскортом до самою травмпункта.
Чувствовал свою вину, мучитель?
— Я много чего чувствовал.
— То-то. А помнишь, как мы в первый раз, вечером, в раздевалке…
— Как-то случайно все получилось…
— Угу. Случайно. Не знаю, Егоров, какими такими делами ты занимаешься в своей грозной конторе, а только… Случайно…
— Ты же сама после свадьбы говорила…
— Мало ли что болтает девочка — до свадьбы ли, после… Важно, что она чувствует! Как говорят французы, всякий экспромт хорош тогда, когда хорошо подготовлен!
— Так ты все подстроила?
— Еще бы! — Наташа счастливо улыбнулась. — А то — дождалась бы я от тебя любви и ласки, как же! А помнишь…
— Да… — прошептал он, закрыл ей рот поцелуем, и она прильнула к нему гибко и нежно, чувствуя, как все ее тело словно растворяется, откликаясь на его ласку…
Глава 37
19 августа 1991 года, 4 часа 23 минуты
Автомобиль стоял в подлеске с выключенными габа-ритками. Весь разговор двоих записывался на сложной аппаратуре, размещенной в фургончике. Мощная, выведенная наружу антенна-тарелочка передавала закодированный, защищенный ультрасовременной системой сигнал на спутник, оттуда на антенну-приемник, расположенную на специальной вышке рядом с особняком в Подмосковье, спрятанным в вековом сосновом бору и окруженным четырехметровым сплошным забором.
В одном из кабинетов особняка за столом расположился тяжелый, обрюзгший мужчина.
Остатки волос были зачесаны пробором на куполообразную лысину; набрякшие под глазами мешки и тяжкие брыли делали его похожим на старого, списанного бульдога-переростка; сходство дополнялось брюзгливо выпяченной вперед нижней губой и маленькими, глубоко посаженными глазами. Но взгляд их был зорок и скор.
И вообще, любой, кто мог бы усомниться в мгновенной решительности этого человека, сокрушавшего своих врагов со стремительностью стенобойного тарана, допустил бы главную ошибку в своей жизни. Смертельную.
Массивные плечи обтянуты толстым твидом, живот подпирает крышку стола, движения вялы и неторопливы. Мужчина не торопясь налил в высокий стакан минеральной воды до краев, выпил, шумно выдохнул, словно кит… Никиту Григорьевича Мазина так и называли за глаза: Кит. С жестким, акульим норовом. Этот, кажущийся неповоротливым и вялым, как дохлая рыба, и безучастным, как монумент, хищник жрал все и вся, что только попадало под взгляд неспешных и темных, будто зрачки пистолетных стволов, глаз.
Он включил приемник, покрутил ручку настройки. В комнате громко и гулко зазвучали слова диктора:
«В связи с невозможностью по состоянию здоровья ио полнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР… в целях преодоления глубокого всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза… и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядки ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок до шести месяцев с четырех часов московского времени девятнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто первого года…»
Мазин приглушил звук, криво усмехнулся, пробормотал:
— Страшилка какая-то… И прилагательных перебор, вы не находите, Краснов? — Мазин поднял взгляд на стоявшего перед ним человека. Еще раз шумно выдохнул, закурил ароматную, сделанную по спецзаказу папиросу, заботливо уложенную в картонную коробочку «Три богатыря». Выдохнул:
— Это их игры. А мы вернемся к нашим баранам. Слушаю вас.
— Мы их разыскали, Никита Григорьевич.
— Ну и?..
— Установили аппаратуру.
— Чисто?
— Да.
— Кто устанавливал?
— Местный пастух. Он вхож в дом: снабжает семью Егоровых ежедневно парным молоком. Он пришел в дом днем, когда Егоров с женой и дочерью были на речке.
— Что он там всобачил?
— Самонастраивающиеся сверхчувствительные микрофоны РС-190.
— Пастух… Может, он их просто сложил под стол? Пастухи — народ бесхитростный.
— Он был проинструктирован. Ему было предъявлено нашим сотрудником служебное удостоверение и разъяснена исключительная государственная важность операции: разоблачение вражеского шпиона. Пастух забросил микрофоны на чердак, в мусор.
Дом дощатый, этого при чувствительности РС-190 вполне достаточно для квалифицированного прослушивания и записи.
— Где он сейчас?
— Егоров?
— Нет. Этот мастер выпаса телок.
— Он скончался. Принял слишком большую дозу алкоголя и умер.
— Грамотно.
— О смерти его еще никому не известно.
— Как только хозяйки выгонят своих коровок…
— Буренок поведет подросток-подпасок. У пастуха и раньше случались запои, так что все достоверно. Его смерть обнаружится через день-два, может, раньше, но вряд ли кого удивит: очень естественно.
— Вы уверены, что Егоров ничего не?..
— Да.
— Он прекрасно подготовлен, и у него исключительное чутье.
— Нам это известно.
— Ну да, ну да… Что же тогда вы не могли найти его почти неделю?
— Он выбрал «случайный вариант». Это всегда невозможно просчитать. Пришлось провести весьма кропотливую работу: по всем вокзалам Москвы были…
— Можете не продолжать. Я представляю себе… — насмешливо прервал его Мазин. — Меня больше интересует другое: там не крутились эти ребята?.. С Ходынки?
— Нет.
— Уверены?
— Абсолютно.
— Похвально. Если вы что-то упустили, Краснов…
— Я понимаю, Никита Григорьевич.
— Чтобы вы понимали яснее: вас в случае провала этой операции не просто устранят, вас тепленьким скормят бездомным кабульским псам… Знаете, есть у тамошней голоты такое развлечение… А то — воронам в ущелье… Горло и голову жертве обматывают так, чтобы птицы могли достать только глаза, но ни в коем случае не умертвить раньше времени… Связывают… Оголяют низ живота… Эти черные хищные птицы не торопясь расклевывают сначала половые органы, долго и медленно вскрывают живот, лакомятся внутренностями… А смерть все не приходит: сутки, трое, четверо…
Глаза Кита мечтательно закатились, казалось, он просто-напросто смаковал рисуемую им самим картинку… И хотя стоявший перед ним сорокапятилетний мужчина был не из слабонервных, ему стало не по себе.
Его можно было бы назвать красивым. Иссиня-черные густые волосы окрасила у висков седина, нос с горбинкой, хорошо очерченные губы… Если бы… Если бы не выражение странной, чуть слащавой жестокости, какое бывает у капризных детей, развлекающихся в отсутствие родителей нанизыванием пойманных на стекле мух на раскаленную докрасна иголочку, бросающих беспомощных, с оборванными крылышками насекомых в жестянку, в которой матово, свежо переливается расплавленный свинец…
И еще — его портил шрам. Прошедший через все лицо рубец словно разделил лицо на две независимо существующие друг от друга половинки; опытные хирурги-пластики изрядно потрудились, но эту странную асимметрию устранить так и не смогли. Лицо Григория Краснова было похоже на отражение в разбитом наискосок зеркале: словно правая его часть принадлежала серьезному, жесткому, преуспевающему мужчине, а левая тому самому капризно-балованному ребенку, выросшему, но оттого не ставшему менее слащавым или жестоким. Говорят, шрамы украшают мужчин. Но при взгляде на лицо Краснова у хозяина кабинета, как и у многих, несмотря на правильные, почти классические черты, в голове рождалось только одно слово — урод. И прозвище Красавчик казалось самой злой из насмешек, какую только возможно было для него выдумать. Но обычно его называли еще короче: Крас. Постепенно кличка стала и оперативным псевдонимом; тем более самому Григорию Валентиновичу это его имя напоминало что-то древнеримское… По крайней мере, ему было приятно думать именно так.
Хотя… Был он высок, прекрасно тренирован, обладал атлетическим сложением, и тело его только-только начало приобретать свойственную годам грузность. Так что нередко первое, достаточно неприятное впечатление скоро забывалось, а оставалось и закреплялось мнение, что перед вами сильный, уверенный в себе мужчина, которому когда-то не повезло, но он сумел не только выстоять, но и преуспеть.
— Вы подготовились к варианту устранения?
— Да. Но люди еще не выдвинуты.
— Выдвигайте.
— Группу «Экс»?
— Да. — Никита Григорьевич помедлил, закурил новую папиросу. — И вот еще что…
Егоров при огневом контакте крайне опасен. — Он пожевал губами. — Крайне. И эта его жена… Заметьте, она — мастер спорта международного класса…
— Мы учли это, Никита Григорьевич.
— Вот и славно.
— Прикажете начинать немедленно?
— Начинать — да. Но… устранение — только по моей команде. Егоров уверен в том, что никто его еще не нашел?
— Судя по поведению и по разговору, да. Ну и…
— Что?
— Во многом нам просто повезло. Мы могли его и не разыскать. А после вот этого всего, — стоящий кивнул на продолжающий передавать обращение к советскому народу радиоприемник, — начнется такой тарарам, что…
— Вам повезло, Крас, вам. Вы догадались, что я не шутил ни о вашей особой ответственности, ни о… э-э-э… способе наказания в случае провала?
— Да.
— Вот и славно. Тем не менее — повременим. Нам необходимо узнать, кто его контакт на Ходынке. Невзирая на подобные, как вы выразились, «тарарамы», в определенных ситуациях система срабатывает строго и однозначно, как буек револьвера. Что еще?
— Мы выявили все его возможные контакты и по Афгану, и здесь…
— Мне не нужны догадки, мне нужно знание. Точное знание. Как вы думаете, он может быть откровенным с женой? По такому вопросу?
— Возможно.
— Вот именно — возможно. И эту возможность грешно было бы не использовать. Вы наладили трансляцию?
— Да. Вы можете прослушать их разговоры хоть сейчас. Защита по системе «Омега».
Такой аппаратуры нет даже в АНБ.
— Такой нет. Но, может быть, есть подобная?
— Ничего подобного тоже. Мы опередили их лет на двадцать.
— И это радует. — Мазин помедлил, приказал:
— Отправляйтесь лично. Возьмите «эксов» и контролируйте ситуацию. Решение о ликвидации по моей команде.
— Есть.
— Да…Естественно, зачистка полная. Устраните самого Егорова, его жену и дочь: так достовернее. Лучше, если произойдет несчастный случай: потоп, пожар, камнепад — не вас учить. Они остановились у хозяйки? Нет, дом необитаем. Просто Егоров выехал из Москвы и погнал, что называется, наудачу. Дом ему сдал под тот же пастух. Его вроде как за сторожа на зимне-весенне-осенний период к нескольким домам подрядили. Приезд же Егоровых для него обычный калым. Все равно хата пустует.
— Тем лучше. Многолюдная деревня?
— Куда там! По зиме — всего-то пяток домов обитаемых на постоянку. Двенадцать откуплены москвичами под дачи; сейчас лето, к старикам наехало ребятни, но всего — не более пятидесяти человек на весь населенный пункт.
— «Населенный пункт», — с усмешкой повторил Мазин. — Как называется «пункт»?
— Сосновое Поле. Расположен на границе Калужской и Тульской областей.
— Ну-ну… Странный у нас народец… Ведь бывает или поле, или сосновый бор… А Сосновое Поле… — Мазин. опустил руку ладонью вниз. — Действуйте!
— Есть.
Краснов скрылся за дверью. Мазин открыл стол, извлек папку, положил перед собой.
Извлек верхнюю страничку.
С фотографии смотрел загорелый мужчина с выгоревшими добела волосами. Все данные. Краткая справка на бланке ПГУ КГБ СССР. Адресат: Отдел региональных проблем ЦК КПСС.
"Егоров Владимир Семенович, 1954 года рождения. Закончил Н-ское общевойсковое высшее командное училище, прошел полный курс спецподготовки в Центре в г.
Балашиха Московской области, после которого был направлен в распоряжение Отдела спецопераций Первого главного управления. Работал в проектах «Алъкор», «Ренессанс», «Памир». В 1983-1984 гг. прошел дополнительный курс спецподготовки в гг. Хорог, Беслантюбе, Акмола, а также особый курс в поселке Острог-18. С 1985 г . введен экспертом-руководителем в проект «Бумеранг» (отработка методики особых операций в зонах XX). В 1986-1988 гг. куратор проекты «Бумеранг» с сохранением полномочий эксперта-испытателя. В 1989 г . командирован в распоряжение группы "Н".
Свободно владеет английским языком. Умеет объясниться на фарси, урду, пушту, дари.
Имеет воинское звание «майор».
Награжден тремя правительственными наградами.
С 1989 г . в резерве Отдела спецопераций ПГУ КГБ СССР".
Следующая справка куда короче, на чистой мелованной финской бумаге без каких-либо грифов. Только размашистая собственноручная подпись человека, входившего в ареопаг — Политбюро ЦК:
"В 1988-1989 гг. введен в проект «Снег».
19.02.1989 назначен оперативным куратором проекта «Снег».
22.05.1990 назначен старшим оперативным куратором проекта «Снег» по северо-восточному Афганистану и северо-западной пограничной провинции Пакистана (Пуштунч стан).
5.11.1990 назначен старшим оперативным куратором проекта «Снег» в республиках Средней Азии и Казахстана.
19.06.1990 присвоено воинское звание «подполковник».
Оперативный псевдоним «Барс».
Мазин закрыл досье. Поднял трубку аппарата спец связи:
— Гаспар вызывает Краса, прием.
— Крас слушает Гаспара, прием, — отозвался Краснов В серой «Волге» он катил в сторону Москвы.
— У меня для вас уточнение: задействуйте всю группу «Экс». На полную катушку.
— Есть. Но…
— Что — но?
— Я обязан предупредить… В связи со сложившимися обстоятельствами…
— Это не обстоятельства, это… — Никита Григорьевич замолчал, пытаясь подобрать выражение, — советский цирк! В самом балаганном варианте! Конец связи.
— Конец связи.
Мазин уселся в кресло, нажал кнопку дистанционного управления. Засветился экран телеприемника. Цирк… По набережной неуклюже маневрировали похожие на гигантов-жуков танки.
Бардак, — зло процедил он сквозь зубы. Вышел в соседнюю комнату, надел наушники, прикрыл глаза. Слышно было так, будто разговаривали в соседней комнате.
Глава 38
19 августа 1991 года, 4 часа 32 минуты
— Нет, скажи, Егоров, ты правда помнишь? Все же столько лет прошло… — Женщина влюбленно смотрела на мужа, и он чувствовал ее взгляд.
Добавь еще — трудных. А то… А я все равно тебя люблю. Очень-очень. Учти, ив, это редкое качество в женщине. Мне не хотелось, даже когда тебя не было долго-долго… Зато теперь .. Нет, ты правда не забыл? Не-а…
Наташка была мастером спорта по пулевой стрельбе малокалиберного пистолета, как раз тогда готовилась какому-то открытому республиканскому турниру и шла первым фаворитом. Ее тренер Степан Михайлович Степанов договорился со своим старым приятелем, военруком школы, чтобы она практиковалась по вечерам прямо там: тира своего у школы не было, но, построенная в начале шестидесятых, она была оборудована прекрасным бомбоубежищем, основой которого служил длинный коридор.
Бомбоубежище задраивалось тяжеленными дверьми, в дном конце коридора ставился металлический лист, на втором закреплялись мишени: стреляй не хочу! Пистолет и патроны Наташка попросту таскала с собой в портфеле: нарушение, конечно, но ничего не нарушишь — и ничего не достигнешь, этому девизу ее тренер, бывший снайпер Степанцов следовал сам и любил повторять его подопечным.
Володя Егоров тогда практиковался в стрельбе из пистолета. Ему на ближайших курсантских соревнованиях предстояло выполнить норматив кандидата в мастера, и он старался каждый день выбивать хотя бы десять серий; в училище изучали совсем другой тип стрельбы, Володя же хотел, кроме всего, «поставить руку», наработать школу. Учиться оставалось полгода, диплом и лейтенантские погоны были не за горами, а потому руководство училища сквозь пальцы смотрело на его «художества» со слабым полом: гусарство в училище негласно поощрялось, проделки записных буянов становились изустным преданием, и новые поколения курсантов воспитывались на них не меньше, чем на изучении специальности, штудировании уставов или политподготовке.
Ну а люди из заинтересованного ведомства обратили внимание на перспективного молодого человека по другому поводу: он мастерски уходил от любых передряг, какие случались в бурной курсантской жизни; столкновения с хулиганствующей молодежью города, разборы с милицией — все это было, но с поличным Егорова никто ни разу не задержал, ускользал с «места происшествия» он мастерски, проявляя дерзость и хладнокровие, оставляя после себя поломанные челюсти и выбитые зубы противников и никогда не попадаясь сам блюстителям порядка. Однажды его, казалось, уже точно «прижали к стенке»: блокировали набранной из ППС группой захвата на последнем, четвертом этаже общежития гидромелиоративного техникума.
Да и еще светила ему статья за сопротивление внештатным сотрудникам, коим он по легкомыслию имел неосторожность набить полуофициальные лица при исполнении до полной отключки здесь же, перед общагой, некоторое время назад… Впрочем, внештатники не представились, но для милиции тех времен это вряд ли бы послужило оправданием; в любом случае права бы ему никто зачитывать не стал: как минимум, отметелили бы как верблюда. А то и статью навесили.
Брать нарушителя спокойствия вышли хорошим составом, даже с собакой: Тигра Полосатый попортил ментам много крови, и с ним решили разобраться под шумок очень показательно, чтобы иным кадетам впредь неповадно было… Хорошо, успела шумнуть одна из девчонок — поднялась мигом в комнату подруг, успела крикнуть:
«Вовка, менты!»
Когда «группа захвата» всем составом сгрудилась у хлипкой общажной двери и та была вышиблена напрочь грозным ударом кирзового сержантского сапога, в означенной комнате были обнаружены только две совершенно голые девчонки, отчаянно визжащие на всю общагу и прилегающие окрестности, распахнутое окно и спортивные мужские трусы с лампасами — на тумбочке у одной из кроватей.
Володя за ту пару минут, что блюстители выдвигались на четвертый этаж, успел набросить джинсы и майку, сунул ноги в кроссовки (дежурная форма для самоволок хранилась у него в каптерке, а потому за забор училища он выходил всегда в полном цивиле) и шагнул в открытое окно, успев послать воздушный поцелуй обоим подружкам. Быстро прошел по узенькому парапету до угла здания, выдохнул и что есть силы оттолкнулся ногами. Тренированное тело пролетело метров семь вперед и вниз, и Егоров жестко вломился в ветви стоявшего не так далеко пирамидального тополя. С треском, царапая лицо и руки, обдирая кожу чуть не до костей о жесткий ствол, проскочил по инерции почти до самой земли, завис на руках и одним прыжком очутился на земле.
Глянул вверх: блюстители порядка и нравственности ; пока не появились; чуть морщась от боли, прихрамывая, свернул за угол и только тогда услышал самозабвенный визг девчонок — это был ему сигнал, что дверь выставлена. А значит, девчата сейчас разводят бодягу насчет проникновения к ним хулиганствующих пьяных милиционеров, председатель студсовета общежития Серега Гирин, давний собутыльник Егорова и компаньон по беззаботным рисковым выходкам, поднимает самый что ни на есть базарный кипеш, грозит дозвониться важным ментовским начальникам и жаловаться, жаловаться. Девчонки же, почти в чем мать родила, мечутся по коридору с воплями, стенаниями и воем, подобающим случаю.
Короче, концерт но заявкам хора имени Григория Веревки с редким по тем временам бесплатным стриптизом!
Володя тем временем выбрался на улицу имени красного командира Щорса, стопорнул частника и ринулся в училище, полагая, что борцы за чистоту нравов не угомоятся…
Они не угомонились. Когда в полчетвертого утра по взводу объявили подъем и построение, Володя бодро стоял в строю и беззаботно и безгрешно поглядывал на толстого милицейского майора, стоявшего рядом с командиром взвода.
* * *
— Курсант Егоров, выйти из строя! — зычно приказал комвзвода капитан Нечипорепко. Володя сделал положенное количество шагов вперед.
— Где вы находились между двадцатью тремя и двумя тридцатью?
— Во сне, товарищ капитан! — бодро ответствовал Володя вислоусому Нечипоренке.
— Во сне, говоришь? — Милицейский майор приблизился к курсанту, светло-голубые глаза навыкате по-крабьи уставились ему в лицо. — А где же ты так поцарапался?
— Порезался при бритье, товарищ майор!
— Все шутишь… А руки там же, при бритье, спалил? кивнул он на замотанные свежими бинтами кисти.
— Неудачно выполнял упражнение на перекладине, товарищ майор!
— Вот что, клоун… Теперь, если кто-то из патрулей встретит тебя в городе, ты у меня выполнишь упражнение удачно, это я тебе обещаю… — просипел майор тихо. стоя рядом, почти вплотную. — И из славных вооруженных сил тебя отчислят по состоянию здоровья… А перекладину… Перекладину ту ты у себя из задницы будешь долго вынимать, понял, курсант?
— Как не понять, товарищ майор, — так же тихо ответил Егоров. — На всякую хитрую жопу — свой болт с резьбой. — Чуть помолчал и добавил:
— И наоборот.
Майор хмуро развернулся и отчалил. Курсанты загомонили весело: историю с неудавшимся захватом и прыжком с верхнего этажа общаги-сталинки знал уже весь взвод.
— См-и-ирна-а-а! — прорычал капитан Нечипоренко. после того как проводил майора милиции. И сказал речь Краткую, но содержательную. Смысл ее, если убрать идиомы, сводился примерно к следующему: «Я вам дурак или кто? Лезете, куда понятия не имеете! Одно подытожу; я вам все время спускал сквозь пальцы, но впредь, если я кого-то за что-то поймаю, то это будет конец!»
— О чем задумались, Егоров? Вы же курсант! — Капитан остановился напротив Володи.
— О Китае, — не моргнув глазом быстро ответил тот.
— О Китае?
— Так точно. Нам товарищ подполковник как раз на политзанятиях рассказывал. И знаете, что выходит?
— Что? — недоверчиво, ожидая подвоха, переспросил капитан.
— Китайцы — умный народ. Но не все. Капитан долго и пристально смотрел на Егорова, произнес тихо, зловеще:
— Смирна-а… Два наряда!
— Есть два наряда.
— Кругом! Встать в строй! — Задумчиво посмотрел вслед Егорову. — Тоже мне Калигула… — выдавил он, добавив, впрочем, известное отглагольное прилагательное, а потом и продлил тему с привлечением всего словарно-ругательного запаса не только братских русского и украинского, но и всей индоевропейской языковой группы…
…В самоволки Володя Егоров ходить не перестал, но уже явно перебесился и сократил число матримониальных связей до прожиточного минимума: у милицейского майора хватило бы власти и сволочизма сильно подпортить карьеру будущему офицеру, а то и прервать ее до начала. Гореть на такой мутате ему не хотелось.
Тем более… Удача привлекает всех, неудачники не нужны никому.
В серьезном ведомстве оценили удачливость Егорова. Как и его умение «работать с людьми»: Тигру Полосатого не заложили ни бабульки-вахтерши, ни девчонки. Самое удивительное, даже те, с кем отношения его не сложились или прервались.
«Редкий талант», — подытожил подполковник Кузнецов и принял решение. Подходил Егоров по всем статьям, но имелось одно упущение: Володя не был членом партии.
На четвертом курсе училища будущие офицеры вступали в ряды КПСС, как и положено, взводом. А Егоров как раз в те поры замотался по соревнованиям, забегался…
Потом про него просто забыли, и, когда перед выпуском стали подъезжать «купцы» за наиболее ценным человеческим материалом, это упущение было мгновенно обнаружено. И — исправлено в течение недели. Беседовавший с Володей визитер в штатском помимо прочего настоятельно порекомендовал вести себя до окончания курса пристойно и — жениться. "Ту карьеру, какую вы можете сделать при нашем содействии, естественно, своим трудом, талантом и упорством, не стоит губить.
Право, не стоит. Такой билет выпадает далеко не каждому, даже за жизнь. Вам — выпал. Мы не торопим и решение оставляем за вами".
И он принял решение.
Но отлучки в тир не возбранялись, были делом законным: Володя Егоров несколько лет с блеском защита. честь училища в соревнованиях по рукопашке, и, когда он увлекся стрельбой, руководство дало зеленый свет.
А в тот вечер они оказались в тире вдвоем. Созвонились заранее, Наташа сказала, что несколько ребят вместе с ней идут пострелять. Встретив его у остановки автобуса, она несвязно что-то рассказывала… Мария Петровна, уборщица, живущая в комнатке при школе и предупрежденная военруком, открыла им и запустила в подвал. Зажгли свет, установили мишени. Наташа сказала, что ребята придут позднее.
Начали стрелять. Девушка безбожно мазала. Пули с визгом рикошетили от стен.
— Ну не знаю, что такое сегодня. — Дыхание ее было нервным, в горле стоял соленый ком: ну почему, почему он опять не обращает на нее никакого внимания, совсем?
У Володи дело тоже ладилось слабо: пули ложились вразброс. А еще… Было что-то тяжелое в том, что длинный бетонный тоннель убежища отделял их от остального мира… Будто уже навсегда.
Стреляли они по очереди. Настроение девушки все более и более портилось, а Володя… Ему вдруг показалось. что они остались только вдвоем среди чего-то пустого и враждебного, и эти черные, расплывающиеся кружочки — вовсе не мишени, и нужно обязательно попасть, изрешетить их пулями, иначе…
Выстрелы гулким эхом отдавались в бетонном подземелье, и ему впервые пришла тогда в голову мысль: каким бездарным делом они занимаются теперь…
Тренируются… Для чего? Она — для победы в соревнованиях, а он? Если быть честным, он — чтобы… Ну да. Когда-нибудь на месте этих кружочков будут люди, и он, Володя Егоров, станет их убивать.
Стоп! Слов «люди» никогда, никогда не употреблялось при обучении! Находились другие: «гражданское население», «ограниченный контингент», «группа быстрого развертывания»… Не употреблялось почти и эмоциональное «враг», проще и легче — «противник», нечто неодушевленное, почти механическое, слово, к которому так легко прибавить другое — «условный». Ну а если условный, то и занятие, которому его обучали пять лет, — не сама война, а просто игра, как в детстве…
— Все, не могу больше! — Наташа опустила оружие. — Ничего не получается! День, что ли, такой?
— Ничего, он скоро закончится. — Володя глянул на фосфоресцирующий циферблат:
— Уже одиннадцать.
— Ото!
— Так мы пришли почти в девять.
— Ну надо же! Летом всегда так, не угадаешь с этим временем!
— Что-то Марья Ивановна нас не погнала…
— Да она уже спит давно: встает-то в пять.
— Так сейчас каникулы, зачем ей?
— Не знаю, — пожала плечами девушка. — Привычка, наверное. — Она помолчала, спросила:
— Тебе нужно в училище?
— Мне нужно было в училище два часа назад. Сейчас уже нет. В любом случае, милая девушка, я провожу тебя.
— А я и сама не боюсь! Тем более со стволом! — задорно заявила Наташа. Володя посерьезнел:
— Брось, Наташка. Ты же все равно не сможешь выстрелить в человека.
— Не-а. Не смогу. Но напугаю до смерти! — Девушка быстро упаковала оружие, патроны в сумку. — Егоров… Раз уж ты не спешишь, подожди меня еще минуток десять, ага?
— Да запросто!
— Пойдем!
Они поднялись из убежища-тира, прошли пустой и гулкий школьный коридор. Наташа чувствовала, как у нее захватывает дыхание и наворачиваются слезы: она помнила.. как ходила по этому коридору еще первоклашкой с четырехугольным ранцем за плечами и мешком со сменной обувью, и тогда стены казались ей огромными, а верхние этажи школы, где обитали старшеклассники с длинными, под Битлз, волосами и пробивающимися усиками, виделись совсем другим, недостижимым, взрослым миром… А теперь…
— Мы выйдем через спортзал, там дверь на защелке, ага?
— Как скажете, милая девушка.
— Только я в душик забегу, это пять минут. А то.. А то как-то чувствую себя после такой стрельбы… Ничего?
— Я покурю пока.
— А капля никотина — убивает!
— Я же не лошадь!
— Не-а. Ты — Тигра Полосатый! Дашь затянуться?
— Спички детям…
— Сам ты дите! — Девушка скрылась за маленькой дверцей.
Она разделась, запустила воду, зажмурившись, стала под прохладный душ… Слезы потекли сами собой, девушка прикусила руку, чтобы он там, за дверью, не услышал… Казалось, все напряжение этого странного вечера выливалось теперь солоноватой влагой из глаз. И вместо него появилось какое-то новое, неизведанное чувство, что сейчас ей подвластно все-все на этом свете, что стоит ей только вот так, нагишом, выйти из дверей спортзала, и она легко оттолкнется от земли и поплывет туда, вверх. в потоках теплого летнего вечера, купаясь в напоенных ароматом скошенной травы струях, а город будет спать где-то там, внизу, и все люди этой ночью увидят только хорошие сны и будут счастливо очарованы и сегодня, и всегда…
Она прогнулась всем телом, почувствовав тепло в груди, и тепло это разливалось вниз, пульсировало, согревало… Девушке казалось, что губы ее разбухли от сухой жары, она жадно хватала капли влаги… И еще… Она вдруг впервые с такой силой ощутила юную гибкость собственного тела, словно она была травинкой, стелющейся веткой ивы, тонким солнечным лучиком, играющим блика ми по воде малой безымянной реки… Володя не слышал, как дверь открылась; он увидел упавшую на пол полоску света, обернулся… Девочка стояла перед ним нагая и смотрела в глаза; губы были приоткрыты, словно она желала и никак не могла пронзнести единственное, тайное, заветное слово…
Мужчина застыл, девушка сделала шаг к нему, еще…
— Только не отталкивай меня, пожалуйста, — произнесла девушка едва слышно.
— Я тебя люблю, — прошептал он те слова, что Наташа так долго ждала. И почувствовала, как стало легко… А он… Он произнес их впервые в жизни…
…Его руки ласкали ее то нежно, едва прикасаясь к упругой коже кончиками пальцев, то властно, будто желали подчинить ее, и без того покорную, новой, незнаемой прежде силе… Она гладила кудлатую голову, чувствуя, как его губы скользят все ниже, закрыла глаза и словно полетела в теплых, невесомых воздушных струях, пахнущих ключевой водой и травным покосом… Потом… Все тело пронзило неизведанное наслаждение боли, волна острого восторга охватила все ее существо, она словно взлетала все выше, на неведомый ник, кусая губы, боясь криком спугнуть то, что будет прекрасней всего, испытанного ею в шестнадцатилетней жизни… И потом… Потом будто громадная волна ударила, обволокла, затопила с головой, когда не можешь ни дышать, ни видеть, ни слышать ничего, кроме собственного крика-стона, стона высокого, небывалого наслаждения…
Через год они поженились, а еще через год родилась Алька.
Глава 39
19 августа 1991 года, 5 часов 52 минуты
Транспортник из Москвы прибыл полупустым. Всю дорогу Григорий Краснов внимательно слушал «вражьи голоса». Похоже, Кит прав: советский цирк, да и только. Слава КПСС, что сам он оказался в нужной связке: то, чем занималось их подразделение, вполне может в самом недалеком будущем принести деньги. Огромные деньги. А с большими деньгами — совершенно наплевать, какой строй на дворе и какие реалии, как говаривает меченый генсек. А вот интересно, как бы смотрелось пятно на лысине в оптике прицела?..
На аэродроме уже ждали три машины: крытый брезентом «ГАЗ-66» с надписью «Научно-изыскательская» и эмблемой Академии наук СССР и два потрепанных «жигуленка» с форсированными движками. И «газон», и легковушки принадлежали местному управлению; но к собственно операции никто из здешних привлечен не был.
Впрочем, никто особо и не рвался: происходящие события казались профессионалам изрядной мутью, и извозиться в этой мути никто не хотел — отмываться потом долго. То, что операцию «столичных гастролеров» немедля связали с начавшимися в Москве событиями, было даже на руку Красу и его людям: разбираться потом в том, что произойдет, никто здесь тоже не захочет.
«Эксы» быстро побросали амуницию в «газон», разместились сами. Группу «Экс» сформировал постепенно сам Никита Григорьевич Мазин, как он выражался, «из калечных и убогих». Нет, со здоровьем у парней было все нормально, но по типу психики они были теми, кого викинги называли берсеркерами, законопослушные граждане — отморозками, а этнологи — пассионариями. Почти все они в Афгане баловались «травкой»; люди Мазина отыскивали таких по госпиталям и подразделениям, привлекали в особую группу и уже там подсаживали влютую, уже на героин. Выполняли они поручения самого гнусного толка: карательные операции.
Многим далеким от войны людям, знающим об этом предмете по романам Вальтера Скотта, это показалось бы «неспортивным», но в условиях партизанской войны карательные акции были таким же атрибутом боевых действий, как и анаша, повальная желтуха, спирт, грязь восточных базаров… В группу «Экс» отбирались не все: только те, кто сумел проявить исключительную, безразличную жестокость и утвердился в своем праве убивать. Этот наркотик был посильнее героина. Да и…
Парни тоже вовремя поняли: пути куда-то назад, в жизнь добропорядочную. у них нет, а скорее, и не было никогда. Ну что ж… На игле, как и на войне, тоже люди живут, и живут очень нескучно!
Официально отряд именовался «группой специальных операций», с восемьдесят девятого использовался исключительно по проекту «Снег», особого названия, как и особого учета, не имел; бойцы считались людьми довольно-таки низкой квалификации, вернее даже — вовсе сбродом по сравнению с «Альфой», «Вымпелом» или «Гранатом». Но Никита Григорьевич Мазин имел на эту боевую единицу свои виды: он внимательно следил за развитием событий в стране и полагал в недалеком будущем официально отряд расформировать, а неофициально… Как бы там ни было, такие люди в твоем личном подчинении порой куда эффективнее, чем целый отдел К деревне Сосновое Поле добрались через полтора часа. Ориентировались на позывные маяка машины прослушивания и тем не менее минут сорок проплутали: свернули на едва заметный проселок и. как казалось, проехали полный круг.
Никакого соответствия с предоставленными местными особистами подробнейшими крупномасштабными картами не было.
— Не иначе — лешак водит… — прокомментировал водитель.
— Не говори чушь, — резко отозвался Краснов — По карте нужно правильно ориентироваться. Да и на маячок идешь, не вслепую! Идиот!
Водитель пожал плечами: дескать, вы — начальство, вам виднее. А только сам он родился да детство провел в лесах на Брянщине, в маленькой деревушке, у бабки с делом: родители погибли в Ташкенте в шестьдесят шестом при землетрясении. Про леших там, под Брянском, знали все: не задобришь, так и из лесу можешь не вернуться. Да и в Афгане в том — тоже свое: шайтаны, горные джинны.. Те вовсе грозные: раз решат пакость натворить, своим ли, местным, чужим ли, пришлым, — пиши пропало. А наши лешаки, эти баловные: просто из озорства закрутят, замутят путника, а там уже — как Бог даст: то ли откреститься от них да на дорогу выберешься, а то — так и пропадешь в лесу ли, в болотах тех…
На моею прибыли в восьмом часу. Дом. в котором расположились Егоровы, стоял крайний от леса: это облегчало задачу. «Эксы» выслушали приказ, скрытно оцепили хлипкое строение полукольцом, взяли под прицел все входы и выходы. Работенка предстояла непыльная — они бы справились в пять минут, но нужно было ждать приказ.
Краснов забрался в микроавтобус-фургон с аппаратурой, включил спецсвязь:
— Я Крас, вызываю Гаспара, прием, — Гаспар слышит Краса; прием.
— Готовность к акции.
— Вас понял, есть готовность. Ждите приказ.
— Есть ждать приказ. Коней сзязи.
— Конец связи.
* * *
19 августа 1991 года, 7 часов 12 минут
— Егоров, ты чего такой сумрачный? — спросила Наташа, приподнимаясь на подушке.
— Да так…
— Нет, не так! Я хоть пару часиков вздремнула, а ты совсем не спал, я же вижу!
Вон, окурков полная пепельница!
— Минздрав предупреждает…
— Володя, прекрати! Что с тобой?! Тебя что-то тревожит.
— Нет.
— Не ври! Я что, не знаю, когда ты врешь? Да я это просто чувствую! И где ты бродил, пока я спала? Я же слышала, ты просыпался…
— Курить.
— А чего тебе здесь не курилось?
— Да захотелось вот выйти, — улыбнулся мужчина. — По самой что ни на есть нужде.
— Да? А почему у тебя глаза такие тревожные?
— Это с недосыпу.
— Так кто тебе спать мешает?
— Никто, малыш, не заводись…
— Да не завожусь я, Володька… Просто… Просто мне тебя жалко… Тебя мучит что-то, сильно мучит, и не только сегодня, ты думаешь, я не замечаю ничего?
Когда ты вдруг сказал пять дней назад нам с Алькой: «Собирайтесь!» — я ведь ничего у тебя не спрашивала, даже куда едем, я была просто счастлива, что хоть раз за столько лет уедем, отдохнем вместе… Подумала, ты устал, а тут, в тишине, развеешься, рыбку половишь, отоспишься и снова веселым станешь…
Знаешь, Егоров… Вот что я заметила: ты давно перестал быть веселым… Очень давно. Раньше, даже когда из Афгана в отпуск приезжал, у тебя улыбка с лица не сходила… Нет, я не то говорю, ты и сейчас улыбаешься обалденно, вот только…
Только глаза у тебя усталые, смертельно усталые глаза, и они никогда не улыбаются, и я совсем измучилась от этого… Не знаю, чем ты сейчас занят по работе, но нужно что-то делать, тебе или мне… Ведь у тебя колоссальное нервное напряжение, я же чувствую, оно копится, оно выхода не получает, и я боюсь, ты когда-нибудь просто свалишься — с инфарктом или чем похуже! Егоров, так нельзя!
Нельзя! Плевать я хотела на всю вашу контору и государственную безопасность в целом, если они так к тебе относятся, что ты улыбаться разучился! В конце концов, это нечестно быть таким и несправедливо, ни я, ни Алька этого не заслужили, Егоров… Так нельзя… Мы же любим тебя…
Наташа жалобно всхлипнула, отвернулась липом к стене, заплакала в подушку.
Егоров ласково поладил плечи жены, но сказать ему было нечего: Наташка была права, Полностью права.
Ночью он действительно выхолил. В комнату к Альке. Дочка спала, разметав льняные, выгоревшие на солнце волосы, обняв обеими руками подушку; губы с вечера так и перемазаны вишневым соком. Рядом, у стенки, полинявший плюшевый медвежонок: его Егоров подарил дочурке, когда той было еще два с половиной года, и с тех пор она с ним не расставалась. А на гумбочке, у кроватки, — черный игрушечный пистолет и десяток настоящих металлических гильз от мелкаша: девчонка не ходила в садик, Наташка таскала ее с собой в тир. Первоначально Егоров пытался протащиться, но жена произнесла иронично: Егоров, то. чем занимаюсь я, — просто спорт, а то, чем занимаешься ты, — совсем не хобби .. Пусть уж Алька привыкнет к тому, что оружие хоть и не игрушка, но я не орудие убийства!"
«То, чем занимаешься ты. — совсем не хобби…» Когда-то он считал, что это работа. Важная, необходима всем людям, живущим в стране. Это был его долг.
Вернее… Вернее, он и сейчас считал, что это его долг и что его работа необходима, вот только…
Да. Он сделал все правильно, но… Тот ли выбрал способ… В любом случае Наташка имеет право знать. Он не говорил ей ни о чем раньше, не желая загружать ее кудрявую головку лишними проблемами, но теперь… С тех пор как он написал подробный рапорт… Просто… Просто если он прав в своих выводах, а все указывает на то, что он прав. то никакое незнание не спасет его жену., . И — хотя об этом я подумать было страшно — и его малышку, Эти люди играют но своим собственным правилам. Ну что ж… А он станет играть по своим. Удар лучше встречать с открытыми глазами. Выстрел — тем более. Наташе нужно знать. Все.
Женщина оторвала от подушки заплаканное лицо:
— Егоров, прикури мне сигарету, что ли… Извини, что я так разнюнилась… Но, честное слово, это просто жутко ощущать, когда твой любимый мучается чем-то, а ты никак, никак не можешь ему помочь…
Владимир передал жене дымящуюся сигарету, закурил сам.
— Ты права, зайка. Я должен был тебе все рассказать раньше. Вот только я полагал, что все это наши, конторские игры… И еще — хотел убедиться сам… И в том, что не ошибаюсь, и в том… — Мужчина затянулся, спалив сигарету почти на треть. — По-моему, я совершил ошибку.
— По работе?
— Не вполне. Вернее…
— Егоров, чего ты не имеешь права говорить, не говори… Не нужны мне никакие военные или государственные секреты…
— В том-то и дело, что это тайна не государственная, а наоборот.
— Как это — наоборот?
— Антигосударственная. Вернее даже, антинародная.
— Егоров, вы свихнулись там все! «Антинародная тайна»! Такое впечатление, что без поисков всяческих врагов ваша контора просто болеет!
— Погоди, Наташка, не заводись… Наша контора, может, и не лучше подобных в других странах, но и не хуже, уж ты мне поверь на слово. Ни по методам работы, ни по всему остальному. Совсем не хуже. И как бы ни складывалась жизнь, понятие «государственная безопасность» существовало, существует и будет существовать всегда. Если мы не станем защищать наши интересы…
— Егоров, не устраивай мне ликбез! Я все понимаю, не дура! Но то, о чем трындят по радио с самого утра, — это полная придурь! Развалилось все, а среди этих старперов нет ни одной яркой личности!
— Наташка, ты о чем?
— Как это — о чем? Ты что, не знаешь?
— Не знаешь — чего?
— Вот блин! Да все утро передают! Я выбегала на Альку глянуть, в кухню наведалась, радио там не выключено, бубнит вполголоса…
Женщина подошла к висевшей в углу комнаты с незапамятных времен черной тарелочке, покрутила:
— Слушай.
«…Политика реформ зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние… Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна по существу сгала неуправляема… Потоки слов, горы заявлений и обещаний только подчеркивают скудость и убогость практических дел. Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей…»
— Что это такое? — удивленно приподнял брови мужчина.
— Егоров, снова овцой прикидываешься? — недоверчиво глянула Наташа, но удивление мужа было совершенно искренним, тут она не ошиблась.
— Так что случилось-то? Ты сообщение с начала слышала?
— Да ничего особенного, — пожала она плечами. — Объявили какое-то чрезвычайное положение.
— По всей стране?
— Да вроде того…
Женщина помолчала немного, сказала, словно про себя:
— Странно… Значит, твоя тревога связана не с этим?
— Нет. Я боюсь за тебя и за Альку.
— За Альку… — произнесла одними губами Наташа, и было видно, как побледнело ее лиио. — Егоров, что произошло?! Это поэтому мы так спешно выехали из Москвы?
— Да.
— Нас что, будут искать?
— Думаю, уже ищут.
— Кто?
Мужчина прикурил от бычка новую сигарету.
— Кто, я тебя спрашиваю?!
— Контора.
— Вся контора?! При таком тарараме? Им что, больше занять себя нечем в такое судьбоносное времечко?!
— Наташка, подожди… В любой конторе всякие люди работают… И в той неразберихе, что началась даже не с пришествием Пятнистого, а много раньше, многие стали работать вовсе не на державу, а на себя…
— Подумаешь… Эка невидаль… Это нормально — работать на себя.
— Но только не ценой жизни людей!
— Каких людей?
— Многих.
Володя замолчал, собираясь с мыслями.
— Егоров, ты не темни! Я же говорю, н не дура и не нюня! Давай колись! В чем суть проблемы, что угрожает Альке?
— Погоди… Как бы попроще… — А не надо попроще! Давай сначала! Мужчина одним движением затушил сигарету:
— Хорошо. Сначала так сначала Несколько лет назад меня ввели стажером, а потом оперативным куратором в один проект. Название проекта очень поэтичное:
— Снег.
Глава 40
19 августа 1991 годи, 8 часов 01 минута
Никита Григорьевич Мазин чиркнул кремнем, прикурил папиросу, пыхнул несколько раз и только потом сделал глубокую затяжку… Нет, то что расскажет Бирс своей жене, его ничуть не волновало: решение о ликвидации принято, и оно будет исполнено. Запись разговора он уничтожит. А что касается операции «Снег»… Он скосил глаза на экран телеприемника… Строгая дикторша в который раз зачитывала обращение ГКЧП к советскому народу:
«…Давно пора сказать людям правду: если не принять срочных мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен голод и новый виток обнищания… Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину насилия и беззакония…»
Никита Григорьевич даже крякнул — эка завернули: «в пучину насилия и беззакония». Вот только маховик раскручен, его уже не остановить. А текст писал талантливый борзописец…
«Бездействовать в этот грозный для Отечества час — значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические. поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем независимым и процветающим, должен сделать правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, всех людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени».
Никита Григорьевич снова хмыкнул… М-да… Писака блестящий, а вот поди ж ты, смешал стили: «гр-р-розный сор-р-рок пер-р-р-вый» и «люди доброй воли» — это из двух разных времен. А люди, они живут чувствами, никто не будет вдумываться в содержание, всех сразит стиль: снова без меня меня женили. Ну что ж… А что нам говорит пресса? Мазин раскрыл газету «Правда», просмотрел внимательно, страницу за страницей. Кажется, когда подписывался номер, правдисты не были посвящены в планы высоких лиц, подмахнувших обращение… Но кто-то должен был быть посвящен… Нет, не в их планы, в суть происходящего… А если повнимательней?..
Мазин начал просматривать газету тщательно, материал за материалом… Взял номер за субботу. Ага, ну вот. Программа передач. В девятнадцать сорок по первой программе сегодня заявлен художественный фильм «Только три ночи».
Только три ночи…
Мазин усмехнулся. Как говаривали римляне: «Умному достаточно». Только три ночи… Это означает, к двадцать второму сия бодяга закончится полной победой организаторов действа. Нет, совсем не тех, кто подписался в состав органа с идиотской аббревиатурой; авторитета у него никакого, и хотя начинается название со слов «государственный комитет», выражение «чепе» имеет у нас совсем уж мелкотравчатый смысл; чепе — это когда педколлектив судачит о скоротечно забеременевшей незамужней учительнице-первогодке или, упаси Бог, ученице-старшекласснице, а уж никак не «критический для судеб Отечества час».
Тем самым в стране имеет место быть хорошо подготовленный государственный переворот, но возглавляет его вовсе не Янаев, Крючков, Пуго и иже с ними…
Фигуры уж больно никакие, особенно первый. Миша Меченый подобрал себе «вице» как раз по признаку «никаковости»: всю жизнь Геннадии Иванович возглавлял при комсомольцах Комитет молодежных организаций; сей орган люди серьезные тоже использовали удобненько для специфических целен разведки, но посвящать Гену Янаева в них никто не считал нужным. Возглавляют другие, их публика пока не знает или знает плохо… По — скоро узнает. Вполне. Или… Или не узнает никогда. Уж больно .мастерская разработка. А если задуматься о «судьбоносном процессе» в целом — то и давняя, весьма давняя, потребовавшая изрядных денег и огромной мощи; одной государственной мощью Штатов здесь явно не опошлись.
Три дня и три ночи. Умному достаточно. Как и посвященным. когда сидеть тихо и страдать «под. пятой коммунистического произвола», когда — кипеж подымать, лезть со знаменами на трибуны и бросаться грудью на амбразуру обкомовских дверей, благо ни пулеметов, ни пулеметчиков там отродясь не было. Итак, двадцать первого августа наступит «момент истины», а двадцать второго — торжества по случаю освобождения от супостата. Речи, биения в грудь, клятвы народу… Ну и конечно. танцы: бордель все-таки!
Судя по всему, после этой клоунады начнется легкое или не очень буйство профессионально подогретой демократствующей толпы. Под этот хорошенький шумок можно будет просто-напросто изъять все материалы о «Снеге». Они исчезнут бесследно, как уже исчезли люди, занимавшиеся проработкой «тропы»… Останутся только те, кто насмерть повязан… Вот именно, насмерть. И здесь, в Москве, и в Казахстане, и в Узбекистане, и на Украине, и в Афганистане, и во многих других местах… Как говорится, по городам и весям. Большие деньги делают людей послушными, они похожи на марионеток, подвешенных на тонких ниточках, и одетые в черное кукловоды абсолютно незаметны на (фоне черных портьер… Нет, публика знает об их наличии, может сколько угодно представлять их очертания, но знать наверняка — нет.
Итак. птенчик запел… Вернее, грозный, несокрушимый. умный Барс — он стал ручным котенком в руках этой женщины… Впрочем… Это большое счастье, если у мужчины есть женщина, с которой он может почувствовать себя котенком. Быть беспомощным, быть беззащитным, быть любимым и любящим. Хотя… Куда лучше — выбирать самому. Женщин, которые полностью в твоей власти, края, где ты можешь чувствовать себя ханом или шейхом… Людей, для которых ты — Бог, потому что именно ты распоряжаешься не только их талантом или успехом, их нищетой или роскошью, их славой или безвестностью, но их бытием или… небытием. Их жизнью и смертью. Сладостней этого ощущения нет ничего: ни близость красивейших женщин, ни вкус изысканных вин — ничто не может заменить власти.
Никита Григорьевич Мазин знал, за что сражается… Жить на пенсию отставника организации, которую в скором времени обзовут каким-нибудь гестапо, он не собирался. Химеры, называемые «долг», «честь», «благородство». его не увлекали и раньше, а в сложившейся ситуации — подавно; Мазина серьезно волновали лишь три понятия: жизнь, смерть и власть.
Вполне благородное занятие для немолодого мужчины. Ну а поскольку оно позволяло ощущать еще и вкус тех самых изысканных вин и любовь тех самых изысканных женщин, то…
Мурлыкай, Барс, мурлыкай… Чем скорее ты назовешь имя человека с Ходынки, тем скорее исчезнешь… Естественно, в мир иной. лучший, горний, да еще и не один, а с милой женушкой и сопливой дочкой. Живите своим растительным стадом там, а в этом жестоком мире не место ни барашкам, ни агнцам. Особенно тем, что решили поиграть в хищников.
Хищник должен думать только над тем, как захватить большую территорию и отстоять ее… Этот Барс — не хищник. Его волнует судьба баранов. Так пусть разделит их судьбу. До конца. Такая уж баранья доля — служить кому-то кормом. Аминь.
* * *
19 августа 1991 года, 8 часов 07 минут
— Снег… Что это? — спросила Наташа.
— Наркотики. Героин, морфий, опиум. Но в основном героин.
— А при чем здесь ваша контора?
— Наркотики — это оружие массовою поражения.
— Ну конечно… А водка тогда — страшнее ядерной войны…
— Не я это придумал. В свое время англичане в Непале выращивали опиумный мак в огромных количествах. Рынком сбыта стал прежде всего Китай. Китайцы возмутились; прошли три англо-китайские опиумные войны, самые настоящие, прежде чем англичане утвердились в своем праве эксплуатировать этот рынок сбыта.
— Ну и что? А Китай-то стоит до сих пор. Великая держава.
— Тем не менее тогда Поднебесная попала в тяжелую и долговременную зависимость.
— И это из-за наркотиков?
— В том числе. Страна была расчленена, и снова Китай объединил полностью только Мао Цзэдун.
— А Тайвань?
— Политика — штука тонкая. И укладывается не в годы, а в века. Порой — в тысячелетия.
— Слушай, тебе по пекинскому радио можно выступать!
— Зря иронизируешь. Главная заслуга Великого Кормчего — в объединении страны.
Режимы приходят и уходят, единая страна остается.
— Ну а при чем здесь ваша контора?
— Видимо, кто-то решил учесть опыт.
— Англичан?
— Не только. Страны Востока — дружественная нам Индия, исламские режимы — производят огромное количество наркотиков. И наркокартели получают доходы, вполне сравнимые с прибылями крупнейших и мощнейших мировых корпораций. Причем не облагаемые никакими налогами. Слышала о «золотом треугольнике»?
— Только что слышала, не больше.
— А больше и не надо. Именно там производится две трети потребляемого в мире опия. Переработанный в героин, он приносит хозяевам десятки миллиардов долларов.
И губит миллионы жизней. Только в Европе годовой оборот наркобизнеса составляет 124 миллиарда долларов США. Годовой объем сбыта наркотиков в мире — около трехсот тысяч тонн.
— Так я, не пойму: что, кто-то решил перевести ваше заведение на хозрасчет и зарабатывать этим деньги?
— Не совсем так. Мотивировки были политические. И подкинул их кому-то из руководителей или комитета, или даже ЦК кто-то из восточных друзей. Или зарубежных, или наших среднеазиатов, — Да? И кто именно?
— Этого я не знаю. Хотя могу примерно просчитать время: год семьдесят шестой. Я тогда как раз в училище поступил.
— Почему семьдесят шестой?
— Первое серьезное обострение болезни Брежнева. Наверное, этот некто использовал возможность подать идею таким образом, что генсек одобрил ее, не особенно вникая.
— По-моему, он никогда ни во что не вникал.
— Наташка, ты совсем взрослая девочка, чтобы судить о людях так поверхностно. А о государях в особенности.
— Володя, ты уже совсем взрослый мальчик, чтобы не быть всегда таким серьезным.
Это я стебаюсь.
— Чего?
— Иронизирую. Сленг. Так что там подписал дорогой Леонид Ильич?
— Полагаю, ему была предложена программа… Знаешь, эти восточные режимы не просто наживают деньги на поставке наркотиков, скажем, в США или Западную Европу. По их разумению, так они борются против «мирового сатаны». Белый порошок уносит жизней в год куда больше, чем все локальные войны, имеете взятые, причем он убивает людей в сытых, благополучных странах, убивает, не разбирая ни чинов, ни званий, ни регалий, ни могущества родителей, не беря в расчет ни интеллект, ни талант. Цель может быть сформулирована примерно так: «они» навязывают бедным азиатам локальные войны, эмбарго и другие тяготы, те… Те лишают их будущего.
— Мне всегда казалось, что наркотики употребляет определенный сорт людей…
— Не очень привязанных к жизни?
— Ну. вроде того. Какие-нибудь хрипящие рокеры, бродяги, неудачники по жизни…
— У неудачников по жизни и бродяжек нет денег на «белое бессмертие». Они довольствуются спиртным.
— Нет, погоди… Вот ты говоришь, англичане наводнили Китай опиумом, и ничего.
Китайцы сумели и объединиться, и повоевать, и сейчас очень неплохо движутся… А возьми Штаты пятнадцатилетней давности! Да там курить марихуану было просто модой! Казалось, из этих хиппи, поколения «ленивых бунтарей», не вырастет ничего путного, а что на деле: стали те вьюноши примерными отцами семейств и жесткими, расчетливыми бизнесменами, политиками, военными. Прагматиками. И с удовольствием вспоминают те времена, когда трахались под каждым кустом с такими же обкуренными подружками на каком-нибудь рок-фестивале… По-моему, ты драматизируешь… От водки кончается куда больше народу.
— Это пока. Водку и употребляют практически все.
— И все же…
— Нет, Наташа. Это ты упрощаешь. В программу «Снег» входили и научно-исследовательские институты…
— Даже так!
— Да. В семидесятые если что и делалось, то делалось очень серьезно. Особенно при наличии санкции Генерального.
— Помню. Но и дури хватало.
— Как везде. Так вот… — Егоров замолчал, собираясь с мыслями, закурил сигарету. — Это было замечено давно: и водка и наркотики по-разному действуют на белых, желтых и черных., .
— В твоих устах «белокурой бестии»…
— Брось, Наташка, ты же знаешь, что я не расист. Просто такова реальность.
Индейцев Северной Америки уничтожили вовсе не карательные походы колонистов или выстрелы лихих ковбоев, а «огненная вода». Любой азиат, начинающий потреблять волку, спивается, как подросток, за два-три года. Из десяти начинающих систематически употреблять спиртное азиатов спиваются все десять. Что, кстати, произошло не только с «ихними» индейцами, но и с нашими доморощенными чукчами и камчадалами.
— Понятно. Генотип такой.
— Кстати, возможно, именно поэтому пророк Мухаммед запретил своим последователям употреблять вино.
— Угу. Они все больше коньячок предпочитают, как я могла заметить.
— Тем не менее… Восточные люди могут курить гашиш, опиум годами, безо всяких существенных подвижек, как наши так водочку кушают. А вот белый человек подсаживается на наркоту крайне быстро и, к сожалению, почти всегда необратимо.
В девяносто восьми случаях из ста.
— Егоров, так что с этими двумя? Они тоже потом станут наркоманами?
— Не-а. Не успеют.
— Почему это?
— Помрут от запоя.
— Ага. Если ты шутишь, значит, не все так страшно.
— Все достаточно противно, Наташка. Наркотики в у отличие от алкоголя принимать начинают совсем молодые ребята; для них «пыхнуть» или «ширяться» — не настолько попытка «кайф догнать», сколько желание принадлежать к некоему избранному кругу, у которого от окружающих есть и свои тайны. К тому же прием наркоты завязывается и на групповуху, что в зеленом возрасте — очень даже стимулирующий фактор.
— Наверное, и не в зеленом тоже? — хмыкнула Наташа. — Но — одни любят арбуз, другие — свиной хрящик. Егоров, тебе-то какое до всего этого дело и зачем вообще ты во все полез?
— Вообще-то случайно.
— Как это — случайно? В вашей системе бывают еще случайности?
— Да их везде навалом! Все началось с командировки в Афган, помнишь?
— Еще бы! Егоров, ты что, так все годы службы наркотой и занимался?
— Нет. Я разным занимался. И в Афган попервоначалу попал как чистый практик и долго не мог привыкнуть к тамошней работе.
— Практик — в чем?
— Наташка…
— И не щурься! Сказал "а", говори "б". Ну и все другие буквы. Думаю, ничего ты уже не нарушишь, если расскажешь мне что-то. Причем никаких тайн военных мне не надо, я же сказала…
— В засадах я работал.
— В засадах?
— Спецназа. Все просто: сидишь в укромном месте и ждешь караван «духов». Пока не дождешься…
— И — что?
— И — все. Потом уничтожаешь живую силу противника, а материальную часть захватываешь.
— Как-то… Как-то у тебя все не по-настоящему получается…
— Зато у Хемингуэя по-настоящему.
— Иронизируешь?
— Нисколько. Война — это грязь и кровь. И много боли. Больше ничего там хорошего нет.
— Совсем?
— Не совсем. Есть еще и дружба, и верность. Иначе просто не выжить. — Егоров закурил, сделал несколько глубоких затяжек и одним движением затушил сигарету в пепельнице. — Это было в восемьдесят шестом. Засада была серьезная. Мы захватили три машины. У меня был приказ сразу по ликвидации живой силы связаться с базой и вызывать прикрытие. Один из автомобилей оказался поврежден. Разрушенным оказался и контейнер, находящийся в кузове. Большой такой. В нем… В нем оказалось около семисот килограммов героина. Пусть и скверно переработанного.
Потом согласно приказу вызвал «вертушки», доложил с повреждениях. Потерь среди личного состава у меня не было.
Вертолетов налетело столько, сколько не бывало на прикрытиях войсковых операций.
Из двух выскочили бойцы спецгруппы… Знаешь, об этом не любили говорить ни в газетах, ни в воспоминаниях потом, но такие были.. Они выполняли самую грязную работу. Совсем грязную. На войне… На войне и ее нужно кому-то делать. Кто-то должен.
Они затарили в грузовой вертолет контейнеры. Никто кроме этих ребят и нас. не знал, что в них. Мы вернулись на базу. Но, как выяснилось, остальные наши группы с этой базы уже убрались, только мы… А той же ночью… Той ночью был мощный налет. Вот именно, мощный.
Обычно «духи» нападали втихую, и никогда — на базы спецназа. Слишком были бы велики их потери при любом исходе операции. А здесь… Сначала они обстреляли нас из минометов и орудий, потом — из тяжелых пулеметов. Мы пытались вызвать помощь, но ничего не вышло…
— Что-то с рацией?
— Не совсем так. Даже пока рация действовала, мы не могли добиться внятного приема…
— Может быть, ваши враги выставили радиопомехи?
— Может… Но… Такой аппаратуры у «духов» не было, это точно.
Володи замолчал, глядя в одну точку. Закурил, сделал несколько затяжек, продолжил:
— В живых осталось трое. Трое! Из тридцати здоровых, молодых парней! Ни одна «вертушка» не пришла, даже когда рассвело, ни один бронетранспортер! Никто!
— Володя… — Женщина мягко положила ладонь на руку мужа.
— Я спокоен, Наташка. Сейчас я спокоен. Втроем мы ушли в горы еще затемно и затаились. Нас бы тоже перебили, но здесь уже случай. Часов в одиннадцать мы заметили километрах в семи небольшую группу. Одеты они были как «духи», но когда я наблюдал за их передвижением в бинокль, то сумел рассмотреть лицо одного из них. Это был… Короче, это был командир группы спецназа ГРУ. Тогда я просто-напросто встал во весь рост, дал длинную очередь из «калаша» в воздух, потом начал махать руками. Хм… Хорошо, что попросту не подстрелили сгоряча…
Вместе с ребятами мы вышли через трое суток в расположение базы спецназа ГРУ.
Вертолет за нами прислали через пару часов. А еще через два дня со мною встретился некий товарищ…
К ЭТОМУ времени у меня накопилась масса вопросов. Первый: каким образом «духи» смогли за полсуток организовать такое хорошо подготовленное нападение на базу?
Подтянуть технику, сосредоточиться, а наши при этом ничего не заметили, а?
Второй: почему нам не подошли на выручку? Как удалось узнать, силы были, силы вполне мобильные, и очень недалеко: стоило нас поддержать огоньком или броней, и группа осталась бы цела. И третье: с базы ГРУ «домой» мы долетели в целости и сохранности только потому, что пилот… самовольно изменил полетное задание.
Капитан Игнатьев… В Афгане он был пилот милостью Божьей, плевать хотел на любое начальство… Потому, наверное, и выжил…
Первым делом, как взлетели, он отключил рацию, глянул на нас: "Мужики, мое дело — вас в цельности доставить, так? Потому «косяка» давить нечего, у всех свои протечки в чердаке. Мы должны лететь через Западный отрог, но мы там не пойдем.
Не знаю почему, но не пойдем. Страшно мне там идти, поняли? Так что… — Потом приложился к фляжке. — Ну что, как говаривал Юрий Алексеевич, поехали!" — «Какой Юрий Алексеевич?» — «Так Гагарин! Юрке попроще было, по нему из всех видов не палили. Хотя — как знать…» Он круто развернул машину, и мы понеслись на юг, прижимаясь к невысоким горам, чуть не задевая брюхом каменистые склоны… Ну так вот, на другой день со мною беседовал человек…
— Некий товарищ?..
— Нет, он представился, только… Знаешь, Наташка, «неким» его назвать сложно.
Увидев его однажды, вряд ли когда забудешь. Для нашей конторы такое лицо…
— Красавец мужчина?
— В смысле?
— Лицо выразительное?
— Трудно сказать. Наверное, раньше оно и было приятно-неприметным или даже красивым, если бы не шрам. Словно лицо когда-то располосовали в лохмотья бутылочным остовом…
Глава 41
19 августа 1991 года, 8 часов 23 минуты
При этих словах Крас, сидящий в фургончике и слышащий каждое слово в комнате, усмехнулся, но совсем невесело. Больше всего это было похоже на гримасу даже не боли — ярости…
…Случилось это в шестьдесят седьмом. Красу тогда едва исполнился двадцать один год, он с блеском учился в МВТУ им. Баумана и мог бы считаться во всех отношениях удачником, если бы… Ну да, ему до скандала не везло с девушками.
Казалось бы, всем вышел: и статью, и спортсмен, и лицо, тогда не обезображенное шрамом, было приятным, его даже сравнивали с Аленом Делоном, правда… Правда, глядели при этом словно жалеючи, будто природа взялась было лепить нечто исключительное, да и не доделала… С отроческих лет он проводил много времени у зеркала, пытаясь понять, в чем он, этот невидимый изъян… Самому себе он нравился. И волосы он носил по тогдашней моде, до плеч, и деньги водились…
Почему же?..
С девками не выходило ничего путного. Трижды он добирался с партнершами до постели, но каждый раз у него было ощущение, словно он просто потерся обо что-то липкое и влажное вроде нечистого махрового полотенца из общественного сортира…
Нет, те, с кем он имел дело, ему не нравились, а те, от кого он мог бы потерять голову, избегали его ухаживаний с настойчивостью… Да и нравы тогда были вполне пуританские по сравнению с нынешними: его однокурсники один за другим обзаводились семьями «по залету», и он думал о себе: может, оно и к лучшему?..
А случилось это, когда ему стукнуло двадцать два. Была вечеринка у однокурсницы Кристины.; выпивали, слушали «Битлз», танцевали… Время близилось к одиннадцати. студенты добропорядочно откланивались и отбывали. А Гриня Краснов — набрался. Очнулся в три часа, в трусах, рубашке и галстуке, лежащим на узенькой тахте рядом с какой-то женщиной. Он встал, крадучись пробрался в туалет, натыкаясь на столы и стулья; из другой комнаты слышалась возня; он заглянул в приоткрытую дверь: на широкой деревенской кровати развлекались втроем Вадик Александров и сестры Ветлицкие, хозяйки дома. Его словно обдало паром; лицо покраснело, дыхание участилось, он провел рукой по трусам, чувствуя набухшее естество. Но вдруг стало даже не совестно, а неприятно: во тьме копошились три потные фигуры, и он почувствовал и досаду, и зависть гораздо острее, чем желание.
Собственно, сестер было трое; старшая, Элеонора, как он понял, — это его соседка по постели, и по всем критериям она на семь статей ниже сестричек; а особенно хороша младшенькая, Анджелка, сводная первым двум. Четырнадцатилетняя нимфетка с длиннющими ногами, распущенными по плечам белыми, крашенными гидроперитом, волосами и взглядом зеленых глаз таким, будто персона мужского пола для нее существо высшее, иррациональное, почти марсианин… Этот шалый взгляд распутной недотроги, дикарки с острова Лесбос, впервые увидевшей мужчину, заводил с пол-оборота и пацанов-ровесников, и взрослых, ну а добропорядочных семьянинов предпоследней молодости доводил до такого состояния, что они бросали к ногам предмета страсти деньги, карьеры, семьи…
Мысль о том, что эта гибкая, дразнящая дикарка сейчас кувыркается голышом в постели с его приятелем, да еще и в компании сестры Кристинки… Кристинка, та была тоже очень ничего, а вот старшая… Почему жизнь так несправедлива?
Крас зашел в туалет, потом, по-воровски оглядываясь, прокрался к бару в секретере, нашарил в нем чудом оставшуюся бутылку виски: энзэ Ветлицкого-старшего, настрого запрещенный к распитию. Так же, втихаря, засел на кухне, отвинтил пробку, с мстительной радостью решив: раз у них свои развлекухи, мы им устроим подлянку. Налил себе в чашку, хлебнул. Поморщился. Вкус хваленого виски больше всего напомнил ему смесь самого сивушного самогона и одеколона;
Краснов поморщился, стараясь не вдыхать, выпростал всю чашку, налил снова, выпил до дна. Теплая ленивая волна настигла мгновенно…
Что было потом, он помнил смутно. И то, как вошел, пошатываясь, в комнату, где развлекались сестры с приятелем, и то, как, то и дело прикладываясь задницей об углы, стягивал трусы… Память сохранила почему-то только хищно выпяченные губы Анджелки, когда она, взвесив на ладони бездействующее «мужское достоинство»
Краса, словно базарная торговка — гроздь винограда, презрительно выдохнула: «Не стоит. И стоять не будет. Зато как висит!» Потом залилась истерическим смехом, выдавив из себя: «Пошел вон, коз-з-зел!» Гриня вернулся в зал, рухнул ничком на незастеленную тахту и мигом вырубился.
Снова он проснулся часа через три. Во всех четырех комнатах было тихо; единственное, что ощущал Крас, это стоящее колом «орудие» и дикую, безотчетную ненависть. Он вошел в комнату, зажег верхний свет: любовники спали. Одним движением сбросил одеяло со всех троих.
— Тебе чего, козел? — спросила вскинувшаяся Кристина, а он с силой, с оттягом ударил ее кулаком с лицо. Девушка разом откинулась с дивана.
— Гриня, ды ты оху…
Приятеля Крас просто-напросто вытряхнул из постели единым рывком, схватив одной рукой за разом треснувшие трусы, другой стиснув шею, словно тисками…
— Хриня… — успел прохрипеть тот, а Крас одним движением ударил парня о стену с такой силой, что тот сполз на пол уже в беспамятстве.
Как ни странно, возбуждение вовсе не прошло, только усилилось. Гриня неловко упал на проснувшуюся, еще плохо соображавшую Анджелку, резко развел ей ноги, притянул к себе и двинул бедрами… Сам он не почувствовал ничего, кроме боли, девчонка же заорала громко и резко, и он вогнал свой кулак в рот… Потом развернул спиной к себе, схватил за волосы, вывернул голову назад так, что едва не сломал позвоночник… Девушка сдерживала крики окровавленным ртом, а он насиловал ее долго, жестоко. Потом… Потом она потеряла сознание… А он продолжал, пока не зарычал тяжко, освобождаясь от переполнявшего семени…
Когда он встал с постели, в дверях застыла старшая, Элеонора, и смотрела на него круглыми от ужаса глазами. Вся постель была в крови.
— Да ты… Да ты ее порвал! — Девушка быстро глянула еще раз, прищурилась, произнесла тихо:
— Таких, как ты, убивать надо!
Крас вскочил, выбросил вперед руку. Голова Элеоноры дернулась, девушка рухнула на месте, заливаясь кровью.
Пошатываясь, Гриня прошел в кухню, молча приложился к бутылке с виски, выдохнул и тогда впервые в жизни почувствовал небывалое, колоссальное расслабление…
Опустил глаза вниз: все его «хозяйство», как и руки, было в крови… Похоже, он засадил вовсе не в ту дырку, а потом действительно порвал девчонку руками…
Ничего, будет знать, кто здесь козел, а кто — коза трахнутая…
Крас сидел умиротворенно, прикрыв глаза, переживая новые, небывало приятные ощущения… В ушах словно, стоял крик этой девки, и он почувствовал вновь пробуждающееся возбуждение… Глотнул из бутылки… Сейчас он отдохнет чуть-чуть и снова оттрахает эту козу, теперь уже точно куда положено… И еще… Еще — он снова услышит, как она зайдется криком от непереносимой боли, почувствует, как будет рваться из его рук, но вырваться уже не сможет…
Его разбудил звонкий шлепок по лицу. Щека словно загорелась. Крас открыл глаза: перед ним, зажимая пах каким-то полотенцем, стояла Анджелка. В глазах ее была боль.
— Сама пришла, сучка… Понравилось… — пролепетал он одними губами, чувствуя от горячей пощечины нарастающее желание…
Девушка скривила губы, и по ним он прочел одно слово:
— Коз-з-зел…
Ничего сделать он не успел. Полупустая квадратная бутылка обрушилась ему на голову. Плечи усыпали осколки, руки сотрясла судорога, полуоглушенный, он попытался привстать, но девушка резко ткнула его «розочкой» прямо в лицо, еще, еще… Он упал на пол, сгруппировался, пытаясь защитить глаза от ударов, чувствуя прилипающие к рукам лоскуты кожи… Острая боль в паху — и он провалился в ночь, потеряв сознание…
Как ему повезло, он оценил потом. Во-первых, эта стерва не достала до глаз, во-вторых, только поверхностно порезала пах и низ живота. В-третьих, она рассекла-таки ему бедренную вену, он залился кровью и мог бы вполне кончиться там, на полу богатой квартирки, если бы не заявился совсем по случаю Ветлицкий-старший. Нелегкая принесла его из командировки на два дня раньше срока. Наконец, Крас мог бы схлопотать длиннющий срок за изнасилование, да еще в извращенной форме, а тогда, в шестидесятые, с насильниками в зонах особенно не церемонились, и петь бы ему весь срок «петухом»… Но папашка девиц, служивший по департаменту иностранных дел какой-то средней важности шишкой, от этой идеи отказался априори. Анджелка была ему не родная; к тому же скандал мог вспыхнуть нешуточный: при судебном разбирательстве неизбежно всплыли бы подробности вакханалии, что было бы расценено как влияние .тлетворного Запада; в семье пусть и не самого удачливого, но дипломата такие вещи были недопустимы — это разом бы поставило крест на и без того не блестящей карьере товарища Ветлицкого.
Владлен Степанович сам сделал инъекции обезболивающего и Анджеле, и Красу, развез их на собственной машине по районным больничкам, что уже было немалым риском… Впрочем, обошлось. То, что все участники этой истории будут молчать о происшедшем, он не сомневался. А врачи… Он выбрал таких, для которых слова клятвы Гиппократа не были пустым звуком, — идеалистов в те времена было хоть отбавляй.
Как удалось узнать потом Красу, Анджела, как и он сам, обошлась без тяжелых уронов здоровью: в провинциальной больничке в родильном отделении ее аккуратно зашили; наверное, какой-нибудь сильно замороченный доктор еще и констатировал притом: «Бывает хуже».
У Григория же на память о буйном сексе остался дурно заживший (райбольница — не институт красоты!) багровый рваный рубец, шрам, разделивший его лицо подобно трещине во льду. И еще… Еще он так и не смог забыть то ощущение дикого, не поддающегося никаким объяснениям и не страшащегося никаких последствий восторга, когда он рвал тело девушки на части, когда она, безвольно сникшая в его руках от нестерпимой боли, замерла, а он продолжал терзать ее, словно дорвавшийся до добычи изголодавшийся зверь…
Ему хотелось повторений.
Впоследствии никакая близость с женщиной не приносила ему даже половины того небывалого, жестокого наслаждения, что он испытал тогда, с Анджелой. Прошло несколько лет, прежде чем он, ведущий инженер одного из «почтовых ящиков», сумел повторить тот, первый опыт. Опыт он повторил, но ошибку — нет. Девчонка, голосовавшая на дороге, которую Крас подсадил и увез в лес, уже никому ничего не скажет. Никогда.
И еще он узнал большее наслаждение: когда ты не только первый мужчина, но и последний… А шею ей он сломал легко, как пластмассовой кукле, она даже почувствовать ничего не успела… Нет, он, Крас, был не садист — просто так обстоятельства складывались.
Потом появился Мазин.
Собственно… Собственно… третью девку, Нину Болтовскую, эффектную шатенку с васильковыми глазами, старшеклассницу какого-то специнтерната, ему и подставил не кто иной, как Никита Григорьевич. Мастерски, словно хорошая сваха. А дальнейшее уже было делом техники. Краса подвязали к колеснице накрепко. Как любил повторять Мазин: насмерть. Да и сам Гриня очень скоро понял: Кит начальство для него куда более значимое, чем сам председатель комитета или Генеральный секретарь ЦК…
Крас услышал в наушниках, как чиркнула спичка. Сам на ощупь нашел пачку «Явы», прикурил…
Собственно, он встречался с Барсом лично только однажды, как раз после гибели отряда. Барса здорово подкосило: до этого он считался удачником, потери — самые минимальные, молодые, так и рвались в его группу, засады — дело как раз для них, азартное дело, да и куда лучше быть стрелком на номере, чем дичью. Успехи у Барса были блестящие, начальство просто нарадоваться не могло: в подобные простые дела контора, как правило, не совалась, этим занимались армейские, и раз уж влезла, было отрадно, что группа работает чуть ли не образцово-показательно, хоть учебные пособия по их операциям пиши.
Барс уже получил две рубиновые звездочки, ходил слух, что, если так дальше пойдет, возможно, и золотая обломится, да вот…
Задачу Красу Никита Григорьевич поставил предельно краткую: прощупать офицера на предмет вербовки в проект «Снег».
Разговор не состоялся. Барс держался вызывающе, был резок; на Краса, представленного проверяющим из центра, моргать хотел с самой высокой колокольни, и когда тот нажал, почти впрямую обвиняя Барса в гибели группы, тот только плечами пожал: «А ля гер ком а ля гер».
Крас честно высказал Никите Григорьевичу свое мнение:
— Барс для использования в проекте «Снег» не родится. Разве что втемную, но это достаточно рискованно, учитывая его опыт. Лучше и проще — устранить. — Он усмехнулся и повторил Мазину слова Барса:
— «На войне как на войне». Война все спишет.
Мазин задумался на секунду, произнес:
— Но вы подтверждаете, что Барс способен выполнять такие поручения, которые не выполнит никто другой? Краснов поколебался, но вынужден был ответить:
— Да.
— Вот видите… Тогда — дело за мотивировкой. Я полагаю необходимым посвятить его в официальную версию проведения проекта «Снег». Как вы считаете, в этом случае ему можно поручить разовые задания?
— Да, но…
— Ваше «но» я принимаю. По отношению к любому человеку, задействованному в любой операции, существует «но». И всегда приходится решать, что перевешивает: опасность или целесообразность. На данном этапе целесообразность использования Барса в проекте куда выше опасности его… своеволия. Так?
— Пожалуй…
— Вы не ответили.
— Так.
— Ну а раз так, значит… Быть по сему. Вызовите ко мне Грачева. Он умеет говорить с… э-э-э… людьми действия. Даже такими непредсказуемыми, как Барс.
— Мазин закурил папиросу, выдохнул дым. — И запомните, . Крас: в отличие от вас и меня Барс будет работать не за страх, не за деньги, а за совесть. А это куда эффективнее, по крайней мере у таких людей, как он. — Мазин помолчал, сделал затяжку, посмотрел, как тонкая папиросная бумага истлевает, исчезает от жара. — А устранить никогда не поздно. Любого. Не так ли, Краснов?
Хм… Крас ухмыльнулся с мстительной радостью. Прошло всего несколько лет, и его правота подтвердилась. Теперь Барс создал им проблемы. И если он действительно связался, кроме родной Лубянки, еще и с Ходынкой… Впрочем… Мазин прав: проблема существует, пока жив человек. А это не надолго. Совсем не надолго.
Глава 42
19 августа 1991 года, 8 часов 31 минута
— Ну и что тебе сообщил этот меченый? — Наташка смотрела азартно.
— Знаешь… Я все же не в пехоте лямку тянул.
— Разве?..
— Есть такие вопросы, которые задавать не следует.
— Ты и не задал.
— Нет. Но это не значит, что решил не искать на них ответы. Двадцать семь моих ребят были уничтожены. И у. хотел узнать: кем и за что?
— Ты думаешь, их свои?..
— Нет. «Духи». Но навели и не препятствовали — точно… Только назвать их «своими» никак нельзя.
— Думаешь, они тогда уже добывали наркоту для себя? И пошли на такой риск?
— Безопаснее всего работать на себя под прикрытием высоких государственных интересов. А высокие интересы, как известно, легко разменивают на жизни солдат.
— Так все с самого начала было задумано для чьего-то обогащения?
— Нет. Просто кто-то, умный ли, глупый, придумал или преподнес как свою идею использования героина в качестве будущего фактора дестабилизации западного или американского общества. Показал свою нужность и важность. Получил регалии и чины. Да и на ковер в ЦК было с чем пойти. И не ему одному. Потом… Потом, как всегда, идея обросла заинтересованными исполнителями структурами, стала работать сама на себя… Появились неизбежные агентурные и внеагентурные связи с организованными преступными сообществами Востока и Запада; были, я думаю, подключены и отечественные авторитеты, особенно из Закавказья и Средней Азии.
Собствен но, в то время КГБ уверенно контролировал подвластные территории, и ЦК вряд ли вообще посвящали в такую мелочевку. Ну и, кроме всего, наркотики стали приносить огромные, баснословные деньги. Деньги, которые нельзя было учесть, деньги наличные, анонимные. Вот тогда-то и выделилась в проекте группа лиц, решившая деньги эти использовать в собственных целях.
— Разве в КГБ или ЦК не было структур, способных проконтролировать эту «группу лиц»?
— Практически это сделать невероятно сложно, скорее даже — невозможно. За завесой исключительной секретности проекта можно было лепить любые блинчики, Режим секретности был не меньший, а пожалуй, больший, чем в любом из проектов производства химического или бактериологического оружия, — представь только, какой бы шум поднялся в зарубежной прессе, если бы любой элемент такого проекта стал достоянием гласности. Общественное мнение сразу, немедленно стало бы на сторону наших противников, и оно оказалось бы правым. Репутация Советского Союза как «империи зла» укрепилась бы настолько, что любой шаг нашей страны во внешней политике воспринимался бы не иначе как коварство выжившего из ума восточного монстра.
— Разве это не так?
— Наташка… Неужели ты думаешь, что в противостоянии сверхдержав есть запрещенные приемы? Особенно в деятельности «рыцарей плаща»? Извини, я повторяюсь, но действия наших противников ничем не моральнее наших: они всегда использовали, используют и будут использовать любую нашу слабость, любой наш промах! Нравственность в этом мире категория личностная, а не общественная или государственная.
— А жаль.
— Наверное, жаль. Но это азбука. Таков мир.
— Ты знаешь, это не мир, а война.
— Так и есть.
— Ладно, извини. Умом я понимаю, что ты прав, а только…
— Наташка, любая страна строит вокруг себя изгородь. И не только из частокола ракет, но и из параграфов законов, экономических, политических, религиозных концепций… Цель у всех одна: обеспечить устойчивость, благосостояние, процветание собственного этноса. Какой ценой это будет сделано по отношению к чужим — не суть важно. В это никто вникать не будет.
— Погоди, но ведь они постоянно пекутся о каких-то там голодающих странах… Или даже об истребляемых животных…
— Наташка, это то же самое, как, уничтожив индейцев, позаботиться о том, чтобы несколько вигвамов с аборигенами стояли-таки посреди прерии, там, где хорошо оплаченные статисты играют «дикую жизнь» по прописанному сценарию… И вызывали, кроме умиления, ощущение собственной справедливости: «Вот, живут как тысячу лет назад, и хотя обществу это невыгодно, оно продолжает тратить деньги на содержание этих милых дикарей… Потому что мы — свободная страна, земля справедливости и равных возможностей». Не так?
— Человек — самое жестокое животное на земле. Знаешь почему? — Женщина закурила, продолжила:
— Потому что человек может объяснить любой свой поступок высшими интересами. И тем самым — оправдать его. Если так, тигры честнее…
— Кто бы спорил.
— Знаешь, Володя… Странно, но мы с тобой почему-то никогда раньше не разговаривали на такие темы…
— Разве?
— Да. О книгах, о кино… О многом другом… А на такие — нет.
— Да и ни к чему это. Слова стоят немного.
— Наверное. Ты добрый, ты всегда заботился обо мне и об Альке, ты сильный и смелый… Что еще нужно? Ты знаешь, а мне не хватало, наверное, такого вот разговора. Нет, я знала, что работа у тебя важная и опасная, я беспокоилась за тебя, но я всегда верила, что с тобой ничего не может случиться… А сегодня…
Сегодня у меня такое чувство… Даже не знаю, как сказать… Тревога, усталость… Словно я ждала долго-долго чего-то и что-то наступило, но это совсем не то, чего я ждала… Вернее, я не знаю пока, что это… Черт, я совсем запуталась! Просто голова как в тумане. В грязном тумане, какой бывает, наверное, на ядовитых болотах. Его ров… Мне неспокойно. Очень неспокойно.
— Это, наверное, недосып. Мы здесь третий день, а ночью спим… немного.
— Ну это как раз меня не печалит. Совсем наоборот Словно у нас снова медовый месяц.
— Еще какой! — Мужчина наклонился к жене.
— Подожди, Егоров. Почему… — Она прищурилась, словно пытаясь сосредоточиться, поймать ускользающую постоянно мысль. — Почему угрожает опасность? Тебе, мне, Альке? Что случилось?
— Я сделал ошибку.
— Какую? В чем?
— Я написал рапорт.
— Обо всем, что ты мне рассказал?
— Нет. Просто… Извини, ты права, тут нужно по порядку.
— Валяй.
— После того как у меня состоялся разговор с этим… меченым, было полное впечатление, что друг другу мы не приглянулись. Настолько, что… Короче, со мною могло случиться всякое, как и еще с двумя ребятами, оставшимися от группы…
— Егоров, мне страшно…
— Сейчас-то чего? Но списать меня запросто тоже было сложно: все мы засветились у грушников, а там ребята тоже непростые: заметили все несвязухи, подшили в дело… Конечно, если бы на них цыкнули из ЦК, только… Любые накладки шаг за шагом повышают вероятность рассекречивания операции. А опасность этого рассекречивания я тебе уже разъяснил. Это не значит, что я не был готов к неожиданностям. Но понервничать особенно мне не дали: через пару дней официально, через мой отдел, меня отозвали в Москву. Там со мной встретился некий генерал и изложил все то, о чем я тебе рассказал. О проекте «Снег». И предложил работать в этом проекте.
— Без возможности отказаться?
— Да. Нет, возможность была, но… Закончилась бы она…
— Автомобильной катастрофой?
— Нужды не было. Просто вернули бы в Афган, где бы меня и застрелил безымянный снайпер.
— Тогда же войска собирались выводить.
— Хм… Дело бы мне там придумали.
— Это было бы скверно.
— Еще как. К тому же… К тому же я не забыл пацанов, с которыми провоевал бок о бок полгода. И которых списали как статистов, как груду старого хлама. Короче, я дал согласие. Это была единственная возможность разобраться во всем и рассчитаться. За ребят. Очень мне не понравился тот, со шрамом. Но больше я его не встречал.
— А этот, кто с тобой в Москве беседовал?
— Он еще опаснее. Неторопливый и сонный, как африканский гиппопотам. И взгляд у него участливый, словно он говорит не с человеком, а с собакой.
— С братом меньшим.
— Похоже на то. Да, согласие я дал достаточно энергично, кивая головой, как и положено правоверному…
— А разве ты не правоверный?..
— Знаешь, несколько лет войны сильно вправляют мозги. Любому. Война — такая штука, что расставляет все по своим местам. Людей тоже. И еще — на ней наживаются. Многие, очень многие. Деньги на крови растут быстро, как бурьян, и поэтому прекратить войну, любую, куда труднее, чем начать.
— Ты стал доверенным человеком?
— Не сразу. Прошел множество тестов, проверок, меня поводили п.0 высоким кабинетам на Старой площади, чтобы проникся… Цирк-то у нас был цирк, а… Как тебе сказать… По сути, меня вербовали в этот проект очень грамотно, словно прозелита — в касту особо посвященных… И будь это год семьдесят восьмой, я бы вербанулся вчистую, но… — Егоров замолчал, прикурил сигарету. — На дворе был восемьдесят девятый. Да и… Точно. Война здорово вправляет мозги. Особенно такая, на которой одни подыхают, другие процветают.
— Разве бывают войны другие? Егоров помрачнел:
— Наверное, нет. — Он сделал долгую прощальную затяжку, одним движением затушил сигарету в пепельнице.
— Так чем ты занимался эти три года? — спросила Наташа.
— Это рассказывать долго и нудно.
— А что? У нас ведь есть время.
— Это действительно неинтересно. Одно тебе скажу: за три-четыре последних года сложилась система производства, переработки, перемещения на Запад наркотических веществ. Прекрасно отлаженная система. И контролируют ее вовсе не Комитет, не ЦК, а…
— Узкий круг ограниченных лиц?
— Да. Со своими боевиками, со своей собственной структурой… И еще вот что…
Это была не моя епархия, но… Через связи с криминалами создана система распространения наркотиков в России и во всех республиках Союза. И если раньше это были легкие наркотики типа анаши, то теперь…
— То есть ты хочешь сказать…
— Да. Группа, задействованная в проекте «Снег», давно является никаким не подразделением Комитета, это просто-напросто криминальная структура. С невероятно высокой степенью взаимодействия, потому что ее костяк составили оборотни, предатели, получившие прекрасную подготовку в одной из самых совершенных спецслужб мира. Для нашей страны это опасность. Непосредственная.
Близкая.
— Слушай, а почему ты раньше…
— У меня не было доказательств. Да и говорил я тебе: если у какого-то проекта «крышей» является Центральный Комитет… Меня бы просто убрали. Бесследно.
— А сейчас?
— Я подстраховался.
— Надежно?
— Надежнее не бывает. А рапорт я дублировал и, кроме системы собственной безопасности ПГУ, отправил его на Ходынку.
— Куда?
— В Главное разведывательное управление Генштаба. Это против правил, но… У нас уже несколько лет все не только против правил, а… — Егоров махнул рукой.
— А ты уверен, что твой рапорт… попадет в те руки?
— Не уверен. Но расставить своих людей абсолютно везде невозможно…
— По-моему, с приходом Михаила Сергеевича и в вашей системе такой бардак, что…
— В системе бардака нет. Есть несвязухи. Но и то — в управляющих структурах.
Которым, как известно, никто особых тайн не поверяет.
— И все-таки…
— Да. Вероятность протечки велика. Особенно если учесть, что «Снег» был некогда под протекторатом ЦК, эти люди имели возможность разместить своих людей в аппарате. Вернее, на каких-то ключевых постах. То, что прицел у них был дальний, у меня сомнений нет. И еще, почему-то уверенность, что американцы давно и внимательно наблюдают за этими «снежными человеками»… И используют: кого — втемную, кого…
— С той же задачей, с какой был придуман проект, только с точностью до наоборот?
Направленным на… Россию?
— Именно. И не только на Россию. И полное впечатление, что проект изначально был подставкой, придуманной не здесь.
— Егоров… Ты сам до всего этого додумался?
— Сначала у меня была только версия. Потом, когда работал непосредственно по проекту, появились кое-какие факты. Потом… — Мужчина замолчал, словно собираясь с мыслями или решая, стоит ли говорить дальше.
— Так что потом?
— Я передал папочку с собранными материалами одному парню. Он аналитик. Когда-то пришлось столкнуться с ним в одной операции…
— В Афганистане?
— О нет. Много дальше. У меня сложилось впечатление, что это порядочный человек и честный офицер.
— Ты ведь рисковал…
— Доверяясь ему? Наташка… Риск — это профессия. Так что… Короче, он провел анализ собранных материалов, так сказать, приватно и пришел к тем же выводам, что и я. Вернее, к куда более страшным.
— Что значит…
— Наташа… Я офицер государственной безопасности. И то, что нам удалось обнаружить, касается именно этого понятия. Поэтому… Поэтому я составил рапорт.
Женщина встала, нервно запахнулась в халат, заходила по комнате.
— Егоров… Не знаю, что ты там раскопал… И к каким таким выводам пришел…
Но… Как я понимаю… Ладно, ты — служивый, и риск твоя профессия, я… Я вышла за тебя замуж и сама выбрала себе жизнь. И поверь, ни капельки, ни разу не пожалела, честно… Но Алька… Если все так серьезно… Может быть, не стоило рисковать ее жизнью?
Мужчина задумался надолго, видно было, как тяжко собрались морщины к переносью…
— Наташа… Если бы я этого не сделал… Через восемь — десять лет тысячи, десятки тысяч таких вот мальчишек и девчонок будут погибать от этой «дури»…
Понимаешь? Не болеть, а именно погибать! Дети тех самых людей, которым я давал присягу защищать их! Нельзя было по-другому, Наташка, нельзя, ты же умница, ты же понимаешь…
— Я понимаю… — едва слышно произнесла женщина.
— И не бойся: я подстраховался. Они не посмеют никого тронуть.
— Да? Тогда почему же мы скрылись из Москвы? Ведь мы же сбежали, ведь так?
— Да. Просто… Они могут использовать вас, тебя и Альку, как средство давления на меня.
— Нас что, могут похитить?
— Могли бы.
— Играешь с сослагательным? А мне знаешь как страшно?!
— Не бойся. Совсем скоро можно будет исчезнуть так, что никто и никогда не сможет найти ни тебя, ни Альку. А я доведу дело до конца.
Женщина села на кровать, опустила голову на ладони:
— Я тебе верю, Егоров. А что мне остается? Только… Только, пожалуйста, пожалуйста, останься живым… И для меня, и для Альки… Мы же так тебя любим, и без тебя… Ты обещаешь?
— Обещаю.
Глава 43
19 августа 1991 года, 8 часов 38 минут
— Ну что, Крас, мочить скоро будем? — спросил вышедшего из фургончика Краснова командир «эксов», здоровенный парнище по кличке Каин.
— А что, невтерпеж?
— Да не так чтобы… — Каин прищурился, взгляд его показался Красу странным.
Нет, Каин ходил «под дозой» практически всегда, и не это его обеспокоило. Теперь в нем была какая-то новая странность: словно у психически больного человека объявилась во взгляде не обычная, присущая шизофреникам хитрость, но ум.
— Будем ждать приказа.
— Погоди, Крас. Давай хоть прикинем…
— В смысле?
— Да в прямом. Как я понимаю, по Москве непонятка творится, а тут — воинская часть в пятнадцати кэмэ.
— Ну не в километре же. К тому же — простая пехота. Солдаты спят, службу тянут.
Что тебя беспокоит?
— Да ничего меня давно не беспокоит. Очень давно. А вот только… Пехота она, конечно, простая, а из лесов этих только по двум дорогам уйти можно или тем же лесом, малыми группами. Надо бы переболтать, как и что… Своя ж территория, тут могут и стопорнуть, а у нас ни ксив, ни подорожных, чтобы по уму… А ну как здешний ретивец приказ какой отдаст? То ли солдатикам, то ли ментам… Не, мы их, конечно, замолотим, а только Никита свет Григорьевич за такую общевойсковую активность по головке никого не погладит, если мочилово разведем. Вполне запросто спишет к едрене маме да других наберет.
Каин был прав. Но согласиться с его доводами… Крас ответил авторитетно:
— Все продумано. По поступлении приказа убираем из «тишаков» всю семейку, потом аккуратно извлекаем пули, подпаливаем домишко и — гори оно синим пламенем.
— Из пистолетов?
— Нет. Из винтовок.
— Грамотно. Может, и пастуха подпалим? За компанию? — произнес Каин нервозно, с нажимом, но Крас этого не заметил или просто не счел нужным замечать.
— Ни к чему. Помер с перепою мужик — все достоверно.
— Понятно. Долго сидеть еще?
— Я же сказал, пока не поступит приказ.
— От Никиты Григорьевича?
— Это твоего ума дело?
— Вообще-то нет, а только… Этот… Вроде из наших. Я его по Афгану помню. — Боевик помолчал, добавил:
— Мы с ним «духов» бок о бок в караванах херачили.
Недолго, месячишко всего, но по тем временам достаточно. Стоящий парняга. — Каин молча уставился в лицо Красу безразличными серыми глазами, словно перед ним был не человек, а так, пустышка, недоразумение. Впрочем. так Каин смотрел на всех.
Похоже, жизнь эта основательно тяготила его или просто давно перестала интересовать — слишком быстро и легко на его памяти люди переходили в мир иной, так и не познав ничего путного и даже не уяснив, стоило ли жить вообще… — А тебя, Крас, я там не помню, — добавил он.
— Барс — давно не из наших. Очень давно.
— Ссучился?
— Да. Может все сыпануть. С потрохами.
— Что ссучился — это плохо, это нельзя. А может, бабу оставим? И девчонку — ее-то совсем не в тему…
— Каин. ты с каких пор таким сердобольным стал? Или баб никогда не мочил? А под Гератом? А ту девку, что ты в сарайчике оттрахал, а потом застрелил, помнишь?
Она в аккурат по возрасту чуть старше этой будет.
— Хм… — Каин усмехнулся криво, глаза его стали совсем пустыми, Крас еще успел подумать, что тот наверняка дозу принял немалую, ну да все они подсаженные ребятки… Но от этой мысли легче не стало, наоборот. Красу сделалось совсем не по себе: Каин пристально, в упор разглядывал «отца командира», и этот взгляд не обещал ничего хорошего, вернее даже… Вернее, Крас помнил этот взгляд там, под Гератом, во время карательной акции Каин смотрел так на пленных «духов»…
Самое противное было в том, что Крас не чувствовал в себе сил противостоять, хотя физически был не намного слабее: то ли взгляд убийцы действовал действительно гипнотически, то ли… То ли не было вообще никакого взгляда, а был блеск пустых, как латунные пуговицы, серых роговиц, и на него. Краса, смотрел вовсе не человек, а смерть, которая, как известно, ходит в любом обличье… Он чувствовал даже не страх — холодный, леденящий ужас, когда ты не можешь противиться не просто чему-то смертельно опасному, но абсолютно неотвратимому, как сползающий на тебя по склону многотонный пласт льда…
Наконец боевик разлепил губы:
— А ты меня, Крас, хорошим манерам не учи, понял, гнида? В Афгане с той стороны людей не было, звери они все, и я насмотрелся там поболе твоего… А со зверьми только зверем выжить можно. А что до девки той… Так что с ней делать было…
Жалеть? Не я, так какой местный сучок затрахал бы, благо девка бесхозной осталась… А после меня так и подавно… И не подумай, я ни перед тобой, ни перед кем отчета не держу, только перед Никитой: он меня из-под трибунала вытащил… Ты думаешь, мне того сраного трибунала было страшно? Просто очень не хотелось подыхать там и гнить потом в той поганой земле… Никита — человек, а ты — гнида. Связывайся, хочу его приказ услышать, не твой!
— А если услышишь, тогда…
— Заткнись! — Одним движением Каин сгреб далеко не маленького начальника за грудки, причем захватил за ворот не блажно, профессионально: Крас поплыл от удушающего приема, дернул руками вверх, но хватка сразу стала плотнее, жестче…
Боевик отпустил Григория неожиданно; тот выдохнул дважды, восстановил кровообращение, ясность в голове…
— А теперь можешь меня застрелить, — довольно равнодушно бросил Каин. Добавил:
— Если хочешь, чтобы все было путем, звони Киту. Только он отдает приказы.
— Но ведь ты от него получил приказ исполнять мои…
— Считай, я усомнился… Когда речь идет о зачистке Барса, тем более со всем выводком… — Взгляд Каина стал почти нормальным, но глаза оставались абсолютно равнодушными, словно он давно уже покинул и этот мир, и эту землю. Развернулся и пошел прочь.
Крас переборол искушение… А оно было велико: выстрелить из «тишака» этому дебилу в спину. Но, во-первых, это сорвет операцию, «эксы» подчиняются только Каину или Глоку, его заму, ну а во-вторых… Крас был вовсе не уверен, что успеет выстрелить быстрее… Медленно, безучастно удаляющийся боевик обладал, кроме молниеносной реакции, еще и отменным чутьем… И еще… Еще ему подумалось, что такая группа в твоем личном, беспрекословном подчинении куда опаснее и результативнее при решении любого вопроса, особенно щекотливого, чем профессионалы, связанные понятиями долга и буквой закона.
Крас потер шею. Еще раз глубоко вздохнул. Псих. Бультерьер. А вот кто не псих, так это Мазин. Эти «управляемые снаряды» он сумел завязать на себя лично, и теперь, что бы ни произошло, как любит писать «Правда», в стране и в мире, эти ребятки останутся его, только его людьми.
Крас зашел в фургончик, не торопясь выкурил сигарету и набрал личный код Никиты Григорьевича. Без Мазина пока не обойтись. Пока? Мысль интересная, очень интересная… И — перспективная.
19 августа 1991года, 8 часов 53 минуты «Не обещайте деве юной любови вечной на земле…» Эта песенная строчка пришла на ум сама собой. Никита Григорьевич усмехнулся: да, этот Барс никогда бы и не вырос в хищника — в заднице булькает столько задорного пионерского детства, что… Непонятно вообще, как он попал в систему. Хотя… Система тем и хороша, что могла использовать любых и всяких людей, обладающих самыми разными талантами, равно как и индивидов с полным отсутствием таковых. Да, именно так: вовсе не обязательно обладать какими-то талантами, нужно их эксплуатировать, использовать, подчинять. И — наслаждаться всем, что может дать власть.
Система… Проходят десятилетия, века, тысячелетия, система остается неизменной: воины и рабы. Любая иерархия постепенно вырождается, происходят восстания, революции, перевороты… Приходят новые хищники, новые воины, чтобы питаться трудом и кровью новых рабов. А у раба только одна мечта: самому стать господином. Истина. Все остальное словеса. Так было и так будет. Всегда.
То, что происходит сейчас в Москве, — просто инсценировка. Все, кто возглавил ГКЧП, вовсе не хищники, они функционеры; две перетасовки колоды, в тридцать седьмом и пятьдесят третьем, совсем не задели нынешних «вожденков»; они не готовы ради власти ставить на карту жизнь, значит, их заменят другие.
Разворотливые, бесстрашные, жестокие. Именно они качнут систему, но она останется прежней: воины и рабы.
Мазин для себя уже все решил. Наступивший момент очень благоприятен для карьерного взлета: нужно просто встать на сторону этого несуразно большого российского президента. Но… Мазину надоело не только служить, но и поддерживать иллюзию службы.
Войны стали другие. Как и воины. Нет, крови еще будет достаточно, но воевать будут тоже рабы. Хозяева в белых воротничках и прекрасно сшитых костюмах при любых встрясках будут сидеть в роскошных кондиционированных кабинетах и играть в цифры. Складывать и вычитать. Складывать и вычитать. Складывать и вычитать.
Рубли, доллары, марки, йены, фунты… Жизни.
Ему, Никите Григорьевичу Мазину, надоело быть ведущим режиссером. Пора становиться продюсером. А музыку заказывает только тот, кто платит.
Прозвучал зуммер аппарата спецовки. Мазин снял трубку.
— Крас вызывает Гаспара, прием.
— Гаспар слушает Краса.
— У меня возникла проблема с «эксом» — первым.
— Проблема? .
— Конфликт.
— В чем?
— Он узнал Барса. Ведет себя неуравновешенно. Желает получить ваш, и только ваш приказ на вариант устранения.
— Вы уверены, что только это?
— Да.
— Он управляем?
— Д-да.
— Вы уверены? Наступила секундная пауза.
— Крас, вы понимаете, что означает эта акция? После всего, что наговорил этот горный котик?
— Да.
— Не слышу!
— Да. Я понимаю.
— Тогда почему вы раздумываете над простыми вопросами?
— Виноват.
Виноват, как бы не так! Крас… Просто сейчас он оказался между молотом и наковальней: Каин рядом, человек он, как и все, управляемый, нужно просто знать ключ к нему… Крас ключа не знает, да и не найдет его никогда: он боится. Хм…
Этим Каин и ценен: он так часто и долго братался со смертью, что… Что у него остался только один страх: умереть как крыса, не в бою, не от наркотиков, а по приказу, и не по чьему-либо, а по приказу его, Мазина… Между молотом и наковальней… Крас боится полубезумного Каина, который рядом и вооружен, боится умного Мазина, который далеко, но тоже рядом… Губы Никиты Григорьевича скривила усмешка: это был принцип! Чтобы людишки шагали в нужном тебе направлении, необходимо, чтобы они чувствовали себя словно на канате, протянутом над пропастью! Когда так легко оступиться и пропасть! Исчезнуть!
А сейчас… Сейчас у Краса отличная возможность подставить Каина, подставить не блажно — по работе. Как бы не так!
— Вызовите «экса» — первого.
— Есть. Только…
— Что — только?
— Возможно, стоит повременить с акцией?
— Почему?
— В разговоре он так и не назвал свой контакт на Ходынке. Кроме того, всплыл еще один фигурант, Аналитик. Если все…
— Можете не пересказывать мне рассказ Барса. Я слышал. К делу.
— Виноват. Эта деревня, Сосновое Поле, место достаточно уединенное. Мы контролируем избу, где расквартировано семейство. Может быть, стоит захватить Барса и прокачать его хорошенько?
— Амитал?
— Да.
— У вас что, хороший специалист?
— Нет. Но препараты у нас под рукой. Есть последние модификации.
— Слушайте меня внимательно, Крас! — В голосе Никиты Григорьевича, спокойном и монотонном, зазвучал металл. — Во-первых, если бы мне нужен был ваш совет, я бы его спросил. Во-вторых, бессмысленно обрабатывать «сывороткой правды» человека, прошедшего Острог-18! Вы читали его досье?
— Да.
— Тогда почему вы предлагаете глупость?
— Я полагал…
— Мне неинтересно, что вы полагали. В-третьих, объект все-таки не Чеширский Кот, а Барс! И при попытке захватить его живым мы можем потерять всю группу, вы поняли?!
— Да. Я просто…
— Помолчите! В-четвертых, попытка воздействовать на него через жену или ребенка ни к чему не приведет: он профессионал и поймет, что в живых у них после разработки шанса остаться нет. Он вообще не позволит захватить их живыми, как и себя! Вы все поняли?!
— Да.
— И — последнее. Ваши… э-э-э… предположения заставляют меня задуматься о вашем соответствии той работе, что вам поручена. Серьезно задуматься. Стоит затянуть его ликвидацию, и ребятам из отдела безопасности нашей конторы или с Ходынки может повезти куда больше, чем нам. Время терпит не всех и не всегда.
Вам, Крас, точно не повезет. Или вы решили сыграть свою партию?
— Я…
— Позовите к аппарату «экса» — первого.
— Есть.
Мазин усмехнулся… Каждый из его людей должен знать, что может получить все только из его рук. Как жизнь, так и смерть. В любой момент.
Гриня Крас… Талантливый малый, но еще не изжил в себе, несмотря на далеко не отроческий возраст, детскую привычку прикидываться шлангом. Овцой. Не-ет, он, Крас, хищник, даже больший, чем многие. Но у него есть изъян. Он из той породы людей, кому все должны. С детства. Такой заботится о своем здоровье, любуется на себя в зеркало, преуспевает и задает себе всегда лишь один вопрос: почему?
Почему я не купаюсь в роскоши, не преуспеваю, не властвую?! Почему?! Разве есть кто-то достойнее меня?
И еще такие панически боятся боли. Любой. И здесь действует оборотка: ему нравится причинять ее другим. Это может казаться лишенным всякого смысла, но нет, смысл есть. Подсознание диктует ему жестокий сценарий: чем больше боли ты причинишь, тем меньше достанется тебе. Опасный человек… Но он предсказуем. А значит, куда менее опасен, чем он сам, Никита Григорьевич Мазин.
Порой Никите Григорьевичу становилось скучно. Совсем скучно. Он слишком хорошо знал людей. Люди — пыль, прах, жалкие, жадные, жестокие, они делают что-то только ради того, чтобы избавиться от своего всегдашнего, вечного страха небытия… Самоубийцы — самый яркий пример. Все они кончают с собой из дикого, животного страха перед болью и смертью.
Самое смешное, что несокрушимый, вызывающий панический, тотальный ужас у многих Каин — как раз из их числа. Скрытый самоубийца. Убийством других он словно выплачивает бессрочный и безмерный выкуп. Собственной смерти. Его черед придет. Позже.
— «Экс» — первый слушает Гаспара, прием.
— Я Гаспар. Приказываю: провести операцию по ликвидации объектов Барс, Женщина, Беби по схеме «П-1». — Мазин намеренно залегендировал девчонку именем «Беби», словно игрушку, куклу. Хотя эти «эксы» и полные дебилы, а все же… Лучше не называть ребенка ребенком, если его предстоит убить.
— Есть. Пожар?
— Пожар. Выполняйте. Под вашу полную ответственность.
— Есть.
— Передайте микрофон Красу.
— Есть.
Прошло несколько секунд: Крас наверняка ждал, когда Каин покинет фургончик спецсвязи. В сообразительности ему не откажешь.
— Крас слушает Гаспара.
— Проследите, чтобы все прошло чисто.
— Есть.
— Совсем чисто. Нам не нужны будущие осложнения. — Мазин замолчал. Пауза длилась двадцать секунд, тридцать, сорок…
Он представил, как взмокла сейчас трубка в руках подчиненного: тот не знал о содержании разговора с командиром боевиков и сейчас… Сейчас ждал или приговора, или права на жизнь. Нет, никто ему его объявлять не станет, но Крас рассчитывал догадаться по характеру приказа, по тону…
Никита Григорьевич улыбнулся: он знал людей.
— Крас, проследите за Каином. Он показался мне слишком нервным. Если его действия поставят под угрозу выполнение задания… — Мазин на секунду замолчал, подыскивая нужное слово. — Уничтожьте его. Вы хорошо меня поняли, Крас?
— Так точно, Гаспар. Я понял вас хорошо.
— Но это вы сделаете только в том случае, если возникнет необходимость.
— Есть.
— Вы сумеете удержать контроль над «эксами»?
— Да, — без запинки ответил тот. — Я сумею.
— Я рад, что в вас не ошибся, Крас. Выполнять.
— Есть!
Мазин откинулся на спинку кресла, закурил. Отер со лба пот. Скосил глаза на телеящик. Вещала строгая ведущая:
"…Преступное бездействие. За несколько месяцев действия новых розничных цен продолжалось тотальное обнищание населения. Доходы нашего общества автоматически перешли к паразитическим слоям. Установите былой порядок, спасите народ от самоуничтожения — от имени матерей, вдов, детей солдат и офицеров, погибших в мирное время, требует Мадина Уразовна в заключительной части своего письма. — Ведущая сделала паузу, продолжила:
— Наши корреспонденты сообщают с мест.
Новоуральск. Трудящиеся Новоуральского горно-обогатительного комбината с удовлетворением встретили известие…"
Мужчина усмехнулся. Встал. Открыл холодильник. Наполнил стакан слегка охлажденным боржоми, не отрываясь выпил, фыркнул от удовольствия, словно конь, только что вспахавший поле. Налил еще. На этот раз он пил медленно, не торопясь, смакуя каждый глоток.
«Только три ночи…» Судя по всему, сам фильм отменят. А жаль. А что тут еще в программе? Двадцатого августа: «Холодный дом», первая серия. Двадцать первого…
Двадцать первого по московской программе заявлена передача «Публике смотреть воспрещается».
Мазин расхохотался. Даже если это простое совпадение… Публике смотреть воспрещается. Это принцип. Овцам ни к чему знать «кухню» волков; обыватели должны свято верить, что именно они созидают Золотое руно. Именно так: не шерсть, не овчину, которую сдерут с еще теплой тушки, но — Золотое руно, материальное воплощение мечты!
Улыбка Мазина стала кривой, горькой. Хорошо, что у него нет ни привязанностей, ни детей. Единственное, что бы он мог им сообщить относительно этого мира: жизнь — дерьмо.
Никита Григорьевич подошел к шкафу. Раскрыл. Парадный генеральский мундир, колодки наград. Когда-то это ему казалось важным. И не только ему. Прав был Наполеон: «Игрушки управляют людьми». Впрочем, Бонапарт и сам не отказался от такой милой побрякушки, как корона императора Франции. Ведь игрушки управляют людьми.
Или — Игрушки? Куклы, марионетки, манекены, шуты гороховые… Болванчики, обряженные в мундиры в золотых позументах, существующие в некоем охраняемом пространстве, таком далеком от людей… И от хищников, и от их жертв.
Пора сделать окончательный выбор. Страна меняется. Скоро придут новые хищники, а это значит… Это значит только одно: нужно быть в их стае. Вожаком.
Глава 44
19 августа 1991 года, 9 часов 02 минуты
Пятеро мужчин сидели за столом в большой комнате двухкомнатной хрущобы в панельном доме на окраине Москвы. Квартира меблирована небогато, скудно. Стол же, наоборот, заставлен простой, но обильной снедью. Несколько откупоренных бутылок с водкой, коньяк, «Хванчкара» в неровных литых бутылках, с наклеенными вкривь и вкось этикетками, была действительно «Хванчкарой», а не паршивым пойлом. В судке дымилась только что отваренная картошка, присыпанная зеленью и чуть сдобренная желтым рыночным маслицем; мясо по-карски, приготовленное шефом «Арагви» собственноручно и подвезенное сюда с пылу с жару, сочилось соком.
Трое мужчин были кавказцами, один — среднеазиатом. Лишь самый молодой, лет на вид около сорока, выглядел славянином.
— Не верю я, что такого волчару приручить можно, — нарушил молчание один из кавказцев, не самый старый.
— А никто его приручать и не собирается. Только без него не обойтись. Сейчас Кавказ оружия хочет. Много оружия. Думаю, дальше еще больше будет. Это большие деньги. Кроме Кита, никто так не организует, — отозвался другой. — И вон, у Ахмеда скоро чинуши начнут друг из дружки плов варить… А, Ахмед?
Среднеазиат пожевал губами, но промолчал.
— Бабки ковать можно на всем. Да и тропы для наркоты. Кит так дело поставил, что… Браслет, у тебя продублировать получится? — спросил старший кавказец славянина.
— Людей мало. Да и хозяйство большое.
— Вот и я про то. Кита нет резона убирать. Пусть попашет.
— Я вот чего думаю, — снова взял слово первый. — Не нравится мне этот Кит.
— Не нравится, не ешь… — хмыкнул старший.
— Да не про то я, Резо. С чего ему, такому чинному, с нами водиться?
— Сам же сказал, непростой он мужик, раз по карьере пер когда-то как танк. А значит… Значит, чутье у него — на бабки, на время… И сейчас по закону сделать мало что можно, а скоро… бабки будут бал править. И не хочет мужик в стороне сшиваться, не привык. Раз нам от этого польза, то…
— Или ему от нас?
— И ему от нас. Только повязан он с нами куда крепче, чем мы с ним. Под нами — целые регионы, под ним что? Шиш! Куда он без нас?
— Никто слова не скажет за этих конторских, — подал голос азиат. — Сегодня сам на себя работает, а завтра выяснится — задание выполняет. И разом нам по «вышке» выпишет. И не со злобы — работа такая. Сейчас деньги идут, и хорошие деньги; партнеры связи не бросят, для них тоже гешефты немаленькие… С Китом ли, без Кита, а сотворенные им тропы останутся. И партнеров мы знаем. Справимся.
— Это ж в какие дополнительные деньги влетит?
— Спокойствие дороже. Когда особист где-то сбоку зависает…
— За деньги с чертом поцелуешься, — хмыкнул младший кавказец.
— Я про то, — продолжил среднеазиат, словно не заметив реплики, — что без Кита нам бы и полегче…
— Ха! — резко выдохнул славянин Браслет. — Одного генерала мы сейчас спихнем, а ты нам на шею десять своих басмаческих посадишь, так? Какая разница, кого кормить? Кит хоть подписался уже…
— Кит никогда ни подо что не подписывается, — чеканно, безо всякого акцента произнес азиат. — В том-то и дело. Мои генералы — это мои генералы. А Кит — сам по себе. Как заноза в пятке. Сейчас чего перетираем? Уж больно момент подходящий. Под него любой косяк списать можно. Ну, шмальнут генерала, и кто копать сильно будет?
— Э-э-э… Спешишь, дорогой, — снова взял слово старший кавказец. — Генерала шмальнуть — дело скорое., нехитрое. И контора не мусарня, кипеж подымать не станет. Только… Кита мы сдернем, опишем, а после него в той конторе хвосты и зависнут… Это во-первых. А во-вторых, конторские за своего вполне могут подписаться и нам всем путевку выдать в один конец. Неофициально. За ними такое водится.
— Не та сейчас контора стала.
— Та не та… А поопасаться всегда не грех. Вот при Сталине…
— Ты еще Ежова вспомни. Старший сверкнул глазами зло:
— Если нужно — вспомню. Потому что дурака могила исправит.
— Резо, а кто спорит? У нас об том базар разве? Остынь, дорогой. Давай по делу.
— По делу… И мы не дураки, и сам Кит не скрывал: за ним стоят. И дело он нешуточное замутил — от морей до самых до окраин! Такое без благословения не замутишь.
— Осторожный ты, Резо, — произнес среднеазиат. — И это хорошо. Без твоей осторожности сгорели бы многие, но иногда нужно и рискнуть.
— Если есть за что.
— Это так. Кит сейчас не на контору работает. — Помолчав, добавил со значением:
— И не на нас. Самое времечко с ним расстаться.
— Повременить, — произнес Резо, но уже без той уверенности. А сам просчитывал, сколько может заработать, а сколько потерять на оружейных сделках. С Китом и без Кита. А вообще, он выжидал. Разговор затеял Ахмед, сходняк он созвал. Пусть и карты первый на стол бросит. Понятно, что Кит не вор и на сходняке судьбу его решать — не по понятиям, подумаешь, особист. Но… Интересы всех пятерых так или иначе замыкались на Никиту Мазина, крутые интересы, денежные. Очень денежные. С кондачка не решить. Есть в словах Ахмеда резон, только… Деньги пока идут, хорошие деньги, чего ж поперед времени золотую курочку резать?
— Так что, ждать, пока Кит нас, как сявок последних, скрутит? Мужчина он серьезный!
— Вот и пусть концы чистит. А прибить — никогда не поздно.
— Он не дурак. Где нужно, оставит. Чтобы нас по ним, ежели что, отыскали да на дыбу. Все конторские таковы — система.
— А мы что, на месте будем сидеть? Тоже не лаптем щи хлебаем. Проясним концы те.
— Конторского не очень и прояснишь. Хитер. Все согласно молчали. Соблазн завалить под шумок. Никиту Мазина был очень велик. Все чуяли: наступают новые времена, а значит, старые концы не рвать, рубить надо. А этот паук опутал их, как сетью. Пора из этой сети вырываться, своим умишком жить. Мир проще становится: самый запутанный вопрос легко решает пуля, пущенная в нужный момент в нужную голову. Конторский любит перекрутить, поиграть; понятно, на своем поле он силен, не переиграть, а пригласить его играть на их поле — не пойдет.
Остается только одно. Мочить. Мужик Мазин и вправду мощный, такой в подсобниках сидеть не захочет, и не потому, что не по чину ему. Потому, что не по характеру.
Тот, кто был князем, в авторитете, а у своих этот конторский был в крутом авторитете, шавкой не станет. Нет, что мочить надо, спору нет. И хотя деньги попервости будут потеряны, это полбеды. Деньги потом наверстаешь. Если потерять башку, ее-то потом ни за какие деньги не купишь.
— Что решать будем? — прервал молчание азиат. Решать никто не спешил. Все прикидывали. Кто какие деньги потеряет, чем возмещать станет.
Ахмед время рассчитал верно: все выговорились, устали. Никому этот Кит не сват, не братан и не кент. В принципе никто не против замочить конторского. Но все ждали основное предложение. От него, Ахмеда.
— Ничего не потеряем, — произнес он тихо и внятно.
— Такого нет, чтобы ничего не терять, — возразил средний кавказец.
— Есть, — произнес Ахмед спокойно. — Сейчас из горного Адаха партия героина подошла. Хозяин — Кит. — Он сделал паузу, продолжил:
— Мои люди разыскали лабораторию, так что и здесь ничего не упустим. А у Браслета и Резо — сбыт по Москве. Да и Китовы канальцы на Запад мы не потеряем. Кого надо, перекупим, все как по маслу пойдет, даже легче…
— Сладко поешь. А ты не подмасливай, ты дело говори, — предложил Резо, отхлебнув «Хванчкары» и закуривая «Герцеговину Флор» из атласной зеленой с черным пачки. И смотрел внимательно желтыми тигриными глазами, скрывая уголки губ в густых усах; он знал, что действительно похож на Сталина, и старался это сходство подчеркнуть, не столько даже из тщеславия… Просто на некоторых людей, особенно в возрасте, его сходство с вождем действовало чуть ли не гипнотически; да и, если вправду, Резо порой чувствовал со своим соплеменником родство внутреннее.
Все молчали. Молчал и Ахмед, изредка поглядывая на Резо. Угадать, что сделает этот человек в следующую минуту — умиротворенно опустит веки или скажет короткое, безличное «нет», которое для очень многих было приговором, — было невозможно.
Ахмед решился. Безразлично почмокал тонкими губами и наконец назвал цифру, которую так долго все ждали:
— Там три с половиной центнера. Триста пятьдесят килограмм. Или даже немногим больше, — Сырье?
— Нет. Героин. Девяностопятипроцентной очистки. Наступившая тишина была абсолютной. Никто не шелохнулся. Все произвели необходимые расчеты: немудреная арифметика прибавлять нули. Сумма впечатляла. Один грамм стоит двести пятьдесят — триста долларов. Килограмм — четверть миллиона. При всех издержках чистая прибыль, если сбывать не враз и по уму, выльется в совершенно астрономическую сумму. Авторитеты переглянулись: видно, пристроить к делу своих генералов на родине для Ахмеда важнее, раз он решил делиться, лишь бы выбить «добро» на Никиту Мазина. Что ж там у него за деньги будут крутиться?! Над этим стоит подумать. Но потом. А пока… Слишком хороший случай. Исключительный. Ахмед прав: другого такого может не представиться потом за всю жизнь. А за эти деньги можно покупать генералов, как яйца, десятками.
— Где хранится порошок? — задал вопрос Браслет безразличным тоном.
— Контейнер, — улыбнувшись одними губами, ответил Ахмед.
— Охраняется?
— Естественно. Н-ский полигон.
— Раньше туда и близко не сунуться.
— Времена меняются. А сейчас, под эту «симфонию», — Ахмед кивнул на включенный телевизор, передающий в исполнении труппы Большого «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, — можно прибрать к рукам не только героин.
— Откуда столько? — спросил наконец Резо.
— Афганистан. Скорее всего Мазин регистрировал всю партию как государственную поставку для нужд медицины… Бумаги для него потом изъять — плевое дело.
— Он уже сделал это?
— Да.
— Сведения точны?
— Я же у себя дома… А Кит — как бы у меня в гостях. Люди предпочитают дружить с соседями. Особенно с такими, как я, — тонко улыбнулся Ахмед, и Резо почувствовал в его голосе скрытую угрозу. Впрочем, скорее всего не обращенную лично к нему, просто у Ахмеда был такой стиль общения.
Среднеазиат усмехнулся; собственно, все сидящие здесь авторитеты отказаться от такой суммы не смогут, но он продолжал говорить: решение, которое предстояло принять, должно уже сейчас в их головах стать совершившимся фактом.
— Сейчас самое время прибрать этот куш. Пока там, наверху, будут разбираться, кто из них пахан, а кто — смотрящий в этой стране, на этой «зоне», о наркоте не вспомнят.
— Кроме Мазина.
— Кроме него. Тем более для генерала это тоже случай пустить все на свои лично-семейные надобности, пока суд да дело. Решать нужно сейчас.
Воры молчали. Сумма была громадной. Каждый понимал, что впереди разборки и кровь. Много крови. Но такая сумма позволит каждому из них получить такой авторитет, что…
Воры молчали. Кавказцы прихлебывали вино, Браслет, выпив полстакана водки, меланхолично жевал копченого угря, Ахмед пил из пиалы зеленый чай, подливая себе из большого фарфорового чайника. Еще в комнате находился здоровенный мужик-славянин, глухой блатняк по кличке Бубон. Глухим он был не от рождения, воспаление какое-то, осложнение после гриппа. Для присутствия на встрече именно по причине глухоты он подходил, как никто. Он обладал недюжинной физической силой и умел переправить человека в мир иной без хлопот и быстро, но для собравшихся воров был абсолютно безопасен: Бубон жил по понятиям, и причинить вред кому-то из коронованных было для него так же невозможно, как для собаки покусать хозяина. Бубон был человек Браслета.
Пригласив его для представительской охраны встречи, Резо убивал двух зайцев:
«поднимал» молодого Браслета и подвязывал его к себе. Браслет был вором новой формации: дерзок, быстр, склонен к силовым действиям, притом хитер и сообразителен. Такого нужно или держать рядом, или уничтожить.
Все ждали слова Резо. Большого Резо. А он молчал. Ему было над чем подумать.
Прежде всего — Ахмед. Он самый ненадежный. Да, он прибыл на сходку с интересным предложением, «высыпал на стол» кучу денег, но… Азиат крайне хитер. Нет, Резо понимал, что без него и Браслета Ахмед не сможет пробить трассу по продаже наркотиков ни на Запад, ни по России. Но если он сядет «на раздаче», проконтролировать и его доходы, и его контакты будет невозможно. Деньги покупают все.
Но и в другом он прав: с Никитой Григорьевичем нужно решать сейчас. Если с Ахмедом он, Резо, потом как-то справится, то с Китом…
М-да… Крови будет много, но без крови денег не бывает. Настоящих денег, таких, что дают не просто независимость, но власть.
Ахмед прихлебывал чаек и безразлично смотрел в стену. Он знал Резо и знал, какое решение тот примет. Если бы разговор шел один на один, Резо мог бы уйти от ответа и постарался бы проиграть тему сам. Но при Вахтанге, Мингреле и Браслете… «Деньги» на столе, и отказаться от них нельзя. Ему, Ахмеду, деньги дают влияние. Они нужны ему сейчас больше, чем воздух, — в его краях отчетливо пахнет большой нефтью; вот этот куш Ахмед не уступит никому: ни Резо Большому, ни черту, ни дьяволу.
Большой Резо обвел взглядом стол. Он принял решение:
— Поскольку возражений ни у кого нет… — Помолчал, добавил:
— Ну а все детали обсудим позже.
— Когда проведем акцию? — быстро спросил Браслет. Он был уверен, что устранение Мазина поручат ему, и не ошибался: лучше его людей с этой задачей не справится никто.
— Сегодня.
Резо потянулся к трубке телефона, но тот зазвонил сам.
— Да? — С полминуты он слушал, потом сказал:
— Пусть войдет и скажет сам. — Поднял глаза на Ахмеда, произнес:
— Твой человек. Волнуется очень.
Через минуту высокий, немолодой соплеменник Ахмеда стоял у стола. Ахмед налил ему пиалу чаю, тот выпил быстро, в несколько глотков, вопросительно поглядел на хозяина. Выбора у того не было.
— Говори, — приказал Ахмед. Тот разлепил губы:
— Товара нет.
Ахмед стал совершенно серым. Резо наблюдал за ним внимательно: нет, он не играет, он действительно ошарашен!
— Проверили? — хрипло переспросил он.
— Да. В контейнере мука, — произнес он и уточнил:
— Пшеничная.
Резо покачал головой, усмехнулся:
— Ай да Никита Григорьевич… Учиться тебе у него надо, Ахмед. Многому. — Неожиданно лицо его стало жестким, глаза вязкими, как ртуть. — Но решение мы приняли. И его нужно выполнять. Тем более повод поговорить по душам с Никитой Григорьевичем веский. Два мешка баксов. Сотенными купюрами. Веский, а, Николай Иваныч? — обратился он к Браслету.
— Он скажет, — хмыкнул тот.
Резо Большой снял трубку, набрал номер:
— Здравствуй, Николай Григорьевич… Да не так уж и давно… Правильно думаешь, дорогой, не понимаю, что происходит, очень поговорить нужно. Жду у себя, дорогой, весь день буду ждать. Спасибо, дорогой. — Кавказец повесил трубку, приказал Браслету:
— Едешь сам. Захвати Константина — он мастер толковать по-горячему. Как только Кит появится, берешь, жестко берешь и везешь в Березняки. Толковать будем. Сделай это хорошо.
— Я сделаю, Резо.
Браслет встал и вышел.
Резо размышлял. Нет худа без добра. Только что Ахмед сидел как именинник: все карты на руках. Теперь… Теперь он, Резо, банкует. Долю Ахмед получит, но совсем не такую, что рассчитывал. А Браслет, он справится. Конторские хороши в «играх», а там, где нужна дерзость…
Нет худа без добра.
Глава 45
19 августа 1991 года, 9 часов 21 минута
Молодой человек хохотал искренне, заразительно, откидываясь на спинку кресла, затем наклоняясь вперед и упираясь руками в колени…
— Прекрати, Маэстро. — Высокий сухощавый мужчина мерил шагами огромный кабинет.
— Нет, это действительно было забавно! Видеть, как этот партбосс тяжело перевалился через перила и пошел вниз, будто подбитый бомбардировщик…
— У тебя все готово по остальным?
— Да, — посерьезнел Маэстро.
— По маршалу тоже?
— Естественно.
— Ты заменил охрану?
— Давно. Причем приказ исходил от…
— Я знаю. Наш герой этого не заметил? То, что естественно на Старой площади, может не пройти в Генеральном штабе.
— Господин хороший так давно носит маршальскую звезду, что отучился замечать какие-то перемещения охраны.
— Когда приступят?
— Мгновенно по получении приказа.
— Хорошо. Вот только… Тебе не кажется, что такая смерть многим покажется неестественной?
— Да пусть кажется. Никто не жалеет мертвых. А мертвых придворных, особенно когда предстоит делить портфели, кресла и грядущие миллиарды… О них забывают насовсем. Если какой-то писака и отработает пару версий, то уж это их хлеб — плести небылицы.
— Любая небылица…
— Ну да, ну да… Крупица истины. Сплетни о дворцовых интригах. И это хорошо: сплетни создают вокруг власти ореол, ореол тайны. Без такого ореола любой человек на троне — всего лишь персона, но еще не государь.
— А ты умен, Маэстро…
— Чем богаты…
— Хорошо. Я очень занят. И не сплю третьи сутки. И пока не знаю, когда придется выспаться… Поскольку ты зашел не просто потрепаться, то и давай сочтем протокольную часть законченной. Еще коньяку?
— Самую капельку. Для тонуса. Маэстро поднялся, налил коньяка на дно толстенного стакана, вдохнул аромат, выпил глотком.
— Меня беспокоит Кит, — произнес он тихо.
— Мазин? Но он не участвует в… — Мужчина неопределенно кивнул в сторону Кремля.
— Именно поэтому. Вы упустили его из виду на все время подготовки… представления.
— Да? Ну и?..
— А он активен. Очень активен.
— Ты слушаешь его спецсвязь? — удивленно и настороженно поднял брови сухощавый.
— Нет. Вы же знаете, что это невозможно. Но…
— Да?
— Он ведет активную игру. Свою игру.
— Маэстро, ты не хуже меня знаешь, что по проекту «Снег» никто не может вести свою игру. Слишком щекотливая тема…
— …и слишком большие деньги, чтобы не попытаться сделать такую игру своей. Да.
Очень большие деньги. Живые, наличные, обезличенные. Это сейчас Мазин, как и многие, имеет власть потому, что на плечах погоны. Через семь — десять лет они будут значить не больше чем спичечные этикетки. А Никита Григорьевич не походит на человека…
— Прекрати изучать подходы, говори конкретно: что-то накопал?
— Да.
— Слушаю.
— В отдел собственной безопасности поступила докладная одного офицера…
— Кого именно?
— Он занят в проекте «Снег», так что ни его имя, ни его звание мне были не известны. Он подписался как Барс.
— Барс… — Сухощавый произнес оперативный псевдоним одним выдохом, с шипением выпустив воздух сквозь плотно сжатые губы. — Дальше.
— Это не единственная его докладная. Есть дубликат.
— Куда? В ЦК?
— Ну что вы… Он же все-таки не анонимщик, а спец. На Ходынку.
— Это достоверно?
— Да.
— Дальше.
— Мы затребовали расшифровку по оперативному псевдониму, но…
— Понятно…
— Тогда я воспользовался кодом «С-90».
— Маэстро, использование этого допуска возможно только в случаях…
— Я решил, что это такой случай.
— Ты решил ?
— Да.
— Хм…
— Он действительно такой.
— Ты узнал имя Барса?
— Да. И успел проверить: его нет в Москве.
— Нет?
— Он исчез. Сухощавый задумался:
— Странно, что у тебя хватает времени…
— Я объяснил: наркотики — это деньги. Деньги — это власть. А что важнее власти?
— Ты лаконичен.
— Не всегда. Скорее наоборот. Но иногда у меня получается. Да и кто в детстве не восхищался спартанцами?
— Разве мы сейчас заняты не властью?
— Ею. Но ту ее крупицу, которую упустим сейчас, не наверстаем потом никогда. С риском потерять все.
— Да?
— Это мое мнение.
— Что ты еще выяснил?
Маэстро сжал губы, выдохнул коротко:
— Барс исчез. Вместе с женой и дочерью. Полагаю, на него охота.
— Барс — слишком крупный зверь, чтобы на него можно было поохотиться безопасно…
— Разве у Кита не хватает загонщиков?
— Ты прав. Хватает.
— Если он замкнет проект «Снег» на себя лично и потом исчезнет… — Посмотрел внимательно на сухощавого. — Любой, кто замкнет на себя проект «Снег»… Сколько там конкретно? Включая «тропы», лаборатории, товар, агентов прикрытия во властных структурах стран Запада и Востока?.. Миллионов на сто? Живых, быстрых денег… Полагаю, сейчас такой свободной суммой мало кто располагает у нас… И эти деньги дадут обладателю возможность…
— Нет, — отрезал сухощавый. — Не будь наивным. Маэстро. Никакой возможности. Или ты считаешь, мы позволим кому бы то ни было влезть в основные проекты?
— Ну да… Газ, нефть, цветные металлы, алюминий, оборонка… У меня такое впечатление, что Никита Григорьевич и не станет спрашивать разрешения… Ни у кого… Ну и в случае отказа… Тот, кто получает пулю, не властен ни в чем.
— Ты считаешь…
— Любую негативную возможность легче предупредить, чем устранять последствия активной акции… противника. Азбука.
— Азбука… — повторил сухощавый. — Азбука.
Он закрыл глаза. Набранные курсивом строки словно стояли перед ним: он так часто перечитывал эту книгу, что многое помнил наизусть; тем более жизнь так часто убеждала его в истинности сказанного более четырехсот лет назад…
«Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй — зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, что Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщались к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы?» Мужчина думал о сидящем напротив Маэстро… Да, он неповторимо артистичен в своем деле, быстр, обаятелен, умен… Хотя — еще молод… Но в нем это звериное чутье развито настолько, что… Странно, почему он довольствуется тем, что имеет?
Сухощавый поднял глаза:
— Маэстро…
— Да?
— Я давно хотел спросить тебя… Только я хочу, чтобы ты ответил искренне.
— Насколько в моих силах, — .пожал плечами тот. — Игра в откровенность — это для юных мальчиков и девочек; причем проигрывает в ней тот, кто любит больше и потому играет честно. У нас, слава Богу, не любовь, — хмыкнул он.
— Именно поэтому я и спрашиваю тебя: почему? Почему ты сам не стремишься к карьере?
— Разве мою карьеру можно назвать неудачной?
— Маэстро, ты же понял мой вопрос. Твоя карьера — карьера исполнителя, блестящего, непревзойденного, но исполнителя. Разве тебе не хочется власти?
— Власти? А что есть власть?
— Прекрати. Не нужно играть со мною в игры.
— Все просто. Я — слуга.
— Мне странно…
— Что я признаю это? Да, вы правы, я честолюбив. Но не тщеславен. «Опасности таятся на верхах».
— Тебе ли бояться опасностей, Маэстро?
— Ничто человеческое мне не чуждо. К тому же… Помните слова герцога Кента?
«Мой род занятий: быть самим собой».
— «Чего ты хочешь?» — поддержал игру сухощавый.
— «Служить. В вашем лице есть что-то такое, что покоряет».
— «Что же это?»
— «Властность».
— Маэстро, ты не ответил…
— Разве? Чтобы быть самим собой, мне необходима свобода. Полная. Несомненно, я преуспел бы, работая сам на себя. Но надолго ли? Мне нравится то, чем я занят.
Еще больше мне нравится быть самим собой, не скрывать своего "я". На любом другом поприще все, что я делаю, считалось бы преступлением, а у нас… Да, я не король. Но — герцог.
— Но ты слишком умен, чтобы…
— Умному достаточно. Только идиоты спешат заполучить весь мир… Как бы не так: престол давно занят, и князь мира сего, как любой владыка, не терпит конкурента.
Может быть, не стоит с ним соперничать? Особенно в искусстве смерти?..
— Спасибо, Маэстро.
— За что, Лир?
— За откровенность.
— Хм…
Лир ткнул кнопочку на пульте дистанционного управления. Зажегся экран телевизора. Послушал некоторое время выступление строгой ведущей, убрал звук, спокойно констатировал:
— Все идет по плану.
— Да? А раньше? — усмехнулся Маэстро.
— Тоже по плану. Только по чужому. — Лир прикрыл глаза. — "Крайне характерным для описываемой эпохи является не только то, что ее герои сами фабрикуют одну только грязь, но и то, что они непременно стараются вывалять в грязи все великое в прошлом. Аналогичные дела всегда приходится констатировать в подобные эпохи.
Чем более жалки и гнусны дела рук такой «новой» эпохи и ее деятелей, тем ненавистнее для них свидетели подлинного величия и достоинства".
— Хорошо сказано. И кто автор? Вы?
— Нет, Маэстро. Это цитата.
— Просто как про перестройку сказано.
— Дальше — лучше. «В области политической жизни не раз бывало так, что если судьбе бывало угодно на время отдать власть в руки политического нуля, то этот нуль проявлял невероятную энергию, чтобы оболгать все прошлое и облить его грязью. И в то же время такое ничтожество пускало в ход все самые крайние средства, чтобы не допустить хотя бы малейшей критики по своему собственному адресу».
— Блестяще! — Маэстро азартно наклонился вперед. — Так кто автор?
Сухощавый улыбнулся едва заметно тонкими бесцветными губами:
— Адольф Гитлер.
— Гитлер?
— Ты озадачен? Парадоксы истории. Парадоксы власти. Но притом ни один диктатор не желает видеть в зеркале своего отражения…
Маэстро прикурил, жадно затянулся, произнес тихо:
— У вас превосходная память, Лир.
— Да. Никогда не жаловался. К тому же… Кто не помнит прошлого, обречен повторять его вновь и вновь. — Маэстро улыбнулся одними губами:
— Так что с Никитой Григорьевичем?
— Ты его обставил?
— Естественно. Лир задумался.
— Кому-то нужно будет возглавить проект… — Быстро, остро глянул на Маэстро.
— О нет, Лир. Увольте. Пусть я и служу, но в своем деле я — свободный художник.
А возглавить… Возглавить найдется кому. Чтобы руководить хорошо отлаженной системой, вовсе не нужен ум — только дисциплинированность. Чем меньше фантазии, тем лучше. Да и… Сначала нужно решить с Китом.
— Ну что ж… Если маршалы смертны, генералы — и подавно. Ты справишься?
— Почему нет?
— Если организовывать полную зачистку по проекту…
— В обычное время нужно было бы чуть больше времени, а сейчас… При такой общей несвязухе на десяток лишних слетевших голов никто и внимания не обратит.
— Сколько конкретно тебе нужно времени?
— Время уже определено. «Только три ночи».
— Ты сможешь уложиться? — Лир испытующе смотрел на Маэстро.
— Да, вы правы, Лир. — Тот не отвел взгляда. — Операцию я продумал и подготовил загодя.
— Приятно, что ты не соврал.
— А смысл? — пожал плечами Маэстро.
— Тот, что ты назвал: это сейчас власть — погоны, через пятьдесят лет она будет измеряться в деньгах. А несколько десятков миллионов долларов — вполне достаточная сумма, чтобы сыграть свою игру.
— Не для меня, Лир. Мой род занятий — быть самим собой. Лишь немногие в этом мире могут себе это позволить. А из людей с моими… э-э-э… талантами — и вовсе считанные единицы. К тому же…
— Да?
— Как сказал Гамлет? «Распалась связь времен…» А жить среди обломков слаще разрушителем.
Глава 46
19 августа 1991 года, 9 часов 27 минут
Никита Григорьевич Мазин ехал в сторону Москвы. Патруль стоял на кольцевой.
Зеленый армейский «уазик», двое бойцов в пятнистой униформе и офицер.
Мазин чертыхнулся: только этих не хватало сегодня. Тем не менее, разглядев полновесные «Калашниковы», притормозил. День сегодня странный, служивые — нервные, и если что — пальнут невзначай, а потери спишут.
Серая «Волга» Мазина притормозила и остановилась прямо перед подвижным постом.
Офицер подошел, козырнул, не представляясь, потребовал:
— Документы.
Как раз документы у Мазина были в полном порядке. Он молча открыл перед офицером красную книжицу, но ни то, что сидящий в машине оказался в столь высоких чинах, ни наименование грозной конторы, ни собственноручные подписи председателя КГБ и Президента СССР внизу документа не произвели на начальника поста никакого впечатления. А ведь это был так называемый «вездеход»!
— В Москву направляетесь? — спросил «лейтенант».
— Да хоть в Пекин, не твое дело!
— Да?
Черт! Мазин пытался быстро прокачать ситуацию. Кто они? Армейские? Не похоже…
На конторских — тем более. Ряженые? Откуда? Из ГРУ или спецотдела ГБ? Черт!
Зависнуть где-нибудь на фильтрационном пункте до окончания спектакля — на трое суток, как минимум! — ему не улыбалось.
Мазин вынул залитый пластиком спецпропуск с массивной печатью ГКЧП.
— Эта ксива тебя убедит, служивый?
— Выйдите из машины! — вместо ответа, потребовал «лейтенант».
«Рядовой» стал рядом с автомобилем, направив ствол «калаша» прямо в лицо Мазину.
— Свяжитесь со своим командиром! — приказным точном произнес Мазин как можно более спокойно: да, ряженые! И откуда они — гадать некогда. Теперь он пытался выиграть время, медленно, осторожно потянулся за пистолетом, лежащим между сиденьями и скрытым наброшенной фланелью.
— Вытряхивайся из телеги, фраер, я сказал! прикрикнул «лейтенант».
Оружие Мазин достать не успел. Ствол автомата разбил ветровое стекло и ткнул генерала в лицо с такой силой, что голова дернулась; сразу вслед за этим «лейтенант» резким движением выбросил руку, его огромный кулак угодил в висок, и тело Мазина беспомощно сползло на сиденье.
— Ты не переборщил. Браслет? — встревоженно спросил «рядовой».
— Больно он шустрый. — Наклонился, вынул из-за сиденья длинный пистолет с интегрированным глушителем. — Авторитетные «волыны» у этих конторских, а.
Коваль?
— Ты его мочканул!
— Да не, дышит… Хватай давай, тяжелый, боров. Втроем боевики подхватили Мазина, подволокли к «уазику».
— Забрасываем?
— Погоди. Дай обшмонаю. Эти конторские могут любую подлянку учинить…
— Ну что, чисто?
— Оружия нет, но Резо предупредил: шмонать дочиста. Как-никак генерал. А у них спроста генералами не становятся: поди столько душ на совести, что и нам с тобой не снилось! Раздевай давай до трусов! Чтобы не думалось. И ручонки ему связать сзади…
— Может, кандалами?..
— Ремнем. Так надежнее.
Связанного, бесчувственного Мазина забросили в машину.
— Коваль, глянь в аптечке нашатырь! Нашел?
— Вроде он…
— Неси сюда… — Браслет поднес к носу плененного пузырек.
Голова Мазина дернулась.
— Во, ожил, сука! Поехали!
— Погоди, Браслет, что с тачкой его делать? Забирать?
— Ты чего, совсем охмурел? Да мы в этой тачке всю контору на хвосте к Резо привезем! Эти конторские сильно умные, как знать, может, маячок какой воткнули… Серый, — приказал он второму «рядовому». — Бери тачку, гони в лес и спали! Дочиста, понял?
— Угу, — угрюмо кивнул Серый.
— И не угукай! А живо! Одна нога здесь, другая…
— Да сделаю. Браслет… Потом мне куда? К Резо? — Не. На хазу езжай и заляжь там. Усек?
— Ну.
— Все. Разъехались.
Через пару минут на пустынной дороге не осталось никого и ничего, кроме горсточки битого стекла.
19 августа 1991 года, 9 часов 55 минут Маэстро мчал на «Жигулях» в сторону от Москвы. Место, где стопорнули «волжанку»
Мазина, он едва не проскочил. Притормозил, включил заднюю, вернулся. Вышел из автомобиля, внимательно осмотрел дорогу. Подобрал несколько кусочков битого стекла. Поиграл ими, подбрасывая на ладони. Вернулся в машину, быстро глянул на экран мини-пеленгатора. Зеленовато-серая точка тихо пульсировала на одном месте.
— Замочили голубчика? — равнодушно спросил застывший на сиденье худощавый мужчина средних лет. Если Маэстро был красив, ярок, чувствен и гибок, его напарник был похож на замороженную мумию фараона: бесцветен, бесстрастен и безрадостен, словно у него вместо сердца не пламенный мотор, а осколок нетающего льда откуда-нибудь из глубин Антарктиды. Впрочем, и оперативный псевдоним у него был соответственный — Кай.
— Похоже на то…
— Как некстати, — монотонно, безо всякого выражения констатировал Кай.
— Хотелось бы узнать, кто…
— Машина очень недалеко. Подъедем — узнаем.
— Мертвые молчат.
Кай только пожал плечами.
— Ты сориентировался по карте? — спросил Маэстро.
— Да. Четыре километра отсюда..
— Должна быть дорога.
— Она и есть. Проселок. Метров через восемьсот.
— Двинули.
19 августа 1991 года 9 часов 59 минут Микола Сердюк по кличке Серый кропотливо разбирал «волжанку». Жаль было гробить такое чудо техники. Едва открыв капот, он подивился на форсированный фордовский движок… Да и колеса были от того же агрегата… Нет, бросать такое добро за просто так…
Он отворачивал винт за винтом, покряхтывая, медленно, неторопливо. Браслет приказал спалить? Он, Серый, спалит, это без дураков… Но к чему такое добро кидать навовсе? Дурость, и все. Спалит остов, а остальное… Прикупить кузовок — дело плевое… И вот установить на него потом этот движочек да эти колесики…
Да пылить по шоссе, запросто обувая всех… Еще на заднее ветровое какой-нибудь причиндал иноземный приспособить, вроде: «I Fuсk You Еvеrуwhеге!» Шик? Еще какой шик! Его, Серого, «волжана» станет легко «делать» любые тачки! И все оставшиеся позади просто прочтут, как он их трахает! Жизнь вообще такая: или ты, или тебя!
Везде.
Еще винтик… Еще…
— Бог в помощь… — услышал Серый сзади. Потянулся к рукоятке пистолета за поясом — и вскрикнул от острой боли, грохнул ничком на землю. — «Жадность фраера погубит», забыл пословицу?
Черноволосый мужчина гибко нагнулся, выдернул пистолет из-за пояса Серого. Тот выл, обхватив обеими руками голень: пятку ему прострелили…
— Ну, болезный, сразу каяться начнешь или тебе квалифицированный исповедник нужен?
— Волки! Суки! Вяжите, ничего не скажу! Падлы! Паскуды…
— Ругается как живой, а, Кай? А ты говорил — мертвые молчат!
— Я так говорил? — безо всякой интонации произнес Кай.
— Побеседуй с ним. Ласково. И быстро. Боюсь, времени у нас совсем мало.
— Отчего ж не поговорить… — Кай наклонился к раненому, извлек из кармана маленький никелированный пинцет…
Маэстро отошел к дереву, закурил.
Дикий крик разорвал тишину леса и затих, перешел во всхлипы…
Маэстро оглянулся. Со стороны было похоже, будто какой рыбачок наклонился к сильно подвыпившему приятелю, а тот шепчет ему на ухо свои алкогольные бредни…
На этот раз вскрик был коротким и резким. Кай тронул за плечо Маэстро:
— Он в особняке. Дом отдыха Министерства культуры. В двадцати километрах отсюда.
— А этот — чей?
— Блатной. Человек Браслета.
— Кто есть Браслет?
— Авторитет голошихинской группировки. А главный над ними — некий Резо. Его еще называют — Большой Резо.
— Почему?
— В Грузии есть еще Резо Маленький.
— Черт их разберет. А это кто? Кай пожал плечами:
— Мясо. Солдат.
— Кончил его?
— Да.
— Он сказал о причине захвата Мазина?
— Нет. Но он сказал все, что знал.
— Ладненько. Систему охраны этой хазы минкульта ты выяснил?
— А там и выяснять нечего… — Лицо Кая скривила невнятная гримаска, которую только человек с большим воображением мог бы принять за улыбку. Но Маэстро знал:
Кай именно улыбался. — Детский сад…
— Поехали… — велел Маэстро и направился к «жигуленку».
— «Волгу» сжечь?
— Кай, с каких это пор ты стал задавать глупые вопросы?
— Казенное все же имущество… — пожал плечами тот.
— Считай, что уже нет;
— На нет и суда нет.
Труп Серого застыл за рулем. Кай щедро полил бензином салон, бросил канистру.
Мотор «жигуленка» уже работал. Кай плюхнулся на сиденье.
— Гори оно все огнем! — Маэстро выщелкнул зажженную спичку и дал газ. Позади ярко вспыхнуло, взрывная волна сжала перепонки… Ни Маэстро, ни Кай даже не оглянулись. Они привыкли к огню. Это была их профессия.
* * *
19 августа 1991 года, 10 часов 34 минуты
— Извини, дорогой, что мое приглашение получилось таким спешным и не вполне корректным… — Лицо Большого Резо, казалось, лучится радушием, но глаза были темны и холодны, как жерла пистолетных стволов. — Обстоятельства…
Никита Григорьевич поджал губы. Он знал, на чем прокололся. Он привык… Он привык жить в этой стране хозяином, полновластным хозяином! Он привык, что мирно покоящийся в кармане кусочек красного картона с тремя подписями-завитушками и печатью, на которой отчетливо читались две столь хорошо знакомые всем буквы «ЦК» был и щитом, и карающим мечом…
Словно волшебный перстень, удостоверение многие годы отражало его от всех возможных и даже невозможных неприятностей в этой стране… Нет, он никогда не терял бдительности, тренированного чутья, когда… был не дома. А здесь…
«Корочки» были «перстнем Аладдина», дающим его обладателю почти сверхъестественную силу: менты бледнели и замирали, только завидев «вездеход» и красную поперечную полосу, таможни и границы открывались, словно ворота Сезама, вышколенная «девятка» замирала в дверях любых учреждений в почтительном, дисциплинированном безразличии, пропуская обладателя в кабинеты, спецсанатории, распахивая все двери и отмыкая все замки…
И вот он, генерал Никита Григорьевич Мазин, сидит в несуразной полосатой пижаме, словно овца, перед жестоким и жестким авторитетом, который класть хотел на все правила и знал для себя лишь одно, гениально сформулированное великим Мао:
«Винтовка рождает власть». Они ожирели, они превратили свои удостоверения из символа власти в мягкое ватное одеяло, они погрязли в высших, почти математических играх на полях власти, забыв это простое правило… А Резо, как и те, кто сидит сейчас рядом с ним, другого никогда не знали.
Никита Григорьевич усмехнулся горько. Самое противное, что он все это понимал, но — не успел. Не успел сделать что-то — быстро и решительно. Ничто хорошее не остается безнаказанным. Особенно многолетнее чувство превосходства и защищенности… Вот судьба и сыграла с ним шутку; возможно, последнюю в его жизни. Хотя…
Да пошли они все к дьяволу! Он — генерал и танцевать под дудку какого-то уголовника не станет, никогда!
Мазин жестко свел губы.
— В чем дело, Резо? Ты что, решил, что этот концерт для сельских тружеников, — Мазин кивнул на работающий беззвучно телевизор, — позволяет тебе спеть сольную партию?
Да! Он попал! Пусть на долю секунды, но заметил в темных зрачках авторитета замешательство…
— Если тебя смущают обстоятельства, то нужно менять их, менять мотивированно, а не выпускать дебилов со стволами на большую дорогу! — продолжил Мазин.
— Резо, разреши, я ему врежу! А то этот гусь лапчатый на своей Лубянке привык вякать командным голосом даже в сортире! — пританцовывая, попросил Браслет.
— Никита, дорогой, — примиряюще сказал Резо. — Ты же знаешь, как я тебя уважаю и всегда уважал… Но бывают моменты, когда…
— Таких моментов не бывает! — Мазин полностью пришел в себя. Случались ситуации и похлеще! И если даже ему предстоит остаться здесь навсегда, он готов умереть, но умереть волком, а не овцой! — Ты решил осложнить себе жизнь?
Зрачки Резо сузились, кажется, сейчас они готовы были полыхнуть пламенем гнева… Но вместо этого, кавказец произнес тихо:
— Кит… Ты давно играешь в эту игру… Здесь как в картах: или ты сидишь за хорошим столом и сдаешь, или сдают тебя. Сейчас для тебя — второй случай. Давай прекратим прения… Ведь речь идет, как минимум, о тридцати — сорока миллионах… долларов.
— Что ты имеешь…
— Прекрати, Кит, — улыбнулся Резо и произнес мягко и внятно:
— Контейнер.
Думал Мазин скоро, как привык. Контейнер. Эти ребята знают о нем. Через кого?
Через Ахмеда, больше не от кого им было узнать. А Барс? Исключено. Черт!
Недооценил он этих чурок! Вернее, переоценил их алчность и недооценил их междусобойчик: все эти родоплеменные свары и, наоборот, родственные приязни…
Впрочем, своей Средней Азией ГБ если и занимался в последнее время, то только по верхам. Нет, созданное Андроповым подразделение "В" копало в Узбекистане, и хорошо копало, но только в строго заданном направлении… А Восток — дело тонкое… Здесь нужны ученые из соответственного научно-исследовательского заведения… Занимающиеся на первый взгляд полной козлятиной: отличием свадебного обряда у жителей двух соседних аулов или кишлаков — шайтан их разберет!
Контейнер. Если бы… Если бы они нашли контейнер, он бы здесь не сидел. Списали бы разом. Тридцать миллионов долларов — как раз такая круглая сумма, за которую можно списывать полки и дивизии, а не то что одного генерала.
Дальше. От кого прошла прямая утечка? От Кулихана, больше не от кого. Каким боком тот связан с Ахмедом, он, Мазин, не знал. Да это и не важно! Важно другое: если утечка от Кулихана, то Ахмед должен был найти контейнер, найти целехоньким!
Тогда зачем он полез делиться с Резо? Ему что, лишние деньги карман жгут? Такого просто не бывает. Тогда почему? Сбыт? Ну да, сбыт, тропы на Запад, созданные и им, Мазиным, теперь под контролем Резо. Героин без продажи не стоит ничего…
Черт! Нет, все не то! Почему тогда его, Никиту Мазина, захватили, а не прикончили?..
На бледном лбу Никиты Григорьевича выступила испарина… Конец клубочка где-то рядом, и он старался, но никак не мог его ухватить…
— Не стоит так переживать, дорогой Никита Григорьевич, — истолковал по-своему его состояние Резо. — Мы хорошо понимали друг друга раньше, поймем.и теперь…
Браслет! — скомандовал Резо тому «лейтенанту», что захватил Мазина. — Налей вина гостю!
Браслет подчинился: налил красное вино из оплетенной бутылки в высокий чистый стакан, но сам не понес, передал здоровому бугаю кавказцу, неподвижно маячившему за спиной Мазина: дескать, вы хозяева, вы и обносите гостей, а мне прислуживать конторскому — западло!
Никита Григорьевич принял стакан, пригубил и не отрываясь выпил до дна. Вино было исключительное и пошло сразу. Мозг заискрился, словно в голове вспыхнула радуга, по мышцам разлилось спокойное умиротворение. Мысль пришла сразу, простая, ясная и очевидная: да, контейнер они нашли, но не нашли содержимого!
Конечно, это полный нонсенс, но это так!
Следующая мысль была такой же ясной: Барс!
Барс!
Ай да сукин сын!
Нет, старик Мазин, давно, давно пора тебе на пенсию, гладиолусы на генеральской даче выращивать и мирно почивать на заслуженных лаврах старым пердуном, а не в игры играть! Как он сказал, Барс? «Я подстраховался». Он-то, Мазин, решил, что страховка Барса — его литературные мемуары, направленные в спецотдел ПГУ и в ГРУ. Первые давно перехвачены, вторые… Вторые тоже никуда не денутся…
А этот кошкин сын заначил себе страховку в тридцать миллионов долларов! Вполне достаточно, чтобы полтора десятка генералов от него мух отгоняли во время сна!
А не мог он уничтожить товар? Вряд ли, Барс, конечно, правоверный особист, но товар уничтожать не станет.
И получилось… И получилось, что он подстраховал и себя самого, и его, Мазина.
Вот только… Если он сумел переправить товар в какой-то медвежий угол, то есть организовать и провернуть операцию чисто, под носом Кули-хана и Ахмеда, значит… Значит, он, Мазин, и его недооценил, и найти товар без Барса вряд ли кто сумеет! Черт! Приказ уже отдан! Остановить! Немедля!
Взгляд Мазина заметался и замер, наткнувшись на собственные ноги, обтянутые полосатой махровой тканью и обутые в тапочки. Черт! На дачку, генерал, к гладиолусам! Но не сейчас.
Эти полагают, что героин у него, Мазина, в каком-нибудь неприметном схроне — страна необъятна, искать — не сыскать даже десяти спецслужбам, не то что каким-то уголовникам! Страховка будет работать сейчас… Посвящать Резо? Не стоит. Но выпутываться нужно немедленно!
Резо внимательно наблюдал за всеми изменениями в лице генерала.
— Никита Григорьевич, я рад, что вы не обижаетесь на нас… Нам есть о чем поговорить…
— Именно, — спокойно произнес Мазин. — Именно.
Глава 47
19 августа 1991 года, 10 часов 12 минут
— Доброе утро! — Аля влетела в комнату, как ветерок, и с визгом бросилась на кровать к родителям. — А я уже умылась!
Она забралась под одеяло, блаженно вытянулась, прищурилась, как довольный котенок:
— Папа, поедем сегодня опять на рыбалку! Только не на пруд, а на речку!
— А почему не на пруд?
— Там рыбы очень красивые. Мне их жалко.
— В речке тоже красивые.
— Нет, там мы будем ловить больших щук. Или еще кого-нибудь. А маленькие рыбки соберутся вместе и будут радоваться, что им теперь не нужно никого бояться.
— Только рыбаков…
Девочка задумалась на секунду:
— А на удочку попадаются только самые глупые рыбы. Их не жалко.
— А может, самые задумчивые?
— Может! — Алька быстро повернулась к маме; — Мама! Сначала мы с папой будем ловить рыбу, а потом пойдем с тобой в лес стрелять!
— Стрелять? — удивленно округлила глаза женщина.
— Ага. По консервным банкам. У нас теперь есть две пустые из-под сгущенки.
— Алька, я пистолет не брала.
— А вот и не правда! Он у тебя в сумке! Я знаю!
— Да не брала я! Зачем он мне здесь?
— А вдруг — волк?
— Волка таким пистолетом не напугаешь, — рассмеялась Наташа.
— Еще как напугаешь! Бах — и он будет со всех ног улепетывать! К тому же тебе нужно тренироваться. И мне тоже, — заявила девочка с большой серьезностью.
— А тебе зачем?
— Как это — зачем? Я же в третий класс перешла! К тому же я в классе самая старшая. А то Светка Снегирева задается много, что у ее папы большая машина и он ее каждый день в школу привозит. А в тир пойдем — там посмотрим, кто лучше стреляет!
— Девочке вовсе не обязательно стрелять.
— Еще как обязательно! Пашка Доронин как увидел у меня гильзы, так сразу стал канючить и меняться. И на значки, и на марки. Ему нравится, если девочка хорошо стреляет.
— Путь к сердцу мужчины лежит через тир, — хмыкнула Наташа, легонько ткнув Егорова в бок. — Гены.
— Папа! — Теперь девочка взобралась верхом на отца. — Нечего спать! Так все лето проспишь! Давай готовить снасти. Только сначала расскажи мне сказку!
— Вечером, ага?
— Не ага! Ты вчера обещал рассказать, а не рассказал.
— Так ты же уснула!
— Но я же не виновата, что так спать захотелось? Я думала, во сне посмотрю. И не посмотрела. Поэтому рассказывай.
— Может, лучше вечером?
— Нет, я опять усну. Я останусь без сказки. Я хочу сейчас. Как будто уже вечер.
— Ну ладно. Так про что сказку?
— Про меня.
— Давай. С чего начнем? Алена задумалась.
— Начнем так: «Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…» А теперь рассказывай ты.
— В машине сидела девочка Аля. А у нее был мишка Потап. С виду он был плюшевый, а на самом деле — живой и умный.
— Да! Мой мишка Потап — очень умный! — Девочка прижала к себе плюшевую игрушку.
— Когда-то злой колдун Карачун похитил этого медвежонка из леса и превратил в игрушку: набил опилками и заставил танцевать для потехи, но мишка Потап был добрый и вовсе не обижался, что ему приходится веселить детвору. Наоборот, он был доволен и счастлив, что попал к доброй девочке Але, что она его не обижает и заботится о нем. Иногда, когда девочке становилось грустно, она заводила его ключиком и просила станцевать, и мишка танцевал, двигая лапами и качая головой.
Но взгляд у него при этом был грустный. Он в такие минуты скучал по лесу и очень хотел вернуться домой, но потом вздыхал про себя: девочку он тоже любил и расставаться с ней совсем не хотелось. А больше всего ему бывало грустно потому, что он не умел говорить и не мог рассказать девочке о том, какой он и как он ее любит. Но Потап верил в то, что когда-нибудь девочка сама научится его понимать безо всяких слов.
— Эй, давайте завтракать! — весело сказала Наташа, появляясь в дверях кухни.
— Мама, ну вот, опять! Как только папа начинает рассказывать, ты сразу мешаешь!
— Он дорасскажет потом.
— Всегда все — потом! Я уже не маленькая!
— Ну а раз не маленькая, то живо — за стол. Тем более, что утреннюю рыбалку дружно .проспали все.
— Зато сказку не проспали, — резонно заметила девочка. — А купаться тоже пойдем, ладно?
— Ага.
— Или в лес лучше?
— А вот за завтраком и решим.
— Хорошо. — Аля послушно встала и направилась на крохотную веранду, где располагалась кухня.
— А ты? — спросила Наташа мужа.
— Я через минутку…
— Егоров… — покачала она головой. — Я Альку воспитываю-воспитываю, а ты…
— Наташ, я правда на секундочку… — Володя щелкнул тумблером телевизора. — Нужно же мне узнать, что в стране творится?!
— По телевизору ты узнаешь, как же…
— А это смотря как глядеть. Наташа пожала плечами:
— Только недолго, ладно?
— Ладно.
Допотопный черно-белый «Рекорд» загудел, потом экран засветился белым, и по этой снежной пелене равномерно побежали всполохи помех.
«Трудовые коллективы по всей стране выразили единодушную поддержку Государственному комитету по чрезвычайным ситуациям, — услышал он голос дикторши. — Наш корреспондент передает из Кемерова…»
Изображение прояснилось, но всполохи продолжали идти едва заметно, чередуясь через равные промежутки.
Егоров застыл на месте. Встал, неслышными шагами подошел к телеприемнику, стукнул по боковой стенке. Весь экран мгновенно покрыла сеть помех.
— Ну и долго ты будешь слушать эту бодягу?! Алька без тебя есть наотрез отказывается! — Наташа стремительно вошла в комнату. Егоров обернулся к жене.
Она собиралась еще что-то сказать, но, увидев его глаза, тоже замерла. Мужчина выразительно обвел глазами потолок и стены и приложил указательный палец к губам.
* * *
19 августа 1991 года, 10 часов 43 минуты
Выстрела Мазин не услышал. Его никто не услышал. Большой Резо просто-напросто замер вдруг и мешком рухнул на пол.
Боевики попытались было выхватить оружие, но тихие хлопки выстрелов защелкали часто-часто, один за другим люди падали на багровый ворс ковра, сраженные наповал.
— Восемь, — насвистывая нечто веселое, по лесенке из комнаты второго этажа спускался черноволосый молодой человек. Вернее, не совсем молодой, но то, что сорока ему еще не было, Мазин мог поручиться. В обеих руках было зажато по тупорылому бесшумному пистолету.
Молодой человек легко подошел к столу, налил себе коньяку в широкий стакан, вдохнул, зажмурившись, аромат и медленно, смакуя, выпил.
— А знает толк эта шантрапа в напитках, а, генерал? — весело спросил он Мазина.
— Что это у вас за развеселый наряд?
— Кто вы? — спросил Мазин.
— Вы, Никита Григорьевич, можете называть меня Маэстро.
Дверь открылась, на пороге появился совершенно бесцветный и безрадостный субъект неопределенного возраста и столь неприметной наружности, что назвать его «серым» было бы лестью. — Чисто, — уныло и безразлично констатировал он.
— Сколько? — деловито заинтересовался Маэстро.
— Шестеро. Четверо во дворе, двое — в подвале.
— Итого… — Маэстро поднял глаза к потолку и стал похож на старую картинку из учебника «Устный счет». — Итого, если с водителем и тем придурком, что маячил за воротами, — шестнадцать. Это все?
— Это все, — как эхо повторил неприметный.
— Ты прав: детский сад. Так это и есть хваленая, организованная преступность? У меня полное впечатление, что просто приказа не было… А, генерал? Да, забыл представить: мой, э-э-э… коллега, собрат, так сказать, по профессии, Кай.
Помните «Снежную королеву»? Вот он как раз оттуда. Молчалив, как айсберг, и холоден, как арктический бриз, если таковые, конечно, бывают в природе.
— Вы оказали мне услугу…
— Если это так можно назвать, Никита Григорьевич.
— Вот именно. Вы из…
— Естественно.
— Вас не смутит, если поинтересуюсь, из чьей епархии?
— Не смутит. Тем более, что я не отвечу. Да вы и сами понимаете, что вопрос ваш против правил.
— А это все — по правилам? — обвел глазами Никита Григорьевич комнату. — Американский боевик, а не особняк в Подмосковье…
— Боюсь, если процесс пойдет в том же направлении, в каком имеет место быть, такая картинка через пяток лет станет настолько банальной даже для обывателя, что… А правила… Никита Григорьевич, вы же прекрасно знаете наши правила: можешь — делай. Кстати, вы знаете, что это за особняк?
Мазин чуть помедлил, словно прикидывая, стоит ли отвечать откровенно:
— Нет.
— Закрытый санаторий минкульта. С прошлого года на ремонте.
— Судя по отделке, ремонт успешно завершен.
— Угу. Ас сегодняшнего дня — и съемщики здание освободили.
— Полагаете, навсегда?
— Уверен, Никита Григорьевич, уверен. Люди суеверны: даже при всех выгодах места они не станут его обживать заново после такого… А уголовники суеверны втройне.
— Вы хоть знаете, кого завалили… э-э-э…
— Маэстро.
— Маэстро? — завершил вопрос Мазин.
— Бандитов, — пожал плечами тот.
— Не вполне так. Это, — Мазин указал на Большого Резо, — один из крупнейших авторитетов воровской Москвы.
— Был… — лениво обронил Маэстро.
— У вас есть родственники? Знаете, Маэстро, это слишком даже для нашей конторы.
— Вы читали Орлова?
— Кого?
— Орлова. Роман «Альтист Данилов»?
— Не довелось.
— Напрасно. Весьма познавательная вещица. Так вот, там был один герой, Кармадон.
Естественно, демон. У него был довольно самоуверенный девиз: «Ничто не слишком».
К чему я? Такой девиз мог бы украсить штаб-квартиру любой секретной службы, нет?
— Может быть. Но ведь вы же не демон, Маэстро…
— Как знать, дорогой Никита Григорьевич, как знать. Маэстро вынул пачку сигарет, предложил Мазину.
— Благодарю… — отозвался тот. — Я предпочитаю папиросы.
— Чего нет, того нет.
— Я не спрашиваю, что вы собираетесь предпринять дальше, но полагаю, вы не запретите мне переодеться? — Мазин окинул себя взглядом. — В этом наряде отдыхающего я чувствую себя… — Он замолчал на мгновение. — Если, конечно, это не помешает вашим планам относительно меня.
— Отнюдь, Никита Григорьевич. Кай! — позвал Маэстро напарника. Тот объявился незамедлительно, словно сторожил за дверями и ждал команды. — Принеси костюм господина генерала.
Кай кивнул и исчез. Материализовался снова он так же бесшумно и неприметно, подал Мазину костюм. — Облачайтесь, генерал.
Теперь Мазин даже не пытался прокачивать ситуацию. Это было бы сейчас так же глупо и нецелесообразно, как при накате цунами исчислять время прилива.
Оставалось. только ждать.
Маэстро глянул на Мазина мельком, мгновенно оценил его состояние:
— Разговор у нас, Никита Григорьевич, будет кратким, но содержательным.
— А вы уверены, что он у нас вообще состоится, господин Маэстро? — иронически скривился Мазин. Достал из коробочки папиросу, тщательно отбил мундштук, закурил, чиркнув кремнем зажигалки.
— Уверен, — жестко отрезал Маэстро. — Работа такая: делать людей разговорчивыми.
Нет, не подумайте… Никакие пытки мы применять не собираемся. Есть гораздо более эффективные и быстродействующие средства, не мне вам рассказывать…
— Химия…
— Естественно. Но в таком случае ясно будет одно: вы категорически отказались с нами сотрудничать. Да и время потеряем.
Как ни странно, в разговоре с Маэстро Мазин чувствовал себя куда более уверенно, чем в «дружеской беседе» в компании Резо и его подручных.
— Вы не могли бы конкретизировать, Маэстро?
— Нас интересует проект «Снег».
— «Снег»? — удивленно приподнял брови Мазин.
— Да. Вы руководили проектом несколько лет, руководили успешно… Сейчас мы хотим лишь сменить приоритеты. Оставив вас у руля.
— Под вашим жестким контролем?
— А что в этом странного?
Мазин снова думал быстро. Итак, проект «Снег». Это название, как и содержание проекта, известно такому узкому кругу… То, что об этом знает Маэстро, причисляет к данному кругу и этого еще сравнительно молодого человека. По крайней мере, он весьма доверенное лицо того, кто стоит над ним. Это первое.
Второе. Человек, конечно, из конторы. В докладной Барс нигде не упоминал название проекта. Скорее его докладная была лишь мотивированной просьбой контакта. Может, это и есть контакт?
Третье, и главное. Судя по всему, парни не посвящены в последние… э-э-э… затруднения. Иначе их разговор не был бы столь благостным. Необходимо принимать решение, и принимать его немедленно. Приказ о ликвидации Барса уже отдан. С этой ликвидацией могут быть утеряны сотни килограммов героина. На оч-ч-чень кругленькую сумму. А это означает только одно: босс или боссы этого Маэстро мгновенно пересмотрят мнение о его, Мазина, «успешном руководстве проектом». Что для него это означает, и думать не хочется.
Решать!
— Я согласен, — произнес Никита Григорьевич. — Человек я служивый, а в нашей конторе давно привык к… изменениям.
— Вот и отлично. Вопрос первый: где Барс? Никита Григорьевич побледнел… Или он поторопился с выводом о степени информированности этих людей? И с ним просто играют в кошки-мышки? Чем заканчивается такая игра, известно…
Черт! Как бы там ни было, придется рискнуть. Потому что иного выбора у него нет.
— В деревне Сосновое Поле, на границе Калужской и Тульской областей.
— Что он там делает? — удивленно приподнял смоляные брови Маэстро.
— Это не важно. Важно то, что я отдал приказ о его ликвидации, — произнес он, быстро глянул на Маэстро, добавил:
— Это по правилам.
Маэстро молчал. Ждал продолжения.
— Ликвидацию необходимо отменить, — тихо произнес генерал.
— Почему?
— Барс подстраховался. — Мазин справился с замешательством, заговорил четко, будто ставил задачу подчиненным:
— Он изъял из тайника контейнер с порошком и спрятал неизвестно где. Узнал я об этом несколько ми-! нут назад, — Мазин кивнул на трупы, — от этих…
— А они — откуда?!
— Они обнаружили контейнер в старом схроне… Там оказалась… мука. Резо и его люди решили, что это я такой хитрый, и выдернули меня сюда. Разумеется, не спрашивая согласия…
— Как они вообще узнали о «Снеге»?
— Они и не знали. Просто нашли контейнер, предположили, что там наркотики…
— Ладно. Разбор полетов потом. Как я понимаю, сейчас необходимо остановить акцию.
— Да.
— В чем сложность?
— Мы можем связаться только по спецсвязи.
— Вы что, не предусмотрели никакого запасного «отбойного» варианта?!
— Нет. Уровень секретности операции да и то, что происходит сегодня…
— Ну вы и налажали, генерал! — покачал головой Маэстро. — В машину, быстро. Кай!
— Да, Маэстро!
— На объект «Буря»! Живо!
— Сделаем.
Все трое вышли из дверей особняка. Хлопнули дверцы машины, взревел форсированный мотор.
— А что с трупами? В особняке? — запоздало поинтересовался Мазин.
— Пусть тухнут.
— Это непрофессионально.
— Да пошел ты, генерал!
Мазин оскорбленно поджал губы. Или сделал вид, что оскорблен.
— Вы что, предлагаете спалить все? — насмешливо поднял брови Маэстро.
Мазин пожал плечами.
— Не жалеете вы общенародную собственность, Никита Григорьевич, совсем не жалеете, — хохотнул Маэстро. Добавил:
— А еще член партии. Да, — вдруг встревоженно встрепенулся он. — Надеюсь, вы помните шифры?
— Естественно.
— Ну и славно. Как давно отдан приказ О ликвидации?
— С час назад.
— С час назад… Боюсь, там уже догорают головешки… Ну да попытка не пытка, не так ли, Кай? — Маэстро похлопал по плечу сидящего за рулем напарника.
Тот только усмехнулся, внимательно глянул на Мазина в зеркальце заднего вида, на мгновение встретив его взгляд.
Мазину стало страшно. По-настоящему страшно. Может быть, впервые за много лет.
Ему вдруг показалось, что он в окружении безумцев…
Ну да… Этот мир давно сошел с ума. Поэтому здесь и господствуют безумцы. Эта мысль пронеслась мельком. Мазину было не до философических обобщений. Он напряженно думал. О том, как в этом мире выжить.
Глава 48
19 августа 1991 года, 11 часов 12 минут
Динамики старенького телевизора изливали могучие аккорды адажио «Лебединого озера». Казалось, кончалась эпоха, и, хотя вокруг все еще царствовал сон, сновидения становились все реальнее, рельефнее, то приобретая черты неотвратимого кошмара, то словно отсчитывая чеканную, тяжелую поступь черных маршевых колонн… Петр Ильич Чайковский предчувствовал грядущий век — век насилия, железа, крови… И сейчас мелодия слышалась заключительным, завершающим гимном ему же, этому веку, но уже уходящему… Крови еще будет немало, излетные пули тоже убивают. Наповал.
— Что будем делать? — прошептала Наташа Егорову на ухо.
— Выживать.
Егоров чиркнул спичкой, закурил… Был бы он один…
Стоп! Сослагательное наклонение в бою, в драке, как и в истории, — признак поражения. Уже свершившегося или грядущего! Вперед! Только вперед и вверх!
Он встал, подошел к рюкзаку, стоявшему отдельно в дальнем углу комнаты и заваленному всяким хламом. Покопался, аккуратно извлек что-то тяжелое, завернутое в мягкую ткань. Запер дверь в комнату, осторожно, стараясь не звякнуть, разложил оружие на постели: автомат «бизон», два длинных пистолета.
Прошептал жене на ухо:
— Сможешь стрелять из этого?
— Чтобы спасти Альку, я выстрелю даже из палки. В кого угодно. Ты думаешь, дом блокирован? Не выйти?
— Уверен.
— И что нам теперь делать?.. Ждать у моря погоды? Нет тут никакого моря.
— Зато погода отменная. Вполне тянет на прогулку на машине.
— А вдруг, как только мы выйдем, они начнут стрелять? Сразу?
— Это вряд ли. Но ты права, подстраховаться стоит.
— Как?
— Я выйду во двор, помаячу. Заодно — проверю машину: у этих ребят хватит ума подвесить нам «пластик» под днище. Хотя и это вряд ли…
— Почему?
— Им не нужен шум. Мы должны пропасть быстро и бесследно, словно нас и не было.
А взрыв машины мало похож на несчастный случай.
— Егоров, ты же сказал, что подстраховался… Чего же не работает эта твоя страховка?
— Честно? Не знаю!
— Ладно, дальше что?
— Я проверю машину, а ты — смотри…
— Снайперов?
— Да.
— Ты ерунду придумал.
— Почему это?
— Тебя убьют первой же пулей.
— Наташа…
— Так и будет. Потом — нас. Безо всякого особого шума. — Она подумала секунду. — Я пойду.
— Ната…
— Не перебивай. Скажи просто: ты им зачем-нибудь нужен? В чем твоя страховка?
— Теперь уже не знаю, — вздохнул Володя.
— А я знаю. В любом случае, эти люди до сих пор нас не прикончили, потому что боятся. И боятся они не меня, тебя. Поэтому я полезу под машину, да и женщина, хлопочущая во дворе по хозяйству, никого не удивит. Ты будешь страховать.
— Наташа…
— И не спорь. Это разумно, понимаешь? Ра-зум-но. Наташа подошла, отомкнула дверь. В ту же секунду на пороге выросла Алька:
— Ну и сколько вас ждать можно? Я же сказала: одна есть не буду!
— Идем.
Завтрак проходил вяло. Ни Егорову, ни Наташе кусок в горло не лез. Только Алька уплетала за обе щеки…
— Папа, а мы сначала на рыбалку или на охоту сегодня поедем?
— Что?
— Охотиться мы будем?
Егоров стиснул зубы так, что… Ответил коротко:
— Будем.
* * *
19 августа 1991 года, 11 часов 17 минут
— Ну что, проволынили? — Крас зло косился на командира «эксов». — Деревня проснулась… Начать сейчас стрельбу — неизбежное расследование.
— Да при такой несвязухе. в стране… — начал было Каин.
— Прекрати! Несвязуха — это сегодня. Еще пару дней. А потом… Система работает по обкатке любой нестандартной ситуации! Так что…
— Вечера будем ждать?
— Думать!
— Думай не думай… По мне, зайти в дом и порешить всех разом. А вечером — подпалить хату к едреной матери.
— «Зайти в дом…» — передразнил Крас. — Барс тебя хлебом-солью встретит? Каин пожал плечами:
— Управимся.
Крас заметил, что после разговора с Мазиным Каин как-то сник. Он ошибался.
Просто боевика начинал потряхивать кумар. Уколоться хотелось нестерпимо; разговор с Красом его раздражал уже сверх всякой меры.
— Она вышла, — произнес Крас, приникая к окуляру снайперского прицела.
— Кто?
Крас вместо ответа пробурчал нечто невнятное…
Каина трясла тяжелая внутренняя дрожь. Покончить бы со всем разом! И с этим семейством барсов, и с Красом, и со всеми остальными, и с собой… К чертовой бабушке… Дальше терпеть невозможно…
Он резко отполз назад, встал и пошел в чащу.
— Ты куда… — запоздало отреагировал Крас.
Но Каин уже бежал так, будто за ним гнались. Остановился, озираясь. Лес окружал со всех сторон тяжелой враждебной стеной.
Одним движением он сбросил куртку, задрал рукав рубашки. Выхватил из кармана жгут, перетянул руку. Из кармана извлек пластмассовую коробочку, оттуда — шприц.
С трудом зафиксировал иглу. Аккуратно обломил конец запаянной ампулки; пытался попасть дрожащим жалом иглы и все не мог, никак не мог… Поднял голову к небу, вдохнул несколько раз… Деревья обступали, тянулись к нему корявыми руками, желая выхватить зелье… Из горла Каина вырвался звероподобный рык, он на секунду прикрыл глаза и невероятным усилием заставил себя собраться… Попал.
Стараясь не дышать, втянул жидкость в шприц…
Ну, слава тебе… Вена таки нашлась… С усилием, напряженной левой рукой он тыкал раз, другой и все никак не мог проткнуть грубую, узловатую поверхность…
Холодный пот катился градом, застилая глаза… Деревья, казалось, совсем сомкнулись над ним, и из земли стали вырастать корявые, костистые руки…
Сейчас, сейчас они схватят его и утащат туда, в бездну земли, и мох затянет место, словно он, Каин, никогда и не рождался на этот свет.
Игла прогнулась упруго, вошла, темная кровь толчком окрасила содержимое шприца… Каин нажал на поршень. Горячая волна прошла по всему телу, окрасила мир темно-малиновым, и он словно провалился в забытье… Потом малиновый цвет ушел, все сделалось серебристо-невесомым… Каин открыл глаза. Деревья были будто застывшими, секунды тянулись долго, как часы, как годы, а он наслаждался звездным покоем, и ветерок, ласково касавшийся его щеки, был мягок как пух…
— Они собираются уезжать… — услышал он, и смысл слов не сразу дошел до Каина.
— Уезжать? — переспросил он с глупой улыбкой. Сначала он увидел ствол глушителя, направленный ему в грудь. Затем — фигуру. Она была громадной, монументальной, а лицо — словно разделенным на две половинки…
Затем он увидел, как одна половинка лица растянулась в улыбке, и зрачок пистолета показался ему сияющим, громадным пушечным жерлом…
— А ты останешься здесь. Гнить. Как падаль.
Огонь был едва различим… Он, Каин, вдруг вспомнил, что уже видел когда-то этот огонь, жертвенный огонь, приятный Всевышнему, но он горел на чужом камне… И тогда он, Каин… Что сделал он?
Вспомнить он не успел. В грудь, будто ударило тяжкой глыбой, разом сгустившаяся вязкая тьма заволокла все вокруг, его будто повлекло под этой тяжестью куда-то вниз, и он не чувствовал уже ничего, кроме скрежета размалываемых в осколки зубов…
Крас постоял над трупом. У него с души будто камень упал: только сейчас он осознал, насколько боялся этого человека. Именно поэтому, выстрелив в сердце, он не успокоился, пока еще пятью выстрелами не превратил лицо покойника в кровавое месиво. Поднял к губам переговорную рацию:
— Я — Крас. Вызываю «эксов».
— «Экс» — первый на связи.
— «Экс» — второй на связи.
— «Экс» — третий на связи.
— Приказываю: вариант «Загон». Всем разобраться по номерам. Минутная готовность: зверь на тропе.
— Есть.
— Конец связи.
Крас оглянулся. Кругом стеной стоял лес. Опознать этот кусок мяса невозможно. И это хорошо.
Скорым шагом он заспешил к машине. Сейчас будет охота. На крупного зверя.
Вернее, на весь выводок. И затравят их по всем правилам. А что может быть слаще охоты на людей? Только… Да. Хорошо бы девчонку захватить живехонькой… С ней можно заняться. Прикончить потом.
79 августа 1991 года, 11 часов 46 минут — Держись! Поедем быстро! — Егоров повернул ключ зажигания, мотор заурчал ровно и мягко.
«Жигуленок» с виду был неказист, но бегал ходко: мотором занимался кудесник в своем деле, сосед Егоровых Константиныч.
— А я люблю быстро! — отозвалась Аля. — На какого зверя будем охотиться?
— Мы просто покатаемся, — попыталась уверить ее Наташа.
— Мама, не считай меня за дурочку! У тебя же пистолет под курткой! Я такой здоровый и не видела никогда. Дашь стрельнуть?
— Алька!
— Что — Алька?! Я уже большая.
— Держись, большая!
Наташа и Аля разместились на заднем сиденье. В случае чего они должны были упасть на пол машины; в багажнике Володя еще в Москве установил два стальных листа, так что никакая пуля его девчонок в таком положении не достанет.
Пока Наташа маячила во дворе, он сумел засечь засаду, И не одну. Где-то недалеко должен быть передвижной пеленгатор; штука эта бронированная, выглядит как обыкновенный «УАЗ» — фургон. Если бы его захватить… Ну да на удачу можно надеяться, но нельзя рассчитывать. Рассчитывать можно только на себя.
Машина промчалась по деревне, вздымая по сухой дороге шлейф пыли. Дальше был лес. До райцентра — двадцать километров по плохонькой грунтовке.
— Сзади — никого, — удивленно произнесла Наташа.
— А им это и не нужно. Если ребята задействовали план «Западня» или «Загон»…
Здесь как раз такой случай: дорога одна, да и та — лесом.
Не доезжая до проселка, Володя резко крутанул руль вправо, и автомобиль помчался по стерне.
— Вот они, голубчики…
Фургон объехал деревню окраиной и пристроился метрах в ста позади «жигуленка».
— Ты поняла?
— Ага.
— Машин будет несколько. Поэтому «хвост» будем рубить по частям. Не промахнешься?
— Вот еще.
— По колесам. У фургона стекла бронированные.
— Поняла.
— И еще. Антенну видишь?
— Да.
— Сбить сможешь? Это их связь. Без нее у нас с ними шансы станут равные.
— Я постараюсь.
— Наташа, ты, пожалуйста, очень постарайся.
— Папа, мы что, в войну с этими дядями будем играть? — удивленно смотрела на приготовления родителей Аня.
— Вроде того, малышка.
— Ух ты! Здорово!
Гримаса исказила губы мужчины.
Фургон приблизился; теперь он держался в тридцати — тридцати пяти метрах позади, не приближаясь, но и не отставая.
— Кажется, впереди у нас будет сюрприз.
— Может, мне…
— Погоди пару минут. У них — радиосвязь, и ни к чему, чтобы противник знал, что он раскрыт, до того, как они начнут считать потери. Настоящие потери.
Теперь «жигуленок» мчался по едва заметной дорожке. Справа — река, слева — поле.
Постепенно открытое пространство сужалось, и редколесье все ближе подступало к реке.
Егоров положил на сиденье автомат.
— Думаешь, сейчас?
— Да. За поворотом. Удобнее места не придумаешь. Ты готова?
— Да.
Егоров чуть притормозил, чтобы машина пошла ровнее. Скомандовал:
— Огонь!
Одним ударом пистолета, обмотанного остатками ватника, Наташа высадила заднее стекло; подняла пистолет обеими руками. Выстрелы загрохотали один за другим.
Фургон стал.
Темно-серая «Волга» вынырнула из-за поворота, перегораживая дорогу. Стекла опущены, наружу — стволы автоматов.
— На пол! — страшно гаркнул Егоров, одним движением развернул машину и вытянул руку с зажатым в ней автоматом.
Пули разрывали обшивку «Волги», но не прошивали ее; Барс чуть приподнял руку…
Автоматы уткнулись стволами в ясное небо. Никто из нападавших выстрелить так и не успел.
— Лиха беда начало, — сквозь зубы произнес он и ударил по газам, обходя расстрелянную «Волгу».
* * *
19 августа 1991 года, 12 часов 03 минуты
Маэстро шел первым. За ним — Мазин. Кай — замыкающим.
— Ну что, дядя Кит, готов? — весело обратился Маэстро к генералу. — Ты в Бога-то веришь?
— Нет.
— Значит, и молиться тебе некому. А сейчас бы — в самый раз.
Никита Григорьевич снова почувствовал тревогу. Пока мчались в автомобиле, он успел успокоиться, а когда проехали ворота воинской части, прошли, предъявив удостоверения дежурному, в подземные помещения, миновали несколько коридоров и оказались в пункте космической связи, где дежурный офицер, взглянув на бумаги Маэстро, приветствовал его, встал и немедля вышел, оставив их одних в небольшой комнате, все происшедшее с ним показалось Мазину глупым недоразумением, которое уже разрешилось, и разрешилось навсегда. В любом деле бывают накладки.
Здесь, на объекте, чувствовалась работа хорошо отлаженного механизма, которую не в силах сокрушить ни игры политиков, ни происки враждебных разведок, ни уж тем более какие-то воровские авторитеты, которых Маэстро именовал попросту уголовниками. Мазин вспомнил, что он генерал, а генералы в их ведомстве никогда никуда бесследно не исчезают… Но сейчас…
Было в глазах Маэстро нечто дьявольское… Похоже, этому малому просто нравится убивать, и если он найдет предлог застрелить его, Мазина, он сделает это прямо здесь, не колеблясь ни минуты.
— Связывайся! — жестко глядя на Мазина, приказал Маэстро.
Генерал постарался взять себя в руки. Вспомнилось почему-то училище.
Общевойсковое. Тогда офицерские погоны были пределом мечтаний многих мальчишек, и означали они уважение, сытный кусок хлеба и власть. Пусть сначала и небольшую, но… Кто же мешает сделать ее значительной, если у тебя есть воля и голова на плечах?.. И когда вербовщик из Второго главного управления тихо беседовал с ним, тогда второкурсником, у Никиты Мазина холодело в груди, но не от тоски — от головокружения… Если любые погоны — это власть, то те, что ему предлагали — всего лишь за ряд услуг, касающихся однокурсников и отцов командиров…
…Тоска накапливалась в груди тревожно-слезливым, муторным комком… Где и когда он ошибся?..
Мазин покругил ручки настройки. Нашел нужную волну.
— Гаспар вызывает Краса… Гаспар вызывает Краса… Прием…
Мазин повторил позывной несколько раз.
— Связь отсутствует, — тихо констатировал Маэстро. — А это значит, приказ о ликвидации отменить невозможно… — Он смотрел на Мазина, чуть склонив голову набок; тот еще успел подумать, что, наверное, так естествоиспытатель смотрит на не оправдавшую его надежды подопытную крысу перед тем, как ввести ей яд… — Не повезло Барсу…
Тоска, томившая Мазина, вдруг, в секунду, сменилась холодным, мучительным ужасом… Ужасом небытия…
Неожиданно для себя он залепетал вдруг быстро:
— Может быть, неполадки? Попробуем связаться еще раз, и тогда…
— Прекратите, генерал. Вы выглядите как застуканная с офицером институтка! — жестко оборвал его Маэстро. — Спецсвязь — не телефонная станция!
Рот Маэстро скривила гримаса.
— Закурите? Вы, кажется, курите исключительно папиросы… — произнес он на полтона ниже. Трясущимися руками Мазин достал коробку, вынул папиросу, изломал несколько спичек, пытаясь прикурить…
— Маэстро… — Наконец он справился со спичками, выпустил густую струю дыма. — Если связи нет, я должен…
— Вы больше никому ничего не должны… — равнодушно произнес Маэстро. — Барсу просто не повезло…
— Как вы смеете со мной так разговаривать! — Вспышка была неожиданной, но не для Маэстро, губы его зазмеились усмешке. — И прекратите улыбаться! Я — генерал-майор… Договорить Мазин не успел. Маэстро бросил тихо:
— Не переживайте, генерал… Барсу не повезло. Вам тоже. Люди нашей профессии должны быть к этому готовы. Всегда.
Казалось, к Мазину вернулось присутствие духа.
— Мне нужно связаться с председателем Комитета. Это срочно, — произнес он вполне спокойно и значимо. Маэстро пожал плечами:
— Попробуйте… — Добавил тихо:
— Кай, кончай этот цирк…
Мазин попытался встать… Руки неприметного мужчинки, что казались хрупкими и слабыми, были скоры и жестки… Голова Мазина словно сама собой дернулась резко набок; тело медленно сползло с кресла.
— Вам просто не повезло, генерал, — вздохнул вполне искренне Маэстро. — Такова жизнь. Везет в ней не всем, не всегда и не во всем.
Глава 49
19 августа 1991 года, 12 часов 14 минут
«Жигуленок» мчался по еле заметной тропинке. Егоров напряженно всматривался вперед: если где и ставить ловушку, то только за тем, третьим поворотом. Стоит «уронить» слегка корягу, что почти перегораживает тропку, и — «типично партизанский вариант».
Но те ребята, что притаились в засаде, должны сначала услышать приказ. А его не будет: выстрел Наташи был точен. И по колесам, и по антенне.
Машину они пока вряд ли различили. Или…
Егоров притормозил и «забуксовал». Автомобиль застыл, мотор натужно завыл.
— В лес, обе! — приказал он.
Наташа вытащила перепуганную Альку, и они скрылись за зарослями ивняка.
— Что бы ни произошло, сидеть тихо, как мышки! Сам он тоже ринулся в лес. Ветви хлестали по лицу, он бежал, по наитию уклоняясь от тяжелых острых сучьев, перепрыгивая ямы и рытвины, постепенно поднимаясь по склону выше и выше…
В засаде были двое. Приглядевшись, Володя заметил еще одного: тот буквально слился с листвой, разглядывая остановившийся автомобиль в окуляр снайперского прицела. Стрелять не было смысла: машина отсюда была полускрыта стелющейся прямо над тропкой ивовой листвой, да и расстояние порядочное — километра полтора.
Раз-два-три-четыре-пять, я иду тебя искать…
Должен быть еще один. Четвертый. Засады, как правило, выставляются двойками. Где же этот птенчик?..
«Птенчик» не чирикал и сидел так смирно, что если бы Егоров не искал именно его, то не просто не заметил . бы, но мог выйти лоб в лоб. Боец контролировал место засады сверху, страхуя парней. В пятнистом сетчатом камуфляже он походил на кучу прошлогодней листвы, но маскировался наспех, по-скорому: чего умничать на своей территории, когда и дело простое, как яичная скорлупа…
Снимать «кукушку» следовало тихо. Потому как оставшиеся три ствола в случае несвязухи превратят его тело в рваную тряпку. Егоров, дыша вполвздоха, притаился за осиновым стволом, прикинул расстояние…
Прыжок был как порыв ветра. Нож вошел в тело между пятым и шестым ребром; боевик умер мгновенно. Володя затаился, замер, прислушиваясь… Хорошо сорок, этих предателей, в тихом подлеске не водилось…
Аккуратно, с оттягом, взвел затвор автомата. Двоих он доставал отсюда, третьего — чуть передвинувшись влево. Ап!
Две короткие очереди слились в одну. Егоров мгновенно прыгнул в сторону. Третья очередь прошила снайпера, успевшего лишь развернуть винтовку…
— Квелые они какие-то… — произнес он вполголоса и потрусил осторожно вниз, держа оружие наготове.
Убиты. Все четверо. Чисто.
Егоров опустился, к коряге, внимательно осмотрел ее на предмет всяческих взрывчатых сюрпризов… Прихватил автомат Калашникова с подствольным гранатометом, снайперскую винтовку… Осмотрел трупы: как и следовало ожидать, никаких документов. Зато… У каждого — набор джентльмена-наркоши: шприцы, запаянные ампулки.
Сначала Егоров глазам не поверил, закатал рукав ближайшему… Ну да, на руке не просто трассы, вены сплелись в покрывшийся коростами клубок.
— Как четыре мышки да ловили кошку… — нараспев продекламировал он. И побежал обратно к машине, размахивая на ходу заимствованной у наблюдали сетчатой плащ-палаткой.
Наташа сигнал поняла. Он заметил, как две фигурки вынырнули из леса, разместились в машине, и та двинулась ему навстречу.
— Ну что? — спросила жена, приоткрывая дверцу.
— Четверо. Ждали нас с хлебом и финиками.
— Зачем? — не сразу врубилась Наташа.
— Наверное, надеялись, что присоединимся к пикнику.
— И что? — спросила теперь уже Аля.
— Все четверо ошибались, — пожал плечами Егоров, сел за руль и дал газ. Машина мчалась, набирая скорость.
— Проскочили? — с надеждой спросила Наташа. Егоров пожал плечами:
— Не думаю, чтобы они сюда воздушно-десантную дивизию сбросили.
— Володя, я серьезно.
— Спецназ. Но — бывший.
— Как это «бывший»?
— Наркоши.
— Кто?
— Наркоманы. Конченые. На игле не первый год. — Он выдохнул:
— Отмучились. — Повернулся к жене:
— Наташ, прикури сигарету, курить охота — сил нет.
— Курение вредит здоровью, — назидательно заметила Аля. — Папа, а мы что, в войну играем? Это учения такие?
— Ага.
— Здорово. Я пацанам в классе расскажу — не поверят. А дашь мне из автомата пострелять?
— С чего это? — А просто так. Все равно ведь холостые…
— Холостые… Женатые…
— Егоров, ты не ответил… — чуть понизила голос Наташа. — Мы проскочили?
— Наташ… Я суеверный. Как только…
— А вдруг впереди еще…
— Вряд ли. Думаю, вся группа — человек двенадцать — восемнадцать. И пару засад они наверняка оставили в лесу. К тому же…
— Что — к тому же?
— Только одна засада, у коряги, «стационарная». Первую они выставили, что называется, по ходу пьесы.
— Ну и что из этого следует?
— Ничего. Не говори «гоп», пока… Что это?! — испуганно вскрикнула Наташа, указав на промчавшуюся по земле тень. Потом они услышали гул.
* * *
19 августа 1991 года, 12 часов 55 минут
— Вертолет должен уже ждать! С работающим двигателем! — Маэстро выключил рацию, поднялся по лесенке, разместился в кабине двухместного тренировочного «МиГа».
Пилот захлопнул колпак, проследил, чтобы Маэстро надел кислородную маску.
Приказ командира авиаотряда, конечно, закон, но выполнять его можно по-разному.
Пилот очень не любил синепогонников. Ладно, он устроит этому черноволосому весельчаку с ледяными глазами убийцы прогулочку, такую, что при одном слове «самолет» его будет выворачивать наизнанку!
— Готов? — спросил он застывшего на переднем сиденье Маэстро.
— Да.
— Машина — звэрь, слушает, — произнес пилот с нарочитым кавказским акцентом.
— Студэнтка, ка-амсамолка, наконэц, просто красавы-ца, — продолжил шутку Маэстро.
Пилот усмехнулся. Щас будет тебе и студэнтка, и комсомолка, и какао с чаем!
Ха-а-ароший краснодарский!
Взревел двигатель.
19 августа 1991 года, 12 часов 59 минут Пулеметная очередь вздыбила землю перед капотом. Егоров вжал педаль тормоза, машина пошла юзом, замерла, едва-едва не коснувшись смертоносных фонтанчиков.
Вертолет сделал уверенный заход и спокойно пошел на следующий. Автомобиль под «вертушкой» — все равно что одинокий волк в чистом поле. Егоров выровнял руль и дал по газам…
— Мы так в обрыв слетим… — спокойно произнесла Наташа. Настолько спокойно, что он мягко притормозил, оглянулся на жену: лицо было бледным, даже в губах — ни кровинки.
— Ты ранена? — встревоженно спросил Володя.
— Я в обмороке, — попыталась улыбнуться Наташа. — Но почему-то еще функционирую.
— Она помолчала секунду, спросила:
— Егоров, то была предупредительная очередь?
Тот подумал лишь мгновение. Ложь в такой ситуации — не во спасение.
— Нет. На поражение.
Наташа попыталась ободряюще улыбнуться:
— Ничего, прорвемся. — Но в глазах ее блестели слезы. — Егоров, это и есть «тихая операция»?
— Ну. Если бы была «громкая», на нас охотились бы штурмовики.
— Эти люди очень похожи на штурмовиков.
— Я имею в виду не людей, а боевые самолеты.
— Вертолет — тоже хорошего мало.
До спасительного подлеска было километра три. Егоров гнал машину как бешеный. И больше всего боялся застрять в какой-нибудь колдобине. Гул вертолета настигал.
Аля смотрела на отца широко раскрытыми глазами. В них застыл ужас, Егоров остановил автомобиль, выскочил, почти выпал из дверцы… Плотно вдавил приклад «Калашникова», поймал в прицел приближающуюся грозную машину и нажал «собачку». Вертолет резко забрал влево.
Очередь была бесконечно длинной, пока не опустел рожок. Егоров одним движением отщелкнул его, вставил Другой. Оглянулся: обрыв к реке был совсем рядом.
— Живо под обрыв! Обе! Ну!
Вертолет превратился в маленькую точку. Сейчас он развернется, и тогда…
— Ну!
Наташа схватила дочь .за руку и метнулась к обрыву. Аля бежала неуклюже, свободной рукой прижимая к себе маленького плюшевого медвежонка…
Егоров прыгнул в машину, за руль. Главное — увести машину от девчонок…
Главное… Наташа оказалась на краю песчаного обрыва.
— А папа? — беспомощно оглянулась Аля. — Его что, убьют?
— Прыгай! — произнесла Наташа разом севшим голосом. — Сиди тихо и не высовывайся! Я за папой! Мы вернемся вместе!
— Я — с тобой… — начала было Аля, но, получив чувствительный тычок в спину, полетела вниз, зарылась ногами в песок, кувыркнулась несколько раз… Посмотрела вверх: желтый песчаный откос уходил вверх почти отвесно… Аля позвала тихо:
— Мама… — и заплакала, уткнувшись в мягкий плюш медвежьей шерстки…
— Ты?! — Володя увидел спешащую к нему Наташу. — К Альке, быстро!
Гул вертолета снова приближался.
— Уже не успею. Да трогай же!
Егоров сцепил зубы и нажал на газ. Машина мчалась прочь от обрыва, уводя преследователей от девочки.
Теперь вертолет шел очень низко, почти стелился над землей. Наташа передернула затвор автомата.
— Перед атакой он пойдет вверх и нос опустит. Будет бить наверняка. Тогда — стреляй, — произнес Володя, стараясь вести автомобиль как можно ровнее. Добавил:
— Колпак бронированный…
— Я не промахнусь, — произнесла Наташа абсолютно спокойно, переводя «флажок» на одиночный огонь.
Вертолет взмыл вверх, земляные фонтанчики запрыгали по земле, настигая «жигуленок». Наташа поймала в вороненую прорезь открытое окошечко в «колпаке», плавно спустила курок, автомат подпрыгнул, снова замер послушно в ее руках, снова подпрыгнул.
— А ты — с характером, — произнесла она, обращаясь к оружию. Теперь она знала этот «калаш». И промахнуться не могла.
Вертолет завис сзади, болтался галсами, поливая свинцом дорогу и мчащийся автомобиль. Фонтанчики взмывали то справа, то слева… Жесткий жестяной клекот вспорол крышу, обшивку салона. Вертолет приблизился, готовый выпустить последнюю, смертоносную очередь. На уничтожение. Наташе показалось, что она даже разглядела за колпаком оскаленное лицо пилота: в этой «улыбке» было торжество победителя. Задержала дыхание и спустила курок.
Вертолет будто вздрогнул, зарылся носом вперед и помчался, настигая машину.
— В сторону! — успела крикнуть мужу Наташа.
Желто-алый клубок взрыва полыхнул жаром, сжигая траву, плавя землю. Вертолет и автомобиль исчезли в нем, пока дьявольская сила не выплюнула из раскаленного жерла остатки, обломки того, что было железом, кровью, плотью.
…Раскаленный августовский день замер на мгновение, прислушиваясь к грозному эху чужой войны, и снова зашелестел ивовой листвой, шершавой осокой, заиграл всплесками резвящейся в реке рыбы.
…Аля почти вылезла из-под обрыва. Жаркая вспышка далекого взрыва полыхнула в ее расширенных от ужаса зрачках… Девочка замерла, прошептала тихо: «Мама…» — и полетела в черную яму беспамятства, словно в глубокую пропасть, из которой ей не выбраться никогда.
* * *
19 августа 1991 года, 13 часов 43 минуты
— Надо отсюда сматываться, — тихо произнес один из операторов спецсвязи, стоя рядом с фургоном.
Горелое пятно и рваные обломки металла — вот все, что осталось от вертолета и автомобиля. Крас неподвижно застыл на пожухлой кромке рядом.
— Связь с Гаспаром есть?
— Нет.
— Странно.
— Да тут в Москве такие дела весь день, что его вполне могли подпрячь в любую из колесниц…
— Он должен был сам связаться…
Оператор пожал плечами — дескать, наше дело телячье: прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Второй оператор в больших кирзовых бахилах чапал по гари.
— Ну что? Сколько трупов?
— Тут бы и жмуркоманда толком не разобралась. А у них опыту по этой части поболее будет. Все разворотило так, будто черт сплясал…
— Оставшихся «эксов» вызвал?
— Да. Вот они обрадуются, — хмыкнул он. Добавил, ерничая:
— Какие еще будут приказания?
Вместо ответа. Крас глянул на оператора так, что у того отбило всякую охоту иронизировать. Разлепил губы:
— Ты прав. Потери таковы, что, если к имеющимся трупам добавятся один-два шутника, никто этого даже не оценит. Ты понял?
— Виноват, — быстро произнес оператор и мигом скрылся в кузове фургона, от греха подальше.
К месту побоища подъехали два зеленых «уазика», Вынырнувшие оттуда «эксы» застыли у горелого пятна.
— Каин в «вертушке» был? — спросил старший.
Крас кивнул, глядя в землю.
— Тогда — по коням? Ловить здесь больше нечего.
— Да, — согласился Крас. И медленно побрел обратно, к речному обрыву. Из сбивчивых, азартных переговоров вертолетчиков во время погони, которые хорошо принимались в фургончике спецсвязи, он знал, что автомобиль Барса останавливался у этого обрыва. Зачем?
— Эй, Крас, далеко?
Тот не ответил. Подозрение крепло, и нужно было его проверить. Да и… Он прибавил шаг. Приблизившись к обрыву, глянул вниз. Песок был измят неровными рытвинами. Крас вынул пистолет и аккуратно шагнул за край.
Девочка, свернувшись в клубочек, лежала под корнем вывороченной сосны, обняв плюшевого медвежонка. Услышав шаги, подняла голову, оскалилась, зарычала по-звериному.
— А вот и выводок, — усмехнулся Крас. — Ишь ты, настоящий звереныш… — произнес Крас, пряча пистолет. Волна горячего, нестерпимого желания затопила Краса… Он шагнул к девчонке, произнес хрипло:
— Не бойся, детка, не обижу…
Девочка еще больше сжалась в комочек.
Крас чувствовал, как пульсирует шрам. Сейчас, сейчас он сорвет с нее платьице, все сорвет, и тогда… Первый стон наслаждения и боли будет для нее и последним.
Он потянулся руками к ее ногам…
Девочка зарычала, как разъяренный барсенок. Пяткой попала прямо в лицо, Крас на секунду застыл в воздухе, не удержал равновесие и неловко рухнул на откос. Его потащило вниз.
Девчонка в два прыжка оказалась на кромке обрыва и исчезла.
Проскочила открытое пространство, подлесок и неслась стремглав уже через густеющий лес… Ветви стегали лицо, раздирали в клочья легкое платьице, но она мчалась без оглядки, пока не упала обессиленно в мягкий, чуть влажный мох. Слезы текли из глаз, девочка плакала, подвывая, будто оставшийся сиротой звереныш.
Глава 50
Ярость застилала глаза. Крас карабкался по песчаному откосу, песок струился, уходил из-под ног, и Крас сползал вниз снова и снова…
— Сук! Сука! Сука! — Он выхватил пистолет и пулю за пулей вгонял в корневище сосны, под которым пять минут назад спала девочка. Отдача выстрелов подбрасывала оружие вверх, Крас не удержал равновесие, упал навзничь и съехал вниз. Попытался привстать, пошатнулся, будто пьяный, и соскользнул в реку. — Черт! — Холодная вода отрезвила. Крас спрятал оружие, плеснул пригоршню за воротник. — Черт!
И услышал приближающийся гул вертолета. Поднял голову вверх, увидел над обрывом одного из «эксов».
— Что, рыбалочкой занялся, Крас?
— Да пошел ты!
— Я-то пойду… А только сейчас начальник — ты. Хоть и мокрый по яйца… — Помолчал, добавил:
— Тут какой-то геликоптер подваливает… Сшибать или как?
— Помоги выбраться!
— Да с нашим удовольствием! — Боевик бросил тонкий трос.
Через минуту Крас уже сидел в машине, через пару — был в фургончике спецсвязи.
— Что Москва? — спросил он оператора, едва захлопнув бронированную дверцу.
— Молчит. А вот с вертолета пришел позывной.
— Какой?
— Приоритет Лир. Крас заметно побледнел.
— Ты не ошибся?
— Да как можно… Сажать? Он, пока ходит большими кругами, словно чует: настроение у наших придурков не праздничное, пальнут сгоряча в полдюжины стволов…
— Сажать. Отвечай моим позывным.
— Есть.
Вертолет приземлился еще через минуту. Лопасти наконец остановились, мотор затих.
— М-да… — произнес, выбираясь из кабины, моложавый, черноволосый человек. — Ну вы тут и налажали. Красавчик…
Краса внутренне передернуло от фамильярности обращения; ладно «эксы» — дебилы, мясо, наркота конченая… А этот что?
— Мы получили ваш позывной по приоритету Лир. Но вы, — Крас выделил это слово, — забыли представиться.
— Да? — Человек легко вскинул густые брови. — Меня зовут Маэстро. Теперь вам легче, Красавчик?
— Не называйте меня Красавчиком, — процедил Крас сквозь зубы с неприкрытой угрозой.
— Вот как? А кем называть? Уродом? Так лучше? Крас почувствовал, как пульсирует шрам; рука сама собой потянулась к оружию…
— Какие мы нервные… — Маэстро, казалось, не обратил ни малейшего внимания на намерения Краса, прошел вперед, бросив через плечо:
— Сколько у вас осталось людей?
Простой вопрос озадачил Краса.
— Постройте всех! — скомандовал Маэстро.
— Технический персонал тоже?
— Операторов, придурков, черта, дьявола, всех! — сорвался Маэстро.
— Построиться, — тихо приказал Крас. Как ни странно, боевики через несколько секунд уже стояли, образовав неровную шеренгу. И виной тому был , вовсе не приказ Краса. От этого холеного красавца Маэстро, больше похожего на актера в дешевом бродвейском мюзикле, чем на офицера спецслужбы, веяло холодной, уничтожающей, уверенной силой. Эту силу почувствовали все. Противиться ей? Это казалось странным до неестественности. Словно Маэстро обладал гипнотическим влиянием на людей: отпетые негодяи, наркоманы и убийцы подчинились ему мгновенно и беспрекословно, им и в голову не пришло, что можно не подчиниться: взгляд блестящих расширенных зрачков был пуст и безразличен, а если эти люди еще чего-то и боялись в этом мире, так это пустоты. Пустоты небытия.
— Здесь все? — осведомился Маэстро.
— Да, — откликнулся Крас.
— Вот и славно.
Как в руках Маэстро оказались пистолеты, не заметил никто. Они грохотали, бесновались, зажатые в узких кистях, пока затворные крышки обоих не оказались в крайнем положении.
Маэстро стоял, чуть откинувшись назад, разглядывая убитых, словно художник, любующийся только что сотворенным полотном, шедевром, место которому уже приготовлено в самом роскошном зале Лувра. Отщелкнул обоймы, спокойно повернул голову к Красу, поинтересовался вежливо:
— Ну и как вам это нравится?
А в глазах Маэстро зияла все та же пустота.
Крас несколько раз дернул кадыком, пытаясь сглотнуть разом сделавшуюся вязкой и клейкой слюну, и все никак не мог.
— Молчишь, Красавчик? Налажал и молчишь? — Четким, выверенным движением Маэстро забил в рукояти полные обоймы, и пистолеты исчезли, как по волшебству.
Крас стоял неподвижно. Он вдруг вспомнил, что магазин его пистолета пуст. И теперь он совершенно беззащитен. Все из-за девки.
Маэстро словно угадал еге мысли:
— Да, Красавчик! Барс действительно приказал долго жить? Вместе с семейством?
Крас встретил устало безразличный взгляд Маэстро и понял, что если соврет сейчас, то ляжет рядом с этими бессловесными мешками, бывшими минуту назад людьми.
— Да. Барса больше нет.
— Вот как? А кто же остался?
— Девчонка… Она убежала в лес.
— Девчонка.
— Она не выживет. Она сошла с ума.
— Сошла с ума? — как эхо повторил Маэстро. — А кто сейчас нормален? Вы? Или я? В этом ненормальном мире, чтобы выжить, нужно быть сумасшедшим.
Маэстро вставил в рот сигарету, чиркнул кремнем.
— Вы… Вы убьете меня? — решился спросить Крас.
— Обязательно. Если будешь себя плохо вести. Но ведь впредь ты собираешься себя хорошо вести, а, Красавчик? То-то. Бензин есть?
— Что?
— Бензин.
— Есть.
— Нужно кремировать этих по-быстрому. — Маэстро поморщился. — Конечно, все это оч-ч-чень непрофессионально, но вы так налажали, что… Чего застыл, Красавчик, действуй, живо! Минут через пять здесь будут парни из воинской части!
— Соседи? Мотопехота?
— Десантура. В этом Сосновом Поле отыскался телефон, и какой-то бдительный пенсионер оповестил всех, кого можно и кого нельзя… Двигайся, Красавчик! — Повернулся к вертолету, крикнул:
— Запускай!
Через пять минут все: автомобили, трупы, оружие — исчезло в желтом жарком пламени.
…Под напором воздушной струи язычки пламени прибились к земле. Вертолет медленно поднялся, развернулся и быстро пошел на запад низко над лесом.
— А что, братец, — обратился Маэстро к сидящему за штурвалом «вертушки» напарнику, — как тебе нравится это?
— М-да… «Тихая операция», нечего сказать… — выдал пилот непривычно длинную для себя фразу.
— Когда в противниках Барс… — попытался оправдаться пришедший в себя Крас.
— Да хоть стадо мамонтов! — перебил Маэстро. — Распустил вас Мазин, донельзя распустил… Гора горелых трупов, что может быть мерзопакостнее… Вы что, и в Таджикистане, и в Туркмении позволяли себе так работать?
— Война все спишет, — пожал плечами Крас.
— А вот в этом ты прав. Война все спишет. И — всех.
* * *
21 августа 1991 года, 18 часов 12 минут
Девочка открыла глаза. Кругом стеной стоял лес. Она лежала, свернувшись, клубочком, в дупле старого дерева; пахло прелой древесиной, грибами, сыростью.
Память ее спала. Она жила теперь просто как часть этого леса: было голодно — ела найденные ягоды, щавель, пробовала есть и растущие на опушке маслята, но желудок словно обжигало чем-то… Ни дня, ни ночи она не ощущала, и главное, совершенно ничего не боялась. Ночами настораживалась, словно котенок барса, при малейшем шуме, слушала ночь… Она научилась различать лесные шорохи, чувствовать опасность, словно она и родилась здесь.
Поздними вечерами выбиралась в деревню, но люди пугали ее. В полузаброшенных садах она набирала яблок, тут же ела, уносила с собой. Пару раз ей удалось стащить кусок хлеба и несколько яиц, которые она съела, как яблоки, вместе со скорлупой.
Временами ей становилось страшно, совсем страшно. Но пугали ее не лес и не ночь… В темноте ей виделось безобразное лицо, будто состоящее из двух половинок… Оно было и человечьим и волчьим одновременно, но черт его она различить не могла; безобразный шрам, оскаленные желтые клыки, с которых падала вязкая, вонючая слюна… Девочка знала, что это ее враг. Смертельный. И когда видение приходило к ней, она забивалась в глубь дупла и рычала, оскалив маленькие зубы. Временами ей становилось тоскливо, но причин своей тоски она не знала, не помнила… И тогда просто подвывала жалобно, изливая в этом своем плаче всю тоску, всю обиду на несправедливый, темный, жестокий мир…
Единственным ее другом здесь был маленький плюшевый медвежонок. Девочка ласкалась щекой к его мягкой шерстке, гладила, рассматривала бусинки глаз… Ей казалось, медведик понимает ее без слов. Да и не помнила она никаких слов.
На третий день муки голода стали невыносимы. Они гнали ее к людям. Как она оказалась на маленьком полустанке, она не знала. Подошел тяжелый товарный состав. Ноздри девочки раздулись: она почувствовала вкусный, сытный запах. Не колеблясь забралась в вагон товарняка.
Сопровождающие состав люди, одетые в зеленую форму, ехали в отдельном вагоне. На маленькой плитке они варили суп из тушенки. Вечером девочка сумела прокрасться и увидеть, как один из людей длинным ножом открыл жестяную банку и вывалил из нее на тарелку сочные куски мяса…
Но не подошла. Людей она боялась еще больше, чем голода.
И все-таки ей повезло!
На станции началась суматоха, люди бегали вдоль состава, что-то кричали друг другу… Она проскользнула в дверь теплушки, схватила открытую банку и нож. Нож ей был необходим: в соседнем вагоне она увидела ящики с такими же банками; они стояли и тускло отливали машинным маслом… Мимо прогрохотал тяжелый состав. На каждой платформе она увидела громадные железные чудовища, длинные хоботы их были опушены, рядом с каждым стоял человек с палкой… Аля забилась в самый угол вагона: ей казалось, что рядом грохочет что-то опасное, то, от чего нет спасения…
Состав исчез.
Она выскребла, вылизала банку; напилась воды из нее же, зачерпнув прямо из лужицы, снова забилась в вагон и уснула.
Сквозь сон она услышала людские голоса, усиленные громкоговорителем: «…попытка государственного переворота…», «…демократия победила заговорщиков, и теперь…», «…заколотить в крышку гроба коммунистического режима крепкий осиновый кол…».
Девочка не понимала смысла этих слов и решила, что это просто шум. Для нее не опасный. И снова крепко заснула.
Проспала она и то, как состав тронулся. Когда проснулась, была уже ночь.
Дверь вагона с грохотом приотворилась.
— Колян, да бери весь ящик! Стоять будем часа четыре, не меньше! Петруха успеет в деревню с.мотаться, самогону будет — залейся!
— А если отстанет?
— Ниче с ним не сделается. Молодой, он и есть молодой. Трусцой добежит!
— И то правда…
Солдат подхватил тяжелый ящик. Аля почувствовала запах пота, кирзы, сивухи…
Дверь на засов не закрыли, только задвинули слегка.
Девочка выглянула наружу. Вдоль состава шли трое и распевали нестройными, охрипшими голосами. Потом стало тихо.
Аля стала вынимать из ящика одну за другой промасленные банки и бросать их под насыпь. Она уже попробовала: если стукнуть несколько раз ножом, там получалась дырка, и можно было сделать ее пошире и вытягивать кусочки сочного мяса…
Потом выпрыгнула сама. Поежилась от ночного холодка: она была почти нагишом, в сандаликах на босу ногу. И платьице, и трусики изорвались в клочья, еще когда она бежала через лес; на станции девочка нашла на какой-то веревке полосатый половичок и спала, завернувшись в него. Теперь она завернула в половичок нож и несколько банок; остальные — закопала, вырыв под насыпью в мягкой влажной земле ямку.
Услышав снова голоса, метнулась в кусты, притаилась.
Тело сотрясала дрожь; ей было холодно, и еще она боялась, что ее заметят.
— Где этот козел?
— Так в деревню же подался!
— Вы что, под трибунал захотели?!
— Так сказали же, часа три стоим, а то и четыре…
— Сказали… Ну пусть только появится! Почему вагон не заперт?!
— Так, товарищ лейтенант…
— Я уже два года как лейтенант! Козлы! Где Стеценко?
— Так спит.
— Пьяный?
— Как можно…
— Ладно, я с вами на месте разберусь… И если…
— Так, товарищ лейтенант, пока в Уличевке стояли, там местное население шустрое, они не то что пломбы посрывать, они…
— Разговорчики! А вы на что поставлены?!
— Так, товарищ…
Поезд мягко тронулся, звякнув на стыках…
— По вагонам, живо! В части я с вами по-другому поговорю! А этот молодой у меня на всю катушку получит! Пусть только заявится! По ваго-о-онам…
Поезд тронулся, застучали колеса, и вскоре красные глазки, светящиеся на площадке последнего вагона, уменьшились, растворились во тьме. Рельсы еще подрыгивали мерно, но вскоре наступила полная тишина.
Девочка вылезла из ненадежного укрытия и пошла в темневший в нескольких километрах от дороги лес.
Она бродила туда и обратно всю ночь, перенося в найденное в километре от опушки сухое дупло жестяные банки. К утру так вымоталась, что, как только добрела до своего нового жилища, сразу завернулась в половичок и уснула прямо под громадной елью, на мягком игольчатом настиле, обняв обеими руками плюшевого мишку. В лесу ей было хорошо и спокойно. Конечно, здесь водились звери, она это чувствовала, но она хорошо знала и другое: люди куда опаснее зверей.
* * *
22 августа 1991 года, 15 часов 23 минуты
— Маэстро, какими судьбами! — Замначальника технического сектора Лев Михайлович Силин был в изрядном подпитии. — Примешь коньячку, — он хэкнул, — в честь безвременной победы демократии и плюрализма?
— Не рано празднуешь, Промокашкин? — беззлобно хмыкнул Маэстро.
— Главное, чтобы не поздно. Торжественное шествие, и все как всегда в этой стране: шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных. Ты телик сегодня смотрел?
— Некогда было.
— Прямо как в кино… «Тот самый Мюнхгаузен».
— В смысле?
— Помнишь, когда арестованного барона ведут к Герцогу? И тот спрашивает: «Почему под оркестр?» А главнокомандующий отвечает: «Сначала намечались торжества. Потом — аресты. Потом решили совместить». Сильно, а, Маэстро?
— Сильно, — равнодушно согласился тот.
— Включить «ящик»?
— Не стоит.
— Не жалуешь ты демократию, Маэстро, ой не жалуешь… — Раскрасневшееся лицо Силина пылало смехом и здоровьем; на секунду он попытался посерьезнеть, сузил глаза за толстыми линзами очков. — А где ты был в ночь с девятнадцатого на двадцатое, нехороший человек?! Увидишь, старина, смех смехом, а дебильство в нашем мире неистребимо! И все, как один, будем писать докладные на эту тему!
Спорим на коньяк?
— Бессмысленно. Лева, ты когда-нибудь коньяк проигрывал?
— Чего не припомню, того не было. От папашкиных кровей унаследовал неистребимую тягу получать прибыль. От мамашкиных — немедля ее пропивать. Она из Костромской губернии, деревенька Пьянищево… Потом ее в поселок Красный Завод переименовали. Результат плачевный: если в стародавнем Пьянищеве крестьяне потребляли преимущественно водочку, то, сделавшись пролетариями, стали пить все, что горит. Я же, как последний отпрыск черносошного крестьянства, лакаю коньячок. Да и папины кровя пить борматень не позволяют: бунтуют и кипят почище возмущенного разума… Тут и до греха недалеко… Так тебе плеснуть пятьдесят грамм? За компанию?
— Потом. Мне еще на ковер. — Маэстро показал глазами вверх.
— Ну как знаешь. — Лева ловко опрокинул в рот рюмочку, почмокал губами. — Ты по делу, как я понимаю…
— По нему.
— Чего изволите? Бомбочку? Ядик? Помнишь, в «Интервенции»? «Аптекарь, дай мне яду…»
— Пленочку мне запиши.
— Низкочастотную?
— Ну.
— Насмерть или как?
— Первое.
— Маэстро, это же не твой стиль…
Тот помолчал. Посмотрел пристально на Силина:
— И еще вот о чем попрошу. Лева. В журнал не заноси.
— Никак не можно, — откликнулся Лева. — Да и что тебе за беда. Маэстро? Ты же у нас свободный художник…
— Лева… Ты помнишь семьдесят пятый год?..
— Давно это было…
— Но ты не забыл?
— Такое разве забудешь? Этот козел Свиридов мне чистый «пятнарик» шил. Вышечную статью… Понятно, «вышку» бы не записали, но… Ты знаешь, как я тебе признателен, но…
— Нет Свиридова. Шестнадцать лет, как нет.
— Смерть за смерть?
— Именно. Как раз по твоей специальности..
— Извини, Маэстро. Думать я привык, как привык. Скажи честно старику: сейчас ты свое какое-то дельце провернешь, потом… Потом меня, грешного, в мир иной отправишь?
— Нет, — ответил Маэстро спокойно, глядя прямо в глаза Силину.
— Позволь спросить — почему? Это опять же не твой стиль…
— Ты мне нужен. Полезен. И сейчас, и в будущем. Это тебя убеждает?
— Чистый бизнес? — Лев Михайлович поднял глаза к потолку. — Убеждает. Да и…
Все под Богом ходим.
— Не все, Лева, ой не все. Одни под Богом, другие…
— Тьфу, не к ночи будет помянут, — сплюнул Лева, перекрестился.
— Лева, ты же не крещеный.
— А я и не обрезанный. Из семьи правоверных атеистов.
— Чего ж нечистого боишься? Лев Михайлович глянул на Маэстро совершенно спокойным, трезвым взглядом:
— Забоишься тут с вами.
— С кем поведешься.
— Ну да, ну да… Что записать сверху?
— Моцарта. Сороковую симфонию.
— Хозяин барин.
Вернулся из внутренней лаборатории Силин ровно через час. Протянул Маэстро обычную магнитофонную кассету.
— Держи. — Вместе с кассетой подал два крохотных комочка из материала, похожего на поролон. — В уши вставь загодя. А то вместо одного трупа или сколько ты там наметил…
— Поберегусь.
— Во-во. Шутить с инфразвуком… Слышал про «Летучих голландцев»?
— А кто не слышал…
— Мы писали шум волн. В шторм. Ни разу точную частоту поймать не удалось, но существует мотивированное мнение, что моряки покидали безопасный, исправный корабль именно из-за этого… Инфразвук при колебаниях пять-шесть герц вызывает у человека панику, жуткую тревогу… Они просто выбрасывались за борт и гибли…
Впрочем, пять-шесть герц могут вызвать и тяжелое поражение внутренних органов, семь герц — остановку сердца.
— Я знаю… — усмехнулся Маэстро. — Так ты записал семичастотные колебания?
— Да.
— Счастливое число.
— Кому как.
* * *
22 августа 1991 года, 19 часов 43 минуты
Лир сидел в кресле расслабленно.
Рассеянно внимал происходящему на экране. Маэстро вошел, аккуратно прикрыл за собой дверь.
— Любуетесь действом?
— Да нет. Маэстро. Просто устал. Возраст, знаешь ли…
— Вам грех жаловаться на возраст, Лир. Сухощавый засмеялся скрипуче:
— Грехов на моей совести столько, что еще одним больше… Я прочел твою докладную. Ты решил, что Крас может нам быть полезен?
— Да.
— Почему?
— Псих.
— Интересное наблюдение… Выключи этот цирк. У меня уже голова разламывается.
Когда смотришь на скандирующее стадо… Самое смешное, эти овцы думают, что победили именно они. Забавно.
Маэстро подошел к телеприемнику, щелкнул тумблером.
— Выпьешь коньяку? — спросил Лир.
— С удовольствием.
— Налей сам. Да, и музыку поставь какую-нибудь…
— Баха? Моцарта? — спросил Маэстро. Он знал, что ответит Лир.
— Моцарта.
Маэстро подошел к магнитофону, вставил кассету, нажал воспроизведение.
Налил себе коньяка, подошел к столу, опустился в кресло. Зазвучали первые аккорды Сороковой симфонии. Лир сидел чуть прикрыв глаза, наслаждаясь музыкой.
Маэстро приподнял бокал:
— Ваше здоровье…
Сухощавый задышал вдруг часто, глаза налились кровью. Взгляд беспомощно заметался по столу, встретился со взглядом Маэстро.
Одной рукой Лир потянулся к шее, другой — схватил телефонную трубку. Привстал, хрип вырвался из горла, и он застыл в кресле, глядя прямо перед собой стекленеющими глазами.
Маэстро аккуратно поднял трубку и положил на рычаг. Подошел к Лиру, приложил палец к аорте. Потом выключил магнитофон. Вернулся к столу, взял трубку телефона, набрал семизначный номер. Услышав щелчок и длинный зуммер, набрал еще пять цифр. Снова щелчок.
— Вас слушают, — раздался в трубке измененный механический голос.
— Король умер, — произнес Маэстро тихо и внятно.
— Да здравствует король! — ответили ему.
Маэстро встал, поставил «убойную» кассету на запись. В воспроизведение вложил другую.
Нажал клавишу, опустился в кресло, прикрыв глаза. Он вспомнил, что не спал уже почти пятеро суток. «Только три ночи…». Если бы… Это только первые три ночи… Король умер. Да здравствует король!
Маэстро сидел, а в комнате звучала немудреная мелодия… Тихий, выразительный голос пел стихи:
Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, Дай передышку щедрому хоть до исхода дня…
Каину дай раскаянье, и не забудь про меня…
Часть пятая ВСЕ СЧЕТЫ
Глава 51
К утру снег пошел крупными хлопьями. Он засыпал и двор, и неопрятную землю, укрывая своей белизной грязь, оставленную людьми. Казалось, ему не будет конца.
Снежинки рождались где-то там, в невыразимой вышине темного еще неба, и несли на землю свежесть и очищение…
Аля отошла от окна. На глазах ее были слезы. Полумрак комнаты после светлой чистоты снега показался ей мрачным и неуютным. Ночь закончилась. Может быть, с нею закончилась и сказка? Она видела, как в одиноких высотках напротив зажигаются окна-соты. Люди сейчас будут сидеть за столом, потом разойдутся по своим делам, чтобы вечером вновь возвратиться к теплым очагам, к семьям. Они будут рассказывать домашним о неурядицах на работе, о транспортной сутолоке, сетовать на безденежье, переругиваться и — засыпать, чтобы завтра прожить еще один день… Следом еще один… И еще… Прожить счастливо, даже не подозревая об этом.
А ей… Ей по-прежнему некуда возвращаться. Теперь еще и воспоминания. Они навалились как-то сразу. К ним еще нужно привыкнуть. С ними еще нужно научиться жить.
С тех пор как умерла бабушка Вера, Аля старалась приходить домой как можно позже. Чтобы сразу завалиться в постель и забыться сном. Без сновидений. Жизнь ее больше напоминала гонку с непонятным финалом. Бежать только затем, чтобы не оставаться одной дома? Не так плохо. Теперь у нее не было и дома. Который год."
Который год идет, и снова Все те же роли, те же песни. В привычье шума городского Смешно стремиться в поднебесье. Быть может, жизнь остановилась, Замкнулась в каменном квадрате, Дни посылая, словно милость, Бесчисленной, похожей ратью… Клубок забот привычной лени, Лишь сверху — небо голубое. Дни, безымянные, как тени, — Из небылого в небылое… Который год идет, и снова Мы роли старые играем В привычье шума городского — Как будто жизнь пережидаем… — тихо, словно про себя, пропела Аля.
Олег спал ничком, обняв подушку обеими руками. Она тоже спала часто именно так.
И долго-долго укладывала с собой в постель плюшевого медвежонка. Своего единственного друга. Где-то он теперь?
— Ты поешь? — спросил Гончаров, приподнимая голову.
— Извини, если я тебя разбудила.
— Да я и не спал…
— Ври…
— Нет, правда. Не сон, не явь… Забытье.
— Как вся наша жизнь, — горько усмехнулась Аля.
— Не так все фатально.
— Разве? А как? Олег промолчал.
— Нет, скажи, как? Вот теперь я все вспомнила, и — что? Мне стало легче жить?
Или легче жить стало хоть кому-нибудь? Скажи? Зачем все?
Гончаров пожал плечами:
— Если мы завалим этого сиплого, со шрамом, может быть, кто-то действительно выживет. Кто-то не станет наркоманом, чьи-то родители не осиротеют на старости лет… Его нужно остановить. Потому что никто, кроме нас, этого не сделает. Все просто.
— Просто…
— Да. Никто, кроме тебя, никогда не сделает то, зачем ты явился на этот свет.
Никто. Поэтому не жалуйся, не сетуй — делай!
Аля как-то сразу обмякла, — Что ты меня воспитываешь?
— Это я тебя не воспитываю, это я тебя настраиваю. Знаешь, у моряков есть такой термин: «борьба за живучесть судна». У подводников это имеет уже абсолютное значение. Потому что если где-то халатно сработает один, погибнут все. А мы…
Мы пытаемся выжить каждый сам по себе, напрочь забыв, что мчимся на одной лодке, в одном ковчеге… Маленький Принц не ленился прочищать вулканы на своей планете, наша кажется нам огромной, бездонной, безмерной…
— Олег, при чем здесь…
— Погоди. Я — воин, мое дело — очищать землю от подонков, от мутантов, прикидывающихся людьми… Это и есть «борьба за живучесть». А на это нужно настроиться.
— Олег, а мое?
— Что?
— Мое дело какое?
— Твое дело — любить.
— И все?
— Это не так мало. Аля пожала плечами:
— Все это философия. А на самом деле… За окном — мутный рассвет, в телевизоре — клоунада… Представление, которое уже давно всем наскучило…
— Наверное, не всем. Обрати внимание на заставки.
— Деревня дураков?
— Ага. И — клоуны, которые то проваливались в никуда, то рассыпались в клочья, то разлетались в пух. Кто-то развлекается вовсю: Иван Иванович врезал тортом по мордам Ивану Никифоровичу, и оба — лопнули мыльными пузырями… Время мыльных пузырей прошло, закончилось, они сделались не нужны, а потому исчезают они в этом политическом театре один за другим. Сколько их шуганули из власти…
— Выходит, то, что происходило и происходит, — сплошь театр?
— Выходит, так.
— И кто-то дергает за нитки… А что же тогда важно?
— Ты же сама знаешь…
Аля подошла, легла рядом, прильнув всем телом, прошептала тихо:
— Да. Знаю.
— Ну что, Алексей Степанович, сгорели? Лысый неприметный человечек был спокоен.
Он выдержал взгляд Автархана, ответил:
— Сгорели пешки. Солдаты.
— Генерал Кравченко — тоже пешка?!
— Боюсь, что в этой комбинации не более чем.
— То-то ему ножичком по горлышку полоснули, как кастрированному барану! — Глаза Автархана сузились. — Прекрати мутить, Степаныч! Я знаю, что ты ведешь свою игру, давно ведешь, но сейчас мне нужно, чтобы ты сыграл на меня! Только на меня, и ни на кого больше!
— Я играю в твоей команде, Николай Порфирьевич, и уже не первый год.
— Пока ты играл на деньги. Сейчас счет пошел на жизни. Слишком много трупов. Ты можешь объяснить, каким образом оказалась полностью уничтожена спецгруппа генерала Кравченко? И он сам?
— Проще простого.
— Так я слушаю тебя.
— Люди, которые их покрошили, были куда большие профессионалы.
— Это ты меня утешаешь?
— Это я констатирую факт.
— Констатируешь факт… — недобро повторил Автархан.
— Нужно быть объективным, — пожал плечами Кудрин.
— К дьяволу! К дьяволу объективность! Ты мне скажи, почему за мешок наркоты постреляно столько народу?! Пока не вмешалась спецгруппа службы безопасности, все еще можно было понять, но теперь?! Там — накладка, здесь — подстава? Что происходит? Мы же вместе допрашивали этого «грача» — он что, врал?
— Нет.
— Тогда каким образом группа генерала Кравченко нарвалась на засаду?! О будущем налете на квартирку знали ты, я и генерал. Ныне покойный. — Автархан тяжело упер взгляд в стол. — Тебе есть что ответить, Кудрин?
— Это была не засада. Я уже сказал: это были исключительные профессионалы. Таких здесь не производят.
— То есть они перестреляли спецов, как тарелочки на полигоне, среагировав на нападение?
— Именно так.
— Тогда… При чем здесь наркотики? Или… Я что, на старости лет влез на территорию силовых разборок между спецслужбами?
— Весьма вероятно. Но не это главное.
— Да? А что?
— За профессионалами всегда стоит…
— Государство?
— Хуже. Капитал. Деньги. Очень большие деньги.
— Наркотики — тоже немаленькие… По оценкам, на наркотиках только в прошлом году людишки подгребли девять миллиардов свежей «зеленью». Ты можешь назвать какую-то более прибыльную на сей момент отрасль народного хозяйства? — хмыкнул Автархан.
— По-видимому, тут такой бизнес, рядом с которым наркобизнес — просто шалости фарцовщиков у «Березки».
— И ты знаешь такой бизнес?
— Да. Политика. Тут в карманы и банковские сейфы укладываются целые страны.
— Это вам не мелочь по карманам тырить, — хрипло, имитируя голос персонажа из «Джентльменов удачи», произнес Автархан, видимо желая, чтобы вышла шутка. Но шутки не вышло.
Последнее слово далось ему с усилием, губы посерели, и он сам отчетливо увидел себя словно со стороны: жалкий, трясущийся старикашка, не опасный никому и уж тем более тем, с кем он затеял драку.
Автархан встал, вышел в смежную с кабинетом комнату, тяжело ступая на негнущихся ногах, бросив Кудрину:
«Ты пока думай. Я сейчас». Остановился перед зеркалом, дыша тяжело, будто загнанная лошадь. Открыл коробочку, бросил в рот три облатки, запил водой.
Достал другую коробку, зачерпнул золотой лопаточкой щедрую дозу белого порошка, вдохнул. Зачерпнул снова, вдохнул еще. Постоял, пережидая головокружение.
Посмотрел на себя в зеркало и-не узнал. На него черными, как маслины, расширенными зрачками смотрел зверь, бесстрашный, безумный и беспощадный.
В комнату вернулся прежний Автархан — жесткий сухопарый старик, стремительный в движениях, скупой в жестах.
— Ну вот что, Степаныч. У них — свои расклады, у нас — свои. По нашим давай прикидывать. Что скажешь, советничек?
Кудрин провел пятерней по лысине, словно расчесывая несуществующую густую прядь.
— Необходимо ловить девчонку. Так или иначе — все замыкается на нее.
— Где ее ловить?
— Мы прояснили ее «случайного» ресторанного знакомого. Олег Игоревич Гончаров, бизнесмен средней руки, в недавнем прошлом очень удачливый, теперь — просто бомж.
— Бомжи не сидят у «Валентина» и не стреляют навскидку на поражение.
— В давнем прошлом этот человек входил в особую группу спецназа КГБ. В Афганистане.
— Вот как?
— Мы пробили его адрес, есть у нас и небольшое досье… Но…
— Да?
— Что более важно — несколько часов назад, до перестрелки с неизвестными и гибели спецгруппы, на Гончарова по нашим каналам прошел запрос…
— О чем?
— Этого я не знаю. Важно то, что запрос прошел из той квартирки, которую так бездарно пытались штурмовать люди покойного Кравченко.
— Выводы?
— Наши противники тоже ищут девчонку. И мотивированно предполагают, что она скрывается где-то у Гончарова. Вместе с ним. На какой-то теневой квартирке.
— Ее возможно разыскать?
— Мы ее разыщем, Автархан.
— Ты полагаешь, эти прибудут туда же?
— Несомненно.
— А… А официальные органы? Ваша служба или борцы с организованной преступностью? Они ведь тоже уже не спят: генерала зарезали как кутенка, да и три вооруженных разборки за ночь — такого в Княжинске и не помнят…
— Я знаю систему, Николай Порфирьевич. Никто, не зная броду, в эту муть не полезет. Ни один из больших начальников — уж очень запросто можно без погон и папах остаться. Общее усиление пройдет, это безусловно, а так — назначат стрелочников. От каждой конторы опер, следак — ну, все, что положено. В таких делах у служивых людей принцип один: торопись медленно, не то — укатают.
— Значит, будем разбираться сами.
— Да. Ведь где-то скрываются девчонка и этот Гончаров.
— Если не поменяли место.
— А зачем? Им сейчас самое время упасть на дно, отлежаться.
— А если Гончаров, раз уж он был связан со спецслужбой…
— Николай Порфирьевич, Гончаров типичный силовик, а не опер. На многоходовые комбинации у него мозгов не хватит! Так что…
— Так что — как в кино? «Место встречи изменить нельзя»? Я правильно тебя понял?
— Да. Вот только со временем…
— А вот время каждый для себя выбирает сам.
Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает… Какие женщины на нас кидают взоры. И улыбаются, и — птичка вылетает…— Маэстро раздумчиво напевал эту мелодию. Неожиданно повернулся к Красу:
— А скажи мне, дорогуша, много ли душ загубил?
— Что?
— Красавчик… Я вот о чем сейчас подумал. — Маэстро выдержал недолгую паузу, сосредоточенно глядя на дорогу. Если смотреть со стороны, то можно было решить, что он совершенно не обращает внимания на управление автомобилем и тот катится сам собой, обходя рытвины и ямы, поворачивая где нужно, легко, на хорошей скорости, проходя повороты… Крас хмыкнул про себя: фигляр. — Ты удивишься, но подумал я о вечном. Знаешь, что меня поражает в людях? Да ты и сам это замечал… Как эти животные цепляются за жизнь. Всеми лапками, всеми когтями…
Не так?
— Если успевают… — хмыкнул Крас.
— Это да… «Но пуля-дура ему меж глаз прошла, на закате дня…» Ты прав. Если успевают.
Маэстро чиркнул спичкой, прикуривая.
— А что еще меня удивляет в стаде, называемом «люди», так это их крайний, тяжелый эгоизм. Всем на всех наплевать, и себя возлюбить боятся, а уж ближнего своего… Нет, Красавчик, мир летит в тартарары… Красота его уже не спасет…
Его ничто не спасет… Это ли не грустно? Ведь здесь так много истинно изысканного… Девушка, например… Или — вина… Они похожи, ты не находишь, Красавчик?
Крас только пожал плечами. Покосился на Маэстро, но тот и не ожидал никакой реакции, продолжал самозабвенно начитывать монолог из только ему ведомой пьесы:
— Переливы, игра света и тени и, конечно, опьянение… Легкое, как сама любовь, шампанское, кокетливое, словно ветреная красотка. Юное создание, мотылек, век которого так короток, искристый праздник, кажущийся вечным. Сладкий мускат — это, конечно, девушка после двадцати трех, желающая и умеющая любить и жаждущая любви. Португальский крепленый «порт» — женщина тридцати трех, уже многое познавшая, но еще не потерявшая ни вкуса, ни аромата, ни опьянения. Мадейра, терпкая, напитанная ароматом усталого вечернего солнца, — как любовь женщины бальзаковского возраста, изысканно-выдержанная и пьянящая до безрассудства…
А вообще… Я думаю, женщины, вино и море были когда-то единым целым. Да и нечего любить в этом мире, кроме них…
Уж конечно, не произведения искусства, нет. Что стоят они по сравнению с жизнью?
Пустое! Но люди ценят их, хранят, собирают. Будто засушенных бабочек в коллекцию. Как сказку о прекрасной жизни… Бывшей прежде нас.
Людишки… Они восторгаются красотой прекрасной купальщицы Энгра, гетеры, чьи кости давно истлели, а красота ее так никого и не спасла, но не одного сгубила!
Они удивляются спокойной, сосредоточенной мудрости «Старика в красном»
Рембрандта — а ни его спокойствие, ни его мудрость ни на секунду не прекратили войны всех против всех… Просто на полотнах мастеров чувства свежи и нетленны, жизнь выдуманная с годами стала для многих более настоящей, чем та, что бежит за окном. И люди сопереживают ей, восхищаются ею, плачут, мечтают, негодуют, стремятся… Ведь понимают, что исчезнут, скоро исчезнут навсегда. Они только чувствуют, а мы с тобой знаем точно: смерть уродлива и глупа. И нет в ней ничего от вечности… — Маэстро снова прикурил сигарету. — Красавчик… Ты боишься смерти?
— Смотря какой…
— Во-от. Ладно, чего ни тебе, ни мне не грозит, так это старческая немощь.
Умирать жалким стариком, развалиной — что может быть противнее. Хотя… В старческой немощи только и проявляется в полной мере присущий людям эгоизм.
Эгоизм огромный, как тонны, океаны, горы лжи, что наворотили они за жизнь… Так о чем я?
Крас пожал плечами:
— О вечном.
— Ага. О вечном. А вечности не существует. Как и времени. Как и сущего. Ничего нет, кроме мрака. А люди… Да, они любят искусство, восхищаются им только потому, что это как бы приближает их к бесконечности жизни. Созерцая полотна, они словно приобщаются к некоей тайне, чувствуя себя сопричастными вечному человечеству. Этакий седьмой круг самолюбования. Мы — боги, мы — вечны… Как бы не так! Планетка остынет или, наоборот, взорвется тайфунами, землетрясениями, разрывами вулканов и разливами океанских вод, стряхивая со своего тела истлевшие трупики мучивших ее насекомых. Вот и все. Мы — блохи на живом теле земли, и чем скорее приберемся, тем лучше.
Крас встревоженно покосился на Маэстро. Лицо у того казалось совершенно серым, глаза словно заволокло мутной жижей; Крас глянул на стрелку спидометра; здесь был прямой участок, скорость сто тридцать; зимой, по гололеДУ, — запредельная.
Уж не решил ли Маэстро в актерском тщеславии угробить их обоих, как вредных насекомых на «живом теле земли»? Любой поворот — и машина пулей слетит с дороги.
— Послушай, Маэстро…
— Да? — вяло откликнулся тот.
— Может быть, я сяду за руль, а ты отдохнешь?
— Я не устал. К сожалению… Ты понимаешь, Крас, все гибнет! Искусство тоже.
Людям не нужны характеры, им нужно шоу! Им не нужен образ, они не желают угадывать, они не хотят думать. И пустая яркая иллюстрация им милее и во сто крат понятнее. Телезвездочки, «двойная свежесть», набор «ценностей»…
Целлулоидные символы красивой жизни. Для целлулоидных кукол, которые и людьми-то быть перестали, превратившись в функции. Жевать, пить, спать, размножаться. Даже страсть, ты слышишь, Крас, страсть и та подменилась похотью! Разве мы убиваем кого-то. Крас? Мы просто отправляем мертвых к их мертвецам. Все это не ново, но так скучно.
Маэстро зевнул, широко раскрыв рот, зажмурившись. Глянул на Краса полусонно:
— Хотя… У некоторых он есть, талант. Талант жить. Их немного. Совсем немного.
Единицы. Да. Талант жить. Гораздо более редкий талант — талант умирать. Его нет ни у кого. Разве только в кино. Людям… Им так не хватает этого таланта, что они его выдумали… Ты представляешь себе, Красавчик? Вы-ду-ма-ли. Как водевиль.
И играют с этим, что детки со спичками. До пожара. До окончания века. До конца.
А почему бы и нет? Сама жизнь так глупа, так однообразна и так скучна, что, право же, совсем не стоит того, чтобы о ней сожалеть… — Маэстро усмехнулся. — По крайней мере, пока живешь…
Автомобиль промчался еще с километр, на скорости прошел несколько поворотов и затормозил.
— Вытряхивайся, Красавчик. Мы приехали, — произнес Маэстро совершенно другим тоном. Взгляд его был скор, глаза блестели, к щекам прилил румянец, и сам он словно стал на десяток лет моложе. Быстро проверил пистолеты, и они исчезли в складках его длинного плаща. — Тебе еще не надоело играть со смертью?
— Разве у меня есть выбор? Или — у тебя?
— Ты прав, Крас. Выбора никогда нет. Ни у кого. И не было. Как говорят французы?
Се ля ви? Такова жизнь? Поза. На самом деле — такова смерть.
Глава 52
Мы их зацепили. — Кудрин положил телефонную трубку.
Да? — Автархан поднял брови. — Кого на этот раз?
Гончарова и девчонку. Улица Новомонастырская.
Где это?
Юго-восточный район.
Что там делает преуспевающий бизнесмен, ныне бомж?
— Отлеживается.
— Нет, погоди, Степаныч. Я что-то совсем непонимающий стал, а после всего… По порядочку, а? В такой ситуации не грех и отмерить всемеро… Во-первых, как Гончаров оказался в ресторане?
— Полагаю, случайно.
— Вопрос второй: зачем он полез в разборку? Снегов его не тянул.
— По глупости.
— Что-то много глупостей, ты не находишь? С чьей-то стороны — глупость, с нашей — трупы. Тогда лучше стать дураком. Навсегда.
— Последние два-три года Гончаров слетел с «коньков». Фирму у него отобрал «Ингма-банк»…
— Это который? Бенин, что ли?
— Нет. Тот — «Икар».
— Развелось их как собак нерезаных. А «Ингма» чей? Что-то я про такой и не слышал.
— Мелочь. Валюту туда-сюда гоняют… Филиал каких-то прибалтов.
— А прибалты чей филиал?
— Николай Порфирьевич, да руки не доходили…
— Нет, ты погоди, Степаныч. Судя по вчерашнему, этот Гончаров — крутой мужик, так?
— Не хлюпик.
— Так что же, он дал обобрать себя каким-то задротам?
— У него нелады с семьей приключились. Запил. А у нас как? Если водка мешает работе, бросай такую работу. Он и бросил. Вместе с деньгами.
— Не понимаю… — покачал головой Автархан.
— Честно? Я тоже. Ну да эти афганцы — сплошь контуженные на всю голову и ниже.
— Врешь, не все. Сколько поднялось…
— Да? И где они теперь? Вот эти контузии им и помогали «строить и жить» в первые постперестроечные годочки… А потом, как нужно стало мозгами думать… Кто — в запой, а кто — под камушек…
— Не любишь ты служивых, а, Степаныч? Сам-то по кабинетам задницей терся…
— Не всегда, — ответил тот резко.
— Не обижайся. Это я к слову. Выходим на завершенку: твое резюме по Гончарову?
— Неудачник. И в бабах, и в делах. Как только что приключилось, сник, запил. А тут — разборка. Привычный способ сбросить стресс — пострелять. Девку под мышку и ноги в руки. Да и девка, надо сказать, красивая. Сейчас припухают. Думаю, ублажает спасителя из рук супостатов минетом.
— Складно врешь. Лысый пожал плечами.
— Адрес верный пробили?
— Да.
— Слушай… А почему эта «Ингма» его не завалила для верности, а?
— А зачем им?
— Не… Старый я стал совсем… Лады, — Автархан подобрался, посуровел. — Решение будет такое…
Телефон на столе запиликал приятно и зазывно. Автархан помедлил, снял трубку, поднес к уху:
— Слушаю.
— Автархан, ты что, вообще забурел? — вроде бы шутейно зазвучал в трубке голос Кондрата.
— Не груби старшим, Кондрат Петрович.
— Как можно, Николай Порфирьевич? А только… Менты мои фуры прессуют, как капусту в бочке! А ты сидишь сычом и носа не кажешь! Что прикажешь думать?
— И что ты думаешь?
— Встретиться надо, раскумекать… А то события ни в какие реалии не укладываются! Вот и Беня у меня здесь. Сидит убытки считает. А для их брата жидка убыток горше, чем серпом по пенису! Может, соберемся рядком да посудачим ладком? — Кондрат выдержал паузу и закончил совсем другим, вовсе не просительным тоном:
— Пока не поздно…
— Ты, никак, угрожаешь?
— Да брось, Порфирьевич, кому кто угрожать у нас станет? Живем хорошо, денюжки идут… Три года как каждый своим делом занят… И вдруг — нате вам песня! Тут вот Беня мне подсказывает: четыре сбоку — ваших нет! Что за разборки, Автархан?
С кем?
— Хорошо. Мы встретимся.
— И еще, слух прошел, «мука» откуда-то сыплется… Мешками.
Черт! Все же кто-то настучал. Ладно, с этим — потом.
— Поговорим при встрече.
— Сегодня, — жестко отрезал Кондрат.
— Сегодня так сегодня, — согласился Автархан. — В восемь вечера.
— Раньше.
— Раньше не получится. В «Центральной».
— Э-э-э, нет. В «Центральной» сейчас не по сезону. В «Летнем саду».
Гостиница «Центральная» была на территории Автархана. «Летний сад» — Бенина вотчинка. Славный кабачок, тихий. Кондрат умный — ни мне, ни тебе. Беня послабее их обоих будет. Вот только… Если эти хохол с евреем стакнулись, ему, Автархану, будет совсем тускло. Туши свет, называется.
— Хорошо, — не стал торговаться Автархан. До восьми вечера — целый день. А за день многое в этом мире поменяться может. Да и день — его еще прожить надо.
Автархан положил трубку, поднял глаза на Кудрина:
— Понял?
— Как не понять… Кондрат с Беней психуют.
— И они правы, если разобраться.
— А кому оно надо — так разбираться?
— Соображаешь… А вот только… Не дает мне покоя одна мысль…
— Да?
— Не Беня ли с Кондратом за всем этим стоят и ниточки дергают?
— Нет, — уверенно ответил Степаныч. — Не их уровень.
— Хм… Пойми, где сейчас чей уровень. Наняли спецов где-то в России и ураганят.
Пойди проверь… Я по результату сужу… А результат… Трупы моих людей, мои оборванные концы, мои потери, мои неустойки… Нет? Кто-то мог ведь такую ситуацию стемешить?
— Вполне, только…
— Что — только?
— Чую, не они. Почерк не тот.
— Чуешь или знаешь? — Автархан испытующе, с угрозой уперся взглядом в темные глаза Кудрина. — Молчишь? Не мути, кудрявый, больше меры. Тебя ко мне когда приставили? Еще капитаном бегал. Понятно, отчитываешься ты у себя в управе, да ведь не только в ней, а? Вот что, мил человек, я скажу… К вашим особистским душам я давно присмотрелся… Вы почище тех наркоманов будете. Все роете, роете… В России — там, пожалуй, и покруче. Горы дерьма нарыли на всех, монбланы, чтобы навыки, значит, не утерять. А ты при мне крутишься. Дескать, организованную преступность легче контролировать, чем неорганизованную. А кто кого контролирует — тебе уже и все одно, а? Если не запродался с потрохами какому-нибудь киту российскому или западному.
Контролеры… Знаешь, в чем ваша оплошка вышла? Матерьяла у вас горы, знаний всяких, а силы, настоящей силы — пшик. Сила, ее кормить надо, пестовать. А в природе как? Не сила за знаниями, знания за силой хоронятся, за нее цепляются.
Ладно, будет, почирикали-покалякали. До семи нам с этими гастролерами вонючими разобраться надо вчистую. Чтобы к стрелке на тарелочке все было на беленькой.
Усек?
— Понял.
— Ливан подтянулся?
— Да.
— Вот и славненько. — Автархан поднялся. — Сам поеду. Ты — тоже. Как там в песне поется?.. Стрелять так стрелять!
— Улицы пусты, дождик застучал часто, только я и ты, только я и ты, и не прячу я счастья-а-а! — Весело напевая, Маэстро ломанулся в тонированную дверь «Ингма-банка».
Собственно, за полтора часа они успели немало: Маэстро, пока Крас ждал его в автомобиле, мягко пообщался по поводу Гончарова с паспортисткой милиции, затем — с дамами из ЖЭКа, на территории которого тот был прописан. Настоящего его местопребывания не знал никто. Но из разговоров Маэстро легко выяснил, что главным супостатом, акулой, сожравшей консорциум Гончарова, и был этот самый банк. Мелкий, как земляной орех, и прожорливый, как утка на выпасе. Собственно, до этого банчонки ни Маэстро, ни Красу не было никакого дела, но раз уж именно они разули Гончара, очень уж хотелось узнать, где может обретаться в нынешние часы сей незадачливый «рыцарь наживы», в прошлом — очень успешный «солдат удачи».
В длинном черном плаще-реглане Маэстро смотрелся вполне по-бизнесменовски. Крас двигался за ним монолитной громадной тенью, как бультерьер-переросток, довольно убедительно изображал охранника босса, этакого убийцу-ветерана.
Закамуфлированная по самое не хочу охрана встретила их недружелюбно. Охрана же истинная, в лице двух мирно читающих прессу «посетителей» в холле, их почувствовала.
Но все же Маэстро обладал некоей властной притягательностью. Таких вахтеры никогда не ставят в очередь-просто не догадываются это сделать. Камуфляжник нюхом угадал в них людей весьма серьезных и во избежание надавил под столом неведомую пим почку, вызывая заместителя управляющего филиалом — минуя все иерархии.
Серьезный блондин-очкарик, длинный и худой, как гвоздь, похожий на хрестоматийного отличника, появился из недр деньгохранилища; на губах его была наклеена улыбка в международном стиле «чииз»: вежливая и равнодушная. Он с удивлением глянул на незнакомых посетителей, метнул неприметно-недовольный взгляд в сторону охраны: похоже, камуфляжный вертухай схлопочет выговорешник, а то и увольнение.
На лице блондина-патерочника, казалось, было написано красивым ученическим курсивом: «Чему обязаны?»
Маэстро улыбнулся искренне белизной тридцати двух зубов — улыбка была как у Вахтанга Кикабидзе перед взлетом с известного на всю страну безымянного аэродрома, — произнес, протягивая визитку:
— Здравствуйте, господин Курмулис. Валерий Петров. Консультант кредитного отдела ЭКСИМОН-банка.
При громком имени даже не кита — кашалота российского финансового рынка белобрысый Курмулис, похоже несколько опешил, поиграл визиткой, украшенной сложной голограммой.
— Вы… Вы договаривались с управляющим?
— Нет. Вам должны были дать команду из Риги.
— Извините, но…
— Возможно, кто-то что-то напутал с факсами.
— Да, да… Такое случается.
Сейчас очкарик мучительно соображал: взять на себя ответственность принять посетителя или… Маэстро поспешил долговязому прибалту на выручку;
— Собственно, вопрос у меня таковой, что, возможно, именно вы поможете мне его разъяснить.
Маэстро был хорошим психологом: обращение «именно вы» позволило решить дело. Но, с одной стороны, заставить дожидаться посетителя, представившегося так громко, было бы некорректным по отношению к упомянутому банку, с другой — не в Америке живем, и визитка является документом не большим, чем рулон памперсов.
— Пройдемте в совещательную комнату, — нашел он компромисс. — К сожалению, управляющий в настоящее время отсутствует, но если вы соблаговолите немного подождать…
— Я думаю, мы решим проблему с вами, — веско произнес Маэстро.
Очкарик потискал оправу на носу, и Маэстро чуть не рассмеялся в голос: ему показалось, что Курмулис сейчас произнесет голосом кролика из саги про Винни-Пуха: «Ну сто з, если вы больсе ницего не хотите, то позалуйста».
— Хорошо, — авторитетно заметил блондинчик. — Пройдемте.
Крас устроился в кресле, вытянув ноги. Охранники, следившие за ним до этого с напряженным вниманием, расслабились: коллега.
Курмулис провел Маэстро в кабинет, усадил за небольшой столик. Появилась секретарша, приняла плащ.
— Я на секунду, — произнес «кролик» и покинул кабинет.
Секретарша, натуральная блондинка, «харячая припалтийская тефочка», не торопясь разливала по чашкам кофе, потряхивая под блузкой не стесненной лифчиком безразмерной грудью, надо полагать, белой, как мрамор, и теплой, как коровье вымя. Маэстро закурил сигарету. Он догадался, что сейчас дисциплинированный белобрысый хорек уже вовсю тискает компьютерную «мышку» и ишет среди сотрудников названного банка некоего Валерия Петрова. Ну что ж… Как гласит латвийская народная мудрость, лучше перебдеть, чем недобдеть. Или это эстонская мудрость?
Да кто их, супостатов, разберет! Другая мудрость, скандинавская, ее дополняет:
«Кто ищет, тот всегда найдет».
— Вы хотите чего-то еще? — закончив сервировку, поинтересовалась секретутка, выговаривая слова с милым акцентом.
— А что, у вас исполняют все желания клиентов? — Маэстро оценивающим взглядом окинул длинноногую золотоволосую куколку. Вот новость — та покраснела! Нет, все-таки какой-то кайф в этих северных красотулях есть: сколько бы рук к ней ни лазило под юбку, при появлении очередного козлища с теми же намерениями они умудряются краснеть!
— Если клиент того заслуживает, то все, — произнесла девушка, заливаясь румянцем, ярким как маков цвет, и при том глядела она на Маэстро с искренним равнодушием профессиональной проститутки. Такое умение — сродни искусству, за него доплачивать нужно, причем совершенно особо!
— Извините, — произнес появившийся «кролик»; уселся за столиком напротив Маэстро, жестом радушного хозяина плеснул в рюмки коньяк. Судя по всему, он нашел то, что искал: Петрова Валерия Игнатьевича, компьютерного брата-близняшку сидящего перед ним человека. Губы его раздвигала чуть более широкая, чем при встрече, но оттого не менее приторная улыбка. Блондинчик пригубил коньяка, прижал к тощей переносице оправу окуляров и уставился на Маэстро так, словно хотел сказать: мы банк маленький, но и для нас время — деньги — Моя проблема заключается вот в чем, уважаемый… Курмулис слегка замешкался, передал визави белый картонный прямоугольник. Маэстро скосил глаза, закончил фразу:
— …уважаемый Вальтер Карлович. Некий Гончаров Олег Игоревич, он вам, я полагаю, знаком…
Вальтер Карлович сидел с непроницаемым лицом.
— Так вот, этот Гончаров взял в нашем банке кредит. Прямо скажем, немаленький.
Насколько нам известно, вы вели бизнес с этим господином?
Белобрысый Вальтер исполнился такой важности, словно в нем в самом деле таилась обойма смертоносных штуковин тридцать восьмого калибра.
— Как правило, мы не обсуждаем дела, которые ведем с клиентами, с третьими лицами.
— И очень мудро поступаете. Нас не интересуют ваши дела с Гончаровым, нас интересует он сам. Если быть точнее, его настоящее местопребывание.
— «Ингма-банк»… — снова гнусаво начал белобрысый.
— Послушайте, Вальтер Карлович, Бог с ним, с вашим «Ингма-банком», окажите нам услугу как частное лицо. Это никак не затрагивает ваших служебных полномочий. И в то же время вы всегда сможете рассчитывать на теплое отношение к вам лично в коридорах ЭКСИМОНа. — Маэстро поднял глаза к потолку. — Как нам известно, Гончаров рассчитался с вами полностью, но по каким-то причинам пока не торопится рассчитаться с нами. Хотя средства у него, по нашим сведениям, имеются, весьма значительные средства…
Похоже, данное заявление явилось для Карловича новостью; он поджал тонкие губки.
Как же, получается, Гончаров их обул, а не они его: банковский стриптиз — дело тонкое, если уж раздевают, то до нитки, а тут…
Маэстро так и подмывало встать и приложить этого франтоватого клерчонка носатой мордой об стол: ну, воротила дребаный, колись на адрес, у тебя же не деньги взаймы просят! Но что-то отдать просто так для банкира, пусть и мелкого, как блоха, дело немыслимое. К тому же нужно учесть национальные особенности нордического мышления этого очкастого индивида, неторопливого, как «Долгая дорога в дюнах». А потому Маэстро завершил, подавив гнев.
— Если у вас возникнут подобные проблемы в российской столице, консультация кредитного управления нашего банка, которую я имею честь возглавлять, поможет их вам разрешить, — произнес он размеренно. Ибо девиз любого банка — размеренность и постоянство.
— Ну что ж… Ваша проблема понятна. Вот только…
— Да-да, разумеется, — подлил масла Маэстро. — Разумеется, если этот вопрос в вашей компетенции.
— Этот вопрос — в моей компетенции, — скривила рот Вальтера победоносная ухмылка. — Но я не знаю, сколько это займет времени.
— Я располагаю временем. Небольшим, но достаточным. Но время в данном случае — деньги. Мы с вами это понимаем лучше других.
— Да, это так. — Он нажал кнопку селектора. Вошла секретарша. — Как, вы говорите, имя вашего… знакомого?
— Гончаров Олег Игоревич.
— Герда, принесите, пожалуйста, из информационного центра справку на Гончарова Олега Игоревича.
— Это наш клиент?
— Уже нет.
— Форма "А"?
— Да.
— Хорошо. Это займет пять — семь минут.
— Хотите еще кофе? — осведомился Курмулис.
— Спасибо, да.
— Угощайтесь.
Золотоволосая дива объявилась ровно через семь минут. Если она с такой же точностью и на свидание ходит… Впрочем, вполне возможно, свидания для нее — тоже работа.
Положила перед шефом распечатку, колыхнула зрелой грудью, приподнимая поднос с кофейным сервизом, и удалилась, как и положено, плавно перемещаясь попой в пространстве.
— Вас это удовлетворит? — спросил Вальтер Карлович.
— Вполне, — произнес Маэстро, не отрывая взгляда от кормы балтийской яхты с поэтичным названием «Герда». Мельком глянул: адрес в справке присутствует. — Насколько достоверны сведения? . — Мы стараемся не ошибаться.
— Как и мы. Ведь за ошибки приходится очень дорого платить. Очень. — Маэстро уставился в рыбьи глаза Курмулиса тем немигающим взглядом, от которого бывалые волкодавы испытывали предсмертное беспокойство.
— Всего доброго, — выдавил из себя прибалт, быстро Уткнувшись глазками в стол.
— Всем нам.
Проходя «предбанник», Маэстро одним движением накинул плащ, сделал ручкой:
— Оревуар, Герда. Как-нибудь познакомлю вас со своим Каем.
Девушка улыбнулась, снова залившись краской. По-видимому, она сочла, что Маэстро так нарек один из органов собственного тела. Кто поймет сладкие девичьи грезы?
Никто.
— Ну что? — спросил Крас, выходя на улицу вслед за Маэстро.
— Задрот четырехглазый! — усмехнулся тот, усаживаясь за руль. — Но телка у него — просто Ундина!
— Ты его хоть не бил? — спросил Крас.
— Бить? — искренне рассмеялся тот. — Да посмотри я на него еще с полминуты, у этого червя позвоночник бы в трусы просыпался!
Маэстро на скорости развернулся, и автомобиль помчался в сторону улицы Новомонастырской.
— Вот только я одного не понимаю… — тихо произнес он. — Как такие сявки смогли скрутить такого бойца, как Гончар, а?
— Крутят не они. Крутят бандиты. А уж эти ребята не обременены ни лишними знаниями, ни лишними комплексами.
— Как и мы с тобой, а, Крас?
— Возможно, — пожал плечами тот. — Далеко едем? Маэстро пожал плечами:
— В ад.
Глава 53
Пусть я погиб, пусть я погиб под Ахероном, Пусть кровь моя, пусть кровь моя досталась псам Орел Шестого легиона, орел Шестого легиона Все так же рвется к небесам…
Олег Гончаров негромко напевал эту мелодию.
— Я помню эту песню… — вскинулась Аля.
— Мы пели ее там.
— С моим папой?
Да. Олег… Какой он был?
— Какой? Барс.
— Ты уже говорил, это была его кличка.
— Не кличка, псевдоним.
— Да какая разница? Мне интересно — какой он был?
— Помнишь у Хемингуэя? Эпиграф к «Снегам Килиманджаро»?
— Не-а. Я не читала.
— «Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто не знал».
— Не поняла. Нет, я помню его дома: он был большой и добрый. А какой он был там, на войне?
— Трудно сразу сказать. Нас часто называют теперь — псы войны. Ну да, в отличие от новобранцев мы были профессионалы. И нужны были затем, чтобы как можно больше новобранцев осталось в живых. Все просто. У Екклесиаста есть изречение: лучше быть живым псом, чем мертвым львом. Так вот, к Володе Егорову такое не подходило; он знал одно: лучше быть живым львом! А Барс — это и есть лев гор.
— Послушай… Этот Сиплый, меченый, со шрамом… Это он убил моих родителей. Я хочу знать почему.
— Аля… По-моему, я его тоже встречал. Но… не вполне уверен, что это был именно он.
— Где?
— В Афгане. После того, как наш отряд был разгромлен. Он приезжал говорить с твоим отцом как с командиром группы.
— Он что, военный?
— Понятия не имею. На нем была куртка-афганка без знаков различия. А мы тогда парились под Кабулом, вроде как в карантине — до выяснения.
— До какого выяснения?
— Каким образом на базе была уничтожена вся наша группа.
— И как, выяснили?
— Никто особенно и не старался. Смердило от всего этого.
— А потом?
— Для меня потом был Союз, вскорости — увольнение в запас. Переехал на Украину — здесь у меня жили родители, отец тоже был военный, служил какое-то время в штабе округа. Барса я больше не встречал. Он продолжал служить. А какие пироги выпекались в конторе… Да и люди везде разные. Возможно, Барс принял какое-то решение, и оно не понравилось его руководителям настолько, что…
— Понятно. Олег, ты сегодня какой-то… Мрачный, что ли…
— Да.
— Что — да?
— Вот что, девочка. Пора отсюда сниматься. Засиделись.
— Скорее тогда залежались, — хмыкнула Аля. — А почему?
— Муторно мне что-то. Нужно уехать из Княжинска на время.
— Куда?
— На кудыкину гору. Пока не утихнет.
— Олег… А ты подумал, где нам достать оружие?
— Оружие?
— Ага. Ведь с нами не в шашки играют.
— Это я заметил, — усмехнулся Гончаров.
— В пистолете три патрона и еще одна запасная обойма. Значит, всего девять, — произнесла Аля, невидяще глядя в одну точку. — Я эту сволочь, Сиплого, все равно достану.
— Мы, Аля. Мы.
— Извини. Мы. Просто я очень долго была одна…
— Мы разыщем его.
— Ага. Только… Этот бандит — не одинокий волк. Девяти патронов может не хватить.
— А ты рационалистка, — улыбнулся Гончаров. — Патронов хватит.
Он встал, взял табуретку и полез на антресоли.
— Помогай, — услышала Аля его приглушенный голос. Подошла. Гончаров подал ей тяжеленный сверток, девушка едва его удержала. Развернула.
— Ну что, хорош набор диверсанта?
Коротенький «бизон», двадцатизарядный «стечкин» с четырьмя запасными обоймами, тротил, тщательно завернутый в бумагу, и детонаторы.
— Роскошно? — Олег отряхнул пыль со свитера. — Теперь остается немного: раздобыть неприметное авто… — Он подошел к окну и замер.
— Что там? — встревоженно спросила Аля.
— «Кабан» и два «катафалка».
— Чего? — Девушка приблизилась, встала рядом.
— Если в переводе с псевдонародного на русский литературный…
— Не надо. Я вижу, — произнесла Аля упавшим голосом.
Снежную целину буравили широкие протекторы двух тяжеленных, полновесных джипов.
Между ними, как бронетранспортер между танками, следовал ухоженный шестисотый.
— Красиво вдут. Авторитетно. — Олег мельком взглянул на девушку, чуть приподнял ее подбородок:
— Выше нос, рысенок.
— Что… Что мы будем делать?
— Организуем торжественную встречу. Закон гостеприимства — дело тонкое. Особенно на Востоке.
Несколько домов возвышались посреди усыпанного снегом поля, словно айсберги.
Высокие, холодные, они казались необитаемыми в тусклом свете утра.
— Который? — спросил Автархан Кудрина.
— Третий.
— Выглядит как пустой.
— Не все квартиры заселены. Дом новый.
— Номер квартиры?
— Пятьдесят шесть. Прикажете начинать, Николай Порфирьевич?
Автархан молчал, прикрыв глаза. В «мерее» и джипах разместились уцелевшие боевики. Собственно, у них мало что осталось от былого энтузиазма: две огневые схватки в течение полутора суток были проиграны, людей потеряно много, и штурмовать эту башню — никакого желания. Поэтому Автархан поехал сам. Впрочем, не только поэтому. Люди — труха. Наберет новых. Но если он к восьмичасовой стрелке не представит внятных объяснений Кондрату и Бене, имя его будет вычеркнуто из негласного списка «уважаемых граждан». Вместе с жизнью, Как бы там ни было, Автархан не терял надежды заполучить то, что хотел: ясность. Ясность по белому порошку, который не так красив, как серебристый снег, зато куда более дорог. Дороже и серебра, и золота. Хм… Все, что несет в себе смерть, — самое дорогое в этом мире. Оружие и наркотики. Только смерть позволяет немногим жить уж на этой земле как в раю. Утопая в роскоши, пользуясь любовью красивейших женщин и смакуя вкус изысканных ощущений. Таким уж устроил свет князь мира сего, и правит здесь род лукавый и прелюбодейный. Змея, вцепившаяся в собственный хвост. Круг жизни. Яд мироздания.
Власть. Только она дает возможность распоряжаться смертью. За это стоит побороться.
— Необходимо захватить Гончарова и девчонку и грамотно закрепиться до прибытия наших противников, — продолжил Кудрин.
— Если они еще не закрепились, . — невесело усмехнулся Автархан.
— Нет. Двое наших людей пробежали по дому. И остались контролировать выход на крышу. Все тихо.
— Да? Кудрин… Генерал Кравченко был опытным человеком?
— Смотря в чем…
— Но бойцов его группы не назовешь новичками.
— Да, это так.
— Они тоже, я думаю, были уверены, что «все тихо». Больше их нет с нами. Кудрин промолчал.
— Ты умный, Степаныч, — процедил сквозь зубы Автархан. — А потому запомни: сейчас тебе нужна только победа. Иначе твоя голова не родит ни одной мысли. Даже самой дурной. И это уже не зависит от того, что будет со мной. Маятник запущен.
— Я понял, Николай Порфирьевич.
— Тогда начинай. К восьми нужно успеть.
— Мы успеем.
— «Мы успеем… В гости к Богу не бывает опозданий…» — вполголоса напевал Маэстро.
Автомобиль мчался к окраине. Снег густо сыпал с низкого неба, перемешивая его с землей. Дома, строения, силуэты автомобилей возникали словно из белого мельтешащего мрака, чтобы снова исчезнуть…
— Крас, ты никогда не задумывался над тем, что снежинки так похожи на людей? Так же искрят, так же падают, так же исчезают бесследно… Даже те, кто считал себя могущественным владыкой…
Тот только пожал плечами. Взрывные перемены настроения, чередовавшиеся у Маэстро с почти полной апатией, порядком его измотали. Но Маэстро если и нужен был слушатель, то скорее как фон.
Маэстро помолчал, произнес тихо:
— И все же… Государи преходящи… Лишь один король вечен… Король былого и грядущего.
— Да? И кто же этот деспот? — иронически хмыкнул было Крас, но осекся, встретив взгляд черных, как подледная студеная жижа, зрачков.
— Лир.
Глава 54
Дом был блокирован в считанные минуты. Боевики выпрыгивали из джипов спокойные, равнодушные. Кудрин командовал одними жестами; задача была непроста: суметь захватить двоих да еще и выставить внешнюю засаду на неизвестных.
Кудрин смотрел на боевиков и чувствовал все более крепнущую уверенность: в эти три авто были отобраны самые-самые. Может, и не по качеству профессиональной подготовки, хотя опыт разборок у них был значительный, а по тому искреннему безразличию к смерти, которая читалась в каждом движении. Все понимали: лучше умереть волком, с кровью на клыках, чем стать забойной овцой; и не важно, по чьему приказу тебя зарежут, Автархана или Кондрата; важно, что другого способа выжить, кроме как выполнить порученное, у них не было. Как и у него.
Диспозицию с ними Кудрин отработал загодя. Впрочем, «отработал» — не совсем то слово. По крайней мере, каждый знал, что ему делать и как. И у Кудрина вдруг мелькнула надежда, что-они вывернутся. Победят.
Обряжены боевики были вполне официально: камуфляжки с эмблемой падающего сокола на рукавах, на лицах — полумаски. Ни дать ни взять — милицейский или какой другой спецназ проводит операцию по захвату супостата. Гражданам накручивать 02 в голову не придет. Кудрин поднял рацию к губам:
— Я — первый. Что там?
— В квартире?
— Да.
— Свет горел в комнате. Занавеска колыхалась. Теперь на кухне только горит.
— Они в квартире?
— А где же еще?
— Ты их видишь?
— Да не, шторы-то задернуты. Но в кухне вроде ходил кто-то, там задернуто неплотно.
— А сейчас?
— А хрен его знает! Или чаевничают, или в постельку залегли.
— Если что изменится — сообщи.
— Ага.
«Ага». Черт!" С какими раздолбаями работать приходится! Кудрин вздохнул: за неимением гербовой — пишут на простой.
Он поменял частоту:
— Я — первый. По сообщению наблюдателя, они на месте, — доложил он Автархану.
— Вы готовы?
— Да.
— Начинайте.
— Есть.
Снова поменял частоту:
— Я — первый. Всем. Начинаем. Время пошло. Гулко ухнули двери подъезда; подкованные металлом, шнурованные сапоги боевиков загрохотали по лестнице.
Гончаров тихо вышел из квартиры, аккуратно прикрыл за собой дверь, дождавшись характерного щелчка, приложил палец к губам и осторожно, на мысочках, двинулся вверх по лестнице, контролируя пространство перед собой стволом автомата. Аля скользнула следом.
Оба ступали почти бесшумно; Олег просто умел это делать, а у девушки на ногах были толстые шерстяные носки поверх колготок и никакой обуви. В руках она сжимала маленький американский пистолетик, обладавший грозной разрушительной мощью. На ствол был навернут глушитель.
Они поднялись на два этажа. Снизу загрохотали шаги.
— На крышу? — шепотом спросила девушка.
— Бессмысленно. Да и… Крутить один и тот же трюк дважды — верная гибель.
— А изображать из себя «Варяг» лучше? Ты только послушай — их там человек десять! Нет, можно, конечно, щелкать их отсюда по одному, как мишени, но долго это не продлится. Включат лифт или еще как людей наверх подтянут, и нам — каюк.
— Это точно. Раньше это называлось — амба.
— Тебе очень хочется шутить? Бежим наверх, пока еще есть время.
— Времени нет. А люди, их люди, на крыше — наверняка.
— Почему ты так думаешь?
— Они же не полные кретины.
— Так что делать?
— Не переживай, малышка. Катапультируемся.
— Чего?
— Смотри сюда…
— Олег, ты с ума сошел!
— Разве?
— Я не полезу в этот ящик!
— Еще как полезешь.
— Я там застряну!
— А ты попробуй…
— «Попробуй»… А обратно как?
— Хватит болтать! Время!
— Оттуда воняет!
Они стояли перед отверстием мусоропровода. Мусоро-заборный ящик был выломан давно, с потрохами.
— Олег… Но ведь ты сюда не пролезешь…
— Я попробую. Следом за тобой.
— Я разобьюсь…
— Не успеешь!
Одним движением Гончаров закрепил шнур мудреным узлом.
— Пошла!
— Ногами вперед?!
— Не вперед, а вниз. Как только приземлишься дернешь! — Гончаров легонько толкнул Алю в спину.
— Ой1 — Девушка скользнула в проем.
Олег контролировал трое; как только он ослаб, заглянул в проем. Шнур дернулся два раза.
Гончаров выпрямился и — почувствовал холод металла: ствол уткнулся под ухо.
— Стой и не рыпайся! — с придыханием прошептал голос, обдав гнилью порченых зубов. Олег замер. — Брось автомат. Аккуратно.
Железо гулко ударилось о бетонный пол.
— Первый, мы у дверей квартиры. Все тихо.
— Что там? — отозвался на позывной Кудрин.
— Музыка играет. Магнитофон. Но негромко.
— Дверь серьезная?
— Ну. Навороченная.
— Снять сможете?
— Элементарно.
— Взорвать?
— Да нет, она на одну защелку прикрыта. Считай что на соплях. У нас тут братуха — просто эксперт-криминалист по таким дверцам. Этот, Фарадей. Вскроет за минуту.
Ну че, подламывать?
— Да. И всех, кто внутри, сразу вязать.
— Это без балды.
— Брать нужно живыми. Особенно девчонку.
— Тепленькими возьмем. Этот козел, видно, с девкой в постельке нежится. Щас мы ему кайф обломаем.
— Соседи от вашей топотни не всполошились?
— Не-а. А чего им? По прикиду мы — натуральные мусора! Видно, за дверями притаились и пасут.
— Все. Работайте.
— Ага. Щас вскроем. В лучшем виде. — Громила ростом метра под два опустил переговорник. — Ну че, Крот, давай. Только тихонечко.
— А тут и шуметь нечего: это как крючок в сортире снять.
Крот просунул тонюсенькое лезвие, отжал защелку, прошептал:
— Готово. Можно путешествовать.
— Пацаны, приготовились… — скомандовал здоровый. Вообще-то вся эта игра в группу захвата порядком действовала ему на нервы: этот лысый, Степаныч, задницу рвет перед Автарханом, чтобы оправдаться. Да и то, сколько братанов за пару суток положили.
Внезапно он почувствовал муторный, сосущий холодок под ложечкой. Опасность.
Липкий холодный пот разом покрыл спину, поясницу, несколько капелек выступили на лбу. Горло словно заложило; он старательно проглотил жесткий шершавый комок…
Он чего, трусит? Вот уж — лысый хрен!
— Крот, Лютый, Капкан, стволы приготовьте. Как только дверь дерну — огонь. Чтобы места живого не осталось!
Никто командиру не перечил. Он встретил взгляд Лютого, и глаза того показались ему белыми от страха.
Дьявол! Да так можно стоять бесконечно!
— Готовы? — хрипло переспросил верзила.
— Ну… — ответили ему. Стволы автоматов смотрели в готовую раствориться дверь.
— Пошла, мать ее!
Здоровый одним движением распахнул дверь. Клуб оранжевого пламени заполнил площадку, с тихим шуршанием выплеснулся на лестницы и в окна, кроша стекло, и — разметался упругим грохотом взрыва, вышибая окна близлежащих домов.
* * *
Рука, державшая оружие, чуть дернулась инстинктивно, реагируя на взрыв, и этой доли секунды Гончарову хватило, чтобы нырнуть под нее; локтем он ударил в сплетение, но локоть угодил в мягкий кевлар бронежилета. Олег мгновенно выбросил руку наверх, выбил пистолет и ударил нападавшего головой в лицо. Парень отлетел к стене, но был он явно не из слабаков. Жесткий металлический щелчок выбросил отточенное лезвие ножа; оно прочертило в воздухе неровную линию.
Олег едва успел отклониться: свитер на груди и рубашка под ним распались на две половинки, порез мгновенно набух кровью.
— Дамаск, — оскалился Олег и принял боевую стойку.
— Да уж не фуфло, — бросил в ответ боевик. — Кранты тебе, мужик. Гайки.
Лезвие порхало в его руке вверх-вниз, парень легко передвигался по узенькой площадке, делая выпады, перебрасывая нож из одной руки в другую, хотя и наслаждаясь своим искусством, но вовсе не оттягивая из глупого тщеславия развязку, просто примеривался наверняка на единственный, смертельный удар. Олег знал, увидеть этот удар он не сможет, разве только угадать.
Черт, как глупо! Как глупо подыхать от ножа? И это — в век атома и космических полетов!..
Гончаров даже не успел удивиться полной дегенеративности пришедших на ум мыслей; он будто в замедленной съемке почувствовал движение… Словно городошная бита, Олег бросился парню в ноги, подсекая. Тот рухнул плашмя на спину, Гончаров крутанулся на спине и ударил пяткой в лицо. Боевик замер. Некоторое время Олег тупо смотрел на труп, затем приподнял… После его удара тот приложился головой о батарею, затылок разворотило начисто.
В два движения он стащил с трупа кевларовый мягкий броник, прикинул на себя, пробормотав:
— Тебе уже не пригодится, а мне еще жить и жить… — Механически наклонился, подобрал автомат и только тогда услышал:
— Эй, помог бы!
Голова Али торчала из люка мусоропровода; локтем она зацепилась за край, другая рука с зажатым в ней пистолетом свешивалась вниз.
Гончаров сделал шаг к ней.
— Сзади! — выкрикнула девушка, попыталась вскинуть оружие и в то же мгновение, не удержав равновесия, исчезла в люке.
Гончаров рухнул на пол, разворачиваясь, как винт по резьбе, поливая пространство сзади нескончаемой очередью. Пули отбросили человека к стене, но Олег продолжал жать спуск, пока голова противника не разлетелась на части. Одним движением сменил магазин, зажал ремень автомата в зубах и, придерживаясь за шнур, нырнул в люк мусоропровода.
Грохнуло, шнур дернулся, вырываясь из рук, и Гончаров полетел в темный провал…
Сначала он услышал слова. Потом изображение словно сфокусировалось.
— С мягкой посадкой. Как ты меня не прибил — не знаю!
Гончаров встряхнул головой. Все произошло слишком быстро. Он помнил только режущую боль в ладонях, потом — удушливый удар и темнота.
— Я что, выключился?
— Совсем ненадолго.
— А что произошло?
— Да тут пламя как даст, видно, труба газовая где-то не пережила твоих шалостей с тротилом. Сколько там было?
— Грамм шестьсот…
— Вот. Это ж прямое хулиганство. Слушай, я навернулась тоже крепко. Но — осознанно.
— Погоди. Как ты успела снизу влезть обратно?
— А я вниз и не спускалась. Закрепилась на этаж ниже. А потом — грохнуло! На нашем этаже заслонка от мусоропровода вылетела, как дверца из мебели фабрики «Красный партизан»! Страшно мне что-то стало, я и полезла обратно.
— Спасибо.
— Не за что. Что делать-то будем? Гончаров усмехнулся, втянул носом воздух, стряхнул с лица налипшую луковую шелуху.
— Выбираться из этого дерьма.
Глава 55
Кудрин замер на месте. Сверху сыпались осколки разбитых стекол; гулкое эхо взрыва еще гуляло по подъезду, а он чуть не грохнул оземь ставшую ненужной рацию… С ним оставалось двое боевиков. Неужели, остальные погибли? Или… Или здесь действует та же спецгруппа, что поваляла бойцов генерала Кравченко и мочканула его самого самым душманским образом?
Растерянность Кудрина, пусть она была и мгновенной, не укрылась от боевиков.
— Накомандовал, мусор? — процедил сквозь зубы один, надвигаясь на Кудрина.
Второй тоже глядел волком.
Кудрин чертыхнулся: в случае возникновения подобной ситуации в боевой обстановке с бойцами любого элитного подразделения он бы попросту застрелил обоих и по всем статьям был бы прав, теперь же… Для этих ребяток он был не кем иным, как ссученным мусором, особистом, к которому и отношение соответственное. И все же навыки выживания оказались сильнее: движение было скорым и неуловимым, в его руках оказались пистолеты; два выстрела слились в один, и обоих волчар отбросило к стенам: стрелял Кудрин всегда в голову.
Теперь нужно уходить. Чисто. Автархан не простит. Ну да. Не простит, если выживет. А шансов на выживание у Миколки Порфирьевича в этой заварухе куда меньше, чем у него, Кудрина. Смыться и залечь. Утро вечера мудренее, а самое мудрое в его теперешнем положении — исчезнуть и объявиться чуть позже, на стороне победителя. А победителей, как известно, не судят.
Все эти мысли проскочили в лысой, как шар, голове Кудрина в долю секунды; он настороженно двинулся вниз по лестнице: нужно забраться в подвал и выходить уже из крайнего подъезда… Опасливо озираясь на входную дверь, Кудрин легонько спускался по ступенькам… Холодный металл автоматного ствола уткнулся прямо в затылок. Кудрин почувствовал, как вся спина разом покрылась липким потом, но рефлексы снова сработали однозначно: Кудрин как бы поскользнулся, голова ушла с линии ствола, он нырнул вниз, подав руку назад — захватить самое уязвимое место противника. Когда он понял, как ошибся, было поздно: рукоять пистолета обрушилась ему на голову, и бетонный пол полетел навстречу.
— А еще говорят, женщины — слабый пол, — усмехнулся Гончаров, глядя на Алю.
— Ты думаешь, мне не больно? — спросила она.
— Если бы он схватил так меня, то как боевая единица я был бы утерян во всех смыслах, — сказал Олег и добавил, теперь уже совершенно серьезно:
— Если приставила ствол к затылку, будь готова стрелять на малейшее движение. А ты была не готова.
— Все произошло так быстро… — начала было Аля.
— Не ври. Ты была не готова выстрелить. И он это почувствовал.
— Да, — согласилась Аля. — Но ведь…
— Погоди, девочка. Сейчас бой. А в бою не бывает сослагательного наклонения. Или ты, или тебя.
Аля замерла, глядя в одну точку. На глазах закипели слезы.
— А вообще, ты — молодец. Пошли.
Гончаров спустился по ступенькам, одним ударом выбил хлипкую подвальную дверь и скрылся в темноте. Аля нырнула за ним следом.
Тишина наступила как-то сразу. Два пустых джипа были похожи на покинутые защитниками крепости. Из подъезда так никто и не вышел. Автархан повернулся к сидевшему за рулем «мерса» Тимофеичу:
— Ну что будем делать, Малютушка? Видать, Бог теперь не на нашей стороне, а?
Судя по всему, двое нас осталось: ты, да я, да мы с тобой…
— Расклад такой выпал, — пожал плечами старик.
— Вот именно, расклад;
— Где Ливан затерялся?
— Вызов он получил.
— Может, повторить?
Автархан тяжело посмотрел на Малюту:
— С тонущего корабля бегут не только крысы.
— Ливан не такой.
Автархан пожал плечами. Протянул Малюте сотовый. Тот набрал номер. Сказал несколько слов в трубку. Потом некоторое время слушал. Повернулся к Автархану:
— Менты их стопорнули. За превышение скорости.
— С каких это пор менты стали стопорить наших? Малюта потупил взгляд:
— С недавних.
— Ну да… Слабых не уважает никто. — Автархан пожевал губами, вынул из коробочки пару облаток, проглотил. — Повязали?
— Нет. Повезло: это не спецназ, обычные гаишники. Ливан решил двигать в объезд.
В машине стволов под завязку: если стопорнут омоновцы, положат всех. Злые, как суки.
— Отменяй Ливана. И самим надо убираться. Минут , через десять здесь будет черно от служивых.
— Не будет. Ливан уже на подъезде. Будет минут через семь. А на шоссе я ему велел какую-нибудь фуру стопорнуть поперек.
— Разумно.
— Колян, нужно это дело до конца добить. До черточки.
— Боюсь, против Кондрата нам уже не станцевать, Малютушка.
— Ниче. Щас мы этих достанем-таки, а потом, глядишь, и Кондрата оприходуем… — Вся напускная благость слетела с Тимофеича, как блажь. Рядом с Автарханом сидел паленый травленый волк.
— Вывернемся, Колян, — продолжил старик, глядя на Автархана немигающим взглядом.
— Помнишь, на сучьей зоне куда паскуднее было, а вывернулись, спина-то к спине.
— На этой зоне сук куда больше, чем на той.
— Бог не выдаст — свинья не съест.
— Ты прав, Малюта.
— Так чего, в подъезд пока двинем, осмотримся?
— Погодим… Должен же кто-то объявиться? — Автархан лег на сиденье. Малюта поступил так же. Теперь «мерседес» стоял будто пустой.
Гончаров замер, затаившись, за дверями крайнего подъезда. Двери были добротными, ни щелочки. А жаль.
— Может, я выйду, посмотрю? Вроде как живу здесь? — шепотом спросила Аля.
— Ага, в носках… Девушка пожала плечами:
— Ну не век же здесь стоять.
— Это точно.
Гончаров поднялся на этаж. Поднял автомат. Прицелился.
Автоматная очередь распорола обшивку стоявшего впереди других машин джипа. И снова — тишина. Олег внимательно наблюдал за двором: никакого движения. Или боевики действительно погибли все? Но ощущение, что где-то затаился снайпер, было острым, как штык.
— Ну что? — спросила Аля.
— Тихо, как в морге.
— Тьфу… Ну у тебя и сравненьица!
— Это от нервов. Придется рискнуть. Я прикрываю, ты бежишь ко второму джипу.
Заводишь.
— Я не умею водить!
— Совсем?
— Когда-то один человек учил меня, давно, на юге… У меня машина почему-то дергается и становится как лист перед травой!
— Потом расскажешь. Беги к машине, скройся за ней. Потом вытащи пушку и попугай стволом окрестности.
— Как это — попугай?
— Аля… Просто нацеливай на все подозрительное… Если кто-то пасет нас, под стволом ему будет не так уютно. Ага?
— Ага…
— Да, и помни. На войне как на войне. Или ты, или тебя. Пошла!
Девушка выскочила из подъезда и стремглав понеслась к автомобилю.
— Это они! — Автархан приподнялся на сиденье.
— Притаись, Колян, прикинься ветошью… Никуда они не денутся, — процедил сквозь зубы Малюта. Ощерился в недоброй усмешке, отомкнул дверцу.
Девушка скрылась за джипом, оттуда показался ствол пистолета. Гончаров рывком преодолел расстояние до автомобиля, что-то сказал девушке, она запрыгнула в кабину, а Гончаров вдруг замер, почувствовав невидимую опасность, крутнулся на месте, поводя стволом вокруг. Внимательно оглядел подъезды, безмолвно застывший автомобиль, стал на подножку и взялся за поручень…
Малюта действовал мгновенно. Чуть приоткрыл дверь, привстал, поднял оружие и выстрелил навскидку. Тяжелый заряд попал Гончарову в лопатку, располосовал кевлар и буквально втолкнул его в салон автомобиля.
Малюта перезарядил «буллап», вышел из машины. Ухмыльнулся:
— Сейчас, Колян, сейчас я его достану…
Вдавил приклад в плечо…
Автархан увидел лишь, как тело подручного замерло и рухнуло подкошенно на жухлый снег.
Девочка опустила пистолет, запрыгнула назад, в кабину, дверца джипа захлопнулась. Взревел мотор, и автомобиль, переваливаясь тяжело, словно перекормленный носорог, поехал прямо по снежному бездорожью, взревел турбиной, почувствовав под поземкой твердый грунт, выехал на припорошенный асфальт и помчал в сторону от города.
Все произошло настолько быстро, что Автархан не успел даже выстрелить. Посмотрел на бесполезный пистолет в своей руке и увидел себя словно со стороны: жалкий одинокий старик, решивший сыграть в войну. Может быть, его время действительно ушло? Автархан уронил голову на руки. Плечи его тряслись… Впрочем, никто не смог бы определить, плачет этот человек или просто воет, как раненный в самое сердце зверь.
— Какая умница! Крас, ты только посмотри, какая умница эта девка!
Маэстро остановил машину на взгорке за секунду до того, как Аля и Гончаров выскочили из подъезда, и наблюдал за схваткой. Азартно потер руки:
— Нет, Крас, в каком театре ты увидел бы такую постановку, а? Твой афганский дружок тоже не промах!
— Он мне не дружок. Двигаем следом?
— А как же!
— Надо бы этого старикашку в «мерее» мочкануть по-быстрому. До кучи.
— Погоди…
Здоровенный навороченный «лендровер», джип-близнец того, на котором только что укатили Гончаров и Аля, выехал из-за дальнего дома и устремился к «мерсу».
— Лихо это он, по целине-то… — отозвался Крас.
— Им, вездеходам, закон не писан.
— Перехватываем?
— А зачем? По грунтовке ему от нас не уйти. Замыкающими пойдем.
— Хорошо стреляет тот, кто стреляет первым.
— Если попадает. А эти ребята не попадают.
— Пока. Может, им просто не везет? Маэстро, они уйдут!
— Не-а. Не успеют.
Джип приблизился к застывшему «мерседесу». Выскочивший оттуда громила наклонился, что-то спросил у старика в машине. Тот вышел из «мерса», забрался в услужливо открытую дверь, и джип устремился в погоню за беглецами.
— Вот теперь — пора! — Маэстро лихо развернулся и дал газ.
Глава 56
Поземка неслась под колеса джипа, а небо, казалось, сливалось с землей. И не было никакого горизонта, не было ничего ни впереди, ни позади, они мчались в слепой снежной мгле, без прошлого и без будущего. Наудачу.
— Тебе плохо? — спросила девушка.
— Терпимо. Царапины. Дробовик сучий. Но рука у этого старого козла все же дрогнула.
Олег сбросил бронежилет. Кевлар на такие заряды не рассчитан, особливо при стрельбе с десяти метров. Четыре картечины. Две влетели в небо. Еще две — одна в плечо, другая в лопатку. Все же это лучше, чем в голову.
— Я его застрелила, — тихо произнесла Аля.
— Молодец, — безо всякого выражения похвалил Олег. Девушка посмотрела на него странно и снова уставилась в ветровое стекло. Яростно лепил густой снег. Она постаралась прислушаться к себе — нет, никаких чувств. Абсолютно. Ни ужаса, ни сожаления, ни раскаяния, ни-че-го. Апатия и безразличие. Полное безразличие. Ни мира, ни света для нее словно не существовало. Только безобразное лицо со шрамом. Человек, которого ей нужно убить. Словно после этого должна вернуться и гармония окружающего мира, и синева неба, и лето… Словно после этого изменится ее прошлое и уж точно появится будущее. Все остальное девушке было совершенно не важно. Аля достала сигарету, зажгла, затянулась.
— Тебе прикурить?
— Да.
— Держи. — Она подала ему свою, прикурила снова. Глянула на его посеревшее лицо:
— Может быть, поедем в травмпункт?
— Ага. — Гончаров скривил губы в мучительной ухмылке. — Обязательно. Как только, так сразу.
— Плечо сильно болит?
— Там нечему болеть. Там — кость. Жаль, что я не умею водить. Еще как жаль.
Олег, а может… За нами — «хвост». Что? Погоня. Нужно оторваться.
Девушка посмотрела в зеркальце заднего вида. Такой же джип мчался за ними, нагоняя. Он был быстрее — водитель более опытен. Тяжелая машина медленно вырастала. Сколько там боевиков, за глухо тонированными стеклами, разглядеть было невозможно.
— Может быть, развернемся и в центр?
— Бесполезно. Они просто из нас решето сделают. Даже если мы остановимся напротив Верховного Совета.
— Но им же было нужно…
— Боюсь, теперь им уже ничего не нужно. Кроме нашей смерти.
Гончаров попробовал прибавить.
Джип был мощный. Олегу казалось, что он сидит за рулем многотонного грузовика.
Редкие встречные автомобили попросту шарахались в стороны или прижимались к обочине, завидев вынырнувшего из снежного месива и несущегося навстречу на предельной скорости колесного монстра.
— Я их остановлю, — сказала девушка, вынимая оружие.
Олег мельком глянул на ее лицо. Оно было спокойным и сосредоточенным. Ни волнения, ни страха.
— Возьми автомат.
— Нет. Из пистолета мне удобнее.
Девушка перелезла на заднее сиденье. Она собиралась стрелять прямо из салона.
Тонированные стекла не позволяли преследователям открыть прицельный огонь, да и ее они заметят, когда будет поздно. Промахиваться она не собиралась.
Или преследователи разгадали их план, или людям в схожих ситуациях приходят схожие мысли…
Боевик вынырнул из бокового оконца, сжимая в руках автомат. Девушка едва успела нырнуть ничком, как пули, выпущенные наудачу, веером, пробили заднюю обшивку и вышли через крышу.
— Суки! — произнесла она сквозь зубы, высадила заднее стекло одним ударом, какой-то железкой.
Парень менял магазин. Вернее, старался вставить второй из пары, смотанной скотчем, взамен порожнего. Наконец ему это удалось. Он поднял оружие.
Пуля попала в глаз, и боевик кувырнулся вниз, будто марионетка, у которой вдруг подрезали веревочку.
Аля примерилась, выровняла пистолет. Он подпрыгнул в ее руках дважды, и две крохотные дырочки образовались в ветровом стекле прямо напротив сидений водителя и пассажира. Джип продолжал мчаться с той же скоростью, но теперь начал медленно двигаться влево. Плавно, как в замедленной киносъемке, массивный автомобиль слетел в невысокий кювет и зарылся тупорылым бампером в снег. Задняя дверца распахнулась, показавшийся в ней боевик с автоматом дал нескончаемо длинную очередь вслед удаляющемуся коллеге на колесах. Аля снова упала ничком. Пули цокали в обшивку и увязали.
— Олег, мы оторвались! Ты слышишь? Мы оторвались! Гончаров не ответил.
— Олег! Что с тобой?!
Скорость медленно гасла. Олег держался прямо и, как только автомобиль остановился, замер.
— Олег!
Девушка одним прыжком оказалась на переднем сиденье.
— Олежек! Олег!
Мужчина попытался улыбнуться… — Прости… Я не успел… — Олег, пожалуйста…
— Ведь грустным солдатам нет смысла в живых… — произнес он едва слышно и бессильно уронил голову на грудь.
— Олег, Олег, ну пожалуйста… — Девушка обняла его, попыталась приподнять и заметила, что водительское сиденье все в крови…
Слезы высохли сразу. Вместе с ними пропал и страх. Девушка словно застыла на месте.
Преследователи остались позади метрах в пятистах.
И загородная дорога в этот час была совершенно пустынна.
Аля аккуратно проверила оружие. Пистолеты. «Стечкин», двадцать патронов. В «подарке из Америки» после всех перипетий — только два. Лучше, чем ничего.
Оглядела себя. Колготки, длинная клетчатая рубашка. На ногах — никакой обуви, только толстые шерстяные носки. Огляделась. Надела найденную в машине меховую куртку. Американский маломерный пистолетик поместился в карман ковбойки.
«Стечкин» она сжала в руке. Рукава у куртки были длинные, и ее рука вместе со стволом оказалась полностью скрытой. Попробовала быстро поднять руку.
Получилось, но Аля осталась недовольна. Вытащила руки из рукавов, накинула куртку поверх. Попробовала снова. Лучше. Куртка упадет, но это будет уже не важно. Зажатый в левой пистолет и теперь скрывался под полой. Распахнула: чтобы бандиты не сомневались, что оружия у нее нет. Автомат сжала на виду, правой рукой.
Распустила волосы. Тряхнула головой. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула.
Пора.
А в голове… В голове крутилась и крутилась мелодия… Постоянно, мучительно, неотвязно…
…Я помню, давно учили меня отец мой и мать: Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, Стрелять так стрелять… …учили меня отец мой и мать… …любить так любить…. …стрелять так стрелять……"Олег, а какое дело — мое?"
…"Любить".
…"И — все?"
…"Это не так мало".
Это не так мало.
Любить так любить… Стрелять так стрелять…«На войне как на войне. Или ты, или тебя».
Стрелять.
Аля обернулась, посмотрела на Гончарова. Словно что-то могло измениться. «Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться…»
Ни слезинки не появилось на глазах. Словно в ее сердце действительно попала льдинка от разбившегося зеркала Снежной королевы.
Стрелять так стрелять.
Стрелять.
Открыла дверцу машины и спрыгнула на снег. Она не думала сейчас ни о чем. Ей нужно было подойти поближе. И выпустить все двадцать тяжелых пуль. Без промаха.
Бандитов было семеро. Они быстро приближались к остановившемуся джипу. Среди них выделялся пожилой сухощавый человек в длинном кашемировом пальто. Аля определила для себя: Главарь.
Она спокойно пошла им навстречу, ощущая направленные на себя стволы автоматов и пистолетов. Сто метров. Семьдесят. Пятьдесят. Тридцать. Двадцать.
— Стой! — скомандовали ей. Девушка остановилась.
— Брось автомат, сука!
Аля подняла голову. Сначала она боялась — боялась увидеть глаза тех, кого ей предстоит…
Но глаз она не увидела. Только хари — искаженные злостью, затаенным страхом, но больше — злостью. Ей даже на миг стало не по себе: смогут ли пули свалить этих нелюдей…
Бандиты приближались, медленно охватывая ее полукольцом.
— Ты что, оглохла? Автомат — на землю!
Аля одним движением бросила автомат далеко в сторону. Куртка соскользнула с плеч. По инерции, пусть на мгновение, взгляды всех были прикованы к летящему оружию. Этого мгновения ей хватило.
Двадцать пуль вылетели очередью. Четверо боевиков рухнули замертво. Трое — раненные, поверженные тяжелыми пулями на снег, пытались поднять оружие. Второй пистолет, короткий и тупорылый, как бульдог, уже был в руке девушки. Два выстрела слились в один. Больше патронов не было.
В живых остался только Главарь. Седой, желтолицый старик лежал на снегу; грудь была пробита в двух местах. Молча он смотрел на девушку, на оружие в ее руке.
Отверстия на груди пузырились при каждом вздохе; старик закашлялся, на губах тоже появилась кровь.
Старик не отрывал от нее взгляда. Потом разлепил синеющие губы:
— Я — Автархан.
Она не произнесла ни слова.
— Кто ты? — спросил он хрипло. Аля молчала.
— Кто ты? — повторил он вопрос, хотя каждое слово давалось ему с невероятным трудом.
— Никто, — ответила девушка.
— Добей… — прошептал он, теряя силы. Аля отрицательно покачала головой. Старик скривил губы, потянулся за зарывшимся в снег маленьким «вальтером». Аля смотрела, как он с усилием поднял оружие, ствол ходил ходуном, а старик силился спустить курок. Рот осклабился в гримасе невероятного напряжения, обнажив желтые клыки в бурой пене крови. Глаза стали белыми, старик словно поперхнулся, рука с пистолетом упала, и сам он рухнул головой в снег и замер.
— Стрелять… так… стрелять… — едва слышно произнесла Аля.
Разжала руку. Пистолет выскользнул из ладони и зарылся в глубокий снег на обочине. Ноги перестали держать, и она опустилась на ледяной наст шоссе.
Але стало холодно. Совсем холодно. Девушка смотрела прямо перед собой и не видела ничего, кроме наползающей ватной стены, потом все словно закружилось в водовороте, и она провалилась в стылую, с ледяными краями, воронку. В бездну.
Неприметный «жигуленок» появился через минуту. Дверь автомобиля распахнулась.
— Ты оценил, Крас? — Маэстро прикурил сигарету. — Если бы я не видел это собственными глазами… М-да… Мы лишние на этом празднике смерти.
Маэстро прошел по дороге, рассматривая трупы. Остановился рядом с Автарханом:
— А этот еще живет… Странно.
Вынул бесшумный пистолет и спустил курок.
— Вот теперь — чисто. Что с девочкой?
— Она не ранена. Но почему-то без сознания.
— Нечего сказать, кисейная барышня. Порешила полдюжины отборных боевиков и хлопнулась в обморок. Хорошая растет молодежь, а. Красавчик? Ну, что ты застыл?
Бери девчонку и — в машину. Пора отбывать с этого супостатного места.
Крас легко подхватил бесчувственное тело девушки, уложил на заднее сиденье, устроился рядом.
— Пошарь у нее под рубашкой: не люблю выстрелов в затылок.
— У нее ничего нет, — успокоил Крас.
— Ну что ж… Как пишут в школьных сочинениях: усталые, но довольные, они возвращались из похода. Ты получил свою девчонку. Осталось… Осталось найти Моцарта. Если бы еще знать, кто он…
— В город?
— Да.
— На объект "А"? Маэстро кивнул.
— Извини, что я тебя спрашиваю…
— Брось, Красавчик. Без церемоний.
— Лир… уже там?
— Как знать, милый, как знать. Маэстро круто развернулся, и машина помчалась в сторону города.
— А что, Крас… Ведь для многих это — трагедия.
— Трагедия?
— Ну да. Эти мордовороты для нас — трупы. А для родных — покойники. Улавливаешь разницу?
— Слабо.
— Плохо. Тебе бы не мешало. «Покойник» в русском языке — существительное одушевленное. А трагедии… Как сказал кто-то умный, трагедия — это урок для оставшихся в живых. Но не для нас, а. Красавчик?
Нет. Не для нас.
А жаль.
Глава 57
Але казалось, что она замерзает. Насмерть.
Яма была глубокой, с гладко вылизанными ледяными стенами. Колодец. Настоящий ледяной колодец. Только у него не было дна. Девушка цеплялась ногтями за крошащийся лед, разбитые, разодранные в кровь руки саднило тупой болью, они были липкими от крови, и от этого становилось еще холоднее. Но хуже, чем холод, был страх. Жуткий и неотвратимый, он шел откуда-то со дна, из той черной бездны, куда ее затягивало все больше и больше.
Веки налились свинцом. Казалось, она никогда уже не сможет открыть глаза, никогда не увидит свет солнца и блеск моря. Она пыталась. Дважды пыталась. Хотя бы чтобы разглядеть небо над собой.
Но вместо этого видела лицо. Кровавый шрам разрывал его надвое, делал уродливым и жутким, превращал в жестокую карикатуру на человека. Глумливую и безобразную настолько, что пальцы девушки сами собой разжимались, и она снова скатывалась, сползала в зияющую ледяную бездну.
Время от времени ее окатывала волна жара, дикого, испепеляющего, но он не давал согреться, наоборот, опаливал веки так, будто под них засыпали морской песок, перемешанный с солью. Губы тоже треснули, она чувствовала вкус крови, своей крови, и еще — жажду… Она пыталась хватать ртом снег, но никакого облегчения не наступало: жесткий, как наждак, он застревал в горле, мешал дышать, душил, она кричала и снова срывалась вниз по ледяному склону в черную, щемящую бездну…
Девушка металась в бреду почти сутки. Она лежала обнаженная, прикрученная к жесткой кровати за запястья и лодыжки крепкими вязками. Тело ее изгибалось, губы были искусаны, изо рта вырывались стоны. Вот только на глазах не было ни слезинки.
Крас стоял в дверях комнаты. Он чувствовал даже не возбуждение — дикое, безотчетное желание обладать. И то, что девчонка лежит в беспамятстве, нагая, связанная, гибкая, — заставляло его чувствовать свою власть. Полную власть.
Он подходил к постели несколько раз, но что-то мешало ему. Да, взгляд. Ее взгляд. Как только он наклонялся к девчонке — глаза ее распахивались, и от этого горячечного взгляда озноб пробегал по коже Краса, словно он стоял на отвесном берегу, на обрыве, над пропастью, и мог вот-вот сорваться в жуткую, черно дымящуюся внизу бездну…
Глаза… Ну да, нужно просто завязать ей глаза.
Он вышел в ванную, схватил одно полотенце, второе…
Медсестра — сухая, как мумия, тетка с пергаментным лицом, бледными губами и выцветшими, будто линялыми, глазами — сидела в комнате рядом. Эта чуткая стерва слышала все; Красу даже казалось, что она, как только он заходит в комнату девушки, приникает к замочной скважине и… И смакует его унижение, когда он уходит. Сука! Да, он видел скрытое, затаенное торжество на ее постной, как кукиш, гнусной обезьяньей рожице!
Крас чувствовал, как сознание заволакивает мягкий, влажный туман… Да, он сделает это сегодня, сейчас! Он и эта девчонка связаны давней, неразрывной нитью, и разорвать эту нить может только смерть! Ее смерть! И тогда… Тогда он освободится!
Маэстро спит. Ему ни до чего нет дела. Как только они оказались в этом особняке, за городом, и девчонка впала в беспамятство. Маэстро сник: кокаин и коньяк чередовались непрестанно, и если первые несколько часов он надоедал Красу своими бездарными монологами «о жизни вообще», то теперь наконец успокоился. Наверное, его, как и Краса, томил затаенный страх перед Лиром…
Страх перед Лиром Крас чувствовал всегда, с тех пор как по прихоти или расчету ему была оставлена жизнь. Тогда, после ликвидации Барса. Но сейчас он не чувствовал ничего, кроме сжигающего все его существо желания, острого, как стилет, и неотвязного, как осенний дождь. Желания обладать этой девчонкой и — прекратить свои и ее страдания, ее бесцельное странствие в этом мире, полном лжи, фальши, предательства. Он освободит ее…
Но Маэстро спросит…
К черту! К черту Маэстро! К черту его расчеты и его угрозы, к черту Маэстро! Для этого бродвейского фигляра и жизнь и смерть — наполовину театр, наполовину спорт: и там и там он желает оказаться первым!
А для него, Краса… Для него обладание, полное обладание — это и есть жизнь.
Чтобы продлить свою, нужно отнять чужую.
Пора.
Крас скрутил полотенце жгутом. Он чувствовал нарастающее возбуждение. Сейчас.
Сейчас…
— Вам что-то нужно?
Эта сушеная пигалица, медсестра, выросла на пороге ванной.
— Что? — Крас смотрел на нее и, казалось, не видел. Только силуэт. Препятствие на пути к наслаждению, равного которому не придумано ни людьми, ни богами, ни дьяволом. Наслаждению полной, абсолютной властью. Над телом и душой.
— Вы что-то хотите?
— Да, я хочу, — прохрипел Крас. Одним движением он накинул свернутый жгут вафельного полотенца на шею медичке и жестко свел руки. Ее сухощавое тельце оказалось невероятно сильным, напряглось, затрепетало, но Крас знал: хватка смертельна. Наконец тело безжизненно замерло; Крас отпустил полотенце.
Губы его свела гримаса брезгливости. Он поглядел на ее лицо — никакой разницы, что живая, что мертвая. Абсолютно никакой.
Голову снова заволокло туманом. Но на этот раз туман был желтый, горячий… Крас явственно видел обнаженное тело девушки, золотистое от загара, живое, желанное… Созданное для него. Только для него! Он не позволит мерзостям жизни осквернить это тело, он не позволит ему состариться, кожа так и останется эластичной и упругой, волосы — шелковистыми и податливыми, лицо — юным и свежим… Сейчас… Сейчас это лицо пылает горячечным румянцем, так похожим на румянец страсти… Сейчас он будет обладать этим телом, этими губами…
Крас передвигался бесшумно, будто призрак. Вышел из ванной, прислушался. В доме — тишина. Кроме него, Маэстро и медсестры, в доме никого нет. Помешать может только Маэстро. Но он не помешает. Сейчас он плавает в наркотических снах, смешанных с тяжелым коньячным опьянением. Пусть ему пригрезится ад.
…Аля почувствовала рядом с собой тяжкое дыхание. Силы оставляли ее.
Обледенелый склон стал теперь почти вертикальным, и не было никакой возможности удержаться… А бездна притягивала тяжким неземным холодом, леденели ступни, цепенели руки, застывали губы… Уже собственное дыхание казалось ей холодным, почти неслышным… Горячие слезы текли из глаз и позволяли хоть как-то согреться… Но спасения не было. Только один путь: вниз, в бездну.
Раз она никому не нужна… Раз ей некого любить… Раз она лишняя в этом мире…
Тогда зачем все…
Пальцы сами собой разжались, и ее тело сначала медленно, потом все быстрее стало соскальзывать по ледяной вертикальной стене, холод охватывал ее кольцом, сжимая тисками…
«Я — воин. Мое дело — очищать землю от подонков».
«А — мое?»
«Твое дело — любить».
«И — все?»
«Это не так мало».
Любить — это не так мало.
Любить так любить. Стрелять так стрелять. Или этого не было никогда? Не было ни отца, ни матери, и сама она объявилась на это свет только убивать?.. Если ее руки что-то и держат уверенно, так это — оружие. Как грустно…
Как грустно, туманно кругом…
Тосклив, безотраден мой путь, И прошлое кажется сном, Щемит наболевшую грудь…
Ямщик, не гони лошадей…
Не гони лошадей… Чуть помедленнее…
Вдоль обрыва, по-над пропастью По самому по краю, Я коней своих нагайкою стегаю, Погоняю!
Что-то воздуху мне мало, Ветер пью, туман глотаю, Чую с гибельным восторгом — Пропадаю, пропадаю!
Пропадаю… И нет в этом никакого восторга… Только холод. Страшный, нечеловеческий холод, от которого стынет все… Даже душа.
Черный смерч закружил тело девушки в стремительном, несущемся вниз водовороте…
И вдруг падение замедлилось. Вернее, прекратилось овсе. Она словно висела на невидимых теплых лучах, как маленькой колыбели, согреваемая ладонями… И еще на знала — это руки отца. Потом она почувствовала и уки мамы, и еще чьи-то, знакомые ей, бесконечно добрые, руки всех, кто ее любил… Они выталкивали ее из ездны, туда, наверх, к солнцу и свету…
Аля попыталась вздохнуть, и вместе со вздохом пришла боль. И ощущение опасности.
* * *
Приподняла тяжелые, будто исцарапанные песком веки, огляделась вокруг: комната, тяжелые портьеры опущены, из-за них пробивается мягкий свет — наверное, там, на улице, снег. Попробовала шевельнуться и тут только поняла, что ее распяли на кровати, руки прикручены вязками, ноги — тоже. Укрывавшая девушку простыня сбилась куда-то набок, она лежала совершенно нагая. Первым желанием ее было позвать на помощь, но она поняла, что этого делать не следует. И еще было ощущение опасности. Близкой опасности.
Горло драло, как наждаком. Мучительно хотелось пить.
Аля попробовала облизать губы, они треснули, и она ощутила вкус собственной крови. Горло запершило сильнее девушка закашлялась.
Снова попыталась оглядеться. Где она?
Больница? Но как она сюда попала?
Последнее, что Аля помнила, — это мчащийся джип, дорогу, метель, выстрелы… Ну да, выстрелы. Она стреляла, и в нее стреляли… Пули буравили обшивку автомобиля… Больше она не помнила ничего.
Нет, на дурдом это не похоже. Единоличная палата для каждого психа — это из произведений Булгакова, а вовсе не из реальной жизни. В реальной — нескончаемо-желтый коридор и грязно-коричневый линолеум.
Аля попробовала выдернуть руки. Вязки ослабли, пока она металась в бреду, но действовать мешала тяжелая, угнетающая слабость. Девушка закусила губу, потянула руку и почувствовала сильную боль в запястье: кожа была стерта до крови. На лбу выступил бисеринками пот, Аля повторила попытку, еще… Почувствовала горячие толчки боли, снова дернула рукой. Еще немного, и…
Кисть левой руки вышла из петли мягко, оставляя на простыне кровяной след.
Несколько раз она сжала и разжала кулак, чтобы вернуть чувствительность онемевшей кисти. Привстала, прогнулась, чтобы достать кисть другой руки. Есть!
Дернула раз, другой, расширяя узел. Медленно, стараясь не обращать внимания на боль, освободила правую.
Потом обессиленно застыла на кровати, вытянув руки вдоль тела. Голова кружилась, кисти мучительно ныли, боль горячо пульсировала в кончиках пальцев, но девушка заставила себя сжимать и разжимать их раз за разом, пока не ощутила наполняющее пальцы живое тепло.
Сейчас… Сейчас она распутает, освободит ноги, потом найдет что-нибудь попить… Должно же быть здесь хоть что-то?
И все-таки интересно, где она? В плену у бандитов, которые гнались за ними? Кто они такие, как себя с ними вести?
Плохо. Плохо, что она ничего не помнит.
Ничего, будет день… А пока нужно распутать ноги. Девушка села на кровати, наклонилась, дотягиваясь до ног, сняла с лодыжек петли. Расслабленно присела на кровати. Внутри все дрожало, голова кружилась, и ей казалось, стоит ступить шаг, и пол, застеленный мягким серым покрытием, полетит ей навстречу… Рядом с кроватью она обнаружила толстые шерстяные носки, натянула их на ноги. Но больше никакой одежды не было, ни сорочки, ни халата.
Она снова огляделась. Небольшой стол, укрытый белым, на столе — лампа, рядом — тумбочка. Обычный стеклянный шкафчик с инструментами и лекарствами, очень похожий на те, что бывали в больницах. Рядом с ней — стояк с катетером; Аля осмотрела руки: ну да, несколько отверстий, ее накачивали чем-то, или сонниками, или глюкозой, под тонкой кожей обозначились три свежие «трассы».
Все-таки пить хотелось зверски. Она заметила на столике графин, наполненный едва на четверть. Сделала шаг, переждала головокружение, еще шаг. Оказавшись у стола, сняла тяжелую притертую пробку, поднесла графин к губам, глотнула… Вода потекла по шее и животу, но девушка не отрывалась, не чувствуя ни запаха, ни вкуса. Она пила, пока все тело не покрылось мелкими бисеринками пота. Опустила графин, замерла, стараясь отдышаться, и… Даже не услышала — почувствовала, как кто-то идет к двери. Оглянулась… Ручка беззвучно опустилась вниз.
Глава 58
Крас легонько отворил дверь. Он сам не знал, что будет делать в следующую минуту, в следующее мгновенье. Убийство медсестры, этой сушеной воблы, не доставило ему удовольствия, да и вообще не вызвало ни единой эмоции; он просто убрал препятствие, словно стул переставил.
Крас любил такое свое состояние, хотя случалось оно нечасто. Казалось, каждая клеточка его существа не просто функционировала в системе организма — жила!
Каждая словно искрилась невидимой энергией, он ощущал предметы, других людей, животных, дуновение холодного ветра за окном, прикосновение ветвей замерзшего дерева к стеклу спальни на втором этаже особняка… Никакой наркотик не мог вызвать в нем то ощущение собственного совершенства, какое приходило перед тем, как он…
Крас видел гибкое, загорелое тело девушки и чувствовал, что скоро он станет обладать им… Он, и больше никто! Никто и никогда!
Вот только… Не нужно торопиться… Все должно быть естественно. И любовь, и смерть. Хм… Что в этой жизни может быть естественней смерти?..
Нельзя, чтобы им помешали.
Легонько, едва касаясь ступенек. Крас поднялся по устеленной ковровой дорожкой лестнице на второй этаж. Самому ему казалось, что он парил над ступеньками, и действительно: его грузное тело двигалось совершенно бесшумно, сами движения были мягкими и плавными, полными той грации, какая бывает у людей, потерявших рассудок.
Но Крас знал, что мыслит он, как никогда, ясно. Более того, когда он находился в этом, особом, состоянии, он был самым совершенным творением на земле, существом, равного которому нет. И потому мог принимать решения. Любые решения.
Беззвучно он приотворил дверцу комнаты. Маэстро лежал на широкой постели ничком.
Вся его поза говорила о том, что Маэстро сейчас слишком далеко и от этой комнаты, и от этого особняка. Этому фигляру необходимы наркотические встряски, чтобы продолжать свою бесконечную игру в чет и нечет со смертью. И разум, и инстинкты оказались умерщвлены, пусть и на время, невероятной дозой наркотика, порожний шприц и несколько пустых ампул валялись тут же, у постели.
Крас скривил губы в ухмылке: как все-таки он примитивен, этот жалкий актеришка!
Ему, Красу, не нужны никакие наркотики, чтобы почувствовать всю меру своего существования, своего наслаждения, своего господства в этом жалком мире! Он — воистину совершенен, потому что освобождает от мерзостей мира красивейших, нежнейших существ, не позволяя им превратиться в дешевых шлюх, в огрузневших неряшливых домохозяек, в сухих и бесцветных рыбешек за мутным стеклом аквариума…
Крас подкрался к Маэстро… Застыл, глядя на его распростертое тело. Как сейчас он похож на труп. Может быть, его и следует сделать трупом?.. Он, Крас, сейчас может легко, одним движением могучих рук, переломить хребет этому супермену, но…
Да, Маэстро прав. Оба они — избранные, но служат серой, никчемной посредственности, называемой Лир. Лир использует их обоих, чтобы закрепить свое господство в этом сволочном мире… Ведь не зря же Маэстро… Ведь не зря же он затеял тот разговор?! Если их жизни, жизни избранных жрецов смерти, подвешены на ниточку бездарем, считающим себя повелителем, королем, то… Все просто как день: Лира нужно устранить. И тогда вся власть будет только в их руках…
Вернее, она останется у него, Краса! Просто дождаться, когда Маэстро утомится и примет очередную «очищающую» дозу зелья… Тогда свернуть ему шею еще проще, чем перекормленной утке! Пока Маэстро нужен ему. Красу. Но только до времени. И это время скоро придет. Его время.
А девка станет простой приманкой! В капкане для Лира. Да, сначала Лир, потом — Маэстро. И совсем не важно, живая эта кукла или мертвая! Совсем не важно! Даже лучше… Мертвая не может ни в чем отказать… Ни в чем… Она способна только повиноваться.
Крас облизал губы. Время смерти для Маэстро придет. Но — не сейчас. Сейчас важно только одно: чтобы Маэстро не помешал его играм с девчонкой. А он не помешает.
Играм… Изысканным играм! Она… Она ждет его, нагая, гибкая, беспомощная…
Она ждет… И ни в чем не сможет ему отказать… Она жаждет этого… Она…
Крас еще раз мельком взглянул на бесчувственного Маэстро, сглотнул вмиг ставшую вязкой слюну, понял: пора. Пора!
Осторожно прикрыл за собой дверь. Беззвучно спустился по лестнице. Подошел к двери комнаты, в которой осталась девчонка. Сейчас.
Ему вдруг показалось, что он стоит на краю глубокой пропасти. Оттуда, из глубины, поднимался холодный, проникающий в самое сердце туман, перехватывающий горло… И еще его. Краса, неудержимо тянуло в эту бездну, и не было сил противиться…
Он открыл дверь.
И замер на пороге. Девушка лежала на постели, вытянувшись; руки и ноги связаны, глаза закрыты, дышит легко и ровно, на лбу — капельки пота. Крас замер: никогда, никогда он не видел столь совершенного тела! Чуть тронутая загаром кожа светилась янтарем, длинные ресницы роняли на щеки мягкую тень… На виске пульсировала тоненькая жилка; волосы, чуть влажные от пота, курчавились короткими нежными завитками…
Крас подошел. Провел ладонью по ее животу вниз. Она вздрогнула — или ему показалось?..
Не спешить. Главное — не спешить. Он сделает удовольствие долгим, бесконечно долгим… Как вечность.
Главное — не спешить.
Крас прикоснулся к ее ноге. Какая тонкая, нежная щиколотка… То, что она прихвачена веревкой, еще больше соблазняет… Мужчина повел руку вверх, медленно, очень медленно, ощущая тепло кожи, чувствуя, как переполнявшее его возбуждение мутит голову, превращается в требующую немедленного выхода ярость…
* * *
— Мишка плюшевый… — прошептал он. Красу казалось, что сердце бьет железным молотом где-то в висках, что воздуху не хватает… Заметил, как по; ногам девушки прошла судорога…
— Мишка плюшевый… — повторил он.
Одним движением выхватил из кармана нож. Щелчок был резок, как удар бойка по капсюлю: белое, отливающее синевой лезвие, отточенное острее бритвы… Крас прикоснулся холодной сталью к ее бедру, на лезвии мгновенно заблестела капелька крови…
Не спешить…
Крас подошел к окну, распахнул занавеску. Ослепительно белый, отраженный миллионами снежинок свет зимнего дня залил комнату.
Он стоял, глядя широко раскрытыми глазами в этот белый день и, казалось, не видел ничего. Поднял руку к лицу, на ощупь провел ладонью по месту, где кожу разрывал уродливый шрам. Поднес к губам лезвие ножа, легонько коснулся языком, стараясь ощутить вкус крови. Опустил веки и — замер. Он ждал. Ждал вдохновенья.
…Аля осторожно, едва дыша, высвободилась. Брезгли-увость и страх переполняли ее, руки слегка подрагивали… Тихонечко девушка опустила ноги на пол, достала из-под кровати пустой графин, схватила за горлышко… Сиплый стоял спиной к ней, на фоне освещенного окна она хорошо различала его силуэт. Тихонечко, только два шага — и ребристый графин обрушится на этот короткостриженый затылок.
Она сделала легонький шаг… Еще…
Рука с зажатым в ней графином рассекла воздух и… обрушилась в пустоту. Крас мгновенным движением уклонился в сторону, графин ударился о подоконник и брызнул тысячью осколков. В руке остался ощетинившийся грубыми острыми краями остов — Крас легко ударил по запястью, и последнее оружие упало на пол. А он ухватил ее за волосы, намотал на кисть руки, притянув к себе… Лицо его было совсем рядом; мужчина выдохнул сипло, прямо ей в лицо:
— Мишка плюшевый… Мишка ласковый… Ласковый… Другой рукой провел по ее спине и ягодицам… Судорога брезгливости прошла по телу девушки, кожа покрылась мурашками, словно к ней прикоснулась громадная змея…
— Сейчас тебе будет хорошо, очень хорошо…
Крас потащил ее к столу.
Аля вдруг успокоилась. Она почувствовала себя так, будто на коже образовалась тонкая ледяная пленка, она, словно скафандр, защищала девушку от липких трясущихся рук этого урода… И мозг заработал ясно и четко. Она переступала по ковру, стараясь не порезаться об осколки.
Крас грубо скрутил руки спереди жестким полотенцем, каким-то особым узлом.
Приставил лезвие ножа к шее:
— Будь умничкой… Я не хочу, чтобы ты умерла… Я хочу подарить тебе удовольствие… Оно будет длинным, нескончаемо длинным… Как вечность… — Перехватил связанные руки, прикрутил свободные концы длинного полотенца к ножкам стола. Аля оказалась притиснутой щекой и грудью к его гладкой поверхности.
Крас обошел стол, снова погладил по спине, ягодицам, произнес совсем севшим голосом:
— Чтобы получить удовольствие, ты должна стать покорной… Абсолютно покорной…
Тебе нужно научиться получать удовольствие… от боли.
Аля услышала какое-то шуршание — это Крас вынул длинный шелковый шнурок из портьеры, подошел к умывальнику, смочил его водой…
— Сейчас я тебя высеку… И ты станешь послушной… Почувствуй радость боли…
Это принесет тебе наслаждение…
Самодельная плеть со свистом рассекла воздух и ударила по столу рядом с ней. Аля невольно вздрогнула.
Мужчина бесцеремонно просунул руку ей между ногами. Прошептал:
— Я буду сечь тебя, пока ты не захочешь… Пока не станешь готова принять меня…
Плеть хлестко опустилась на спину девушки… Аля закусила губу.
— Кричи!
Снова удар.
На глазах ее выступили слезы, но она смолчала, — Кричи, сука! Кричи!
— Удар. Удар. Удар.
Аля по голосу слышала, как он возбужден. С каждым ударом она чуть двигалась всем телом, расслабляя и напря гая руки. Боль в стертых вязками, а теперь связанных жестким полотенцем запястьях была куда большей, чем от хлестких ударов шнура.
Она почувствовала, что охватывающий руки узел заметно ослаб: когда Сиплый связывал ее, она нарочно напрягла их как можно сильнее. Теперь она может высвободить их. И что дальше? Он слишком силен, чтобы…
Что же делать?!
Аля почувствовала, как по щеке стекает слезинка… И — неожиданно для себя — застонала… Нет, не от боли, от униженного бессилия.
Удары сразу прекратились.
— Ну? Тебе уже хорошо? — просипел мужчина. Аля облизала растрескавшиеся губы.
— Тебе хорошо?! — Он обошел стол, схватил ее за волосы, приподнял лицо. Белое, отливающее синевой лезвие заплясало перед глазами.
Аля расслабила руки, и стягивавшая их петля соскользнула на пол.
— Мне плохо… — тихо прошептала она. Крас осклабился, глядя ей прямо в глаза:
— Это только цветики, детка… Сейчас начнутся ягодки…
Легонько он провел лезвием по ее щеке. Порез мгновенно набух кровью. Крас полюбовался, чуть склонив голову набок:
— Тебе нравится?
Голос его дрожал, руки тряслись… Аля закрыла глаза, разом хлынули слезы, порезанную щеку защипало…
— Это только са-а-мое начало… Сейчас я уложу тебя на спинку…
Он отпустил ее волосы. Полюбовался лезвием, в желобок которого стекла кровь…
Провел по желобку языком…
Аля видела это в зеркальную поверхность стола. Сейчас он наклонится отвязать ее, увидит, что руки свободны, и тогда…
Ни о чем не думая, она ящерицей соскользнула со стола и прыжком метнулась в дальний угол комнаты.
Мужчина оскалился, облизал губы… Одним движением перевернул стол и двинулся к ней, держа в вытянутой руке нож.
— А ты — игривая сучка. Таких я раньше не встречал… Сейчас я тебя поглажу этим по животику… Потом — уложу на спинку и…
Крас приближался к ней легкими, танцующими шажками; его огромное тело, казалось, состояло из шарниров, из круглых сочленений; оно вихлялось, словно этот громадный стокилограммовый битюг был куклой, подвешенной на ниточках в театре марионеток…
Аля отступала к стене. От неизбежных ранений ее ступни спасали толстые шерстяные носки: крупные осколки ей не попались, мелкие увязали в шерсти. Громила сделал выпад, лезвие в каком-то миллиметре рассекло воздух у нее перед грудью, еще…
Теперь он гоготал в голос, и Але стало совсем страшно: он с ней просто играл.
Ножом он владел настолько виртуозно, что никаких шансов у нее не осталось.
Совсем.
Спиной она почувствовала стенку. Прижалась к ней. Он подходил ближе. Шаг. Еще шаг. Нож — в руке, на отлете. Если бы он захотел, то давно достал бы ее одним махом…
Лицо мужчины было страшно. Его искажала нервная судорога, причем левая половина лица словно запаздывала, и в то время как правая щека дергалась в конвульсии, левая была безмятежной, как у покойника. Губы были искривлены гримасой.
— Ну что, красотка? Я тебе нравлюсь? Сейчас… Сейчас ты станешь такой, как я…
Ты знаешь, как меня называют, чтобы оскорбить? Красавчик. Тебя я сделаю Красоткой. Ты побудешь ею… Хотя и не долго… Тебе понравится…
Крас перехватил нож двумя пальцами, словно скальпель. Его жертва была совершенно беззащитной, но он и не пытался сорвать с сознания хмельную поволоку, наступившую от безраздельности власти и близости смерти…
Ноги девушки чуть согнулись, она стала оседать по стене.
— Ну-ну… — хрипло произнес он, приближаясь. — Не мешай мне…
Он сделал шаг.
Ее правая нога разогнулась, словно катапульта; мысок попал в пах. Аля оперлась ладошками о стенку, отклонившись назад, и еще дважды ударила туда же — коротко и жестко.
Крас хватал ртом воздух, глаза выкатились из орбит, как у выброшенной на берег глубоководной рыбы.
Он рванулся к ней, сжав клинок, но девушка, оттолкнувшись от стены, проскользнула ему под руку, и жестокий удар ножа и тяжелого, стокилограммового, тела пришелся в стену.
Аля споткнулась обо что-то, упала навзничь, чувствуя, как осколок стекла проткнул ладонь. Она вскочила и поняла, что оказалась в углу. Крас стоял у стены, перегородив ей путь к бегству, выставив вперед клинок. Глаза его были мутными от боли, он вряд ли что-то соображал. Он шел на нее как сомнамбула, как робот. Аля, собрав все силы, швырнула в него стул — он отбил его легко, как пушинку.
— Ты не хочешь любви… Ты хочешь смерти… Будь по-твоему… — прохрипел он и пошел на нее. Дышал тяжело, рот — широко раскрыт, с обвисших губ капает слюна.
Аля метнулась в сторону, поскользнулась и снова упала. Постаралась быстро встать, опираясь на пол здоровой рукой, и почувствовала под ладонью округлое стекло.
Верзила навис над нею; в глазах его мутно плескалось безумие.
Девушка вскочила, с маху выбросив вверх руку с зажатым в кулачок битым горлышком. Длинный ребристый скол вошел в шею, располосовав артерию, и застрял, распоров кадык.
Крас застыл на месте. Нож выпал, задыхаясь, одним движением он выдернул скол.
Аля забилась в угол, не в силах пошевелиться. Крас сделал к ней шаг, другой…
Левой рукой он зажимал артерию, но кровь выплескивалась толчками. В правой руке была зажата «розочка».
— Это судьба… — прохрипел он, нависая над девушкой. — Мы уйдем вместе… В ад…
Аля смотрела на него расширенными зрачками и понимала, что не в силах пошевелиться… Она замерла, зажмурившись и ожидая неминуемого, смертельного удара.
Крас махнул рукой и… рухнул на месте, хрипя, захлебываясь пузырящейся кровью…
Аля застыла неподвижно, закрыв лицо ладонями. Сердце ее колотилось, будто пойманная рыба… Она слышала бульканье, хрипы — бившийся в конвульсии убийца лежал рядом; тяжкая, тяжелая сила словно сдавила ее… Девушка сжалась в комочек. Услышала, как упавший часто-часто застучал кулаками и пятками по полу.
Потом наступила тишина. Такая, что ей стало еще страшнее.
Она открыла глаза.
Сиплый лежал навзничь, уставя на девушку стекленеющий взгляд.
Аля почувствовала, что ее мутит… И еще… Ее вдруг стало уносить в ледяную, дымящуюся бездну. Она больно закусила губу, пытаясь удержать ускользающее сознание.
— С этим — все, — услышала Аля голос. Подняла голову.
У двери стоял необычайно красивый мужчина; длинные черные волосы, пронзительные, блестящие азартом глаза. Он был слишком красив, чтобы быть явью. И все же Аля подобралась, пытаясь прикрыть руками наготу. И даже сама не удивилась этому.
Спросила только:
— Вы кто?
Мужчина улыбнулся обаятельно и весело, словно знакомился с нею на залитой солнцем тихой улочке испанского курорта:
— Называйте меня Маэстро.
Девушка молчала, невидяще глядя перед собой.
— Я всегда говорил Красу, что он плохо кончит. — Маэстро рассматривал труп, чуть склонив голову набок, с заинтересованностью юного натуралиста, увидевшего в чужой коллекции редкую бабочку. — И он кончил плохо. Очень плохо. — Маэстро брезгливо приподнял носком ботинка голову трупа. — Что может быть хуже, чем захлебнуться собственной кровью?
Аля вздрогнула, сжалась в комочек. Ее волокло, затягивало в ледяную яму…
— Ну-ну, не переживайте так, милая девочка. Он был порядочный душегуб. К тому же — сумасшедший. — Маэстро пожал плечами. Добавил, помедлив:
— Впрочем, как все.
Он подошел к девушке. Аля сидела безмолвно, уставившись в одну точку.
— Тебе нужно поспать, крошка. Хорошо поспать. Маэстро слегка двинул рукой, и маленький шприц-стручок впился девушке в предплечье. Через секунду она медленно, боком сползла на пол.
— От-ды-хать, — раздельно, по слогам, произнес Маэстро, легко поднял худенькое тело и скрылся за дверью.
А девушка чувствовала только, как ее волокло вниз по ледяному склону в черную дымящуюся бездну.
Глава 59
Новое пробуждение Али было похоже на сказку. Она лежала на широкой постели, заботливо укрытая до подбородка одеялом. Сама спальня была обставлена Дорогой, хорошего дерева, мебелью; огромный платяной шкаф украшен инкрустированным зеркалом, пол укрыт толстым ковром.
Аля стянула с себя одеяло. Руки на запястьях были замотаны чистым, белоснежным бинтом; посмотрела в зеркало — порез на лице аккуратно заклеен телесного цвета пластырем. Аля ощупала себя всю: ничего не болит. На ней надета тонкая льняная сорочка до пят, волосы чисто промыты.
И еще — ее удивил запах. Это был настоящий, живой аромат цветов. Действительно, в огромной вазе позади кровати стояли свежие чайные розы. Аля не удержалась, протянула забинтованную ладошку и пальцами потрогала лепестки: настоящие. Под бинт покатилась капелька росы.
Девушка откинулась на подушку. Если это сон, то она не хочет просыпаться. Может быть… Может быть, сейчас появится Олег, живой и невредимый? Значит, она уже в раю. А кто сказал, что… Может быть, только здесь и умеют любить?
Кто-то словно подслушал ее мысли. Дверь распахнулась. На пороге комнаты появилась высокая, статная женщина на вид лет тридцати с небольшим, тяжелая копна светлых, похожих на сноп пшеницы, волос была стянута в пучок сзади; она вкатила столик, на котором дымилась чашка свежеприготовленного кофе, на блюдечке рядом стоял крохотный молочник, масленка, баночка с прозрачным клубничным джемом, лежали две булочки, румяные, с коричневой блестящей корочкой. Комната мигом наполнилась ароматом.
Аля тряхнула головой, облизала губы, успев заметить, что они не саднят и не кровоточат, спросила:
— Кто вы?
— Меня зовут Маргарита, — с искренней теплотой ответила женщина. — Ты как любишь, с маслом или с джемом?
— Что?
— Ты булочки утром предпочитаешь с маслом или с джемом?
— Я… Я не знаю.
— Значит, и с тем и с другим.
Женщина остановилась у маленького столика и стала перекладывать на него принесенное. Умело и ловко разрезала булочки, намазала их толстым слоем масла, потом джемом.
— Сахар класть? — Что?
— Один или два кусочка?
— Три, — совершенно автоматически ответила Аля.
— Я тоже раньше была сладкоежкой. Но теперь нужно заботиться о фигуре. — Маргарита окинула скорым взглядом девушку:
— Тебе можно есть безо всяких хлопот сколько захочешь. Пожалуй, я принесу тебе еще чашку, ага?
— Ага, — кивнула Аля.
— Ну вот и славно. — Женщина пошла к выходу. — Да… — полуобернулась она, — совсем забыла. Одежда в шкафу. Утром достаточно и халата, но все остальное — тоже твое. После завтрака примеришь. — Маргарита лукаво улыбнулась, подмигнула Але:
— Примерять наряды — очень увлекательное занятие!
Дверь за женщиной закрылась.
Аля села на постели. Прямо под ногами оказались мягкие, пушистые тапочки.
Машинально она взяла чашку, отхлебнула кофе, откусила кусочек от теплой еще булочки… Обе, одну за другой, она проглотила буквально за минуту: голод был зверский.
Потом встала и подошла к шкафу. Он был полон нарядов. Вернее, даже туалетов.
Самые разнообразные платья, девушка даже узнала модели от Армани и Валентине. А еще — два манто, дубленка, деловые костюмы. На ее размер. Впрочем, это ни о чем не говорило: модель и размеры стандартны. Но стоило это целое состояние.
Аля еще раз тряхнула головой. Внимательно посмотрела на себя в зеркало. Собрала сзади сорочку в складку. Похудела она жутко. Из зеркала на нее смотрели огромные серые глаза; щеки совершенно запали, скулы и ключицы выпирали, но, как ни странно, она себя вовсе не чувствовала изможденной. И на душе царил полный покой…
Быстро задрала рукава сорочки и поискала «трассы». Нет, наркотики ей не кололи.
По крайней мере, внутривенно. Подняла подол рубашки, повернулась спиной и осмотрела ягодицы. Следы уколов есть, кто-то даже йодистую сеточку нарисовал, чтобы не отекало. И все же… Нет, у нее нет никакой эйфории, и спокойствие ее тоже обычное, не туповато-безразличное, какое бывает от лекарств.
Где она?
И кто эта женщина, назвавшаяся Маргаритой?
На служанку она совершенно не похожа. Хозяйка? Но с какой стати хозяйке подавать ей завтрак в постель? А может, какая-то сдвинутая миллионерша решила ее удочерить? Или взять в подружки? Что-то не похожа эта самая Маргарита ни на богачку с напрочь отъехавшей крышей, ни на «розовую кошечку».
Тогда — кто?
А может, она мадам? В каком-нибудь наикрутейшем борделе для самых-самых? Ведь есть же, наверное, такие? Те, что обслуживают президентов, премьеров и прочих царей? Они ведь девочек из домов терпимости, даже элитных, заказывать не станут, у них репутация должна быть белой, как простынка девственницы, а ведь все люди, и ничто человеческое, надо полагать, им не чуждо… Если, конечно, силенки в политических баталиях не порастратили… Тогда… Тогда зачем им нужна она, худая, как ободранная кошка?.. Или кто-то любитель девиц «модельного типа»?
Только зачем огород городить, таких краль на любой модельной тусовке — килограмм и ма-а-аленький довесок.
Аля снова тряхнула головой. Нет, все не то. При чем здесь тогда этот Сиплый, со шрамом?
Девушка почувствовала, как мороз побежал по коже. Ну да, Сиплый. И тот, другой… Как он назвался? Маэстро.
Девушка обнаружила в шкафу и несколько халатов, надела тот, что показался попроще. Хотя попроще… Зеленого бархата, изукрашенный ручной шелковой вышивкой в восточном стиле, с толстым витым шнуром вместо пояса.
Дверь открылась. Снова появилась Маргарита; на этот раз на сервировочном столике — две чашки, большой белый кофейник и целая гора булочек. А также — нарезанная крупными ломтями буженина и тонкими — салями.
— Пожалуй, я с тобой тоже позавтракаю. А то одной скучно. Ты не возражаешь?
Аля пожала плечами. Потом произнесла неожиданно для себя:
— А я что, могу еще и возражать?!
Маргарита мягко улыбнулась, разлила кофе. Присела на низкое кресло, Аля, невольно подчинившись ее взгляду, села на такое же напротив.
И вдруг поймала себя на том, что завидует этой женщине. Ее красоте, ее уверенности, ее покою. Кто она? Что это за дом? И почему она здесь, что еще им от нее нужно? И кто такие эти они?
— Кто вы? — спросила Аля.
— Я? — спросила Маргарита.
— Ну хотя бы…
— Маргарита. Подруга Маэстро.
— Понятно, — хмыкнула Аля. Маргарита, Маэстро… Театральный роман какой-то, а не дом. — А Карабаса у вас нет? Такого с бородой и с плеткой?
— Карабаса нет, — серьезно ответила женщина.
— Хоть это хорошо.
Аля снова задумалась. Мысль была простая и ясная: если она не умерла, если ее не убили, а, наоборот, всячески обхаживают — значит, им что-то нужно. И вовсе не то, что бывает обычно нужно от девочек. Нет, возможно, и это тоже, по крайней мере, приятно думать, что ты стоишь шикарного особняка, шкафа с нарядами и многого другого… Но все же — почему ты всего этого стоишь?
Аля основательно подкрепилась, допила третью чашку кофе. Женщина закурила длинную, с золотым ободком сигарету, щелкнув изящной платиновой зажигалкой.
— Можно мне сигарету? — спросила Аля.
— Пожалуйста. — Маргарита придвинула к ней пачку и зажигалку.
Аля закурила, откинулась в низком кресле. Жаль расставаться с таким уютом и комфортом, но… Жизнь такова, что за все надо платить. И поэтому лучше сразу договориться о цене. Девушка выдохнула дым и спросила спокойно:
— Что вам от меня нужно?
— А почему ты решила, что нам от тебя что-то нужно?
— Потому что бесплатных пирожных не бывает.
— Ты умница.
— Еще какая. Кто такой Маэстро?
— Аля, если честно, я не в курсе.
— Вы не знаете, кто он такой?
— Ну, кто он такой, для меня и не очень важно. Достаточно того, что он незаурядный человек и исключительный любовник. Для меня, по крайней мере, этого достаточно.
— Он что, решил разнообразить меню?
— Какое меню?
— Ему нужно что-то новенькое? — Аля обвела себя руками.
— О нет. По крайней мере, Маэстро сам для себя решает, что ему нужно и когда.
Меня он в эти «проблемы» не посвящает.
— А вам что, все равно?
— А если и нет? Маэстро слишком дорог мне, чтобы я решилась потерять его из-за пары глупых вопросов.
— Вы что, никогда не задаете вопросов?
— Глупые? Нет, не задаю.
— Хм… А как я здесь оказалась?
— Тебя привез Маэстро. И попросил позаботиться.
— Маргарита… Вы совсем не похожи на женщину, которой можно помыкать. Или — использовать по своему усмотрению. Вам что, чужда гордость? Или — ревность?
Маргарита пристально посмотрела на Алю:
— Милая девочка… Мне сорок три года…
— Да? — искренне удивилась Аля. — А вам никак не дашь больше тридцати. А то и двадцати восьми, — Спасибо. Я стараюсь. Так вот, запомни: ревность бывает только от глупости, и никогда ни один мужчина такого подарка от меня не дождется. — Маргарита прикурила еще сигарету. — По-моему, я ответила и на вопрос о гордости, нет?
— Да.
— И вот еще что. Мужчину, настоящего, незаурядного мужчину, нельзя изменить.
Если это не так — то это не мужик, а хлюпик. А хлюпиков я всегда опасалась. И еще: мужчину или принимай таким, какой он есть, или не принимай совсем.
Разберись сначала, по силам ли он тебе, и потом решай. — Маргарита сделала паузу. — Так вот. Маэстро мне по силам.
— Он что, музыкант?
— Нет.
— Тогда почему — Маэстро?
— О, это сложный вопрос…
— Маргарита, вы что, и в постели его так величаете: Маэстро?
— Нет. В постели нам вообще не до разговоров… — усмехнулась женщина.
— Он что, для вас без имени?
— Его зовут Влад.
— Влад?
— Да. Владислав. Владеющий славой. Вполне подходящее для него имя.
— Скажите, Маргарита… А как он оказался в том доме, где был Сиплый?.. Они что, знакомы?
— Аля, я понятия не имею, о чем ты говоришь! Маэстро привез тебя, завернутую в покрывало и в какой-то коврик. Абсолютно голую. И попросил о тебе позаботиться.
Для начала я погрузила тебя в ванну, потом — уложила в постель и вызвала своего доктора. Он сделал все, что необходимо…
— А это? — Аля кивнула на гардероб, полный нарядов.
— Ты что хочешь, чтобы по возвращении Влада я выставила тебя перед ним в том виде, в котором ты была? — Маргарита рассмеялась. — Я, конечно, не ревнива, но и не глупа. По крайней мере, до такой степени. Ты слишком хороша для того, чтобы разгуливать неглиже без последствий.
— Но ведь это столько стоит…
— Я — состоятельная женщина. Кроме того, Маэстро попросил не приютить тебя, а позаботиться. Не могу же я оставить любимого мужчину недовольным мною, а?
Аля прикрыла глаза, попыталась хоть что-то обдумать, но мысли неслись каким-то стремительным галопом, и ухватить хоть одну она не могла.
— Когда меня привезли?
— Позавчера.
— Голую?
— Да. В покрывале.
— И вы не спросили даже…
— Я же сказала: я не задаю глупых вопросов мужчинам.
— Понятно. Маргарита… А мои вопросы — тоже глупые?
— Вовсе нет. Просто я не могу на них ответить.
— Скажите, а… Каким бизнесом вы занимаетесь?
— Хм…
— Я же не спрашиваю, какая у вас зарплата…
— Никакой. Хорошо; я занята экспортно-импортными операциями.
— И что же вы импортируете? И. экспортируете?
— Деньги;
— Деньги?
— Самый прибыльный товар, если им умело пользоваться. Еще немножко играю на курсах валют. Это еще интереснее.
— Маэстро… вам в этом помогает?
— О, Маэстро великий игрок, но что за игры он играет — я не в курсе. Хотя… Да, пару раз он мне помог. У него исключительное чутье.
— А у вас?
— У меня тоже. Особенно на незаурядных людей. Лишь гении в этом мире делают настоящие деньги.
— Маэстро тоже?
— Думаю, да. Только… другим путем.
— Каким?
— Это ты сама у него спроси.
— Маргарита… А вы не боитесь, что… — Аля запнулась, не зная, как сказать.
— Что Маэстро обратит на тебя более пристальное внимание, чем хотелось бы мне?
— Да, — выдохнула Аля и покраснела.
— Можешь не краснеть, милая девочка. Он уже обратил на тебя внимание. Если бы ты была обычным примитивом, он не стал бы просить моей заботы о тебе. Но… Помимо того, что я себя люблю, я себя еще и ценю. Если Маэстро — незаурядный мужчина, то я — совершенно незаурядная женщина. Мне слишком трудно найти замену. Скорее даже — невозможно. К тому же.. Запомни, девочка: как только мужчина почувствует, что он не волен выбирать, он предпримет исключительные, сверхординарные усилия, чтобы эту волю вернуть. Вот здесь вернее всего и можно его потерять навсегда.
— Он что же, всегда вам верен? И вы — ему?
— Это трудно было бы предположить, даже если бы мы жили вместе постоянно. Но…
Встречи редки. И нет никакого смысла мучить плоть воздержанием. И ему, и мне. По крайней мере, я все больше убеждаюсь, что столь исключительного мужчину я не встречала. Надеюсь, он того же мнения обо мне. А вообще…
Маргарита прикурила сигарету от своей изящной зажигалки.
— Что — вообще?
— Он мне нужен… Как наркотик. Знаешь, что яд, а отказаться не можешь.
Однообразие куда быстрее сведет в могилу.
— Вы его… любите?
— Или ненавижу… Какая разница?
— Странно у вас все…
— Может быть, ты имела в виду — легко?
— Нет. Я сказала то, что хотела.
— Умница. Маэстро в тебе не ошибся. Знаешь… Обыватель вечно, пусть не вслух, формулирует одну фразу: «Легко они живут». Имея в виду тех, кто отделен от них деньгами, особняками, дорогими автомобилями. Забывая то, что… Да. Бесплатных пирожных не бывает. Можно сказать, чем за все заплачено, но разве это кому интересно?.. Тем более… — Маргарита снова щелкнула зажигалкой, нервно выдохнула дым. — Из этого мира ничего нельзя забрать… Можно только оставить. И то, что ты оставишь — детей, дома, сады, стихи, книги, картины, ноты, собрание картин, фонды, пожертвования, — и будет тобою. После того, как ты уйдешь. — Маргарита помолчала. — Третьяковы знали смысл в этой жизни.
— Маргарита… А у вас…
— Девочка, давай на «ты», а? Я старше тебя, и мне это будет приятно.
— Давайте…
— Аля…
— Да, извини… Маргарита… А у тебя есть дети?
— Нет. И не будет, — тихо произнесла женщина, сразу как-то сникнув. — Но это не значит, что… То, что ты после себя оставишь, и есть то. чего ты стоишь. Перед прошлым и перед будущим. Перед Богом.
— Хм… Выходит, мои родители так ничего и не оставили…
— Они оставили тебя. Не так мало.
— Да?
— И тебе нужно лишь доказать, что они сделали это не зря, — с мягкой улыбкой сказала женщина.
— Я сама в этом сомневаюсь.
— Ты недовольна родителями?
— Я недовольна миром.
— Да? Я — тоже, — рассмеялась Маргарита. — Но это не повод, чтобы им пренебрегать. Какое-то время они молчали.
— Маргарита… Извините, что я спрашиваю… Вы… Ты… счастлива?
Женщина улыбнулась устало:
— Знаешь, девочка… Счастье в этом мире ведь не самое главное.
— Да? И что же главнее?
— Любовь.
Глава 60
Аля почувствовала, что очень устала. То ли от этого разговора, то ли оттого, что погода неотвратимо менялась и небо заволакивали низкие, тяжелые тучи, грозившие долгим, мутным снегопадом. И если проснулась она отдохнувшей, то сейчас чувствовала апатию и вялость.
Маргарита заметила ее состояние:
— Похоже, ты не вполне еще выздоровела, девочка.
— Выздоровела? От чего? Женщина пожала плечами:
— От войны.
— А откуда ты знаешь…
— Это не нужно знать. Это можно просто увидеть.
— Разве от войны можно выздороветь?
— Да, раз это болезнь.
— Маргарита… Можно мне еще спросить? Что все-таки за человек Маэстро?
— Человек?.. Порой мне кажется, что он просто дьявол. — Маргарита тряхнула головой, словно сгоняя наваждение. Странная улыбка искривила ее губы. — Ладно…
Это все бредни. Я пойду, а ты поспи.
Аля не возражала. Как только Маргарита закрыла за собой дверь, она свернулась клубочком под теплым одеялом и уснула. В предсонных грезах она видела дом, маму и папу… Они стояли рядом с этим домом на высокой горе и молчали. Аля пыталась спросить их о чем-то, но они или не слышали, или не желали отвечать… Девушка попыталась подойти к ним поближе, но на пути оказалась река. Широкая, черная вода маслянисто переливалась под странным, фиолетовым светом… В этой воде плыло ледяное крошево, а берег был скользким, и Аля поспешила отойти от реки.
Вода эта даже на вид была ледяной, а девушка так устала от холода!.. Она возвращалась по какой-то дороге, домика на горе, окруженного летом и цветущим садом, не было видно, но она знала, что он есть, что там и живут теперь ее родители, что им там хорошо, что когда-нибудь они дождутся ее и снова все будут вместе… Но не теперь. А потом Аля уснула. Без сновидений.
Она проснулась оттого, что на нее кто-то смотрел. Открыла глаза и увидела лиловый глаз, который, как ей по-, казалось, глядел на нее лукаво и весело…
— Мишка… — улыбнувшись, прошептала Аля. Ей по думалось сначала, что продолжается сон. Она закрыла глаза, открыла снова. Плюшевый медвежонок лежал рядом на подушке. Она потянулась рукой, дотронулась до мягкой шерстки…
— Я рад, что сумел тебя обрадовать, маленькая амазонка… Аля резко подняла голову. Рядом с постелью сидел одетый во все черное мужчина. Длинные густые волосы, синие глаза… Он был похож на стремительного, гибкого и смертельно опасного хищника. Ну да, тот самый Маэстро.
— Вы? Вы откуда?
— Прямо с Луны.
— Да? И как там на Луне?
— Холодно. Впрочем, как всегда.
Маэстро произнес это так буднично, что на какое-то мгновение Аля поверила, что это действительно так. И еще… Ей вдруг стало не по себе, словно этот человек принес с собой тот самый лунный холод… Холод, от которого цепенел воздух и замирало все живое.
— Кто вы?
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит…
Я бич рабов моих земных, Я царь познанья и свободы, Я враг небес, я зло природы… — продекламировал Маэстро. — Кто я?.. Разве это важно? — Он встал, вымученной улыбкой сгоняя с лица печаль. И настоящая она была или наигранная, Аля не взялась бы ответить. — А поговорить нам действительно есть о чем. Я вернусь через тридцать минут. Только…
— Не бойтесь, я не убегу. Мне некуда бежать.
— Я давно ничего не боюсь. — Мужчина вышел, прикрыв за собой дверь.
Аля прошла в душ. Сбросила сорочку и долго стояла под горячими струями. Нужно было о чем-то думать, но о чем?
Девушка стояла зажмурившись, ощущая, как по коже сбегают горячие капли… Капли бежали и по щекам, смешиваясь со слезами…
А сейчас ей нужно было решить только одно: кто такой Маэстро, друг или враг? «Я тот, кого никто не любит…» Лицо Олега Гончарова увиделось совсем близким… И — его голос: «Поверить — это самое трудное». Поверить?
Но… Глаза Маэстро так глубоки и так равнодушны!
Нет. У нее нет друзей. Маэстро или из той же компании, что и Сиплый, или из другой. Которая ничуть не добрее. Для нее это ничего не меняет. Как только они найдут рюкзачок с наркотиками, ее сразу убьют. И искать ее не будет никто.
Да и кто она теперь? Лена Глебова или Аля Егорова?..
Капли бежали по лицу, смешиваясь со слезами…
Стоп!
Дура, вот кто она! Если этот Маэстро нашел медвежонка, значит, он нашел и наркотики! И ее — не убили. Почему? Зачем она им нужна? Почему Маэстро просил Маргариту позаботиться о ней?.. Что означает этот шкаф, полный нарядов? Зачем она нужна этому Маэстро? Зачем она нужна им? И кто такие — эти «они»?
И зачем это Маэстро притащил медвежонка?
«Мишка плюшевый, ласковый…» — услышала она сиплый голос того, со шрамом.
Нет. Этот «черный человек» вовсе не похож на сексуального маньяка. Но что-то ненормальное в нем все же есть. Скорее даже — нечеловеческое. Аля вспомнила его ледяные глаза, и кожа мгновенно покрылась изморозью мурашек…
«Я тот, кого никто не любит…»
Бред. Галиматья.
Девушка сделала воду горячей насколько возможно. И старалась ни о чем не думать.
Минуту, две, три…
Не нужно думать, просто почувствовать…
Аля вышла из душа, завернувшись в огромную махровую простыню. Медвежонок лежал на кровати и косил на нее лиловым глазом.
— Потап… — ласково прошептала Аля, погладив медвежонка по мягкой шкурке. — Помнишь считалочку? Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…
Инте-инте-интерес, выходи — на букву "С".
«Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…» «А в машине сидела девочка Аля. У нее был мишка Потап. С виду он был плюшевый, но на самом деле — живой и умный», — словно услышала девушка голос отца.
— Ты умный, Потап? И поэтому такой молчаливый и грустный? Или тебе досталось там, в плену? Не грусти…
«А больше всего ему было грустно потому, что он не умел говорить. И не мог рассказать девочке о том, какой он .и как он ее любит. Но Потап верил в то, что когда-нибудь девочка научится понимать его безо всяких слов».
— Потап, что ты хочешь мне сказать?.. — произнесла Аля еле слышно.
— Ты можешь меня выслушать? — Маргарита была одета в длинное вечернее платье до пят. Маэстро невольно залюбовался ею. — Где ты витаешь?
Маэстро снова окинул ее взглядом с головы до ног: и — Как сказал Александр Сергеевич: что хорошо, то хорошо…
— Это сказал не Пушкин. Это сказала Лаура, узнав, что Дон Гуан шел прямо к ней.
А за минуту перед тем — Гуан проткнул шпагой ее любовника, на что девица отреагировала вполне в духе времени: «Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы — а все не виноват»….
— Ужасный век, ужасные сердца… Марго, я теперь не готов к литературном диспутам. Сейчас я поговорю с этой девочкой, а потом мы уедем.
— Далеко?
— Не особенно.
— Влад, я как раз хочу поговорить с тобой…
— О «Каменном госте»?
— Нет. Я могу говорить с тобой серьезно?
— Серьезно? Интересно, о чем?
— Об этой девочке. И о тебе.
— Марго, не бери в голову, это чистый бизнес.
— Именно поэтому. Я не хочу, чтобы она участвовала в твоем чистом бизнесе.
— Да?
— Да. Аля этого не переживет.
— Марго… Ты ошибаешься по поводу этой девчонки. Она способна выживать в таких условиях, что… Знаешь, каждый человек выбирает себе тропу. И идет по ней. Люди — как звери. Есть змеиные тропы, есть — кабаньи. И есть тропы одиночек, тропы барсов. Они охотятся высоко в горах и иногда упорно стремятся к снежным вершинам. Там нет для них ни еды, ни питья — ты знаешь, снег в горах совсем не то, что вода, он не утоляет жажды… Тем не менее эти дикие кошки карабкаются по неприступным склонам, пока не обессилят. Они не хотят погибать, гнить, они хотят бессмертия. Может быть, бессмертие и представляется им заоблачной снежной вершиной?.. Тела барсов не подвержены тленью, их не растерзают ни шакалы, ни волки, шкуры их не достанутся кому-то украшением или одеждой. Барсы не умирают, они уходят. В вечность. Как люди, идущие их тропой. Маэстро прикурил, чиркнув длинной спичкой, закончил:
— Эта кошечка может пережить всех. Пока не решит, что ей пора туда, к вершине.
— Все это слова, Маэстро…
— Поверь мне, я давно не ошибаюсь в людях.
— Может быть. Только… Сейчас она устала. Отпусти ее.
— Это невозможно, Марго.
— Маэстро… Может, ты и гений, но ты безжалостен.
— Как всякий гений, — пожал плечами тот.
— Сделай исключение.
— Исключение? Из чего? Из чего я могу исключить эту девчонку? Из жизни?
— Ради Бога, не устраивай очередное шоу… — Шоу? А что есть вся наша жизнь, как не шоу? Закат (империй сопровождается общим психозом: люди ничего не хотят знать, кроме шутовского представления! Вот только для водевиля в нем слишком много крови. Впрочем, и это не ново. Особенно на закате империи. Ты вспомни, Марго, чего хотели римляне? Хлеба и зрелищ! И — ничего больше!
Нахлебавшись из корытца, они шли смотреть на кровь, на реки крови, и их любимцем становился тот император, что проливал ее больше! Нет, не на полях сражений — в цирках! Люди… Что может быть сладостнее для них, чем видеть чужую смерть?!
Тогда… Тогда люди были бесхитростней и проще, теперь они лицемерны и лживы, как ехидны! Посмотри на любой город! Он словно вымирает по вечерам: все сидят запершись в своих квартирках, не желая знать, не желая видеть того, что происходит снаружи! А снаружи — тьма! Взрывы, убийства и нескончаемая глумливая клоунада…
— Прекрати, Маэстро! — чуть скривив губы, произнесла Маргарита.
Но мужчина, казалось, ее даже не услышал. Большими шагами он мерил комнату, лицо меняло выражения быстро и нервно.
— Скажешь, где-то там, за океаном, лучше? Их фильмы-шоу собирают десятки миллионов зрителей, кукольные эпопеи, кукольные злодеи, кукольные герои…
Вдребезги разлетаются стекла рушащихся небоскребов, в месиво превращается людская плоть, и льются, льются тонны бутафорской крови! Век железа и крови все никак не может насытиться под занавес! Великая империя римлян захлебнулась бы в той крови, что пролита людьми самого «образованного и гуманного» века, она захлестнула бы бессмертный Рим, будто воды нового вселенского потопа!.. Да…
Римляне были честнее: они не скрывались за бутафорией… А мы… Все не можем насытиться… Под занавес… И ни у кого не хватает отваги объявить конец этому представлению… Ни у кого не хватает отваги…
Маэстро опустился в кресло. Лицо его было необычайно бледным и казалось смертельно уставшим; на лбу блестели бисеринки пота.
— От чего я могу уберечь эту девчонку? — тихо произнес он. — И почему это нужно делать?
Маргарита смотрела на него широко раскрытыми глазами. Потом произнесла тихо:
— Маэстро… А ведь ты сумасшедший.
Тот улыбнулся горько и устало, и в этой улыбке не было и тени игры.
— К сожалению, я совершенно нормален. Абсолютно. У меня нет иллюзий.
— Жизни без иллюзий не бывает.
— Вот именно. Поэтому я всегда предпочитаю смерть. Она честнее.
— Маэстро… Ты…
— Закончим этот разговор. Марго.
— Пожалуй.
Маэстро приподнял брови:
— Твой тон…
— Девочка останется у меня, — глядя ему в глаза, твердо произнесла женщина. — А ты убирайся. Делай свой бизнес. Один.
— Маргарита… — Маэстро смотрел на нее с нескрываемым удивлением.
— Ты плохо расслышал? Я сказала — убирайся.
— Ты… решила?
— Да. Я решила. И решений своих, как ты знаешь, не меняю.
Створки дверей холла за спиной Маэстро неслышно разошлись. Появились два крепких парня в одинаковых костюмах. Их правые руки были скрыты полами пиджаков.
— Ах, Маргарита… — Маэстро поднес руки к своему лицу, провел тонкими нервными пальцами… — Все-таки этот мир хорош. Он не перестает удивлять. Даже такого, как я. Это твоя личная инициатива или…
— Что — или?
— Есть такая аббревиатура… Человек из трех букв. Для знатоков штучка… Ах, милая дама… Любите ли вы театр?.. Любите ли вы его так, как люблю его я?..
— Не юродствуй, Маэстро.
— Помнишь монолог Лира? «Увидишь — я верну ту власть, с которой, ты думаешь, расстался я навек!» Я тебе уже не нравлюсь? Тебе нравится Лир?
— А какая между вами разница?
— Вот даже как… Хм… Итак, Лир. Ты стала поклонницей силовых методов, Марго?
— Да. Если иные бессильны.
— Согласись, это скорее в моем стиле.
— Ты совсем свихнулся с годами.
— Может быть, может быть… Ну что ж… Прощай, Маргарита. — Маэстро подмигнул, пропел:
— Жить без любви, быть может, можно, но — как?.. — Отвесил ей церемонный поклон, легко подхватил со стула черный сюртук. — Хотя жаль.
— Маэстро…
— Я знаю, что предают только свои… Мне казалось, я давно привык, но…
— Маэстро, ты ненормальный!
— Лир — нормален?
— Он понятнее.
— Ты не спасешь этим девчонку. Наоборот.
— Маэстро, я все решила. Все.
— Жаль.
Он задержал на ее стройной фигуре долгий взгляд, словно стараясь запомнить ее навсегда именно такой, повернулся на месте и пошел к выходу. Поднял правую руку, слегка пошевелил пальцами…
Двое охранников чуть посторонились, но держались настороженно, не сводя с него пристальных взглядов.
Маргарита застыла у стола. На глазах ее блестели слезы.
Маэстро шел к выходу танцующей походкой и вдруг… споткнулся. Сюртук неловко взлетел вверх, а сам он согнулся в падении…
Тяжелый нож, пущенный с огромной силой, пробил сердце. Женщина медленно сползла на пол. Влага так и застыла в глазах невыплаканными слезами…
Охранники успели лишь выхватить пистолеты. Короткий плоский нож торчал у каждого из шеи. Один упал навзничь, спиною на пол, второй, хрипя и захлебываясь кровью, силился удержать ствол и сделать выстрел.
Маэстро приблизился, спокойно забрал из слабеющей руки пистолет, произнес:
— Извини, старина. Бросок был не совсем точен, — и одним движением вогнал лезвие до конца. Охранник дернулся и безжизненно рухнул на пол.
Маэстро вернулся к телу Маргариты. Посмотрел, чуть склонив голову. Сдул с ладошки поцелуй:
— Прощай, Марго. Ты была хорошей девочкой. Но… Жизнь есть жизнь.
Маэстро развернулся и пошел к выходу, взметнув сюртук черным вороньим крылом.
Дверь в комнату Али распахнулась. На пороге стоял Маэстро. Аля была в одном белье, прикрылась шубкой.
— Заканчивай туалет, амазонка! Едем.
— Вы же сказали…
— Обстоятельства изменились. Поговорим в машине. поторопись.
— Может быть, вы выйдете, пока я оденусь?
— Я буду смотреть в другую сторону. Да, оденься по-проще. Как для похода.
— На чужую страну?
— Вот именно.
Аля натянула колготки, толстые шерстяные носки, джинсы, свитер двойной вязки и короткую дубленку. Подумала и прихватила вязаную шапочку и шарф. Нашла в шкафу средних размеров сумку, бросила туда несколько пар запечатанного белья и кроссовки. Туда же положила плюшевого медвежонка. На ноги надела удобные ботинки на рифленой подошве. Быстро оглядела себя в зеркало. Тряхнула волосами, рассыпая их по плечам:
— Я готова.
— Ну прямо юный пионер! Вернее, пионерка. Пошли. Аля вышла в холл. Состояние ее сменилось: она действительно была готова к любым неожиданностям и сюрпризам.
Самым неприятным. То ли от близости этого странного человека, то ли по закону самосохранения, все чувства замерли в ее душе, застыли ледяной изморозью; интуиция и логика сейчас помогали одна другой, и мозг ее был абсолютно ясен. Аля впервые чувствовала себя в таком странно-отрешенном состоянии… Словно ей предстояло решить уравнение со всеми неизвестными, решить быстро и верно; и решать и действовать придется «по ходу пьесы», и за любую ошибку она заплатит дорого.
Нужно выжить. Она сыграет по своим правилам, делая вид, что играет по предложенным. Девушка чувствовала: иного способа выжить у нее теперь нет.
Маэстро вывел девушку через черный ход.
— Мы не скажем до свидания Маргарите? — спросила Аля.
— Нет. Она уехала.
— Разве она собиралась?
— Нет, как и мы. Но бывает, что обстоятельства складываются так, что…
Маэстро подошел к сравнительно небольшому двухместному джипу. Распахнул дверцу:
— Прошу.
Створы ворот автоматически разошлись, когда мужчина нажал на кнопку сенсора.
Мотор завелся, Аля слушала его ровное урчание, смотрела на зеленовато светящиеся приборы… Вспомнила вдруг свою квартирку, и ей показалось, что вышла она оттуда несколько лет назад, и если и жила там, то в какой-то иной жизни.
Автомобиль сорвался с места и умчался в снежную круговерть.
— Так куда мы едем? — попыталась уточнить Аля.
— К югу.
— В мертвый сезон?
Маэстро не ответил. Он сосредоточенно смотрел на дорогу, и бледное лицо его в зеленоватом мерцании приборов казалось маскарадной маской.
Глава 61
Кассета крутилась в магнитофоне, отмеряя мгновения времени, как колеса — километры шоссе.
Автомобиль мчался на огромной скорости. Снежинки плясали в свете фар, будто облетающий тополиный пух. Вокруг была степь; ее очертания терялись в ночи. Как и очертания времени, страны и мира.
Аля открыла глаза. Посмотрела на светящийся циферблат часов: почти четыре. Утра.
Она тряхнула головой, поудобнее устроилась на сиденье.
— Я что, уснула?
— Как сурок. «Из края в край вперед иду — и мой сурок со мною…» — напел Маэстро.
— Дурацкая песня.
— Сочинение господина Моцарта.
— Да? Я не знала.
— Из края в край… «Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю я коней своих нагайкою стегаю, погоняю… Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом — пропадаю, пропадаю!..» Гениальные строки…
А как у Пушкина? «Все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья…» Люди обожают играть со смертью, но очень не любят проигрывать… А приходится… Гораздо чаще, чем они могут себе представить.
Всегда, Но пока ты выигрываешь — это и есть настоящая жизнь. Все остальное — ничто.
Маэстро смотрел сквозь лобовое стекло на дорогу, но девушке показалось, что он не видит ничего: ни снега, ни мглы… Господи, а может быть, он сумасшедший, этот Маэстро?.. Куда более опасный, чем тот, Сиплый…
Аля вытянула из пачки сигарету, прикурила. Выдохнула дым.
— Я так больше не могу…
— Что?
— Я не могу так больше! Кто вы? Откуда вы взялись?
— Ты боишься? — скосил на нее глаза Маэстро. Аля хотела соврать, но неожиданно для себя выкрикнула:
— Да! Я боюсь! Я — смертельно боюсь!
— Со мной тебе нечего бояться. И некого.
— Но я боюсь вас! Что вам от меня нужно?! Куда мы едем? И зачем… Зачем вы принесли мне плюшевого медвежонка?
— Ну вот и славно.
— Что — славно?
— Сейчас разговор у нас сложится. А чуть раньше мог и не сложиться. Кофе хочешь?
— Что?
— Кофе.
— А может, еще чай с плюшками?
— Может быть.
— У вас что, самовар в багажнике?
— Отнюдь. Через полтора километра будет придорожная забегаловка.
* * *
Действительно, через пять минут совершенно темное шоссе вроде расширилось, засветилось огнями. Небольшой ломик, крытый пластиковой «черепицей», стоял чуть поодаль и смотрелся для этих пустынных мест вполне экзотически.
— Это и есть забегаловка? — удивилась Аля.
— Похоже, местечко облюбовала здешняя хулиганствующая братва. А без комфорта им уже туго. К хорошему легко привыкают.
Аля нахмурилась:
— Сволочное время.
— Не хуже любого другого. Но и не лучше. «Кровью сограждан себе состояние копят и жадно множат богатств свои, громоздя на убийство убийство…» — продекламировал Маэстро.
— Это что, стихи?
— Да.
— А чьи?
— Древнеримского поэта Лукреция. Так что, барышня время все то же. И люди те же.
А вот погода — меняется.
— Мы уже в Крыму?
— На подъезде. Городок Крамогорск. Райцентрик. Маэстро загнал автомобиль на маленькую стоянку. Больше не было ни одной машины.
— Может быть, мы выпьем кофе еще где-нибудь? — робко спросила Аля.
— Барышня, для девушки, порешившей за полторы минуты семь отборных боевиков Автархана, ты слишком застенчива.
— Кто такой Автархан?
— Один из авторитетнейших людей Княжинска. Ныне покойный.
— Я… Я была не в себе…
— А может быть, наоборот?
Аля пожала плечами. Произнесла нерешительно, покосившись на заведение:
— И все же…
— Девушка, мы будем пить кофе там, где сочтем нужным. Не хватало еще считаться с бычками. Повторится так раз, другой, и эти животные решат, что они не мяса, а право имеют. Место забойного скота — в стаде. Наше — там, где мы решим.
Маэстро галантно открыл Дверь:
— Прошу.
Зал был пуст. Все столики свободны. Полусонный бармен вяло сидел за стойкой и пялился в телевизор, по которому показывали шумный боевик. Единственная официантка тоже припухала, из последних сил борясь со сном.
— Ну вот, все условия. У быков, надо полагать, пересменка. Час волка.
— Какой?
— Четыре утра — час волка. Именно в это время происходят все леденящие душу преступления, государственные перевороты и прочие человечьи шалости. К тому же к четырем человек невольно устает и, какой бы крепкий ни был, хочет покоя и неги.
— Вы тоже?
— Ничто человеческое мне не чуждо. Тем более, как сказал поэт: в мире счастья нет, а есть покой и воля. Воля присутствует, а вот покой — только снится. И — вечный бой…
Маэстро выбрал столик, отодвинул девушке стул.
— Располагайся.
— Я в туалет хочу.
— Пошли.
— Да я дорогу уж как-нибудь найду…
— Тебе не надоели еще приключения?
— До смерти.
— Ну тогда помолчи.
Маэстро прошел вперед, быстро осмотрел дамский туалет. Сказал:
— Заходи. Только ненадолго.
— Это уж как получится.
Оказавшись в туалете, Аля первым делом подошла к окну: фигушки. Полуподвал, оконце махонькое, кошке пролезть впору, но и то — заделано крепкой решеткой и уж потом рифленым стеклом. Как бы она сейчас отвязалась от всех и всяких провожатых!.. Не получится. А жаль. Остается использовать сие местечко по назначению.
Аля уже плескалась под умывальником, когда дверь снова открылась.
* * *
— Ну? Пошли? Нечего тут…
— Неистребимая тяга мыть руки перед едой. Очень микробов боюсь. Особенно вирусов.
Они пошли к столу. Маэстро следовал впереди. Аля даже подумала, не следовал, а шествовал: он шел прямо, и затылок будто упирался в невидимый высокий жесткий воротник. Словно он проходил не по пустому и полутемному придорожному шалману, а ступал по Георгиевскому залу Кремля. Или по меньшей мере по ковровой дорожке приемной Белого дома.
Маэстро дождался, пока девушка уселась, устроился сам, посмотрел на бармена и официантку. Те встрепенулись разом. Что-то в облике вошедшего было неумолимо жесткое, жестокое, властное, то, что нельзя было проигнорировать или не заметить.
Официантка как-то даже подобралась, танцующей походкой подошла к столику.
— Чем порадуете, красавица?
Заспанная, с отекшими веками «красавица» тем не менее улыбнулась:
— К сожалению, только холодные закуски. У нас всего один повар, и кухня давно закрыта. Но можем разогреть в микроволновке гамбургеры.
— Лучше меньше, чем ничего. Из холодных закусок — балык, сыр, ветчина. И чай, очень крепкий. У вас есть большой заварной чайник?
— Да. Узбекский. И пиалы к нему.
— Вот и славно.
— Спиртное?
— Будешь? — быстро спросил он Алю.
— Нет.
— Не нужно. Как вас зовут, красавица?
— Зинаида.
— Заварки не жалейте, Зинаида. Мужчина я не скупой.
— Да я навидалась. Сделаем все путем.
Зинаида прошла в кухню. Следом за ней вошел бармен.
— Ну? — спросил он.
— Что — ну? Заказ приняла, готовлю.
— Что это за фраер?
— А мне что за дело?
— Денежный?
— А ты не видишь?
— Тачка у него хорошая.
— Нормальная.
— Ты чего как вареная? Какого хрена ему к нам заезжать?
— А чего и не заехать в такую ночь?
— Пацаны только разошлись. Звякну-ка я Бурнашу, пусть приедет.
— Это еще зачем?
— Присмотрит.
— А чего за ним присматривать? Мужик красивый, не один и не с командой, с девчонкой…
— Дура! Да у нас на кассе денег немерено! Кащей забрать не заехал, видать, заблудил с телками или еще что… , если чего, кому отвечать? Мне! И тебе тоже.
Вот и… , этот… черный…
— Да какой он черный? Морда нашенская.
— Не о том я, Зинуля… Взгляд у него… Такой, что до костей пробирает. Звякну.
— Дурак ты, Костик. Знаешь поговорку: «Не буди лихо, ока оно тихо».
— Вот я и хочу, чтобы тихо было. Пусть Бурнаш суетится, мое дело телячье.
— Ну как знаешь, Константин.
— Из спиртного чего заказал?
— А ничего.
— Во-о-от.
— Что — вот? За баранкой он, и все объяснения. Это когда это крутые в выпивке за рулем себе отказывали? Он чего, гаишников каких здесь, в степи, углядел?
— Дурак ты, Константин, и толковать с тобой нечего. Ночь, темень, дорога ледяная… Он же не самоубивец…
— А я все же звякну. Случись чего — нам вовек с Кащеем не расплатиться. Говорю же, денег — вагон, все палаточники как с вечера свезли, так и… А и этот козел стриженый, Соня, и тот свалил… «По делам…» Какие у него дела, у отморозка бритого? Поди, Светку из палаточки во все щели дерет, вот и все дела…
— А тебя завидки взяли?
— Дура!
— Вот и кликни Соню, а Бурнашу нечего…
— Я сказал…
— Сказал, показал… Просто подлая у тебя душа, Константин. Бурнаш приедет — и Соне по мусалам надает, что развлекается, а не работает. А тебе чего надо? Чтобы он от Светки отлез. Только смотри, как бы самому не схлопотать — за ложный вызов… Очень Бурнашу понравится.
— А мне чего? Бабки оставили, а я должен…
— Во-во. Ты еще страху на него нагони, дескать, грабят тебя, убогого… — Зинаида стрельнула глазами в зал. — Эй, смотри, Константин. Этот мужчина, сдается мне, и уркаша-то в бумажку закрутит, а уж тебя, убогого, так просто на вилку подденет… Как закусь.
— Ты еще поговори! Твое дело — жрать нести!
— Вот я и понесу. Я в официантках двадцать лет ишачу и дело свое знаю. А только вот раздолбаев вроде тебя сколько ни учи — все не в науку.
— Ладно, поговорили. Иди обслуживай. Да, и табличку навесь: «Санитарный час».
Надо было и этого отвадить, да уж чего теперь… Пошла…
— А ты не погоняй, не запряг.
Зинаида залила кипятком чайник и начала раскладывать нарезанные кушанья по тарелке. Ей хотелось сделать все хорошо, как в старые времена. И мужчина этот…
Он, верно, привык не по таким забегаловкам закусывать… Да и… Ее так давно никто не называл красавицей… Совсем давно. Теперь уже и не вспомнить.
Бармен закрылся за дверцей директорского кабинета, и она услышала, как он накручивает диск.
— Коз-з-зел! — в сердцах произнесла она и пошла в зал. Зинаида расстаралась.
Нарезанные тонкими ломтями балык, семгу, осетрину, ветчину украсила зеленью и лимоном. Аккуратно, «по-наркомовски», нарезала хлеб. К сыру подала сливочное масло; чайник аккуратно обернула полотенцем, расставила пиалы.
Маэстро плеснул чаю в пиалу, открыл чайник, вылил обратно.
— Спасибо, красавица. Получи сразу; не люблю ждать счет. — Он подал женщине крупную купюру, по крайней мере впятеро превышающую стоимость заказанного.
— Ой, у меня и сдачи…
— Купи детям что-нибудь. Сколько у тебя, красавица?
— Двое. Спасибо.
Зинаида вернулась на кухню. Налила себе рюмку водки, опрокинула единым духом.
Рассмотрела портрет президента на зеленой бумажке. Мордатый. Повернула к свету, краска бликовала: настоящая. Как же, станет этот, что неразменными сотенными расплачивается, на дерьмовую кассу зариться… Дел у него больше нет.
Зинаида подумала-подумала и налила еще рюмку. Выпила, не переводя дыхания, захрумкала ядреным, бочкового засола, огурчиком… Глянула в зал. Константин вернулся к стойке и с гордым видом протирал бокалы. А темноволосый, чуть наклонившись, что-то говорил девушке. Официантка вздохнула: везет же некоторым..
И красивая, и молодая, и кавалер — нестриженый бычок, и при деньгах… Жаль, ее молодость прошла, как пропала. Ну да годы — они никого не минуют.
С этой мыслью Зинаида наплескала водки в фужер… А чего, смена кончилась, первый автобус придет в шесть. Дверь она закрыла. И спать хочется несусветно как. Вот только что-то слезливо на сердце, до оторопи… А сегодняшний навар у нее хороший. Если бы всегда так — давно бы старшему. Мишке, дубленку справила…
А то братва здешняя — только по названию братва: жмотные — хуже иноземцев…
Когда она еще в Днепропетровске в «Интуристе» работала — все на своих машинках сдачу да чаевые подсчитывали. Э-эх, жизнь… Пока сама молодая да красивая — дым коромыслом, а как годы подопрут… И детки повыросли… Наташка уже девица совсем, год-другой, и мальчонки-мужчинки начнутся… А у девки еще и голова дурная, вся в маму… Это сейчас она нахлебалась по самое некуда, а по молодости… И ведь свою голову поумневшую детям не приставишь… Как и свою жизнь дурную по новой не проживешь… Э-эх…
Зинаида смачно, в два глотка, выпила водку, зажевала кусочком балыка с хлебцем.
Передохнула; ну да, пойти прилечь. Часиков до восьми. Там и автобусов поболее, чтобы до города. А Мишку Катька покормит, да и сам он пожрать не дурак, было бы что… Мишка и вообще умный, в Никиту. Вот только бы не пил. Он обещал. Он не будет.
Глаза у Зинаиды слипались. Кое-как она добрела в подсобку, завалилась на низенькую кушетку и через минуту уже спала крепким сном.
Глава 62
Аля выпила обжигающего чаю, вяло дожевала бутерброд.
— Ну что, поехали? — спросил Маэстро. — А то это не заведение, а сонное царство.
— Никуда я не поеду.
— Да?
— Пока вы не объясните…
— Что именно?
— Все.
— Так уж и все?
— Вы можете делать со мной что угодно, но с места я не сдвинусь.
— Ну что ж… Что конкретно тебя пугает или заботит?
— Вы.
— Не такой уж я страшный…
— Такой. Вы не добрый.
— Был бы добрый — давно бы сгнил.
— Вы… Это были ваши наркотики? Там, в сумке?
— Это смотря как поглядеть.
— Раз вы нашли мишку плюшевого, вы нашли и сумку и наркотики. Тогда зачем вам я?
Я понимаю, что лишний язык вам не нужен; но раз уж вы меня как-то нашли — кстати, как? — то почему не убили? Чего проще — застрелить, и все. Сейчас бы уже… Вместо этого, вы привозите меня в шикарный особняк, окружаете шикарными вещами, вернее, Маргарита по вашей просьбе, потом появляетесь так же внезапно и предлагаете ехать «к югу». Я больше с места не сдвинусь. Зачем я вам нужна?
— Это все вопросы?
— Нет. Кто такой Сиплый…
— Сиплый?..
— Ну тот, со шрамом…
— Крас.
— Пусть Крас. Как такой параноик вообще оказался завязанным в какие-то наркотические дела? Пусть я девка сопливая и дура набитая, но ведь зелья, по самым скромным подсчетам, в рюкзачке было тысяч на пятьсот в самой зеленой валюте; такие суммы не доверяют сумасшедшим! Я ничего, ничего не понимаю! Или он был главный босс? Тогда почему я все еще жива? Меня дважды уже пора было убить!
— Можно по порядку?
— Как хотите.
— Все началось давно. И то, что ты оказалась втянута в это дело, просто случай.
И еще… Милая девушка, прежде всего хочу предупредить: все, что я буду рассказывать, смертельно опасно…
— Ага. А то, что происходило вокруг меня последние несколько дней, просто игра в песочнице? — горько произнесла Аля. Сжала плотно губы, выдохнула:
— Ничего я не боюсь.
Маэстро глянул на нее мельком и понял: она не врет! Девушка действительно ничего не боялась. В угол можно загонять до какого-то предела, потом наступает перелом: человек или ломается, или упирается так, что разваливает и угол, и избу, калечит нападавших и крушит по пням и кочкам вокруг все и вся. То, что перед ним хрупкая, тоненькая девушка, больше похожая на подростка, его не обманывало никак: он видывал на своем веку увальней, ломавшихся даже не от действия или. взгляда, от одного намека; эти были похожи на медведей на задних лапках, готовых служить за кусочек сахара… Но видывал он и одержимых: таких можно было резать на куски, но они не сдавались. Сломать их мог лишь какой-нибудь сентиментальный пустяк, вернее, то, что для любого человека было сентиментальным пустяком, для такого «духоборца» приобретало сверхзначимые, космические масштабы! И тогда только нащупать это слабое место, этот «пустячок» — у одних это любовь к женщине, у других — данное кому-то слово… И — сломать этот хрупкий стержень!..
И были третьи. Сила духа была присуща им, как кровоток, как дыхание; после ужесточения всех условий они словно выпадали из предложенной игры и почти неосознанно, интуитивно начинали играть свою… Игру на выживание и на уничтожение всего, мешающего этому выживанию. У Барса был такой талант; к сожалению — или к его. Маэстро, счастью? — Барс поставил свой «пустяк» — чувство долга — над природой. И проиграл. По-крупному.
Но у его девчонки прекрасные инстинкты выживания. Не говоря о навыках.
Наследственность. Как говорят англичане: «У кошки — девять жизней». Особенно если она еще и дочь Барса.
Маэстро еще раз окинул взглядом девушку… Она действительно красива… Маэстро вдруг поймал себя на мысли, что еще не вполне разобрался в своем отношении к ней. Усмехнулся: ему вдруг вспомнился старый фильм «Его звали Роберт». Там так похожий на человека робот полез спасать куклу-петрушку, упавшую в клетку с тигром… И сказал знаменательную фразу: «Он такой же, как и я, только маленький»… Девчонка — такая же, как и он, Маэстро. Только маленькая. И судьба неумолимо ведет ее на ту же тропу, на которую когда-то вывела его, Маэстро…
Хотя… Как у О. Генри? «Дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет выбирать дорогу».
Выбирать дорогу. Или — тропу. Тропу барса. Я представляю службу… — начал Маэстро.
— ФСБ, что ли?
— Нет. Но организована она, так сказать, по подобию. Да и техникой, и деньгами побогаче… Иными словами так: служба безопасности некоей финансово-промышленной группы. Называть ее мы не будем.
— А мне и без надобности.
— Наших патронов волнует «вопрос о власти» в здешней независимой державке: уж очень страна богатая и ресурсами, и возможностями транзита. А деньги покупают все.
— А как же демократия и «свободное волеизъявление граждан»?
— Оставим моральные оценки пока в стороне. Ангелов нет. Особенно рядом с деньгами или властью. Так вот, местная служба безопасности заинтересовалась нашими контактами, и неспроста. И мы решили провести активную операцию прикрытия.
— Наркотики?
— Да. Тут еще один нюанс… Как говорил один мой знакомый, чтобы преступность стала организованной, ее нужно организовать.
— Это надо понимать как…
— Это надо понимать прямо. На необъятных просторах постсоветского пространства преступность в той или иной степени контролируется. Местными органами внутренних дел или службами безопасности. А кто охраняет, тот и получает часть прибыли.
Процесс этот идет во всех странах: во главе так называемых преступных кланов — люди не маленькие, значимые в своих республиках, на своих территориях. Бороться с ними невозможно, как бы это ни было противно для обывателя, и дело идет к тому, что самые умные и удачливые просто вливаются в управленческую и деловую элиту своих стран. Постепенно вызревает и идея координации усилий, создания межгосударственных конгломератов, финансово-промышленных групп. Ни государственные глупости, ни амбиции отдельных политиков помешать этому не в силах: когда говорят большие деньги, амбиции молчат. Как и пушки. В тряпочку.
— Получается…
— Получается парадокс; интернациональная братва отстаивает интересы экономической интеграции, в будущем могущей стать интеграцией политической…
— Маэстро… Мне это неинтересно. Скучно. Если не сказать больше: гнусно. У меня действительно была совсем нелегкая жизнь; что-то как-то начало складываться-и вот появляетесь вы, засовываете в мой рюкзачок наркотики — и жизнь моя рухнула.
Совсем. Я понимаю, что на фоне «геополитических реалий» моя жизнь, может быть, вообще ничто, но… А для вас вообще-то люди существуют?
Маэстро лишь скривил губы в усмешке:
— В той же мере, в какой они существуют друг для друга: как средство самовыражения. А с тобой, мадемуазель, действительно случайность, впрочем, для нас довольно удачная.
— Удачная?
— Да. Мы предполагали спровоцировать местную службу безопасности на борьбу с «белой смертью», засветить в связи с порошком нескольких мешающих нам работников спецслужб и политиков… И — отвлечь этих господ от основного мероприятия: теневых переговоров со здешними деловыми людьми по серьезной совместной работе как в экономике, так и в политике. Ты подвернулась настолько неожиданно!
Кстати, Крас был нами сыгран втемную, — радостно объявил Маэстро. — Этому мавру предстояло сделать свое дело и — умереть. Он был уверен, что операция по наркотикам и есть основная. А ты, красавица, сделала почти неосуществимое: если не уничтожила, то изрядно пощипала целый местный клан могущественного Автархана; теперь вести переговоры, или «держать базар», с остальными куда проще. Тем более для всех, и для криминалов, и для особистов, останется могучая мотивировка происшедших событий: разборки местных и пришлых «по наркоте». Профессионально сработано? Аля пожала плечами. — Красиво, добротно… Хорошо, — произнес Маэстро, имитируя героя мультика «Падал прошлогодний снег». — Крас сообщил нам, что начались сложности; мы планировали несвязухи, но то, что начало происходить… Знаешь, руководитель любой спецоперации — как полководец в битве: события могут накатывать с непостижимой быстротой, и он должен реагировать на них. В операцию ввели меня.
— Вы — Большой Босс?
— Нет. Но у меня определенная специализация: гасить возникающие пожары.
— Чужой кровью?
— Когда идет война, нужно применять все средства для уничтожения противника.
Аля вспомнила Гончарова, произнесла грустно и очень тихо:
— А война всегда, Маэстро внимательно посмотрел на Алю, словно увидел ее в другом свете. Сказал медленно:
— Для некоторых это стало хобби.
— Убивать?
— Жить азартно.
— Тогда это не хобби, а наркотик.
— «Что опьяняет сильнее вина? Лошади, женщины, власть и война», — усмехнулся Маэстро.
— Опять стихи…
— Киплинг. Последний поэт империи.
Аля задумалась на мгновение, произнесла тихо:
— Вы странный, Маэстро…
— Очень. Зато — результативный. Так вот, когда я прибыл на квартиру к Красу, выяснилось, что ты — дочь Барса, а Гончар, его еще называли Гончий, один из бойцов его группы.
— Вы знали моего отца?
Маэстро на секунду запнулся, потом ответил:
— Да. Так вот, появление тебя и Гончего — реальный повод мотивированно предположить, что кто-то вмешался в нашу спецоперацию, кто-то, обладающий информацией и возможностями. Потом произошел профессиональный налет на квартиру, где зависли мы с Красом; ему показалось, что совпадений слишком много, я тоже был несколько озадачен. Мы не ожидали, что начнется настоящая бойня. Решили найти ваше убежище. Твое и Гончарова. Автархан со своими людьми успел раньше. В любом случае — все хорошо, что хорошо кончается: Автархана больше нет, Краса — тоже, а мы с тобой мило беседуем в приятном заведении.
— Просто хэппи-энд, да и только!
— Вроде того.
— Я не понимаю…
— Чего?
— Почему я еще жива? Вы запланировали устранение этого Сиплого…
— Краса.
— Да, Краса. И наверняка той, что станет «наживкой». Ею стала я. Почему я жива?
— Теперь нет необходимости тебя устранять. Ты и так на всех крючках: на тебе зависло слишком много трупов…
— Не верю я вам, — горько усмехнулась Аля. — Вы меня убьете в любом случае: чтобы накладок не возникало. После того, как что-то у меня выясните или просто используете для чего-то… Извините, я снова неудачно выразилась: ведь ничего личного, так? Как в плохом кино: я оказалась в неудачное время в очень неудачном месте…
Маэстро закурил, затянулся, выпустил дым, прикрыв веки. Бросил коротко:
«Слушаю…» — и замер. Лицо его вдруг жутко побледнело, он закусил губу…
Быстро вытащил из кармана коробочку, выбросил на ладонь две облатки, проглотил.
Тело его сотрясла судорога, лицо слегка порозовело.
— В каждой профессии — свои издержки… — произнес он хрипло. Открыл глаза, и Але стало по-настоящему страшно: черные, как ледяные полыньи, зрачки расширились так, будто их окружал беспросветный мрак; в их тяжкой глубине вяло плескалось безумие… — Случай… Его Величество Случай… Он может помочь, а может и спутать все карты… Но мне любопытнее всего тот, кто управляет случаем! Ведь может статься, что тот, кто держит в руках веревочку и дергает за нитки, на которых мы подвешены, управляя событиями, судьбами, жизнями, — всего лишь бездарный актеришка, которому не нашлось места на действительно престижной сцене?.. И он гонит писклявым голоском третьесортную пьеску драматурга-неудачника… И наблюдают за всем этим действом такие же нищие бедолаги, у которых не хватает средств на билет в ложу истинного театра, где рушатся империи и потрясаются троны, где дикие орды крушат казавшиеся незыблемыми твердыни и воздвигают алтари своих жестоких богов… Как грустно, когда это представишь… Блистать на убогой сцене среди убогих декораций — что может быть горше для гения?..
Лицо Маэстро было непритворно печальным; казалось, более всего он сожалел о том, что природа так напутала с местом и временем его рождения. Левая щека дергалась, зеницы двигались под полуприкрытыми веками, словно он наблюдал несокрушимый, стремительный бег орды, и взъяренные кони опаляли его близким дыханием, и визжащие всадники с перекошенными криком лицами спешили за кровью и золотом, и прекрасные дикарки провожали их взглядами, покусывая губы от неутоленной страсти, готовые покориться новому владыке и новым порокам, и жаждущие…
Жаждущие вечного зрелища, состоящего из крови, азарта и не знающей предрассудков, бесстыдной любви — прямо там, на арене, среди окровавленных тел, когда стоны боли и страсти сольются в один и родят нового бога, который зальет мир новой кровью…
Казалось, он открыл глаза лишь огромным, невероятным усилием… Огляделся вокруг, словно пытаясь узнать окружающее…
Глава 63
— Ты чего таращишься, дурик? Муху проглотил? Так зимой муха — к покойнику. — Непропорционально маленькие глазки на широком, лоснящемся лице остановившегося у стола здоровенного дебила придавали ему сходство с каким-то доисторическим мастодонтом. Он облизал толстые губы, добавил со смешком:
— Примета верная.
— Бурнаш, а может, он — дерьмо? От грязного негра? То-то во все черное обрядился! — сострил малорослый крепыш со стриженной под газон шишковатой башкой.
— Ка-а-азел он, а не негр, — заключил здоровяк, которого назвали Бурнашом. Голос у него действительно был характерный, хриплый, с грустными обертонами, и поразительно походил на голос актера Ефима Копеляна.
Аля почувствовала, что растеряна. Она совершенно не заметила, как эти четверо оказались рядом со столом; а заметил ли это Маэстро? Может быть, весь его монолог предчувствие этой мизансцены, и он действительно гениальный актер-импровизатор?
Девушка рассмотрела окруживших их столик полукольцом громил, сердце словно сжалось от глухой, тяжелой" похожей на усталость тоски… И еще — она ощутила вдруг, что готова от малейшего пустяка сорваться в истерику или в дикую, всесокрушающую ярость…
Маэстро уловил ее настроение, положил ладонь на руку, подмигнул:
— Ни дня без приключений, а?
— Чего он сказал? — спросил Бурнаш крепыша.
— Приключений он хочет, — осклабился тот.
— Ну это мы ему щас устроим по полной программе. Тебе что здесь нужно, а, дядя?
— подключился третий.
Бармен, стоявший за стойкой и занятый протиранием безукоризненно чистого бокала, замер, вытянув шею; сонливость с его лица смело напрочь: сейчас на нем было предвкушение веселого представления, развлечения, заключающегося в унижении другого… Как он любил эти минуты!
— Да он — пидор! Волосики отрастил, оделся по стилю… А зачем тебе бикса, петушок?
— Эй, пидор, отгадай загадку: солененький, а не огурчик, стоит, а не часы? Щас Бурнаш тебе даст, глядишь — он тебе сладеньким покажется…
— И не переживай, девочку тоже уважим — не оставлять же ее без десерта! У нас — приличное заведение!
— Только, дядя… Все не бесплатно: за удовольствия нужно платить, халявы здесь не будет!
Бандиты, изрядно поддатые, развлекались вовсю. Ржали, ходили каруселью вокруг стола, проводили лапами по спине девушки, похлопывали по плечам Маэстро…
Аля хотела вскочить, но Маэстро удержал ее взглядом; девушка замерла на месте: в глазах Маэстро был неземной, смертельный холод.
— Петушок-петушок, золотой гребешок, шелкова бородушка… Пацаны, как там дальше в этой считалке про пи-доров?..
Бармен прихохатывал вместе со всеми. Хотя, признаться честно, он был разочарован. Обычно, когда Бурнаш вот так вот, по куражу, наезжал на заезжих лохов, те терялись совершенно, пытаясь кто качать права, кто вспоминать знакомых авторитетов… Но это был Крамогорск, никаких крутых, кроме самих себя, здесь не признавали и резонно полагали, что действительно значимым людям нечего делать в сомнительной забегаловке на дороге. Порой опускали этаких с виду важных — в «гайках» да в «голдах»… «Фуфло дутое», — говорил про таких Бурнаш. Похоже, и этот — фуфел, жаль только, что молчит, так без интересу.
Дружбанки тоже, видно, притомились ждать «адекватной реакции», а разрешать ситуацию вульгарным мордобоем им не хотелось: представление есть представление, всегда успеется, к чему кайф ломать?
— Бурнаш, этот тампекс для нигеров что-то ни мычит, ни телится. Может, музычку включим? Пусть девочка его нам голышом на столе спляшет, а? — предложил малорослый крепыш.
— Мысль, Бурнаш, в натуре мысль! — поддержал его напарник.
Аля недоумевала, почему Маэстро ничего не предпринимает. Он сидел неподвижно, опустив голову вниз, и вдруг… Аля заметила, что на лице его блуждает улыбка.
Она почувствовала, как холод сковал ее всю, с головы до пят; она догадалась: он, как и эти дебилы, смакует ситуацию… Предвкушение поединка с этой рванью доставляет ему удовольствие… Вернее, не предвкушение даже — знание. Знание их будущего, теперь уже совсем близкого. Девушку даже затошнило, будто от запаха крови… Она невидяще оглянулась по сторонам, но никакой крови вокруг не было, только гогочущие, глумливые рыла…
— Уходите, пожалуйста, уходите отсюда… — зашептала она одними губами.
— Чего она там шепчет?
— Маму зовет…
— Цепочка, хочешь, научу тебя на спинке плавать? Даже без воды? Или тебе попкой шевелить сподручнее? А твой задрот путь поучится, чего зря время терять?
— Эй, телочка, ты что, оглохла? Не слышишь, пацаны тебя уважить хочут… Или у тебя грабки отсохли? Так мы пуговички расстегнуть поможем, ты не сомневайся…
И тут Маэстро — захохотал. Он хохотал громко, утирая выступившие на глазах слезы. Аля снова почувствовала, как мороз пробежал по коже от шеи до кончиков пальцев: Маэстро был искренен.
Парни затихли озадаченно.
— Мужик, ты чего? — тихо произнес один. А Маэстро сделался вдруг серьезен, скорбен. Он встал, обвел взглядом окружающее так, будто видел впервые или.. Или собирался распрощаться с этим навсегда…
— Вы любите Шекспира? — спросил Маэстро, ни к кому конкретно не обращаясь.
Взгляд его был тускл и безумен.
Каким докучным, тусклым и ненужным Мне кажется все то, что есть на свете! О, мерзость! Это буйный сад, плодящий Одно лишь семя; дикое и злое В нем властвует, — продекламировал он, слегка аккомпанируя себе рукой. Помолчал, повторил еще раз, будто в бреду:
— Дикое и злое в нем властвует… Дикое и злое…
— Фуфел дуркует, — прокомментировал Бурнаш. — Тяжелый слу…
Договорить он не успел. Движение Маэстро было настолько молниеносно, что никто его даже не заметил. Сам Бурнаш, казалось, тоже не понял, что произошло: просто полоска на шее набухла кровью, а Маэстро успел развернуть его спиной к себе и дернул голову назад. Она откинулась, словно крышка люка, тугие струи артериальной крови фонтаном брызнули на двоих его дружков, а третий упал на пол спиной, как столб: короткая рукоять стилета торчала из глазницы.
Парни отпрянули, не в силах вымолвить ни слова; Маэстро прыжком оказался между ними. Тот, что был ближе, выхватил заточку, выбросил вперед кулак с зажатым намертво оружием, но рука ушла в пространство. Маэстро мгновенно нырнул куда-то вниз, а его противник с маху полетел на пол. Сначала он ничего не почувствовал, попытался встать, но острая боль в печени ударила как штык… Его собственная заточка была загнана по самую рукоятку. Парень перехватил ее обеими руками, выдернул и — упал на спину.
Оставшийся бросился бежать. Маэстро, казалось, не обратил на него ни малейшего внимания. Наклонился над упавшим, констатировал:
— Труп. Чистая работа.
Обернулся и двинул рукой. Клинок тяжелого десантного ножа разрубил затылочную кость и вошел в мозг. Бегущий словно споткнулся: с маху грохнулся об пол и затих.
— Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайка погулять, — продекламировал Маэстро, подошел к стойке бара, придирчиво оглядел себя в зеркало, не осталось ли следов крови, поправил воротничок сорочки, взял салфетку, тщательно, палец за пальцем, будто хирург после операции, вытер руки…
Бармен застыл за стойкой, превратившись в соляной столб. Маэстро приподнял брови:
— А вы любите Шекспира?
Бармен попытался открыть рот, у него это даже получилось, но изо рта не доносилось ни звука; он был похож на камбалу, выброшенную на берег из самой глубины…
Глаза Маэстро словно помутнели, губы затряслись так, словно с ним сейчас случится истерика, эпилептический припадок… Казалось, он справился с собой лишь гигантским усилием воли; щеки и губы его посерели…
Бунтовщики! Кто нарушает мир? Кто оскверняет меч свой кровью ближних? Не слушают. Эй, эй, вы, люди! Звери! Вы гасите огонь преступной злобы Потоком пурпурным из жил своих, — продекламировал он устало, добавил:
— Как жаль… Как жаль, что все вы не любите Шекспира…
Аля не отрывала взгляда от Маэстро. Ей казалось, она присутствует на каком-то спектакле, и все это бутафория, все — обман… Вот только запах крови был настоящий, от него судорогой сводило желудок…
И еще — страх. Страх перед чем-то, чему нет ни названия, ни объяснения…
— Нам пора, — произнес Маэстро и двинулся к выходу.
Аля не могла противиться его воле. Она тихонечко встала со стула, стараясь не смотреть по сторонам. Видела только черную спину человека, идущего впереди. И еще она заметила, что шел он сейчас как старик.
Дверца захлопнулась. Завелся двигатель, засветились зеленым приборы. Аля безучастно смотрела в окружающую темень. Там было страшно. Но здесь, в машине, простоявшей на улице больше часа и холодной, как склеп, было еще страшнее.
Маэстро был, без сомнения, псих. Только что он запросто прикончил четверых…
Нет, Аля не могла сказать, что они были украшением общества, но…
Внезапно ей стало не по себе. Девушка спросила себя, а стала бы она стрелять в них, если бы у нее был пистолет. И поняла одно: да. И еще одно она знала точно: она не стала бы их убивать, просто прострелила одному или двоим ляжки: этого хватило бы, чтобы они отвязались. А Маэстро… Он не просто убил их: он сначала участвовал в их представлении, пошлом и гнусном, и продумывал свое… И Аля не могла не отметить: у него получилось! Он действовал так, словно… Словно он был не человек, а представитель некоей силы, силы жестокой и могущественной, которой дана власть над жизнью и власть над смертью.
…Ни плащ мой темный, Ни эти мрачные одежды…
Ни горем удрученные черты И все обличья, речи, знаки, скорби Не выразят меня; в них только то, Что кажется; и, может быть, игрою Скрываю сущее, живущее во мне;
Оно с судьбой отвагою играет, А маскарад — со мною умирает, — произнес Маэстро, словно угадав ее мысли. Потом добавил самым будничным тоном:
— Так на чем мы остановились?
— Что? — еле выдохнула из себя Аля.
— Разве тебе неинтересно завершить разговор? К тому же езда по предутренней дороге зимой после бессонной ночи — занятие совсем небезопасное. Водитель вполне может уснуть за рулем; дальнобойщики чаще всего берут попутчиков как раз для того, чтобы этого избежать.
— Какие дальнобойщики?
— Ты что, не знаешь?
Аля заставила себя повернуть лицо и посмотреть на него. Маэстро был спокоен.
Абсолютно, безмятежно спокоен, словно…
Она почему-то вспомнила слова Толстого, сказанные некогда Чехову: «Пьесы вы пишете еще хуже, чем Шекспир».
Ну да… Толстого удивляло отсутствие в трагедиях англичанина нюансов; Гамлет протыкает шпагой Полония, словно тот действительно не человек, а крыса…
Никаких переживаний… Никаких… Только два сильных чувства: благородство и предательство, любовь и ненависть, ревность и зависть… И везде — только один исход: жизнь или смерть.
Как в жизни. Совсем как в жизни. Ведь в конечном счете выбирать приходится только из двух: быть верным или предавать, любить или ненавидеть, завидовать или созидать. Быть или не быть.
«Пьесы вы пишете еще хуже, чем Шекспир».
«Вы любите Шекспира?»
«Жаль, что вы не любите Шекспира…»
Девушка старалась унять охватывающую ее дрожь, но это не получалось. Ее трясло как в лихорадке, глаза заволокло грязным туманом, удушливым, как дым, змеей выползающий из высоких заводских труб, чтобы стелиться по низким, нищим улочкам, делая снег грязным…
— Что с тобой?
Аля не чувствовала уже ничего. Она била кулачками по приборной доске, по рулевому колесу, по панелям, По лицу мужчины, она металась, пытаясь открыть дверцу, билась в нее всем телом, царапала стекло… Прочь, прочь из этого холодного мира, из этого склепа, от этого призрака, безумца, ловко изображающего из себя живого… Прочь…
Она проваливалась в жуткую леденящую бездну и не чувствовала уже ничего.
Глава 64
Языки пламени плясали в ночи. Костер разбрызгивал горящие головешки далеко вокруг, и они шипели в снегу, как тысяча змей. Лицо словно горело, а у Али не было сил отодвинуться от костра. Ее пугал леденящий мрак за спиной. Ей казалось, что она сидит на самом краю пропасти, одно неловкое движение, и она полетит туда, в холодную бездну, откуда нельзя выбраться.
Она боялась всего. Боялась огня: он был свиреп и неласков, в любой момент он мог полыхнуть смертоносным, испепеляющим жаром и спалить ее, превратив в черную головешку, скрюченную, дымящуюся… Боялась холода и мрака. Боялась чего-то, затаившегося там, в пустоте… Боялась самой пустоты… Она понимала, что нужно просто сделать усилие и идти. Хоть куда-нибудь… Перейти эту ледяную пустыню…
Где-то там есть и тепло, и лето, и цветы… Где-то там ласковый шелест моря, тихий перезвон гитары, солоноватый запах подсыхающих водорослей… Где-то там…
Она шептала какие-то слова… И жалела, что не знает ни одной молитвы: может быть, тогда прекратился бы этот бесконечный круг страха…
Сил подняться и уйти не было. Вернее, Аля понимала, что она не сможет уйти. Как только она встанет, ноги заскользят по обледенелому насту, и неудержимая, беспощадная сила утянет ее вниз…
И еще Аля понимала, что это сон. Но он длился уже вечность. Она желала проснуться, щипала себя, просыпалась, но, не успев почувствовать облегчения, снова оказывалась в той же ледяной пустыне у того же огня, палящего, но не согревающего… Снова и снова… Снова и снова… Девушка знала, что силы ее на исходе…
Встать… Подняться и идти… Идти…
Девушка собралась с силами, примерилась, чтобы ступить и не поскользнуться у пропасти… И — проснулась.
Проснулась… Она чувствовала, как капелька пота сбегает по виску… Но не поспешила открывать глаза. Больше всего она боялась, что, как только сделает это, снова окажется в том же самом месте, у сыплющего головешками огня, но теперь наяву.
Попробовала пошевелить пальцами и ощутила под рукой что-то мягкое… Открыла глаза, произнесла тихо:
— Потап…
Взяла медвежонка на руки. Ей очень хотелось заплакать, но слез не было. Она сидела в машине. В той самой машине. А рядом, на водительском сиденье, спал человек в черном. Маэстро.
Дыхание его было мерным и спокойным. Зрачки двигались под сомкнутыми ресницами:
Маэстро тоже видел сон. Но он не был таким жутким, как у нее: лицо было спокойным и безмятежным.
Девушка замерла. Стекла автомобиля совершенно запотели, она не могла понять, где они находятся. За окном было светло, но свет этот был холодный и зябкий, словно светило не солнце, а бело-голубая звезда, плавающая в мерцающем тумане…
Аля тихонько перевела дыхание. Бежать? Куда? И — зачем? Чтобы потом всю жизнь замирать от страха, чтобы ледяной сон повторялся из ночи в ночь, из года в год?..
Тем не менее она тихонько двинула замок дверцы. Та открылась, без лязга, словно петли были смазаны маслом. Аля, стараясь не шуметь, стала медленно пододвигаться по сиденью к дверце. Перед собой, в узком треугольнике приоткрытой дверцы, она видела только край снега.
Теперь просунуть ногу и стать туда… Потом проскользнуть самой; дверцу не запирать, чтобы Маэстро…
— Разве тебе неинтересно со мной? — Голос Маэстро был насмешлив и бодр.
Аля обессиленно застыла на сиденье.
— Ты хочешь уйти? — спросил он.
— Ничего я уже больше не хочу. Ни-че-го.
— А вот это плохо.
— Где мы?
— На море.
— На море?
— Мы ехали всю ночь.
— А разве тогда было не утро? — Весь прошедший день мы спали. В машине.
— Я тоже?
— Да.
— Я… Я не помню ничего, кроме… бреда. Что со мной было?
— Нервы, — пожал плечами Маэстро. — Я вколол тебе успокаивающее, и ты проспала почти двадцать часов.
— Это был не сон.
Маэстро усмехнулся, пожал плечами:
— Кто из людей столь прозорлив, чтобы отличать сон от яви, а смысл от бреда?..
— Прекратите! Прекратите!
— Что именно?
— Нести постоянный вздор! Вы… Вы душевнобольной!
— Пожалуй. Как все мы. У кого не болит душа, тот мертв.
Аля беспомощно откинулась на сиденье.
— Что тебя беспокоит, куколка?
— Я не куколка, я — живая.
— А ты уверена?..
— Да! Вы… что вы за человек? Вы словно играете свою жизнь… Как на сцене! Вам от этого не тошно? Ведь жизнь не пьеса…
— Разве?.. Ах, милая девушка… Вы и не представляете себе, в какую точку вы попали… Действительно, все слишком похоже… Вы скажете, что в литературном произведении, скажем у Пушкина, Шекспира или иного великого маэстро, все слишком организованно?.. А жизнь — полна случайностей и недоразумений? Ничего, вы слышите, ничего в ней нет случайного! Ни наша встреча с вами, ни ваша встреча с Гончаровым…
— При чем здесь…
— Жизнь — действительно пьеса. И автор ни одной ремарки не написал зря! И если кто-то не понимает смысла действа… Ну что ж… Не всем быть героями-любовниками, в театре нужна и массовка… С одной только разницей: каждый сам выбирает, какую роль играть.
— Да? Я свою — не выбирала.
— Это только кажется. Мы сами прописываем и сценарий, и действо… Ты понимаешь, девочка, в любом литературном произведении есть уровни… — Маэстро заговорил вдруг спокойным, хорошо поставленным голосом, будто лекцию читал:
— Первый — это уровень сюжета; он отвечает на вопрос: что происходит? Или — «про что кино».
Второй уровень — уровень темы. Он говорит нам, что есть жизнь и что в ней чего стоит… А третий… Третий — уровень сущего… Его можно только почувствовать.
Он сметает первые два, они не важны, потому что все было до нас, все будет после… И это не важно… А важно только то, что останется после нас и останется ли хоть что-то… Уровень сущего… Как жаль… Как жаль, что люди не любят Шекспира… Они и продолжают жить просто так…
Мы живем просто так. Среди старых долгов. Не тревожит ни мрак, ни знакомость шагов. Мы живем просто так. Среди окон чужих. Не печатаем шаг, никуда не спешим. Мы живем просто так, по привычке живем. Ставни кроем под лак, чтобы выглядел дом. Мы живем просто так. Дела попросту нет До горячности драк, до азарта побед… Мы живем просто так. По-серьезному, всыть. Не до конных атак. Время есть. Время пить.Едят и пьют… Забывая, что времени у них очень немного… Однако успевают ненавидеть! И еще — завидуют, негодуют, разбрызгивают слюну, убивают, жуют, жуют, жуют… И ты хочешь, чтобы я относился к этим животным по-человечески?..
Да, они не могут быть душевнобольными: у них нет души! Это люди… другого спряжения! Помнишь школьную считалочку? Как там? "Ко второму же спряженью отнесем мы без сомненья… Смотреть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть…
Гнать, дышать, вертеть, и зависеть, и терпеть… Зависеть и терпеть…" Вот их удел… А я не могу зависеть… Ни от кого и ни от чего… Кроме… — Маэстро перевел дыхание, закончил:
— Кроме смерти.
Он чиркнул спичкой, прикуривая.
— Большинство людей в театре, именуемом жизнью, видит лишь цепь глупых, случайных событий, смысла которых они не понимают, потому что не желают понимать!.. Им так спокойней. Им так надежней. Им так проще. Всего лишь уровень сюжета… — Маэстро вздохнул тяжело. — У людей не хватает отваги признать, что жизнь конечна… У людей не хватает мужества признать, что душа бессмертна… Но не у всех. Только у тех, у кого она есть.
Он замолчал, грустно и скорбно. Потом добавил:
— К сожалению, я плохо понимаю людей. Их хорошо понимает Лир. Именно поэтому король он, а не я.
Аля старалась дышать вполвздоха. То, что этот человек — сумасшедший, очевидно.
Но… Как отыскать грань между безумием и гениальностью? Как ни странно, он стал ей понятнее: как-никак больше трех месяцев она провела в «доме скорби» и научилась не бояться психов только потому, что они не вполне нормальны. Этот — агрессивен. Но только в определенных ситуациях… И еще… Кажется, он не склонен к сексуальному насилию. Хотя об этом судить рано.
Девушка протерла стекло. Их автомобиль стоял на высоком холме. Действительно, недалеко, метрах в ста, покойно дышало море. Издалека, в утренней дымке, оно было серым и маслянистым, словно разлившаяся ртуть. Ветра не было.
— Хочешь кофе? — вдруг совершенно буднично предложил Маэстро, словно они сидели где-нибудь в хорошем ресторане, где к их услугам вышколенные официанты и невозмутимый мэтр, а не у черта на куличках.
— Хочу.
— Это уже лучше.
Маэстро закрепил в штативах специальный кипятильник, работавший от автомобильного аккумулятора. Вода закипела через минуту. Мужчина достал чашки, несколько бутербродов, сахар в дорожных, по два кусочка, пакетиках.
— Я — опытный командированный, — хмыкнул он самодовольно, и Але на секунду стало смешно: словно он и впрямь — обычный командированный, приехавший к Черному морю выбивать у местного рыбоколхоза бартерную селедку в обмен на запчасти трактора «Кировец».
Она едва сдержала готовый сорваться с губ смешок: ей вдруг стало очевидно, что стоит только начать, и она уже не остановится, и снова — истерика… Нервы совсем никуда стали. Еще немного — и она сбрендит окончательно и попадет в какой-нибудь местный дурдом с самым противным диагнозом. Или, что еще хуже, начнет «склонять» и «спрягать» людей с автоматическим пистолетом в руке…
Возможно, тогда Маэстро покажется ей вовсе не шизиком, помешанным на власти и смерти, а суперменом. Вполне в духе времени.
Маэстро передал ей чашку с дымящимся кофе, спросил:
— Бутерброд?
— Нет. Не хочу. — Аля помолчала. Отхлебнула обжигающего напитка. Еще глоток.
Еще. Холод, мучивший ее с самого пробуждения, теперь, словно свернувшийся клубком змей, где-то затаился, но не исчез… Девушка тряхнула головой; слава Богу, все реально, море, автомобиль, мужчина рядом. А это значит — нужно действовать. Повернула голову к Маэстро, произнесла решительно:
— Но я хочу знать: где мы, что собираемся делать и почему?
— Мы на берегу моря, а собираемся лезть под землю.
— Куда?
— Под землю. В приморские катакомбы. По преданию, здесь около двух тысяч километров коридоров! Вполне могли бы прокопать путь из варяг в греки, а?
Сигарету?
— Да. — Аля была озадачена, но постаралась не показать своего испуга или удивления. Маэстро протянул девушке пачку, щелкнул зажигалкой, прикурил сам.
— Все просто. Как белый день. — Потянулся к ее ногам, подхватил плюшевого мишку:
— Все дело в этом симпатичном зверьке. И в тебе. Секундочку…
Маэстро извлек откуда-то маленький ключик, покрутил несколько раз, поставил медведика на «дипломат». Зажужжала пружина, мишка задвигал лапами, начал качать головой и притопывать…
— Каково? — Маэстро смотрел на девочку взглядом зоолога, только что научившего разговаривать макаку, — Люди эгоистичны: они желают заставить подражать себе всех…
— И — что? — осторожно спросила Аля, внутренне сжавшись как пружинка. Черт его знает, этого Маэстро; шизуха у него странная, и что с ним произойдет в следующую минуту?.. Он может прямо сейчас отчитать монолог Гамлета, спеть арию Мефистофеля или… Или — перерезать ей горло…
— Он ведь не танцевал раньше?
— Нет. Сломался.
— Во-от! — Маэстро затянулся дымом, прикрыл глаза, словно сытый кот, отдыхающий на теплой завалинке. — А теперь поговорим о твоем отце. Не возражаешь?
Аля мотнула головой. Хотя что нужно сделать, если согласна, мотнуть или кивнуть, она уже не понимала. Или Маэстро нарочито старается сбить ее с толку, меняя темы? Нужно просто быть внимательной.
— Он был одним из кураторов проекта под поэтичным названием «Снег». Чтобы не углубляться в детали: это был проект по производству и распространению наркотиков. Конкретно — героина.
— Так мой отец…
— Погоди. Да, наркотики — это смерть. И Барс решил поломать проект. По человеколюбию. Как бы смешно и глупо это ни звучало… Но он был умен. Вернее…
Он совершил одну глупость: стал искать выходы на ГРУ… При том положении вещей, что существовало тогда, у него не было другого выхода.
Один из высших руководителей проекта, Никита Григорьевич Мазин, среди своих — Кит, тоже пришел к выводу, что эту торговлишку нужно сворачивать. Но не совсем: просто необходимо поработать на себя. У него были хорошие связи с преступностью, у него были хорошие тропы на Запад и, надо полагать, устные договоренности с западными и американскими оптовиками, занимающимися героином. Я думаю, учитывал он и будущие возможности нашего рынка наркотиков. И решил делать свою игру.
Выяснить, что Барс тоже ведет свою, Мазину помогли люди, курировавшие его самого. Некий Лир. На которого работал я. Мазин решил устранить Барса. Задала непростая, учитывая его подготовку… И, по правде сказать, твой отец был мне…
— Маэстро помедлил, потом произнес:
— Симпатичен. Хотя… Хотя я никогда не понимал его отношения к стаду…
— К чему?
— К людям. Как тогда выражались, к «простому советскому человеку». Он всегда полагал, что обязан служить. Странная психология… Барс с повадками служебной собаки — зверь, обреченный на вымирание… Так вот, Мазин решил ликвидировать Барса, и послал ту самую группу, «эксов». Нужно сказать, твой отец что-то почувствовал: он забрал тебя, Наташу и скрылся в неизвестном направлении. Как вас нашел Мазин — я не знаю. Но тут у него самого случилась накладка: ссора с подельниками из криминалов… Да, времечко было… Каждый хотел начать свою игру, забывая, что те, кто крапит колоды, занимаются этим давно и вполне профессионально… Впрочем, игровых столов тогда было в избытке, а за всеми не уследишь…
Уголовники попросту похитили Кита, как какую-то шпану. И знаешь почему? Твой папа сделал уж очень верный ход: все запасы товара он изъял из особого тайника в одной азиатской республике и переправил неизвестно куда!.. Это была его страховка, надежнее которой трудно себе представить: товар стоимостью тридцать-сорок миллионов долларов! Очень хорошие деньги! Это два здоровенных мешка, если сотенными бумажками! Я вижу, тебя это не впечатляет?
— Нет, не впечатляет.
— Вот и меня не особенно. Но не все в этом мире такие бессребреники. Времена слегка переменились: деньги стали властью, а власть — это самый дорогой наркотик.
Дальше события развивались совсем быстро: мои боссы обратили внимание на резвую активность Мазина; вместе с одним приятелем я отбил этого дяденьку генерала у супостатов… Тут и выяснилась новость: он уже отдал приказ на ликвидацию Барса!
Попытка связаться с «эксами» провалилась: по-видимому, уже началась огневая схватка и связь оказалась поврежденной. Приказ отменить было нельзя. Барсу не повезло. Мазину — тоже. Ему свернули шею.
Потом я вылетел на место. Узнал, что, по-видимому, ты осталась жива. Устранил всех «эксов», кроме Краса: на него приказа не было. Потом еще кое-кого зачистил… Кстати, девушка, ты понимаешь, зачем я тебе все это рассказываю?
— Да, — тихо произнесла Аля. — Я еще не поняла, зачем я вам нужна. Но после того как необходимость отпадет, вы меня убьете.
— Губить такого хищника, как ты? Это пошло и недальновидно. Не говоря о том, что жалко. В мире овец барсы рождаются не так уж и часто. Просто… Я тебя вербую.
— Вербуете?
— Да. Ты ведь не сможешь жить как все. А я сразу хочу предложить тебе ха-а-арошую работу.
— Не получится. Наверное, я в папу. И в маму. Как вы рыражаетесь… Бракованный хищник. Я не считаю людей скотом.
— Это легкое юношеское заблуждение. Оно пройдет, и даже скорее, чем ты себе можешь представить. Тем более я не собираюсь торопить время.
Глава 65
Аля вытянула из пачки сигарету, прикурила:
— А при чем тут медвежонок?
— Барс был убит, — продолжил Маэстро, похоже даже не услышав ее вопроса. — Наташа — тоже. Ты — пропала. Я попытался навести справки о тебе, но безрезультатно: ты пропала на стыке времен. И подключить всю мощь системы на твои поиски оказалось невозможно. Девяносто первый, девяносто второй…
Миллионные миграции на постсоветском пространстве… Как у Шекспира? «Распалась связь времен…» Всюду война, вялотекущая, как шизофрения… Искать было бесполезно. Да и всплыли новые задачи. Так сказать, тоже вялотекущие.
Не мог я поверить, чтобы Барс никому не передал тайны. Хотя бы иносказательно!
Лучше всего — родной дочери.
— Но ведь тогда бы я стала…
— Секретоносителем?
— Не знаю, как это правильно назвать… Но на меня началась бы охота. Вряд ли мой папа стал бы меня так подставлять. Я помню: он меня любил… И маму — тоже…
— Ты не понимаешь! Он был профессионал! И мог заложить информацию таким образом, что ты стала бы неуязвима!
— Неуязвима?
— Ну да! Ты должна вспомнить нечто, что известно только тебе… И — интерпретировать это знание, наложить его на другое, только тебе известное знание! Такая «закладка» не поддается «извлечению» ни с помощью пыток, ни с помощью химии! — То есть я обладаю информацией… — О контейнере с героином на тридцать миллионов долларов! По самым скромным меркам! Хорошую страховку придумал тебе папа?
— Как знать… — пожала плечами Аля.
— Я знаю! Я! Мы же потом вверх дном перевернули и вашу московскую квартирку, и этот домик! Ни-че-го. Ты же — как канула.
— Так при чем тут все-таки мишка? Он что, тоже…
— В него Барс вложил капсулку с листочком бумаги. Собственно, тем, кто мог бы тебя искать, понятно, что они ищут. На бумажонке — план некоей местности…
Вернее, некоего сооружения…
— Но я же могла и не захватить мишку! Он мог потеряться тысячу раз, и вообще!..
— Вот именно! Предположим, Барс принял огонь на себя, ты спаслась, — а так и вышло! — и мишку нашли. Раскурочили. Отыскали записку. Что бы узнали поисковики?
То же, что и я: товар находится в причерноморских катакомбах! А туда можно запускать не то что дивизию — армию и ничего не найти!
— И сколько там героина?
— Контейнер.
— Контейнер не иголка…
— Для катакомб это — меньше чем иголка! А на записке той — приписочка: «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам».
— Где-то я уже слышала это изречение.
— Вполне возможно. Это Евангелие от Луки. Что пришло бы в голову тому, кто прочел бы? Знает девочка. То есть ты. Но пока мала. Даже если бы тебя тогда нашли, ждали бы, пока ты вспомнишь то, что должна. Хотя… тебе повезло.
— Потому что узнали бы и убили?
— Да.
— Зато теперь не повезло.
— Как знать, как знать… Когда началась вот эта вот операция в Княжинске, ты появилась, точно призрак… Сразу вспомнилось про исчезнувший контейнер. Своих боссов я об этом информировать не стал.
— А Крас?
— У этого дебила ума не хватило бы догадаться… В последнее время он стал совсем ненормальный.
— Если вы разыскали мишку, значит, и рюкзачок тоже?
— Нет. Да рюкзак мне и не нужен был. Вернее…
— А где вы меня нашли? Я ничего не помню.
— О, это было просто. После схватки с людьми Автархана мы тебя просто-напросто подобрали на дороге.
— А вы…
— Нет. Мы не успели вмешаться в схватку. А когда подъехали, ты была не в себе.
Мы загрузили тебя в автомобиль, доставили в особнячок… Признаться, я попытался прокачать тебя с помощью последней модификации скополомина… Впрочем, в дозах я не усердствовал, да и какие вопросы формулировать — было неясно.
— Вопросы?
— Любые модификации «сыворотки правды» лучше всего действуют при вопросно-ответной системе. Ты же — бредила… Кстати, твоего плюшевого медвежонка упоминал еще Крас. Им ты тоже бредила. Называла Потапом и просила найти дорогу через горелый лес… Я же отправился к людям Автархана. Узнать, где находится его особняк, не составило особого труда. Единственно, что меня удивило: там не было ничего, кроме двух трупов… Впрочем, и у людей и у воронов это естественно: слетаться на падаль.
— В смысле?
— Я решил, что коллеги Автархана уже побывали в этом милом особнячке. И свели балансы по счетам… Как там в песне поется? «Все счеты кончены и кончены все сроки…» Я же искал медвежонка. И — нашел. Прощупал, извлек капсулку. Прочел.
Все совпало с моими предположениями. Теперь тебя нужно было беречь.
— Вы и берегли, — горько усмехнулась Аля.
— Естественно.
— А как же тогда Крас… Ведь он… Ведь он едва не убил меня!
— Кто поймет, что у психа в голове? Я запретил ему даже приближаться к комнате, где ты находилась. И не ждал, что он нарушит запрет.
— Почему?
— Еще никто ни разу не посмел нарушить какое-то мое распоряжение. Если собирался жить дальше.
— На этот раз вы ошиблись.
— Ошибся, — согласился Маэстро. — Видно, Крас не собирался больше жить.
Аля слушала этого человека и никак не могла понять, что же он такое на самом деле? Сейчас, когда Маэстро перестал играть, сыпать цитатами и разыгрывать сцены из сочиненных кем-то или благовыдуманных им самим трагедий, он стал так сер, неинтересен, банален, что… Такой человек не мог совершить все то, о чем ей рассказывал! Выходит, Маэстро и теперь играл? Играл бесцветного, недалекого парнишу?..
Девушка чувствовала себя в капкане. Или этот человек так дьявольски умен, что временами кажется полным примитивом, либо, напротив, настолько примитивен — но и образован при этом! — что порой его принимаешь за гения…
Маэстро тем временем замолчал, уставившись в одну точку. Глаза его словно подернулись поволокой… Аля беспокойно взяла сигарету, щелкнула крышкой зажигалки раз, другой… Она хоть как-то пыталась привлечь его внимание.
— А ты говоришь — случай… — произнес наконец Маэстро.
— Говорю?..
— Все не так. Ведь Крас всю жизнь, всю свою жизнь боялся этого своего шрама! И душил девок как котят… Он знал… Знал, что кончит жизнь именно так: нарвется на рваный бутылочный остов! Как и то, что убьет его когда-нибудь девчонка! Знал!
Лицо Маэстро снова посерело. Привычным движением он вынул из коробочки облатки, проглотил их… Глаза его стали пустыми, как жерла стволов… Благородные черты обезобразила судорога; прошло не меньше минуты, прежде чем Маэстро пришел в себя. Зрачки его были расширены, будто он постоянно терпел почти непереносимую боль… Маэстро опустил веки, а когда заговорил, голос его был тих и внятен:
— Люди перестали быть бессмертными, когда разучились понимать язык воды и камня… Только мертвой душе камни кажутся неживыми; просто они — долговечнее нас и потому — куда справедливее… А люди злы и лукавы… Они разучились слышать шум дождя, ощущать запах леса, любоваться морем… Когда-то древние считали, что задача поэтов — не создавать мир, а лишь раскрыть красоту существующей в этом мире гармонии звука, света, слова…
Ласточек стаи в гнезда забились свои, Свежестью леса остро запахло вокруг — Близится вечер. Дождь по соломе стучит, — Радостно слушать капель немолкнущий стук; — произнес Маэстро, словно обиженный ребенок, опустил Руголки губ, и лицо его стало похоже на грустную театральную маску.
— Избранные. Они единственные оставляют после себя хоть что-то важное в этом мире… Шелест листьев… Запах теплой пыли… Шум дождя… Как жаль… Как жаль, что люди не любят Шекспира… Как жаль, что я Маэстро, а не Моцарт… Как жаль…
Аля слушала, и ей казалось, что у нее кружится голова… Ей подумалось вдруг: этот человек похож на пропасть. Он поражал и пугал одновременно; притягивал, как притягивает бездна, кружил голову, как кружит ее сладкое предвкушение смертного греха, манил губительным очарованием…
Девушка посмотрела на море. На душе было ясно и пусто. Маэстро… Он не был ни плохим, ни добрым, ни злым… Он был холодным.
— Маэстро, — тихо произнесла Аля. — По-моему, вы незаурядный человек, но… Но когда-то попали не в ту колею… И еще мне кажется… Вы не в ладах с этим миром.
Маэстро помрачнел. Жестко свел губы:
— Да. Я с ним не в ладах. Мир этот тускл и безумен, он мечен смертью и обречен ей. Я же… Просто стараюсь исполнить назначенное.
Маэстро снова замер, произнес вдруг:
— А ведь тебе нравится…
— Что? — не поняла Аля, чувствуя только, как сердце улетает куда-то вниз, в пустоту…
— Ведь тебе нравится убивать… — вкрадчиво повторил Маэстро.
Мысль была яркой, как вспышка. Аля словно окаменела. Именно сейчас он решит, что с ней делать… Поэтому… Сейчас ей нужно соврать. И — ни в чем не сфальшивит. Ни в чем. Кем бы он ни был, этот человек, но фальшь он чувствует, как музыкант… Ну да, он же Маэстро…
Аля закрыла глаза… Попыталась представить себя с пистолетом, зажатым в руках… И там, на мушке, — расплывающаяся фигура… С лицом, разрубленным шрамом… Но увидела почему-то лежащего в луже крови Краса, хрипящего, с перерубленным кадыком… Ей сделалось совсем нехорошо, и девушка снова сосредоточилась на первой картинке: она с оружием и там, далеко, ее враг — в виде мутного, расплывчатого силуэта…
Пора отвечать. Девушка знала, что Маэстро ждет ее ответ. И еще она знала, какой ответ он ждет.
Аля взглянула прямо в черные, расширенные зрачки… Ей снова стало жутко, будто она застыла на краю бездны…
— Тебе нравится?..
— Да. Нравится, — едва слышно произнесла Аля.
Он смотрел ей в глаза не отрываясь, и она, будто загипнотизированная, не могла отвести взгляда.
Губы Маэстро скривила гримаса, которую можно было бы принять и за улыбку…
Аля прикрыла глаза, обессиленно откинулась на спинку сиденья. И не чувствовала ничего, кроме усталости. Дикой, животной усталости. Глаза слипались, под веки словно насыпали толченого песка с солью… Только бы не истерика, только не истерика… Она слишком устала от этого неравного, затянувшегося поединка… Но вместе с тем… Вместе с тем девушка поняла, почувствовала: пусть она и не выиграла, но и не проиграла. Пока не проиграла.
Глава 66
Микола Карамаз был бодр и возбужден. Вчерашнее похмелье прогнал доброй чаркой горилки, выхлебал литровую миску наваристого борща и покойно отдыхал, покуривая духовитую самокрутку: в огороде его росли кусты доброго самосада, никакого другого табака он не признавал — химия. Вот его батяня: смолил всю жизнь, как паровозная труба, а свои восемьдесят семь прожил как здрасьте. И никаких тебе хворей, окромя утрешнего кашля, но и тот батяня считал полезным: дескать, вся зараза с ним сходит. И помер легко: займался чем-то в сараюхе, присел на завалинке передохнуть да больше и не встал.
Карамаз услышал урчание мотора, выглянул в окно. Явились не запылились.
Казаки подтягивались. Хотя какие они к шуту казаки! Сброд всякий, каждой твари по паре, но с ими сподручнее: чего скажешь, то и исполнят. Еще четыре года назад он взялся атаманить в трех станицах по берегу, благо никому оно сильно не надо было. А вот ему — надо. Подгреб под себя рынки да хобар с летних отдыхающих.
Пусть их и небогато стало, а лучше, чем ничего. В Первомайском, там Сема Хвостовой атаманил, да шибко жадный до грошей оказался: пансионат ему, вишь ты, глянулся. А там — иные денюжки пляшут. Схоронили Сему чинно, да и забыли. А он, Микола Карамаз, в самой середочке оказался: должны же какие людишки за порядком в тех пансионатах по зимней поре присматривать? Вот он и взялся со товарищи. А там и за колхозной — да какая она теперь колхозная! — собственностью. Винзавод совсем немалые денюжки кому-то несет. Правда, меньше, чем от той кавказской ханки, что из Осетии в Россию гонют, а все же. Главное — не жадничать. Течет кое-какая деньга, и хорошо.
Старания Карамаза оценили: навесили погоны старлея и дали уж теперь законную власть. Правда, самостоятельные казаки давно плюнули на его затею, а что с них толку? Никакого, по правде говоря. А на верхах нашелся ктой-то сильно головатый: к Карамазу стали подсылать вроде на побывку да для охраны тех же санаториев оторванных хлопчиков; отсиживались они в станицах кто после Приднестровья, кто после Абхазии, а кто — с Чечни. Вроде как псы войны, да не одиночки, а так, мясо. Ему было ведено к охранному делу их приспосабливать и следить, чтобы не бедокурили. Не, кто-то умный сидел в области: коли что, выдергивай наймитов да отсылай повоевать; много за них, видать, не платили, но большие деньги из маленьких ручейков сливаются. Правда, какие поволчистее — долго не усиживались, пропадали невесть куда. Подозревал Карамаз: воевать подавались безо всякого указа. Мучились, видать, они без душегубства, как наркоманы без зелья. Хм…
Чего-чего, а зелья здесь было навалом: еще когдась какие-то пришлые привезли травку с Оренбурга да втихаря засеяли: прижилась. Вот и эти «постояльцы» — тож прижились. С осени до весны.
Правда, и такие случались, что права качать начинали да свои правила строить; с такими Карамаз не цацкался: силой Бог не обидел, как-то зашиб двоих кулачищами до смерти, да при всей братве: зауважали. Да и вожак ихний, Бульдогом его все кликали, уж очень морда похожая да и свиреп, из области присланный вроде как комиссар при их, тож серьезный был мужчина: боялись те волонтеры его. Не глядя на то что побитые каждый на голову.
И то правда: без страха никакой власти быть не может, всякий порядок только страхом и держится, и больше ничем.
А ночью возьми да и позвони из области Костька Шаповал: дескать, в вашенские степи какой-то безголовый отморозок подался, на джипе да с девкой. В Крамогорске, баял, четверых парнищ в кровище потопил, а среди других самого Бурнаша укоротил, да не просто, а на всю голову… Потом — стихи читал, что твой артист Тихонов. Известное дело: псих. Так Шаповал велеть не велел, а насторожил: коли появится, валить гада вмертвую. И еще, тот, дескать, спецназовец бывший какой, и с им беречься треба.
Видать, Бульдогу Шаповал звонил особо. Побудил тот свою охоронную братву ни свет ни заря, разослал по окрестностям, блюсти, значит, да к нему, Карамазу, чуть засветло заявился: дескать, коли что, своими ментовскими погонами потом все покроешь. Карамаз хотел было свой наряд поднять, да Бульдог остерег: не треба.
Он, Микола Карамаз, не дурак, да и не был им никогда: из-за маньячишки можно, конечно, и этих волчарников поднять, да это вряд ли; просто у кого-то голова на плечах гарно сварила: казацкая-де самооборона завалила супостата-кровопускателя, защищая мирных селян, а поскоку пуляют они с охотничьих ружей да карабинов, жаканом да картечью, то и опознать не будет никакой возможности. Правда, обмолвился Шаповал: девка с ним, с душегубом спецназовцем тем, уж полюбовница или подельница — Бог весть, а тока ее подранить хорошо бы, но доставить в область или хоть в район головой. Не убитую.
А может, оно и к лучшему. Как эти живопыры без дела засидятся, так и жди поножовщины промеж друг дружкой, а то и вообще шалить начнут, станичных задирать: нервные, что кобели неповязанные… А так, глядишь, угомонятся хошь до весны, а там и разбредутся по войнам. Не, нервная у него, Карамаза, все же работенка: прибыток — это еще бабушка надвое сказала, а случись что, греха не оберешься. Ну да взялся за гуж, так и хлебай за семерых. Полной ложкою.
Бульдог ввалился в управу, будто к себе в хату, взбудораженный, как поднятый с недосыпу ведмедь.
— Вроде отыскали голубчика, — выговорил он без «здрасьте», скороговоркой, спросил:
— Водка есть?
— Как не быть…
— Плесни, Микола Николаевич, сто пятьдесят.
Выпростал стакан, как воду, выдохнул:
— Джип стоит под Рыжими сопками. Видать, хозяин-то в катакомбы намылился. Если уйдет — пиши пропало: не выкурим.
— А верно — он?
— Он. В черном во всем, как ориентировали.
— Ну-ну. Может, мне со служивыми подтянуться? Народу-то у тебя сколько станет?
— Народ в поле. А у меня — солдаты удачи, мать их… — весело осклабился Бульдог, нижняя губа его притом вроде обвисла вниз, а нижняя челюсть казалась выступающей вперед. Кликуху ему кинули, как здрасьте: в цвет.
«Солдаты удачи», как же… Душегубы, одно им название. А удача, она за убивцами не ходит: тока что лукавый златом-серебром поманит да и заберет ее, удачу ту.
Вместе с головушкой. Карамаз, он повидал всякого.
— Ты это… Иваныч, — начал Карамаз.
— Ну?
— Джип-то евонный, поди, дорогой?
— Да они все недешевые…
— Вы это… Не дырявили бы его шибко. А то твоим архаровцам только дай… Коли машина справная, чего уж добро на ветер пускать.
— Учту, Николаич, — пообещал Бульдог, добавил:
— А там уж как сложится.
Головорезы во дворе чтой-то гомонили, будто пьяные.
— Садись! — крикнул в приотворенное оконце Бульдог, и те попрыгали в машины. А у самого «комиссарушки» глаза стали злы, но плескался в них, будто искры в руде, переливом, огнем, острый азарт. А то: как-то он, Карамаз, секача по редколесью сторожил, дак сердечко, как кусты те затрещали, из груди рвалось, будто на первую девку залезть собирался. А на человека охотиться, видать, куда как хлеще!
Знать, сладость такая, что вязнут эти псы в той охоте, как мухи в меду: насмерть.
Небо прояснилось неожиданно. И на волны, и на все окружающее словно кто-то брызнул яркой краской: море заиграло бликами по поверхности, храня свое могучее спокойствие в темной глубине, как тайну; сопки стали рыжими, будто кора старых сосен; пожухлая трава перестала казаться серой жеванной бумагой, засеребрилась, и даже далекие с высокого берега камешки гальки заиграли живыми мазками кисти Анри Руссо…
И воздух, казавшийся сырым и влажным, стал чище, прозрачнее: туман рассеялся, и море сливалось с небом где-то там, далеко, за дымным горизонтом…
Аля вышла из машины, подошла к краю обрыва и замерла. Маэстро застыл рядом.
— И куда мы теперь? — спросила девушка.
— Как всегда, — хмыкнул Маэстро. — Вперед и вверх. Девушка исподволь окинула мужчину взглядом: сейчас он казался вполне нормальным. Спросила:
— Так что я должна вспомнить?
— Ты больше ничего не должна. Никому и ничего, — услышала она сзади голос и почувствовала, как спина будто покрылась изморозью.
Реакция Маэстро была мгновенной: одним движением он притянул ее к себе, и девушка почувствовала прижатый к виску «зрачок» пистолета.
— Ну? — спросил он довольно насмешливо. — Будем играть в пиф-паф или…
Олег Гончаров стоял метрах в тридцати; в руках у него было оружие. Аля почувствовала, как бьется сердце… Он жив… Жив! Но каким образом он…
Скосила глаза на Маэстро и увидела, что лицо его бледно и абсолютно спокойно. На губах блуждала странная улыбка.
— Ты пришел убить меня? Забавно… Стрелять с двадцати пяти метров для тебя слишком рискованно, стрелок ты всегда был неважный… А я — не промахнусь…
Внезапно одним движением он оттолкнул Алю в сторону и нырнул кувырком куда-то вниз… Через мгновение он был уже на ногах, в каждой руке зажато по пистолету, и оба направлены на Гончарова. Между противниками осталось не больше пятнадцати метров.
Улыбка на лице Маэстро казалась нарисованной. Мужчины двигались каким-то странным полукругом, не сводя друг с друга стволов. Их перемещения напоминали старинный танец, полный грации и изящества, но движения были скупы и точны: каждое лишнее или поспешное могло стоить жизни кому-то из них. А скорее всего — обоим.
— Ты спасся, Гончий? — разлепил губы Маэстро.
— Как видишь.
— Ты пришел убить меня?
— Как получится.
— Никак не получится.
Аля замерла. Она боялась любым неловким движением вмешаться в поединок: расстояние слишком мало, пуля — слишком фатальна.
— Как ты меня нашел?
— Немного везения.
— Зачем?
— Мне нужна девушка.
— Вот как?
Мужчины не отрывали взгляды друг от друга. Маэстро замер на месте, словно матадор; Олег тоже стоял недвижно. Аля до крови закусила губу и закрыла лицо руками.
Маэстро медленно снял пистолеты с боевого взвода, опустил оружие.
— Ты не станешь стрелять в безоружного. К тому же.. у — Пусть на мгновение, но взгляд Маэстро словно заволокло дымкой… — Смертью здесь распоряжаюсь я.
Гончаров медленно опустил пистолет.
Маэстро присел на камень, вынул из кармана пачку сигарет, зажигалку, прикурил, с удовольствием выпустил дым.
— Ну? Поговорим? Погоды стоят чудесным… Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы… — Маэстро усмехнулся, но очень невесело. — А убить друг друга никогда не поздно.
Олег неторопливо подошел к Маэстро, присел рядом:
— Сигаретой угостишь?
— Запросто. — Маэстро протянул ему пачку, зажигалку. Усмехнулся:
— Но Минздрав предупреждает…
— Я помню.
Олег неторопливо закурил. Мужчины сидели рядом и мирно дымили, словно собрались выезжать на пикник или рыбалку. Так прошла минута. Маэстро прищурился от попавшего в глаз дыма, произнес:
— Забавно.
Все произошло настолько быстро, что Аля не могла опомниться. Голос Олега, холодный ствол у виска, мужчины с направленным друг на друга оружием. А сейчас оба сидят рядком и покуривают. Смолят себе сигареты на краю обрыва в полсотни метров, словно затем они и приехали на морское побережье: воздухом подышать и о былом посудачить. А в чем оно, это былое?
Злость пришла неожиданно. Аля приблизилась к обоим:
— Офицеры, угостите даму папироской!
Маэстро протянул ей пачку, Олег чиркнул зажигалкой.
— Ничего, если я посижу рядышком немного? Стоять устала.
— Аля… — тихо сказал Олег.
— Я считала тебя мертвым, — произнесла девушка, едва сдерживая слезы.
— Там, в машине, у меня был болевой шок. Пуля попала в какой-то нерв. Но мне повезло: она пробила сиденье и застряла меж ребер…
— Ты был как убитый. Крови было много. Все сиденье в крови.
— Задело. Какое-то время был без сознания, а как пришел в себя, попытался выбраться из машины и — снова свалился…
— Как ты влез во все это? — резко спросил Маэстро, в упор глядя на Гончарова.
— Случай. Кстати, ты знаешь, что Аля…
— Дочь Барса?
— Да.
— Знаю.
— Зачем вы взяли ее в разработку, Маэстро? Тот усмехнулся:
— Вот тут уж действительно случай.
— Олег… — перебила их Аля. — Как ты все-таки выжил?
— Меня подобрала братва.
— Разве у Автархана кто-то еще остался? — удивленно приподнял брови Маэстро.
— Это были ребята другого авторитета. Они называли его Кондрат. Видно, подъехали подобрать раненых; единственным раненым оказался я. Меня приняли за одного из бойцов Автархана. В чувство привели довольно скоро. Очнулся в загородной резиденции: прекрасная комната, уход. До моего сведения довели, что этот Кондрат не вполне понимает происшедшее и с моей помощью хотел бы разъяснить ситуацию.
Допрашивать не стали, ждали самого…
Ну а поскольку задерживаться не входило в мои намерения… Как удалось узнать, никакой девушки они не обнаружили. Я должен был найти Алю. Как только малость оклемался, скрутил стороживших меня братанков, попутно узнал месторасположение особняка Автархана и двинул туда. Понятно, на заемном авто.
— Так это ты был там до меня и навалял столько трупов? — спросил Маэстро.
— Они не хотели искать взаимопонимание.
— Ты нашел медвежонка?
— Да. Раньше, чем ты.
— И записку в капсулке?
— Естественно…
— И…
— Да. Когда ты появился в особняке, я был еще там.
— Красиво, Гончий, красиво… Ты дал мне забрать игрушку и… Ну да: место встречи изменить нельзя. Но… Почему ты не попытался меня захватить или проследить за мной?
— Захватить? Маэстро?..
— Да, это я погорячился. Но приделать мне «хвост»?..
— Ты будешь смеяться, Влад, но у этой иноземной штуковины, что я позаимствовал у братвы, подсел движок. Железного коня пришлось бросить. До города добирался электричкой.
— Забавно. Сюда ты тоже пришел не убивать меня… Или тебе стало жалко… так сказать, старого боевого товарища? — Маэстро слегка поморщился. — Это непрофессионально. Ты бы мог легко снять меня из винтовки с самой плохонькой оптикой.
— Если бы она была…
— Нужда заставит пироги с маком есть… Выходит, нужды не было. А все-таки.
Гончий… На кого ты работаешь?
— А ты?
— Ребята… — Аля прищурилась, словно рассвирепевшая дикая кошка. — Я вам не сильно порчу этот милый междусобойчик? Так, может, тогда пойду? Если, конечно, никто из вас не решил застрелить меня, как этого… — Она наморщила лоб. — Секретоносителя.
— Аля… ты извини… — Гончаров тихо взял ее руку. — Помнишь, я рассказывал тебе о нашей группе… Той, которой командовал твой отец?
— Да. Ты сказал, что вас предали или подставили и вся группа погибла.
— Нас тогда осталось трое. Барс, я и…
— Маэстро?
— Да. Маэстро.
— «Служили два товарища, ага…» — тихо напел Маэстро.
А девушка вдруг услышала в его голосе такую затаенную тоску, какой и предположить не могла в этом ледяном человеке.
Глава 67
— Итак, Гончий? — напряженно произнес Маэстро. — Кто начнет?
— Важно, не кто начнет, а кто закончит. И чем. Как героин попал в сумочку к Але?
— Операция прикрытия.
— Ты же сказал…
— Нет, ее в разработку не вводили. Она — случайный контакт. А дальше… Кто-то из воров просто-напросто украл рюкзачок, обнаружил порошок, и понеслось…
— Что прикрывали наркотой?
— Ты хочешь это знать?
— Да.
— Уверен? Меньше знаешь — легче спишь.
— Это когда как. Мне нужно знать, чего беречься в будущем.
— Если оно будет, — не сдержал усмешки Маэстро.
— Я стал оптимистом.
— Да? Давно ли?
— Уже три дня.
— Тоже неплохо.
— Кто бы спорил.
Маэстро помедлил, прикурил сигарету, спросил:
— А все-таки, Гончий, на кого работаешь теперь ты? Признаться, когда всплыла твоя персона, да еще рядом с этой милой девушкой… Знаешь, что я подумал?
— Догадываюсь.
— Вот именно. Не нужно быть семи пядей… Я решил, что и милая барышня, и ты — спланированная подстава по той операции, что мы проводили в Княжинске. Это невероятно большие деньги. Мои шефы хотят положить в кармашек целую страну: не так мало, а?
Гончаров пожал плечами:
— Кому как. — Ответил, глядя в глаза Маэстро:
— Я работаю только на себя.
— Вполне возможно. Вполне. Так что тебе нужно здесь? — Маэстро напряженно смотрел в глаза Олегу.
— Мне нужна девушка.
— И все?
— В войну я бросил играть давно.
— Если так, у нас есть шанс разойтись с миром.
— Это решаешь ты?
— Я возьму это на себя, — заверил Маэстро.
— Как ты выражаешься… Это непрофессионально.
— Настоящий профессионал только тот, кто может сам решать, делать ему исключения из правил или нет.
— Ты решил?
— Да.
— Почему…
— Я отступаю от правил?
— Да.
— Ты мне не врешь. Это во-первых. А во-вторых…
— А ты уверен. Маэстро? — вмешалась Аля. Она выглядела как разъяренная пантера.
— Может быть, вы еще поторгуетесь? «Почем девочка?» — «Полцентнера героина». — «Полцентнера мало». — «Тогда — центнер».
— Алена. — начал Гончий.
— Что — Алена? Крутые мужи, да? А кто из вас поручится, что я-не агентесса сенегальской разведки?
— То, что тебе нравится убивать, — ты солгала, — улыбаясь, произнес Маэстро. — А в остальном… Если бы я до сих пор не научился отличать ложь от правды, меня давно бы не было. А Гончий… У него всегда был один существенный в нашей профессии недостаток: он не мог путно солгать.
— А ты можешь?
— Вся наша жизнь — ложь, лишь слегка приукрашенная правдой, — отшутился Маэстро.
Впрочем, в его устах это было не вполне шуткой: этот человек жил словно несколькими жизнями, и какая из них была более реальной, а какая — проигрывалась его воображением?..
— А что нужно тебе? — резко спросил Гончаров.
— Гончий… Ты помнишь ту веселую ночку в Хачгарском ущелье?
— А как ты думаешь?
— После нее нас разбросало… Тебя — в отставку. Барса-в проект «Снег».
— Что за проект?
— Наркотики. Очень много наркотиков. Тонны.
— И он…
— Он решил сыграть свою игру.
— Барс не стал бы…
— Извини, я неверно выразился. Ему показалось, что игра, в которую его втянули, грязная. Словно бывают чистые… И тем не менее… Он решил ее поломать. Его устранили.
— Кто?
— Те, кто это сделал, уже мертвы. Ты помнишь наши отношения с Барсом?
— Они были вполне…
— Не лукавь, Гончий! Я относился к нему как к сводному старшему брату. Этакая смесь зависти, раздражения, желания превзойти… И — восхищения. У него всегда было то, чего не было во мне. И не будет никогда. А у меня… Когда-то давно, мы тогда припухали под Гератом, был у нас с Володей разговор. Барс сказал: «Влад, тебе надо кончать с этим делом». — «С каким?» — спросил я. «С войной».
Помню, я несколько растерялся, он заметил на лице моем обиду. Ты же помнишь, Гончий, работал я не хуже других и был… кое-как я переживал и обиду, и растерянность, спросил в лоб: «Почему?» И Барс ответил так же прямо: «Ты безрассуден». Тогда я не вполне понял, что он имел в виду. Теперь я понимаю. И еще… В досье у меня было сказано, что поступал я когда-то в Щукинское…
Егоров тогда добавил: «Война — не сцена. Здесь все должно быть просто и рационально». Скажи, Гончий, я был позер?
Гончаров пожал плечами:
— Как все мы в двадцать с небольшим…
— И тем не менее я желал стать лучшим. И не на сцене, в жизни. А тогда нашей жизнью была война. И много смерти вокруг.
Маэстро помолчал, глядя куда-то в прошлое. Произнес:
— Помнишь, мы все приняли близко гибель ребят…
— Да.
— Я… Я постарался забыть это так, что… Метод Станиславского: внушить себе можно все, и то, чего ты никогда не чувствовал. Даже по поводу смерти. Может быть, Барс был прав, и во мне умер великий актер. Нерон бы понял. Я был проверен на всевозможных «полиграфах», прокачан на всех известных «наркотиках правды»…
И сумел действительно стать тем, кем меня хотели видеть. Там, наверху, решили, что я — редкостная сволочь! Уникум. Исполнительный, умный, бесчувственный, все амбиции которого заключены в смерти. Красиво?
— Кому как.
— Вот и я так думаю… Но… Никакие достижения не даются безнаказанно… Что-то я в себе сломал. Навсегда. — Маэстро помолчал, прикурил сигарету от бычка. — Как бы там ни было, за такие исключительные «показатели» я был «награжден»
Острогом-22. Выше «двадцать второго» по спецподготовке — только боги с Олимпа.
— А такие есть?
— Я не встречал. Разве только Лир.
— Кто такой Лир?
— Для меня — фантом. Для всех остальных — тоже. Он существует голосом в телефонной: трубке и отдает приказы.
— Маэстро, ты…
— Да! Я при всем своем тщеславии за десять лет так и не смог к нему подобраться! Но стал его личным контактом. Как говорили в незапамятные времена: креатурой. Этот человек координирует слишком многое: все существующие службы безопасности крупнейших корпораций России, всех банков…
— Я полагал, там замкнутые службы безопасности.
— Да, но только не для конторы Лира. Все они замыкаются на него.
— Напрямую?
— Естественно, нет. Через агентуру. Но это люди высшего, управленческого уровня.
— Погоди, Маэстро… Мы слишком далеко уехали. Зачем тебе нужна Аля Егорова? И почему вы здесь?
— Тот самый порошок.
— Героин?
— Да. Барс спрятал его в одной из катакомбных шахт.
— Это интересует Лира?
— Это интересует меня.
— И Аля?..
— Она должна знать номер шахты.
— Должна или знает?
— Знает, но сама не подозревает об этом.
— Скрытый, случайный секретоноситель?
— Именно так.
— Так что именно я должна вспомнить? — вмешалась Аля.
— Скорее всего цифры, — произнес Маэстро.
— Цифры? — нахмурившись, переспросила Аля.
— Да. Худо-бедно, но когда-то военные спелеологи — такие тоже были, да и чего у нас только не было! — обмерили-таки с грехом пополам эти разветвленные подземелья и составили карты. Тоннели и шахты пронумерованы. Карты есть; пусть для служебного пользования, но есть. У Барса такая точно была, иначе войти бы он смог, а вот выйти…
— Вы же сказали, там две тысячи километров подземных ходов.
— По легенде, барышня, по легенде.
— На самом деле — меньше?
— Не знаю. Может быть, и больше! Камень добывать там стали еще греки; где-то здесь была их колония. Потом кто только не рыл: византийцы, хазары, татары, турки, казаки… Но Барс не полез бы на необследованную территорию: бессмысленно. А то получилось бы как в известной сказке: пошел туда, не знаю куда. И — сгинул. А он не сгинул, объявился! А потому вспоминай! Ведь говорил же тебе Барс какие-то цифры? В игре, например? Он должен был их повторять несколько раз, чтобы ты запомнила совершенно механически… Вспоминай, девочка…
Аля наморщила лоб, но никаких цифр в голове не всплывало. Только считалочка:
«Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…»
— Зачем тебе порошок? — перебил их Гончаров, глядя на Маэстро. — Обменять на деньги?
— Нет. Если засветить его на рынке этой страны и в таком количестве, вспыхнет колоссальный скандал, его нужно будет гасить. Лир вынужден будет засветить многие высокие теневые связи и скорей всего сам выползти из норы!
— А зачем тебе Лир?
— В тиглях этого алхимика варится слишком много дряни. Мне, по правде, наплевать на это, но… Думаю, его аналитики задумали и проект «Снег». С оч-ч-чень дальним прицелом.
— Ты хочешь сказать…
— Ничего я не хочу сказать! Мне наплевать на стадо, которое обжирается наркотой и отлетает сначала в сон, потом в смерть. Но мне не наплевать на Хачгарское ущелье. Мне не наплевать на три десятка пацанов, которых подставили под расстрел только затем, чтобы соблюсти секретность проекта «Снег»! И еще… С тех пор как погиб Барс, у меня в башке будто что-то повернулось… Я ликвидировал всех, кто был причастен к его смерти… Вернее, нет. Не ликвидировал. Попросту убил. Это было личное. И Лир — тоже личное. И еще… У меня тогда появилось чувство, что я должен заменить Барса. Вот только… Мне чего-то недостает… Того, что было в нем. Что-то сломалось во мне. Ты знаешь, Гончий…
Фразу Маэстро не окончил. Голова вдруг откинулась назад, глаза словно пеленой заволокло… Лицо исказила судорога, все тело напряглось, он выгнулся дугой, до крови прикусив губу…
Приступ продолжался недолго. Маэстро застыл на месте. Лицо было абсолютно белым; на лбу и на верхней губе блестели бисеринки пота…
Он нашел коробочку и проглотил горсть круглых белых шариков. Оскалился: это должно было означать улыбку.
— Меня, должно быть, заждались в аду. Но я не уйду, пока не исполню назначенное.
— Маэстро, вы очень больны, — склонилась над ним Аля.
— Вовсе нет. Просто… У меня особые отношения со смертью. У Лира — тоже. Но Лир должен умереть. Ибо и в смерти должна быть своя справедливость. — Маэстро перевел дыхание, щеки порозовели. — Когда со мной такое случается, я вижу тропу.
Она идет высоко, очень высоко в горы… И каждый шаг грозит не просто гибелью — бездной… И еще… На ней нет места стаду. Эта тропа для одного. Это .
Глава 68
Моторы надрывно выли, преодолевая подъем.. Четыре автомобиля: два «уазика», джип и поношенный, отслуживший свой срок даже в виде металлолома, широченный «форд» — пикап — один за другим въехали на возвышение. Остановились метрах в пятидесяти. Из машин выпрыгивали люди в камуфляже. В руках их было оружие.
Маэстро, еще бледный от перенесенного приступа, удивленно приподнял брови:
— Это что еще за ряженые?
А «ряженые» вели себя странно. Вытряхнувшись из автомобилей, сгрудились на какое-то время, видимо совещаясь, потом растянулись цепочкой. Стволы в их руках теперь можно было разглядеть отчетливо: это были длинноствольные двустволки, карабины и помповые ружья. Маэстро наморщил лоб, будто пытаясь оценить намерения «пятнистых»: из такого арсенала они могли достать их группку легко, но… не стреляли. Более того, цепочка из людей была растянута так, что не прижимала Маэстро, Гончего и девушку к обрыву, а, наоборот, вытесняла на плоскогорье.
Глаза Маэстро сузились, будто прорези амбразуры.
— Ты понимаешь, кто это? — спросил он Гончего.
— Отморозки.
— Хуже. — Лицо Маэстро разрезала ухмылка; мурашки мгновенно прошли волной по спине девушки: она знала, что за этим последует. — Это охотники.
— Кто? — едва слышно произнесла девушка, почувствовав, как сел голос.
— Ребятки решили развлечься. Им, видишь ли, неинтересно стрелять беспомощную, по их мнению, дичь. Кайфа того нет. — Маэстро сплюнул. — Рейнджеры гребаные, — Может быть, им объяснить… — начала было девушка, но осеклась под острым, как бритва, взглядом Маэстро.
— Эти человечки понимают только один язык. Язык огня и боли. — Глаза Маэстро помутнели, едва заметная судорога прошла по рукам, он произнес тихо и внятно:
— «Что благородней духом — покоряться пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчась на море бед, сразить их противоборством? Умереть, уснуть, ..»
Четыре выстрела фонтанчиками вздыбили сухую землю. Загонщикам не нравилось, как ведет себя дичь. Они желали охоты, а не забоя… Теперь до цепочки было не больше тридцати метров;
Голос Маэстро был горек, как полынь:
— Язык огня и боли… К тому же они не любят Шекспира… — Взгляд его снова стал скорым и зорким. — За камни, живо! — скомандовал он Але.
Девушка и не подумала противиться, нырнула за массивный валун у кромки обрыва.
Два выстрела фонтанчиками взвились рядом: охотники показывали другим, что девушка в капкане, выйти не сможет… Они не считали ее дичью, она была призом.
Маэстро повернулся к Гончарову:
— Старшего определил?
— Рыжий. С бульдожьей мордой.
— Его оставляем. Остальных стираем. Хоп.
— Хоп.
Выстрелы загрохотали один за другим, осыпая затаившихся за плоскими камнями Маэстро и Гончего сухой, перемешанной со льдом землей и каменной крошкой. Но били не прицельно: тешились.
Нападавшие и ближе не подходили. По-видимому, решили, что сие — «неспортивно». В промежутках между выстрелами они выкрикивали комментарии по поводу трусости «шавок».
Маэстро показал на пальцах Гончарову план и последовательность действий. Тот кивнул.
Грохнуло еще три выстрела. Гончий поднял пистолет, трижды веером выстрелил в ответ и беспорядочно, петляя, как подпольщик в фильме, рванул прочь. Пули его никого не задели, но охотники заметно оживились: один из «кабанчиков» наконец-то повел себя соответственно. Да и грохнувшие в их строну выстрелы добавили «пятнистым» здорового азарта и послали в кровь нужную для хорошего развлечения порцию адреналина. Раздался свист, несколько человек метнулось вдогон, стреляя на ходу и выкрикивая что-то…
Бульдог довольно растянул толстые губы, бросил ближнему:
— Выкуривайте второго из норы. Веселиться так веселиться. — Повернулся ко всем:
— Стрелять по клешням!
Похоже, больше всего он боялся, что развлекуха завершится до того, как его головорезы да и он сам натешатся всласть. Оглядел братков, крикнул:
— Загоним кабанчиков, а? Погоняем и возьмем — в ножи!
«Братки» ответили дружным довольным ревом. На этом плато и сурку не скрыться!
Гонять можно до десятого пота, полоская беглецов в визжащей рядом картечи и липком, мерзко пахнущем страхе… И самое приятное в гоне, что спастись они не смогут. Бульдог точку поставит сам.
— Эй, черный! Не спи — замерзнешь! — крикнул кто-то, и пули из карабина с противным визгом ударились в камень, за которым ничком лежал Маэстро.
— Не хочешь бегать, сучий потрох… Щас мы его прикладами погоним!
— Эй, сынок, испытай фортуну, может, повезет, а? — Бульдог, прихохатывая, приложился к фляге с чачей. — А то ведь если возьмем сиднем, кожу сдерем, а тушу — воронам скормим! Солдаты удачи козелков навроде тебя ох как не любят!
Маэстро вскочил из-за камня в один миг, словно вырос из земли. Пистолеты в его руках заплясали, загрохотали, изрыгая огонь. Кто-то из нападавших успел поднять оружие, кто-то даже выстрелил, но черноволосый уже катился по земле, а пистолеты продолжали работать, будто их направляла не рука человека, но воля демона.
Грохот прекратился так же неожиданно, как и начался. Преследовавшие Гончарова замерли, а Гончий вдруг обернулся и тремя выстрелами снял троих нападавших.
Наступившая тишина была полной.
Рыжий вожак так и не понял, что произошло. Восемнадцать человек, что были с ним, лежали в неудобных позах: кто ничком, лицом вниз, кто — глядя в бездонную голубизну неба стекленеющими глазами. Никто не стонал, никто не звал на помощь.
Живых среди них не было. Вожак остался стоять один. Бесполезная помповушка в одной руке, фляга с чачей — в другой. Бульдог беспомощно лупал белесыми ресницами, потом тихо перевел дыхание, облизал разом пересохшие губы. То, что произошло, казалось наваждением, сном…
— Солдаты удачи, говоришь? — негромко произнес Маэстро. — Кончилась ваша удача.
Совсем кончилась.
Кадык на шее рыжего дернулся. Хрипло, едва слышно он произнес, кивнув на флягу в руке:
— Я хлебну?
Маэстро пожал плечами:
— Валяй…
Вожак пил, пока хватило дыхания. Опустил флягу, поставил, перевел дух. Поднял глаза:
— Ну что… Теперь кончай.
— А закурить?
— Чего?
— Закуришь? Бульдог кивнул:
— Закурю.
Подрагивающими руками Бульдог вставил в рот сигарету, долго чиркал кремнем зажигалки, пока прикурил. Затянулся раз, другой… Губы его плясали… Одним движением он отбросил сигарету, крикнул срывающимся на визг голосом:
— Что тянешь, сука! Кончай!
— Хозяин барин, — равнодушно произнес Маэстро. Движение его было неприметно быстрым: пистолет дернулся, выплюнув порцию свинца, и Бульдог кувыркнулся на спину. Но…
Его дикий, полный тоски и боли вой, казалось, мог разбудить только что уснувших вечный сном сотоварищей. Кое-как зажимая раздробленное колено, он поднял искаженное болью и ненавистью лицо.
— Куражишься, да? Сука! Царствуй, твоя власть… — Он заскрипел зубами, зажмурился от нестерпимой боли, снова поднял глаза и натолкнулся на острый, как жало, взгляд Маэстро. Тот сидел рядом. И произнес только одно слово:
— Кто?
Вожак попытался сглотнуть, выплюнул слюну с кровью:
— Шаповал.
— Кто такой Шаповал?
— Опер фээсбэшный. Старший. В области.
— Велел списать?
— Да. Начисто!
— Всех?
— Тебя. Девку — поберечь. Про второго-вообще разговору не было.
— На кого работает Шаповал?
— Не знаю. И знать не хочу.
— Это все?
— Все.
Маэстро помедлил, произнес:
— Тебе просто не повезло.
— Везет не всем.
— Это точно.
Маэстро едва заметно двинул руками, легко поднялся на ноги. Вожак остался лежать на спине, глядя в синеву неба мутнеющим безразличным взглядом.
Гончаров стоял чуть поодаль. Маэстро быстро глянул на него, спросил:
— Чего такой невеселый?
— Есть чему веселиться?
— Обычная работа, — пожал плечами Маэстро. Гончаров скривил губы в подобии улыбки, проронил тихо:
— Отвык. — Одним движением бросил в рот сигарету, чиркнул спичкой, поломал, вытащил другую, чиркнул снова, зажег, но сигарета выпала. — Черт… — Помолчал, добавил:
— И не хочу больше привыкать.
— А вот это правильно. Минздрав предупреждает… — Маэстро подхватил флягу, так и стоящую на земле, слил чачу, обмыв горлышко. — Примешь сто пятьдесят? — Втянул ноздрями аромат:
— Это тебе не пойло буржуйское, чача первого выгона. От стрессов. — Растянул губы в улыбке, но глаза при этом остались холодными. — «Имидж ничто, жажда — все».
Впрочем, совету Гончаров последовал. Сделал из фляги глоток, другой и опустил ее вдруг, проливая содержимое на землю. Послебоевой синдром прекратился, он встревоженно поднял глаза на Маэстро:
— Влад… Что с Алей?
Оба метнулись к камню, за которым скрывалась девушка. Она сидела в отрешенной позе, жива и на первый взгляд невредима. Но совершенно неподвижна.
— Аля… — позвал Гончаров, тихонько проводя ладонью по ее щеке. Девушка не пошевелилась. Он поднял глаза на Маэстро, и взгляд его был беспомощен, словно взгляд близорукого человека, разом лишившегося привычных, укрупняющих мир толстых линз.
Тот тоже наклонился, оглядел внимательно:
— Она не ранена. Боевой синдром. Даже скорее… Досталось ей слишком за несколько дней. У волкодавов психика ломается, а у девчонки… Не переживай сильно, все же дочь Барса! Флягу, живо!
Олег поднес сосуд к губам девушки, осторожно влил в рот глоток. Она поперхнулась, закашлялась, зрачки расширились…
— Что застыл! Лей! — скомандовал Маэстро. Она глотнула и — пришла в себя окончательно. Оглядела мужчин, улыбнулась:
— Олег… — Встретила взгляд Маэстро, помрачнела… — Те, что стреляли…
— …больше не стреляют, — закончил ее фразу Маэстро. Добавил:
— Приходи в себя, детка. Если у нас и осталось время, то совсем немного.
Девушка встала. Ее слегка покачивало. День разошелся, стало тепло и ясно. Она подошла к краю обрыва. Солнце рассеяло туман, вода играла бликами. Девушка стояла на самом краю, и ей вдруг показалось: стоит раскинуть руки — и она полетит, понесется в этом просторе…
Рокот, сначала слабый, был слышен все сильнее. Аля прищурила глаза, пытаясь хоть что-то разглядеть в переливающейся под солнцем чешуе моря… Она не заметила, как встревоженные Гончаров и Маэстро оказались рядом с ней.
— В ямы, быстро! — скомандовал он.
— Не успеем, — спокойно отозвался Гончаров.
Вертолет вырастал на глазах. Он шел низко над морем и тут вдруг взмыл вверх.
Спаренный крупнокалиберный пулемет ударил из-под днища, вздыбливая каменистый обрыв веером осколков. Гончаров мигом толкнул девушку на землю, выхватил оружие, выстрелил трижды, пока пистолет не замолк с беспомощно откинутым затвором.
Высокие фонтаны щебня приближались, Олег вжался в землю, притиснув девушку и прикрыв ее собой.
Маэстро остался стоять недвижно, словно Каменный гость. Пистолеты в его руках заплясали, изрыгая свинец. Вертолет вихрем промчался над ним, усыпав с ног до головы вырванной крупнокалиберными пулями щебенкой. Очередь распорола обшивку двух автомобилей, один просто стал похож на дырявую сковородку, другой разлетелся на части, опалив пространство вокруг клубом огня: грохот взрыва в вертолетном гуле показался выхлопом циклопической машины.
Маэстро остался невредим. Он продолжал стоять на краю обрыва во весь рост.
Улыбка застыла на бледном лице, глаза сияли ребяческим восторгом. Похоже, у него в самом деле был договор со смертью, и смерть свою часть выполняла.
Вертолет развернулся с креном, пошел на второй заход, Гончаров знал: пилот примерился и на этот раз не промахнется. Оставалось только надеяться, что пули не прошьют его насквозь и девочка останется живой… Хотя такая надежда и была смутной, она, как известно, умирает последней.
Как только фонтанчики вздыбились на краю обрыва, Гончий вжал девочку в грунт и притиснул к земле. Мышцы спины напряглись, Олег хотел бы превратить их в броню, в метровый слой кевлара, в котором эти смертоносные куски железа застыли бы обессиленно…
Надежда не умирает никогда.
Маэстро успел заменить обоймы. Пока вертолет делал разворот, он любовно осмотрел головки бронебойных пуль… Усмехнулся: красивые штучки… Спецзаказ.
Сделал несколько шагов в сторону: теперь пилоту придется выбирать мишень: или эти двое, или он. Маэстро знал, кого выберет пилот. Договор есть договор.
— Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня… — пропел он негромко. Лицо его было бледным, сосредоточенным и необыкновенно спокойным. Маэстро прищурился, разжал губы и произнес коротко, как выстрел:
— Все счеты.
Фонтанчики приближались. Вертолет потряхивало от отдачи: это не был боевой «Ми-28»; обычный «фонарь», украшенный спаренным «эрликоном». Торопились ребятки, явно торопились… Маэстро с удовольствием наблюдал, как сверкающие в лучах солнца гильзы сыплются в море — будто гора золотых червонцев, которыми оплачены его жизнь и его смерть…
Пулемет грохотал непрерывно. Гончаров почувствовал себя так, словно толстый раскаленный прут впился в тело, вколотив его в землю. Грохота пистолетных выстрелов он не услышал. Боль расколола мозг, и он провалился в месиво, красное и горячее, как расплавленный металл…
…Когда металлическое брюхо зависло над ним. Маэстро выпустил в него всю обойму. Вертолет дернулся было, но выровнялся. Пилот произвел разворот и бросил машину в атаку сразу, со стороны берега. Он шел совсем низко над землей, стремясь срезать человека в черном прямой очередью.
Маэстро, вы пустил пистолет с опустевшей обоймой, обеими руками сжал другой.
Пулеметчик открыл огонь. Маэстро ухмыльнулся, ощерившись, прошептал: «Все счеты». Пистолет запрыгал в его руках, направляя пули в ведомую стрелку точку…
Будто черная тень пронеслась над лежавшими и — исчезла.
Аля попыталась выбраться из-под отяжелевшего тела Гончарова; ей это почти удалось, когда Олег, в полном беспамятстве, схватил ее здоровой рукой и притиснул к земле.
— Лежать! — прохрипел он чужим голосом, как команду. Где-то там, внизу, новый взрыв упруго разодрал воздух.
— Сейчас, миленький, я сейчас…
Девушка высвободилась из железной хватки, подняла голову. Маэстро на краю обрыва не было. На четвереньках она кое-как подползла к краю и заглянула вниз…
Вертолет, разваленный на куски, догорал на галечном пляже. Там же, у самой кромки воды, лежал Маэстро. В своем черном сюртуке, так похожем на концертный фрак, с высоты он казался штрихом, оставленным кистью китайского мастера на щелке… И штрих этот расплывался, расплывался… Аля прищурилась, не понимая, что творится у нее со зрением, пока не поняла, что плачет… Слезинки катились по щекам, девушка свернулась калачиком и заплакала, уже не сдерживая слез…
Потом она встала. Подошла к Гончарову. Попыталась приподнять его, но он был слишком тяжел.
Правая рука висела плетью; пуля, казалось, перерубила ее. Аля снова попыталась тащить мужчину — ничего не получалось.
— Олег, Олежек, ну пожалуйста, очнись…
Теперь она снова плакала. От собственного бессилия. Кое-как перевязала руку.
Потом — добежала до машины, включила зажигание. Когда-то, еще в экспедиции, она пыталась научиться водить, но скорее для форсу. Теперь стартер запускался, машина взбрыкивала, как живая, и глохла;
Заставить мотор заурчать удалось, наверное, лишь с десятой попытки. Аля мягко отпустила сцепление и подрулила к самому обрыву. Кое-как подхватила Гончарова, втянула его на заднее сиденье. Набралась храбрости, посмотрела вниз.
Тело Маэстро лежало неподвижно. Волны добегали до его ног и, наверное, касались его ласково, словно щенки, шершавыми солоноватыми языками…
…Аля мягко съезжала вниз. Дорога расплывалась, девушка протянула руку, протереть стекло, и только тогда поняла, что плачет. Слезинки катились по щекам одна за другой, делая стекло размытым, будто в дождь.
Глава 69
Мужчина был невысок ростом; водянистые глазки под жесткими кустиками бровей смотрели рассеянно, не задерживаясь ни на одном предмете более нескольких секунд; жидкие белесые волосы были гладко зачесаны назад, но сбоку был выделен безукоризненно гладкий пробор, по моде кадровых работников КГБ тридцатилетней давности, перенятой ими, возможно, у киношных фэбээровцев из американских фильмов тридцатых-пятидесятых годов, тем более что никто, кроме тех, кто боролся за чистоту идей и нравов в те далекие времена, не имел возможности эти фильмы видеть.
Костюм был сшит отменно; в покрое была отдана дань и тем самым традициям: смотрелся он достаточно консервативно и значимо. На ногах мужчины были надеты простые черные ботинки, но опытный взгляд сумел бы определить, что штиблеты не просто стилизованы под простецкие: это была прекрасной выделки змеиная кожа, а сама модель даже не из бутика — спецзаказ.
Как ни странно, несколько старомодный наряд мужчины вполне гармонировал с громадным, оформленным в самом современном дизайне кабинетом. Огромное окно во всю стену, полуприкрытое жалюзи, в ясный день открывало изумительный вид на столицу; и все же в кабинете была и своя странность: в специальной нише громоздилась уменьшенная авторская копия знаменитой скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала», что украшала площадь перед зданием ООН в Нью-Йорке.
Мужчина отошел от окна. День был блеклый, половину Москвы заволакивала дымка…
Если честно, ему не нравился этот кабинет. Но времени нужно соответствовать.
Если ты этого не делаешь, оно бежит дальше уже без тебя. Но… Что-то должно оставаться и неизменным. Только неизменное придает этой жизни надежность.
Несокрушимую надежность.
В задней стене была дверца, она вела в другое помещение. Там было четыре комнаты, роскошная ванна с джакузи, медицинский центр и небольшой кабинет; этот был оформлен традиционно: темными панелями мореного дуба, на окнах — тяжелые портьеры, старинный стол, устеленный зеленым бархатом под зеленой же лампой, императорский чернильный прибор — вот и все излишества того кабинета. В первом, представительском, мужчина принимал посетителей, во втором — приближенных сотрудников. Там же работал он сам.
Мужчина подошел к окну: улицы и дома внизу терялись в дымке. И ему самому было зябко. Вставал он ровно в шесть, не торопясь принимал ванну, выпивал стакан крепкого чаю, просматривал принесенные для него бумаги; ровно в одиннадцать был завтрак. Сейчас он вспомнил прочитанные донесения, уточнить все для себя неясное можно было теперь же, но… Время завтрака. Привычки этого человека были настолько устоявшимися, что изменить что-то в распорядке его не заставила бы даже начавшаяся мировая война. Тем более война его никак не пугала. Это было его работой.
Мужчина открыл дверцу и прошел во второе помещение. Миновал короткую анфиладу и оказался в столовой. Уселся за укрытый белоснежной крахмальной скатертью стол.
Пробило одиннадцать.
Дверь бесшумно растворилась. Пожилая женщина вкатила тележку и за минуту умело сервировала стол: пшенная каша в тарелке, кусочек свежайшего сливочного масла, крупное, сваренное всмятку яйцо, кусочек белого, еще горячего хлеба с румяной хрустящей корочкой.
Мужчина не проронил ни слова. Повязал салфетку — и вовсе не потому, что был неаккуратен: таков был многолетний ритуал. Намазал желтым маслом горячий хлебец, добавил в кашу ложечку варенья и сосредоточенно приступил к еде. Он ел так, будто выполнял очень важную и нужную работу, получая от этого не просто радость насыщения, но тихое, невосторженное удовольствие. Удовольствие прочности, неизменности мира. Той неизменности, какую создал он сам.
Как только он покончил с кашей и яйцом, женщина внесла на подносе кофейник и чашку. Аромат ячменного кофе разлился по комнате. Мужчина не позволял себе никаких наркотиков, даже таких общепринятых, как кофе или сигареты.
Впрочем, нет: по утрам он разрешал себе стакан крепкого чаю, который составлял всегда сам. Редкие и изысканные индийские сорта из Верхнего Ассама и Дарджи-линга первого мартовского сбора он смешивал с июльского сбора цейлонским, выращенным на высокогорных плантациях Димбулы, и добавлял пятую часть знаменитого северокитайского, из провинции Фуцзянь. Настой этого чая, богатый, насыщенный, густо-янтарного цвета, отличался исключительным ароматом и легкой бархатистостью.
Так стоит ли считать такой напиток наркотиком? Если да, то своеобразным…
Вдыхая аромат, любуясь его цветом, смакуя вкус, мужчина представлял, как десяти-двенадцатилетние девочки на утренней заре нежными пальчиками обрывали с отборных кустов только три избранных листка… Более старшие могли бы и поумствовать, сорвать четыре, а то и пять листиков и тем потерять сортность чая.
К тому же это была традиция.
Столь высокосортного чая в мире собиралось всего несколько десятков килограммов, стоил он куда дороже золота, но… Ведь это была единственная невинная роскошь, какую мужчина себе позволял. Впрочем, было и еще одно исключение: по субботам, вечером, он выпивал либо три рюмки водки, либо стакан хорошего вина, либо бокал хорошего коньяку. Особенно он ценил «Курвуазье» из урожаев девятнадцатого, тридцать второго и сорок девятого годов нынешнего века.
Суббота была днем отдохновения от трудов, чтения. Как воскресенье — временем уединенных пеших прогулок и раздумий. За два установленных себе самому выходных он делал все, чтобы устать от отдыха и в понедельник приступить к работе целенаправленно и с азартом. Но это не был азарт наркомана или игрока; это был хорошо рассчитанный азарт делового человека. Спокойного, неторопливого, умного.
У мужчины в его семьдесят шесть лет было отменное здоровье, никаких иллюзий и всего одна цель: удерживать и укреплять ту власть, какой он обладал.
В остальном он был абсолютно скромен. Вернее, он ценил уют, постоянство и неизменность. Да… Именно постоянство позволяло власти быть неизменной.
Мужчина с удовольствием допил сладкий ячменный кофе, аккуратно промокнул губы салфеткой. Вот теперь можно приступить к делам.
Он не спеша встал, прошел через ту же анфиладу в модерновый кабинет. Уселся за огромный черный стол. Спросил по селектору:
— Кому назначено?
Секретарь перечислил несколько фамилий; все это были очень значимые люди; двое являлись председателями правлений крупнейших банков, один — вице-премьером правительства. Мужчина подумал, сверился со своим планом, произнес:
— Пусть подождут. — Переключился на другую частоту:
— Глостер прибыл?
— Да, Лир.
— Я готов выслушать его рапорт.
* * *
Хотя минуло уже порядочно, Аля порой плакала во сне, yо время лечило и ее.
Бездна перестала ей сниться, но по прежнему виделись, будто наяву, остов догорающего вертолета и тело, одетое во все черное, неподвижно замершее на песке…
…Тогда она действовала как сомнамбула, по наитию. Оказавшись в машине, порылась в куче хлама и обнаружила несколько продолговатых пакетиков. Гончаров пришел в чувство, прошептал: «Не трогай, это взрывчатка!» — и снова впал в беспамятство.
В ее голове творилось что-то непонятное… Хотелось немедленно бежать из этого гиблого места, умчаться, что бы забыть его навсегда. Но… Пока существует спрятанный где-то в катакомбах белый порошок, ей не будет покоя. И еще у девушки было ощущение, что там, под землей, похоронено зло, которое в любой момент может вырваться наружу и убивать, убивать людей… Она должна была завершить то, что не успел ее отец…
В голове крутилась считалочка: «Ехала машина темным лесом за каким-то интересом…» И — вспомнилась ее детская машинка. И то, как папа приладил на нее номер, «чтобы была как настоящая»… Он и Алю заставил выучить этот номер: тот состоял из четырех цифр: 44-78. Даже играл с нею, чтобы запомнилось быстрее:
«Жили в квартире сорок четыре, сорок четыре веселых чижа» и «Семь плюс восемь половинку просим»…
Девушка развернула карту, которую нашла в сумке Маэстро. Она была разделена на большие квадраты и вся испещрена мелкими четырехзначными цифрами. На полях квадраты обозначались буквами и цифрами. "Инте-инте-интерес, выходи на букву "с". Аля нашла сектор, помеченный этой буквой. Потом очень внимательно, сантиметр за сантиметром, стала читать карту, разыскивая цифры. 4478! Есть!
Кое-как девушка сумела завести автомобиль. Тот взревел стартером и медленно пополз вниз. Аля ориентировалась в основном по высотам, обозначенным на схеме…
Потом выбралась из машины и пошла пешком, связав пластинки взрывчатки простой бечевкой. Там были и детонаторы, но Аля совсем не знала, как ими пользоваться.
На поиски нужного участка ушел почти час. Выход из шахты напоминал нору, приваленную камнем. Девушка кое-как отвалила его: это был известняк, потому оказался скорее массивным, чем тяжелым. Края ямы были прихвачены наледью. Аля зажгла спичку и бросила вниз. Спичка пролетела, вскоре угаснув, высветив уходящие почти отвесно вниз стены.
Аля привязала сверток к бечевке и стала разматывать моток, опуская взрывчатку.
На рулоне была маркировка: двадцать пять метров. Когда моток иссяк, она потянула чуть вверх: привязанный груз завис свободно.
Девушка не знала, что произойдет дальше. Какова будет мощность взрыва, останется ли она жива… Она знала только одно: там, далеко внизу, притаилась смерть и эту смерть нужно похоронить. Аля зажмурилась, вытянула вниз руку с оружием и нажала на спуск.
Взрыв, казалось, выбил почву прямо у нее из-под ног. Девушка не сумела удержать равновесия; ее тело, ставшее вдруг непослушным, затянуло по ледяной корке в черную воронку… Аля зацепилась пальцами за щербатый каменистый край и почувствовала, что сил почти нет… Словно неумолимая сила разгибала пальцы один за другим, еще секунда — и она сорвется в эту темную ледяную бездну…
Вырвавшийся из шахты клуб пыли обволок ее всю, и она перестала видеть солнце. В горле запершило, она засучила ногами, пальцы разжались, и тут…
Неведомая сила вытолкнула ее из ямы и бросила плашмя. Она оглянулась: на том месте, где зияла пустота, из земли выползало крошево грязного льда, громоздясь горкой. Аля прижалась к земле, почувствовала, как почва снова вздрогнула, потрясенная неведомой подземной силой, и замерла… Пылевое облако оседало, и солнце сияло так, как сияло и тысячи лет, изливая тепло и свет на правых и не правых, на добрых и злых, словно надеясь, что мир этот еще станет таким, каким его задумывал Создатель.
Что было дальше, она почти не понимала. Ни как съезжала с плато, ни как двигалась по шоссе, ни как искала медпункт в какой-то станице, где она и заночевала на кушетке, ожидая, пока заштопают и приведут в чувство Олега: толстая пачка сотенных с портретом президент; Франклина, найденная в бардачке машины Маэстро, золотым ключиком открывающим медицинские врата и замыкающим рты медработников на «железный занавес»
На другой день медсестра поселила ее и Олега у себя дома на окраине станицы.
Через неделю он уже поправился настолько, что мог управлять автомобилем. Аля боялась, что их будут искать, но их не искали. Почему? Задумываться над этим у нее не было ни сил, ни желания.
Потом они уехали в Княжинск.
А тогда… Тогда машина мягко съезжала вниз. Дорога расплывалась, девушка протягивала было руку, чтобы протереть стекло, и только тогда понимала, что плачет. Слезинки катились по щекам одна за другой, делая стекло размытым, будто в дождь…
Глава 70
— Слушаю вас, Глостер. — Лир мельком поднял глазки на застывшего перед ним крепкого мужчину и быстро опустил взгляд.
— Все результаты проведенного расследования я изложил письменно.
— Я хочу знать подробности.
— Что именно, Лир?
— Прежде всего что, по-вашему, произошло с Маэстро?
— По-видимому, он совершенно свихнулся.
— Полагаете? — Лир помедлил, пожевал губами. — Мне трудно признать сумасшедшим человека, решившего единолично завладеть тридцатью миллионами долларов. Пусть и в порошке. Это здравый поступок. Хотя и алчный.
— Маэстро должен был отдавать себе отчет в том, что мы не оставим его в покое. А тому, кто получает пулю, деньги уже не нужны. Даже очень большие.
— Это верно. Как вы решили, что Маэстро играет свою партию?
— Устранение Марго.
— Та женщина, что работала по нашим деньгам в Княжинске?
— Да.
— Маэстро при операциях устранения пользовался моим приоритетом. Что вас удивило?
— Мы решили, что Марго устранена нашими противниками. В свете, так сказать…
— Реалий, — иронично хмыкнул Лир.
— Согласно правилам стали отслеживать дальнейший путь Маэстро. Усеянный трупами.
Маэстро шел к закладке Барса. К тому же он совершил неосторожный поступок. Пусть всего один, но нам хватило. Он затребовал карту катакомбных шахт.
— Вот как?
— У него не было выбора. Больше нигде, ни в одном компьютере, такой карты нет.
Может быть, в ГРУ, но у Маэстро туда доступа не было.
— Вы уверены?
— Кто и в чем нынче может быть уверен?..
— Что за группа была задействована в устранении Маэстро?
— Наемники. Их курировал Шаповал.
— Мотивировка оставшейся на месте «грязи»?
— Война мафиозных группировок за передел санаторно-курортного комплекса.
— Этому поверили?
— Почему нет? Война все спишет. — Откуда взялся вертолет?
— Наш человек в Крыму проявил оперативность.
— Завидную… — иронически хмыкнул Лир.
— Боевой вертолет ВВС чужой страны поднимать было бы… слишком. Поэтому был задействован обычный. Оснащенный пулеметами.
— Пилоту была дана команда открывать огонь на поражение?
— По обстоятельствам. Его предупредили, что эти люди не должны быть упущены.
Особенно с порошком.
— А обстоятельства сложились, надо думать…
— Да. Как Маэстро сбил вертолет — штука умозрительно непонятная…
— Он был мастер. Вы нашли тело?
— Пока мы прибыли на место… Прилив. — Понятно. Закладка Барса уничтожена?
— Да.
— Вы проверили это?
— Да. Девушка «уронила» в шахту, где хранились наркотики, килограмм плаксида.
— Она умеет пользоваться взрывчаткой?
— Возможно.
— Выдающиеся способности в столь юном возрасте, вы не находите, Глостер?
— Мы проверили все ее контакты. Ничего. Не бывает агентов-одиночек в таком возрасте.
— Согласен. Хотя… — Что-то странное мелькнуло в глазах Лира. — Продолжайте.
Что там по закладке?
— Пласты сместились и похоронили порошок навсегда. Мы подстраховались и позже взорвали два соседних тоннеля. Теперь, чтобы раскопать героин, потребуется пять сотен шахтеров.
— За такие деньги какой-нибудь «папа» может нанять и тысячу.
— Если узнает. К тому же никакой гарантии, что порошочек цел; вряд ли Барс переправил его туда в контейнере. А если и так, при таком давлении земляные пласты и его перетерли бы в прах.
— Вы гарантируете, что порошочек нигде и никогда не всплывет? Это было бы… очень скверно: слишком большой скандал, это может поставить наши усилия на Западе на грань полного провала.
— Я же информировал…
— Вы гарантируете это, Глостер?
— Да.
— Ну вот и славно. Земелька… Она хоронит все тайны… И все превращает в прах… Из праха вышли, в прах возвратимся… — Лир пожевал губами. — А щедрая девушка эта Егорова… Тридцать миллионов долларов.
— Для нее это было как чемодан без ручки: нести тяжело…
— …а бросить оказалось не жалко. Глостер пожал плечами.
— Хорошо. А что по тем наркотикам, что засвечены в операции в Княжинске?
— Все прошло успешно. Разборки, как мы и предполагали, списаны на героин. С нашей подачи. Милицейские и особистские чины уже крутят дырочки под звезды и получают регалии. Мы под этой завесой сумели завладеть контрольными пакетами следующих предприятий…
Глостер начал перечислять, но Лир прервал:
— Не нужно, я знаю. Кто курирует «вопрос о власти» в этой нашей славянской республике?
— Ричард.
— Вы поступаете в его полное подчинение.
— Извините, Лир…
— Да?
— Я хотел бы привлечь Гора с его людьми… После того как мы потеряли Маэстро…
— Что, аукнулось?..
— Нам недостает профессионального силового подразделения.
— У Гора и у других сейчас слишком много работы. Таджикистан, Узбекистан, Закавказье… — произнес Лир и почувствовал, как портится настроение.
Эта операция в Тбилиси… И подготовлена была блестяще, и все — псу под хвост!
Случай… Или некомпетентность? Поставить пару стрелков по трассе, и проблема была бы решена совершенно. А теперь… Теперь Белый Лис извлечет все возможные и невозможные выгоды своего почти чудесного спасения.
Как там любят говорить комментаторы? «Нефть — это кровь экономики». А можно короче: «Нефть — это кровь». Реки. Нефть без доставки — просто вязкая маслянистая жидкость. Тот, кто контролирует средства доставки на рынок, тот может стратегически влиять и на мировую экономику, и на мировую политику.
А война, как говаривал старик Клаузевиц, не что иное, как достижение тех же политических целей, только иными средствами. Впрочем, наркотики тоже бросать не стоит. Пусть рядом с нефтяными деньгами деньги от наркотиков — просто слезы, но слезы чужие. Общий доход за прошедший год — девять миллиардов долларов. Очень неплохо. Лир пожевал губами, произнес:
— С силовым подразделением пока повременим. У наших славянских соседей спокойно.
К тому же, Глостер, у вас есть деньги. Очень много денег. Более действенного оружия в мире нет. Работайте, Глостер.
— Есть. Извините, Лир…
— Да?
— Что делать с девчонкой? И с Гончим?
— Они еще живы?! — удивленно приподнял брови Лир.
— Да. — Глостер замялся:
— Приказа не было.
— И чем теперь заняты эта юная леди с джентльменом?..
— Ничем, — пожал плечами Глостер. — Просто живут.
— Просто живут… А что уголовники? Ведь эта девчонка завалила семерых, и среди них — самого Автархана.
— Я же говорил, все представлено так, будто произошла свара неизвестных пришлых и людей Автархана. Да и… Это смешно, но никто не поверит, если сказать, что семерых боевиков застрелила восемнадцатилетняя девчонка.
— Это правда. Никто не поверит. — Глаза Лира засветились азартом, мысль, пришедшая ему в голову, была столь изящна, что… — Просто живут, говоришь?.. — усмехнулся он. — Кто же им позволит жить просто с такими-то способностями?.. А что Гончаров?
— Ничего.
— Совсем?
— Абсолютно. Чист как ангел.
— И никаких выходов на спецслужбы?
— Нет. Мы проверили очень тщательно.
— Местных? А наших? ФСБ? ГРУ?
— Контактов не было.
— Может, еще будут?
— Все может быть… Прикажете устранить?..
— Нет. Сие слишком бездарно. Способности отменные. У обоих. Да и… Эта девочка со своим мужчиной очень удачливы. В нашем деле это не последнее качество, не так ли, Глостер?
Мужчина кивнул.
— Я подумаю над тем, как их использовать, — тихо произнес Лир. — А пока… Пока пусть живут.
— Да, Лир.
— Действуйте. И помните, времени у нас немного, совсем немного… А покойный Маэстро… Он был весьма талантлив, не правда ли?
— Этого никто не отрицает. Но… он в последнее время был совершенно ненормальным.
Лир повернулся к окну, опустил веки, устало помассировал их указательными пальцами…
Когда-то у него были иллюзии… Теперь их нет. Ему нравилось жить без иллюзий. И то, что он знал, он знал наверняка: у человека не может быть друзей. Только один верный — он сам. Все остальные — попутчики. И от них надо освобождаться по мере приближения к вершине. Возникают новые задачи, и тебе нужен новый попутчик, проводник, вьючный мул… Но до вершины дойдет только один! Один! А потому…
Важен закон: трон единичен и не терпит обязательств ни перед кем! И во все века чернь кричала и будет кричать: «Да здравствует король!» В мире же нет ничего, кроме черни.
Время… Оно пожирает всех и все, кроме власти. Она безмерна и бесконечна.
Великие вожди знали в этом толк… Люди росли и видели перед собой только одного кумира, одну власть, одного бога… И готовы были умереть за него с улыбкой презрения ко всему… А он — он не был никому ничем обязан, он царил на той, недоступной вершине… Время смещает и их, но… В сознании людей они по-прежнему боги, и людишки, злые, завистливые, бесталанные, бегают по сторонам шустрыми глазенками в поисках нового кумира…
Сейчас время золота. Кумир бестелесен: зеленые бумажки, называемые деньгами…
Пусть для них деньги остаются целью, для него, Лира, они всегда будут лишь средством! Как жаль, что власть нельзя захватить с собой… Или — можно? И пусть царствует война… Ну да, война — единственное средство, позволяющее держать в узде и овец, и волков! Тот, кто правит войной, — правит миром! Как у Шекспира?
Увидишь — я верну ту власть, с которой, Ты думаешь, расстался я навек…
Разве король был безумен, когда произносил это? Лир открыл глаза, глянул на подчиненного:
— Скажите, Глостер, вы не пробовали читать Шекспира в подлиннике?
Стоявший перед столом ничего не ответил, но Лир, похоже, и не ждал ответа.
— Запомните одно, Глостер… — продолжил он. — Только абсолютно здравомыслящий человек может позволить такую роскошь, как безумие… — Лир привычно пожевал губами, глядя в стол. Произнес тихо:
— Жаль, что вы не любите Шекспира.
Глостер выдержал подобающую паузу, спросил:
— Я могу быть свободным? Лир поднял глаза от стола:
— Вы можете идти, Глостер. А вот быть свободным… В этом мире никто ни от чего не может быть свободным. Никто и ни от чего.
— Знаешь, мне по-прежнему бывает страшно. — Аля повернулась на бок, положив голову на ладошку.
— От темноты? — спросил Олег.
— Нет. От времени. Порой мне кажется, за спиной уже так много всего, а я… У меня… У меня так ничего и не сделано, я так ни к чему и не готова… И жизнь может пройти, и ничего после не останется.
— Как сказал один умный человек: поступайте, дорожа временем, потому что дни лукавы.
— А что значит «лукавы»?
— Злы, обманчивы, переменчивы… И уходят, ничего не оставляя по себе. Так что… Ты правильно боишься.
— Ну, вообще-то… Страшно мне не всегда. А порой и совсем не страшно. Особенно с тобой. Знаешь почему? Я знаю, зачем живу.
— Действительно?
— Ага. Человек ничего не может забрать с собой. Он живет, чтобы дарить.
Оставлять. Людям.
— И ты знаешь, что ты хочешь подарить?
— Пока нет, но ведь даже такое знание — не так мало… правда?
— Правда. А ты не боишься, что…
— Люди могут отвергнуть мой дар? Конечно боюсь. Но и это не страшно. Тогда просто будешь несчастлива. Но ведь это же не значит — несчастна, … В конце концов, счастье — ведь не самое главное.
— Действительно?
— Так говорят.
— Глупо говорят.
— Наверное. Зато я знаю, что самое главное…
— Знаешь? — улыбнулся Олег.
— Теперь знаю. — Девушка прижалась к нему, потерлась носом о щеку, что-то прошептала неслышно, одними губами… — Аля прижала его руки, как победительница. — И не притворяйся, что ты не слышал! Ты же — слышал?!
— Слышал…
Он прильнул к ней одним сильным и нежным движением, и она закрыла глаза, чувствуя, как улетает туда, в бескрайнюю чистоту неба…
…К утру крупными хлопьями пошел снег. Он засыпал и двор, и неопрятную землю, укрывая собою все, оставленное людьми.




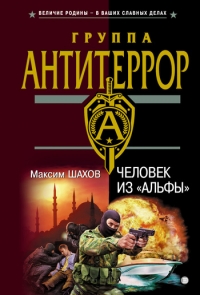
Комментарии к книге «Тропа барса», Петр Владимирович Катериничев
Всего 0 комментариев