Глава 1
Такси медленно ехало по улице, которую и улицей-то назвать было неудобно. С одной стороны тянулся заводской забор, из-за которого плыл удушливый запах плавленой пластмассы, а с другой стороны узкой асфальтовой ленты, лишенной тротуаров, шел пустырь – перекопанный, с обломками бетонных плит, торчащих из-под земли, с гнутыми прутами арматуры. Тут лежали брошенные неизвестно с каких времен бетонные кольца, похожие на огромную разрубленную на куски змею.
Уже смеркалось, такси ехало медленно, к чему спешить? Связавшись по рации с коллегами, таксист понял, ни на одной стоянке меньше часа пассажира ждать не придется. Тут, вдалеке от жилых домов, царила мертвая тишина, день же будний, транспорт ходит исправно, желающих прокатиться с ветерком под музыку наберется мало, разве что какие-нибудь кавказцы с бабами решат поразвлечься или вьетнамцы с огромными сумками, набитыми барахлом, захотят завезти товар на другую квартиру. Но таксист на то и таксист, чтобы смотреть в оба. Случайного пассажира можно подхватить и по дороге, а не на стоянке.
И точно, парень, сидевший за рулем, увидел двух мужчин, спешащих по пустырю к улице. В руках у одного была наполовину выпитая бутылка. Держались они на ногах довольно твердо, сомнений не оставалось – эти двое возможные клиенты. Правда, случалось и так, что подвыпивший человек вскинет руку, остановит машину, а потом лишь попросит прикурить.
Но у этих двоих сигареты торчали в зубах, исправно дымились. Таксист сбросил скорость, чтобы не проскочить возможных клиентов.
Еще не добежав до улицы, один из мужчин громко крикнул:
– Эй, шеф, стой! – и махнул рукой с бутылкой, затыкая горлышко большим пальцем, чтобы ни капли не пролилось на землю.
Брать этих пассажиров таксисту особо не хотелось, страшно стало – двое здоровенных лбов, коротко стриженые, с темными от загара лицами, широкие в плечах. Уже случалось, что сядут, а потом не заплатят. С такими лучше не спорить, заедут бутылкой по голове и бросят в машине, а то и выкинут вон, и хорошо, если не под колеса встречного грузовика.
Один из мужчин рванул на себя дверцу и плюхнулся на переднее сиденье. Второй забрался на заднее, и они оба расхохотались:
– Видишь, на ловца и зверь бежит. Только мы подумали с ветерком прокатиться, тут и машина. Небось, наши мысли учуял?
В салоне резко запахло перегаром, пропитавшим тела и одежду сигаретным дымом.
– Музон включи, – сказал тот, что сел на переднее сиденье, и, не дожидаясь пока шофер сам включит магнитолу, широким коротким пальцем вогнал торчащую из приемника кассету, отрегулировав громкость. – Ну вот, так веселее будет.
– Куда едем?
– Пока вперед.
– Если поездка на два рубля, то, ребята, лучше выйдите, я в парк спешу.
Мужчины переглянулись и сидевший на заднем сиденье хлопнул водителя по плечу:
– Не дрейфь, покатаемся на славу. Заплатим, не обидим. Езжай пока к проспекту, а там осмотримся, – и двое пассажиров тут же забыли, что находятся в машине не одни. Шофера они перестали воспринимать, как не воспринимали всех людей, бывших слабее их или ниже ростом.
– Витек, чем тогда кончилось?
– Чем, чем… Я ему всадил штык-нож в горло и провернул два раза.
– По самую рукоятку? – оживившись, поинтересовался сидевший сзади.
Чтобы иметь возможность разговаривать, он сильно подался вперед, и его голова оказалась между водителем и Витьком.
– Конечно, по рукоятку. Я даже пальцы в кровь испачкал. А второй на меня завалился, но уже с дыркой в башке был. Я чуть из-под них выбрался, весь в крови вымазался, как свинья в грязи. А она липкая, и бронежилет к животу приклеился. Представь себе, весь в крови, с головы до ног, а на самом ни одной царапины.
– Что мне представлять, сам такой был, – и мужчины ударили по рукам.
– Дай бутылку. Шеф, ты потише езжай, а то в горло не попадает. За воротник льется, – Ты, Андрюха, смотри не захлебнись, – сказал Витек.
– Если бы это был спирт, может и захлебнулся бы, – Андрюха, широко раскрыв рот, принялся заливать в него водку.
Такси тряхнуло на выбоине, и пассажир закашлялся, широко разведя колени сплюнул на рифленый резиновый коврик.
– Давай, допью. – Витек забрал бутылку и в три глотка осушил ее.
Затем он, отворив боковое стекло, швырнул ее так, как бросают гранаты – по восходящей траектории.
Бутылка ударилась в бетонный забор и разлетелась, сверкнув осколками.
– Куда, все-таки, едем, мужики? – поинтересовался таксист.
Впереди на перекрестке уже замаячил светофор.
– Направо? Налево сворачивать?
– Как на танке. Рули прямо и никого не бойся, – расхохотался Витек, поглядывая на таксиста.
– Не могу, машина не моя. Да и броня у нее тонкая – не танковая.
– Тогда налево, – и Витек повернулся всем телом к другу, развалившемуся на заднем сиденье.
Наконец для таксиста окончательно прояснилось, кого он везет, кто эти странные пассажиры. Лет двадцати пяти – двадцати восьми, здоровые, сильные, лишенные всякого страха. Вполне могло оказаться, что, кроме водки, они успели выкурить по косяку какой-нибудь дури.
– Ненавижу я их! Твари! Мразь!
– Ты про кого? – спросил Андрюха.
– Да про этих чеченцев. Они же сами своих и сдали. Нам, ты же понимаешь, оставалось выследить и захватить. Чего они уж там не поделили, но наши на этот раз сработали толково, ни разу не прошились. Все было чики-чики. Высадились, устроили засаду. Едут…
И представляешь, мы же днем брали, ты в прикрытии сидел, ничего не видел. Представляешь, никто из этих чеченцев даже дрыгнуться не успел.
– Как это не успел?
– Потом они уже дрыгались, а тогда, в первый момент, даже не поняли, что происходит. Мы их обложили, как баранов, и всех порезали. Даже не стреляли, опасно стрелять, поселок рядом. Услышали бы стрельбу, тут же подмога к ним пришла.
– Повезло, – сказал Андрюха и облизал пересохшие губы.
– Но нам тогда тоже досталось, свои из минометов по нам лупить принялись. Они думали, мы с гор спустились. Вот придурки! Но самое главное, успели на аэродром нас с пленными завезти. А куда потом этих пятерых чеченцев и двух украинцев – не наша беда. Нам поручили их взять живьем, живьем и взяли, остальных зарезали.
– Эй, стой! Витек, хватит, болтаем лишнее.
– Я болтаю? Ты что, думаешь он кому-нибудь скажет? Ты же никому не скажешь? – Витек положил руку на плечо таксисту и сжал свои пальцы так сильно, что таксист чуть не спрятался под баранку. – Эй, стопорни возле «Красного мака».
Машина, проехав короткими толчками еще метров двести, замерла. Витек выглянул в окно.
– Что за херня? А где «Красный мак»?
– Уже год его нет, – запинаясь, произнес молодой таксист.
– Как это нет?
– Поменяли.., другое теперь здесь заведение. Но тоже выпить можно и погудеть. Я иногда подвожу сюда ребят. Рок-клуб «Локомотив» называется.
– «Локомотив»? Спортсмены, что ли?
– Нет, всякие сюда ходят, – таксисту хотелось, чтобы эти двое как можно скорее покинули его машину, он был готов даже к тому, что они ему не заплатят.
Он уже увидел двух длинноногих девиц на тротуаре, ловивших машину. Никто пока еще не остановился, и он имел шанс заполучить пассажирок – уехать отсюда. Но расплатились с ним щедро, даже не потребовав сдачу. Двое парней – Витек и Андрюха – выбрались из автомобиля, таксист тут же рванул с места.
– Испугался.
– Думаешь? – спросил Витек.
– Еще бы! По его роже видно, у него ворот на рубашке стал мокрый.
– А может он даже в штаны наделал, когда ты его за руку цапнул.
– Не думаю, Витек. Вот же, суки, такое место, «Красный мак» испаскудили! Мы в нем с тобой столько перепили, стольких баб сняли, а тут, на тебе, хрен знает, что такое! «Локомотив» какой-то, колокол, смотри, железнодорожный болтается у самого входа и звезда над дверью с паровоза снятая.
– Ха-ха-ха, – выдохнул Виктор Каверин, он же Витек, он же старший сержант спецназа ГРУ.
Они вдвоем, Виктор Каверин вместе с Андреем Сизовым, не так давно вернулись из Чечни, куда их группу забрасывали для выполнения задания, а потом продержали еще месяц, затыкая ими всякие дыры, к которым спецназ ГРУ не имел никакого отношения. В Чечне они были уже в третий раз. Почти целый год, проведенный на войне, изменил их разительно. Если за год до Чечни они выглядели как солдаты, то теперь они больше походили на бандитов, которые не боятся абсолютно ничего.
Витек подошел к стеклянной двери в белой пластиковой раме и кулаком ударил по начищенному колоколу. Тот отозвался жалобным надтреснутым звоном.
– Как в церкви на похоронах, – засмеялся Андрей, ухватившись за кронштейн, на котором висел колокол, и легко на нем подтягиваясь.
– Эй, кончай, оторвешь еще, как-никак под сотню килограммов весишь, – Витек несильно ударил его кулаком в живот.
Андрей пружинисто спрыгнул и рванул дверь. Вход в рок-клуб охраняли двое парней из собственной службы безопасности. Парни нехилые, но по сравнению со спецназовцами – тщедушные.
– Здорово, мужики, – сказал Витек, прищурившись.
Он смотрел на парней в черной форме так, как смотрят на врагов, которых следует немедленно уничтожить.
– Чего вам? – осторожно поинтересовался один из охранников клуба.
– Выпить-то здесь можно, мужики? – и Витек протянул руку. ;
Охраннику пришлось поздороваться, потому что не сделай он этого, ладонь могла сжаться в кулак. С такими лучше по хорошему, придут, посидят, выпьют и свалят.
А может, баб зацепят. Но приглядываться к ним нужно.
– Можно и выпить. Только с собой у нас приносить нельзя.
– Было бы у нас с собой, – встрял Андрей, – мы бы, хрен, к вам пришли.
– Двенадцать тысяч за вход.
– Это за что же? – осклабился Виктор Каверин.
– За музыку.
– Чего тогда тихо?
– Перерыв, группы меняются. У нас сегодня, – охранник хотел сказать, какие группы сегодня играют, но потом понял, этим парням все равно, работает магнитофон или музыка играет в живую, им главное, чтобы водка была и пиво.
Они купили билеты. Обыскивать их никто не решился. Вразвалку парни отправились по длинному коридору, в конце которого ярко горели лампы. Они вошли в довольно-таки просторный зал с низким потолком и остановились. Убранство зала было своеобразным, казалось, будто они попали в огромный железнодорожный вагон. На сцене из разреза занавеса торчал нос паровоза с яркой, выкрашенной флуоресцентной краской звездой, украшенной мигающими лампочками. Из трубы рвалось, подгоняемое вентилятором, красное шелковое пламя.
– Ничего себе! – сказал Витек, запуская руки в карманы и оглядывая сцену, на которой сидели музыканты – трое длинноволосых парней и девица в очень короткой кожаной юбке и в огромных, как буханки формового хлеба, ботинках.
Парни дергали струны гитары, настраивая их в унисон, а девица щелкала ногтем по сверкающему камертону.
– Мы там, бля, кровь проливали, а они, патлатые Пидары, такой «Красный мак» испортили. Где наш столик стоял?
– Тяжело.., но кажется там. Пошли.
Поглядывая на музыкантов, парни пробрались в угол зала. Им приходилось обходить столики, у которых стояли свинченные из вагонов электричек деревянные сиденья. Окон здесь не было, на стенах были укреплены ложные окна, снятые со старых вагонов, а за стеклами ярко горели подсвеченные фотографические пейзажи.
– Как в поезде едем.
– Дембельский поезд, – рассмеялся Андрей, садясь на жесткую лавку. – Только рюкзака нет, да автомат между ног не торчит.
– Между ног у нас не автомат торчать должен, не в командировке, на отдыхе, – напомнил Андрей.
Рядом со столом высилась настоящая железнодорожная стрелка. Витек подергал рычаг, но он был намертво закреплен.
– Смотри, нам зеленый горит, – Андрей указал рукой на сцену, где загорелся зеленым светом семафор.
Публика еще только наполовину наполнила зал. Молодые парни, по большей части с длинными волосами в черных майках с самой разнообразной символикой, потягивали пиво из больших пластиковых стаканов.
Девицы тусовались не во вкусе спецназовцев – худосочные, почти без грудей. Цепи, браслеты, куртки в заклепках – этого водилось в изобилии.
Витек потянул носом:
– Дурь курят.
Чувствовался застоявшийся запах легких наркотиков.
– Ну что, раз зеленый, значит, поехали.
Андрей осмотрелся. Увидел за два столика от себя официантку в короткой юбке и в форменной фуражке железнодорожника.
– Эй! – крикнул он и громко трижды щелкнул пальцами.
Девушка обернулась. Ею оказалась мулатка лет двадцати, выкрашенная в блондинку. От неожиданности Андрей даже ойкнул, а затем произнес:
– Во бля! Ты знаешь, Витек, никогда с негритянками не трахался.
Ни один мускул на лице мулатки не дрогнул, она подошла и спросила, что ребята хотят. Девушка сразу определила, эти двое – случайные посетители.
– А что у тебя есть? – нагло глядя в разрез блузки на цепочку с православным крестиком, поинтересовался Каверин.
– Водка есть, – коротко ответила мулатка. – И пиво есть.
– Это правильно, – отозвался Витек, нагибаясь пониже, словно бы завязывал ботинок, и заглядывая официантке под короткую юбку. – Пиво без водки – перевод денег, и водка без пива тоже не то.
– Что будете?
– Для начала бутылку водки и четыре пива. И пожевать чего-нибудь, только немного – орешки, конфеты, сухарики – чего-нибудь соленого. Неси орехи.
– У нас сразу платят.
– Не проблема.
Деньги легли на стол, и вскоре мулатка вернулась с пластиковым подносом, на котором стояла бутылка «Московской», четыре пластиковых полулитровых стакана с пенистым пивом и мисочка с подсоленными орешками.
– Ваш заказ.
– Пониже нагибайся, когда поднос ставишь. – Витек облизнул губы.
Официантка смерила его равнодушным взглядом.
Загремела музыка. Было невозможно даже понять, на каком языке поется песня – то ли английский, то ли русский. Для Витька и Андрея все сливалось в оглушительном грохоте, но к грохоту, правда, к другому, они были приучены, могли разговаривать, находясь рядом с работающим крупнокалиберным пулеметом.
– А ничего здесь, барабан долбит, как «АКМ», – разливая водку по стаканам, сказал Андрей.
Мужчины переглянулись, чокнулись и выпили залпом. Тут же зачерпнули по пригоршне орешков и, жуя, стали осматриваться. Затем выпили еще, еще зажевали. Бутылка водки опустела, они даже не заметили, как появилась вторая.
Мир понемногу стал преображаться. Худосочные девицы уже не казались такими несъедобными, музыка стала вполне приемлемой. В зале вовсю шли танцы, с пивом, с сигаретами в руках молодежь – любители металла – танцевала у сцены.
Витек первым заприметил двух свободных девиц в блестящих платьях в обтяжку, в кожаных куртках, наброшенных на плечи. Они стояли на краю площадки, потягивали пиво через соломинки и пританцовывали, всем своим видом показывая, что свободны и не прочь к кому-нибудь присоединиться.
– Иди, пригласи.
– Куда пригласить? – спросил Каверин.
– Сюда. Место-то есть. Чего они стоят, дрыгаются, как будто их током долбит?
– Давай, схожу, – Андрюха поднялся, передернул сильными плечами, опустил немного голову и двинулся через зал, как таран, рассекая танцующую толпу.
На него старались не обращать внимания, он был чужеродным телом в зале. Андрюха прошел танцующих насквозь, как проходит камень сквозь листву деревьев, и стал напротив девчонок, которым было-то лет по шестнадцать, а может, и того меньше. Но их тела уже вполне сформировались, и природа брала свое: им уже требовались мужчины.
Андрей их поразил. Во-первых, никогда раньше они его здесь не видели, а во-вторых, он не был похож на тех парней, с которыми им раньше приходилось иметь дело.
– Привет, девчонки! – сказал Каверин. – Стоим?
Скучаем?
– Да нет, не скучаем, – вяло потягивая пиво, ответили девчонки в один голос.
– Может, составите компанию?
– Может и составим. А что ты можешь предложить?
– Могу предложить водку с пивом, а потом.., посмотрим чего…
– Чего именно? – спросила девица с малиновыми в прозелень волосами.
– А чего вы хотите?
– Мы пока сами не знаем, не решили, чего хотим.
– Тогда пойдем, – Андрей взял их за руки, причем без их согласия и без особого усилия потащил за собой.
Он подвел девчонок к столу и толкнул одну к Витьку чуть ли не на колени, вторую усадил рядом с собой. – Эй, иди сюда! – крикнул он, подзывая официантку. – Принеси еще два стакана, водку, пиво и шоколадки.
– Мы не едим шоколад.
– Мы сожрем, – и Витек, и Андрюха даже не спрашивали у девиц имена, разговаривали с ними просто на «ты».
Девицам было немного не по себе, но в то же время и любопытно, что за двое здоровяков затесались сюда, каким ветром их занесло. Уверенности девицам придавало то, что рядом было много знакомых: и парней, и девушек. В случае чего за них заступятся. А пока можно на халяву выпить. И они выпили.
Что, что, а спаивать девиц и Витек, и Андрюха умели, тщательно следя за тем, чтобы водка выпивалась до дна, а затем запивалась пивом.
– Шлифуйте, шлифуйте.
– Может, у вас и закурить найдется? – хитро посмотрев в глаза Витьку, спросила девица с зелеными волосами.
Тот протянул сигареты.
– Нет, не это. Травка, может, есть?
Мужчины переглянулись. , – Купить дурь здесь можно? – спросил Андрей.
– Конечно можно, только она денег стоит.
– Это понятно. Может, купишь, и мы покурим?
– Давай деньги.
Купюры легли на стол. Денег у этих двоих парней было много, с такими деньгами сюда никто не ходил.
И у одного, и другого лежало в карманах по пачке крупных банкнот, перетянутых резинкой. Девушка взяла деньги, вильнула тощим задом и затерялась в толпе танцующих. Через минут пятнадцать она вернулась со спичечным коробком и четырьмя «Беломоринами».
– Вот, принесла. Говорят, хорошая.
– А будет плохая, – сказал Андрей, – ты покажешь, кто продал.
– И что тогда?
– А мы его по стене, козла, размажем в оторвем ему яйца.
– Ну уж, отрывать-то зачем?
– Думаешь, он яиц не отрывал? – произнес Андрей, кивая на Витька. – Он козлам чеченским уши отрезал и глаза выкалывал.
Девицы подумали, что парни их разыгрывают, прикалываются, рисуются. Они уже решили, что долго с ними не пробудут, так, немножко порисуются, на халяву травку покурят, выпьют и аккуратно смоются. А мужчины уже со знанием дела принялись вытряхивать табак из папирос. Делали они это так, как может делать лишь человек искушенный.
– И вам набить?
– Мы сами умеем, – оживились девчонки и принялись наманикюренными пальцами не очень умело разминать папиросы.
– Не порти, дай сюда!
Была расстелена салфетка, на нее вытряхнули табак, высыпали половину содержимого из коробка и смешали все спичкой. Карандаш стоял в салфетнице, такой тупой, что писать им было невозможно, а для набивания папирос он годился, как нельзя лучше. Через пару минут четыре папиросы уже тлели. И девчонки, и мужчины сидели, полуприкрыв глаза. Витек курил так, чтобы ни капли дыма не пропало даром, беря папиросу огоньком в рот. Андрей курил, спрятав папиросу в ракушке ладоней. Девицы же курили в открытую.
«Сейчас поплывут», – подумал Витек, переводя взгляд с одной девчонки на другую. Но те держались.
Наконец папиросы были скурены до самого основания. Девица с малиновыми волосами чувствовала, что начинает плыть. Выкурила на халяву она много, хватило бы и одной папиросы на двоих с подругой. Она почувствовала, как рука Андрея легла ей на колено и змеей поползла под юбку. Такое обращение в этом месте было не принято, но пока она не протестовала. Она с трудом сдерживала позывы тошноты и постепенно это гнусное ощущение – тошнота – стало связываться с соседом, он уже раздражал ее. Пить больше не хотелось, курить тем более. Она незаметно подмигнула подруге.
Та даже сразу и не заметила условного знака. Ее руку Витек засунул себе между ног и крепко сжал так, что даже пальцы затекли. Перерыв у музыкантов кончился, новая группа начала свое выступление. Музыка обрушилась на зал так резко, сразу заставив заскучавших уже посетителей повскакивать с мест. Вскоре возле сцены уже тряслась, колыхалась в бешеном ритме масса людей. Над головами взлетали руки с майками, мелькали голые торсы, воздух пропах дымом, запахом пива и потом. Даже Витек поддался тяжелой музыке, он раскачивал головой и громко притопывал, сидя за столом.
– Потанцуем, – сказала девушка с малиновыми волосами, одергивая юбку. – А ты не наглей, – обратилась она к Андрею, – еще не вечер.
Тот глянул на танцующих и понял, что так вытанцовывать не сможет, да и не хочет. Хотелось выпить и завалить бабу. Один стакан с пивом оставался еще не допитым, он жадно сглотнул выдохшееся пиво и плюхнул водку прямо в остаток пены. Когда он выпил водку, то заметил, что девушек рядом уже нет.
– А где бабы? – спросил он у качавшего головой Витька, – Там.
– Где?
Тот неопределенно махнул рукой в сторону танцующих.
– Трястись пошли, а может, отлить.
Андрей всмотрелся и разглядел в толпе танцующих малиновые с прозеленью волосы.
– Ничего баба. Думаю, она по-всякому умеет.
– Пошли и мы отольем.
Мужчины довольно уверенно двинулись к выходу, прошли мимо охраны и завернули в туалет. Тут было довольно чисто и даже пахло дезодорантом. В кабинках дверей не стояло, на стене, противоположной унитазам, тянулся ряд массивных фаянсовых писсуаров.
На подоконнике возле приоткрытого окна сидели двое парней в цепях, с нарисованными татуировками и курили одну «Беломорину» на двоих.
Подойдя к писсуару, Андрей расстегнул молнию штанов и посмотрел на парней.
– Чего пялишься, пидар, что ли?
– Сам ты пидар, – немного боязливо ответил один из парней, сидевших на подоконнике и глубоко затянулся, прикрыл глаза.
Вот этого ему говорить не стоило. Андрей отлил, стряхнул капли и застегнул молнию.
– Ты что сказал?
– Ничего, – ответил парень, торопливо спуская ноги с подоконника, его приятель, наоборот, поджал ноги под себя.
– Да нет, козел, я слышал, ты меня пидаром назвал. Ты слышал, Андрей?
Более благоразумный, чем его друг, Андрей Сизов пожал плечами.
– Я не слушаю, что всякие там пидары гнойные говорят. Пошли.
И спецназовцы вроде бы уже собирались уходить, Витек даже повернулся спиной к сидевшим на окне, но затем, резко развернувшись, схватил их за волосы и ударил несколько раз лицо об лицо, разбивая носы, губы.
– На хрена ты! – Андрей остановился в двери.
Парни завыли, заскулили, застонали. Андрей стащил их, подволок к писсуарам и ткнул головами в фаянсовые раковины, где валялись размокшие окурки.
– Охладитесь, козлы!
Затем подошел, вымыл руки, аккуратно вытер их бумагой и довольный, полный собственного достоинства вышел из туалета.
– Баб заберем и поедем ко мне.
Мужчины вышли в зал, но понять, где же в толпе затерялись их девчонки, не могли. Пришлось забраться повыше. Единственным возвышением в зале была сцена, если не считать столов и барной стойки. Не обращая внимания на музыкантов, Витек вскочил на сцену и, приложив козырьком ладонь ко лбу, как Илья Муромец на картине Васнецова, принялся осматривать танцующих. Он увидел мелькнувшие малиновые волосы и тут же спрыгнул на пол. Расталкивая парней, девиц, расплескивая чужое пиво, выбивая из пальцев сигареты, он пробирался в середину танцующих. Рванул за плечо девицу с малиновыми волосами.
– Пошли, Андрюха ждет!
– Отвали!
Он даже не сразу понял, что ошибся, цвет волос сбил с толку пьяного. Девушка смотрела на него ничего не понимая, продолжая держать своего парня за руку.
– Ты что, сука, думаешь, зря мы тебя поили, зря травку покупали?
– Какую траву? У тебя крыша поехала?
– А ну пошли, сука! – Витек рванул девушку на себя.
Та выплеснула в лицо ему остатки пива из большого стакана. Длинноволосый парень хотел оттолкнуть спецназовца, но, естественно, Витек даже не качнулся.
Он сходу перехватил руку парня, хрустнул выворачиваемый сустав. Над головами танцующих мелькнули кроссовки, и парень полетел, сбивая с ног танцующих.
Еще двое бросились на Витька, но их постигла та же участь. Андрей, наблюдавший за дракой со стороны, матюгнулся и бросился на помощь, разбрасывая парней и девиц.
– Эй, кончай базар! – кричал он. – Всех загасим! Стоять!
Кто-то повис на нем сзади, вцепившись в шею. Но этого делать не стоило. Даже не оборачиваясь, Андрей локтем заехал бездарно напавшему на него в голову, Хрустнули зубы, раздался сдавленный крик. И, уже не разбирая дороги, смахивая всех, кто попадался ему на пути, Андрей пробрался к Витьку.
И тут они устроили самое настоящее побоище. За двадцать секунд уложили на пол человек двенадцать с разной степенью увечий. В дело ввязались четверо охранников из службы безопасности рок-клуба. Но что такое четыре любителя, пусть и тренированных, против двух профессионалов!
Они еще сражались, а официантка-мулатка уже вызывала милицию. Одному из охранников Витек выбил челюсть и размозжил нос ударом кулака. Охранник, облаченный в черно-белый камуфляж, лежал в луже крови, уткнувшись лбом в бедро сидевшей на полу и визжавшей девицы.
– А ну, кто еще? Козлы, пидары патлатые! – ревел Витек, стреляя глазами по сторонам.
Музыка на сцене смолкла, и музыканты стояли, вытянув шеи, разглядывая побоище. В клубе «Локомотив» случалось всякое, но подобного музыканты никогда раньше не видели, разве что в кино. Два мужика в пиджаках, непонятно откуда взявшиеся, уже загасили человек двенадцать и добивали охрану.
Клуб «Локомотив» у милиции находился на плохом счету. Его уже не раз собирались закрыть. Милиция знала, что здесь торгуют наркотиками, но скажите, где в первопрестольной ими не торгуют? Владельцев клуба спасало то, что здесь не случалось больших драк, синие и кавказцы в него не ходили, музыкальная, специфика их не устраивала, здесь имелся свой контингент. Но вот появились какие-то залетные и сразу возникла драка. Теперь была возможность повинтить всех, найти наркотики и закрыть клуб.
Четверо омоновцев в серой камуфляжной форме, размахивая дубинками, влетели в зал.
– Там! Там! – кричали девчонки, расступаясь и показывая на стоящих спина к спине Витька и Андрея.
Несмотря на наводку, досталось и девчонкам, били без разбору.
– Всем лечь! Лицом вниз! – закричал омоновец.
Но встретившись взглядом с Андреем Сизовым, понял, что дубинка не поможет, дубинка в такой ситуации не оружие. Но, тем не менее, он решил отличиться. Сделал ложный выпад, качнулся вправо, затем влево.
Витек с присвистом произнес:
– Прикрой спину, Андрюха! – и, схватив за дубинку, дернул омоновца на себя, сбил его с ног короткой подсечкой, а затем двумя ногами прыгнул ему на грудь.
Андрей Сизов увидел, что в руке другого омоновца появился электрошоке?.
– Ты меня током, урод? Да ты крови не нюхал! Вы тут, суки, пока мы там… – и нога Андрея, описав дугу, каблуком припечаталась к челюсти омоновца, и тот, описав дугу, улетел в толпу.
– Лежать! Стрелять буду! – от дверей крикнул омоновец с автоматом в руках.
– Стреляй, козел! – Витек подхватил милиционера, лежащего на полу, и, прикрывшись им, как щитом, ринулся вперед.
Андрей с дубинкой в руке шел за ним, оглядываясь по сторонам, не давая никому приблизиться к его другу.
– Стой, стрелять буду! – два одиночных выстрела прошли поверх голов.
– Ах ты, сука! – крикнул Витек, бросая омоновца на стрелявшего.
Тело, пролетев метра три, сбило стрелявшего с ног, а Витек, уже схватив автомат за ствол и завладев оружием, прикладом ударил поднявшего голову омоновца, а Андрей ребром ладони долбанул стрелявшего, надолго вырубив его. Они бежали вдвоем по длинному коридору, бежали, прижимаясь к стене, когда впереди возник офицер милиции с пистолетом в руке и громко крикнул:
– Лежать! Стреляю!
Витек, даже не задумываясь, чисто машинально, как делал это на войне, нажал на спуск, скосив милиционера короткой очередью. Была бы граната, бросил бы и ее.
– На хера! – закричал Андрей.
– Если бы не я, он бы нас, – изрек нехитрую истину, не раз спасавшую ему жизнь в боевых условиях, Витек. – Быстрее, уходим!
Стрельба, запах пороха, кровь, драка, рукопашный бой словно бы отбросили парней на время назад и сейчас они находились уже не на гражданке, а где-то в вымышленном мире, куда их забросило Главное разведывательное управление, и выполняли непонятно какое офигенно нужное правительству России задание.
Они и в горах особо не задумывались, зачем стреляли, в кого, просто стреляли, чтобы не застрелили их, двигались из точки "А" в точку "Б" с единственной мыслью – выжить.
Когда они выскочили на улицу, тогда и случилось самое страшное. За ними бросился вдогонку омоновец, уже понявший, что его командира застрелили. Каверин и Сизов замешкались на крыльце, решая, куда броситься бежать, рванули во дворы. Омоновец же, выскочивший и оказавшийся под начищенным колоколом, вскинул автомат и выстрелил, как он думал, по ногам убегавших, пытаясь этим их остановить. Андрей вскрикнул, схватившись за плечо, он стоял, покачиваясь, еще не понимая, что ранен.
– Стоять! Бросай оружие, стреляю! – крикнул омоновец, понимая, что одного из парней он достал.
– Ах ты, сука!
Вместе со словами вылетела очередь, омоновец рухнул на тротуар.
– Вот теперь ..здец, – сказал Витек, держа автомат в левой руке и подхватывая шатающегося Андрюху.
«Раненого выносят с поля боя», – возникла мысль в голове пьяного спецназовца.
Краем глаза он увидел микроавтобус «форд-транзит» притормозивший у пешеходного перехода на светофоре. Он понял, это единственный шанс уйти отсюда.
Наставив ствол автомата на водителя, Витек крикнул Андрею:
– Садись, мать твою!
Тот вскочил в салон. Витек, обежав машину, рванул на себя дверцу, схватил водителя за плечо и выбросил на асфальт. Тот на четвереньках пополз к осевой, что-то выкрикивая.
– Заткнись, козел!
Микроавтобус рванул с места. И только сейчас Виктор Каверин, глянув в зеркальце заднего вида, увидел детские лица. В салоне, вжавшись в сиденья, сидели школьники – восемь человек.
– Во бля, не повезло!
Но тут же понял, как раз, наоборот, повезло, по автобусу с детьми стрелять не станут. «Форд» помчался по осевой полосе. Витек гнал машину, вдавив сигнал ладонью левой руки, автомат лежал на коленях. В уме он прикидывал, сколько патронов осталось в рожке.
– Как ты там, брат? – крикнул он, обращаясь к Андрюхе.
– Зацепили меня.
– Сильно?
– Терпимо. Кость вроде цела.
– Погоди, погоди, перевяжу, только приедем. Нам бы к гаражу прорваться, а там нас хрен возьмут. Там у меня оружие, взрывчатка…
Андрей только тихо матерился. Его левая рука онемела, кровь капала на пол. Перепуганные дети молчали, вжавшись в сиденья, но в то же время их начинал разбирать интерес. День кончался, они спокойно ехали из школы, микроавтобус развозил их по домам, а тут такое…
Будет что рассказать. Двое террористов захватили их как заложников. Кто эти двое, что с ними произошло, школьники не понимали, но интерес их разбирал, правда, они еще не решались задавать вопросы.
* * *
Капитан Илларион Забродов, инструктор ГРУ, уже мысленно вычеркивал прожитый день из своей жизни.
Он сидел на траве, смотрел на зубчатый край леса, который уже был еле различимым в сумерках. Тело сковывала усталость. С самого утра Забродов тренировал группу на полигоне. Испытания прошли двадцать восемь из тридцати бойцов.
Забродов был доволен собой. Он сам отобрал ребят в группу, которую готовил уже полгода. Предыдущую ему так и не дали подготовить до самого конца, кто-то распорядился, и ребят бросили в Чечню. Не помогло и то, что Забродов возражал против этого, пытаясь доказать, что нужен еще месяц или два для психологической подготовки. Мало уметь стрелять, бегать, прятаться, убивать и самому спасаться. Нужно понять, что служба в спецназе ГРУ не увлекательная игра, а жизнь. Одно дело, когда все происходит на полигоне, на огороженной территории, и совсем другое, когда то же самое происходит в селении, в котором совсем недавно спокойно протекала мирная жизнь.
Как ни пытался Забродов доказать свою правоту, ему это не удалось. Вроде бы с ним соглашались, что подготовка не закончена, но тут же глаза начальства становились стеклянными, когда разговор заходил о не поддающихся формулировке понятиях – о восстановлении конституционной законности, о высших государственных интересах. Тут уж Забродов был бессилен, как-никак, его звание – лишь капитан, а говорить ему приходилось с полковниками, с генералами, которым приказы пришли сверху.
Не помог и его авторитет, непререкаемый среди служивших в ГРУ. Инструктора Забродова за глаза называли не иначе как «асом третьей мировой войны». Даже самый близкий Иллариону человек – полковник Андрей Мещеряков – и тот соглашался с ним лишь наполовину.
– Ну что ты упрямишься, Илларион? Сколько ты им не доказывай, это ничего не изменит. В конце концов, они правы. Твои ребята – подготовленные солдаты, а солдаты должны воевать.
– Воевать, если идет война. Но они еще не готовы, они еще психологически слабы, могут сорваться и наделать глупостей. А отвечать придется, в конце концов, мне, я их учил.
– Кто их послал, тот и ответит, – резонно заметил полковник Мещеряков.
– Есть разная ответственность: перед начальством и перед самим собой.
– Выбрось это из головы. Есть приказ, мы должны его выполнять.
– Приказ можно выполнять по-разному, – махнул рукой Илларион Забродов.
Полигон всегда удивлял Забродова. Он был, как море, сколько на него не смотри, он все время разный, готовит, подкидывает сюрпризы. Здесь то спокойно, как сейчас, словно штиль установился на море, то вся земля превращается в ад, горит, трещит от взрывов, фонтаны земли взмывают в воздух и пелена дымовой завесы закрывает полигон, пряча под собой людей, технику.
Забродов запрокинул голову, посмотрел в почти уже ночное небо. Он знал все созвездия по именам, знал названия самых крупных звезд, знал, в каком месте небосвода окажется через месяц та или иная звезда.
Ночную тишину нарушил звук, похожий на жужжание шмеля.
«Едут», – подумал Илларион.
Звук этого мотора он знал. Поднялся и увидел как по грунтовке мчится на большой скорости автомобиль.
«Какого черта так спешат? Будто на пожар. Неужели что-то стряслось?» – Илларион вздохнул и вышел на дорогу.
Машина затормозила резко, ее даже развернуло поперек дороги. Дверца распахнулась, и полковник Meщеряков выскочил на траву. Полковник был одет в штатское – черные брюки, серая рубашка. Тут, в поле, он чем-то напомнил Иллариону Забродову председателя колхоза или главного агронома, который заметил нарушителя в своих угодьях.
– Илларион, я тебя уже битый час ищу, ношусь по полигону. Скорее в машину!
Забродов был приучен, что время на разговоры лучше не тратить, вскочил в командирский «уазик». Полковник Мещеряков запрыгнул на переднее сиденье, и прежде чем дверцы захлопнулись, машина рванула с места.
– На КПП! – крикнул Андрей так громко, будто бы водитель сидел не рядом с ним, а находился метрах в двухстах.
«Уазик», подскакивая на разбитой траками грунтовке, помчался по полигону.
– Да что ты тянешься, мать твою, как таракан беременный! Сержант, ездить умеешь?!
– Товарищ полковник, движок больше не дает, рассыплется!
– Хрен с ним, жми! Тут же прозвучал сигнал сотового телефона, зажатого в руке полковника Мещерякова. Он приложил его к уху, правой рукой держась за трубу каркаса.
– Да, да, полковник Мещеряков! Слушаю вас!
– …
– Так точно! Нашел, нашел наконец!
– …
– Да, товарищ генерал, еще не докладывал!
– …
– Пока не в курсе, расскажу по дороге.
– …
– Да, едет, со мной. Через час окажемся на месте.
– …
– Вертолет уже ждет. Высылайте машину к посадочной площадке.
– …
– Да, да, так точно!
Мещеряков захлопнул крышку и сплюнул через плечо в окошко.
– Илларион, там ЧП…
– Где там? Чего орешь?
Капитан Забродов разговаривал с полковником так, словно тот был младше его по званию. И самое странное, Мещерякова тоже посещало подобное чувство.
– Говори конкретно, что случилось?
– А конкретно вот что… Двое наших бойцов – Каверин и Сизов – надеюсь, ты их помнишь?
– Помню конечно, из предыдущей группы.
– Они вернулись из Чечни, их отправили в отпуск.
– Что случилось?
– Одно только нас и спасает, что они сейчас в отпуске.
– Конкретнее, полковник, конкретнее!
– Они захватили заложников, восемь детей, школьников, вместе со школьным микроавтобусом закрылись в гараже. Каверин никого не подпускает, требует, чтобы их завезли в аэропорт, чтобы там их ждал самолет с полными баками.
– Что они натворили?
– Тебе этого мало?
– С чего-то же все началось?
– Началось, как всегда, Илларион, с двух пьяных баб. То ли они накурились, то ли нанюхались чего, начали буянить в каком-то рок-клубе, то ли «Дизель», то ли «Локомотив», хрен его знает, все в голове смешалось. Началась драка, приехал ОМОН. Ментов они на пол положили, один дурак в них выстрелил.., они забрали автомат. Перестрелка… Двоих омоновцев парни убили. Один из наших парней вроде бы ранен… Выскочили на улицу, а тут автобус… Все-таки ты их научил кое-чему. Как я понимаю, они действовали на автопилоте, вряд ли и сейчас осознали, что натворили.
Водителя выбросили, с детьми заехали в гараж.
– Оружие у них какое?
– Автомат у омоновцев забрали, да и в гараже, как я понимаю, арсенал – взрывчатка, гранаты, стрелковое оружие. Я не удивлюсь, если у них там и пулемет найдется. Наверное, торговали оружием. Понимаешь, какой скандал зреет?
– Я к ним, кстати, уже год, как отношения не имею, – напомнил Забродов, – и я же, кстати, был против, чтобы их, не доучив, бросали в Чечню, в пекло. Еще бы пару месяцев, и я бы из них людей сделал, а так, только и успел – спецназовцев.
– Ты что, Илларион? – сказал Мещеряков.
«Уазик» уже подъезжал к воротам КПП, прямо за которыми стоял милицейский вертолет.
– Да, прав ты был тогда, Илларион, прав. Но сейчас надо спасать честь мундира.
– Детей спасать надо, – уточнил Илларион.
– Ты думаешь, они смогут…
– Смогут, – сказал Илларион. – Они Чечню прошли, полковник, а это тебе не учения на полигоне, там все взаправду – и кровь, и пот, и кишки, и смерть каждый день на плечах сидит, руки к шее тянет. Я же знаю, что у них в голове творится, они рассуждают просто, – негромко говорил, четко произнося каждое слово, Илларион Забродов, – если не ты, то тебя. Вот они по этому принципу и действуют, а простых ответов на сложные вопросы не существует. Кстати, штурмовать их не пытались?
– Нет, нет, Илларион, генерал Глебов пока все держит под контролем, хотя там уже и ОМОН, и ФСБ, и милиция, и «Скорая помощь», и снайперы.., весь набор. Такого я, честно признаться, не припомню.
– Раньше и Чечни не было, – тихо сказал Илларион.
– Да, боевой опыт у них есть. Илларион, что-то надо делать, ты же их знаешь?
– Знаю, – сказал Забродов.
– Глебов рассудил так, что ты их учил, тебе и расхлебывать.
– Пошел бы он! Если бы не дети, я бы не поехал.
– Я бы тебе приказал.
– Ты знаешь, Андрей, приказать мне можно, но это не значит, что я приказ выполню, и сделаю так, как приказывали.
– Знаю. Давай, побежали!
Лопасти вертолета уже вращались, и, впрыгнув в салон, Илларион захлопнул дверцу. Вертолет почти тут же оторвался, и, заложив вираж, помчался к Москве.
Разговаривать в вертолете было невозможно. Опять зазвонил телефон. Как ни прижимал трубку к уху полковник Мещеряков, как ни кричал в микрофон, ни сам ничего не слышал, ни его слов разобрать не могли.
«Вот так всегда, – подумал Илларион, – полная неразбериха. Вертолет милицейский, везет двух гээрушников, переговорных устройств нет, никакой слаженности. Чем дальше, тем хуже. Надоела бодяга, нервотрепка. Провались вы все пропадом!»
Но он уже забыл о том, что день выдался невероятно тяжелый, а ночь может оказаться несоизмеримо тяжелее и сложнее. Он хорошо помнил всех тех, кого готовил, и сейчас перед его глазами стоял строй в двенадцать человек, среди которых – Каверин и Сизов.
«Андрей Сизов из тех людей, кто слабо чувствителен к боли. Такому можно иголки под ногти загонять, он все выдержит. А Каверин слишком нервный, горячий. Я еще тогда сомневался, оставлять его в группе или отчислить. Лучше было бы, если бы тогда отчислили. Андрей сам на такое не пошел бы, скорее всего напились, завязалась потасовка, а он оказался рядом, тут и сработало чувство локтя, „наших бьют!“. И наверное, вступился, хотя, черт его знает, они же прошли Чечню. Там крыша у кого хочешь поедет».
– Послушай, Андрей, – тронул за плечо Мещерякова Забродов, затем наклонился и прокричал ему в самое ухо. – Когда они вернулись?
– Три недели назад, – и полковник Мещеряков для верности показал три пальца, хотя Илларион Забродов понял по губам, что речь идет не о трех днях.
– Чем они занимались? Какое было задание? – кричал на ухо Забродов.
Мещеряков развел руками:
– Знаю одно – проводили захват.
– Понял, – кивнул Забродов.
Глава 2
Вертолет медленно пошел на снижение. Возле шоссе стояло несколько автомобилей, расхаживали люди в бронежилетах и в касках. Вертолет высветил прожектором место для посадки, медленно опустился. Лопасти еще продолжали вращаться, еще подрагивал корпус, а Забродов и Мещеряков уже выскочили на засыпанную гравием площадку и, пригибаясь, побежали к машинам. Полковнику Мещерякову махнул рукой милицейский чин, указывая на «форд» с мигалкой:
– Вот, товарищ полковник, машина вас доставит на место.
Мещеряков с Забродовым вскочили в салон, майор сел впереди рядом с водителем. Взвыв сиреной, «форд» выскочил на шоссе и помчался к кольцевой. Теперь уже можно было поговорить по телефону.
– …
– Мещеряков говорит, – кричал полковник, – какие изменения?
– …
– Все по-прежнему?
– …
– Едем, скоро будем. Мы уже возле кольцевой, мы уже на кольцевой.
– Ты еще о каждом нашем шаге докладывай, – толкнул локтем в бок Мещерякова Забродов.
Тот спрятал телефон в карман и мрачно произнес:
– Там уже журналисты появились, телевидение с камерами. Как только узнают?
– Значит, шума много наделали, – и Забродов замолчал, глядя в стекло.
– Ты уже придумал что-нибудь? – поинтересовался Мещеряков.
– Что бы я сейчас не придумал, все равно случится по-другому. Приедем на место, сразу куча неожиданностей обнаружится. Не мешай, – Илларион отстранился и потер виски, затем улыбнулся. – У меня, Андрей, день сегодня тяжелый выдался. Я пробежал, прополз, прошагал тридцать километров. Ты, полковник, представляешь себе, что такое тридцать километров с полной выкладкой?
– Представляю.
– Наверное, ты в последний раз лет десять тому назад преодолевал такое расстояние.
– Да нет, я в этом году кросс бегал, чуть не сдох после.
– Тебе легче, – Забродов открыл карман камуфляжной куртки, вынул пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. – Первая за этот день, только сейчас потянуло закурить.
– Значит, немного отошел.
– Нет, это от нервов.
Илларион провел ладонью по одному плечу, по другому, словно смахивал пыль с погон, на которых не было звезд. Куртка старая, потертая, местами порванная. Но на Забродове она сидела так, как сидит на дипломате хорошо скроенный смокинг.
Гараж Каверина располагался почти на самом выезде из Москвы. «Форд» остановился перед первой полосой оцепления. Два автоматчика заглянули в машину, майор милиции перекинулся с ними парой фраз, и машину пропустили дальше. Она остановилась под стеной двухэтажного, силикатного кирпича дома, в котором располагался шиномонтаж и магазин по торговле импортными автозапчастями.
– Гараж за домом, – сообщил майор, когда Мещеряков и Забродов вышли из машины.
Тут же появился генерал Глебов. Он поздоровался с Забродовым за руку и строго посмотрел на Мещерякова, словно бы хотел сказать – почему так долго? Военные стали возле машины, генерал Глебов разложил на багажнике нарисованный от руки маркером план участка.
– Вокруг на крышах снайперы, – сообщил генерал Глебов.
– Я их уже видел, – ответил Илларион Забродов.
– Вот это гараж, – он указал пальцем на маленький квадратик на плане, отмеченный красным кружком и крестиком. – К гаражу не подходит никаких коммуникаций, кроме электричества и водопровода, – говорил генерал.
– Извините, – перебил его Забродов, – дети живы, с ними все в порядке?
– Пока да. В гараже смотровая яма, погреб. Гараж большой, капитальный, ворота железные, широкие, такие сразу не выбьешь. Окон нет, лишь проемы, заложенные стеклоблоками. Мы вели с ними переговоры, сейчас они наотрез отказались от общения, выставили ультиматум: если через час, а уже прошло двадцать минут, им не пообещают, что самолет ждет их на взлетной полосе, они взорвут гараж, себя и детей.
– Чем взорвут? – – В гараже есть взрывчатка, во всяком случае, они так говорят. Тут беседовали с соседями по гаражам, они утверждают, там две бочки с бензином. Машину Каверин продал, гараж был пустой.
– Хреново, – сказал Забродов, абсолютно потеряв интерес к плану.
Он вышел за машину, выглянул за угол. Виднелись омоновцы, занявшие позиции, кто за машиной, кто за зданием. Все они были в касках, в бронежилетах, от этого казались неповоротливыми и неуклюжими. Гараж ярко заливал свет, строение располагалось отдельно, участок был выделен не так давно, часть гаражей была еще не достроена.
Забродов присел на корточки, закурил, задумчиво глядя на недавно покрашенные железные ворота. А затем словно попросил о небольшом одолжении:
– Надо прожектора выключить. Зачем их слепить, только злим.
Через тридцать секунд прожектора погасли, лишь горел фонарь на столбе, тускло освещая недостроенные гаражи и коричневую железную дверь с номером пятнадцать. Забродов уже успел рассмотреть то, что ему надо было. Вентиляционная решетка в гараже была выбита изнутри, валялась на неестественно желтом с черными пятнами солярки песке.
Из вентиляционного отверстия при необходимости можно было вести прицельный огонь, не хуже чем из амбразуры. Подобраться к гаражу незамеченным было невозможно, вокруг открытое пространство, да и подбираться не имело смысла – как вовнутрь проникнешь? Нет окна, чтобы выбить, а начни высаживать ворота, так на это уйдет несколько минут, успеют взорвать.
– Им пообещали что-нибудь?
– Да, пообещали предоставить самолет, если выпустят детей.
– А они, конечно, сказали, что полетят вместе с детьми?
– Верно, – кивнул генерал Глебов.
И тут появился полковник ОМОН в бронежилете, в каске с поднятым стеклянным забралом. Полковник был зол, на груди висел автомат, в руке он держал рацию, стоял в каске с поднятым забралом.
– Выучили, сволочей! – зло сказал он с легким южным акцентом. – Двух моих ребят положили. Наши в ярости, если дорвутся до них, растерзают на месте.
Мне так и сказали – мы до этих мерзавцев доберемся.
Если бы не дети, мы бы давно их в порошок стерли.
– Если бы не дети… – задумчиво произнес Забродов. – Злость – плохой помощник.
К генералу Глебову полковник ОМОН испытывал какое-то уважение, а вот Забродов, спокойно сидевший на корточках с зажженной сигаретой в зубах, вызвал у него приступ ярости.
– Ты кто такой?
– Илларион Забродов, – не поворачиваясь к полковнику, представился инструктор ГРУ и выпустил легкое облачко дыма.
– Какой такой Забродов? – крикнул полковник, отчего акцент стал более явным, и топнул ногой.
– Тише, полковник, не горячись, это инструктор, – шепотом сказал генерал Глебов.
– Это он выучил убийц?
Мещеряков мягко взял милицейского полковника за локоть и, глядя ему в глаза, сказал:
– Лучше бы он выучил твоих бойцов, тогда бы мы все не сидели здесь.
На другом конце оцепления вдруг ярко вспыхнул свет.
– Кто зажег? – спросил Забродов.
Мещеряков посмотрел на полковника, тот тут же воспользовался рацией.
– Журналисты, мать их!
Свет погас. Забродов поднялся и мягко сказал:
– Полковник, сходите и договоритесь, чтобы журналисты пока не лезли. Пообещайте, что потом дадите все снять.
– Да их на хрен отсюда сейчас выкинут! – рявкнул полковник.
– А вот этого делать не надо, – все так же мягко продолжал говорить инструктор ГРУ Илларион Забродов, – иначе они могут и вертолет для съемок нанять, а это нам ни к чему.
– Ты уже что-то придумал, Илларион? – безо всякой субординации обратился генерал Глебов к Забродову.
– Почти, – тихо прошептал Илларион. – Громкоговоритель, надеюсь, есть?
– Полковник, есть громкоговоритель? – обратился к полковнику ОМОН генерал Глебов.
– На той стороне, возле машин.
– Хорошо, – кивнул Забродов, – минут через десять он мне понадобится.
И в это время немного приоткрылась гаражная калитка, послышался крик, нервный и злой:
– Эй, не стреляйте, мать вашу…! Ребенку плохо! Я его выпускаю. Но учтите, времени у вас мало.
Из двери вытолкнули ребенка. Мальчик шел, волоча за собой ранец за отстегнувшуюся лямку, он шел спотыкаясь, покачиваясь. Сделав шагов семь, застыл на месте, а затем перегнулся пополам, и его начало рвать.
Илларион двинулся к ребенку. Его даже не успел остановить никто из оцепления, ведь все следили за воротами. Илларион подошел к мальчику, наклонился, поднял ранец и, даже не глядя на гараж, повел его, спрятал за машину.
– Забродов! Капитан Забродов! – послышался крик из гаража. – Вы-то нас знаете, мы шутить не будем.
– Знаю, – крикнул Илларион, – я еще с вами поговорю.
– Не хрен с нами говорить, пусть самолет готовят.
А если самолета не будет, или вы что-нибудь надумаете, мы себя не пожалеем, рванем гараж!
Забродов не отвечал. Дверь гаража закрылась. Понемногу парнишка пришел в себя.
Илларион присел на корточки:
– Тебя как зовут?
– Шура, – ответил мальчик.
Он был хорошо одет, у него были длинные светлые волосы.
– Слушай, Шура, что там в гараже?
Мальчик передернул худыми плечами:
– Все сидят в автобусе, выходить никому не разрешают, только пописать дали, водили в угол по одному.
Гараж они заминировали, – голосом знатока сказал одиннадцатилетний школьник.
– Чем заминировали?
– У них там гранаты и, как говорили, мины.
– Большие круглые?
– Да-да, как торт.
– Противотанковые, – сказал Забродов.
– По моему, противопехотные.
– Может быть, молодец. Какое у них оружие, Шура?
– Два автомата, рожки связанные.
– – А во что они одеты?
– В бронежилеты. Гранаты, патроны я сам видел.
– Бронежилеты, говоришь?
– Да, и целый ящик патронов, ящик такой зеленый…
– Молодец.
– А еще у одного рука завязана белой тряпкой, ранен он.
– У кого? Как зовут, не запомнил?
– Почему не запомнил, Андреем зовут. Он вроде как добрый, а второй – злющий, сумасшедший, крыша точно поехала. Меня от запаха бензина тошнит.
Там бензина две бочки, а они курят – одну за другой.
– Сигарет у них много?
– Не знаю, – сказал ребенок, задумался, – из одной пачки оба курят.
– Значит, до конца ультиматума, точно, пачку докурят, а потом еще больше обозлятся.
– Ваш шофер курил?
– Да. Они и забрали его сигареты.
– Они пьяные? – спросил Илларион, заглядывая в глаза мальчику.
– Немного, но по-моему, больше травой обкуренные.
– Ишь ты, разбираешься!
– Кино смотрю, в Москве живу все-таки, а не где-нибудь.
– А твой отец кто?
– В таможне работает, в аэропорту.
– Понятно. Серьезный, должно быть, мужчина.
– Серьезный, – сказал Шура. – Волнуется.
– Думаю, Шура, твой отец там, за оцеплением. – Забродов вышел из-за машины и стал метрах в двадцати напротив гаражных дверей. – Эй, Андрей, ты меня слышишь?
В гараже царила тишина. Затем скрежетнула дверь, приоткрывшись совсем на немного.
– Слышу, капитан.
– Тебя серьезно ранило?
– Автомат держать могу.
– Это хорошо. А крепко его держишь?
– Крепко, капитан.
– Руки не дрожат?
– Нет, не дрожат. Вы же сами учили, рука бойца не должна дрожать.
– И с кем ты воевать собрался?
– Ни с кем, – крикнул Андрей Сизов, – мы хотим с Витьком отсюда убраться подобру-поздорову, не хотим проливать кровь. Так что вы скажите им, капитан, чтобы они дурака не валяли, а приняли наши условия.
Все-таки две бочки бензина – это серьезно, будет настоящий крематорий, все сгорит, как в плавильной печи.
– Красиво говоришь, Андрей. Может, вам сигарет передать?
– Не надо.
– Тогда я пошел, – абсолютно спокойно, будто просто вел дружескую беседу, сообщил Забродов и не спеша отправился за угол дома, где его поджидали генерал Глебов, милицейский полковник и Андрей Мещеряков.
Расспрашивать о разговоре было бы глупо, все происходило на глазах, каждое слово слышали.
– И что? – только и спросил полковник Мещеряков.
– Погоди, время у нас есть. Главное сбить их с толку, вывести из того состояния, в котором они сейчас пребывают, – Забродов уселся на бампер машины и снизу вверх посмотрел на полковника в бронежилете. – Вы армянин, по-моему?
Тот насторожился. Обычно в приличном обществе о национальностях говорить не принято, тем более в Москве о том, что человек – кавказец.
– Я из Баку.
– Армянин?
– Да.
– Вот это и плохо, – в голосе Забродова не прозвучало ни презрения, ни ненависти, просто констатация факта. Человек – армянин, и это почему-то плохо.
– А то, что они русские – это хорошо? – в сердцах воскликнул милицейский полковник, показывая на гараж, в котором засели два спецназовца, ставшие террористами.
– Тоже плохо. Вот это-то и нехорошо, что судьба свела вас вместе. Мне все равно, кто вы по национальности, я людей по этому принципу не делю, но существуете-то вы в данной ситуации не для меня, а для них. А у этих ребят на лицах кавказской национальности крыша поехала. Они только услышат легкий акцент, рука сама к оружию тянется. Я не прав?
– В общем-то правы, – согласился полковник.
– Вот видите, а вы первым начали с ними через мегафон вести переговоры, и только усугубили ситуацию. Может быть, они уже и сложили бы оружие, ко мне-то отнеслись без всякой злости?
– Но это ничего не изменило ни там, ни здесь.
– Что за ребята эти школьники?
– Вот список, – полковник порылся по объемным карманам и подал распечатку.
Забродов пробежал его глазами. Там были только фамилии, имена и годы рождения.
– И тут не хорошо, – он наморщил лоб, – школа частная, дети богатых родителей. Для людей с неуравновешенной психикой – липшее раздражение. Да и дети привыкли чувствовать себя независимо, их заставить слушаться практически невозможно, только под стволом автомата.
– Стволы у них есть, – напомнил генерал Глебов.
Может быть, все продолжалось бы тихо, но майор привел троих в штатском, ими оказались люди из ФСБ. Ведь слух о террористах и об убийстве двух омоновцев был распространен по всем каналам спецслужб, и тут столкнулись интересы разных ведомств – ГРУ, ОМОНа и ФСБ.
Пока еще не было министров, но уже приехал один заместитель директора ФСБ. Он вел себя нагло, то, что говорят другие, его не интересовало, он привык слушать лишь себя.
– Вот когда в Буденовске Басаев со своими орлами-стервятниками..
– Послушайте, только не надо про Буденовок, – перебил Илларион генерала ФСБ.
Тот резко дернул головой, мол, кто это смел меня перебивать.
– Было бы чем хвастаться, как будто подвиг какой совершили.
– Мы сделали все…
– Лучше бы вы этого не делали, – куря сигарету, сказал Илларион.
Генерал Глебов тронул его за плечо, дескать, потише, капитан, тут люди с большими звездами, и лучше не встревать, тебя не за этим привезли сюда.
– Что вы собираетесь делать? – уже немного смягчившись, спросил замдиректора ФСБ, он обратился к генералу Глебову и полковнику ОМОНа.
– А что мы можем предпринять, там же дети.
– А если штурмовать?
– Их штурмовать бессмысленно, они сказали, что взорвутся. В гараже бензин, взрывчатка, оружие.
– Откуда оружие?
Генерал Глебов прикрыл глаза:
– Не знаете, генерал-лейтенант, откуда у них оружие? А откуда оружие берется в Москве? Откуда, вот скажите мне? Вот оттуда и у них.
В общем, какой был вопрос, такой и ответ.
Эфэсбэшник поморщился:
– Может, вызвать нашу группу захвата, как-никак люди опытные, с террористами имели дело не один раз.
– Не надо, – сказал Забродов, – сами справимся.
– Я вижу, как вы тут управляетесь. Уже три часа они в гараже, а дело не сдвинулось ни на сантиметр.
– Наверное, вы хотите, чтобы началась стрельба, чтобы гараж взорвался? Там, как-никак, генерал-лейтенант, семеро ребятишек.
– Было восемь, одного отпустили. Сволочи, мерзавцы! Повыучивали их на нашу голову!
– Это точно, – поддержал впервые за весь разговор эфэсбэшника Илларион Забродов. – На нашу голову. Ну да ладно, – он бросил окурок на землю, тщательно растер подошвой.
– У вас есть еще час, – сказал генерал ФСБ, – если ничего не сдвинется, я меняю людей, вызываю своих спецназовцев и мы разберемся с вашими мерзавцами так, как умеем.
– Погодите, – сказал генерал Глебов.
Андрей Мещеряков все время молчал, нервно покусывая губы. Он понимал, если кто и сможет что-то сделать, так это Илларион Забродов. Как и каким способом – Мещеряков не представлял. Но знал, у того в жизни все получается, если конечно, ему не мешают глупыми приказами и распоряжениями.
– Илларион, что ты собираешься делать? – нервно спросил Мещеряков.
– Что делать, что делать… Пойду попробую договориться.
– Ты что!? Они же тебя могут застрелить, надень бронежилет.
– Думаешь, они не попадут в голову, если захотят?
– Надень каску.
Забродов рассмеялся:
– Если бы эти штуки помогали, я бы наверняка их надел, а так они лишь раздражают.., как и кавказский акцент.
– Тихо, тихо, Илларион! Полковник нервничает, да и генералы нервничают. В такую передрягу они попали из-за нас. Будь это где-нибудь на периферии, километрах в трехстах от столицы, да с другими детьми, все было бы по-другому.
– Знаю, – сказал Илларион, – забросали бы гараж гранатами, начали бы штурм.
– Послушай, Илларион, а если их отравить?
– Кого их?
– Сизова с Кавериным.
– Как ты себе это представляешь? – с интересом посмотрел на полковника Мещерякова Забродов.
– Как, как… Подбросить им отравленной водки, детям они ее давать не станут, а сами выпьют и вырубятся.
– Хорошая мысль, полковник, очень хорошая. Ты что, предлагаешь мне взять пару бутылок водки и пойти в гараж с ними выпить по стопарику за удачный исход дела?
– А что? Почему бы и нет? Во всяком случае, можно попытаться им занести.
– Ты еще предложи отравить водопровод. Если кому-нибудь из них станет плохо, они тут же взорвут гараж, я их знаю, – сказал Забродов. – И единственное, что пока удерживает этих двух придурков, так это то, что мы еще не наделали глупостей и ведем с ними честную игру. Поэтому и они с нами – по честному.
Но это, полковник, до поры до времени. Если ситуация чуть-чуть изменится, если что-то качнется, то все пойдет прахом. Одна искра – громыхнет взрыв, я уверен.
И еще я уверен, что они ходят с гранатами с выдернутой чекой.
– Сам бы на их месте поступил так?
– Сам бы я так не поступал, но на большее у них фантазии не хватает. А этот способ – проверен и надежен. Кстати, когда рука держит гранату, ты чувствуешь себя защищенным, хотя в любую минуту можешь взлететь на воздух – психологический парадокс.
Забродов поднялся, расстегнул на куртке все пуговицы.
– Пропустить! – крикнул полковник.
Забродов держал руки так, словно он шел сдаваться.
– Эй, капитан, стой на месте, иначе стреляю.
– Не надо стрелять, подпусти к гаражу, у меня ничего нет.
– Повернись! – послышался крик Каверина из узкой щели в приоткрытой калитке. – Нечего нам с тобой разговаривать!
– Включите прожектор на меня! Осветите! – приказал Забродов, но негромко.
Тут же вспыхнул прожектор. Он несколько раз, как на подиуме, повернулся, похлопал по карманам, показывая, что не вооружен.
– Куртку сбрось, капитан! – нервно потребовал Виктор Каверин.
Забродов снял куртку, бросил на землю. Он остался в черной майке с короткими рукавами, майка плотно облегала торс. Витек и Андрей смогли убедиться, что у капитана Забродова оружия при себе нет.
– Ладно, подходи! – крикнул Каверин. – Сигареты у тебя хоть есть?
– В штанах, – Забродов достал пачку и держал ее в руке как пропуск.
Когда до двери оставалось четыре шага, Каверин крикнул:
– Брось сигареты под дверь!
Пачка сигарет, брошенная Забродовым, застряла в щели, такой она была узкой. Дверь, чтобы ее нельзя было вышибить, изнутри гаража подпирал брус. Сигареты тут же исчезли.
– Подходи, только спиной вперед.
Забродов подошел спиной к калитке, почувствовал плечами металл.
– Теперь можешь повернуться.
Илларион медленно повернулся. В гараже было темно, свет лампочек, запитанных от слабых, уже подсаженных аккумуляторов горел только в автобусе. Забродов рассмотрел лица детей, все они сгрудились у заднего стекла, раздавили о него носы, щеки, пытаясь что-нибудь услышать или увидеть. Он наконец-то сумел рассмотреть внутренности гаража.
"Да, – подумал он, – точно, две бочки с бензином.
В горловину одной из них была заткнута тряпка, ее конец свисал почти до самой земли, явственно пахло бензином. Один щелчок зажигалки вблизи от тряпки, и все действительно может превратиться в плавильную печь".
В темноте возник язычок пламени, вспыхнула сигарета. Прикурил Витек. Он сидел на верстаке, одной рукой – локтем придерживал автомат, в другой сжимал гранату. Ствол автомата целился точно в Забродова. Щель была шириной в ладонь, не пролезть.
Илларион привалился спиной к калитке и почувствовал, та укреплена, она не поддалась даже на миллиметр.
– Что, дверь заблокировали?
– Как вы и учили, капитан, – сказал Андрей, которого Забродов не видел, он стоял прямо за дверью.
– У тебя рана-то серьезная?
– Да нет, пустяк, царапина, даже гранату могу сжимать.
– Ты бы ее в другую руку переложил, мало ли чего.
На кой хрен вам самолет, ребята? Куда вы на нем полетите, в Крым загорать, что ли?
– Наше дело, – тут же ответил Витек. – Мы же денег не просим, какого хрена менты в нас стреляли?
– А зачем вы с ними связывались?
– Поздно сейчас говорить об этом, капитан. Не мы связывались, они первые на нас поперли, а мы только ответили, как вы нас учили.
– Плохо же вы учились. Я вас учил слабых не обижать.
Несмотря на ужас ситуации, Витек не выдержал, засмеялся:
– Да уж, помню, солдат ребенка не обидит и беременную женщину тоже, и калеку-мента обижать грех.
– Вот видите, кое-что помните. Так зачем вам самолет? Вам же его никогда не дадут.
– Дадут. Тут такие детишки, что их родители скинутся и не только зафрахтуют, но и сам самолет купят вместе с экипажем.
– Не будет этого, мужики, не дадут вам до самолета добраться. Омоновцы на вас осерчали. Поверьте, только из гаража выберетесь, стрелять начнут. И поверьте, не промахнутся.
– Да, я уже видел, снайперы на крыше сидят. Если захочу, сам одного из них сниму, только не хочется мне больше стрелять.
– А чего ж тебе хочется, Витя?
– Убраться отсюда поскорее.
– А потом?
– Потом? Подумать, может и раскаемся.
– Давай, открывай дверь, – Забродов несильно ударил ногой в дверь, – детей жалко.
– Эй, капитан, не дури, не дергайся. Дверь мы тебе не откроем, детей не отпустим. Пока самолет нам не дадут, с места не двинемся. Нам спешить некуда, можем хоть неделю сидеть.
– А детей кормить чем будете?
– Найдем, не твоя забота. А захотим, и привезут.
– Не боишься, что тебе отравленной водки притащат?
– Нет, не боюсь. Я вначале того, кто принес, попробовать заставлю. А потом, как ты учил, детям дадим лизнуть.
– Витек, непорядок получается, ты со мной на «ты», никакой субординации, я ж тебя этому не учил.
Как ко мне обращаться надо?
– Товарищ капитан, – неохотно сказал Витек, спрыгивая с верстака и подходя чуть ближе.
– Вот это другое дело, уже можно разговаривать.
Андрюха, если что случится, я тебя знаю, жить ты не сможешь.
– А вы мне, капитан, душу не травите, я и сам знаю свою судьбу. Дерьмовая моя судьба.
– Но судьбу еще можно исправить.
– Вот мы и хотим исправить, – зло крикнул Каверин, – самолет, и никаких гвоздей! И уходите отсюда, капитан, от греха подальше уходите, не злите меня. Вы здесь, может быть, единственный, в кого мне всадить пулю не хочется, кто мне ничего плохого не сделал.
– А ты мне – сделал, Каверин. Из-за тебя всех спецназовцев ГРУ станут называть мерзавцами и отморозками. Вот один генерал из ФСБ уже приехал, нотации мне взялся читать, словно больше меня понимает. А мне и ответить нечего, потому как прав он. Не эфэсбэшники омоновцев постреляли, а мои ребята. Я же вас учил, воспитывал…
– Да, капитан, правду говорите. Вы с нами из одного котелка жрали, из одного стакана пили, и никогда, видит бог, нас не обижали. Так что на вас лично мы обиду не держим.
– Мне уже предлагали принести для вас отравленной водки.
– Ну и что? – засмеялся в глубине гаража Андрей Сизов. – Мы бы выпили. Может быть, так оно было бы спокойнее.
– Сдохли бы прямо с гранатами в руках, – добавил Забродов. – Ладно, мужики, открывайте дверь, я должен убедиться, что с детьми все в порядке.
– Посмотрите в щель, капитан, вон они – все в машине. Детей, как вы нас учили, не обижали, в машине закрыли, они там и сидят.
– Одному же стало плохо.
– Это у него от страха, – сказал Витек. – Мы его выпустили.
– Правильно сделали. Хорошо бы было, чтобы вы и остальных выпустили.
Незаметно Забродов взглянул на часы. Время ультиматума уже истекло, он десять минут говорил сверх положенного, а двое в гараже не замечали этого. Но Илларион понимал, они спохватятся, долго так продолжаться не может. Он понимал и другое, будь у него сейчас пистолет, он бы без труда смог застрелить их.
Но в гараж все равно не залез бы, да и гранаты в руках у обоих. Так что подобный вариант отпадал напрочь.
Оставалось лишь одно – уговорить.
И тогда он сказал самое главное:
– Мужики, давайте по честному. Ведь вас могли убить двадцать раз в Чечне, десять раз в Таджикистане и в других местах – много-много раз. Так что умереть вы могли месяц назад или год назад. Но пока вы живы, и то, что вы живы, считайте, везение.
– Нас расстреляют? – спросил Андрей Сизов с нервным смешком.
– Смертную казнь отменили, вы что, не знали?
– Нет, – честно признался Витек.
– Президент своим указом отменил, иначе в Совет Европы Россию бы не приняли. Так что расстрелять вас не расстреляют, дадут пожизненный срок. Или ГРУ постарается, чтобы вас упекли в «дурку», если хотите, можете стать сумасшедшими, хоть сейчас заявление пишите.
Андрей подошел к самой щели, уже не прячась от Забродова.
– Херню городишь, капитан, я под дурака косить не собираюсь. Сдаваться не умею.
– Мужики, вам уже не жить. Так что сдавайтесь, а детей отпустите.
– Чему-чему, капитан, а сдаваться вы нас не учили, не умеем, – рассмеялся Каверин.
– Всегда чему-нибудь приходится учиться, а если проиграл, то уж не плачь и не сучи ножками, Андрей.
Как-никак, не в Брестской крепости сидите, в гараже не станете на стенах писать «Умрем, но не сдаемся!», глупо получится, пошло.
– А что делать? – уже дрогнувшим голосом спросил Андрей.
– Да заткнись ты! – крикнул на него Каверин. – Не понимаешь, он же зубы заговаривает.
– Подожди, Витя.
– Они, наверное, уже гараж окружили.
– А что толку? Хоть десять раз его могут окружить, хоть бетонный колпак пусть строят, нам-то все равно, граната в руке, бензин здесь…
– И дети здесь, – зло пробурчал Забродов.
– Попадись нам под руку автобус с омоновцами, мы бы в заложники взяли их. Но с детьми спокойнее, они-то драться не лезут, да им все это и интересно, – уже нервно скрежеща зубами, смеялся Каверин.
Забродов стоял и смотрел в щель. Андрей, даже не посоветовавшись с Витьком, ударом ноги вышиб брус.
– Заходите, капитан.
– Нет, мужики, лучше вы выходите, мне там делать нечего.
– Боитесь, что вас возьмем в заложники?
– Вот этого я не боюсь. Меня столько раз брали, Витек, что тебе и не снилось. А потом не знали, что со мной делать. Давайте, выходите. Бросайте автоматы и вошли.
Андрей Сизов подошел к бочке с бензином, на крышке которой лежала чека от его гранаты, аккуратно заправил ее. Забродов, если бы захотел, мог в любой момент войти в гараж. Но он не спешил это делать, понял, ребята сломались и сейчас выйдут.
Он повернулся к ним спиной и негромко крикнул:
– Погасите прожектор! Мы идем вместе.
Затем толкнул ногой железную калитку, открывая ее настежь.
– Пошли, мужики!
Каверин и Сизов в бронежилетах, с автоматами в руках переступили порог гаража. Забродов стоял, словно бы прикрывая их собой.
– Бросайте оружие, – тихо сказал он.
Андрей бросил автомат. Тот звякнул о бетонную отмостку. Каверин медлил, затем брезентовый ремень заскользил в его руке, автомат бесшумно лег на землю, пальцы левой руки разжались.
– Пошли, – сказал Забродов, делая шаг вперед.
Но ни Забродов, ни Каверин с Сизовым даже не предполагали, что происходит там, в темноте, где были генерал и полковники.
– Стрелять на поражение, целиться в головы, – тихо по рации распорядился полковник ОМОНа, уже согласовав свои действия с начальством.
– Эй, осторожнее, – крикнул генерал Глебов, – там же Забродов!
– В первую очередь, там дети, – опуская рацию, прошептал полковник милиции.
Выстрелы слились в один. Андрей Сизов упал лицом вниз прямо на автомат Каверина. Витек дернулся, почувствовав опасность. Одна пуля вошла ему в лоб, вторая в горло, и он, вскинув пустую руку, завалился на спину, гулко ударившись о железные ворота.
Мещеряков успел только увидеть, как Илларион Забродов падает.
«Неужели и в него попали?» – мелькнула мысль, и он бросился вперед, несмотря на крик полковника.
– Назад!
Всего лишь секунду царила тишина, а затем к лежащим побежали. Первым добежал Мещеряков. Забродов лежал поверх мертвых Каверина и Сизова. Мещеряков схватил его за плечо и хотел повернуть на спину.
– Отвали! – зло сказал Забродов. – Подо мной граната!
Эти слова услышали все и попятились. Мещеряков замер на месте, все еще продолжая сжимать плечо Забродову. Затем отдернул руку, словно бы прикоснулся к раскаленному металлу, и сел, прикрыв локтями живот.
– Ты что, не слышал? Подо мной граната, чеку дай! Быстро!
– Где? Что – заметался Мещеряков, лихорадочно пытаясь сообразить, где сейчас можно добыть чеку.
– В гараже, на бочке.
И только сейчас Мещеряков вспомнил о существовании самого гаража, об автобусе с детьми в нем. Все его мысли были лишь о гранате, которая в любой момент может взорваться. Он влетел в гараж, дети от заднего окна метнулись к боковым. Мещеряков рукой остановил их, показывая, чтобы подождали. На крышке бочки и в самом деле лежала чека с белым кольцом.
Бережно, двумя пальцами, как драгоценный перстень, полковник Мещеряков взял чеку и вернулся, уже шагом. Его рука подрагивала, когда он поднес ее к самому лицу Забродова.
– Куда? Как?
– Положи вот здесь, – глазами указал Забродов, – и все отойдите. Закрой калитку в гараж.
Расставив руки в сторону. Мещеряков отходил. Отходили и вооруженные люди. Забродов медленно перевернулся, одновременно вытаскивая из-под себя одну руку, второй он продолжал сжимать пальцы мертвого Каверина. Осторожно ввел усики чеки в отверстие ручки гранаты и отогнул их. Тишина вокруг царила такая, что было слышно как скрежетнула проволочка о металл. Затем Илларион один за другим отогнул пальцы мертвого и взял гранату в свою ладонь.
– Все, порядок.
Он положил гранату на землю и устало зашагал к полковнику-армянину, который стоял возле угла двухэтажного здания. Наконец, остановившись, он вытащил носовой платок из кармана камуфляжных брюк и вытер лицо, мокрое от пота.
– Зачем было стрелять? – устало спросил он.
Полковник ничего не ответил, лишь отвел взгляд.
А затем тихо сказал:
– У него же была граната.
– Вот именно поэтому стрелять и не стоило.
И, не выдержав пристального взгляда инструктора ГРУ, полковник побежал к гаражу, из которого уже выводили детей. На время все забыли о Забродове. Он открыл дверцу машины, в которой сидел майор ГАИ.
– Майор, завезете домой? Я понимаю, ваша машина не такси, но у меня с собой ни денег, ни документов.
– Завезу, – майор сам сел за руль.
Тут к машине подбежал Мещеряков, он держал куртку Забродова.
– Илларион, куртку забыл.
– Точно, давай ее сюда, – Забродов тряхнул куртку, сбивая с нее пыль, и бросил ее себе на колени.
Мещеряков хотел было тоже сесть в машину, но ас-инструктор зло рванул на себя дверцу, захлопывая ее перед самым носом своего друга.
– Поехали!
– Илларион, я не виноват! Я не отдавал приказа стрелять, я даже не знал о нем. Эфэсбэшники долбаные…
– Верю, – поднимая стекло, не глядя на Мещерякова, ответил Забродов.
– Закуривай, – предложил майор ГАИ, немолодой мужчина, – я же видел, ты им свои сигареты отдал.
– Что-то не хочется, в горле першит.
– Куда едем? – спросил гаишник, включая мигалку.
За стеклами проплывали люди, стоящие в оцеплении, машина «Скорой помощи», два грузовика, крытые брезентом, два пожарных автомобиля.
– К Белорусскому вокзалу.
– Там и живете?
– Да нет, немного подальше, но хотелось бы пройтись пешком, голову проветрить. Устал я сегодня.
– Все устали, – вздохнул майор, – всем хватило.
* * *
Все ждали, что после этого случая Забродов или психанет, или же откажется готовить следующую группу. Но тот вел себя абсолютно спокойно, словно бы ничего и не произошло, словно не было сумасшедшей ночи, гранаты с выдернутой чекой в руке мертвого спецназовца, словно бы не было перепуганных детей, их взбесившихся от страха родителей.
Такой исход, который случился, устраивал многих: террористы мертвы, дети живы. Скандал почти сразу удалось замять. Если бы террористы остались живы, возможно, поднялся бы большой шум, суд, публикации в прессе. Но так как были задействованы довольно влиятельные ведомства, скандал и удалось замять.
Забродов продолжал служить, а когда разговор заходил о двух его бывших воспитанниках, всегда обрывал:
– Вам поговорить больше не о чем? Если хотите что-то узнать, поговорите с Мещеряковым.
Миновал ровно месяц. Пошли слухи, что Забродова представляют к награде и собираются присвоить внеочередное звание – четыре маленькие звезды капитана поменять на одну майорскую. Но случилось неожиданное: Забродов подал рапорт об уходе в отставку. Он сделал это тихо, без шума, никто даже не успел опомниться. Вначале он подал заявление на очередной отпуск, а следом, получив на нем визу, положил на стол рапорт об уходе в отставку.
Забродов покинул ГРУ, не дождавшись майорской звезды, и многие его сослуживцы даже крутили пальцы у виска.
– Ушел бы на месяц позже. Какая разница? И пенсию больше получил бы, и майор все-таки – это не капитан, как-никак высший офицер.
Но у Забродова имелись свои резоны, которыми он ни с кем не хотел делиться, даже с Мещеряковым, которого начальство подослало уговорить инструктора остаться. Но найти Иллариона тому не удалось, как он ни пытался.
Соседи не знали, где Забродов, квартира закрыта. Лишь через неделю он встретился с пожилой женщиной, которая пришла убирать квартиру. Та ему сказала, что хозяин куда-то уехал, вроде бы купил дом в деревне. Но где, она не знала, и когда вернется, тот ей тоже не сообщил.
"Но не станет же Илларион кур и свиней разводить?
Дом в деревне… – недоумевал Мещеряков. Затем задумался: а может, и у него крыша поехала, а может, станет пчел разводить, как Шерлок Холмс, пасеку построит? С него станется. Он человек крайностей, ничего не умеет делать наполовину".
И тут, когда Мещеряков уже хотел развернуться и уйти из квартиры, зазвонил телефон. Пожилая женщина извинилась, и, держа в руке мокрую швабру, пошла брать трубку. Она говорила совсем недолго, затем выглянула из гостиной:
– Извините, это вы Андрей?
– Да, я, – изумился Мещеряков.
– Вас хозяин просит.
И вновь Андрею Мещерякову пришлось изумиться, как тот догадался, что именно в этот момент он окажется на пороге его квартиры. Но если бы это был первый сюрприз от Забродова, а такое случалось часто…
– Андрей, я вернусь через три недели. Все в порядке. Ты даже не можешь представить себе, как хорошо быть свободным человеком!
– Ты сошел с ума, Илларион! У тебя крыша поехала!
– Может быть, но свободным приятнее жить. Кстати, мой рапорт подписали?
– Тебя ждут.
– Зачем ждать? Я в нем все изложил.
– Ты ни хрена там не изложил: почему? зачем? Ты что, всю свою прежнюю жизнь перечеркнуть хочешь?
– Ты не понял? Я ее уже перечеркнул. Она, действительно, уже осталась в прошлом времени.
– Какой дом в деревне? Ты из Москвы решил уехать, что ли?
– Нет, настолько у меня крыша еще не поехала.
Просто подыскал себе жилье, чтобы в квартире сделать основательный ремонт. До этого руки не доходили, теперь у меня время появится, да и место, где смогу отсидеться, появилось. Так что успокой всех, скажи, Забродов жив, здоров, чего и остальным желает, – в трубке раздались короткие гудки.
– Придурок! – в сердцах сказал Мещеряков, но тут же устыдился, потому что вспомнил тот липкий страх, который обуял его, когда он услышал; «отвали, подо мной граната!».
Глава 3
Евгений Петрович Кублицкий пребывал в прекрасном настроении, несмотря на свои шестьдесят пять лет.
Сегодня он умудрился получить деньги сразу в двух местах: дали пенсию, а в троллейбусном парке выдали зарплату, на которую в общем-то никто сегодня не рассчитывал, потому как все уже привыкли, что ее выдают с опозданиями. Евгений Петрович, отстояв очередь, получил свои кровно заработанные, от чего настроение мгновенно улучшилось. Правда, он мог бы и не стоять в очереди, отложить приятную процедуру на завтра, жить ему было на что, ведь во время обеденного перерыва он сбегал за пенсией, так что деньги у него имелись.
Тут же, как всегда случается, когда в руках у человека появляются деньги, подвернулись и знакомые, два таких же работающих пенсионера, как и он. Раньше все они работали водителями троллейбусов, но сейчас коренные москвичи троллейбусов практически не водили, для этой работы вполне хватало приезжих, молодых мужчин, готовых крутить баранку за половинную плату: украинцев, белорусов, молдаван. Контингент работников в троллейбусном депо за последние несколько лет разительно поменялся. Возле кассы, хоть все и говорили по-русски, но слышались разнообразные акценты, проскакивали украинские, молдавские, белорусские и казахские слова.
Те двое, которые тормознули Евгения Петровича, были людьми местными, коренными москвичами, которые родились в столице и прожили в ней всю жизнь. Но этим в разговоре с водителями-новичками не кичились, хотя на приезжих и поглядывали с нескрываемым презрением. За баранку старых водителей уже не пускали, и поэтому они занимались ремонтом троллейбусов.
– Женя, здорово! Как ты? – спросил абсолютно лысый низкорослый мужчина, смахивающий на актера Леонова, за что в свое время получил кличку Винни-Пух.
– Да ничего, – ответил Евгений Петрович Кублицкий, пряча деньги во внутренний карман куртки.
– Может, пойдем, как в старые добрые времена, по пузырю раздавим?
Евгений Петрович колебался, хотя исход знал наперед – согласится:
– Вечно ты, Винни-Пух, втравишь меня в какую-нибудь историю!
– Женька, что ты как не свой, словно молдаванин дурной? Это они радиатор с гармошкой путают.
– Потише…
– А что такое, – Винни-Пух осмотрел разнонапиональную очередь, – черных боишься?
Замечание Кублицкому показалось немного оскорбительным, но в общем справедливым. Молдаване, работавшие в троллейбусном депо, отличались беспросветной несообразительностью и невероятной жадностью. В очереди молдаване, как правило, неизменно оказывались первыми, к тому же приходили не все вместе, а по одному.
Стоило кому-нибудь оказаться у кассы, как тут же начинали подваливать земляки и пристраиваться не в хвост очереди, а в голову, поближе к окошечку. Что-либо говорить этим пришлым людям не имело смысла, они, как правило, прикидывались глухими или начинали огрызаться, коверкая прекрасный русский мат.
Украинцы, как ни старались, как ни хитрили, не могли прийти раньше молдаван. Белорусы же всегда толпились с русскими вперемешку, интегрировались.
– Ну, так как ты, Женька?
– А кто еще будет? – спросил Кублицкий, покусывая верхнюю губу и вытряхивая из пачки сигарету.
Толстые пальцы Винни-Пуха потянулись к чужой пачке:
– Давай, одну испорчу.
– Ты же не куришь, черт тебя побери.
– Курить не курю, а твою испорчу. Женя, с преогромным удовольствием, выпотрошу одну и табак нюхать буду.
– Не дам, – сказал Кублицкий.
– Тогда деньги давай.
– Сам пойдешь?
– Нет. Сейчас Семена пошлем, он быстро пару пузырей водки поднесет.
– Договорились. Но скажи, чтоб больше двух не брал, здоровье уже не то. Это в былые времена мы с тобой могли сидеть по двое-трое суток, теперь уже все.
Да и Герольда надо на прогулку вывести…
– Ну и имя же у твоего пса, как у какой-то газеты – «Герольд трибюн», – проговорил Винни-Пух, коверкая название уважаемой во всем мире газеты.
– Другое дать не мог, так уж по родословной выходило.
– Вот уж эти собаки.., и те родовитые! Не то что простой рабочий человек. Пошли, пошли, – Винни-Пух схватил под локоть приятеля, высокого и нескладного Кублицкого, потащил от касс к мастерским.
Там у них имелось свое укромное место, о котором начальство знало, но нос туда никогда не совало. А место располагалось в дальнем углу раздевалки, перегороженной многочисленными секциями железных шкафов с оттрафареченными на дверках номерами.
Сема оказался на ногу скор, хотя и прихрамывал.
А хромота с Семой случилась из-за того, что он уронил на ногу рессору и отбил ноготь на большом пальце правой ноги.
– Ну ты в быстр! – сказал Кублицкий, приняв бутылки.
– А вы, я смотрю, даже не расстарались, даже газетку не постелили.
– Это, Сема, дело плевое, – сказал Винни-Пух, вытаскивая из внутреннего кармана свежий номер «Правды», своих политических пристрастий он никогда не скрывал, и, поплевав на ладонь, разгладил его на крышке табуретки, – вот и все.
– А закусь? – спросил Кублицкий.
– Закусь сейчас будет, – из кармана Семы появился кусок колбасы, уже мелко порезанной, а из кармана Винни-Пуха, словно из волшебной шкатулки, возникли зеленый огурец и яблоко.
– За тобой хлеб, – улыбаясь в предчувствии выпивки, произнес Винни-Пух.
Сема открыл свой шкаф, и полбуханки хлеба стали посреди табурета.
Хлеб был не совсем свежий, но и не заплесневевший, съедобный.
– Соляночки бы какой-нибудь, – мечтательно произнес Кублипкий.
– Не в ресторане. Хотя и солянка есть, – Винни-Пух улыбнулся, – сейчас у Тодора возьму.
Он тут же поддельным ключом открыл железный ящик, в котором висела одежда, и из картонного ящика вытащил литровую банку домашнего салата, закрытую полиэтиленовой крышкой.
– Молдавский, с перчиком.
– Он же заметит.
– Разрешил мне брать, когда захочу.
– А вилки? – сказал Кублицкий.
– Вилок нет, есть лишь ложка, – на стол легла грязная ложка – одна на всех.
– Ладно, в рот ее совать не будем, – заметил Кублицкий, – на хлеб салат набросаем, как раствор на кирпич.
Забулькала водка. Две бутылки прокатили за сорок минут.
– Ну что, добавим. Женя? – с надеждой спросил Винни-Пух.
– Нет, ребята, не могу. Герольда надо выгуливать, а то квартиру обгадит.
– Придумал ты себе занятие…
– Я бы, может, и не заводил пса, да после того, как дочка съехала, ну, совсем делать нечего стало, хоть сиди да вой в квартире.
– А теперь что, – заулыбался Винни-Пух, – вдвоем скулите?
– Нет уж, не скулим. Вдвоем весело, он мне и тапки приносит.
– Хорошо тебе. А мне жена вместо того чтоб тапки подать после тяжелой работы, вечно какую-нибудь гадость говорит.
– Гони ты ее, Винни-Пух, в шею! Баба она у тебя вздорная.
– Куда уж гнать, ведь лучшей уже не найдешь.
Правда, Женя? Возраст есть возраст, лет тридцать назад надо было гнать, а теперь куда… Не собаку же вместо нее заводить? Собака борщ не сварит, блинов не напечет.
– Ив постель не ляжет.
– Про это я уж и не говорю.
– Зато спокойнее, – философски заметил Кублицкий, натягивая на плечи куртку. – Ты тут, Сема, прибери, тебе еще работать да работать, а я, пожалуй, пойду.
– Ну и иди, – со злостью сказал Винни-Пух, – а мы с Семой еще одну бутылку катанем, время у нас есть. Сема, в магазин подскочи.
Сема, прихрамывая, двинулся к проходной, нагоняя Кублицкого, обходя его, даже не глянул, не попрощался.
Евгений Петрович еще не успел подняться на третий этаж, где располагалась его квартира, как услышал густой бас, которым лаял его пес, приветствуя хозяина.
«Ну вот, скулишь. Сейчас примешься прыгать на меня, с ног сбивать».
Ключ повернулся в замке, уставший хозяин ввалился в квартиру. Пес тотчас бросился к нему и даже дважды лизнул в губы.
– Целуешься… Хитрый ты. Герольд. Ладно, сейчас пойдем гулять, только переобуюсь.
Гуляли они постоянно в одном и том же месте. Шли по Сержантской улице, пересекали Ярославское шоссе, направляясь к Бабушкинскому кладбищу. Там всегда было малолюдно, гуляли здесь лишь собачники, все друг с другом были знакомы.
Герольд среди собачьей братии выделялся статью и размерами. Было еще два дога, сравнимых с ним, да один зимой угодил под автобус на Ярославском шоссе, а другой заболел, нажравшись какой-то дряни, и его пришлось усыпить. Хозяева больше заводить псов не стали, и Герольд теперь был самым большим и сильным. А самое главное, в чем Кублицкий был убежден на сто процентов, его пес являлся самым умным.
– Ну, ну, пойдем, пойдем, – и натянув теплые резиновые сапоги, поигрывая поводком, Кублицкий открыл дверь.
Герольд выскочил на площадку и уселся ждать хозяина. Так было заведено – без хозяина ни шагу, если только Евгений Петрович не даст «добро» на самостоятельный спуск. Намордник он на своего Герольда не надевал, детей тот не трогал, на соседей не бросался, незнакомые же люди его сторонились сами. Маршрут был разработан так, чтобы как можно меньше встречать людей, хотя в общем-то Евгений Петрович никого не боялся. Да и кого станешь опасаться, если рядом у правой ноги сопит и рычит огромный пес, готовый по первому же слову хозяина броситься на обидчика, сбить его с ног, прижать к земле и дожидаться команды.
Осенью прошлого года с Евгением Петровичем Кублицким случилась пренеприятная история. Он, как всегда, гулял со своим Герольдом возле кладбища, а затем, то ли осень на него подействовала, то ли еще что, но ему захотелось заглянуть на кладбище. Кублицкий не смог ответить себе на вопрос, что его туда повело.
Шел по узенькой аллее, под ногами шуршала листва, справа и слева проплывали памятники, кресты, ограды. Кладбище было, как казалось хозяину пса, безлюдным, Герольда он лишь слышал. На глаза наворачивались слезы, было жаль прожитой жизни, вспомнилась жена, безвременно ушедшая в мир иной.
Он с интересом, неожиданным для самого себя, ведь и газет-то почти не читал, вчитывался в надписи на надгробиях, просматривал таблички на памятниках, тут же в уме прикидывая, сколько лет прожил человек. Одни прожили на этой земле меньше его, другие немного больше. Он, повинуясь настроению, с аллеи свернул в узкий проход, почти по колено засыпанный липовой и кленовой листвой. Осенняя листва, багряная и золотая, пахла арбузной коркой.
«Вот так вот, купишь арбуз, разрежешь его и сразу же в нос ударяет запах свежести».
Почему недавно опавшая листва пахнет свежеразрезанным арбузом, Евгений Петрович Кублицкий не знал.
Он увидел впереди трех парней, дюжих, в кожаных куртках, с бутылками в руках. Он хотел свернуть в сторону, но не было куда, слишком плотно одна к другой стояли ограды, перебираться через них ему не хотелось, а свернуть назад не позволяла гордость, подумают еще, что он их испугался.
Кублицкий двигался неторопливо. Парни стояли, смотрели на него, попыхивали сигаретами. Время от времени голубоватый дымок несло ему прямо в лицо.
– Ты что тут делаешь, – сказал один из парней, – а ну, пошел вон с кладбища, корч старый! Хочешь, чтобы мы тебя тут похоронили?
Единственное, что было в руках у Евгения Петровича, так это плетеный кожаный поводок. Он тут же спрятал его за спину.
– Ходят здесь, козлы старые, воздух портят!
– Тебе, дед, уже давно не ходить, а лежать здесь надо.
– Чего молчишь? Молчат только трупы.
Парень прижал Кублицкого к ограде с бронзовыми шишками, и Евгений Петрович позвоночником почувствовал железные прутья, острые, как пики, наконечники. Парень прижал его даже без помощи рук, навалившись животом, и лишь только после того, как глаза Евгения Петровича беспомощно забегали, рука с дешевым перстнем полезла ему во внутренний карман и извлекла портмоне – старое, потрепанное, давным-давно подаренное женой на пятидесятилетие.
– Сейчас, ребята, еще выпьем, у деда, оказывается, деньжата водятся.
– Ребята, не надо, отдайте бумажник, отдайте, это подарок.
– Ну что? Отдадим?
– Можно… Деньги покойникам ни к чему, а любимые вещи в гроб им иногда кладут.
Деньги из бумажника вытряхнули, а само портмоне швырнули в кучу листьев. Кублицкий хотел нагнуться, чтобы поднять, но его в этот момент толкнули, и он, неловко раскинув руки, нырнул головой в кучу пахнущих свежим арбузом листьев. А затем, встав на четвереньки, держа в левой руке бумажник, а в правой плетеный кожаный поводок, громко крикнул:
– Герольд! Герольд, ко мне!
Огромный пес возник в считанные секунды. Он перепрыгивал через ограды так, словно бы их и не было.
Тот парень, который прижимал Кублицкого к железным прутьям, первым увидел пса. В руке блеснул нож.
Это его и сгубило. Герольд слету вцепился в руку, сбив парня с ног, хрустнули кости, истошный вопль разнесся над тихим кладбищем. Один из хулиганов хотел броситься на пса, но, сделав два шага, остановился, завидев кровь и кости, торчащие из запястья приятеля.
– Бля! Бля! Да он же бешеный!
Убежать парни не успели. Герольд повалил их всех на землю и бегал по их спинам, зло рыча, даже не давая подняться, хотя в общем-то подняться на ноги никто из троих даже не пытался, понимая, что подобное действие разозлит огромную овчарку и та может вцепиться уже не в руку, а в шею или в лицо. Пена свисала из пасти Герольда, он скалил огромные клыки, такие большие, как мизинец ребенка. Его глаза зло горели, как-никак обидели хозяина, а за хозяина пес готов был перегрызть горло любому.
– Ну, что, сволочи, – радостно сказал Кублицкий, даже вид чужой крови не вывел его из себя, – деньги хотели у старого человека забрать, пенсию из кармана вытянули?
– Мы отдадим! Отдадим! Батя, забери свои деньги, мы тебе еще дадим бабок, только убери зверя!
– Уберу! Сейчас, разогнался! Герольд, сторожить! – насвистывая, Евгений Петрович развернулся, подобрал деньги, аккуратно уложил их в бумажник и не спеша направился по аллейке к Ярославскому шоссе, знал, с псом ничего не случится", самое страшное, исполосует одному из негодяев лицо, если попробуют убежать.
Ему повезло, наряд милиции он заприметил тотчас, лишь только вышел на тротуар. А уже через пять минут трое молодых головорезов выходили из ворот кладбища в сопровождении милиции и зло рычащей овчарки.
– Молодец, Герольд, молодец! – потрепав за уши пса, приговаривал Евгений Петрович.
– Мы до тебя еще доберемся, хрыч старый! – обернувшись, бросил один из парней.
И в это время резиновая палка ударила его по спине, заставив встать на четвереньки, а пес зарычал так, что испугался даже милиционер.
– Батя, возьми своего пса на поводок, а то он еще и меня загрызет. За это, кстати, и тебя оштрафовать можно.
– Нет, не бойтесь, он не кусается. На хороших людей он не бросится и с детьми дружит, – принялся расхваливать своего подопечного Евгений Петрович. – Если что, вот мой телефон, звоните. А по улице мы с ним в наморднике ходим, – соврал Кублицкий.
– Спасибо, – ответил сержант, – мы сейчас двоих в участок доставим, одного в больницу, разберемся.
А вас, папаша, мы теперь знаем и пса вашего знаем.
В этот вечер Герольду был устроен праздничный ужин. Он получил два огромных куска кровяной колбасы и, сытно поужинав, устроился у ног хозяина смотреть телевизор.
Так что ни хулиганов, ни пьяниц Кублицкий не боялся, когда у ног бежал его Герольд.
Снег еще не сошел, но асфальт уже был голый. Стало почти совсем темно, лишь светлело небо с низкими облаками. Проходя возле кладбищенской церкви, Кублицкий взял Герольда на поводок и приложил палец к губам.
– Тише! Смотри, не лай! – Кублицкий заслушался пением, доносившимся из раскрытых дверей храма.
Если бы он был без собаки, то, возможно, зашел бы.
Алкоголь все-таки сделал свое дело, размягчил душу и сердце Евгения Петровича. Прогулка с собакой есть прогулка. Это ритуал, в котором важна каждая мелочь.
Нужно дать псу выбегаться, наиграться вволю, чтобы он хорошо спал и ночью не беспокоил хозяина.
Уже осталась сзади церковь. Кублицкий пересек Ярославское шоссе по переходу, как положено, памятуя о гибели дога, случившейся в прошлом году. На поле снега стало больше, лишь узкая тропинка чернела, протоптанная рядом с кладбищенской оградой. Герольд уже предчувствовал скорое начало игры, бегал вокруг хозяина, приседая на передние лапы и размахивая пушистым хвостом.
– Ну, ищи, – разрешил ему Кублицкий, – ищи свою палку.
Он бы и сам ее прекрасно нашел, всегда оставлял в одном и том же месте, до самого конца втыкая ее в рыхлый снег возле обломанного кирпичного столба ограды.
Пес огромными скачками бросился вперед и вскоре исчез за сугробами. Через минуту он появился, держа в зубах погрызенную, облепленную снегом палку.
– Иди сюда, иди! – Евгений Петрович похлопал себя по бедру.
Пес подбежал и положил палку у ног, сам сел, преданно посмотрев хозяину в глаза. Ритуал не менялся день ото дня. Евгений Петрович как можно дальше старался забросить палку, а Герольд старался как можно быстрее добраться до нее, принести и бросить к ногам хозяина. Он уже весь был мокрый от снега, кусочки льда поблескивали на шерсти, разыгрался.
– Ну, давай же, давай! – Евгений Петрович ускорил шаг, широко размахнулся, и палка полетела, сорвавшись с неверной руки, полетела по иной траектории, чем рассчитывал хозяин. – Ну, ищи! – крикнул Кублицкий.
Герольд дважды тявкнул и, проваливаясь в снег, полез в сугробы. Кублицкий продолжал двигаться по тропинке, даже не обращая внимания на лужи, скованные тонким хрустящим льдом, ступая на них, прислушиваясь к легкому хрусту.
– Герольд! Герольд! – позвал он своего друга, остановился и осмотрелся. Пса нигде не было видно. – Герольд, ко мне!
В ответ Евгений Петрович услышал странный звук, смесь рычания с лаем.
– Неужели что-то случилось? – подумал он и по сугробам направился в ту сторону, откуда слышались угрожающие звуки.
По сугробам пробираться было не так-то просто.
Наст проваливался, ноги уходили в снег выше колена, в голенища набивался снег.
«Будь ты неладен! – подумал о своем псе Евгений Петрович. – Из-за тебя придется сапоги сушить».
Пес стоял в небольшой ложбинке, зло рыл лапами снег, который все время осыпался.
– Ну, что ты там нашел? – благодушно спросил Евгений Петрович.
Герольд лишь на секунду поднял лохматую голову, посмотрел на хозяина и жалобно тявкнул. А затем принялся рыть с удвоенной силой. И только сейчас Евгений Петрович разглядел, что из снега торчит нога в ботинке с рифленой подошвой.
– Герольд, ко мне! – испуганно и зло прокричал Евгений Петрович.
А пес не унимался, продолжая разгребать снег и ветки, которыми был забросан труп. Уже открылась вторая нога и бедро, только тогда Кублицкий догадался схватить пса за ошейник и оттащить. Пес же рвался к страшной яме, в которой лежал труп. В том, что это труп, а не пьяный, сомнений не было, голень была обледеневшая и разбухшая.
– Герольд! Герольд, уходим! – пристегнув поводок, потащил пса Кублицкий. – Уходим отсюда!
Пес не слушался, он тянул хозяина к яме.
– Идем, идем же!
Дорога назад показалась очень длинной – с каждым шагом Ярославское шоссе с мчащимися автомобилями не приближалось, а, наоборот, отдалялось. Изнурительная ходьба напомнила Евгению Петровичу бег на месте: бежишь, бежишь, высоко поднимаешь колени, а толку никакого, одна усталость. Ему хотелось кричать, звать на помощь. Но кого позовешь в столь позднее время и в чем, собственно, должна состоять помощь?
На шоссе появилась машина ГАИ. Евгений Петрович отчаянно замахал руками. Автомобиль, проехав метров десять, затормозил, затем сдал назад, замигав синим маячком.
– Что случилось? – опустив боковое стекло, поинтересовался лейтенант.
– Там труп.
– Вы уверены?
– На кладбище труп.
– На кладбище, папаша, трупов хоть отбавляй, – заулыбался лейтенант.
– Да нет, вы меня не поняли, лейтенант, собака разрыла, в снегу лежит…
Лейтенант понял, дело серьезное. В его руках появилась рация.
– Мы, понимаете ли, по другой части специализируемся, – объяснил он Кублицкому. – Вот если бы на дороге лежал труп или у вас машину угнали, то тут ваше обращение по адресу. А трупы на кладбище – это не наш профиль.
– Так что делать? – заглядывая в глаза лейтенанту и сержанту, сидевшему за рулем, спросил Евгений Петрович.
Пес, прижавшись к ноге, рычал.
– А собака ваша? – осведомился лейтенант.
– Моя, моя. Он-то и нашел.
– Сейчас доложим, приедут другие, разберутся. А вы подождите.
– Подождать можно, но что бы приехали…
И лейтенант принялся вызывать по рации седьмого, затем девятого, а затем десятого. И наконец со стороны центра города появился милицейский «уазик», в котором находились лейтенант и два сержанта.
– Ну, чего у вас тут?
– Гуляли мы с псом…
– Да вот, мужчина говорит, что его пес труп откопал.
– Где?
– Возле кладбища, в кустах, в яме.
– Черт бы подрал! – лейтенант понял, что на машине туда не подъедешь, придется тащиться по снегу, а старик мог чего-нибудь да напутать.
Запах же, шедший от Кублицкого, свидетельствовал о том, что тот принял на грудь не меньше стакана водки.
– Покажете. Только пса при себе держите. А может, почудилось? Такое бывает.., крокодильчики, чертики по плечам прыгают.
– Да бросьте вы, – усмехнулся Евгений Петрович, – я ногу видел.
– Одну? Две?
– Две ноги.
– Ну, значит, точно человек. Было бы четыре, значит, лошадь.
– Я поехал, – осклабился гаишник.
Милиционеры двинулась следом за Евгением Петровичем. А тот на ходу пояснял:
– Мы тут с Герольдом каждый день гуляем, я живу на Сержантской улице, на той, что за церковью. Каждый день, представляете, утром, правда, во дворе, а вечером и по выходным сюда ходим. Я же еще работаю, хоть и на пенсии…
– Понятно, понятно, – поддакивали сотрудники правоохранительных органов, двигаясь вслед за Евгением Петровичем, которого буквально тащил за собой огромный пес.
Наконец они добрались до ямы. Лейтенант посветил фонариком.
– Точно труп, – сказал он, обращаясь к своим подчиненным, – вызывайте бригаду, пусть разбираются, что к чему. А вам спасибо. Кстати, документы у вас с собой есть?
– Конечно есть. Пенсионное удостоверение пойдет?
Вот и пропуск в депо есть, – трясущимися руками Евгений Петрович Кублицкий подал документы.
– Я возьму.
– и – Пожалуйста.
Лейтенант посветил фонариком, рассматривая печати и фотографию еще не старого мужчины, мало напоминавшего сегодняшнего Евгения Петровича.
– Ну, что, Евгений Петрович, вы можете идти, – тут же на месте был составлен протокол. – Пока никому ничего не говорите.
Евгений Петрович Кублицкий нехотя двинулся в направлении своего дома. Первый испуг уже прошел, теперь его одолевало любопытство, что да как, что за мужчина лежит в яме, засыпанный ветками и снегом, как давно он лежит, сам замерз, или его убили, сколько времени он уже лежит в снегу? На эти вопросы у Евгения Петровича ответов не было. Ему даже стало обидно, что он и его Герольд вдруг стали никому не нужны. А ведь он-то бегал, старался, машину остановил…
Вернувшись с прогулки, Евгений Петрович загнал пса в ванную и неожиданно для того дважды шампунем тщательно вымыл его всего, а не только лапы, как делал это каждый день после прогулок.
Когда мокрый пес улегся на коврик возле батарея, Евгений Петрович принялся звонить знакомым и рассказывать о том, что с ним и с Герольдом случилось.
Но рассказ получался каким-то куцым и не очень убедительным. Единственное, что запомнил Евгений Петрович четко, так это надпись на подошве рифленого ботинка. Надпись была латинскими буквами: «Трейлер». Это он повторял несколько раз за один рассказ.
Когда же он позвонил дочери, жившей на другом конце Москвы, та зло сказала:
– Папа, ну, ты и додумался, на ночь такие истории рассказывать! Я же теперь не усну.
– А я усну?
– Ты не маленький.
На этом разговор с дочерью закончился. Чувство обиды лишь усилилось, он так и не стал героем дня.
Все, кто узнал о происшествии, отреагировали вяло, никто не вызвался приехать, посудачить, выпить. Так что стресс Евгению Петровичу пришлось снимать в одиночестве. Пить он устроился в комнате, лишь Герольд составил компанию хозяину.
Евгений Петрович обмакнул палец в стакан с водкой и дал псу облизать. Пес поморщился, фыркнул, но приказ хозяина выполнил.
– Пей Герольд, за упокой души. Уж не знаю, кто был этот человек, хороший или плохой, бандит или бизнесмен, а может, и работяга, как твой хозяин, но пусть бог примет его душу.
* * *
На следующий день Евгений Петрович вернулся с работы раньше обычного. Он даже не остался выпить с друзьями по работе, хотя те принесли водку. Ведь получка на то и получка, кто же пьет один день? Пьют пока не кончатся деньги, спрятанные от жен.
Он взял пса, надел резиновые сапоги, которые за сутки высохли, и с Герольдом направился по обычному маршруту. Единственное, что говорило о том, что вчера или сегодня здесь были люди, так это множество следов и раскопанная яма, причем, раскопанная основательно.
Евгений Петрович встретил еще одного собачника, в общем-то мужчину мрачного и нелюдимого, с которым он почти никогда не общался, лишь коротко здоровался. Это был хозяин добермана. Герольд с доберманом не дружил. Хозяева не понимали, почему между собаками такая вражда, но и сами неосознанно поддерживали выбор своих собак, копируя их поведение. Если бы псов не брали на поводки, то наверняка они начали бы драку. Так уже раз случилось, при первой встрече, тогда Герольд довольно-таки сильно потрепал добермана, прогнав его с полкилометра по полю. Он мог бы догнать его и раньше, но, наверное, как рассудил Евгений Петрович, сделал это специально, мол, издалека не услышал команду вернуться и увлекся погоней.
Евгений Петрович подошел к мужчине в темно-синей куртке-аляске с капюшоном, отороченным искусственным мехом, и произнес:
– Добрый вечер.
– Добрый вечер, – ответил мужчина, вращая сигарету в пальцах.
Доберман стоял рядом, не рискуя далеко отходить от хозяина.
– Вы знаете, что здесь произошло вчера?
– Мы вчера не здесь гуляли, – сказал хозяин добермана.
– А вот мы в Герольдом гуляли здесь и нашли.., он нашел труп.
– Труп? – мужчина оглянулся, словно бы труп должен был лежать у него за спиной прямо на тропинке. – Ну и что дальше?
– Ничего. Милицию отыскал. Вот там в снегу лежал, видите, раскопано и натоптано?
– Да, видел. Еще подумал, что здесь такое случилось, драка или пьянка какая?
– Да нет, это милиция копала. Мы их и вызвали, привели, – сказал о себе и о своем псе Евгений Петрович, причем таким тоном, словно бы его Герольд был настолько умен, что мог при необходимости вызвать милицию по телефону, набрав номер лапой. – Представляете, палка у меня с руки сорвалась и в сугроб улетела. Я говорю, ищи. Герольд бросился и нашел-таки, но не палку.
– А что за труп? – оживился хозяин добермана.
– Да кто его знает, мужчина, судя по всему. Я не стал дожидаться, пока его разроют, видел лишь ноги.
Ботинки у него еще такие добротные, с рифленой подошвой… «Трейлер» написано…
Владелец добермана усмехнулся:
– Если бы было написано «Эко» или «Саламандра» то тогда, возможно, ботинки можно было бы отнести к разряду добротных. А так Турция какая-нибудь…
Пьяный, наверное, замерз, – затягиваясь уже гаснущей сигаретой, со знанием стадионного торговца сказал он.
– Да, вроде бы, сверху труп ветками забросан и снегом засыпан.
– Снегом могло засыпать, а вот ветки, наверное, люди набросали. Тут деревьев поблизости нет, разве что на кладбище. Пойдемте посмотрим? Сюда, сюда, – сказал псу мужчина в куртке-аляске, почему-то направляясь в другую строну.
– Эй, не туда, – сказал Евгений Петрович, – наоборот, в другой стороне, – Тяжело на поле ориентироваться.
Они вдвоем, придерживая своих псов, которые сейчас не проявляли друг к другу ровным счетом никакого интереса, осмотрели место, на котором был найден труп. Собак держали на поводках.
– Странно как-то.., от дороги далеко, от кладбища тоже далековато. Место какое-то непонятное, на машине не подъедешь. На руках притащили? – рассуждал хозяин добермана. – Или прямо тут убили?
– Все может быть. Вот так, ходишь, ходишь, а рядом труп лежит. Представляете, и вы, и я каждый день тут гуляли?
– Да уж, и не говорите, – мужчина посмотрел на часы со светящимся циферблатом, давая понять Евгению Петровичу, что время прогулки окончено.
– Мы тоже пойдем. Герольд, не рвись, не рвись.
Но пес все-таки вырвался и скрылся за сугробами. А когда вынырнул вновь, в его пасти была короткая обгрызенная палка, та самая, которую вчера вечером Евгений Петрович зашвырнул неверной рукой в темноту.
– Молодчина, Герольд, свое нашел. Вот умный пес!
Я-то о ней и забыл.
Хозяин добермана посмотрел на своего четвероногого друга презрительно. Его доберман большим умом не отличался, но зато был очень бойкий и веселый, лаял на кого ни попадя. И на мужчину жильцы двора постоянно писали жалобы. Милиция же так же исправно его штрафовала.
Евгений Петрович взял палку и почувствовал себя не в своей тарелке. Палка в его сознании мгновенно связалась с трупом мужчины, и теперь белая отполированная древесина казалась ему берцовой костью, такой же большой и такой же тяжелой.
– Фу! – сказал он, обращаясь к Герольду.
Попытался руками сломать палку, но это ему не удалось, та трещала, но не ломалась. Герольд смотрел на действия хозяина, не понимая, чего тот добивается, чем палка, которую он притащил, ему не угодила.
– Больше чтобы ее не брал, – как учитель к ученику обратился Евгений Петрович к овчарке и зашвырнул палку в снег.
Герольд дернулся, но окрик хозяина остановил его.
– К ноге! Пойдем отсюда.
Пес важно двинулся рядом с хозяином. Впереди шел владелец добермана. Он спустил пса и тот помчался по тропинке с громким радостным лаем.
В неведении Евгений Петрович пребывал целую неделю. А затем, направляясь в ближайший гастроном за хлебом и кефиром, увидел на бетонном заборе, возведенном вокруг стройки, небольшое объявление с портретом мужчины. Снят тот был до пояса. Самым страшным на фотографии являлся шрам, тянущийся от подбородка к животу. Этот шрам был явно сделан патологоанатомом и небрежно зашит. Евгений Петрович всмотрелся в лицо мужчины с черной короткой бородой.
Объявление гласило, что такого-то числа неподалеку от Бабушкинского кладбища найден труп. Перечислялись особые приметы, из которых важной была лишь одна: на правой ноге отсутствовал мизинец.
– Был найден труп… – пробурчал Евгений Петрович, – а кто нашел его? Будто они сами находят их без чьей-либо помощи! Если бы не мой Герольд, лежал бы мужик в ямке, пока снег весь не сойдет.
Внимательно, как телевизионную программу, Евгений Петрович Кублицкий прочел все, что имелось в объявлении. И тут же понял, это именно тот мужчина, ведь было написано, что на ногах у того были ботинки с рифленой подошвой фирмы «Трейлер» и если кому-либо хоть что-нибудь известно, то следовало позвонить – и далее крупно, броско были напечатаны четыре телефонных номера.
«А что мне, собственно говоря, известно? Да ничего, хоть я с Герольдом и нашел его».
Уже в магазине, прохаживаясь между стеллажами с пестрыми упаковками, Евгений Петрович, хмурясь, продолжал рассуждать.
«Одет в шапку, в меховую куртку, свитер, черные брюки, белое белье, на руке часы „Ориент“. А документов при нем никаких. Странно… Вот если бы меня нашли, так у меня всегда при себе какая-нибудь бумажка: то счет за квартиру, то телефон, то удостоверение пенсионера, то пропуск в депо. В Москве теперь без документов не ходят, к тому же мужчина был… похож на лицо кавказской национальности. А таких останавливают в городе в первую очередь, ведь я видел это не раз. Я прохожу, так на меня внимания не обращают, даже если и выпил. А следом за мной брюнет С длинным носом, так его хватают, проверяют документы. Да, хорошо, что я не лицо кавказской национальности», – подумал о себе Евгений Петрович.
Объявление, прочтенное им, словно бы ставило точку. Естественно, самого главного Кублицкий не узнал, об этом в объявлении не писалось. Мужчина был задушен, и лишь после этого на затылке ножом ему вырезали крест. А также Евгений Петрович не знал, что такой труп, который обнаружил Герольд неподалеку от Бабушкинского кладбища, в Москве уже не первый, а четвертый. Два из них найдены неподалеку. Те мужчины тоже вначале были задушены, а затем на затылках у них вырезали кресты. Один труп был найден на берегу реки Лось, заткнутый в железобетонную трубу.
А второй – неподалеку от железной дороги – лежал в кювете, забросанный ветками.
Все убитые – сильные мужчины в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Было непонятно, почему они не сопротивлялись, на телах ни ссадин, ни синяков обнаружено не было. Также ничего подозрительного не обнаружили в крови: ни алкоголя, ни каких-либо других наркотических веществ. То, что все четыре убийства по стилю связаны между собой, было очевидно. То ли убивал один человек, то ли действовала какая-то секта, но на ритуальные убийства не походило. Поэтому работники правоохранительных органов для удобства дали убийце кличку Удав. Ведь все четверо были задушены, а для того чтобы задушить здорового мужчину, нужна невероятная сила. Да еще так, чтобы он не дернулся.
Только удав пользуется таким приемом.
Убийца в своем роде был уникален. Обычно маньяки охотятся или на женщин, или на девочек, или на детей, стариков, старух, а этот же словно специально выбирал в жертвы сильных мужчин. Личности троих удалось установить. Один из убитых, найденный в железобетонной трубе, был таксистом, прошел службу в десантных войсках, весил девяносто килограммов. В таксопарке даже не могли поверить, что кто-то мог с ним совладать. Ведь Василий Ильин мог легко, даже не прибегая к помощи монтировки, разобраться с тремя пьяными пассажирами. А тут задушили голыми руками.
Второй, оказавшийся на насыпи, оказался спортсменом, учителем физкультуры в школе, он тоже был мужчиной сильным и здоровым. Никаких врагов у него не наблюдалось, денег больших не водилось, ни в каких сектах не состоял и даже не интересовался религией, был абсолютно далек от всего этакого. А вот третий убитый – Игорь Валькинович, тридцати лет от роду, был для следственных органов человеком довольно-таки интересным. В свое время он отсидел три года за грабеж и был выпущен, попав под амнистию.
Он занимался всем понемногу и даже рэкетом, в его друзьях и знакомых числились лица с криминальным прошлым. Вот его-то и нашли первым. Даже золотую цепь и дорогие часы убийца с него не снял, как не забрал та, пистолет, хотя нашел его – пистолет лежал прямо на теле, забросанном ветками.
У всех троих на затылке были кресты, сделанные одним и тем же ножом. Что выражали эти кресты" следователи не могли понять, ни с чем подобным никто из них раньше не сталкивался и ни в каких сводках и архивах описания подобных убийств не находились.
– Удав он и есть Удав, – горько шутили следователи, – задушит и крестик поставит. И ничего ему, гаду, не надо, ни кошельки не забирает, ни золото с тела не снимает. Лишь документы заберет и все, словно для коллекции. Коллекционер долбаный! Зачем ему документы? Ведь рискует.
Обращались работники следственных органов и к психиатрам. Те внимательно выслушивали, но ничего вразумительного, что могло бы дать хоть какую-то подсказку и вывести на след убийцы, предложить не могли. Возможно, все эти дела и заглохли бы, случись они по одиночке. Но трупы появлялись с завидной регулярностью, так что было принято решение сформировать не одну группу, а две и разрабатывать самые разнообразные версии. Если бы были свидетели, то дело пошло бы быстрее и убийцу удалось бы задержать и обезвредить. А так даже не знали, как он выглядит.
Естественно, предполагали, что убийца невероятно силен, а значит, крепко сложен, можно сказать, мужчина видный. Но таких видных пруд пруди, подростки качаются в подвалах, поднимают железо, растягивают пружины, вырастают, превращаясь в здоровенных лбов. Таких пол-Москвы. Но каковы мотивы убийства, что означает крест, и почему убийца душит и только потом вырезает крест, было неясно.
По логике выходило, что проще вначале убить, застрелив или зарезав, или хотя бы ударив по голове, а уж после поставить на затылке отметку. А так это походило на ритуал, странный, жуткий, непонятный. Какой веры убийца, почему вырезает кресты, а не звезды, не треугольники и не стрелы? Может быть, во всем этом есть какая-нибудь христианская закваска или сатанинская?
Следователи обратились и к специалистам в этой области. Но знатоки сект ничем помочь не смогли. Не был известен такой ритуал ни в прошлые времена, ни в настоящие, чтобы душить сильных мужчин, причем голыми руками, а затем вырезать на затылках кресты. Почему на затылках, а не на груди, не на спине, не на заднице и не на лбу? Все это требовало пояснений, и дать их мог бы только сам убийца. Но для того чтобы такие показания получить, убийцу следовало найти. Но он исчезал, трупы находили спустя неделю, две или месяц после того, как было совершено убийство.
От журналистов пока еще эту информацию сотрудникам следственных органов удавалось прятать. Но было ясно, еще парочка трупов, и журналисты обо всем узнают. И тогда на город может обрушиться эпидемия страха, вот тогда уже не станет недостатка в свидетелях, Будут приходить всякие сумасшедшие, пенсионеры, которым делать нечего, примутся рассказывать, что видели подозрительного субъекта, косая сажень в плечах, черные очки на глазах, лыжная шапка, волосатые руки и все такое прочее. Будут показывать на своих соседей, на знакомых и даже появится кто-нибудь, кто укажет на самого себя, сочинит вполне правдоподобные мотивы убийств. Но потом на поверку выяснится, что в это время его даже не было в городе.
Словом, как ни пытались следователи сузить круг, это им не удавалось. Ни одной более-менее стройной и правдоподобной версии на сегодняшний день не существовало, а потому оставалось расклеивать объявления в людных местах, чтобы хотя бы установить личность очередной жертвы. Объединялись убийства и географически. Все трупы были найдены в районе Лосиноостровского лесопарка. Это позволяло сделать вывод, что убийца, получивший прозвище Удав, обитает где-то в его окрестностях.
Милицейские наряды в этом районе были усилены и присматривались ко всем подозрительным, пытаясь вычислить потенциального убийцу. Участковым инспекторам тоже была дана ориентировка думать об этом деле и обо всех подозрительных фактах тотчас сообщать следственным бригадам.
Глава 4
Леонид Антонович Хоботов среди своих коллег скульпторов, а также искусствоведов и людей, приближенных к искусству, считался человеком невероятно везучим. Он не был коренным москвичом, приехал в столицу уже зрелым человеком. И, надо сказать, ему сразу же повезло. Он смог поступить на скульптурное отделение Суриковского института, причем с первого же захода.
Хоботов всем говорил, что он с Волги, а его деды я прадеды были бурлаками. Первоначально это вызывало улыбки, но говорил Леонид Хоботов с ярко выраженным волжским акцентом, похожим на тот, каким говаривал пролетарский поэт, писатель, автор «Буревестника» Максим Горький. Буква "о" звучала протяжно и глубоко, можно сказать, монументально.
Жил Леонид Хоботов поначалу в общежитии. Институт он закончил как раз к тому времени, когда пора монументальных заказов канула в лету, и никому уже не были нужны ни Владимиры Ильичи с протянутой рукой, ни железные Феликсы Эдмундовичи, ни бронзовые дважды и трижды герои. Пришло время на памятники русских самодержцев и двуглавых орлов. И к тем, и к другим изваяниям Леонид Хоботов относился презрительно, однажды уже обжегся на подобном и дал себе зарок не ваять политиков.
Как у всякого скульптора, в его жизни был один монументальный заказ. А случилось это еще в те далекие доперестроечные времена, когда Леонид Хоботов закончил третий курс и поехал подзаработать деньжат на Дальний Восток, в Приамурский край, богатый деньгами, но не скульпторами. Там для людей его профиля была земля обетованная. Каждый колхоз, каждый завод или предприятие, мало-мальски себя уважающее, считало за честь иметь собственный памятник вождю. И такой заказ Леонид Хоботов получил в железнодорожном депо, которое стало победителем в социалистическом соревновании.
Начальник депо, сидя в кабинете, глядя на бородатого скульптора с сильными руками, сказал:
– Хочу, чтобы у нас.., прямо под окнами моего кабинета стоял памятник Ленину. И не маленький, а такой.., метра четыре или пять. Возьметесь, товарищ скульптор, сделаете? – Конечно сделаю, – сказал Хоботов, прекрасно понимая, что такая работа заберет уйму времени, и он не успеет вернуться к началу учебного года в Москву.
Но Москва во все времена была дорогим городом, даже когда цены повсюду в стране были вроде бы одинаковые. Больше товаров – больше соблазнов. Но выбирать ему не приходилось.
Он развернул перед начальником депо лист ватмана, приготовленный еще в Москве.
– Вот, Николай Петрович, взгляните, предлагаю вам такой памятник.
Если бы этот вариант был отвергнут, в тубусе Хоботова имелось еще четыре варианта. На одном эскизе Ленин стоял, на другом сидел, на третьем шел против ветра в светлое будущее, заложив руки за спину, как уголовник на прогулке. Неизменными были лишь развевающиеся полы пальто и взгляд вождя, устремленный в будущее, – туда, за голубые сопки, старательно выведенные акварелью, такие, какими представлял их себе, сидя в Москве, Хоботов.
– Да, мне это нравится, – сказал начальник депо, увидев эскиз, и тут же вдавил кнопку селектора – так, что селектор пискнул, словно бы начальник депо наступил на хвост мыши.
Ему приглянулся Ленин, стоящий на башне броневика с двумя пулеметными стволами.
– Эй, парторг, зайди-ка ко мне. И главного инженера прихвати, да профсоюзного вожака с комсоргом сюда. Немедленно!
Четверо мужчин в пиджаках, при галстуках, появились в кабинете начальника депо тотчас, В кабинете было множество паровозиков, и если бы дело происходило не в депо, то можно было бы заподозрить хозяина в сумасшествии, дескать, выжил мужик из ума и забавляется игрушечными паровозиками. Хромированные, золоченые, вырезанные из цельного куска дерева, склеенные из картона, – словом, паровозы были самых разных моделей, они стояли за стеклом на полках. Даже пепельница на столе, и та была в виде товарного вагона, застывшего на блестящих рельсах, уложенных на миниатюрных деревянных шпалах. Рельсы к шпалам были приделаны маленькими гвоздиками, искусно выполненными умельцем.
– Гляньте-ка, товарищи. Как вам Владимир Ильич?
Владимир Ильич понравился всем, разве что наклон головы вызвал у парторга некоторые сомнения: слишком уж вперед была подана выпуклая голова вождя.
– Чего морщишься, парторг? – спросил начальник депо.
Парторг встал в ту же самую позу, что и Ленин на эскизе, предложенном Хоботовым. Кучерявый чуб упал парторгу на глаза, он резко дернул головой, чуб пружинисто взвился и прилип к потному от волнения и умственного напряжения затылку.
– Я, Николаич, смотрю на это дело вот как, – словно на партсобрании принялся рассуждать парторг, взявшись руками за лацканы пиджака, – как-то уж больно стремительно идет Владимир Ильич, больно голова у него наклонена вперед, словно стену собрался лбом пробить. Не по-ленински это… Хотя…
– А по-моему, это даже хорошо, – сказал начальник депо, – прет как тепловоз.
Подобный аргумент, произнесенный начальником депо, парторга убедил.
– Я вот что, товарищи, думаю. Мне до пенсии осталось два года, – веско произнес начальник депо, опершись кулаками о крышку стола, – я хочу, чтобы по мне хорошая память у путейцев осталась. Каждое утро они будут идти на работу, гудки слушать и памятник видеть. Можно, конечно, и дом достроить, но квартир-то на всех не хватит. Народ-то размножается, дети родятся, внуки… А одного памятника на всех хватит.
Вот был я в Карелии на семинаре руководителей депо, так там такой памятник стоит, что прямо руки чешутся, как работать хочется. Пусть и у нас такой будет, пусть у наших людей тоже руки чешутся.
– А сколько это будет стоить, Николаич? – с дрожью в голосе поинтересовался главный инженер и, взглянув на профсоюзного лидера, толкнул того в плечо.
– Деньги у нас есть, на такое дело и министерство раскошелится, да и область молчать не будет.
Все посмотрели на Хоботова. Тот стоял с важным видом, держа в руках тубус с тремя запасными вариантами.
– Это смотря из чего делать, товарищи начальники, – сказал Леонид.
– А из чего вы предлагаете, Леонид Антонович?
– Я предлагаю из бетона. Стоять будет вечно. Железная конструкция, бетон – это материалы почти вечные, лет на сто хватит.
– Из бетона, говорите?
– А потом под бронзу раскрасить, – облизнув губы, произнес начальник депо.
– Можно и бронзовкой.
Решение было принято. Начальник утвердил эскиз, написав в правом верхнем углу «Согласовано». И Хоботов приступил к работе. По договору он должен был получить две с половиной тысячи рублей за исполнение четырехметрового памятника. Ему выделили гараж, там как раз и было четыре метра от пола до потолка. Так что место скульптор-студент отхватил хорошее, гараж кирпичный, капитальный, теплый. Три месяца трудился Леонид Хоботов и наконец пригласил начальников.
Пришел не один начальник депо, пришло человек пятнадцать. Приехали из области, так же было двое из Министерства путей сообщения. Памятник производил впечатление. Даже заклепки на башенке броневика смотрелись как настоящие. Вождь глядел вперед, поверх голов пигмеев, он был сама устремленность, словно со временем собирался спрыгнуть с башни броневика и раздавить бетонным телом всех врагов революции, всех тех, кто мешает строить светлое будущее.
Вокруг слышались лишь восхищенные возгласы.
Леонид Хоботов по этому случаю надел белую рубашку, верхняя пуговица которой не застегивалась на крепкой шее. Он стоял в отдалении, как Бонапарт Наполеон, сложив руки на груди, и поглядывал на толпу ценителей.
– Ну как?
– Все будут завидовать, – удовлетворенно произносил начальник депо, обходя памятник со всех сторон. – Честно сказать, товарищи, я и не ожидал, что получится такое замечательное произведение. Даже в области такого нет. Стоит какой-то маленький Ильич, разве это памятник? Вот у нас памятник, так памятник.
И никому из присутствующих тогда в голову не пришло, что вытащить этот памятник, творение сильных рук Леонида Хоботова, из капитального гаража невозможно. Ворота были только три метра высотой и три шириной, а памятник от стволов пулемета до холки был никак не меньше четырех метров. Как ни старайся, из гаража не вытащишь, даже разместив его по диагонали проема.
Хоботов это заметил в середине работы, но промолчал, боясь, что его заставят делать Ильича размером поменьше, более дешевого. Платили за Лениных, как за рождественские елки, в зависимости от высоты.
Леонид Хоботов благополучно получил свои деньги, которые ему перечислили на книжку в местную сберкассу. Тут же в кассе Леонид Антонович Хоботов забрал деньги, которые ему выдали тройками и пятерками, сложил на дно рюкзака, сверху побросал грязную одежду, давным-давно не стиранные, засохшие носки, трусы, майки, порванные кроссовки и, имея на руках бесплатный билет, который выдавали железнодорожникам, первым же поездом отправился в Москву.
А Владимира Ильича постигла ужасная участь. Его пробовали вытащить из гаража целую неделю, но все попытки оказались бесплодными. Пришлось Ленину отпилить голову с куском плечей, и лишь только после этого безголовое туловище, твердо стоящее на башне броневика, ощетинившейся двумя пулеметными стволами, выкатили во двор. А поздним вечером, когда в депо стало почти безлюдно, два стропальщика накинули вождю мирового пролетариата петлю-удавку на шею, и автомобильный кран, хрустя и скрипя, поднял голову с плечами на высоту трех метров.
Леонид Хоботов, естественно, при этом безобразии не присутствовал. Он в это время сидел в вагоне-ресторане и попивал честно заработанную водку, запивая ее не менее честно заработанным пивом, и клеился к официантке.
Целый год он прожил безбедно, опасаясь лишь одного, что начальник депо состряпает письмо ректору, и тогда ему может не поздоровиться. Но начальник депо подавил первый порыв злости, поняв, что Хоботов здесь ни при чем, условия договора выполнил, изваяв памятник нужной высоты в нужный срок. А то, что гараж подвел, так это его, начальника беда и недосмотр.
На открытие памятника, как и положено, согнали всех, кого только возможно. Гремел оркестр, выступал начальник, а в толпе только и перешептывались, рассказывая о том, как двое стропальщиков ночью вешали Ленина.
– Ну вот, теперь я смогу спокойно уйти на пенсию, – выпив на банкете, прослезился начальник депо, глянув в окно на поблескивающего свежей бронзовкой Ильича. – Надо будет только сказать женщинам, чтобы цветов на клумбах насажали. Ты, парторг, об этом деле не забывай, после меня останешься.
Стоит сейчас этот памятник или нет. Хоботов не знал. В те места он больше не наведывался и вспоминал свою первую крупную работу с содроганием. Может именно поэтому после исполнения железнодорожного заказа к памятникам вождям и императорам у него и выработалось стойкое отвращение.
Институт Леонид Хоботов закончил довольно удачно – памятником, который был посвящен покорителям космоса. Еще несколько удачных работ сделали Хоботову имя, дали возможность жить безбедно, в то время как другие скульпторы уже голодали. Он сумел построить кооперативную квартиру, заимел мастерскую, а после этого в его жизни началась полоса сплошного везения.
Тогда еще никто всерьез не относился к религии, считая это дело чем-то интересным, но глупым, а вот Леонид Хоботов почувствовал, что именно здесь зарыта собака, именно здесь невспаханное поле, целина – самая настоящая. Но не та целина, о которой писал Леонид Ильич, а настоящая.
Еще до того как многие творцы переметнулись в религию, бросились писать иконы, начали восстанавливать заброшенные храмы, резать алтари, у Хоботова уже имелся запас готовых работ, причем сделанных для души, выполненных на очень высоком уровне, – распятия, мадонны, святые, мученики, апостолы. Все это вдруг оказалось востребованным и не только в России. Его творения начали покупать и западные коллекционеры. И деньги буквально валились, лишь подставляй ладони.
И Леонид Хоботов подставил свои широкие крепкие ладони. Так продолжалось довольно долго. И лить в последние годы интерес к религиозной пластике поубавился, можно сказать, поугас. Но Хоботов уже умел держаться в струе интереса. У него уже появилось имя, многие коллекционеры собирали его работы. И опять пошли мадонны, распятия, ангелы. Он резал их из мрамора, отливал из бронзы. Правда сейчас в этих скульптурах стала появляться колючая проволока, разбитые колокола, снарядные гильзы, обломки бомб, куски автомобильных и самолетных двигателей, лопасти пропеллеров. Все это сплеталось в причудливые композиции, которые производили на зрителя неизгладимое впечатление.
О Хоботове вышли две монографии, несколько обширных каталогов. Его работы находились по обе стороны Атлантики. Ездил он по городу в черном джипе, одевался в лучших бутиках. Работал в последние годы крайне мало, лишь иногда, когда находило вдохновение. И тогда из-под его руки выходили замечательные вещи, в которых сочетались трудно сочетаемые элементы: стекло и бетон, бронза и дерево, золото и пластмасса. Композиции были небольшие, двухметровая считалась для него гигантской.
Из Москвы он уезжать не собирался, даже не сменил мастерскую, лишь сделал в ней капитальный ремонт. Убрал крышу, остеклил потолок, покрасил и побелил стены, вставил в окна стеклопакеты, сменил старую мебель на дорогую и добротную. Теперь его творческая вотчина напоминала и гостиную, и зал музея, и мастерскую одновременно. Она была уютной, удобной, но казалась какой-то странной, может быть, от рисунков в дорогих рамах или от небольших скульптур, поставленных на постаменты и стеллажи.
Сегодня Леонид Хоботов устраивал вечеринку по поводу прощания со своей последней работой, которую купили, когда скульптор даже ее не закончил, и купили за большие деньги. А приобрел ее для своей галереи известный голландский коллекционер. Скульптура стояла в углу мастерской на фоне белой шершавой стены, подсвеченная двумя софитами, словно ее собрались снимать для фильма. Посреди мастерской был накрыт большой стол, накрыт обильно, щедро. Но стульев рядом не стояло, Хоботов не любил, когда люди сидят. Он любил, когда те ходили, двигались, любил за ними наблюдать, забравшись на галерею и стоя на ней как капитан на мостике.
Во дворе уже расположилось с полдюжины шикарных автомобилей, и разодетая публика с бокалами и сигаретами в руках прохаживалась по мастерской. А Леонид Хоботов в черном костюме, без бабочки, с расстегнутой верхней пуговицей, с повязанным на шею пестрым платком стоял на своем излюбленном месте, опираясь локтями на перила, и сверху приветствовал входящих, гостеприимно предлагая разграблять богато сервированный стол. Пришедшие негромко переговаривались, каждое слово гулким эхом разносилось к стеклянному потолку, за которым плыли тяжелые серые облака.
Наконец Леонид Хоботов спустился к гостям. Он двигался тяжело; широкоплечий, сильный, очки в тонкой золотой оправе держал в пальцах.
– Мы восхищены, маэстро!
– Нечем здесь восхищаться.
– Да что вы, что вы, это ни на что не похоже.
Абсолютно не каноническая вещь.
– Да уж, не каноническая, – тихо бормотал Хоботов, время от времени бросая придирчивые взгляды на свою работу.
Ею было бронзовое распятие. Лицо Христа искажала невероятная боль. Христос абсолютно не походил на тот образ, к которому все привыкли. Это был не благообразный мужчина с бородой, страдалец за грехи всего человечества, а сильный атлет, под кожей которого узлами вздувались мышцы. Было видно, что ему ничего не стоит оторваться от креста, выдрать из ладоней гвозди. Он не делает этого лишь потому, что не хочет, лишь потому, что презирает людей и не желает вновь оказаться среди них, не желает стать таким же, как они – запуганным, боящимся смерти. Это было лицо воина, конквистадора, покорителя и завоевателя.
– А вам не кажется, маэстро, что ваш Христос какой-то грозный?
– А кто вам сказал, что он был ласковым?
– Вообще-то, да, его никто не видел, – произнесла женщина, пишущая в самых модных журналах о современном искусстве, – Наталья Болотова.
– Возможно, вы и правы, а возможно, и нет, – сказал Хоботов, – но почему-то в последнее время мне кажется, что он был именно таким.
– Кажется или вам хочется этого? – уточнила журналистка.
– Раньше я его вделал бы другим, благообразным, слабым, убогим.
Далее Хоботов раскрывать свою творческую кухню не пожелал. Он резко развернулся, подошел к столу, взял бутылку виски, взял ее за горлышко, крепко сомкнув сильные пальцы, поднял и принялся пить, не прикасаясь к горлышку губами, вливая спиртное тонкой струйкой в широко открытый рот. Он даже прикрывал глаза от удовольствия, его кадык оставался на месте. Казалось, виски вливается в его горло, как вливается в воронку.
Когда бутылка была уже наполовину пуста. Хоботов промокнул губы белоснежным платком и с бутылкой в руке подошел к распятию. Поставил виски у пробитых гвоздями ног Христа и отошел полюбоваться.
– Вам не нравится? – мрачно спросил он, обращаясь к собравшимся.
Все застыли в недоумении. То, что до этого казалось им святым, теперь приобрело совсем другой оттенок.
– А мне так нравится, – громко захохотал скульптор, – мне очень нравится, и я верю, что Христос был пьяницей, правда, пил он вино, а не виски.
После распития виски из горлышка приглашенные поняли, официальная часть приема в мастерской Хоботова завершена, могут остаться лишь избранные. Все подходили к хозяину, говорили любезные слова, благодарили за прекрасный вечер, за то, что маэстро помог им приобщиться к искусству, и тихо покидали мастерскую.
Наконец осталась лишь одна журналистка-искусствовед Наталья Болотова. Она уходить не спешила, сидела на кожаном диване, забросив ногу за ногу, на полу стояла бутылка вина, а в руке сжимала бокал. Она время от времени поглядывала на странное распятие, а затем на его создателя, который прохаживался вдоль стола, хищно улыбаясь, сдвинув густые брови к переносице. Волосы Хоботова были растрепаны, длинные спутанные пряди лежали на плечах.
Он резко обернулся.
– А ты почему сидишь? – глядя в глаза женщине, произнес он.
– Мне уйти?
– Я этого не сказал. Мне интересно, почему ты не ушла, ведь мы с тобой не настолько знакомы, чтобы оставаться наедине.
– Можем познакомиться, – улыбнулась Наталья Болотова, доливая в свой бокал вина.
– Что ж, давай познакомимся, – мужчина подошел и буквально навис над сидящей женщиной. Он не протягивал ладонь для рукопожатия, он смотрел на ее колени.
– Что-то не так? – спросила женщина.
– Да нет, все так. Просто я чертовски устал, какая-то опустошенность после работы, причем опустошенность зверская, словно бы из души все выкачано, полный вакуум. Вот поэтому и приходится пить.
– Я смотрю, вы пьете и не пьянеете.
– Давай на «ты». Что тебе надо?
– Интересный вопрос, особенно когда его задает мужчина женщине.
– Мне повторить вопрос? – насупив брови, произнес Хоботов.
– Нет, нет, не надо. Мне интересно, как создаются такие вещи.
– Руками, – сказал Хоботов, наконец он вытащил их из-за спины.
Наталья даже отпрянула, прижалась к спинке дивана, увидев перед собой огромные широкие ладони, изрезанные глубокими линиями.
– Я не разбираюсь в этом.
– В чем? – спросил Хоботов.
– В хиромантии.
– И хорошо, я в этом разбираюсь.
Болотова подала левую руку. Ее ладонь на ладони Хоботова выглядела миниатюрной. Он указательным пальцем с коротким крепким ногтем надавил в центр ладони, пальцы Натальи сжались.
– Я ничего не хочу говорить.
– Что меня ждет?
– Что ждет? Сама знаешь, что тебя ждет.
– – Не знаю, могу лишь догадываться.
– То, что ты думаешь, тебе не светит.
– А что я думаю?
– Ты хочешь со мной переспать. Я прав?
Наталья даже вздрогнула, так прямо это было сказано.
– Я про это не думала… – немного дрожащим голосом ответила она.
– Но этого не будет, во всяком случае, не будет сегодня.
– Что ж, спасибо за откровенность. Всегда хорошо, когда знаешь, что тебя ждет. Расскажи, как ты все это делаешь?
– Что это?
– Такие работы. Это же невозможно придумать.
Хоботов передернул плечами, затем стащил со своего мощного тела черный пиджак и зло швырнул его в угол дивана.
– Ненавижу! Одежда меня сковывает.
– Разденься, – сказала Наталья, – раз все равно ничего не будет.
– Да, да, надо раздеться, – и Леонид, схватив рубаху за ворот, рванул ее.
С хрустом и треском полетели пуговицы. Он сорвал рубаху с себя, на сильной шее пестрел платок. Его тело напомнило женщине тело корчащегося на кресте Христа-атлета.
– Ух ты! – воскликнула Наталья.
– Что «ух ты»?
– Никогда не видела такого сильного мужчину.
Слишком сильного… – в ее словах не было эротики, лишь констатация факта.
– Ну что ж, посмотри.
Хоботов подошел к скульптуре, взял недопитую бутылку виски и опустошил ее, глядя на скульптуру. Наталья была напугана. Могло произойти все что угодно, она осталась наедине с полусумасшедшим скульптором, выпившим бутылку виски. Ей захотелось уйти, но профессиональный интерес брал свое. Ей захотелось понаблюдать за пьяным Хоботовым. Она полагала, что сейчас сможет узнать о нем что-то чрезвычайно важное, то, что может стать солью будущей статьи.
– Как ты думаешь, – громко произнесла она, – почему Ван Гог отрезал себе ухо?
– Почему отрезал ухо? Потому что в его руке оказалась бритва.
– Неужели так просто?
– Чрезвычайно просто. Сложное придумывают потом. Когда поступок становится легендой.
– А если бы в твоей руке оказалась бритва, ты бы смог себе отрезать ухо?
– Поэтому и не бреюсь, – захохотал Хоботов, показывая крепкие белые зубы.
Его смех был беззлобным, каким-то наивным, детским. Так может смеяться либо гений, либо сумасшедший. Наблюдать за скульптором журналистке было чрезвычайно интересно.
– Ты много работаешь?
– Нет, мало, – сказал Хоботов, – работаю тогда, когда не могу не работать. Поэтому и получается.
– И как часто ты не можешь без работы?
– Иногда подолгу бездельничаю, а иногда не выхожу из мастерской неделями, сплю здесь, ем. Ты, наверное, решила написать обо мне статью? – сверкнув глазами, произнес Хоботов, и мышцы под кожей напряглись.
– Я уже ее пишу. В голове.
– Ну, ну, пиши, – безразлично произнес скульптор. – И что тебя еще интересует?
– У тебя есть женщина?
– Женщина? У меня? А как ты сама думаешь?
– Думаю – нет.
– Правильно думаешь. Женщины у меня нет, я друзей у меня нет. У меня есть лишь работа.
Наталья Болотова предполагала такой ответ, надеялась на него и уже приготовила свою фразу, которая должна была помочь ей осуществить задуманное. – – У меня тоже есть только работа, так что мы близки по взглядам на жизнь.
Хоботов посмотрел на нее ясным, как только что помытое стекло, взглядом.
– Ты врешь. У тебя есть мужчина, у тебя есть ребенок, а, значит, настоящей работы у тебя быть не может – никогда.
Наталья отступила на шаг, ткнулась бедром в стол, на котором звякнули бокалы. С мужем она развелась три года тому назад, ребенок жил с бабушкой. Она забирала сына с собой лишь когда ездила в отпуск, причем объясняла себе такую жизнь просто: личные заботы не должны мешать карьере.
– Можно я потрогаю скульптуру?
– Можно, – согласился Хоботов.
Женщина подошла и провела ладонью по плечу бронзового Христа. Краем глаза она следила за Хоботовым. Тот улыбался, словно бы ее ладонь гладила не скульптуру, а его плечо.
– И все же мне интересно, как именно делаются такие вещи? Секрет…
– Ничем не могу помочь, – ответил Хоботов, – я и сам этого не знаю. Делаю и все. Понимаю, это сложно понять, вряд ли объяснимо… Да и какая разница, как они делаются? Важно то, что происходит в процессе, и то, что скульптура появляется, обрастает легендами. Какая разница, как именно мучился Ван Гог, что он думал? Теперь это не имеет смысла, остались только картины.., и легенда о том, как он однажды отрезал себе ухо бритвой, а потом написал автопортрет. Эта легенда – половина его популярности.
– А я все-таки думаю, что существует формула искусства, – сказала Болотова.
– Это заморочки искусствоведов. Они считают, что все можно проверить цифрами, выкладками, оформить словами. Это бред. Не делались бы скульптуры, если бы их можно было рассказать словами. Искусство – соединение легенд и черновой работы.
– У меня есть предложение.
– Слушаю.
– Это будет похоже на спор. Ты станешь говорить, что невозможно понять, как рождается скульптура, а я стану говорить – можно.
– Что ты предлагаешь?
– Сегодняшний день первый день нового.
– Не понял.
– В твоей голове наверняка уже появился замысел следующей скульптуры, потому я и назвала его первым.
– Есть, – сказал Хоботов, – давно есть, но я не знаю, как к ней подобраться.
– Что это будет? Я хотела бы, чтобы ты согласился на мое предложение. Я стану приходить в твою мастерскую раз в неделю, два раза. Я мешать не буду, только смотреть, фотографировать, что-нибудь записывать. Я хочу разобрать по этапам весь процесс рождения новой скульптуры.
– Комикс получится какой-то, – усмехнулся Хоботов, – хотя… – он задумался, – что-то в этом есть.
Я сам не помню как рождаются работы – руки по" мнят. Они чувствуют трепет материала, – и тут Хоботов резко подошел к Наташе. – А что для тебя скульптура? Что это, по-твоему?
Болотова попыталась припомнить, доводилось ли ей писать что-нибудь подобного плана – формулировать это коротко и ясно.
– По-моему, это… – она задумалась. Точная формулировка ей не приходила в голову. – Это что-то вроде рождения человека.., что-то вроде жизни. Ну.., как человек лепит свою жизнь, один кусок, второй, третий., И наконец готова скульптура.
Хоботов рассмеялся:
– Абсолютно не правильно! Я знал, что так ты ответишь. Скульптура – это смерть, созидание – это смерть.
– Не поняла…
– Ты не правильно сравнила. Скульптуру можно лепить, а можно высекать. Так вот, жизнь человека – это скульптура, которую высекают. Ты, проживая время, отсекаешь от своей жизни куски, и вот, когда скульптура будет готова, – это и есть прожитая жизнь, это и есть смерть, то, что о тебе расскажут, когда тебя не станет.
– Я не до конца поняла, но, по-моему, интересно.
А что ты задумал?
Хоботов громко рассмеялся, его смех разнесся по обширной мастерской, даже посуда на столе задрожала.
– Я покажу тебе, иди сюда, – и он, хитро улыбаясь, поманил журналистку пальцем.
Когда она подошла к нему, резко схватил ее за руку, больно сжал и потащил в маленькую комнатку со столом и книгами. В мастерской Хоботова царила стерильная чистота, такая не характерная для скульпторов, даже пыли нигде не было видно. Хоботов, не глядя, взял со стола книгу и, бегло пролистав ее, бросил на стол.
– Вот, смотри.
Наклонив голову, Болотова с удивлением рассматривала фотографию всемирно известной римской копии древнегреческой скульптуры «Лаокоон и его сыновья».
– Я хочу сделать что-то похожее, очень похожее.
Если мог бы, сделал бы то же самое. Но руки у меня другие и голова другая.
– Но такая скульптура уже есть.
– Я хочу сделать, – Хоботову явно не хватало слов, – нет, не копию…
И тут нужное слово нашлось у Болотовой:
– Ремейк, – сказала она.
– Может быть. Да, это как фильм, снятый на старый сюжет, но с современными актерами в современных интерьерах. Отелло и Дездемона в сегодняшней квартире.
Руки Хоботова безвольно опустились, пальцы разжались, рука Болотовой, выпущенная на свободу, качнулась. Женщину поразили перемены в скульпторе.
Только что тот был полон сил, энергии, злости и, может, даже вдохновения, а тут он сник, стал беспомощным. Ей показалось, что Хоботов растерялся перед фоторепродукцией.
– Змея, удушающая Лаокоона и его сыновей… – она закрыла книгу. – А зачем?
– Если бы я знал, – вздохнул Хоботов, прикрыв глаза. – Но я знаю, что должен это сделать. Надо! Кому надо – сказать не могу, но только я могу сделать эту скульптуру, – и Хоботов, не открывая глаз, стал медленно поднимать руки.
Болотова, как завороженная, следила за этим движением. Руки сомкнулись у нее на спине. Хоботов прижал к себе женщину. Та вздрогнула и оцепенела, затем попыталась вырваться. Она изогнулась, но руки Хоботова прижимали ее сильнее и сильнее.
– Я слышу, как твоя плоть боится моей плоти, – проговорил Хоботов. – Теперь я понял, о чем будет моя скульптура: о том, как одна плоть боится другой, о том, как горячая плоть от страха холодеет, как тело удава.
– Отпусти! Отпусти! – умоляла женщина. – Мне больно!
– Отпускаю.
Руки Хоботова разжались. Он отступил на шаг, прислонился к стене и спокойно стал смотреть на Болотову, которая поправляла одежду.
– Это глупо.
– Я объяснил, как умею.
– Я пойду, – сказала она чужим голосом.
– Иди, я тебя не держу. Но только не забудь, что мы договорились. Ты придешь сюда еще не раз и не два. Ты ни о чем не станешь меня спрашивать, ты будешь только смотреть, ведь ты уже знаешь, о чем моя следующая скульптура.
Женщине стало так страшно, что она, даже не прощаясь, бросилась в мастерскую, схватила сумочку, сорвала пальто с вешалки и выбежала на улицу, не надевая его.
А Хоботов сел на диван и громко сказал:
– Я это сделаю!
Его голос отозвался звоном в стеклянном потолке, сквозь который он видел грязный пергаментный диск луны, изъеденный рытвинами.
Глава 5
Старый «лэндровер» по случаю переезда был идеально вымыт, а его хозяин тщательно пропылесосил салон. Ведь не станешь же в грязной машине перевозить любимые книги! Перевоз книг для Иллариона Забродова был священным ритуалом, таким же таинством, как крещение или отпевание, совершаемые один раз.
"Наконец-то свершилось! – время от времени с улыбкой думал Илларион Забродов, неторопливо продвигаясь в густом потоке машин по московским улицам. – Наконец-то я свободен, предоставлен самому себе, мне теперь не надо никуда спешить. И слава богу.
Ведь я устал за эти годы, хотя, возможно, со стороны никто и не скажет, не догадается, каким тяжелым для меня было последнее время. Ну да ничего, сейчас стану обживаться на старом, но по-новому обустроенном месте".
Наконец-то руки дошли до того, чтобы по-настоящему отремонтировать старую заброшенную квартиру на Малой Грузинской, причем отремонтировать так, как душа желает. На сегодняшний день квартира была уже отремонтирована, и теперь Илларион занимался тем, что частями сам перевозил на личной машине вещи, разбросанные по знакомым. Он не мог доверить грузчикам носить свои ценности. Ведь не объяснишь же им, что пачка книг может стоить намного дороже резного шкафа или концертного рояля.
Книги Илларион любил всегда, и если он был по-настоящему к чему-то привязан, так это к ним. К книгам он обращался и в светлые минуты жизни, и в тяжелые времена, всегда находя в них ответы или подсказки на любой интересующий вопрос. Нет, естественно, прямых ответов книги не содержали и не давали никаких рекомендаций, как поступить в том или ином случае. Но зато они подталкивали мысль, заставляли мозг лихорадочно работать, находя решение.
А вопросов в жизни Иллариона Забродова, которые требовали незамедлительных ответов, всегда имелось предостаточно. То вдруг его заинтересует какой-нибудь редкий языческий ритуал, то понадобится цитата из Корана, к тому же цитата должна быть прочтена в подлиннике, а для того, чтобы ее прочесть, нужна книга. Он хорошо помнил, как ему однажды помогла, в общем-то, бесполезная на первый взгляд книга сказок «Тысяча и одна ночь», которая вспомнилась в нужный момент. За нее он в свое время заплатил огромные деньги, так как был уверен, что через год или через десять лет она ему понадобится, окажет неоценимую услугу.
Так и случилось. Два абзаца из сказки дали Иллариону ключ для решения очень хитроумной задачи по освобождению из афганского плена трех русских парней, которые томились в подвалах дома одного полевого командира не первый год. Как ни бились дипломаты и военные, этих троих освободить не могли.
Предлагали афганским партизанам деньги, предлагали обменять пленных, но все попытки были тщетны.
И вот тогда Илларион Забродов вспомнил о том, что у него хранится издание книги арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Он потратил ночь для того, чтобы перечитать книгу, и нашел то, что искал. Да, те два абзаца помогли ему понять психологию главаря крупной афганской группировки, считавшего себя большим знатоком ислама. И благодаря тем абзацам Илларион смог с ним договориться.
А вся проблема заключалась в том, что никто ни из дипломатов, ни из военных, ни даже из представителей ООН не мог добраться до того места, где держали пленных. Главарь, рыжебородый полевой командир по кличке Ходжа, жестоко расправлялся со всеми, кто без его приглашения появлялся на его территории. И вот, когда его люди схватили Забродова, преспокойно направлявшегося на «лэндровере» цвета хаки по узкой горной дороге к небольшому селению, считавшемуся столицей владений Ходжи, Илларион даже глазом не моргнул, когда на него нацелили автоматы советского производства. Он преспокойно согласился с тем, что его доставят к Ходже и тот решит его участь.
Так и случилось. Забродову даже не пришлось искать дорогу. Его, в его же машине, но на заднем сиденье привезли в селение к большому по местным понятиям двухэтажному дому безликой архитектуры с плоской крышей. На крыше стояло два пулемета и зенитная пушка. Во всем селении было полно вооруженных людей.
Как понял Забродов, пленников держали в подвале.
Когда Ходжа предложил Забродову выбрать тот способ уйти из жизни, который больше ему нравится, Илларион преспокойно напомнил ему одно из основных положений Корана, изложенных в «Тысяче и одной ночи»: если иноверец стремится постичь суть ислама, то, кем бы он ни был, ты должен дать ему святую книгу или прочесть ее ему вслух, а затем для размышлений доставить в безопасное место, которое он сам укажет, чтобы там он мог самостоятельно принять решение. Примет он потом ислам или же нет, об этом в Коране ничего не говорилось.
И Забродов, не моргнув глазом, напомнил Ходже непреложную истину, которой свято должен следовать каждый мусульманин.
– Я хочу понять суть ислама, – сказал он, хотя знал Коран не хуже, чем сам Ходжа.
И тому в присутствии своих людей не захотелось нарушать традицию, которой следовали его деды, прадеды, все те, кто исповедовал учение пророка Мухаммеда. Забродов провел в резиденции Ходжи целую неделю. Он ходил с Кораном в руках, постоянно задавал Ходже каверзные вопросы, и, в конце концов, афганский полевой командир многому от него научился в толковании святого писания.
Однажды после намаза подозвал к себе Иллариона и негромко спросил:
– Послушай, русский, ты очень умный человек, ты умеешь говорить на языке, которым написан Коран. Ты сумел поселиться в моем доме, хотя я тебя и не приглашал, и я даже не могу тебя выгнать. Ты перезнакомился со всеми моими людьми, тебе даже подарили янтарные четки. И верят тебе, возможно, даже больше, чем мне.
Как ты этого добился, меня не интересует, но это правда.
– Возможно, – глубокомысленно заметил Илларион Забродов.
– Слушай, я хочу, чтобы ты уехал отсюда. Нечего будоражить моих людей. А подарком тебе будут трое пленников, которых я держу у себя уже год. Ты же приехал за ними, но до сих пор не сказал мне об этом.
Так вот, я сам говорю тебе, возьми их.
Из военного начальства никто не верил, что Забродову удастся освободить трех военнопленных, один из которых был офицером. Он поехал на свой страх и риск. Знал о его визите лишь один человек – майор ГРУ Мещеряков, с которым у Забродова были дружеские отношения.
На прощание Мещеряков сказал:
– Я, Илларион, ничего не знаю и если что, выкручивайся сам. Я тебе «добро» на этот вояж не давал и уверен, что все это впустую. Хорошо еще, если тебе удастся остаться в живых, а может оказаться, что и ты попадешь в плен.
– Все может быть… – глубокомысленно заметил тогда Забродов. – Сейчас мы стоим, разговариваем, смотрим в глаза друг другу, а завтра можем оказаться убитыми.
– Брось, Забродов! Шутки у тебя страшные.
– Ты же знаешь. Мещеряков, убить меня тяжело.
Взять в плен меня невозможно, если я этого не захочу.
– Пошел к черту, сумасшедший! Накаркаешь еще.
Ладно, езжай.
– Вот и хорошо, договорились.
– Но учти, я тебя не видел.
– Конечно, не видел. Я уеду ночью.
Скрыть исчезновение Иллариона Забродова было невозможно. Еще неделю майор ГРУ рассказывал полковникам и генералам всевозможные басни собственной стряпни, по которым выходило, что Илларион Забродов выполняет какое-то сверхсекретное задание.
Но кто это задание давал, от кого исходил приказ, начальство не понимало.
Наконец Мещерякова приперли к стенке, и он выложил все как на духу. Его покрыли матом, причем так густо и сильно, что мойся – не отмоешься. Майор Мещеряков скрежетал зубами, пальцы сами сжимались в кулаки, а с губ срывались проклятия в адрес неугомонного и строптивого капитана Забродова.
Начали доходить слухи из штаба ГРУ, что Иллариона Забродова видели в лагере Ходжи, причем он расхаживал по лагерю абсолютно свободно, беседовал с кем захочет и в руках у Забродова был Коран. Стали поговаривать, что Илларион Забродов решил принять ислам и скоро сделает обрезание.
Мещеряков лишь матерился, слушая новости об инструкторе ГРУ Забродове.
"Будь ты неладен, сволочь, так подставить меня!
Теперь звезду на погоны мне не дождаться. Сволочь какая-то! Как свяжешься с Забродовым, вечно неприятности на голову, и помои льются как из ведра. Ну ты появишься, появишься… Я тебе устрою сладкую жизнь, как-никак, я у тебя начальник. Ты у меня попляшешь. Посидишь на гауптвахте, там свой Коран и почитаешь, талмудист долбаный!"
Естественно, посадить на гауптвахту капитана Забродова было лишь мечтой майора Мещерякова, причем мечтой несбыточной. Он прекрасно понимал, что если Илларион вернется, то не один, а с заложниками.
Как он их вырвет из когтистых лап афганцев, он не расскажет, а будет нести какую-нибудь чушь в своем стиле, чушь абсолютно никому непонятную, похожую на сказки и поэтому неубедительную.
«И вообще этот Забродов – сволочь полнейшая. Он даже разговаривать по-человечески не умеет. Где надо орать, он говорит шепотом, где надо произносить слова так, чтобы тебя мог слышать только тот, кто стоит рядышком, Илларион вдруг начинает говорить громко и все вздрагивают. В общем, сволочь полнейшая, хотя, безусловно, талантлив безумно».
Ходжа после намаза отдал Иллариону трех русских пленников, один из которых был офицером. Отдал и джип, дал сопровождение. А перед тем как Илларион садился в машину, они с Ходжой целый час, сидя на ковриках во внутреннем дворике дома, пили чай и беседовали на такие темы, что если бы кто-то из полковников или генералов ГРУ услышал их, то подумал, что это сидят, поджав под себя ноги, не военные люди, а два восточных философа или теолога, ведущие беседу о тонкостях мироздания и о том, как верно все отражено в священных книгах. Каждый из них пересыпал свою речь длинными цитатами, но на каждую цитату оппонента то у Ходжи, то у Забродова находилась новая, которая или опровергала, или подчеркивала, подтверждала предыдущую.
На прощание Ходжа подарил Иллариону Забродову старинный рукописный Коран и сказал:
– Ну вот, читай его, неверный, может быть там, в России, ты и станешь на верный путь, придешь к аллаху.
– Не исключено. Ходжа, – ответил Илларион Забродов, и так как ответить на подарок Ходжи равноценным подарком не мог, то снял с левой руки швейцарские часы и протянул их Ходже. – Возьми, Ходжа. Это, конечно, ничто по сравнению с книгой, с великой книгой, – подчеркнул Забродов, – но большего у меня с собой ничего нет.
Встретили Иллариона Забродова восторженно, в одно мгновение забыв о всех претензиях к нему. Самое главное, он вернулся живым и невредимым, да еще привез с собой трех военнопленных, которых Ходжа не хотел отдавать и держал рядом с собой как живое прикрытие.
После этого в палатке майор Мещеряков спросил у Забродова:
– Послушай, Илларион, как ты все-таки смог их забрать? Почему Ходжа не убил тебя, а ты разгуливал по его дому?
– Если бы я захотел, – как фантастическую версию высказал Илларион, – я смог бы с позволения Ходжи переспать со всеми его четырьмя женами и нашел бы для этого подходящую цитату из любимой книги.
– Пошел ты к черту! Бред какой-то!
– Бред не бред, а ребята на кухне отъедаются. Ходжа подарил мне книгу, – Илларион бережно развернул шелковую ткань, в которой был завернут рукописный Коран.
И вот теперь этот же Коран, завернутый все в тот же белый шелковый платок, лежал на заднем сиденье в одной из пачек, запакованных в серую бумагу и перевязанных бечевками.
"Сейчас перенесу эти книги, а затем еще раз наведаюсь к Марату Ивановичу. Думаю, он обрадуется, когда я заберу книги из его подвала. Они там, как-никак, почти треть площади занимали. То-то будет доволен старик!
Хотя он любил их читать, все удивлялся моей на первый взгляд бессистемности в подборе чтива. Но это для него Эйнштейн и Коран не сочетаются, а для меня очень даже сочетаются и вполне могут стоять рядышком на полке".
На Малой Грузинской движение было не таким интенсивным, как на центральных улицах. Забродов уже видел арку своего двора, немного сбавил скорость, полюбовавшись на новые рамы на окнах своей квартиры, расположенной на самом верхнем этаже старого пятиэтажного дома начала века, возведенного в стиле модерн.
Особенно ему нравилось круглое окно в ванной комнате. Рама была немного повернута, как и оставил ее Илларион Забродов, покидая квартиру с утра. В гостиную из открытого окна выпорхнула на улицу штора и ее снова втянуло сквозняком в квартиру.
«Неплохо. Пусть вытянет запахи краски, лака».
И тут же Илларион сообразил, все окна выходят на одну сторону. И если возник сквозняк, то, значит, открывалась входная дверь.
«Может, домработница пришла? Но она уже все вымыла. Может, забыла что-нибудь?»
Он уже включил поворот и принял чуть влево, чтобы вписаться в арку, как увидел фургончик, неуверенно пробиравшийся узкой аркой на улицу. Притормозил, в подворотню могла пройти только одна машина.
Он увидел ярко-красный микроавтобус с нарисованной на кузове бутылкой «кока-колы», над горлышком которой, как фата невесты, развивалась белая пена.
Бутылка «кока-колы» похожа на негритянку во время свадьбы, – подумал Забродов, – такая же яркая, блестящая, запоминающаяся и абсолютно не гармонирующая с моим домом. Вот если бы на фургоне был нарисован сифон с изогнутой ручкой, это хоть как-то вязалось бы…"
Забродов вывернул руль и въехал во двор. Но не сразу открыл дверцу.
«Кока-кола»… – подумал он. – Какого черта здесь делал этот микроавтобус? Никогда раньше я его здесь не видел, магазинов в нашем дворе нет. Может, заезжал кто-нибудь к знакомым, а может, водитель ошибся адресом, доставляя груз?"
Он выбрался на асфальт, взял под мышки две самые тяжелые пачки с книжками, в руки взял еще по одной пачке и тут же подумал:
«Удивительно, книги тяжелее кирпичей. Естественно, столько в них всего спрессовали. Хотя на первый взгляд слова кажутся невесомыми – вылетело и исчезло. Слово начинает жить только после того, как превращается в графические знаки, а знаки размещаются на страницах. Сказанное же слово умирает».
Илларион Забродов легко поднялся на последний этаж. Он взошел и даже ни разу не остановился, не перевел дыхание. На площадке что-то его насторожило. Что – он еще не мог ответить, вернее, не стал размышлять. Что-то было не так, чувствовалось присутствие чего-то чужого, даже, возможно, враждебного.
Илларион тихо опустил книги на выложенный плиткой пол, извлек из кармана ключи и осторожно, абсолютно бесшумно вставил ключ в верхний замок. Ключ не проворачивался.
«Открыто», – подумал Илларион.
Затем бережно нажал на ручку и потянул дверь на себя. И тут же увидел, как заскользили, закружились по паркетному полу рассыпанные бумаги. Он скользнул в квартиру стремительно, как тень, и уже в квартире догадался, в ней никого нет, хотя совсем недавно тут побывали люди. Книги, которые Илларион уже успел привезти и частично расставил на полки, были сброшены на пол, ящики вытащены из стола, шкаф открыт, бумаги высыпаны, одежда валялась на полу и на диване. Мебель сдвинута с привычных мест.
Илларион понял, украли деньги. Понял сразу, даже не оглядевшись как следует. В общем-то, брать ворам в его квартире было нечего. Редкие книги не так-то легко пристроить, да и к тому же самые ценные книги были сейчас при нем, да часть их лежала в салоне джипа.
«Деньги, деньги…» – подошел и посмотрел в пустой верхний ящик письменного стола.
Несколько авторучек, остро отточенные карандаши, лупа в латунной оправе, фланелевая тряпочка для протирания линзы – все было не на своих местах. Трех тысяч долларов, недавно снятых со счета, как не бывало.
«Но это все ерунда, – Илларион присел на корточки и запустил руку в пустую тумбочку письменного стола, – так и знал! – револьвера тоже не было. – Деньги – вещь наживная, сегодня есть, завтра нет, а вот оружие – это другое», – и он принялся расхаживать по квартире.
Из вещей он не досчитался куртки и большой дорожной кожаной сумки. Исчезли также и ножи, которые были в столе. Судя по всему, в квартире орудовал не один человек и попали сюда воры, скорее всего, лишь потому, что с улицы увидели новые рамы. И решили, раз новые рамы, раз затеял ремонт, значит, жилец богатый. А если богатый, значит, есть что у него взять.
"Замки в моей квартире ни к черту. Думал же поменять. Хотя при желании открыть можно любой замок.
Замки – это как броня: чем толще и надежнее сталевары делают металл, тем более изощреннее изготавливают снаряды оружейники. Идет вечное противостояние обороны и нападения – это непреложная истина".
Бельгийский револьвер исчез. Илларион Забродов уже в который раз обошел разграбленную, развороченную квартиру.
«Черт бы вас побрал!» – зло подумал он о ворах. И тут же понял, злость в этом деле – плохой советчик, она может толкнуть на не правильный путь.
Он опустился в кресло, прикрыл лицо ладонями и принялся считать:
– Один, два, три, четыре, пять…
Он представил облака на чистом голубом небе, медленно летящие белые облака, легкие, пушистые, высокие.
"Ну, ну, думай, думай, – порванной ниточкой билась в голове мысль, – думай, Илларион. Милицию ты вызывать не станешь, какой в этом смысл? Квартирных воров искать очень тяжело, как правило, они попадаются случайно, но на пятой или десятой краже.
Револьвер – вот что беспокоит меня. Ведь из твоего револьвера, если его пустят в дело, могут убить человека. Мужчина, женщина, ребенок, милиционер – кто угодно может стать жертвой. А оружие мое – Иллариона Забродова, зарегистрировано. И тогда возникнут проблемы, тогда придется объяснять, кто взял, при каких обстоятельствах… И тогда придется объяснять, почему он, Илларион Забродов, бывший инструктор Главного разведывательного управления, два месяца назад вышедший в отставку… Чушь, про это думать не надо. Надо найти воров как можно быстрее. Машина…
«кока-кола».., машина «фольксваген» ярко-красная, коричневая блестящая бутылка на будке.., бутылка похожа на негритянку в свадебной фате, такая же нелепая и привлекательная. Номер, номер… Вспоминай, Илларион, вспоминай!" – Забродов напряг память.
Он видел угол арки, видел темный провал, из-за которого бьет свет.
"Да, в кабине сидели двое в бейсбольных шапочках. Какого же цвета? Ну, ну, Илларион, быстро решай, какого цвета шапки? Шапки темно-синие, почти черные, с надписями. Надписи я прочесть не успел.
Номер, номер… – твердил себе Илларион, потирая виски кончиками пальцев. Ну давай же!"
Перед его внутренним взором возникла картинка, абсолютно четкая, ярко-красный микроавтобус медленно выезжает из арки. Опять перед глазами была бутылка.
«Будь ты неладна, негритянка! Номер, меня интересует номер…»
Память у Иллариона Забродова была прекрасная, во сейчас давала сбои.
– Черт подери! – воскликнул Илларион, вскакивая с кресла и нервно прохаживаясь по комнате от стены к окну. – Все ясно, номера на машине не было!
«Неужели не было?» – сам у себя спросил Илларион. – Да, впереди номера не было, значит, был сзади, на самом фургоне. А вот машину сзади я не заметил.
Или заметил? Смотрел я на нее или нет?"
Он опять сел в кресло, крепко сжал пальцы, но тут же сообразил, что напряжение, с которым пытается восстановить изображение выезжающего из арки микроавтобуса, ему мешает.
«Надо расслабиться, расслабиться полностью, как я это делаю всегда».
Илларион откинулся на спинку, руки положил на подлокотники кресла и попытался представить бегущие по голубому небу белые облака, воду, траву, вершины деревьев, афганские горы серо-желтого цвета и гладкое, как эмалированное, небо, выцветшее, без облаков, с тонким серпом поблескивавшей луны.
– «Вот он, задний борт автобуса: дверь, ручка привязана проволокой, вернее, не привязана, а просто на ручке накручена проволока. Наверное, ручка сломана и таким способом ее укрепили. Номер…»
– Номер, – сказал себе Забродов. И тут же возник забрызганный грязью номер на заднем бортике микроавтобуса.
Возникло зеркальное его отражение:
– Вот, наконец-то! Видел-то я его в зеркальце заднего вида, – Илларион несколько раз произнес про себя буквы и цифры.
«Что ж, ребята, если этот микроавтобус не ворованный, я вас найду очень скоро!»
Он тут же сбежал вниз и за тридцать минут перетащил все книги, лежащие в «лэндровере». Затем тщательно запер двери. Он не брал с собой ни ножа, ни перчаток, уходил с голыми руками.
«Так, теперь на Беговую, – садясь за руль машины и поворачивая ключ в замке зажигания, произнес Илларион, – на Беговую к Пигулевскому. Надо предупредить старика, что сегодня я книги забирать не буду и, возможно, ему придется еще пару дней потерпеть мои пачки в своем подвале. Ну ничего, терпел же полтора года, потерпит и пару дней, от силы неделю».
На Беговую Илларион приехал быстро. Марат Иванович Пигулевский, пятидесятипятилетний мужчина, выглядевший намного старше своих лет, встретил Иллариона радостной улыбкой, но тут же понял по озабоченному лицу Забродова, что у того что-то произошла и планы меняются. Но расспрашивать не стал.
Пигулевский не любил задавать лишних вопросов.
Если быть честным, то они с Забродовым проводили довольно много времени вдвоем, беседуя о разных разностях, но Марат Иванович ни разу даже не удосужился спросить у Иллариона, где он работает или где служит. Это было ему ни к чему. Да и что бы это изменило?
Куда интереснее разговаривать с Илларионом о тонких философских материях, о китайских и японских сказках, о буддизме и дзен-буддизме, о разнообразии оккультных наук, о теологии. А самые интересные разговоры – это о книгах. Память у Забродова была феноменальная, он помнил годы издания почти всех книг, которые когда-либо держал в руках, разумеется, тех книг, которые его интересовали или хотя бы привлекли его внимание.
– Присаживайся, Илларион, чайник закипел.
– Марат Иванович, хочу просить у тебя прощения.
– Что такое? – сказал мужчина с седой бородкой в старомодных круглых очках с толстыми линзами.
– Тут такое дело… – начал Илларион, – пусть мои книги полежат в подвале еще несколько дней. У меня на квартире небольшой погром.
– Что значит, небольшой погром? Прорвало трубы отопления и залило квартиру?
Это был очень весомый аргумент, это было единственное, чего боялся, причем боялся с паническим ужасом, старый антиквар и букинист Марат Иванович Пигулевский. Его утро начиналось с того, что он спускался в подвал и ласково поглаживал трубы. Все хомуты на трубах, свидетели прошлых аварий, Пигулевский проверял каждый день. Но хомуты в подвале могут быть подтянуты, а вот нерадивые соседи или бизнесмены из офиса, находящегося над антикварной лавкой, могут забыть перекрыть кран, уходя с работы. И тогда вода хлынет в подвал и загубит книги.
«Нет, нет, все что угодно, – думал Пигулевский, – только не вода, только не пожар».
– Нет, Марат Иванович, – сказал Забродов, – слава Богу, трубы я все поменял, поставил латунные. Никогда не потекут, каждый стык проверил, все сделано надежно. У меня несколько другие проблемы.
– Что ж, надо так надо. Лежали книги два года, полежат и еще. Кстати, я обнаружил Брема. Откуда он у тебя, Илларион?
– Брем?
– И старое издание сказок «Тысяча и одна ночь».
– Да, да, на английском.
– Ну, знаете ли, Марат Иванович, эта книга досталась мне от одного школьного учителя. А он получил ее от своего отца, преподавателя московского университета. Тот купил ее то ли в Лондоне, то ли в Копенгагене в букинистической лавке. К сожалению, точно не помню, потому что при этом не присутствовал.
– Там чудные надписи на форзаце.
– Да, я помню.., помню, – сказал Илларион. – Но извините меня, Марат Иванович, мне надо бежать.
– Бежать или ехать? – спросил старик. Пигулевский уже давным-давно считал себя старым человеком и не удивлялся, не обижался, когда кто-то обращался к нему «дедушка». – Ладно, ладно, поезжай, Илларион. Но только позвони, когда приедешь. А то вдруг слягу, и в подвал тебя никто не пустит.
– Да, понимаю, позвоню. И, кстати, можете смотреть, Марат Иванович, все книги в вашем распоряжении. А вот потом я их увезу.
– Жаль, конечно, – сказал Пигулевский. – Я, правда, уже все книги твои просмотрел, там есть такие, особенно старые с готическим шрифтом, просто руки чешутся и слезы на глаза наворачиваются, когда начинаешь листать. Не умеют сейчас издавать.
– Да, не умеют, – кивнул Забродов, покидая антикварную лавку.
Звонок Иллариона Забродова застал полковника ГРУ Андрея Мещерякова в рабочем кабинете.
– Слушай, полковник, – после короткого приветствия сказал Илларион, – у меня к тебе дело.
– Говори, если смогу…
– Конечно сможешь, – тут же остановил полковника Илларион Забродов. – У тебя карандаш и бумага есть под рукой?
– Обязательно, – ответил полковник.
– Тогда запиши. Минут через сорок я тебе перезвоню, возможно, выдерну тебя с работы.
– Нет, не выдернешь, даже не пытайся. Ровно через час я должен быть… – Мещеряков не стал говорить Иллариону, где он должен быть через час, все-таки тот вышел в отставку.
– Пойдешь на аудиенцию получать по шее?
– Что-то вроде того… – недовольно пробурчал полковник Мещеряков.
– Записывай, – Илларион продиктовал номер.
– Ну записал, а что дальше?
– А дальше вот что, Андрей: как можно быстрее надо узнать, кому принадлежит эта машина и где она сейчас может находиться.
– Кому принадлежит, если такой номер, конечно, существует, если он не выдуман, я тебе отвечу через десять минут. А вот, где она находится, этого тебе никто не скажет. Может, она сейчас в Смоленске, а может, и на свалке. Зачем тебе? – тут же спросил Мещеряков.
– Потом, Андрей, расскажу.
– У тебя, Илларион, все дела важные. Вот если бы ты не ушел в отставку, сейчас сам мог бы воспользоваться нашим компьютером.
– Я понимаю. Но знаешь, полковник, мне хорошо, я свободен. Через пятнадцать минут, с твоего позволения, перезвоню.
Пятнадцати минут Иллариону Забродову хватило, чтобы выпить чашку крепкого китайского чая в маленьком уютном кафе на Беговой.
"Вполне возможно, я уже здесь был, – почувствовал Илларион, – но город удивителен. Проходят годы, и на месте гастронома может появиться ресторан, на месте ресторана – маленький видеосалон или зал игральных автоматов. На месте магазина, который сто лет торговал букинистической литературой, вполне может возникнуть мясной магазин. Да, я здесь был. Это гастроном, от которого отделили треть и сделали кафешку. Кажется, здесь торговали рыбой, – Илларион втянул воздух, словно бы запах рыбы должен был остаться. Но пахло лишь молотым кофе. Аромат был терпким, приятным, щекотал ноздри.
Сотовый телефон лежал прямо на столе. Еще пять-шесть лет назад вот так же на столы клали пачки сигарет, а сверху зажигалки, спички. Теперь же сигареты почему-то прячут в карман, а на стол кладут телефоны.
Он набрал номер Мещерякова. Прошло ровно пятнадцать минут.
– Записывай, – сказал полковник ГРУ, даже не поинтересовавшись, кто ему звонит. Раз прошло ровно пятнадцать минут, значит, на связи Илларион Забродов. – Машина с этим номером принадлежит небольшой торгово-посреднической фирме. Фамилия хозяина фирмы Серегин, а водит машину его двоюродный брат, – тут же был назван и адрес, где размещался офис и гараж. – Может, тебе, Илларион, нужен домашний адрес водителя?
– Если надо, найду сам.
– Конечно, тебе всегда достаточно одной ниточки добраться до конца клубка.
– Это так, но не совсем. Иногда надо, чтобы ниточек было несколько. Знаешь, полковник, все куклы в театре марионеток приходят в движение не от одной веревочки, а от нескольких, закрепленных на крестовине.
– Опять ты рассказываешь, Илларион, какую-то чушь, не относящуюся к делу!
– Да, не относящуюся… – Илларион отключил телефон, даже не поблагодарив своего бывшего начальника за раздобытый адрес. – Серегин, – прошептал Забродов, садясь за руль «лэндровера» и отправляясь на улицу Комдива Орлова.
Фирму он нашел сразу. Та же коричневая бутылка «кока-колы», блестящая, с длинным шлейфом пены на вывеске. Дверь была железная, тяжелая, с глазком телекамеры, но она оказалась не запертой. На крыльце курили мужчины, вышедшие из помещения фирмы, располагавшейся на первом этаже жилого дома, даже не накинув пальто.
«Наверное, хозяин не курит, – решил Илларион, – не переносит дыма, вот и выгоняет сотрудников покурить на свежий воздух».
– Мужики, привет, – обратился он к двум мужчинам, – Серегин у себя?
– У себя, куда ж он денется!
– Мужики, мне машина нужна срочно мебель по мелочевке перекинуть. Говорят, у вас фургоны хорошие.
– Кто говорит? – спросил краснолицый мужчина в кепке, сдвинутой на затылок.
Его рубаха была расстегнута на три пуговицы, на шее болтался шарф. Но шарф, как понял Илларион, мужчина носит только для красоты, тепла от него никакого, шелк лишь холодит.
– Знакомый один рассказал, сосед.
– Правда, но берем дорого. Зачем к Серегину ходить, это не его уровня дело. Если бы тебе партию надо было бы перекинуть какого-нибудь товара, то это тогда с ним.
Да и платишь ты, наверное, наличкой, а не безналом?
– Наличкой, – кивнул Забродов, похлопывая себя по карману.
– Лучше зайди во двор, там все фургоны и шофера найдешь.
– Спасибо, мужики, может, с вашей помощью и договорюсь, а то жена совсем достала, когда вещи, мол, перевезешь.
– А ты что, в разводе с ней?
– Не совсем в разводе. Просто живем в разных квартирах, вот и решили съехаться.
– Хорошее дело, – кивнул краснолицый, поправляя кепку, еще более лихо сдвигая ее на затылок.
Во дворе стояло три фургона, все одинаковые – ярко-красные грузовые «фольксвагены» с изотермическими будками.
«Вот она», – улыбнулся Илларион, обходя машину, в кабине которой никого не было.
Он несколько раз ударил ногой по переднему скату, открыл дверцу, которая была не заперта, трижды нажал на клаксон. И тут же появился мужчина в кожаной куртке с теплым меховым воротом.
– Эй, ты чего сигналишь?!
– Да вот, у меня дело…
– Какое еще дело? – на кривоватых ногах, в зимних кроссовках, мужчина подошел к Иллариону.
Это был крепкий парень лет двадцати восьми с вороватым взглядом. Один передний зуб в верхней челюсти отсутствовал, и водитель фургона то и дело сплевывал сквозь щель.
– Говорят, у тебя пара часов есть свободных?
– А что надо? – оживился водитель.
– Надо мебель перекинуть с одной улицы на другую в центре. Твою машину повсюду пустят, а у меня на фирме только бортовая есть.
– Сам грузить не стану.
– Грузчики есть, – улыбнулся Илларион невинно и глуповато.
– Это хорошо. А сколько платишь?
– А сколько скажешь?
– Откуда куда?
– На Малую Грузинскую, в дом с узкой подворотней, – негромко произнес Илларион, – на последний этаж надо будет кое-что поднять.
Лицо у водителя напряглось, он даже не стал спрашивать откуда везти. Его рука инстинктивно дернулась к монтировке. Илларион перехватил руку за запястье и сжал так сильно, что ноги парня подогнулись, и он упал на колени прямо в лужу.
– А вот откуда везти, это я у тебя хочу спросить.
Либо ты быстро скажешь, либо потом тебе очень долго придется лежать в тюремной больнице и часа четыре тебя будут оперировать, сшивать связки на обеих руках, вырезать кусочки жил и сухожилий из ног и надтачивать порванные на руках.
– Погоди, погоди, отпусти, не дави!
– Я еще не давлю, – Илларион подошел к грузовику, повернул ручку, перевязанную проволокой, и, легко оторвав тяжелого парня от земли, легко вбросил в пустой фургон. Затем сам забрался туда. – Ну так как, приятель? Ты мне сам все расскажешь или мне тебя мучить?
– Нет, нет, все скажу!
– Кого ты возил на Малую Грузинскую?
Водитель лихорадочно соображал, что бы такое соврать, но тут же понял, взглянув на Забродова, что лучше не врать, себе дороже. Даже если и сумеешь обмануть, потом придется плохо.
– Так кого ты возил?
– Понимаешь, два мужика на улице подошли, говорят, мол, надо кое-что из дому забрать в связи с переездом. Я их ждал на улице, у подъезда. Там еще такой двор дурацкий, чуть въехал, а потом чуть выехал.
Забродов терпеливо все выслушал, а затем спросил:
– Зачем ты врешь, парень? Ты же их знаешь?
– Знаю, – неохотно согласился водитель.
– Вот и я говорю, что знаешь.
Парень судорожно дернулся, пытаясь выскочить из фургона. Но лучше бы он этого не делал. Илларион перехватил его за шею и пару раз ударил головой о стенку, несильно. А затем левая рука сжала горло, но не кадык. Указательный и большой палец легли на артерию, временно прекратив доступ воздуха к мозгу. В глазах у водителя потемнело, затем поплыли разноцветные круги, и он начал терять сознание.
Забродов выждал нужную паузу для того, чтобы водитель уже смирился с мыслью, что умирает, и разжал пальцы.
– Понравилось?
Парень ответить ничего не мог. Он стоял на коленях и мелко-мелко дрожал, беззвучно открывая рот.
– Я так сделаю два раза, и ты тихо умрешь. Даже вскрытие ничего не покажет.
– Кто ты? – наконец-то выдохнул из себя перепуганный до смерти шофер.
– Это неважно. Для тебя достаточно знать, что я могу тебя убить. Я человек, а ты мразь, – и, схватив водителя за шиворот, Забродов вытащил его на свежий воздух.
Наконец-то в глазах у водителя немного посветлело, он поверил, что остался жив. Но он понял и другое: если еще раз попытаться обмануть незнакомца, то этот обман может оказаться последним.
Он стал забираться за руль.
– Погоди, – остановил его Забродов, – я не хочу врезаться в стенку или в столб. Машину поведу я, а ты скажешь адресок.
Парень спорить не стал, перелез на сиденье рядом с рулем и затих. Он боялся, что выйдет кто-нибудь из конторы и увидит чужого человека за рулем. Если раньше такой исход казался ему спасением, то теперь он понимал, только сдав своих дружков-воров, он сможет рассчитывать на прощение.
Фургон выехал со двора и помчался по улице.
– Налево сворачивай, – бескровными губами прошептал шофер, сидевший на сиденье пассажира.
– Я тебе на «ты» обращаться к себе разрешения не давал.
– Извините, пожалуйста, гражданин…
– Вот так-то лучше, – Забродов достал сигарету, прикурил и покосился на своего спутника. – А вот тебе курить не советую, сознание потеряешь со страха.
– Я и не прошу…
– Зубы спрячь.
Они проехали почти полгорода, и наконец, улица пошла вдоль железной дороги. Пространство между рельсами и улицей занимали частные гаражи.
– Сюда. Гараж семьсот двенадцатый, – нехотя сказал шофер и вжал голову в плечи.
– Твои дружки еще там?
– Скорее всего, да. Может, высадишь, дальше сам поедешь и машину оставишь?
– На «вы», – напомнил ему Забродов.
– Да-да. Так как?
– На твоем месте я бы сидел и помалкивал.
Фургон медленно покатил по узкому проезду между гаражами. Забродов лишь стриг взглядом цифры на железных гаражах.
Вот и пошли семисотые. Он ловко поставил машину под стеной так, что из прохода ее было не видно, и повел рукой, словно бы хотел обнять своего спутника.
Тот рванулся, ударившись головой о дверку, но рука Забродова уже настигла его. Шофер даже не попытался сопротивляться, так сильно он был напуган. Короткий удар ребром ладони по шее, и тот сник, уткнувшись лбом в приборную панель. О том, что он жив, говорило лишь подрагивание ресниц.
– Минут через тридцать оклемается, – проговорил Забродов, выбираясь из машины.
Проезды между гаражами были грязные. Брезгливо обходя лужи, Илларион дошел до железных ворот с цифрой семьсот двенадцать. Остановился, прислушался. Из гаража доносились возбужденные голоса – беседовали человека три или четыре.
Илларион постоял с полминуты и точно определил, в гараже было трое. Мужчины наверняка пили. С первого взгляда Забродов понял, калитка в железных воротах закрыта изнутри.
Он постучал костяшками пальцев, не очень настойчиво, не очень уверенно – так, как мог постучать сосед по гаражу, если ему вдруг понадобился какой-нибудь редкий ключ. Голоса даже не смолкли, лишь один из пивших подошел к калитке и, не спрашивая, кто там, повернул ключ. Забродов резко навалился на нее, сбивая с ног того, кто стоял за ней.
Установилась тишина. Забродов, не вынимая рук из карманов, зашел в гараж и посмотрел на двух парней, сидевших за верстаком. На расстеленной газете лежала крупно порезанная ветчина, стояла бутылка водки и три стакана. Третий парень с разбитым носом сидел на полу и тряс головой, он никак не мог понять, как очутился на заднице. Пока замешательство не прошло, Забродов, подойдя к столу, взял водку, вылил ее на пол. На газете лежал нож, Забродов его узнал сразу – нож из его коллекции, узбекский, с черным лезвием, инкрустированный медью.
Если бы Илларион сразу ударил кого-нибудь из сидевших за столом, то и это не произвело бы на них такого шока, как то, что он спокойно вылил полбутылки водки на бетонный пол.
Рука одного из сидевших потянулась к ножу, и Илларион резко ударил по ладони кулаком. Рука застыла на верстаке, словно прибитая к нему гвоздем. Забродов взял нож, лезвие которого было перепачкано жиром, вытер его о ворот замшевой куртки одного из бандитов. Те сидели молча, ошарашенные происходящим.
– Где револьвер? – Илларион махнул ножом, нарисовав в воздухе восьмерку, а затем кончик острия застыл прямо перед зрачком одного из парней в каком-то миллиметре. – Смотри не моргай, а то глаза лишишься. И лучше не дыши. Искусственный глаз – удовольствие дорогое, хотя и не видит.
Парень от испуга не мог проронить ни слова.
– Я сказал, не моргай, иначе станешь как Кутузов, – Илларион запустил левую руку за пазуху замшевой куртки и вытащил свой бельгийский револьвер, отщелкнул барабан.
Все манипуляции он проделал одной рукой, как картежник, посмотрел, убедившись, все ли патроны на месте. Он сунул револьвер за брючный ремень сзади и распорядился:
– Все, что забрали на Малой Грузинской, быстро найти! Сложить сюда, – он ударом ноги выбил из-под верстака свою кожаную сумку.
Кожаная куртка Иллариона уже была на плечах одного из бандитов.
– Чужие вещи носить вредно, голова может от этого разболеться. И деньги не забудьте. Где лежат остальные ножи?
Теперь Илларион стоял, скрестив руки, у железных ворот. Двое бандитов суетились, сбрасывая в сумку вещи.
Третий с разбитым носом попытался было подняться, он хотел схватить большой газовый ключ, лежавший у стены. Но Илларион, даже не глядя на него, взмахнул ногой. Удар каблука, пришедшийся прямо в лоб, был быстрым и точным. Парня отбросило к стене и он сник, завалился на бок, потеряв сознание. На лбу отпечаталась металлическая подковка с тремя шляпками шурупов.
– Вы, наверное, мужики, не поняли, куда залезли, наверное, адресом ошиблись?
– Да, да, ошиблись, – сказал тот, на плечах которого недавно еще была куртка Забродова. Он ее паковал в сумку, аккуратно сложив – так, как могут складывать вещь лишь в дорогом магазине.
Сумку упаковали, и один из бандитов с ней в руках подошел к Иллариону, но не вплотную, опасаясь удара.
Поставил сумку на пол и положил сверху аккуратную стопочку долларов.
– Ровно три тысячи, можете не пересчитывать. Из них мы еще ничего не взяли.
– Вижу, – сказал Забродов и, резко нагнувшись, поднял сумку, забросил на плечо, деньги небрежно сунул во внутренний карман. – Если еще раз появитесь у меня дома или я узнаю, что вы залезли к кому-нибудь другому, то пощады не ждите, – Забродов шагнул в открытую калитку, прихватив с собой ключ.
Щелкнул замок, ключ в котором провернулся на два оборота.
– Эй, открой, мужик! У нас же ключа нет!
– Знаю, – спокойно ответил Илларион, опуская ключ в карман куртки, и пошел грязным проходом между гаражами к ярко-красному грузовику с нарисованной на борту бутылкой «кока-колы».
Шофер уже немного оклемался. Он сидел на краю сиденья перед открытой дверцей, зажимая уши ладонями, напоминая контуженого взрывом.
– Что, плохо? – участливо спросил Забродов, садясь в машину и бросая сумку на сиденье.
Шофер даже никак не отреагировал. Илларион несильно толкнул его в плечо и парень вывалился на улицу прямо в грязную лужу. Не поднимаясь на ноги, он на четвереньках отполз к стене и сел, глядя на Забродова. А тот захлопнул дверцу, и машина легко, задним ходом поехала к улице.
В железную дверь гаража под номером семьсот двенадцать исступленно колотили изнутри тем самым большим газовым ключом:
– Откройте! Выпустите!
Но Илларион уже не слышал ни грохота, ни грязной ругани. Он спокойно доехал до улицы Комдива Орлова и, въехав грязными колесами на тротуар, оставил фургон. С сумкой он пересел в свой «джип» и еще через полчаса сидел у себя дома.
Дверь из гостиной, узкой, как пенал, была открыта в коридор. Прямо напротив двери висел спил старой липы, нетолстый, сантиметров пятнадцать и около метра в диаметре, Концентрические окружности годовых колец делали этот спил похожим на мишень для стрельбы.
В левой руке Илларион держал два ножа, а в правой – третий за кончик лезвия. Он четко прицелился и несильно бросил. Нож аккуратно вошел прямо в центр липового спила и загудел как камертон.
А затем Забродов взял в обе руки по ножу и, уже не целясь, метнул их. Оба они воткнулись рядом с уже торчащим, причем брошенный правой рукой воткнулся слева, а левой – справа от него. Теперь уже гудело три ножа, точно трезвучие, словно бы Забродов тронул три басовые струны на гитаре.
«А теперь займусь приятным делом, – вздохнул Илларион, поднимаясь из мягкого кресла. Расставлять книги – занятие приятное, но забирает много времени. Возьмешь книгу, раскроешь и можешь час просидеть, перечитывая любимые страницы. А книг у меня…» – он огляделся.
Вдоль стены стояли ровные стопки книг, завернутые в серую оберточную бумагу, стянутые бечевками.
На сгибах были подложены твердые картонки, чтобы не попортить обложки. Илларион выдернул нож из спила и пружинистой походкой прошелся по длинному коридору рядом с пачками книг. Он шел, легко нагибался и, подцепив бечевки, разрезал их острым, как бритва, ножом, даже не прикасаясь к ним руками.
– Прямо-таки танец с саблями, – сказал Забродов, привалившись к стене, глядя на разрезанные веревки. А затем, сложив губы трубочкой, насвистел первые такты «Танца с саблями» Хачатуряна.
На одной из пачек бумага с шелестом сама раскрылась, словно в середине сидел кто-то живой. Илларион присел на пол, взял в руки верхнюю книгу и глянул на обложку: «Японские сказки» в переводе Кона. Он было потянулся к полке, чтобы поставить книжку, но не удержался, распахнул ее наугад, а затем, сидя прямо на полу, принялся читать. Через полчаса он спохватился и с ужасом глянул на огромное количество стопок с книгами.
«Если так пойдет, то мне и жизни не хватит, чтобы расставить их по местам. Хотя, с другой стороны, надо же когда-нибудь найти время и почитать. Не было его у меня раньше, а теперь, когда бросил службу, можно иногда позволить себе расслабиться», – он резко захлопнул книжку и поставил ее на полку.
В этот момент резко зазвонил телефон. Забродов глянул на идеально ровный после ремонта белый потолок, выкрашенный датской краской, и подумал, не спеша подходить к телефону:
«Если Мещеряков, то скажу ему спасибо, а если кто-нибудь другой, то тоже скажу спасибо за то, что позвонили».
Он взял трубку, нажал кнопку и не дожидаясь, пока кого-нибудь услышит в ней, проговорил:
– Спасибо за то, что позвонили, но я занят, – и тут же отключил телефон.
Как и следовало ожидать, телефон через несколько секунд вновь разразился гнусным писком.
– Андрей, ты? – спросил Забродов. – Я же тебя уже поблагодарил.
– У тебя все в порядке? – спросил Мещеряков.
– Никаких осложнений. Только что прочел японскую сказку про две луны, обезьяну и горсточку риса.
Хочешь расскажу? Очень поучительная сказка, может, тебе понадобится где-нибудь на совещании паузу закрыть.
– Забродов, пошел ты к черту! Я думал, у тебя что-нибудь серьезное случилось, помощь нужна.
– Помощь ты мне уже оказал. И еще раз спасибо за то, что мне позвонил. Я занят. Бип, бип, бил, – сказал в трубку Илларион, имитируя гудки, и услышал смех.
«Раз смеется, значит, не обиделся».
Мещеряков в это время сидел в своем строго обставленном кабинете, где не было ни одной глупой вещи, где днем с огнем невозможно сыскать сборник японских сказок – одни инструкции, кодексы, карты, папки с надписью «Секретно» и «Совершенно секретно».
А в трубке раздавался дурацкий писк: бип, бип, бип…
– А теперь, Андрюша, угадай мелодию, – и Забродов насвистел танец с саблями, причем сделал это безукоризненно, словно стоял на сцене перед полным залом.
– Хачатурян, танец с саблями, – обрадовался Мещеряков тому, что сумел блеснуть эрудицией.
Из всей классики обычно люди знают «Танец с саблями» Хачатуряна да «Танец маленьких лебедей» Чайковского, и то лишь потому, что обычно солдаты в армии ставят на него в клубе пародии.
И Мещеряков, даже не закрывая глаз, отчетливо увидел картинку, виденную им в то время, когда он служил в армии рядовым: клубная сцена, а на ней солдаты в кирзовых сапогах с голыми ногами в черных трусах и балетных пачках скачут под до боли знакомую мелодию, безбожно гремя подкованными каблуками.
Глава 6
Скульптор Леонид Хоботов проснулся неожиданно, и сразу же понял, уснуть больше не сможет, хотя было около четырех часов утра. Слышался перестук колес поездов, гремели составы, абсолютно не слышные днем. Близость Белорусского вокзала давала о себе знать особенно по ночам, когда город погружался в сон, когда жители дома спали. В руках Хоботова появился странный зуд, он понял, что вот сейчас начинается именно то, к чему он стремился в последние месяцы – появилось желание работать, причем неистребимое, настолько сильное, что перебивало сон, желание есть, пить.
Он быстро оделся, боясь, что это ощущение – покалывание в кончиках пальцев – исчезнет и руки станут непослушными, чужими, такими же, как у всех людей.
– Быстрее, быстрее! – шептал он сам себе.
В данный момент Хоботову было все едино, что делать. Нашелся бы дома кусок глины, он принялся бы его мять прямо здесь, не обращая внимания, ни на грязь, ни на мусор. Но глина и пластилин находились в мастерской. В квартире он лишь спал, правда, иногда оставался ночевать и в мастерской, это случалось, когда силы покидали его, когда все силы уже были отданы работе и даже добраться до дома, пройти каких-то полкилометра он не мог.
Он выскочил из подъезда, даже не почистив зубы, не попив кофе, и побежал к мастерской. Он бежал будто на пожар, в расстегнутом пальто, в сбившейся на бок шапке, шарф развевался на ветру. Он бежал по лужам, по снегу, он торопился.
«Глина меня ждет, зовет к себе, как больной зовет врача, способного его исцелить. Руки, руки просят ее податливой упругости».
Он воткнул ключ в дверь мастерской, резко повернул его. Заскочило бы что-нибудь в замке, он скорее всего сломал бы ключ. Скульптор открыл мастерскую, стал повсюду зажигать свет, сбросил пальто прямо на диван, туда же швырнул шапку, шарф, свитер, буквально сорвал с себя майку, вырвал брючный ремень. Теперь ему было абсолютно все равно, как он выглядит.
От яркого света мастерская стала напоминать операционную. Огромный кожаный фартук, похожий на фартук мясника, только испачканный не кровью, а глиной, краской, гипсом, прикрыл его тело.
Хоботов зашел в угол мастерской, опустился на колени и поднял тяжелый дощатый люк, под которым в яме лежала глина. Он тут же огромными кусками принялся выбрасывать ее наверх. Глина была холодная, влажная, на ощупь почти живая. На ней оставались следы прикосновений, следы его пальцев и ладоней. Каркас будущей скульптуры был уже сделан давно, но Леонид Хоботов не мог приступить к работе. Он не мог работать в спокойном состоянии, он ждал вдохновения.
И вот, наконец, свершилось. Чувства его буквально захлестывали, топили в себе. Он принялся таскать куски глины к станку, бросал их на грязный целлофан.
– Ну, ну, скорее! – бормотал он.
Затем подошел к огромному магнитофону и, изловчившись, нажал на клавишу большим пальцем правой ноги. Музыка буквально взвыла, наполняя мастерскую.
– Хорошо, – прошептал скульптор, бросаясь к станку, покрывая гнутую ржавую проволоку вязкой глиной. – Быстрее, быстрее! – торопил он сам себя, торопил свои руки.
Он не обращал внимания, что его лицо уже мокрое от пота, что все его сильное большое тело стало влажным и липким.
– Ну же, ну! Вот так! – он выворачивал куски влажной глины.
И голый каркас, бестелесный, холодный, постепенно стал приобретать очертания человеческих фигур, пока еще грубых, но уже живых, наполненных чувствами, силой и движением. Иногда он хватал деревянный молоток, стучал по каркасу, иногда руками, как хирург вправляет суставы, выгибал проволоку и быстрыми движениями сильных пальцев возвращал глину на свои места.
– Ну вот оно! Вот оно!
Скульптура начала оживать, из бесформенной, грубой превращалась в часть жизни. Глина принимала очертания человеческих тел, наполненных страшной энергией. Тела хранили в себе конвульсивные движения человека, пытающегося вырваться, освободиться от петли. А петлей являлась огромная змея – единственное, что пока не давалось Хоботову.
– Ну, ну, что такое?! – он уже трижды срывал, глину с толстой ржавой проволоки.
Но формы пока были неубедительными, змея выходила какой-то мертвой, бутафорской. Не было в ней движения, стремительности, не было силы. Лишь один изгиб получился убедительным – вокруг шеи бородатого мужчины. Там тело удава казалось живым, казалось, оно в самом деле сжимает голову железным обручем, даже треск костей чудился. Но одним неосторожным движением, пытаясь улучшить, скульптор все испортил и остановился. Он уже забыл о том, что кончилась музыка, и только сейчас, опомнившись, увидел, что за окном день, заметил, что за стеклянным потолком летят низкие серые облака, а электрическое освещение сделалось бесполезным.
Он подошел и локтем опустил ручку рубильника. Мастерская мгновенно стала серой. Скульптура на станке дышала, в ней осталось что-то колдовское от безумной ночи, что-то ужасное, патологическое, отталкивающее и влекущее одновременно. Скульптура напоминала расчлененное человеческое тело, и смотреть на это страшно, и оторваться невозможно.
Вздох вырвался из открытого рта скульптора. Затем он скрежетнул зубами и грязной рукой вытащил из шкафа бутылку виски. Отвернул пробку и та, упав, покатилась по полу, высоко подскакивая. Хоботов подбил ее ногой, сбрасывая в разверстую, как могила, яму с глиной, а затем принялся пить, давясь, захлебываясь, жадно глотая сорокаградусную жидкость. Он не обращал внимания на то, что спиртное течет по подбородку, по кожаному фартуку, прорезая русло в мокрой глине.
Наконец он вздохнул и привалился к стене. Дальше работать не имело смысла. Он знал, если что и сделает, это будет не то, что ночью, когда чувствовалось покалывание в пальцах. Глину потом придется отрывать, мять, по новой набрасывать, срывать, пока вновь не придет вдохновение.
Хоботов сидел прямо на полу, глядя на то, что успел сделать, и не верил, будто сделал это не он, словно существовало два разных человека. Один из них бежал по улице, спеша в мастерскую, мял глину, набрасывая ее на каркас, срезал петлей, протыкал стеком, бил молотком – так, как бьют мясо на разделочной доске.
Второй же человек был беспомощным и слабым, сил у него не осталось даже на то, чтобы подняться, принять душ и помыть руки. Ему хотелось, чтобы хоть кто-то сейчас оказался рядом, подал руку, помог встать.
Большая дверь мастерской открылась. Хоботов повернул голову и заморгал, словно бы увидел призрак.
На пороге мастерской стояла Наталья Болотова, держа в руках кофр с фототехникой.
– А вот и я. Смотрю, работа сдвинулась с мертвой точки?
– Сдвинулась и остановилась, – загадочно сказал скульптор.
– Можно войти?
Вместо ответа Хоботов кивнул и повел рукой, дескать, входи, располагайся, где хочешь, ты меня абсолютно не интересуешь.
Женщина смотрела то на скульптора, сидящего под стеной, то на его творение. И то, и другое производили неизгладимое впечатление. Даже не раздевшись, она принялась распаковывать фотоаппараты, накручивать объектив.
– Сидите, не двигайтесь.
– Я же просил тебя обращаться ко мне на «ты».
Зажги сигарету.
– Странная просьба.
– Руки мокрые.
– Ясно.
Покорно, как ученица, журналистка прикурила сигарету, причем дамскую, подала ее скульптору. Тот, стараясь не испачкать фильтр, сунул сигарету в рот, жадно затянулся. Огонек пополз по сигарете и остановился почти на середине. Лишь после этого скульптор выпустил дым через нос, и тонкий столбик серого пепла, похожий на личинку, упал на мокрый фартук, зашипел.
– Хорошо, – произнес Хоботов.
– Я сфотографирую.
– Делай, что хочешь. Правда, я в таком виде… – небрежно бросил скульптор, высовывая из-под кожаного фартука босые ноги, перепачканные глиной.
– Так даже здорово, – сказала журналистка и принялась нажимать на кнопку.
Вспышка заставляла скульптора недовольно морщиться, прикрывать глаза. А Болотова обходила его то справа, то слева, то приседала перед ним на корточки и фотографировала.
– А это можно снять?
– Снимай, – бросил Хоботов.
Журналистка развернулась к скульптуре и только сейчас смогла толком ее рассмотреть. Месиво глины производило удивительное впечатление. Она даже содрогнулась. Наталья, несмотря на незавершенность работы, уже почти видела скульптуру законченной. Даже если бы Хоботов больше ничего не сделал, оставил все так, как есть, главная мысль читалась – от смерти не уйдешь, она настигнет и заберет. А мысль – главное, все остальное форма.
– Боже… – прошептала Болотова.
Палец нажал на кнопку, фотоаппарат не сработал и зажужжал, сматывая пленку.
– Вот так всегда, пленка кончается в самый нужный момент и кажется, что главный кадр ты так и не сняла.
– Выпить хочешь? – спросил Болотову скульптор.
– Выпить? Нет. Я не пью с утра.
– А что, разве уже утро?
– Удивительная работа, удивительная… Может быть, ее так и оставить? – произнесла женщина.
– Нет, так она ни к черту не годится. Мысль не читается до конца, она не закончена.
– Помоги подняться.
Болотова сперва не поверила, что сильный мужчина не может встать сам.
– Это серьезно?
– Да, руку подай.
Наталья подала руку. Хоботов поднялся, лишь прикоснувшись к ней.
– Я, честно говоря, не люблю показывать не законченные работы, – Хоботов намочил огромный кусок мешковины, набросил на скульптуру, и она сразу же стала бесформенной, напоминая горную гряду, темную, серую, тяжелую, мрачную, только что освободившуюся от снежной лавины. Но ощущение у Болотовой было такое, что там, под грудой мешковины, пульсирует жизнь, змея изгибается, гибнут и никак не могут умереть люди.
– Можно я сфотографирую?
– Фотографируй, – равнодушно произнес скульптор, сбрасывая фартук, и, не обращая внимания на женщину, элегантную и молодую, зашлепал босыми ногами, давя кусочки глины, в душ. На полу осталась цепочка грязных следов.
Хоботов стоял под горячей водой, но весь дрожал.
Его знобило. Все силы, которые были в организме, ушли на борьбу с глиной, не помог даже алкоголь. Он был опустошен до последней степени. Скульптор был пуст, как бутылка, из которой вылили все содержимое.
«.., или, как добротный кожаный чемодан, из которого вытряхнули вещи. Вещи же, выброшенные из чемодана, – это гора мешковины, скрывающая незаконченную скульптуру», – подумал Хоботов.
Он стоял, запрокинув голову, даже не закрыв дверь в душевую. Из маленькой комнатки валил густой пар серыми клубами. Казалось, что облака вплывают в мастерскую, и вот уже над тяжелыми облаками виднеется лишь пик из серой мешковины.
– Это тоже надо снять! – Болотова судорожно перезаряжала пленку, но никак не могла начать съемку, линзы покрывал конденсат. – Как что хорошее, никогда не снимешь!
Эта ситуация почему-то ей напомнила сцену, кочующую из фильма в фильм, когда солдат судорожно пытается перезарядить автомат, а на него надвигаются враги.
– Будь вы все неладны!
В душе шумела вода. Наконец вода стихла, и через минуту появился хозяин мастерской. Волосы его были мокрые, на нем – банный халат, из-под которого торчали босые волосатые ноги.
– Ну что, сняла?
– Да вот, все что-то… – попыталась объяснить Болотова.
– Так всегда, – произнес Хоботов.
К чему это относилось, женщина не поняла.
– Работа будет продолжаться?
– Сегодня нет, – выдавил из себя скульптор, – силы кончились, руки стали мертвыми. Скульптор, как пианист или как снайпер, пальцы должны быть теплыми, чувствительными и сильными, иначе все усилия – напрасный труд.
Подобного искусствовед Болотова никогда не слышала, чтобы скульптор сравнивал себя со снайпером.
Она посмотрела на руки Хоботова, на огромные сильные кисти с угловатыми пальцами и короткими ногтями.
– В самом деле у вас нет силы?
– Да нет, сила есть, – Хоботов взял кусок ржавой арматуры толщиной в палец, повертел его в руках, словно бы примеряя, а затем легко, двумя движениями, завязал его на узел, даже не поморщившись. – Вот такое дело. Сила есть, но кому это надо? А вот с глиной работать силы нет. Есть, значит, два вида силы…
Уже наступила вторая половина дня.
– Если хочешь, можешь снимать и дальше, но а сейчас уйду из мастерской.
– И я останусь одна?
– Ты боишься, что ли?
– Да нет, просто непривычно. Да и ключа у меня нет. Неудобно…
– Надоест, уйдешь, защелкнешь дверь, – Хоботов исчез в маленькой комнатке и оттуда вернулся уже вполне одетым.
Одет он был довольно-таки странно, на взгляд Натальи, не в пальто, а в куртку, не в брюки, а в джинсы. Но странностями скульптор уже не мог ее удивить. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, его длинные седоватые волосы были стянуты в пучок на затылке, борода уже высохла, лишь на бровях поблескивали капельки воды.
– Я тебя таким никогда не видела.
– Меня мало кто таким видел, – сказал Хоботов. – Ладно, я пошел, – не оглядываясь, он покинул мастерскую, захлопнув за собой дверь.
Болотова осталась одна. С одной стороны, ей льстило, что скульптор оставил ее в своей мастерской одну," разрешил все смотреть, фотографировать, заглядывать в потайные уголки. Но с другой стороны, ситуация сложилась не очень приятная: все-таки одна в чужом доме, неизвестно, кто сюда может прийти. Мало ли кому он еще оставляет ключи!
«Но если кто-то будет звонить или стучать в дверь, – решила Болотова, – я не открою. Хозяина нет, а меня за это он не уполномочивал».
Наконец-то ей удалось перезарядить пленку, но снимать расхотелось. Она просто разглядывала незаконченную скульптуру, пытаясь угадать под грубой мешковиной то, что ее поразило. Она даже подошла, тихо, почти на цыпочках, приподняла край мешковины, тяжелой и влажной, набрякшей водой, и заглянула. И тут же отшатнулась. На нее пахнуло запахом сырой земли, так пахнет разверстая могила. Так же пахла и яма в углу мастерской, которую скульптор не закрыл.
Болотова двинулась в угол и заглянула в яму. Ей чисто по-детски показалось, что там должен лежать труп. Но там кроме золотистой пробки от бутылки виски и грязного целлофана, которым была прикрыта глина, ничего не было.
Женщина с облегчением вздохнула:
"Что-то со мной творится странное. Мне начали мерещиться кошмары, и причем где, не на кладбище, а в мастерской скульптора в центре города! Какие-то детские страхи начинаются ".
И тут Наталье Болотовой захотелось самой что-то слепить. Она вспомнила, что давно не притрагивалась к пластилину, наверное, с летнего отпуска, когда с сыном ездила к морю. Вспомнила, как в детстве сама размачивала глину и пыталась обжечь самодельные скульптурки в газовой духовке кухонной плиты. Тогда у нее ничего не получилось, то ли глина оказалась не та, то ли духовка для обжига не годилась. А тут все было под руками, уж чего другого, а глины в мастерской хватало. Она лежала горкой на станке, комьями валялась на полу, где раздавленная ногой, а где и бесформенным куском.
Женщина присела на корточки, собрала обломки в один кусок объемом, примерно, в два ее кулачка и, устроив глину на металлической плите станка, принялась лепить. Она даже не придумала сразу, что именно хочет изобразить, поступала как дети. Слепила ужасную в своих пропорциях фигурку человека, и чем-то он ей напомнил самого Хоботова – такой же коренастый, похожий на огромную обезьяну, почти без шеи.
Она тут же смяла глину и поняла, ни человека, ни животное ей не вылепить, максимум, что может, так это голову какого-нибудь монстра. Орудуя буковым стеком и ногтями, она принялась ваять голову, уже забыв о страхах, о том, что находится в чужом доме.
Голова не хотела получаться симметричной: то одно ухо больше другого, то глаз выше расположен.
– Дрянь какая-то! – выругалась на себя Наталья, вновь сминая ком глины.
И в задумчивости, чтобы такое изобразить, начала его раскатывать. И только когда она опустила глаза, то поняла, у нее сама собой получилась скульптурка – большая змея, удав, оставалось только голову подправить.
Колбаска глины треснула посередине, словно бы обнажился рот змеи. Уже не доверяя стеку, взяв в руки зубочистку, она сделала змее две дырочки – глаза, затем проковыряла ноздри. А дальше работа пошла быстрее.
Она соорудила три маленькие человеческие фигурки – одну побольше и две поменьше – и принялась обвивать их змеей. Получился этакий лубочный Лаокоон, как если бы его ваял неграмотный деревенский мастер. Скульптурка получилась смешной, что-то вроде пародии на задуманное Хоботовым.
– Ремейк еще не сделанного ремейка, – рассмеялась Наталья, всплеснув руками и отходя в сторону, чтобы полюбоваться своей миниатюрой. – Ну вот, подарок скульптору готов. Милая вещица. Ее бы еще обжечь, а то увидит, разозлится и – хлоп сильной ладонью, вмиг размозжит!
Она посмотрела себе под ноги, увидев множество комков глины, растоптанных босыми ногами скульптора.
«То же произойдет и с моей скульптурой, раздавит змейку как дождевого червя».
И она взяла творение рук своих, держа его на ладони, подошла к стеллажу, забралась на ступенчатый подиум и только оттуда дотянулась до самого верха.
Скульптурка стала в дальний угол – так, что ее не было видно снизу.
«Найдет когда-нибудь, то-то удивится! Подумает, может, по пьяни сваял».
Но на скульптурке оставались четкие отпечатки отточенных женских ногтей и узких пальцев. Теперь она повяла, что ощущал Хоботов по окончании работы.
Это была и опустошенность, и в то же время какая-то дурная приподнятость. Именно дурная, хотелось сделать нечто глупое. То ли раздеться сейчас донага и принять душ в чужом доме, то ли улечься спать на диване, не снимая сапог.
Ее взгляд упал на клавиши магнитофона, не испачканные глиной, и она сообразила. Хоботов перед началом работы включил музыку, а затем даже не заметил, как кассета кончилась. Она отмотала ее на начало и, смахнув засохшую глину подушечкой мизинца, нажала клавишу плейера. Зазвучала музыка. Она не знала ни композитора, ни исполнителя, что-то странное, не то джаз, не то классика. Музыка ей не нравилась, но такую слушал Хоботов.
«Слишком какая-то уж.., животная музыка, я бы сказала, даже патологическая. Но раз уж я принялась играть в скульптора, то нужно играть роль до конца» – и она забралась с ногами на диван, взяла недопитую бутылку виски, стакан, плеснула спиртное на дно. Но пить не стала, только нюхала и курила. – Дождусь, придет же он в конце концов".
* * *
А Хоботов в это время шел, засунув руки в карманы куртки, втянув голову в плечи. Он лишь стриг глазами по лицам прохожих. От его взгляда встречным становилось не по себе, он словно бы ощупывал их лица.
Прохожим даже казалось, они чувствуют его прикосновение. Сильные руки скульптора пока еще были в карманах куртки, подбитой мехом.
У него не имелось конкретных намерений, куда прийти и во сколько, он просто шел, зная, что ноги сами вынесут туда, куда надо, глаза сами увидят того, кого он выбрал.
Вскоре он оказался на вокзале. В здание не заходил, сразу же вышел на платформы, несколько раз прошелся вдоль них, заглядывая в окна стоявших вагонов. Но чувствовал, еще рано. Затем сел в электричку, даже не взяв билет, поехал.
Он проехал Лосиноостровский парк и вышел там, где выходил всегда. Взглянул на лес. Синеватая стена хвои заставила его съежиться, словно эта острая, зубчатая, как пила, линия полоснула его по глазам. Развернулся и побрел по пустырю, уже почти отчаявшись.
Обычно все складывалось так, что ему не приходилось никого искать, словно кто-то сам гнал ему навстречу нужных людей. А тут пусто, безлюдно, холодно. Он с любовью вспомнил даже о своей мастерской, опостылевшей ему за ночь работы.
«Там сейчас тепло, – подумал он, – там женщина. А я ищу…»
Он увидел Ростокинский акведук, затем свернул на Малахитовую улицу и, оказавшись среди людей, вновь принялся всматриваться в лица. И тут вдалеке он увидел седоватую бороду, широкие плечи. Большая голова в лыжной шапочке с дурацким помпоном, какие носили лет пятнадцать-двадцать тому назад. В руках мужчина нес железный ящик, в которых обычно держат инструменты.
Теперь Хоботов больше не видел никого, кроме него.
Он остановился, отошел к стене и нервно достал пачку сигарет. Но не прикуривал, лишь вставил одну сигарету в рот. Мужчина не спеша шел, на его груди покачивался фонарик на кожаном ремешке. А когда поравнялся с Хоботовым, то приостановился, посмотрел на пачку в руках и спросил:
– Земляк, закурить не найдется?
– На, кури, – руки Хоботова дрожали, когда он щелкал зажигалкой.
– Что, с бодуна? – сочувственно поинтересовался крепко сложенный слесарь-сантехник.
– Можно сказать и так.
– Пошли, здоровье поправишь.
И Хоботов с облегчением вздохнул.
«Да, все как всегда, все получается само собой».
– Пошли, коль не жалко.
Они были чем-то похожи, примерно одного роста, одинаковой физической силы и даже примерно одного возраста. Лишь седоватая борода старила слесаря, да морщин на его испитом лице накопилось побольше.
– Где? – спросил Хоботов.
– Где, где, – рассмеялся слесарь, – ведомо, где в … Только вот в подвал зайти придется в двенадцатом доме, вентиль проверить. Вчера поставили, вдруг как подтекает?
Хоботов прикрыл глаза, шагая рядом с сантехником, городской пейзаж уже стоял у него в памяти.
«Подвал, трубы… Трубы… – и он усмехнулся. – Вот почему у меня ночью не получалась змея! Это не змея, это не удав, в удавов верили древние греки, а для современного человека – это труба огромная, серебристая, рифленая, которая окутывает весь город. Да, Лаокоон – это человек города и его должна давить труба».
– Ты чего задумался? Плохо?
– Да нет, всегда от предчувствия выпивки меня знобить начинает.
Слово «предчувствие» несколько покоробило слесаря. Уж слишком оно было не из его лексикона, но оно соседствовало с куда более знакомым и близким словом «выпивка».
– Да уж, хреново, – слесарь посочувствовал Хоботову, – когда колотить начинает. Пошли, пошли.
Они завернули в арку, остановились у невысокой, крашеной суриком двери с надписью «Бойлерная». Слесарь копался со связкой ключей, пытаясь отыскать нужный. Ориентировался он не по номерам, а по каким-то странным запилам, сделанным ножовкой. Дверь приоткрылась, на мужчин пахнуло сыростью и удушливым подвальным теплом.
– Дай, я вперед, – сантехник взял металлический чемоданчик и зажег фонарь.
Спускался он боком – так, словно бы шел в лыжах по крутому склону горы.
– Осторожно, тут коты гадят. Один раз поскользнулся, чуть голову не расшиб. Тут упадешь, так хрен тебя кто достанет. Сюда по полгода могут не заглядывать.
Помещение, в котором оказались Хоботов и сантехник, скульптору понравилось. Это был старый подвал, стены не оштукатурены, из хорошего красного кирпича, по которому пятнами расходилась плесень.
Вдоль стен тянулись трубы, и новые, в блестящей станиолевой теплоизоляции, аккуратно стянутой фирменными хомутами, и старые, ржавые, уже потерявшие гладкость, словно они годы пролежали на морском дне, обросли раковинами, водорослями и только совсем недавно их извлекли на свет, чтобы повесить на стену в мрачном подвале.
– Присаживайся, пока я тут пошаманю. – пригласил слесарь, подвигая ногой пластиковый ящик из-под «кока-колы».
Хоботов присел, смотрел, как мужчина лезет по приставной сварной металлической лесенке к верхней трубе, как проверяет вентиль, откручивая и опуская задвижку, поджал сальник.
– Вот и порядок, – он вытер ладони о штаны и, не торопясь спустился, развернулся и прислонился к лестнице. – Дай еще сигарету, – попросил он. – Пить здесь будем или пойдем куда?
– А куда пойти можно?
– В другой подвал. Да там запах такой же. Я уже привык, а тебя, небось, мутит?
– Нет, не мутит, – покачал головой Хоботов, – Нравится.
– Не может такой запах нравится.
– Нет, не вру.
Слесарь нагнулся, открыл железный чемоданчик и вытащил бутылку портвейна, завернутую в мятую газету.
– Вот, сегодня одному интеллигенту в смесителе на кухне прокладку сменил, так он портвейном рассчитался. Сколько же он у него стоял? Я уже таких этикеток и не припомню. «Семьсот семьдесят седьмой», «Три семерки», помнишь? Раньше самым лучшим считался, – и слесарь сорвал с горлышка пробку с козырьком. – Давай, тяни, – он подал бутылку.
Хоботов неторопливо, спокойно принял портвейн.
Пил как всегда, высоко запрокинув голову и вливая жидкость себе в рот, только булькало. Даже не прикладываясь к горлышку.
– Ловко ты пьешь. А я вот так не умею, у меня сразу изо рта выливаться начинает, словно кто пробку в горло воткнул.
Они в два приема выпили бутылку портвейна. Хоботов достал портмоне, вытащил крупную купюру и, держа ее в двух пальцах, протянул сантехнику.
– Может, сбегаешь еще? Что-то не проняло. А я здесь посижу.
– Лады, – сантехник исчез, оставив чемодан с инструментами, прихватив с собой лишь фонарик.
Хлопнула дверь наверху. Хоботов увидел ноги сантехника в старых джинсах, которые мелькнули в подвальном окне. Хоботов сладострастно потер ладонь о ладонь, он чувствовал покалывание в кончиках пальцев, почти такое же, какое наступало перед удачной работой.
– Идет, идет, – зашептал он, – все идет как надо, – а затем его взгляд заскользил по трубам. – Вот они, удавы, вот они, змеи! Обвили, окружили, но меня-то вам не удушить.
Вновь хлопнула дверь, и сантехник с двумя бутылками водки и со свертком закуски под мышками, радостный и возбужденный, влетел в подвал.
– Во, украинскую купил! На две хватило и на закусь еще.
– У тебя дети есть? – довольно холодно спросил Хоботов, когда сантехник устраивал еще один пластиковый ящик, чтобы использовать его как стол.
– Есть. Дети – дело нехитрое, в смысле – завести.
А вот потом… – он махнул рукой, освободившейся после того, как поставил откупоренную бутылку на ящик, – все кричат «деньги давай, деньги!», – разлив по стаканам, закрыл пробку, – сегодня дал, а завтра их уже нет. А где я деньги возьму? Я же слесарь, а не рэкетир какой. Ну, бутылку кто поставит, ну, где пара тысяченок обломится, так этого ж, разве что, хватит вот так, в подвале посидеть, по пузырю покатить…
– Дело говоришь, – сказал Хоботов, сам удивляясь звучанию своего голоса.
Он стал надтреснутым, немного хриплым, таким, какой бывает у людей много пьющих и много курящих.
– Что, вздрогнем? – спросил он, посмотрев в глаза слесарю.
Тот, еще ничего не поняв, согласно кивнул и потянулся за стаканом. А Хоботов, резко поднявшись, навалился на него, схватив за шею, и принялся душить.
Слесарь только с виду выглядел крепким. Может, в молодости он и обладал большой силой, но загубил ее.
Он даже не смог оказать достойного сопротивления, и уже через пять минут его бездыханное тело лежало на бетонном полу, усыпанном всякой дрянью, от бычков до прошлогодней листвы, залетевшей сюда сквозь разбитое окно.
Хоботов тяжело и возбужденно дышал. Он смотрел на мертвое тело с улыбкой умиления.
– Вот идеальная скульптура, – пробормотал он. – Любят же говорить идиоты искусствоведы, что творение скульптора – это остановленная жизнь. Вот творение рук моих!
Он не спеша взял полную бутылку, положил ее в металлический ящик, туда же полетела и закуска. Надел на голову шапку слесаря, а затем, перевернув его на живот, щелкнул складным ножиком и самым коротким лезвием вырезал на затылке крест – тот знак, которым обычно подписывал все свои скульптуры. Натянув на голову лыжную шапку слесаря с идиотским помпоном, прихватив его инструменты. Хоботов покинул подвал, аккуратно подперев дверь обломанной веткой.
Он шел по улице быстро. Теперь ему хотелось как можно скорее попасть в мастерскую. Дойдя до акведука, он увидел промоину в грязном темно-зеленом льду, сорвал с головы шапочку, бросил ее в ящик и, связав ручки проволокой, зашвырнул ящик в воду. Тот исчез моментально, тяжелый, с полной бутылкой водки, с инструментами и всякой железной дребеденью, которую носят с собой сантехники.
Глава 7
Обычно человек просыпается, когда громко включают музыку, но тут случилось наоборот. Наталья Болотова открыла глаза сразу после того, как музыка резко смолкла, буквально оборвалась на полуфразе. Ресницы дрогнули, глаза открылись, и она увидела девушку, стоящую к ней спиной, рассматривающую магнитофон.
В правой руке девушка держала ключи. Она вертела их на пальце и металлические пластинки, ударяясь друг о друга, словно заканчивали смолкнувшую музыку, издавали мелодичный звон. На ногах у девушки были тяжелые ботинки. Длинные светлые волосы лежали на плечах.
– Вы кто? – воскликнула Наталья, тут же опуская ноги на пол.
Девушка повернулась.
– А вы кто? – она смотрела на журналистку так, как могут смотреть на кошку, неизвестно откуда взявшуюся в квартире, устроившуюся на хозяйском диване, причем у кошки, плюс ко всем недостаткам, грязные лапы.
– Я Наталья Болотова.
– Наталья Болотова? Что-то не припомню таких знакомых.
– Я не ваша знакомая. А вы кто?
, – Я Маша.
– Маша? – в свою очередь переспросила Наталья.
– Да, Маша Хоботова.
– А, вы, дочь Леонида Антоновича?
– Да, я его дочь, – немного брезгливо произнесла девчонка.
Затем она прошлась по мастерской, приподняла край влажной мешковины.
– Что, начал работать?
– Как видишь, – сказала Наталья.
– Опять какую-то дрянь ваяет. Вы что, натурщица по вызову?
– Нет.
– А кто?
– Я искусствовед.
Слово «искусствовед» для девчонки было вполне привычно и она на него даже не отреагировала, как другие не реагируют на профессию сантехник. Судя по всему, термины, связанные с искусством, для нее были не в новинку.
– И что вы о нем хотите написать? Наверное, будто он очень талантлив и даже порой гениален? А я так не думаю. Я думаю, мой папаша сволочь.
– Нельзя так говорить о родителях.
– О родителях нельзя, а о нем можно. Он жадный.
Вот вам он хоть раз давал деньги?
– А почему он мне должен давать деньги?
– Я же говорю, что он жадный. Денег у него куры не клюют, а родной дочери сто баксов выделить без нотаций не может, скандалы устраивает. Кричит на меня, словно я ему чужая.
– Но дает же?
– Щедрые люди дают просто так. Был бы щедрый и вам бы дал, мне не жалко.
– Вы с ним живете?
– Не хватало еще с таким придурком жить!
Маша Хоботова говорила настолько откровенно, насколько откровенно может говорить подросток – с перебором. Причем она даже этим кичилась, ей нравилось перехлестывать через край, выражая этим свои эмоции и чувства. К тому же она чувствовала, что несколько странная в своей сдержанности красивая женщина уважает ее отца, хотя, на ее взгляд, уважать Хоботова старшего было не за что.
– А где он сам? Небось, в магазин за поддачей пошел? Выпить собрались? Дело хорошее. Если он с женщиной пьет, то легко с деньгами расстается, но если с мужчиной, а тут я нос в мастерскую суну – накричит, выгонит, а главное, денег не даст.
– Пить мы не договаривались.
– А чем занимались?
– Вроде бы он работал с утра. Я… – Наталье не дали окончить фразу.
– Ах, да, поддачу тут вижу, – она подошла, взяла бутылку, понюхала, затем сделала глоток и тут же сплюнула. – Фу, гадость какая! Опять свою любимую дрянь пьет. Она, между прочим, бешеных денег стоит, лучше бы мне дал.
Одета девчонка была очень хорошо, добротно и дорого. И судя по внешнему виду, в деньгах не нуждалась, разве что на мелочевку.
– Сигарета есть? – спросила Маша.
– Отец курить разрешает?
– Во всяком случае не запрещает. А если бы и запрещал, какое ему дело? Когда он придет и спросит, я скажу, что сигареты мои.
Маша села на диван, на край валика, затем подумала и положила ноги в ботинках на низкий столик. Она взяла сигарету, умело прикурила, затянулась, выпустила дым тонкой струйкой и посмотрела на Болотову.
Наталья ей нравилась: красивая, видная женщина и, судя по всему, не глупая.
Ее всегда удивляло, что вокруг отца крутятся умные люди, хотя его самого она считала идиотом, способным лишь месить глину и зарабатывать деньги, причем очень хорошие. Отец конечно же, давал ей деньги, как-никак единственная дочь, и давал щедро. Но, как все дети, Маша думала, что дает он ей мало и во всем обделяет, а самое главное, не считает серьезным человеком, с которым можно о чем-то толковом поговорить. Она сидела и курила, поглядывая на холм из грубой мешковины, под которым пряталась начатая скульптура.
– А что он сейчас лепит?
– Скульптуры, Маша, не лепят…
– Ах да, пардон, ваяют. Он у нас воитель.., или ваятель. По русскому у меня тройка.
– Не знаешь, как правильно, скажи – скульптор, не ошибешься.
– Иногда у него получаются забавные вещички. Я как-то заходила сюда месяц назад, он распсиховался тогда, выставил меня из мастерской. Но денег дал и то потому, что я ему мешала, он тогда Христа делал. Может видели, страшный такой, на культуриста или на гимнаста смахивает, словно не на кресте висит, а штангу от помоста отрывает? Идиотизм какой-то. И что только люди в этом находят? Есть же идиоты, которые деньги за это платят!
– Хорошая работа, – сказала Болотова.
– Хорошая? – Маше нравилось, когда отца хвалят посторонние люди, это как бы приподнимало ее в собственных глазах. – Так тебе, действительно, нравится, – обратилась она на «ты» к Наталье, кивнув в сторону начатой скульптуры.
– Мне нравится.
– И что, это на самом деле интересно, и кому-то нужно?
– А ты посмотри. Подойди, посмотри внимательно и подумай.
– Думать? Зачем здесь думать? Если он увидит, что я подглядываю, распсихуется, начнет ногами топать и тебя вместе со мной за дверь выставит.
– Не выставит, подойди, посмотри, по-моему, любопытно.
– Слова какие – любопытно… Да ни хрена там нет любопытного, – она легко соскочила с валика дивана, подошла к станку и задрала край мешковины. – Фу, гадость какая! Черви, все кишит. Жуть! Ненавижу! Нет, что-нибудь хорошее слепил бы…
– А что по-твоему – хорошее?
– Ну, не знаю… Хотя бы тебя или меня. Меня он лепил, идем, покажу, – Маша опустила мешковину и поманила пальцем Болотову в дальний угол мастерской, где высился стеллаж, задернутый занавеской. Она подошла, указательным пальцем отвела край серого холста. – Видишь? Похоже?
На второй полке стояла маленькая мраморная головка чуть меньше натуральной – голова ребенка с каким-то странным ангельским выражением лица. Глаза прикрыты, словно ребенок спал и видел чудный сон.
Маша взяла голову двумя руками.
– Погоди, уронишь.
– Моя голова, могу и разбить. Единственная работа, которая мне нравится. А хочешь, еще что-то интересное покажу? – и спокойно передала мраморную голову в руки Болотовой. Та замерла, боясь уронить мрамор, и аккуратно вернула скульптуру на стеллаж. – Да где же она, черт подери? Вот там вещь, действительно, любопытная, от которой меня тошнить начинает. А, вот она. Я как отвернула ее к стене, так он и не поворачивал. Пыльная стала.
Она развернула кусок гранита, из которого выступала бронзовая голова женщины, лицо искажала гримаса ужаса.
– Это знаешь кто?
– Нет, не знаю.
– А это моего папашки любимая жена, то бить, моя мама. Видишь, сволочь, как обезобразил? А в общем-то она нормальная женщина, даже симпатичная, хотя, возможно, не такая красивая как ты. Но как он ее доставал, как изводил, не дай бог! Я полностью на ее стороне.
– А чего тогда к нему ходишь? – спросила Болотова, – хотя про деньги Маша не молчала.
– Как же, отец, кормилец… Если родил ребенка или, вернее, принял в этом процессе участие, то пусть содержит до пенсии. Я же его об этом не просила, – и Маша весело рассмеялась, понимая, что городит чушь, но чушь вполне приемлемую и дающую хоть какое-то объяснение ее экстравагантному поведению.
Громко хлопнула дверь. Маша быстро отвернула портрет матери к стене, отряхнула ладони, задернула штору. Хоботов зашел в мастерскую. На его лице была довольная улыбка.
– А, дочка, привет! – воскликнул он радостно, так, как восклицает пьяница, войдя в дом, чтобы ни жена, ни дочь не стали нападать на него первыми. Ну, как, вы познакомились? Это Наталья, кажется, а это моя дочь Маша без всяких, кажется.
Маша переминалась с ноги на ногу.
– Тебе, наверное, что-нибудь нужно?
– Нужно, – сказала девчонка, – хотя вошла я просто так, проведать тебя. Смотрю, красивая женщина спит на диване…
– Спит? – переспросил Хоботов.
– Да, извините… – вдруг обратилась на «вы» Болотова, наверное, подействовало присутствие Маши, – вздремнула немного.
– Значит, тебе надо дать денег?
– Ты хочешь, чтобы я быстрее ушла? А поскандалить, побранить меня? Или, наоборот, усадить, виски попоить. Я-то уже настроилась на скандал, даже слова подходящие подготовила. Куда мне их теперь деть?
– Оставишь для другого раза. На сколько ты скандал рассчитала?
– На полчаса, – не поняла Маша.
– Нет, я спрашиваю на сколько денег, как говорится, на какую сумму прописью?
Маша набрала побольше воздуха и, прищурив глаза, замирая от собственной наглости, проговорила:
– Триста долларов.
– Всего лишь? – усмехнулся Хоботов.
– Нет, нет, пятьсот!
– Нет, слово воробей, вылетит – не поймаешь. Как договорились. Триста так триста, двести из них отдашь матери, сто оставишь себе. Кстати, как она там?
– Ужасно, – ответила Маша и отдернула штору, вновь развернула скульптуру. Точь в точь, как ты слепил, пардон, изваял, стала.
Хоботов с неприязнью посмотрел на творение своих рук, на женское лицо, искаженное ужасом.
– Точно такая же.., стоит ей о тебе вспомнить.
– Может, лучше ей двести долларов не отдавать?
А то как скажу, что у тебя была, так она мне скандал за бесплатно устроит.
Хоботов, присев на край подиума, вытащил новенькое пухлое портмоне и легко выдернул из него три стодолларовые купюры. Он расставался с деньгами довольно легко, довольный тем, что его щедрости есть свидетель – Наталья Болотова.
– Ну, пап, еще одну добавь, у тебя же их много, – Маша норовила из-за отцовского плеча заглянуть в портмоне.
– В чужие карманы никогда не заглядывай, как и в чужую душу, – Хоботов захлопнул портмоне, как захлопывают книгу, которую не дозволено читать детям.
– Почему?
– Испугаешься!
Сунув деньги дочери в ладонь, он сам сжал ее пальцы, смяв купюры.
– Довольна?
– Сверх ожидания.
– А теперь пошла вон, мне работать надо. Деньги я не из воздуха беру, а трудом зарабатываю.
– А я то думала, что и детей аист приносит…
Маша покосилась на Болотову. Ей захотелось еще поболтать, как-никак энергию, припасенную на скандал с папашкой. Маша не истратила, и энергия бродила в ее организме, ища выхода.
– А ты все пьешь, – сказала она, посмотрев на бутылку с виски, которая стояла возле дивана, а рядом с ней стакан, который налила себе Наташа.
Теперь, когда деньги оказались в руках, можно было позволить себе слегка наехать на папашку. Просто так, для разнообразия.
– Не только я пью, – усмехнулся Хоботов, – все пьют.
Ты хорошо слышала, что я тебе сказал? Пошла прочь. Деньги получила, убедилась, что я живу хорошо, чего тебе еще?
– Скучно существовать, – философски заметила девчонка, – компании хорошей нет. А если пойду одна, непременно угожу в плохую.
– Вот тебе компания – забирай и ее отсюда. Все надоели! – абсолютно без злости сообщил Хоботов и принялся раздеваться, не обращая внимания ни на дочь, ни на журналистку.
Одежду он побросал кое-как и в кожаном фартуке подошел к станку, но сдергивать мешковину не спешил, хотел дождаться, когда его оставят в покое.
– Наверное, скандал сегодня все-таки будет, – покачал головой Хоботов, неприязненно глядя на Машу. – Если сейчас меня не оставят одного, я вытолкаю вас взашей.
– Пошли, – сказала Маша, – он и в самом деле может врезать. Когда работает, то невменяемый, прямо маньяк какой-то. Лучше его не трогать, еще зашибить может, – она взяла сумку и заспешила к выходу.
Болотова поспешила за ней. Еще не захлопнулась дверь, а уже послышались удары глины о стол, звук стоял такой, словно отбивают мясо. Затем, когда Болотова с Машей уже стояли на крыльце, переводя дыхание, из мастерской донесся рев музыки.
– Вот так всегда, – сказала Маша, – когда работает, лучше его не трогать. Зверь в нем просыпается, человек засыпает. Он сумасшедший, невменяемый, – спокойно сообщила дочь о своем отце, – мать из-за этого от него и ушла. Я, слава богу, с ней осталась. Нельзя же жить с сумасшедшим, согласись?
– Согласна. Но человек он интересный.
– Если смотреть со стороны, то интересный, а если жить с ним под одной крышей, то это невыносимо. Пошли куда-нибудь?
Маша зашагала по улице, Болотова шла рядом с ней.
– Он раньше, когда я была маленькой, нам с матерью спать не давал. Вскочит среди ночи, часа в два, и начинает по квартире бегать, сшибает все, что под руку не попадется, орет, рычит, как зверь какой-то.
Мы к стене прижмемся, сидим, смотрим, а он вопит:
– Чего смотрите? Что я вам должен?
– Ты, Маша, уверена, что мне стоит об этом знать?
– Всякая информация может пригодиться… А затем оденется и исчезнет. Иногда дня три, четыре, а то и неделю дома не появляется. А потом придет измочаленный, упадет прямо в одежде на кровать и спит часов пятнадцать. А мы к нему подойти боимся, даже одеяло поправить страшно. Он вскакивает, дергается и кричит. В общем человек он абсолютно дикий.
– А он что, всегда таким был? – спросила Болотова, аккуратно обходя лужу.
– Он и сейчас такой. Правда, с нами не живет уже пять лет.
– А мать вышла замуж?
– Да что ты! За кого это она выйдет? Она же его любит, скульптуры его рассматривает, меня в мастерскую засылает. А потом расспрашивает, как и что. А что я ей могу рассказать? Я в его скульптурах ни хрена не смыслю. Работает – говорю.
И Болотова пожалела, что не успела сфотографировать дочь в мастерской отца.
– Хочешь, я тебя сфотографирую?
– Не-а, не хочу, – спокойно сказала девчонка. – А ты для журнала пишешь или для газеты?
– Для журнала, – сказала Болотова и произнесла название.
– А, знаю, знаю, у отца такие по мастерской валяются, правда, он их не читает. И, честно признаться, он никогда не читает то, что о нем пишут, ему это безразлично. Меня удивляет то, что он вообще тебя к себе в мастерскую пустил, ты, наверное, какой-то удивительный человек. Почему он тебя уважает, ведь он даже друзей в мастерскую не водит?
– А у него есть друзья? – спросила Болотова.
– Какие друзья! Водку вместе пьют, орут, скандалят. Но он уже лет пять в мастерскую приглашает их только тогда, когда работа закончена. Покажет, продаст, пару дней попьет, а потом опять закроется в мастерской и ни одной живой души не пускает к себе. В общем, он странный, хотя по-своему интересный. Знаешь, – призналась Маша, – когда я с ним иду по улице, то вообще никого не боюсь. Он же сильный, как трактор, он двумя пальцами может монету согнуть. Сила у него невероятная. Когда разозлится, может схватить меня и одной рукой к потолку забросить. Боюсь а его очень, когда он вне себя.
– Понятно, – сказала Болотова, сообразив, что узнала о Хоботове и о его образе жизни даже больше, чем следовало.
Теперь она смотрела на скульптора, о котором писала большую статью, другими глазами. Хоботов предстал перед ней как несчастный человек без семьи, без друзей, всецело занятый собой и своими странными видениями, трансформирующимися в пугающие фигуры, до поры до времени скрытые под мокрой мешковиной.
– Кошмары он всякие лепить любит. Я, признаться, боюсь. Как-то пришла в мастерскую вечером, его не было. Щелк свет – и чуть в обморок не грохнулась, прямо на пол. Он такой кошмар слепил – полуразложившийся труп сделал, как живой. Лежит посреди мастерской, развороченный, сгнивший. Жуть меня взяла, я выскочила из мастерской, даже дверь закрыть забыла.
– А ключи он тебе дал?
– Да, в минуты хорошего настроения. Он мне уже их раз десять давал и раз десять забирал. Так что я к этому привыкла. Однажды целый час в окошко к нему стучала. Знаю, что он в мастерской, вижу, а он на меня даже внимания не обращает. Промокла, продрогла, а он, сволочь, так и не открыл.
– Работал?
– Нет, не работал, – сказала Маша, – сидел на диване, курил и свои руки рассматривал. Представляешь, целый час! Одну сигарету за другой курит и на ладони смотрит, словно книгу читает. Дышит на них, трет, мнет… Странный он человек, хотя хороший. Видишь, денег дал. Пойду что-нибудь куплю, шмотку какую-нибудь, и матери что-нибудь куплю, окажу, мол, отец подарил, пусть порадуется.
– А где она у тебя работает?
– В музее работает экскурсоводом. Только не думай, музей не с искусством связан, а в зоологическом.
Про всяких там рептилий, хищников, птеродактилей рассказывает. В детстве я любила там бывать. Но в детстве мне и в мастерскую нравилось приходить.
– Отец натурщиц никогда не приглашал?
– Я уже лет пять их у него не видела. Как-то раньше лепил, а потом сказал, что все натурщицы напоминают ему дохлых ощипанных кур. Похоже, да, выражается старик?
– Похоже, – сказала Болотова.
– Мне сюда, – дойдя до перекрестка, бросила Маша, – тебе со мной, смотрю, не интересно.
– Почему не интересно, интересно. Думаю, еще встретимся.
– Может, и встретимся, – и девчонка заспешила по своим делам.
Болотова осталась стоять, размышляя о том, что услышала от этого ребенка, девочки, уже считающей себя взрослой. Ей почему-то захотелось вернуться, подойти к окну и посмотреть, как работает Хоботов, хотя она понимала, это может вызвать ярость скульптора, и он вполне может запустить чем-нибудь тяжелым в окно, не пожалев стекла.
"Нет, сейчас я к нему не пойду. Пройдет день, два, созвонюсь, а потом наведаюсь. Не выгонит же он меня?
А если и выгонит, все равно, материалов у меня на толковую статью уже предостаточно. Как бы даже его внутренний портрет сложился".
Болотова перехватила из правой руки, уже уставшей, в левую тяжелую сумку с аппаратурой. Стоило пойти домой, избавиться от уже лишней тяжести. И, взяв с собой лишь пленки, вновь выйти в город, отдать их в проявку. Сделать самые маленькие, какие только можно, контрольные снимки и по ним отобрать нужные кадры.
«Так и сделаю. Немного передохну и снова отправлюсь по делам».
Глава 8
Илларион Забродов впервые после ремонта спал у себя в квартире, а не в загородном домике-даче. Еще пахло лаком, краской, поэтому на ночь он оставил окно открытым. Но что такое холод для бывалого человека? Если понадобится, то бывший инструктор спецназа ГРУ Илларион Забродов мог бы спать и на снегу, закутавшись в плащ-палатку.
Он проснулся рано. Еще не взошло солнце, но в центре города всегда светло, хватает фонарей, чей блеск отливал сейчас на золоте книжных корешков. Больше половины книжных стеллажей еще зияли пустотой. Все привезенные вчера книжки заняли свои места на полках, но их еще предстояло раз десять переставить. Ведь Забродов сортировал книги не по алфавиту, а предпочитал всем известным человечеству свою собственную систему. Книги должны стоять так, чтобы самые нужные всегда оказывались под рукой.
Оставив службу, Илларион не хотел менять привычек. Физическую форму легко потерять, восстановить же сложно. А чтобы чувствовать себя бодрым и сильным, не так уж много и надо – поступиться одним-двумя часами, потраченными на физические упражнения. Даже довольно просторная квартира была мала для тех упражнений, к которым привык Забродов.
Если метать ножи в квартире еще можно, то в ней не постреляешь, не совершишь кросс на несколько километров, не поставишь настоящий турник.
Уж чем, а комплексами Илларион не страдал. Он мог заниматься физическими упражнениями на глазах у тысячи людей так же спокойно, как делал бы это в одиночестве. Спортивную одежду он не любил, предпочитая ей полевой камуфляж, кроссовкам – армейские ботинки. Он так сроднился с военной формой, что чувствовал себя в ней как нудист на пляже.
Ключи от квартиры легли в маленький кармашек на штанине, который прикрывал клапан с липучкой, и Забродов легко сбежал со своего последнего этажа. Вышел на улицу и легко побежал, не торопясь и в то же время быстро. Редкие утренние прохожие оборачивались, как мужчины, так и женщины. Мужчины с завистью, женщины с восхищением. В каждом движении Иллариона Забродова чувствовалась независимость. Он бежал так, как может бежать сильный дикий зверь по лесу, не обращая внимания на ту мелюзгу, которая попадается ему по пути.
Утро выдалось морозное, и оттаявший за вчерашний день снег превратился в ледяную корку, которую не повсюду дворники успели посыпать песком. Но Забродов не сбавлял скорости, когда оказывался на льду. Он умудрялся бежать по нему так же ровно, как и по сухому асфальту.
Пробежав квартала два, Илларион заметил машину, следовавшую за ним от самого дома. Он усмехнулся; этот автомобиль он знал, как знал и человека, сидевшего за рулем. Расстояние между ним и автомобилем медленно сокращалось.
Наконец боковое стекло опустилось, и полковник Мещеряков крикнул:
– Эй, Илларион, ты что! Бежишь, бежишь, а меня не видишь?!
– Привет, я делом занят.
– Садись, поговорим.
– Я бегу. Хочешь – пристраивайся.
Машина медленно ехала рядом.
– Да ты что, очумел, почему не останавливаешься?
– Хочешь – пристраивайся.
Злясь, Мещеряков ехал рядом. Машина ползла как черепаха, а Илларион бежал и бежал. Вести автомобиль медленно, куда труднее, чем быстро, а потому Мещеряков устал куда больше бывшего инструктора, когда Забродов свернул на аллейку небольшого скверика.
– Эй, погоди!
Забродов бежал, не останавливаясь. Чертыхаясь и матерясь. Мещеряков припарковал машину, закрыл дверцу и заспешил вслед за своим знакомым, который уже нарезал круг за кругом возле старого фонтана. Рядом с Забродовым Мещеряков смотрелся нелепо – в длинном плаще, в начищенных до блеска ботинках, в костюме и при строгом галстуке.
– Ты можешь остановиться?
– Нет. Пристраивайся, будем делать зарядку вместе. Приседания.
Прохожие поглядывали на странную пару. И хотя не таким, как все был Забродов в своем камуфляже, но странно для них смотрелся почему-то полковник Мещеряков, мерно расхаживающий рядом с приседающим на одной ноге Илларионом.
– У тебя крыша поехала.
– Думаешь, я со службы ушел и, как все пенсионеры, умом тронулся?
– Похоже на то.
– Ошибаешься, я всегда был нормальным и теперь не изменяю своим привычкам.
От приседаний Забродов перешел к отжиманиям.
Он отжимался от края фонтана, от камня, покрытого ледяной коркой.
– Давай на спор, кто больше отожмется!
– Ты же уже раз сорок отжался.
– Не страшно, начинай вместе со мной, все равно выиграю.
– Ты бы хоть домой меня пригласил.
– Не могу, ремонт, все в побелке.
– Брось, ты же там сегодня ночевал.
Закончив считать отжимания на цифре шестьдесят, Забродов резко выпрямился и тут же принялся боксировать с невидимым противником, резко уклоняясь от воображаемых ударов.
– Ты как сумасшедший смотришься!
– Мне плевать.
– Тобой начальство интересуется.
– Мещеряков, добавь, твое начальство, а не мое. Я теперь человек свободный. Что им от меня надо?
– Просто так, хотят узнать как жив-здоров.
– Врешь.
– Консультация им твоя нужна.
Забродов на время опустил руки и ровно, будто до этого стоял целую вечность, сказал:
– Передай моему бывшему начальству, что никаких консультаций Забродов давать не может.
– Это еще почему?
– Передай, что я пребываю в глубоком маразме, что у меня поехала крыша, возникла мания преследования. Скажи, что я по всему городу собираю бродячих котов и селю их у себя в квартире. И они все уже так загадили, что потолок у соседей снизу протек.
Мещеряков отступил на шаг и осмотрел Забродова с ног до головы. Тот говорил с таким видом, будто бы излагал сущую правду.
– А может, ты, Илларион, в самом деле котов бродячих и собак насобирал?
– Да, да, я в глубоком маразме. Видишь, глюки у меня начинаются, – и он вновь принялся боксировать с невидимым противником.
– Сволочь ты, Забродов! – в сердцах бросил Мещеряков. – Я к тебе приехал не потому, что мне от тебя что-то надо. Знаю, день рождения твой приближается, поздравить хотел, узнать, как отпраздновать собираешься.
– Вот же, гады, нашли, с чем подкатиться! – продолжая занятия, отрывисто говорил Илларион Забродов. – Нашли-таки, чем меня купить. Внимание всегда приятно, а день рождения – как граната с выдернутой чекой, в карман не спрячешь. Придется праздновать. Только не рассчитывайте, что я вас в ресторан приглашу или домой к себе позову. Дома ремонт, а ресторан – не моя территория. Пусть там всякие бандиты и бизнесмены с рэкетирами свои праздники справляют, я всех вас приглашу на природу в Завидовский заповедник. Культурную программу и еду с выпивкой обеспечиваю, но только чтобы там все прошло без официальной части, без грамот, без наград. Форма одежды полевая, вот такая, – и Забродов хлопнул себя ладонями по груди, – камуфляж.
– Ты это серьезно?
– Абсолютно.
– В лесу еще снег лежит, – напомнил Мещеряков.
– Это и хорошо. Раз прохладно, значит, никто не перепьется. Приглашаю всех, кто не сделал мне в жизни гадостей, идет?
– Я, надеюсь, среди приглашенных? – съязвил Мещеряков.
– И ты тоже. Человек двадцать наберется. Не хочу видеть на своем дне рождения ни одного подлеца, только приличных людей. С женщинами приезжайте.
– Ты хотел сказать, с женами? Ты же не женат?
– Как хотите. Чисто мужская компания мне уже на Службе опостылела. На природе оно вольготнее праздновать.
Мещеряков понял, день рождения Иллариона Забродова запомнится ему на долго и не масштабами гулянки, а ее необычностью.
– Остановись, Илларион, хоть ненадолго.
– Мы с тобой договорились?
– Да.
Забродов подошел к Мещерякову и протянул руку.
– Здравствуй, все-таки, – ответил он на недоуменный взгляд своего друга.
– Да, да, мы даже рукопожатием не обменялись.
– И до свидания. Все решено. Я всех сам обзвоню.
Мещерякову ничего не оставалось как вернуться к машине. Сидя за рулем, он еще наблюдал за тем, как Забродов усердствует возле фонтана, и понял, что у него самого никогда не хватит силы духа каждый день делать зарядку по полной программе, посвящая этому целый час. Найдутся какие-нибудь дела, которые сперва кажутся важными, а назавтра о них и не вспомнишь.
Полковник Мещеряков взглянул на часы: близился час совещания, назначенного у генерала Мальцева.
«Вот же, черт, умеет Илларион в жизни устраиваться. На все у него времени хватает, разве что не хватило времени на то, чтобы жениться. Да и то, захотел бы, нашел себе жену самую умную и самую красивую», – в сердцах подумал Мещеряков, запуская двигатель.
Он призадумался. Еще ни разу ему не приходилось видеть Забродова в компании некрасивой или глупой женщины.
«С переводчицей Мариной приедет, небось», – подумал он и усмехнулся.
Хоть в чем-то одном он сумел Забродова обскакать, собственноручно три дня тому назад подписывал командировку переводчице с фарси Марине сроком на десять дней в Таджикистан. Мещеряков еле удержался от того, чтобы бросить руль и радостно потереть ладони, и тут же его лицо стало грустным.
"Сволочь же, Забродов, если он захочет, то Марину привезет и отправит ночью назад на каком-нибудь военном транспортном самолете, как на такси. Такое уже случалось не один раз. Он переиграет всех, выкрутится из любой ситуации, из любой западни выберется.
Да, хитер Забродов, умеет жить, умеет решать проблемы, причем так быстро, так элегантно, что даже из начальства, захоти кто подкопаться, подцепить его, и то не удастся. Ведь бывало же такое и не один раз.
Хвать, Забродова нет. «Где этот инструктор?» – кричит какой-нибудь полковник или генерал. А Забродов в это время находится где-нибудь километрах в трехстах, и связи с ним никакой. А генерал орет: «Если группа не будет готова, если ваш долбаный инструктор не появится и не подпишет бумаги, я его в порошок сотру!» И самое главное, к подписанию бумаг, к погрузке группы в вертолет или в самолет Забродов появляется, словно из-под земли, со своей всегдашней улыбочкой. Стоит, потирает руки, бумаги лежат в планшете, люди готовы. Да, умеет, тут уж не отнять".
Забродову не повезло, причем, сразу, с утра. Он набрал Марину едва выбрался из душа и растерся полотенцем, даже не успел растереться как следует. Телефон молчал. Он позвонил ей на работу, там никакой информации о Марине не дали, сказали лишь, что ее сегодня нет, а когда появится, неизвестно.
Можно было позвонить Мещерякову, начальник все-таки, должен знать, где его подчиненные. Но здесь была задета профессиональная гордость: что же он за гээрушник, если не получит информацию в обход Мещерякова? И тогда Илларион позвонил в бухгалтерию, слава богу, телефон знал на память. Его по голосу узнавали. К каждой женщине-офицеру у него имелся свой подход. Пококетничав минут семь, узнав, что у него на депоненте лежат какие-то деньги, Забродов незаметно перешел к делу. И одна из замов бухгалтера, находившаяся в таком же звании, как и он, в звании капитана, сообщила ему все, что его интересовало, правда, не дала телефон, по которому Марину можно отыскать, так как сама этого телефона не знала.
Забродов прикинул, что за три дня можно попробовать выцарапать Марину из Таджикистана, а затем отправить назад. Но по его разумению овчинка не стоила выделки. Виделись они с ней давно, и какими будут отношения, он не знал, тем более, что расстались они в последний раз странновато, даже не попрощавшись и не договорившись, хотя бы об обмене телефонными звонками.
"Ладно, ну ее. Появится, найду. Лучше мы встретимся с ней случайно. А сейчас у меня еще есть дела.
Надо съездить к Пигулевскому, забрать книги, расставить их на полках, как солдат в шеренге, по одному мне известному ранжиру, по важности и доступности.
А затем можно готовиться ко дню рождения".
Он сбежал вниз, вскочил в джип и погнал на Беговую. Он знал, старик всегда на месте и будет ему рад.
По дороге Илларион купил две пачки замечательного чая – одну себе, вторую Пигулевскому. Ведь старик, Так называл его Илларион, был не равнодушен лишь к двум вещам – к хорошим книгам и к хорошему чаю.
«И самое интересное, Пигулевский Марат Иванович ничему не отдает предпочтение, а любит говорить, что хороший чай и хорошая книга должны жить в доме, должны быть всегда под рукой. Тогда и не стыдно встретить дорогого человека, дорогого гостя».
Правда, гости у антиквара своеобразные, порой собирались грязные, зачумленные, немытые, но в книгах разбирающиеся, причем настолько, что даже Иллариону приходилось обращаться к ним за консультацией. И ответы он всегда получал точные.
– Вам, Илларион, нужна такая книга? – говорил какой-нибудь изъеденный молью старик. – Могу сказать, у кого есть. И если хотите, могу договориться, узнать, на что владелец может ее обменять.
Звучала фамилия, ничего не говорящая Иллариону, звучал адрес.
– Если хотите – позвоню.
– Будьте любезны, позвоните.
Следовал звонок. Илларион при разговоре присутствовал. Говорили о самых несуразных вещах: об арабском и готическом шрифте, о пергаменте и бумаге, о типографии Гуттенберга, о всякой всячине, относящейся к книжному делу, о форзацах, о шмуцтитулах. И лишь после этого знакомый Иллариона как бы между прочим интересовался:
– Послушай, Яков Наумович, сейчас к тебе приедет хороший человечек от меня, привезет то, что тебе надо.
А ты ему дай то, что он у тебя попросит.
– …
– Конечно, я гарант. Ты же знаешь.
– …
– А, если я умру? Нет, нет, Яков Наумович, не дождешься, не умру.
А если уж совсем было невозможно достать какую-нибудь редкую книгу, тогда на помощь приходил Пигулевский. Он водружал на нос очки и листал свой старый блокнот с толстыми, почти картонными страницами, в кожаной потертой обложке.
– Вот этот наверняка знает, – Марат Иванович тыкал пальцем в страницу, – сейчас я его найду.
Иногда наступало разочарование. По телефону сообщали, что человека уже полгода как нет на этом свете, а похоронен он где-то в Иерусалиме неизвестно на каком кладбище.
Пигулевский разводил руками и бормотал:
– На букву "ж"… Сейчас, Илларион, погоди. Если этот умер, значит, он продал свои книги. И я знаю, кажется, кому.
И действительно, всегда выходило так, как говорил Марат Иванович, нужная книга находилась. Правда, книга иногда была необходима на какие-то пять-семь минут, прочесть нужный абзац, сверить нужные страницы. Но тем не менее подобная информация стоила дорогого, и даже никакой полковник ГРУ, подключи он всех аналитиков, не смог бы заменить Пигулевского в книжном деле. А кроме того, Марат Иванович разбирался в антиквариате как никто другой и знал в лицо, по фамилиям, по именам, знал лично всех людей этого круга. И не только торговцев, а и тех, кто держит Собрания у себя дома, то есть коллекционеров.
Магазинчик располагался на Беговой. Женщина за прилавком, пухлая, крашеная, увидела Иллариона и тут же улыбнулась:
– Добрый день, Илларион, – произнесла она. – Только что спустился в подвал, выбрался, попил чаю и опять ушел. Иногда Марат Иванович напоминает мне крота, только вы ему об этом, пожалуйста, не говорите. Вы же знаете, я его люблю и преданно.
– Значит, он в подвале?
– В подвале, в подвале, где ясе ему быть еще. Ваша книги читает, боится, что заберете, и он останется как скупой рыцарь без богатства.
– Это точно. Вероника Павловна, заберу, как пить дать заберу. У меня полки пустые, надо строить своих солдат.
Вероника Павловна знала Иллариона уже лет пятнадцать и до глубины души была убеждена в том, что он ученый, занимающийся сравнительной филологией, лингвистикой и всем тем, что связано с языкознанием и книгами. Ей даже и в голову не могло прийти, что занятие этого человека совершенно иное, почти диаметрально противоположное науке, что он уже двадцать пять лет является инструктором спецподразделений Главного разведывательного управления и готовит террористов, убийц, причем готовит профессионально, то есть получает за это деньги. И что он знает о том, как человека убить и как человеку выжить в экстремальных условиях, наверное, столько, сколько не знает никто. А книги и антиквариат – это его хобби, то, что ему страшно нравится и чему он посвящает все свободные минуты и часы, которые остаются после основной работы.
Илларион постучал пальцем по стеклянной витрине, посмотрел на книги, выставленные за стеклом так, словно бы это были старые знакомые, улыбнулся:
– Я спущусь.
– Конечно! Думаю, он обрадуется. Он мне уже говорил, хорошо бы было, если бы Илларион съехал в командировку куда-нибудь недельки на две. Говорил, что еще две пачки ваших книг остались не просмотренными.
– Размечтался Марат Иванович! – пошутил Забродов. – Теперь с командировками покончено, теперь я буду сидеть дома.
– Диссертацию, небось, писать начинаете? Материал уже собрали.
– Не совсем. Вероника Петровна, но что-то в этом роде.
– А о чем вы хоть пишите?
– Пока не пишу, лишь обдумываю. Книга находится в голове и в чернильнице.
Вероника Петровна улыбнулась:
– Я бы хотела прочесть что-нибудь ваше, Илларион.
– Я пишу под псевдонимом и не под одним, – упредил следующий вопрос Забродов.
Вероника Петровна подняла доску прилавка, пропуская Иллариона в служебное помещение. Крутая узкая лестница, побеленные стены, глубокий подвал с хорошей вентиляцией и отвратительным светом. Старик сидел, поставив рядом с собой настольную лампу, кривую, с черным абажуром. На лице Пигулевского сверкали очки. Он услышал шаги, но даже не стал поворачивать голову, по звуку догадался, идет Илларион.
– Принесла нелегкая. Я знал, что этот день настанет, но не знал, что так скоро.
Шаги стихли. Старик насторожился, затем обернулся.
«Неужели почудилось?» – Пигулевский тряхнул головой.
И тут же над его ухом послышался смех.
– Привет.
– Черт бы тебя побрал, Илларион, до инфаркта доведешь! Как тебе удается? Словно мышь или кошка подкрадываешься.
– Нет, как привидение, – уточнил Илларион.
– Почему я не слышал? Как спускался – слышал, а как оказался в подвале, не услышал.
Илларион заглянул через плечо:
– А, хорошая книга. Я ее привез, между прочим, из Ташкента. Там у одного школьного учителя обменял на Андерсена, причем дореволюционного издания.
– Да, стоит того.
– Менять всегда жалко.
– А Андерсен был какой; Санкт-Петербургской типографии?
– Да, – сказал Илларион.
– Не беда, не большая потеря, у меня такой еще есть. Если хочешь, могу обменять.
– Нет, не хочу. У меня есть Андерсен, иначе я не стал бы его отдавать.
– Все-то у тебя, Илларион, есть. С тех книг, что ты насобирал, можно было бы сто лет жить безбедно. Хоть и упали они немного в цене в последние годы. Вот достанутся они твоим детям или внукам, разбазарят ведь все к черту, пустят прахом.
– Поэтому, Марат Иванович, как и у тебя, у меня нет ни детей, ни внуков, разбазаривать некому.
– Ты, наверное, за ними пришел? – старик любовно положил руку на пачку с книгами.
– За ними.
– Жаль, конечно… Почему тебя в командировку не пошлют?
– А ты, Марат Иванович, моему начальству позвони.
– Кто у тебя начальство?
– Так дело-то в том, что нет теперь надо мной начальника, я сам над собой начальник, что захочу, то и буду делать. Вот к тебе приехал. Кстати, – в руках Иллариона оказалась металлическая квадратная банка, – смотри, что я тебе привез.
Старик взял банку, поднял на уровень глаз и осмотрел так, как антиквар осматривает предмет из только что поступившей коллекции.
– Знатный чай, ничего не скажешь, да и рассыпая в Англии.
– Потому и брал, что в Англии. А какой лучше?
Все хотел у тебя спросить, Марат Иванович, тот, что в Гонконге рассыпают, или тот, который в Лондоне?
– Тут дело такое, Илларион… Тот, который в Гонконге рассыпают, хорошо пить сразу, а лондонский может постоять и своих качеств не теряет. У меня такая банка, Илларион, год простояла, один букинист привез, ездил на аукцион. Чай был просто замечательный!
– Так, может, попьем?
– Давай, – согласился Марат Иванович, – чайный прибор у меня наверху, как раз две китайские чашки. Так что пойдем.
Мысль о том, что бесценные книги Иллариона Забродова будут еще час находиться в подвале, грела антиквару душу. Мужчины поднялись наверх и устроились в маленьком кабинетике с зарешеченным окном, выходившим во двор, за письменным столом, с которого хозяин кабинета бережно убрал все бумаги. К бумагам, к квитам Марат Иванович относился трепетно. Он мог позволить себе пролить чай на дорогой костюм, которого у него не было, но никогда бы не позволил себе поставить чашку чая на книгу, пусть даже копеечную и абсолютно ему ненужную. Даже газеты он не позволял себе использовать в качестве оберточного материала.
Забродов развалился в плетеном антикварном кресле и попивал чай из широкой китайской чашки тонкого фарфора с кобальтовым дракончиком на боку. Чашки были собственностью Пигулевского. Он любил лишь чай и книги, к алкоголю прибегал тогда, когда простывал, и мог выпить не больше пятидесяти граммов мелкими глотками.
Старый антиквар блаженно закатил глаза, наслаждаясь ароматом;
– Да, чай изумительный, Илларион. Где ты его взял?
– Если я скажу, то ты сам станешь его покупать, как же я тогда сделаю тебе сюрприз?
– Это верно, – согласился Пигулевский.
– Не скажу.
– Правильно сделаешь.
Двери в кабинете были приоткрыты, и Забродов мог видеть то, что делается в маленьком торговом зальчике, который был всего раза в три больше кабинета Пигулевского. Он видел, как открылась дверь, услышал звяканье колокольчика.
Он увидел, как мелькнула женская фигура, увидел коротко остриженные коричневые волосы, и быстро вошедшая женщина тут же исчезла из его поля зрения. Он на время переключил внимание с Пигулевского на разговор, происходящий в зале.
– Можно посмотреть на этот серебряный браслет? – спрашивала покупательница.
– Он очень дорогой, – предупредила Вероника Петровна.
Но тем не менее стекло витрины зазвенело и щелкнул деревянный футляр, в котором лежал браслет.
– Я не покупать, а посмотреть, – искренне призналась покупательница.
– На те вещи, которые очень дорогие, мы ценники не ставим.
– Да, я знаю.
Затем послышалось несколько восхищенных вздохов.
«Скорее всего, – подумал Забродов, – покупательнице браслет понравился».
Он сам помнил эту вещицу темного серебра с поломанной застежкой, продававшуюся здесь уже около года. Браслет часто доставали из витрины, но у покупателей или не хватало денег, или же у тех, у кого денег хватало, вызывала сомнение подлинность вещи.
– Это настоящая венецианская работа, – говорила заученные фразы Вероника Петровна. – Признаюсь вам искренне, отремонтировать застежку трудно, практически невозможно, там такая пружинка, что повторить ее вряд ли кто сможет.
– Да-а… – проговорила покупательница, соглашаясь с продавщицей.
– А делать новую застежку – это испортить вещь.
– Долго она у вас лежит?
– Где-то около года.
– Еще месяц на витрине пробудет? – поинтересовалась покупательница.
– Смотрю, она вам в душу запала? Надеетесь купить?
– Хотелось бы, но денег не хватит, думаю, я смогу поспрашивать среди своих знакомых, порекомендовать, и кто-нибудь из людей с деньгами обязательно зайдет в вашу лавку.
Голос покупательницы, мягкий, немного низковатый, красноречиво говорил о том, что женщина курит, хоть и немного. Забродов даже качнулся на задних ножках плетеного кресла, чтобы взглянуть на нее, но увидел лишь плечо и ускользающий профиль.
– Я понимаю, конечно, что это глупо, – вновь зазвучал мелодичный голос покупательницы, – но, может, вы подскажете, может быть, у вас, а может быть, у кого другого есть маленькая скульптурка, копия «Лаокоона»?
– А это что такое? – спросила Вероника Петровна, но тут же рассмеялась. – Ах, да, конечно же, древняя Греция! Знаете, мне никогда не приходилось видеть подобной миниатюры. Венер Милосских, Ник – полным-полно. Даже как-то была Афина Паллада, полуметровая, девятнадцатого века, литье. А вот Лаокоона видеть не приходилось. Хотя погодите, если вас это очень интересует…
– Очень, – сказала покупательница.
– Я спрошу у Марата Ивановича. Марат Иванович, будьте любезны, выйдите. Тут покупательница интересуется…
– Слышал, слышал, – Марат Иванович поправил очки, чтобы получше рассмотреть человека, которому в голову могло прийти интересоваться подобной бесполезной в хозяйстве вещью.
Забродов вышел следом. Он стал у дверного косяка, скрестив на груди руки и, не прячась, рассматривал покупательницу.
– Знаете, любезная, – говорил Марат Иванович, – я один раз в жизни видел миниатюрную скульптуру и много раз в жизни видел рельеф. И то, эти вещи не продавались, попадались в коллекциях любителей. Вот если бы вам понадобился бронзовый Чапаев на коне в папахе, бурке, с золоченой саблей наголо, я бы вам хоть сегодня устроил. Пушкина, какого угодно – и на лавке, и стоя, и Гоголя, и Крылова. Всевозможных оленей, орлов, медведей с бочками, всадников на лошадях – таких вещей пруд пруди. А Лаокоон – работа сложная. Копии обычно делаются литьем, а в нем из-за змеи формы сложные.
Покупательница вздохнула:
– Жаль.
– А вам для чего? – поинтересовался Марат Иванович.
– Да так, хотела подарить одному человеку. Ему эта скульптура очень нравится.
– А я-то думал, для кино. Такое случается, иногда придумает сценарист какую-нибудь ерунду, а ассистенты с ног сбиваются, ищут. То им нужна африканская маска.., а одна искала кофейную чашку времен Маргариты Наваррской, будто та кофе могла пить.
– Нет, нет, – заулыбалась покупательница, – мое невежество до таких границ не простирается, я все-таки знаю, когда в Европе появился кофе.
– А хотите хорошего чая? – сказал Илларион.
Женщина посмотрела на него, склонив голову к плечу. Она не могла понять, кем этот человек является, стоял он за прилавком. То ли консультант – на продавца походил мало – то ли владелец магазина.
– В самом деле, хороший чай. Марат Иванович, подтвердите!
– Да, чай знатный, не хуже серебряного браслета будет, если, конечно, можно сравнивать эти две столь разные материи.
– Честно признаться, я продрогла, на улице сыро, да и зашла в вашу лавку больше погреться, чем купить чего-нибудь.
– Вот и погреетесь.
Марат Иванович сам поднял прилавок, пропуская покупательницу в недра лавки. Уже войдя в комнату, она огляделась, было всего два кресла. Илларион тут асе предложил ей свое.
– Кстати, у нас и чашек две, – сказал Илларион. – Марат Иванович, что будем делать?
– Придется снять с витрины. Кузнецовский фарфор вас устроит?
– Вполне, – улыбнулась женщина.
– Тогда вопрос снимается. Илларион, принеси себе стул из торгового зала.
– Сейчас, – Илларион вернулся со стулом, на котором висел ценник.
Они уселись. И только сейчас женщина сообразила, что она абсолютно не знакома с этими двумя, в общем-то, странными мужчинами, но чувствовала себя с ними абсолютно раскованно.
– Давайте познакомимся, – сказала она.
– Марат Иванович Пигулевский, – антиквар поднялся, галантно поклонился, протянул руку.
– Я Наталья Болотова.
Марат Иванович поцеловал руку.
– Я Илларион Забродов.
– Извините, боюсь ошибиться. Не поняла, – произнесла Наталья, – как вас зовут?
– Илларион.
– У вас имя словно из антикварного магазина.
– Что канифолью отдает или нафталином?
– Нет, очень красивое, какое-то немного сказочное, в общем, старинное.
– Я, знаете ли, не виноват, так решили мои родители. А чем вы занимаетесь, Наталья? – Илларион уже понял, кто она по профессии, но ему хотелось получить подтверждение из ее уст.
– Да как вам сказать… Пишу статьи по вопросам искусства.
– Значит, вы журналистка-искусствовед? – вставил Марат Иванович.
– Я не люблю самого слова «искусство» и слово «журналистка» мне не нравится.
– А слово «литератор» нравится?
– Тоже не нравится.
– Какое же тогда вам нравится?
– Не знаю, – пожала плечами Наталья. – А вы, прошу прощения, чем занимаетесь?
– Мы с Маратом Ивановичем, – сказал Забродов вполне серьезно, – по книжному делу специализируемся. Правда, он еще по литью, по всяким там часикам, браслетикам, «Лаокоонам», Пушкиным и комдивам Чапаевым.
– По-моему, вы шутите, и меня обманываете. Вы на книжного человека не очень похожи.
– Ошибаетесь, – сказал Марат Иванович, наливая чай в граненую чашку костяного фарфора, – в чем-в чем, а в книгах Илларион разбирается не хуже меня.
– Да будет вам, Марат Иванович, лучше вас не разбирается никто.
– Это он шутит, – самодовольно улыбнулся антиквар. – Он действительно разбирается в книгах и приехал ко мне забрать свои книги, лишить меня источника каждодневного наслаждения.
– Ваши книги здесь? Вы что, на продажу их привозили?
– Да нет, на хранение, – честно сказал Забродов, – два года пролежали в подвале, пока я ремонт делал.
– Два года ремонт делали? А жили-то где?
– Где придется.
На бомжа или на человека, лишенного жилья, Забродов не походил.
– Вкусный чай, – сказала Болотова, – хотя, честно говоря, в чаях я не очень разбираюсь. Но зато согрелась. Спасибо.
Тут зашел еще один посетитель, который хорошо знал Пигулевского, был частым гостем в лавке и таким же частым покупателем. Марат Иванович извинился и заспешил в зальчик, где в шкафу уже стояли приготовленные для этого человека несколько предметов, которые могли его заинтересовать.
Болотова теперь сообразила, что Забродов всего лишь гость, а значит, им вдвоем сидеть в кабинете в отсутствии хозяина неудобно.
– Наверное, мне надо идти? – сказала она, поднимаясь с кресла и набрасывая на плечо сумочку.
– Я вас провожу.
Они вышли, распрощались с хозяином, и на улице Забродов подвел Болотову к видавшему виды «джипу».
– Хотите подвезу?
– Не откажусь, очень холодно.
– Садитесь.
– Нам, наверное, не по дороге?
– С чего вы взяли? С интересной женщиной мне всегда по дороге.
– Вы находите меня интересной?
– Уже нашел, – признался Забродов.
– Мне еще нужно где-нибудь проявить пленки.
– Сейчас этого добра повсюду навалом. Но я знаю одну проявочную, рядом с которой есть кафе и мы можем выпить кофе.
И неожиданно для себя Болотова согласилась. Ей не хотелось выбираться из машины, где уже благодаря мощной печке стало по домашнему тепло, ей не хотелось вновь оказаться одной.
Пленки были сданы, к тому же Забродов как-то очень легко договорился, что контрольные отпечатки сделают через полтора часа, и им ничего не оставалось, как коротать время за чашкой кофе. Сперва говорили обо всякой ерунде.
Больше говорил Забродов, Болотова слушала, иногда поражаясь извивам его мыслей и парадоксальности мышления.
Затем Забродов внезапно замолчал и, не отрываясь, смотрел на Болотову.
– Что это такое с вами? – она почувствовала себя неуютно.
– У меня к вам предложение.
– Предложение – звучит двусмысленно.
– У меня именно двусмысленное предложение. Через два дня у меня день рождения. Пригласил друзей, кто придет с женой, кто с женщиной. А у меня, так случилось.., что на данный момент ни жены, ни женщины. Жены у меня никогда не было, а с женщинами я на улице знакомиться не привык. В антикварном магазине – другое дело. Не согласитесь ли вы на один день сыграть роль хозяйки бала?
– Вал должен происходить во дворце, – напомнила Наталья.
– Нет, бал будет происходить на природе, так что одеться придется потеплее.
– Я еще не согласилась.
– Вас смущает «на природе»?
– Ну конечно же! Снег еще в лесу лежит, слякоть, простыть можно.
– Вы не простынете, я обещаю.
– Такие вещи обещать невозможно.
– Я могу.
– Дайте-ка подумать. Я как-то тоже не привыкла знакомиться с мужчинами на улице.
– Мы познакомились в помещении, причем в антикварной лавке. Это даже романтично. Да и имя у меня антикварное – Илларион. Можете считать, что купили его вместо браслета.
– Нет, не купила, а взяла напрокат. Из этого следует, что я должна буду сделать вам какой-нибудь подарок.
– Вот этого не надо. Никаких подарков! Вы сами подарок.
– Тоже звучит двусмысленно. Я не подарок, вы меня плохо знаете.
– Кстати, – Забродов посмотрел на часы, – пленки проявлены, отпечатки сделаны, давайте их заберем.
Я отвезу вас домой… Но только предупреждаю, кофе и чая я уже напился, так что набиваться к вам в гости не стану.
– Ну и зря. У меня есть коньяк.
– На моем дне рождения тоже будет коньяк, так что самое приятное отложим на потом.
Уже поднявшись из-за столика, Наталья Болотова сказала:
– Хорошо, я согласна. Когда ваш день рождения?
– Послезавтра. Я вам позвоню накануне.
– Вы не знаете мой номер телефона.
– Вы же мне его дадите?
Болотова вытащила из сумки визитку и подала Иллариону. Тот спрятал ее в карман на левой стороне груди.
– Только не говорите, пожалуйста, что прячете ее поближе к сердцу.
– У меня справа нет кармана.
В фотомастерской на подсвеченном стекле Наталья разложила снимки и принялась их рассматривать, сверяя с негативами. Ей хотелось прямо сейчас отметить нужные и вновь сдать пленки, чтобы напечатали снимки большого формата.
– Так вот откуда взялся «Лаокоон», – заглянув через плечо Болотовой, сказал Забродов.
– Вы по этой неоконченной работе поняли, что это «Лаокоон»?
– А что тут не понять. У меня, знаете ли, воображение развито, книги научили.
– Понятно, – Болотова аккуратно сложила снимки, спрятала их в сумку и уже чисто по-хозяйски села в машину к Забродову.
Она так уютно чувствовала себя рядом с этим незнакомым ей человеком, что даже не назвала адрес, и спохватилась лишь тогда, когда «джип» уже ехал по ее улице.
– Погодите, а откуда вы знаете, где я живу?
– Я этого не знаю.
– А как мы здесь оказались?
– Видите ли, я ориентируюсь по вашей реакции: если вы ничего не говорите, значит, мы едем правильно.
– Но откуда вы узнали, куда сворачивать?
– Вы ни разу ничего мне не сказали, а значит, дорога была верной.
– Хватит обманывать! Вы, наверное, откуда-то знали обо мне раньше.
– Еще скажите, что я вас месяц преследую, слежу.
– Нет, нет, я бы вас непременно заметила.
– Вы же дали мне визитку.
Болотова выхватила из сумки еще одну визитку и внимательно на нее посмотрела. Домашнего адреса на ней не было.
– Догадались? – спросил Забродов.
– Пока нет.
– В каждом районе свои номера телефонов…
– Вот же, черт, какая я не догадливая! И как все просто на самом деле!
– Да, мир устроен очень просто, – согласился Забродов, помогая Наталье выбраться из машины.
– Если хотите, можете подняться ко мне, я вас угощу коньяком или чаем.
– Нет, спасибо, мы уже договорились. К тому же Марат Иванович может уйти, а я должен забрать у него свои книги. К дню рождения я решил себе сделать два подарка. Первый – это расставить книжки по полкам.
– А второй?
– Второй – это пригласить вас в гости.
Глава 9
Долго думать над тем, кого пригласить на день рождения, а кого проигнорировать Забродову не пришлось.
Публика собиралась одна и та же, если, конечно, в этот знаменательный день он оказывался в Москве. Телефоны нужных людей он знал на память.
Илларион сидел в кресле с телефоном в руке и набирал номера. Он здоровался, интересовался, как дела, а затем, даже не сообщая, что у него день рождения, просто назначал:
– Я жду тебя.
– …
– Да, на том же месте, в Завидово.
– …
– Может, по дороге и встретимся.
– …
– Нет, нет, ничего не вези, подарки мне не нужны.
Мы и так по жизни один другому обязаны, а то надарите всякой чуши, негде в квартире будет поставить, я как-никак ремонт сделал.
И все приглашенные отвечали одно и то же:
– Дареному коню, Илларион, в зубы не смотрят.
– Вот если коня подаришь, я его приму. Только не забудь, чтобы седло было хорошее да уздечка с серебряными накладками.
И хоть о том, чтобы в лесу приготовили место для встречи гостей, Забродов договорился неделю тому назад, он даже не стал перезванивать и уточнять, все ли там в порядке. Он знал, ребята, которых он учил, не подведут, все будет в полном порядке, и они даже не обидятся, – если случится так, что никто не приедет.
Как всегда, с утра он не отступил от святого ритуала, сделал пробежку, побоксировал возле фонтана. В столь раннее время по скверику изо дня в день проходила одна и та же публика: люди, спешащие на работу, и пенсионеры, выгуливающие собак.
Если первые лишь немного сбавляли шаг, разглядывая странного крепко сложенного мужчину, избивающего невидимого противника, то пенсионеры останавливались и рассматривали его с любопытством. Вскоре образовалась небольшая толпа из семи человек и пяти собак. Собаки к Забродову подходить не рисковали, чуяли сильного человека и лишь испуганно поджимали хвосты, когда тот наносил удары. Причем делал он это очень медленно, словно в кинорапиде. Собаки жалобно тявкали и жались к ногам хозяев.
– И чего они его боятся? – переговаривались пенсионеры. – Интеллигентный человек, с бородой, модный, ничего плохого не делает…
Но и сами побаивались удовлетворить собственное любопытство, порасспросить Забродова, кто он и чем занимается.
– Спортсмен, наверное, – предположил старик в тертой фетровой шляпе, владелец спаниеля, почти такого же старого, как и хозяин, если пересчитать людские года на собачьи.
– Да нет, – возразил ему другой, интеллигентного вида, правда, вся интеллигентность сводилась к круглым металлическим очкам. Если бы он их снял, то сразу потерял бы для окружающих половину своего обаяния. – Я его знаю, он в двух кварталах отсюда живет, в доме напротив, на зеленой военной машине ездит.
– На военной по городу? Что, и номера тоже военные?
Номеров пенсионер не помнил.
– Может, и не военная, но такие в американских фильмах показывают, «джип» называется, какой-то «…ровер».
– Может, «новый русский»?
– Да нет, те зарядку так, как он, не делают, да и цепи золотые носят. Он староват для нового русского, слишком сухощав, поджарый.
Пенсионеру, жившему в доме напротив, хотелось рассказать, что иногда во двор дома, где живет этот странный человек, приезжают машины с правительственными номерами, оттуда выходят важные люди и направляются в гости. Но он не рискнул говорить это в присутствии самого Иллариона.
Закончив зарядку, Илларион поклонился невидимому сопернику, а затем, бросив пенсионерам «до свидания», отчего те онемели, легко побежал по улице.
«И все-то они приметят, – усмехнулся Илларион, думая о пенсионерах. – Неужели и я таким стану? Сейчас-то мне наблюдательность моя еще нужна, а потом она может превратиться в манию. Станешь, станешь, – сказал себе Илларион, – если, конечно, доживешь до преклонных лет. Люди моего образа жизни редко становятся настоящими пенсионерами, брюзгливыми и дотошными. Я, например, знаю лишь одного инструктора, проработавшего лет тридцать в ГРУ, который перешагнул семидесятилетний рубеж. Ну и зануда же он, хотя, в общем-то, человек умнейший! Да, будь он дураком или глупым, никогда в жизни до таких лет…» – и Илларион, продолжая ровно дышать и ритмично двигая руками, вспомнил старого инструктора, у которого и ему в свое время пришлось проходить стажировку.
Инструктор был человеком удивительным, фигурой напоминал двухстворчатый шкаф, широкий, крепкий.
Сверху «шкафа» – маленькая голова с выпуклым лбом.
Ни одного волоса на голове не было, лишь плотно прижатые уши, словно приросшие к черепу, несколько раз переломанный нос, глубоко посаженные маленькие глаза. Инструктор был немногословен. Что-либо объяснять он не любил, чаще всего молча демонстрировал, как произвести тот или иной удар, сделать хитроумный захват, как сломать шею, как ослепить соперника, как сделать, чтобы руки соперника повисли как плети.
Это он научил Иллариона двум страшным ударам, которые Забродов использовал в своей жизни раза три, но тогда они спасли его собственную жизнь. Тот старый инструктор – имя у него было чудное, почти такое же, как и у Иллариона, звали его Аким – мог кулаком пробить кирпичную стену, мог подтянуться на перекладине раз сто, невзирая на то, что вес его был девяносто пять килограммов.
Последний раз Илларион видел Акима года четыре назад, они встретились случайно на улице. Аким взглянул на него из-под козырька кепки маленькими глазками и улыбнулся, безобидно, как ребенок.
Илларион подошел:
– Вот уж не думал встретить, – сказал он.
– Думал я уже…
– Честно говоря, да, – признался Илларион.
– Не радуйся, я еще поживу. Вот только голова в последнее время болит, а так все в порядке.
– Что с головой?
– Не знаю, – сказал Аким, – и врачи не знают. Я уже сколько раз проверялся, ничего не могут сказать с определенностью. Но ты же знаешь, сколько у меня было травм, сколько раз я выкарабкивался с того света? Вот сейчас оно и сказывается. Пока был молодым, таким как ты, вообще, не знал, что такое болезнь, даже не простуживался. А сейчас все вылезло наверх, – Аким посмотрел на свои ладони, такие же морщинистые, как лоб Илларион тоже взглянул на руки своего бывшего учителя.
– Есть еще сила?
– Сила есть, Забродов, – сказал Аким, – да только не знаю, куда ее применить. Кому она теперь нужна? На даче копаться не привык, всю жизнь учил таких как ты. Хотя нет, таких как ты было немного, ты остался один.
– А Савельева нет, что ли? – настороженно спросил Забродов.
– Уже лет двенадцать как он погиб.
– Где? – спросил Илларион, хотя понимал, что подобные вопросы не задают.
– Далеко отсюда, – уклончиво сказал Аким. – Когда он застрял, вернее, исчез, выпал из поля зрения, меня вызывали в контору. Ведь я знал все его повадки, как-никак я с Савельевым работал целых шесть лет. А пропал он в горах. Потом ребята нашли, привезли в Россию то, что осталось.
– Да, такая уж наша судьба.
– Меня такая судьба уже не ждет. Хотя, если честно признаться, я хотел бы погибнуть лет десять тому.
– Что же помешало? – спросил Забродов с улыбкой.
– Что помешало… Слишком много я умел, вот это и помешало. Гибли другие, а я оставался в живых.
Кстати, как и ты, наверное. Слышал я о твоих делах, хвалили тебя очень.
Илларион тогда не стал даже спрашивать, кто хвалил, за что именно. Таких, как Аким, в России больше не было. Аким знал очень много и очень многих, через его руки прошло людей в несколько раз больше, чем через руки Забродова. Самые важные, самые секретные операции, самые ответственные задания выполняли люди Акима, хотя, естественно, он об этом никому не рассказывал, проходил в бумагах ГРУ под псевдонимом Немой. В отличие от Забродова, смог дослужиться до подполковника.
Вот с мыслями об Акиме Забродов и взбежал на площадку, где находилась его квартира. Он открыл дверь и тут же подумал:
«Интересно, а жив Аким? Не пригласить ли его на день рождения? Старику будет приятно. Наверное, о нем все забыли, вычеркнули из списков живых. Ведь такие люди, когда уходят со службы, стараются не попадаться бывшим коллегам на глаза. Правда, я не знаю ни адреса, ни телефона, но при желании все можно узнать, можно раскрутить маховик назад и информация выплывет. Будет у меня и адрес, и телефон. Но лучше этого не делать, расстроится старик. Увидит, что все еще молоды, что все еще полны сил, а он уже находится в другом времени».
То, что Аким начинал еще в СМЕРШ, Забродов знал.
В отличие от многих гээрушников – полковников и генералов – мундир Акима украшали медали и ордена еще той, второй мировой.
«Нет, звонить ему не стоит. Лучше потом когда-нибудь заеду к нему, поговорим, выпьем водки».
Ведь, кроме водки, Аким, как знал Забродов, ничего из алкоголя не признает, разве что может выпить спирт.
Приняв душ, Илларион переоделся. Машина стояла во дворе. Ящики с коньяком и с вином уже стояли в машине. Теперь предстояло заехать и взять с собой женщину.
Вспомнив Болотову, Илларион улыбнулся;
"Странно, конечно, она будет себя чувствовать. Ну да ничего, пусть посмотрит на другую жизнь, увидит героев, причем не каких-нибудь дутых, а самых что ни на есть настоящих ".
Правда, из его гостей никто и под пытками не признается, что он герой и не расскажет, где геройствовал. Да, контингент, который соберется в лесу, довольно любопытный. Полковники, генералы, майоры, а самое главное, все в штатском, все ненавидят форму, носить ее не любят. Из формы признают только камуфляж и бронежилеты с многочисленными карманами, куда можно насовать всякой всячины.
«Сегодня в бронежилете никто не придет».
И Илларион вспомнил, как два года назад на его день рождения ему подарили израильский бронежилет. Вещь нужная, конечно, для работы, но абсолютно бесполезная дома. Не станешь же расхаживать по квартире в бронежилете! Так можно соседей напугать, да сплетни потом по подъезду поползут, что, мол, жилец с последнего этажа выжил из ума и боится покушения, поэтому даже мусор выносить отправляется в бронежилете.
С этими мыслями Илларион выехал со двора, как всегда легко вписавшись в узкую арку.
«Сколько же здесь машин уже побили? – подумал он, скользнув взглядом по исцарапанной, местами выщербленной каменной стене. – Тут, по-моему, даже Мещеряков уже две фары потерял. Я же ему говорил в свое время, научись хорошо ездить, в жизни пригодится. А он меня не слушал, думая, что он Шумахер от рождения. Хотя из него такой Шумахер, как из меня патриарх. Вроде как бы службу знаю и крещусь правильно, и молитв с полдюжины могу вспомнить, но толку от этого мало. А еще меньше – святости, – прислушиваясь к бульканью коньяка на заднем сиденье, подумал Илларион. – Профессионал в своем деле виден сразу, мгновенно. Как правило, нет лишних движений, нет суеты и дрожи в руках».
Профессионалов Илларион любил в любом деле. Неважно, водитель ты, оклейщик обоев, штукатур, столяр, антиквар, букинист, библиотекарь или боксер. И профессиональных нищих, которые умеют одеться так, чтобы у не желающего поделиться своими кровными сердце сжималось и рука в кармане нащупывала кошелек, там же его открывала и выдергивала купюру, Илларион уважал. Да и сам он всю жизнь стремился быть профессионалом в своем деле. А профессионализм в его работе – это комплекс умений, знаний, навыков из самых разных областей. Это и рукопашный бой, и альпинизм, знание языков, умение ориентироваться на местности, езда на любом виде транспорта, умение вести беседу, прыгать с парашютом с любой высоты в любое время дня и ночи при любых метеоусловиях.
Но все это лишь малая часть того, что должен знать настоящий инструктор, ас своего дела, которому поручено учить других.
«Было поручено, – тут же сам себя исправил Забродов, – теперь я никого не учу. Но зато и меня никто не учит. Сейчас встречусь с ребятами, посмотрю на их лица и, наверное, пожалею о том, что ушел. А они позавидуют мне. И у каждого из нас будет своя правота, каждый подумает, что правильнее распорядился собой. Ну да ладно!» – Илларион повернул руку, взглянул на часы.
До встречи в запасе оставалось пять минут. Все-таки на встречу с женщиной нужно приезжать немного раньше, даже если она и опоздает. Но Болотова и зеленый «лэндровер» оказались в условленном месте одновременно, ровно на пять минут раньше условленного срока. Илларион потянулся, открыл дверь.
Болотова улыбнулась. Она легко забралась в машину и произнесла:
– Доброе утро.
– Доброе утро, – ответил Илларион.
– Небось, думали не приду?
– Нет, я был уверен, что придешь.
– Но ведь ты даже не поинтересовался, есть у меня муж, дети, а может, я живу со старыми родителями?
– Нет, я это знал. Муж у тебя когда-то был, ребенок с тобой не живет, а родители у тебя еще не старые.
– И откуда ты все знаешь?
– Я бы тебе объяснил, но ты навряд ли поверишь, что такие сложные вещи объясняются столь просто.
Ну, хотя бы насчет мужа, Наталья… Это как в анекдоте, если у тебя нет на руке кольца, значит, ты сейчас не замужем.
Болотова расхохоталась: обручального кольца у нее действительно не было.
– Но ведь я могла его снять.
– Незамужние женщины смотрят на мужчин оценивающе.
– А замужние? – спросила Болотова.
– А замужние сравнивают со своим мужем или с мужем подруги.
– Верно, – согласилась Болотова и, когда машина тронулась, тут же услышала бульканье на заднем сиденье. Оглянулась, с ужасом увидела два ящика, из которых торчали горлышки.
Сосчитала:
– Двадцать бутылок коньяка и двадцать бутылок вина… Это какая же орава соберется?
– Думаю, человек десять-двенадцать, не больше.
– И что, мы собираемся там оставаться целую неделю?
– Знаешь, на воздухе хорошо пьется и голова не болит.
– Да уж…
– К тебе невозможно применить железное правило.
– Какое?
– Сколько водки не бери, все равно два раза бегать придется.
– Именно поэтому два ящика едут со мной. Думаю, что еще пара ящиков есть на месте. А честно говоря, вот этот ящик остался от прошлого дня рождения.
– И сколько же тебе лет исполнится?
– Попробуй угадай.
– По мужчине тяжело угадать, с женщиной легче.
– Я же не пользуюсь косметикой, – усмехнулся Забродов.
– Бороду отрастил, значит, есть что скрывать – шрамы или морщины.
– Нет, я ленюсь бриться по утрам.
– Тебе лет сорок пять, – наморщив лоб, сказала женщина.
– Почти угадала.
– И все же, сколько?
– Сорок четыре.
– Это почти то же самое, что и тридцать три, – засмеялась Наталья, немного отодвигая свое сиденье назад, устраиваясь поудобнее. – А кто соберется на твой день рождения?
– Хорошие люди, сама посмотришь. Специалисты своих дел.
– Расплывчатое определение.
– Зато исчерпывающее.
Болотова покосилась на Забродова.
Город исчез, как показалось Болотовой, быстро, она никогда так спешно не покидала Москву. Словно специально светофоры горели зеленым, пробок нигде не было. Выбравшись на шоссе, Наташа вздохнула легко и свободно. Несмотря на то, что было холодно, приопустила стекло и закурила. Никогда прежде ей не приходилось ездить так быстро, хотя, сидя в машине, скорость и не чувствовалась. Впервые ей приходилось столкнуться с таким виртуозным умением водить автомобили. Но об этом она не говорила, лишь молча восхищалась, когда ее вдавливало в сиденье на повороте, а сам Забродов при этом вел автомобиль так свободно, словно пользуясь пультом дистанционного управления, а не сидел в салоне.
Лес еще стоял голый, между деревьями белел снег, но уже рыхлый, сбившийся в кристаллики, похожие на крупного помола поваренную соль. Асфальт же был сухой, очень похожий на летний и, казалось, теплый.
– Мы приедем на место первыми?
– Не думаю. О точном времени никто со мной не договаривался. За городом забываешь о времени.
– А место?
– Место не меняется из года в год.
– Первый раз мне приходится праздновать в лесу.
Хотя нет, – задумалась Болотова, – однажды, еще в институте мы встречали Новый год в лесу. Дача была недалеко. Нашли елку, навешали на нее всякой всячины, разожгли костер. Тогда я в первый раз попробовала виски. Мне не понравилось, вылила все в костер.
Как сейчас помню, вспыхнуло синим пламенем.
– Я тоже не люблю виски, – и, не предупреждая, Забродов прямо с шоссе, без всякого съезда свернул в лес.
Но на удивление, хоть откос был и крутым, Наташа не ударилась, так стремительно машина преодолела пологий кювет и въехала на узкую просеку. Она шарахалась, когда высокие кусты исчезали под бампером машины или же ветки хлестали по ветровому стеклу. Ей показалось, что сзади «джипа» должны лежать заваленные кусты, примятая трава. Но когда обернулась, то не заметила и следа машины, словно та летела по воздуху.
А Забродов объяснил это очень легко:
– Главное, ехать быстро, тогда ничего не успевает ломаться, пригибается, и все.
Женщина чувствовала, что цель путешествия уже где-то близко. Это ощущалось по тому возбуждению, которое испытывал Забродов. Глаза его горели, не терпелось увидеть тех, кого не видел как минимум год.
Еще один поворот, столб линии электропередачи мелькнул за самым стеклом, чуть ли не царапнув борт «джипа». Машина, натужно ревя мотором, принялась взбираться, разбрасывая рыхлый снег, на высокую гору. Снег кончился, пошла сухая прошлогодняя трава, шишки, хрустели сучья. И вот «джип» замер.
Забродов вышел, распахнул дверцу, помог Болотовой выбраться. Уже отсюда, сверху, Наталья увидела внизу, под горой, три машины – два «уазика» и один большой «джип чероки», чьи владельцы не рискнули въехать на гору по подтаявшему снегу. А может быть, ставить машину на вершине горы являлось исключительной привилегией именинника. Вокруг горы рос густой можжевельник, три сосны стояли на вершине холма, не очень высокие, но старые, развесистые, с кривыми стволами – весьма живописные.
«Такие изображают на японских гравюрах», – подумала Болотова.
Илларион развел в стороны кусты можжевельника, образовывавшего живую стену, и пропустил впереди себя женщину. Место было выбрано удачно, даже дуновения ветра здесь не чувствовалось. Солнце прогрело воздух, землю, пахла сухая трава, смола сосен.
Но самый острый запах – запах жареного мяса, сочного, хорошо приправленного. Дымил большой мангал, возле которого стояли двое парней в камуфляжных куртках и высоких, почти до середины голени, туго зашнурованных ботинках. Запах шел такой сильный, манящий, что Наталья даже почувствовала во рту вкус печеного мяса.
Под соснами тянулся дощатый стол, поставленный на козлы. Над ним расстилался брезентовый навес на растяжках. Все это было сделано основательно, сразу видно, что люди устраиваются здесь не впервой.
Кроме парней, занятых шашлыками, на горе присутствовали семь человек, в чем-то похожих друг на друга, хотя они и разнились цветом волос, возрастом.
Но все сходились в одном: завидев Иллариона Забродова, зааплодировали, словно тот был актером, появившимся из-за разошедшегося занавеса. Болотова чуть удержалась чтобы не поклониться.
– Не надо аплодисментов, – поднял руку в приветствии Забродов и тут же представил.
– Наталья Болотова, очень хороший человек. А это мои друзья. Всех представлять тебе не стану, все равно не запомнишь, тоже очень хорошие люди.
Все по очереди подходили к Забродову и его даме, пожимали руки, раскланивались. Представлялись только по имени-отчеству, никто фамилий не называл. Естественно, не называли и звания. А были здесь два генерала, три полковника, один подполковник и один майор.
Мещеряков дольше всех жал руку Забродову, а затем поцеловал руку Наталье, единственной женщине.
– А что это вы без женщин? – удивился Илларион, подходя к столу и придирчиво осматривая сервировку.
Самое странное, хоть застолье и планировалось на природе, тут стояла самая настоящая фаянсовая посуда, ножи, вилки, стеклянные рюмки. Посуда довольно простая, но не походная, никаких алюминиевых мисок, одноразовых тарелок, пластиковых ножей. Все было основательным, стол покрывала белая скатерть.
– Похоже на деревенскую свадьбу, – прошептала на ухо Забродову Наталья. – А дичь будет?
– Если подстрелим, то да.
Только сейчас Болотова заметила ружья, стоящие как в походе, составленные ствол к стволу. Ружья были не охотничьи, мелкокалиберные, но женщина не была искушена в подобных вещах.
– Без женщин? – задумался Мещеряков. – Мы же не знали, с кем ты приедешь, вот и думали, жен брать с собой или любовниц, боевых подруг.
– А боевые подруги это кто? – поинтересовалась Наталья, обращаясь к Мещерякову.
Тот немного смущенно пожал плечами:
– Ну, как бы это получше объяснить… Боевые подруги они и есть боевые подруги, а не то, что вы подумали, не проститутки.
– А я и не подумала.
– Мне показалось, вы намекнули или обиделись.
– Я никогда не обижаюсь.
То, что сразу бросилось искусствоведу Наталье Болотовой в глаза, так это сила рук мужчин. Такие могут, если понадобится, пальцами из досок вытаскивать гвозди, а если надо, то и забивать их туда ладонями.
– А мы уже заждались, – сообщил Мещеряков. – Шашлык готов, можно сказать, вялим его, коптим.
Илларион, приглашай всех за стол. В конце концов, ты хозяин этой чертовой горы.
– Прошу садиться.
Все подошли к столу. Садиться было не на что.
– И что, стоя будем?
– Зачем? – Илларион обернулся к парням, дежурившим у мангала. – А лавки где?
– Лавки, как и рояль, мы спрятали в кустах, – усмехнулся один из парней.
Если бы в данной ситуации появился и рояль, Болотова не удивилась бы. Ей даже захотелось заглянуть в те кусты, чего там еще припрятано. Вынесли две длинные лавки, которые и можно было-то поставить гостям, только уже подошедшим к столу. Затем вынесли большой стул с высокой спинкой, поставили его во главе стола.
– Это кресло именинника, а сейчас принесем для хозяйки.
– Медной горы, что ли? – вновь шепотом поинтересовалась Болотова.
– Да говори ты вслух, все ребята свои.
Принесли походное парусиновое кресло, поставили рядом со стулом. Как всегда в таких случаях, воцарилось короткое молчание. Все ждали, кто же первым рискнет сказать слова поздравления имениннику. Илларион скользнул взглядом по лицам гостей. Все опускали головы, никому не хотелось первым ввязываться в бой.
– Товарищ Петрович, ты, что ли? – обратился Илларион к мужчине в камуфляжной куртке с цигейковым воротником.
Тот крякнул. Рюмки уже были налиты, все взяли посуду в руки. Пили кто что хотел – кто водку, кто коньяк. Только Наталье налили вина и то по ее просьбе.
– Значит, вот что, друзья, я хочу сказать. Сегодня у нашего дорогого, жаль, конечно, что он уже не наш… но все равно, нашим останется и от нас никуда не денется. У Иллариона Забродова, не стану перечислять его регалии, все мы его знаем хорошо.., и дай бог, чтобы знали впредь и не говорили о нем в прошедшем времени… В общем, Илларион, за тебя, за твои двадцать пять, которые мы тебя знаем.
– О чем это он? – спросила Наталья шепотом.
– Да так, выдуривается.
– А кто он?
– Товарищ Петрович, – улыбнулся Забродов.
– В каком смысле товарищ?
– Ну, мой товарищ, и всех остальных товарищ.
– А они тоже товарищи?
– Товарищи. Но не в том смысле, как ты подумала, не проститутки.
– Запомнил же, – рассмеялась Болотова.
Все чокнулись с Илларионом. Кто не доставал, тот выбирался из-за стола и подходил к имениннику, из всех мужчин, таких суровых на первый взгляд, лица светлели, когда звенело стекло в коротких прикосновениях рюмок. Каждый что-то шептал. Не все то, о чем говорили мужчины Забродову, Наталья слышала, а если бы и слышала, то навряд ли поняла бы смысл произнесенных слов. Это было что-то вроде семейных шуток. Фразы звучали как пароли, на которые следовали такие же невразумительные ответы, вроде:
– Помнишь? Чтобы больше никогда не падал.
– Да что ты, не упаду!
– Чтоб стоял, как там стояли. Помнишь?
– Помню.
– А стену помнишь?
– Да уж, повисел на ней.
– Вы что, альпинисты? – спросила Наталья.
– И альпинисты, в каком-то роде. Иногда приходится быть и альпинистом.
– Вы, наверное, каскадеры.
– Слышите, что говорит Наталья?
– Что она говорит? – все выпили и принялись закусывать, но, когда Илларион заговорил, все тут же по команде положили приборы.
– Она говорит, мы похожи на каскадеров.
Наталья немного смутилась.
– Ну правда, вы такие все странные, сильные, разговариваете профессиональным жаргоном.
– Это он каскадер, самый лучший, причем, – сказал мужчина в бушлате с цигейковым воротником, – самый лучший, лучше не бывает.
– Я знал лучше.
– Ты что, на самом деле каскадер? И они тоже каскадеры?
– Они, как бы тебе сказать, вон те двое, – Илларион кивнул в сторону Петровича и мужчины напротив с короткой стрижкой бобриком, – они, двое, как бы режиссеры и немного сценаристы. А все остальные, как бы ассистенты, операторы, актеры. Мы как бы бригада.
– Съемочная группа, что ли?
– Вроде съемочной группы. Иногда нам приходилось кое-кого снимать…
– Ходишь ты вокруг да около.
За первым тостом последовал второй, за ним третий. Самое странное, компания не разбивалась на маленькие группы, все крутилось вокруг Иллариона. Наталья услышала о нем столько добрых слов, столько многообещающих намеков, что ей, на самом деле, стало интересно, что же он за человек и чем конкретно занимается. А еще ее интересовало, что за компания собралась на лесной поляне. Вроде бы вокруг зима, а тут лето, светит солнце, сухая трава, даже ветра нет.
Парни в камуфляжных куртках разносили вино, носили шашлыки, водку, коньяк. Все это наливалось и тут же опорожнялось. Но никто не пьянел, хоть и пили нормально. Лишь Наталья почувствовала, что захмелела.
– Кто же вы все-таки? – спросила она у Иллариона.
– Я Илларион Забродов, а они тебе все представились.
– А почему никто не назвал свою фамилию?
– Это ты спроси у них. А лучше не спрашивай, они смущаться начнут.
– Что у них фамилии не русские?
– Всякие. Вот у того – татарская, а у того – белорусская, – он кивнул в сторону крепкого парня. Тот перехватил взгляд Забродова, широко улыбнулся, но без заискивания, а искренне, как могут улыбаться лишь хорошему другу, которого знают много лет и с которыми много пережито.
– Все же вы какие-то странные люди. Мне кажется, что вы военные, но.., не правильные.
– Ну, в общем-то, мы имеем какое-то отношение и к армии.
– Все понятно – вы старые боевые товарищи. Наверное, вместе служили.
– Абсолютно точно, служили вместе.
– И наверное, в одних и тех же войсках?
– Точно, в одних и тех же.
Уже поели. Всем захотелось немного размяться. И тут Наталья увидела, что двое мужчин берут в руки винтовки, передергивают затворы. Картонная коробочка с патронами стояла прямо у сосны.
– Ну, Петрович, – сказал один генерал ГРУ другому, – покажи класс.
– Да я с прошлого дня рождения Иллариона винтовку в руки не брал. А ты?
– Я тоже.
– Значит, тогда играть в Вильгельма Телля не станем. Куда будем стрелять?
– Куда или во что?
– Давай в небо.
– Давай.
И два генерала, подняв винтовки, принялись целиться в небо. Все присутствующие пытались увидеть невидимую цель, лишь Илларион опустил голову, пряча улыбку.
– Смотри, сейчас солнце свалится, подстрелят.
– Куда, Илларион, они целятся?
– Они не могут целиться, они по году оружие в руках не держали.
– А ты? – спросила Болотова.
– Я держал, – признался Илларион.
Грохнуло два выстрела, сухих и коротких, эхо быстро вернуло звук. Мужчины принялись перезаряжать винтовки.
– Зачем патроны переводить? – спросил Забродов, легко поднялся.
Возле дерева стояла третья мелкашка. Он взял, быстро зарядил.
– Петрович, давай на спор.
– С тобой спорить, Илларион, одни убытки. Спорь с Мещеряковым, а лучше со своими парнями. Ты же все-таки их учил.
Илларион махнул рукой. Двое парней забрали у генералов винтовки.
– Ну, куда прицелимся?
Те переглянулись, пожали плечами.
– Есть консервная банка, привезли маслины.
– Мещеряков, бросишь банку?
– Как нечего делать.
Мещеряков пошел в кусты, где на плащ-палатке лежали продукты, вернулся с пустой банкой из-под маслин, небольшой, на сто пятьдесят граммов, маслины были испанские.
– Приготовились!
Мещеряков на удивление легко швырнул банку, и когда она достигла наивысшей точки, прозвучал один выстрел. Банка изменила траекторию полета – взвилась вверх, а когда стала вновь падать, прозвучал второй выстрел. Банка полетела между деревьями, скрываясь с глаз.
– Ну же! – крикнул Мещеряков.
Илларион выстрелил.
– Не попал! – довольно и обрадовано воскликнул Мещеряков. – Если бы попал, я бы услышал звук.
Мещеряков бросился к кустам.
Но Илларион его остановил:
– Давай на спор, на бутылку коньяка, что я попал?
– Давай, – самодовольный Мещеряков протянул руку. Один из генералов разбил рукопожатие, и спорщики вдвоем зашуршали по подсохшей траве к кустам можжевельника. Вернулись через пару минут, Забродов ухмылялся, а полковник Мещеряков сплевывал под ноги.
– Сволочь он, никогда с ним не спорьте. Я сам уже сто раз зарекался не спорить, но он, гад, всегда подначит! – и Мещеряков поставил на стол банку с шестью пулевыми отверстиями.
– А можно я выстрелю? – спросила женщина.
– Можно, – сказал Забродов. – В банку будешь стрелять?
– Да.
– Давай, – он быстро зарядил винтовку, подал ее Болотовой.
Наталья взяла, повела стволом. У мужчин головы втянулись в плечи, глаза расширились от страха.
– Осторожнее, Наташа, она же заряжена!
– Хорошо, что предупредили. Ну, подбрасывай, Илларион! Могу с тобой поспорить, что я в банку не попаду.
Банка взлетела. Грохнул выстрел. Как и следовало ожидать, банка и пуля не встретились.
– Мужские это игры.
– Это точно, – ответил Илларион.
– А больше стрельбы не будет?
– Почему же, сейчас Петрович будет стрелять на спор со своим товарищем. А ну-ка, товарищи, не забыли, чему я вас учил?
– Илларион…
Генералы взяли заряженные винтовки. Забродов пристроил банку на ветке можжевельника шагах в двадцати. Мужчины принялись целиться.
– По три выстрела. Если банка не будет сбита, дисквалифицируем, и больше вам, господа, не нальем.
Из шести выстрелов ни один не достиг цели, и банка осталась висеть на ветвях.
– Андрей, теперь давай ты.
Мещеряков сбил банку со второго выстрела.
– Совсем неплохо, – сказал Илларион.
Еще немного выпили, немного поели. Болотова почувствовала, как наступает блаженство. Никуда не хотелось отсюда уезжать, ей было хорошо, куда лучше, чем в городе. Она поднялась и прошлась по поляне.
Внизу, под солнцем, искрился снег.
Солнце стояло еще достаточно высоко, чтобы не чувствовать холод. Она понимала, что чем-то чужая в компании, возможно, пока чужая, а может и навсегда. Может так случиться, что Забродов потом подвезет ее к дому, попрощается, пожмет руку и даже не поднимется попить чая, кофе и уж наверняка не останется ночевать. Все люди, находившиеся здесь, были сделаны из другого теста, чем она.
Нет, они не были глупее, но они словно знали о существовании иного мира, в который не дано попасть простым людям. И появлялись среди простых смертных только для того, чтобы немного отдохнуть и посмотреть на нормальную жизнь. Чувствовалось, за душой у них куда больше, чем они говорят.
Наталья отошла в сторону, присела возле костра на пень и протянула руки к огню, хотя и не чувствовала холода. До ее слуха доносились размытые голоса.
Забродов подошел к ней.
– Все хорошо, ты не скучаешь?
– Даже слишком хорошо. Ты извини, что я отошла от стола.
– Нет, ты и так уже украсила мой праздник.
– Я, что ли, елочная игрушка?
– Илларион, – послышалось от стола, – а подарки получать? Ты что, забыл?
– Пошли, – сказал Забродов.
– Нет, я лучше посижу здесь.
– Ну как же, такой торжественный момент.
– Я отсюда посмотрю.
– Можешь ничего не увидеть.
– Я зоркая.
Забродов пожал плечами и направился к столу, где все уже стоя поджидали его. Подарки, на взгляд Болотовой, оказались довольно странными. Они были какими-то половинчатыми, словно подразумевалось, что другая часть у именинника уже есть.
Мещеряков подарил желтую кожаную кобуру с ремнями, чтобы носить ее под мышками. Майор Штурмин подарил два ножа, страшных, даже если смотреть на них с расстояния двадцати метров. К такому острому лезвию даже пальцем притронуться страшно, кожа разлезется пополам от одного прикосновения.
Подарили компас, секундомер, курвиметр – измеритель расстояния по карте, – подарили швейцарский вещмешок. Вещи, в общем-то, ценные, но в какой-то мере и бесполезные. Создавалось впечатление, что Забродова экипируют для диверсионной работы в тылу врага.
Забродов боялся одного, что кто-нибудь додумается-таки подарить ему бронежилет. Но этого, к счастью, не случилось, поскольку все помнили, что один бронежилет уже подарили в прошлый раз, и никуда в люди Илларион его не надевал.
– Андрей, сходи займи гостью, – попросил Забродов, подозвав к себе Мещерякова.
– Думаешь, ей со мной будет интересно?
– Если ты немного постараешься, то можешь ей даже понравиться.
– А она анекдоты любит слушать?
– Откуда я знаю? Знакомы мы всего три дня, и вижу я ее во второй раз.
– Не может быть! Врешь! Не может женщина во второй раз так на мужика смотреть!
– Давай поспорим, – предложил Забродов.
– Нет уж, так я и поверил тебе! Сговорились, чтобы с меня еще бутылку коньяка стрясти.
– Не знаешь свежих анекдотов, так возьми нож, продемонстрируй ей свое умение.
Мещеряков отправился к костру, присел рядом с Натальей на корточки и принялся что-то говорить, ковыряясь палочкой в костре. Женщина улыбалась в ответ, то и дело поглядывая на Забродова. А к нему уже подошли два генерала. Другие гости не стали мешать разговору, зная, что тот коснется дела.
Генерал Глебов, смотря себе под ноги, сказал:
– Я понимаю, Илларион, что день рождения – не лучший повод поговорить о делах.
– Понимаю, – согласился Забродов.
– Тебе не надоело без работы?
– Это как сказать. У пенсионера, между прочим, генерал, время летит очень быстро, день улетит – не заметишь. Дел, как выяснилось за сорок четыре года, у меня накопилась прорва.
– Ну, это понятно. У всех нас есть дела, до которых не доходят руки.
– Не хочешь вернуться к нам назад?
– В прежнем качестве – нет.
– Значит, подумывал все-таки о возвращении?
– Сегодня утром я вспоминал Акима. Помните его, генерал?
– Как не помнить!
– И мне стало тревожно. Подумал, не дай бог дожить до таких лет живым и невредимым.
– А что ж тут страшного?
– Страшно то, что люди, знавшие тебя, не знают, жив ты или нет. Вот вы, например, знаете, где Аким сейчас, чем занимается?
– Знаю. Иногда мы к нему обращаемся за консультациями.
– Эти консультации в самом деле нужны или просто так, для отвода глаз, чтобы успокоить старика?
– Половина на половину. Ты же понимаешь, Илларион, что старик есть старик. Его можно выслушать, но слушаться не стоит. В Чечню его не пошлешь, в Таджикистан тоже, но советы дает толковые. Он всех знает, всех помнит. У нас для тебя есть серьезная работа.
– Специально для меня подыскивали, чтобы без дела не сидел? – поинтересовался Забродов.
– Мужик ты, Илларион, сложный, с тобой тяжело.
– А без тебя еще тяжелее, – сказал генерал Глебов, поддержав своего товарища.
– Я слушаю. Какая у вас для меня работа?
– Для начала, Илларион, мы хотели заручиться уверенностью, что в ближайшие пару дней ты будешь в Москве и мы сможем тебя найти.
– Чтобы встретиться? – спросил Илларион.
– Встретиться, поговорить. Дело серьезное, и здесь, за столом, нам не хочется портить тебе праздник.
– Какие-то неприятности?
– Ты же знаешь, Илларион, если к тебе обращаются за помощью, значит действительно неприятности.
– Ни в какие грязные дела, генерал, я больше не полезу.
– Не хочешь, не берись, – сказал Глебов, – пусть другие дерьмо разбирают, а ты будешь в белых перчатках и в белом смокинге на белом коне разъезжать.
– Тоже неплохо, – улыбнулся Илларион, – всю жизнь об этом мечтал. Красиво жить, красивая женщина рядом, и никаких неприятностей.
– Так не бывает.
– Знаю, – ответил Илларион, – но помечтать не вредно. Сегодня день удался безо всякого дерьма.
– По-моему", Илларион, все твои дни рождения удавались, разве что, кроме того, в горах, когда нас накрыли душманы.
– О, да, о том дне рождения вспоминать не хочется. Сколько же это мне было?
– Сколько тебе было, – сказал генерал Глебов, – могу сказать точно: тридцать два. Как сейчас помню, ты тогда пошутил, что год остался до возраста Христа.
Но как видишь, ты пережил критический возраст, да и мы все – твои гости, живы.
– Не все живы, генерал, много наших и там осталось.
– Много, много.., лучше об этом не вспоминать.
– Вот и я говорю. Не хочется опять во все это окунаться.
– Но согласись, Илларион, сорок четыре года – это не тот возраст, когда можно начинать новую жизнь, не так уж много осталось.
– Кто знает, – Илларион опять улыбнулся, – сколько кому всевышний отмерил. Вот Аким жив.
– Но он новую жизнь не начал. Он по-прежнему ваш, спит и видит, что его позовут, и он опять будет заниматься тем, к чему привык и что знает. Ты же профессионал, Илларион, не зря же к тебе прилипли клички Инструктор, Ас? От них ты никуда не денешься, о тебе же в ГРУ легенды ходят, хотя многие и не знают, что Ас – это ты, Илларион Забродов.
– Наверное, генерал, им это знать не положено по уставу.
– Наверное, не положено.
Даже среди рослых и сильных мужчин майор Лев Штурмин выделялся и шириной плеч и ростом, и огромными кулаками, похожими на качаны капусты.
Правда, держался он среди полковников и генералов довольно-таки застенчиво, словно стеснялся своей силы.
Он походил на огромного породистого пса, который вдруг оказался в стае менее рослых собратьев и не изъявляет желание стать их вожаком.
Пил он немного, а вот закусывал с аппетитом. Единственным недостатком Льва Штурмина было то, что он много курил. Создавалось впечатление, что зажженная сигарета приросла к его пальцам, и он с ней не расстается. Никто из присутствующих не видел, как он прикуривает, как выбрасывает окурок – дымил непрерывно.
Забродов подошел к нему, убедившись, что генералы заняты разговорами, и махнул рукой Мещерякову.
Тот, извинившись перед Болотовой, с которой пытался кокетничать, подошел к двум мужчинам. Он уже догадался, о чем пойдет разговор.
– Ну, что, Лев, он с тобой уже поговорил? – кивнув на Забродова, произнес Мещеряков.
– Нет, полковник.
– Ну, тогда я скажу, если Илларион такой нерешительный. Ты же понимаешь. Лев, генералам сделать это легко: отдал приказ, поставил подпись на бумаге и механически ты оказываешься на месте Иллариона – на месте инструктора.
Забродов согласно кивнул и улыбнулся.
– А ему вы предлагали вернуться? – поинтересовался Штурмин.
– Не согласился, так что вся надежда на тебя.
– Место не сладкое, – произнес Лев Штурмин.
– Да, Лев, не сладкое, – согласился Забродов.
– Наверное, если бы было хорошее, ты бы не ушел с него.
– Да нет, Лев, дело не в этом. Уходить надо всегда чуть раньше нужного, чтобы о тебе пожалели.
– Вот это-то и плохо. Я-то понимаю, – негромко говорил майор Штурмин, – я не смогу заменить на этом месте Забродова.
– А вот он так не считает, – вклинился, перебивая майора, полковник Мещеряков и, тронув за плечо Иллариона, посмотрел ему в глаза, дескать, что молчишь, давай, поддержи меня.
Забродов только пожал плечами:
– Решать, в конце концов, Штурмину. А я даже советовать ничего не хочу.
– Как это не хочешь? Ты же сам мне сказал, что лучшей замены, чем Штурмин, не видишь.
– Я не вижу. Но я – это одно, а те ребята, – Забродов кивнул головой в сторону сгрудившихся у костра, – у них свои интересы, свои мысли.
– Да-да, Штурмин, – заговорил Мещеряков, обращаясь к майору по фамилии, – ты мужик бывалый, как раньше говаривали, вся грудь в крестах и голова пока не в кустах, а на плечах.
– Медали – это одно, – рассудительно произнес Штурмин, – ордена, медали, благодарности… Да, я хлебнул, на пятерых хватит. Но одно дело, самому действовать, а совсем другое – учить. Там отвечаешь за них.
– А что, разве ты не отвечал за своих парней?
– Отвечал, конечно, – произнес Лев, – но они были не моими учениками, их Забродов до этого натренировал. И случались моменты, когда я видел, его ребята знают побольше меня. Но мало того, что знают, а и умеют побольше.
Подобная похвала грела душу Иллариону Забродову, но он продолжал сидеть на краю деревянной скамьи с непроницаемым лицом. Выражение было таким, словно разговор полковника и майора его абсолютно не касался, словно он сидит на троллейбусной остановке, а рядом с ним беседуют два посторонних человека.
Вот сейчас подъедет троллейбус, с шумом откроется дверь, он войдет, возьмется рукой за поручень и лишь увидит, как за стеклом спорят двое мужчин, каждый из которых по-своему прав, у каждого есть свой резон.
– Ну, что ты молчишь, черт тебя подери, Илларион? – уже начал злиться и нервничать Мещеряков.
– Ты же сам понимаешь, не хочу я, чтобы человек не по своей воле, а приказом…
– Так и я же не отдаю приказ. Зато ты его можешь убедить.
– Лев, я тебя убеждаю, – улыбнулся Илларион и, подняв правую руку, поводил перед лицом Штурмина. – Смотри внимательно на мои пальцы, смотри на кончики пальцев, – говорил Илларион вполне серьезным тоном, которому трудно было не поддаться.
Хохот разбирал Штурмина, но он продолжал сидеть с непроницаемым лицом. И вдруг почувствовал, что у него начинает кружиться голова, словно бы гипноз и в самом деле подействовал, и он вот-вот грохнется с лавки прямо на землю.
– Кончай, Илларион! Шаман чертов! В самом деле, голова кругом пошла.
– Я его убедил, – замогильным голосом произнес Илларион, и его правая рука застыла уже перед лицом Мещерякова.
– Пошел к черту! – крикнул полковник ГРУ Мещеряков, схватив Иллариона за руку, положил ладонь на стол, придавил сверху кулаком.
– А, Мещеряков, боишься! Не любишь гипноза, не любишь оккультные науки, а зря. Если бы ты в этом деле разбирался, ты бы сам Штурмина загипнотизировал, он бы все подписал. И подпись была бы не поддельная, а самая что ни на теть настоящая. Сделал бы из него зомби.
Майор Штурмин тряхнул головой:
– Слушай, Илларион, а что ты сделал? У меня в голове шумит.
– Поколдовал немного.
– А если серьезно? Научи!
– Если серьезно, то капнул тебе в водку, сам знаешь чего…
– Клофелина, что ли?
– Штурмин, брось, буду я тебя клофелином травить, тебя и цианистый калий не возьмет. Я тебе глазных капель накапал.
– Ну вас к черту!
– Значит, ты согласен?
– Ничего я не согласен, подумать надо, с женой посоветоваться.
– Вот и началось… Как что серьезное, ты, Штурмин, сразу с женой советуешься.
– Тут уж ничего не поделаешь. Она у меня такой человек – вроде тебя.
– То-то я смотрю, ты все на Наталью Болотову поглядываешь.
– Нравится она тебе? – спросил Забродов.
– Ничего, нравится, – честно признался майор.
– Это, наверное, потому, что она абсолютно не похожа на твою жену.
– Наверное, – согласился майор Штурмин, – на одну смотреть с другой жить.
Он по своему характеру не походил на классического гээрушника, слишком уж был прямым, честным, откровенным и не любил полунамеков, полутонов. Он всегда стремился говорить людям правду, какой бы неприятной она ни была, и очень переживал, если его в этом не понимали. После подобных разговоров он зажимался и сильно переживал, иногда даже доходило до того, что свои переживания он начинал топить в стакане с водкой.
Майор Штурмин отошел от стола.
– Зачем ты так не него, Андрей? – сказал Забродов.
– В каком смысле так?
– Зачем ты на него так круто наезжаешь?
– Ничего не круто. Я просто хочу, чтобы он сам согласился.
– Нормальные методы, – ухмыльнулся Забродов. – Это почти то же самое, что добиваться искреннего признания, зажав человеку пальцы в дверь.
– Ну, ты и скажешь! – хмыкнул Мещеряков. – Я же на него генералов не напускал, они бы с ним быстро, без церемоний, по стойке «смирно» – и пошел в должность.
– Знаешь, Андрей… Конечно, знаешь, – сам за полковника ответил Забродов, – на этой должности человек должен работать лишь тогда, когда ему это самому близко и нравится. Вот тогда он и станет выкладываться, стараться. А если будет стараться, то и толк будет.
– Нет, но согласись, Илларион, мужик он бывалый?
– Бывалый, – кивнул Забродов.
– Если кому и учить, так только ему. Понятно, лучше тебя мы не найдем, ты человек уникальный, не зря же тебя Асом за глаза называют.
– А мне все равно как называли, – тут же поправил Забродов Мещерякова.
– Почему называли? Сейчас тоже называют.
– Попомни мое слово, Андрей, он сам согласится.
Пусть время пройдет, пусть он с этой мыслью свыкнется. Даже пусть с женой посоветуется, она у него баба не глупая, я с ней разговаривал, знаю. Стервозная, правда, донельзя, но в кадровых делах понимает не хуже любого из наших генералов. Не зря же она вышла замуж за него, а не за тебя?
– Да, не зря. Но я бы с его женой и трех дней не прожил.
– Так это же ты.
– Да, я, – сказал Мещеряков, как бы этим подводя черту под разговором. – Пойду, – сказал он, – а то генералы сейчас твою Наталью Болотову охмурят и от тебя уведут.
– Пусть попробуют, – ухмыльнулся Забродов, – думаю, взять Болотову посложнее, чем дворец Амина в Кабуле.
– Ты хочешь сказать, она такая неприступная?
– Уж не знаю, как насчет неприступности, я с ней знаком совсем немного, но то, что она на генерала не клюнет, нюхом чую.
– Ей капитана подавай, чтобы четыре звезды на погонах было?
– Не в звездах, Андрей, дело. Она любит про искусство порассуждать, а с тобой об этой эфемерной материи не поговоришь.
Мещеряков обиделся, хотя это был постоянный прикол. Если разговор заходил в тупик, Илларион упрекал своего начальника и друга, ловя его на элементарной необразованности.
– Ну, да, я не знаю, кто какую оперу написал, кто какой собор построил или кто какую книжку напечатал, но скажи, много тебе это в жизни помогло?
– Много, – произнес Забродов и рассмеялся. Анекдот есть хороший, Андрюха, на эту тему…
– Какой? – спросил Мещеряков.
– Ты его, наверное, знаешь, старый анекдот, вот с такой бородой, – и Илларион провел ладонью по широкому ремню.
Но анекдот рассказывать не стал, оставив Мещерякова в легком недоумении. Легко поднялся и пружинистым шагом двинулся к костру. Он шел так, что ни одна ветка, ни одна травинка не шелестела и не хрустела. Когда Мещеряков смотрел вслед Забродову, ему казалось, что трава даже не приминается, словно Забродов идет по воздуху и абсолютно невесом.
«Дьявол какой-то! Хорошо, что не дал ему рукой перед лицом водить, а то точно, голова закружилась бы, а потом дал бы щелчка в лоб и я оказался бы под лавкой. А генералы подумали бы, что напился до чертиков, до синих соплей».
Забродов подошел к костру, генералы расступились.
Генерал Глебов посмотрел на Забродова и поинтересовался:
– Ну, что, поговорили с Штурминым?
– Поговорили, – произнес Забродов.
– Он дал «добро»?
– Даст, – уклончиво ответил Илларион.
– И как скоро?
– Вот этого я сказать не могу. Думаю, не раньше, чем через месяц.
– Надо это дело ускорить, – и шепнул на ухо другому генералу. – Наверное, придется послать в дальнюю командировку Штурмина, чтобы его жена почувствовала одиночество и стала его пилить, чтобы перешел на такое место, где каждый вечер будет возвращаться домой, откуда не надо ездить в чертовы командировки, а из них возвращаться израненным и усталым.
Глава 10
Так уж случается, что люди, знающие друг друга, иногда абсолютно неожиданно встречаются в гостях у общих знакомых. Известный российский скульптор Савелий Ефимович Ямщиков праздновал пятидесятилетний юбилей. Ему не хотелось устраивать пышных торжеств, но тем не менее друзья не дали забыть об этой дате. Тем более дела у Ямщикова шли как нельзя лучше, в последние два года он едва успевал выполнять заказы, которые буквально десятками плыли к нему в руки.
Заказы были важные, как никак приятельские отношения с мэрами провинциальных городов сделали свое дело, и государственная казна денег на монументальную пропаганду не жалела. Объекты строились по всей стране.
Москва жила своей жизнью, и деньги к Савелию Ямщикову плыли не из столицы, тут царствовал Церетели. После знаменитого грузина Ямщикову доставались лишь крохи. Правда, и эти, малые столичные крохи дорогого стоили, в других российских регионах Савелий Ямщиков обскакал даже Церетели. И если в Соединенных Штатах проекты главного российско-грузинского скульптора оказывались ненужными, то небольшие скульптурки Савелия Ямщикова пришлись по душе и американцам. В Европе его тоже жаловали.
Последняя работа Савелия Ямщикова – памятник императору Наполеону для небольшого французского городка, название которого и сам скульптор выговорить не мог. Не мог, потому как слово было длинное, а Ямщиков был косноязычен. Наполеона он изготовил, как положено, в треуголке, с рукой, заложенной за борт сюртука.
Получил он за этот небольшой трехметровый памятник в стиле чистого реализма столько, как в лучшие времена советские скульпторы получали за пятиметрового Ильича для областного города. За эти деньги можно было купить пять новых иномарок, причем хороших. Но машины у Савелия были – две, и мастерская имелась шикарная, приватизированная почти за бесценок, – мэр Москвы поставил подпись под важной для Савелия бумагой.
Мастерская была огромная, скульптуры толпились по углам, как люди на коммунистическом митинге. Имелись среди изваяний и дважды, и трижды герои, космонавты и колхозницы со снопами, с серпами, сталевары с поднятыми забралами, сельские девицы с венками. А еще на стеллажах стояло много бюстов всевозможных градоначальников и известных политиков.
Даже Владимир Вольфович был тщательно протерт от пыли. Жириновского скульптор изобразил чуть ли не ямщиком – в знаменитой фуражке, такой же любой народу, как Ленинская кепка или солдатская буденовка.
Мастерская могла вместить человек пятьдесят, столько она и вместила. Торжества продолжались несколько дней. На торжестве один из приглашенных – Леонид Хоботов, облаченный по случаю юбилея коллеги в костюм, и увидел искусствоведа Болотову. Та со скептичной улыбкой рассматривала гипсовую скульптуру, иногда исподтишка делая снимки.
Он подошел к ней и подмигнул:
– Вот уж не думал встретить тебя здесь!
– Что яс поделаешь, Ямщикова я не люблю, но редакция журнала заказала о нем большую статью. Я человек подневольный.
– И меня тоже заказали?
– Нет, ты для души.
– И что хочешь о нем написать?
– Пока не знаю. Могу сказать лишь одно, что он на удивление плодовит.
– Он всегда таким был, – осклабился Хоботов, – сколько я его знаю, мечет скульптуры, как рыба икру.
Все они у него одинаковые, как чугунные болванчики.
Смотреть тошно!
– Тогда зачем пришли? – официально спросила Болотова.
– Коллега как-никак, преподавал в свое время у меня. Тупой тип, как все скульпторы. А амбиций – словно он Микеланджело или Роден. В начале этого застолья или, вернее сказать, сабантуя он рассказывал о своем Бонапарте, как будто это что-то такое.., покруче Роденовских «Граждан Кале» или «Давида» Микеланджело. Хотя, честно признаться, – Хоботов махнул широкой ладонью и уж, было, хотел сплюнуть себе под ноги, но удержался, – ни то, ни другое, ни третье мне не нравится.
– Зачем все-таки пришли?
– Хочу на бездарей посмотреть. Не каждый день такой паноптикум увидишь, да еще и в одном месте.
Церетели вот только нет, как-никак Ямщиков ему конкурент, отрывает кусочки от пирога. Один дедушку ваяет с золотой рыбкой, другой – работника Балду. Но ни тот, ни другой попа слепить не отваживаются, как-никак, с православием конфликтовать не хотят.
– Да и вы, по-моему, попов не лепили.
– Не лепил, не леплю и лепить не буду. Они за гранью эстетики. Вон, смотрите, смотрите, – и Хоботов взял за плечи Болотову, развернул ее, показывая на дальнюю стену, – видите, бюст патриарха? Все как положено, с крестом в голову ввинченном, в головном уборе, только что крест бриллиантами не выложил.
Ну и сволочь же, этот Ямщиков! Берется лепить то, за что браться не имеет права.
Хозяин застолья, виновник торжества, заприметив Хоботова, с приподнятой рюмкой двинулся к нему.
– О, Леонид, как я рад, что ты пожаловал!
– Я уже у тебя второй раз.
– Ну, сам понимаю, и у тебя полтинник не за горами, так что готовься, учись.
– Чему, Савелий? – со своим учителем Хоботов разговаривал на «ты».
– Как это чему – как встречать, как принимать, как провожать гостей. Хотя, думаю, ты это умеешь.
– Умею, – сказал Хоботов.
– Слыхал, у тебя дела идут ничего, но ни одной твоей скульптуры, к сожалению, не видел. Разве что на снимках. Хорошо ты устроился, все за границу со станка сходу сплавляешь.
– Я бы хотел в России оставлять, но здесь это никому не надо.
– Ты просто не хочешь идти к властям, говорить комплименты градоначальникам. Так бы и твои работы пришлись ко двору. Правда, они у тебя странноваты, слишком уж.., на любителя.
– Ты знаешь, Савелий, всем нравится только золотой червонец царской чеканки, а скульптура – не червонец.
– Это как сказать. Вон за первосвященника патриархия знаешь, сколько мне отвалила?
– Ну и сколько?
– Боюсь говорить. У нас церковь бедная, не поверишь мне, – По-моему, православная церковь вообще-то скульптур не признает.
– Как же, знаю, знаю… Не сотвори себе кумира, золотой телец.., и все такое прочее. А вот я тебе скажу, бюст патриарха мне Синод заказал, и самое главное, патриарх исправно приезжал ко мне, сидел вот здесь, – он показал на кресло, в котором сидела молодая артистка, закинув ногу за ногу, с сигаретой на отлете и с высоким бокалом шампанского в левой руке, – на этом же кресле сидел. На работу меня благословил, хотел поститься заставить. Так я ему и говорю: скульптор без мяса не может, силы ему нужны.
– Это точно, – пробурчал Хоботов.
– А вы, Наталья, что-то давно ко мне не заходили.
– Вот и зашла, – улыбнулась Болотова.
– А что бы так, без юбилея, без торжеств, по-дружески? Статейки ваши люблю, правда, злые они, но остроумные. Когда про других пишете, то обожаю читать, а когда про меня – злиться начинаю. Понимаю, что справедливо упрекаете, а душой принять не могу.
Ну, давайте, за мое здоровье, – набился на тост виновник торжества.
– Давай, живи долго, Савелий, успехов тебе, – рюмки встретились с легким звоном, и Савелий Ямщиков, заприметив помощника градоначальника по архитектурным вопросам, даже не извиняясь, а виновато улыбнувшись, заспешил навстречу. Тот держал в руках огромный букет ярко-красных роз. В мастерской зааплодировали.
– Вот так всегда, – пробурчал Хоботов, – мерзавец он, прогибается перед начальством, готов пыль с ботинок слизывать. А на хрена все это нужно – болваны, весь этот мраморный мусор, все это благолепие?
Ведь это же, Наталья, согласись, не искусство, и к искусству отношения не имеет.
Наталья пожала плечами. В общем-то, она была согласна с Хоботовым, согласна с его злостью.
– Развращают народ такие памятнички. Ему что патриарха, что Наполеона – лишь бы деньги платили. Кует металл, презренный металл.
– Так и вы же не бедствуете, Леонид.
– Я не бедствую. И если бы захотел, развернулся бы круче Ямщикова, и может, круче Церетели. Но мне это ни к чему, за всем этим нет легенды, нет мифа, и поэтому долго его болваны не проживут.
– Вы имеете в виду скульптуры?
– И скульптуры, и их авторов. Их помнят, пока они на виду. Пройдите по городу, спросите у людей.
Они авторов скульптур, как правило, не знают. А мне хочется, чтобы имя автора и сама скульптура так врезались в память, так засели в голове, чтобы любой безошибочно называл бы: «это сделал Хоботов».
– Да, у вас планы, как у Наполеона, – улыбалась Болотова, указывая зажженной сигаретой на маленький макет памятника французскому императору.
– Вспомни Гогена.
– Автопортрет с отрезанным ухом?
– Да.
– Я начинаю тебя понимать.
– А они в этом ничего не смыслят. Наполеон есть Наполеон, и неважно, ставят ему памятники или нет.
Наполеона знают все, потому что за ним легенда, миф.
И Христа, кстати, знают потому, что он легенда, а не потому, что клепают распятия, и у каждого бандита на груди висит крестик с гимнастом на золотой цепи.
– Это то же самое, что рассуждать о первичности духа и материи или о том, что было раньше – яйцо или курица.
Хоботов нервно засмеялся.
– По-моему, все-таки раньше была курица.
Болотова была немного пьяна и вспомнила:
– Курица – не птица, баба – не человек.
– Тоже мне, жемчужина народной мудрости! Вот он – народ!
В мастерской раздался оглушительный хохот, который почему-то привел Болотову в бешенство. Она почувствовала, насколько прав Хоботов, который ненавидит людей, собравшихся тут. И смеялись они не искренне, и улыбались притворно. Она их не любила тоже, но не спешила высказывать тем, кого плохо знала. А вот Хоботов мог сказать это сходу, чем и был известен. Его недолюбливали, приглашали в гости не часто, он слыл нелюдимым.
Особенно эта внутрицеховая неприязнь усилилась, когда Хоботов стал известен на Западе, ему просто-напросто завидовали.
– А где ты пропадала последние дни? Не заходишь сфотографировать меня, скульптура-то близится к завершению.
– Дела были. – Наталья умолчала о дне рождения Забродова, проведенном на лесной горе.
Хоботов внимательно посмотрел в глаза Болотовой.
– Никаких дел у тебя не было.
– С чего взял?
– Отдохнувшая ты.
– Отдых – это тоже дело. Не все же время мне по мастерским ходить, да за компьютером сидеть? Иногда следует и расслабиться.
– Я смотрю, ты хорошо расслабилась, даже лицо загорело, – Хоботов взял Болотову под локоть и повел по залу, ища место, где присесть.
Мебели здесь было не так уж много, и они отыскали место на подиуме, застеленном мешковиной, чистой, еще ни разу не бывшей в употреблении – даже пахла льном. Присели, поставив бокалы. И тут же подошел официант с круглым подносом в руках, на котором, прижавшись друг к другу, лежали маленькие бутербродики, в каждом из которых была воткнута пластмассовая вилочка.
– Нет, спасибо, – сказала женщина.
Официант тут же исчез. Появился другой, на подносе которого сгрудились высокие бокалы, тоже тесно прижавшиеся друг к другу, как люди под дождем.
– Водки принеси, – сказал Хоботов, будто бы сидел в баре за стойкой и сам за все платил.
На удивление, официант кивнул, исчез всего лишь секунд на пятнадцать и вернулся с подносом, на котором стояла бутылка водки и два низких стакана, в которых уже позванивали кубики льда. Ловко налил стаканы на треть и поставил перед мужчиной и женщиной.
– Вот если бы я сказала, – прошептала Наталья Болотова, – он бы ни за что не принес.
– Нужно уметь приказывать, они чувствуют силу и покоряются единственно силе.
Хоботов взял стакан, и тот полностью спрятался в его ладони. Сделал два глотка.
– А водка у него, мерзавца, хорошая. Небось, заказал прямо с завода.
Торжество шло своим чередом. Возле длинного стола, накрытого в середине мастерской, толпились любители выпить на дармовщину. Люди уходили и появлялись. Сюда вполне мог зайти кто-нибудь и с улицы, лишь бы был прилично одет, и никто бы не заметил появление чужого. Букетов в мастерской набралось уже столько, словно здесь не юбилей отмечался; а проходили похороны. Даже воздух был напоен цветочным ароматом, который смешивался с запахом алкоголя и дыма. Но при всем при том цветочный запах оставался каким-то фальшивым, словно тут разбрызгивали освежитель воздуха.
– Как в дешевом общественном туалете воняет, чтоб дерьмом не пахло, дезодорантом побрызгали, – ничуть не стесняясь таких сравнений, произнес Хоботов.
К скульптору и его собеседнице, семеня, подошел тщедушный старикашка в сером костюме и с такой же серой бородкой клином, отчего он походил на сказочного доктора Айболита.
– Леонид, сынок, здравствуй!
– Здравствуйте, профессор! – подавая свою лапу, в которой мгновенно исчезла сухонькая ладонь старика, произнес Хоботов.
– Как твои делишки, как жизнь?
– Все идет, профессор, своим чохом.
– Это как понимать?
– Скульптуры лепятся, деньги за них платят. Вот, на пьянку вытащил меня этот мерзавец.
– Могли бы и не идти, он бы не обиделся. Ты знаешь, он бездарь. Я его учил, учил, а он такой бестолковый, правда, несмотря на бездарность, стал известным.
Хоботов посмотрел на Болотову и сказал так, чтобы старик услышал:
– Это, голубушка, профессор пластической анатомии. Он у нас лекции по этой науке читал. Трупы потрошит так, что никакой патологоанатом не докажет.
– Ладно тебе, Леонид, не в застолье же об этом говорить!
– А почему не поговорить, профессор? Присаживайтесь. Водки выпьете? – он налил в свой стакан и подал профессору.
– А вы знаете, голубушка, – обратился к Болотовой старик, и той показалось, что в воздухе, кроме прежних ароматов, запахло еще и формалином, – Леня – один из лучших на курсе был. Он в анатомии разбирался, как бог. Из него бы такой хирург получился! Руки у него золотые и абсолютно к нашему делу не брезглив.
– Это правда? – спросила Болотова.
– Уже не помню. Но вроде бы не брезглив.
– Правда, потом и он испортился, что-то такое несуразное стал лепить, все законы анатомии нарушает.
Суставы выкручены, выворочены – словом, безобразие, как в камере пыток, – старик говорил торопливо в надежде, что его услышат.
Хоботов посмотрел на профессора и сказал:
– Идите, профессор, видите, мы заняты?
– Как же, как же, пойду, – и старик удалился.
– Зачем вы так? Прогнали…
– Надоел. Он, просто-напросто, завернут. Ему дай волю, так он всем мозги начнет вправлять. Это он придумал, что пластическая анатомия – царь, бог и руль скульптуры. Хотя, на самом деле, она для творчества не имеет никакого значения.
– А что имеет? – спросила Болотова.
– Легенда и энергия.
– Что значит энергия? Насчет легенды я уже, кажется, поняла, а что значит энергия?
– От скульптуры должна исходить сила. Если силы нет, то скульптура не существует. Все сфинксы, рабы, Давид – они наполнены силой, энергией, поэтому и живут. От них можно оторвать головы и руки, а скульптура продолжит жизнь, столько в ней силы. Это как инвалид: вроде руки оторваны, ноги, а они живы, даже песни поют.
– Страшное сравнение, – призналась Болотова.
– Да уж… Но тем не менее.
Водка полилась в стакан, и Хоботов сделал два больших глотка.
– А ты чего не пьешь?
– Что-то расхотелось, – призналась Болотова.
– Расхотелось… Водка в данной ситуации как обезболивающее, ее надо принимать как лекарство, чтобы не заразиться местной гадостью, чтобы бациллы и микробы глупости не попали в организм.
– Да, я согласна, – Болотова сделала глоток.
– Пойдем отсюда, – сказал Хоботов, – мне надоел паноптикум, глупая ярмарка тщеславия. Все ломают комедию друг перед другом. Разве это скульптор?
Это марионетки и бездари, сборище бездарей.
Кто-то подошел и хотел пожать Хоботову руку, но тот отвернулся, причем не сделав вид, что не заметил протянутой руки, а демонстративно. Болотовой даже стало неудобно, что она сидит рядом с Хоботовым. Ей захотелось извиниться, но вместо этого она поднялась и заспешила к выходу.
Леонид Хоботов шел рядом с ней. И если Наталья раскланивалась, прощаясь, то Леонид держал руки в карманах, чтобы кому-нибудь, не дай бог, не пришло в голову подать ему руку на прощание. Он толкнул плечом дверь и вышел первым. В прихожей он даже не помог одеться своей спутнице, но это было так естественно для этого человека.
Вместе они вышли на улицу, где уже парили сумерки.
Воздух был напоен влагой, стояла оттепель, с крыш капало.
Здесь, во дворе мастерской, почти в самом центре Москвы, пейзаж походил на деревенский. Жестяные желоба, капель, длинные сосульки, пустая собачья будка возле ворот.
– Весна… – сказал Хоботов. – Почему-то именно весной, а не осенью меня охватывает тоска.
– У каждого свое время.
– И жить не хочется, – словно не услышав Болотову, добавил скульптор.
– А мне хочется.
Они вышли на тротуар, в конце улицы показалось такси. Оно ехало медленно, плафон на крыше горел теплым желтым светом, от которого на душе тут же становилось уютно.
– Может, поедем ко мне? – предложил Хоботов – Напьемся.
– Нет.
– Ты не хочешь пить именно со мной?
– Я вообще не хочу пить, я устала. Большое скопление народа утомляет.
– Меня тоже.
Хоботов взмахнул рукой, останавливая машину. Он открыл дверцу, усадил Болотову, а затем обошел машину и, сунув голову в окошко, стал договариваться с шофером, сунул ему деньги.
– Приходи завтра, ты увидишь, как я работаю.
Увидишь, как надо работать, – скульптор приложил ладонь к стеклу.
Его рука показалась Болотовой неестественно огромной, как лапа медведя, поднявшегося из берлоги, кажется огромной перепуганному человеку.
Ей показалось, захоти Хоботов, и он одной рукой перевернет машину. Холодок пробежал у нее по спине, и женщина даже обернулась, когда машина рванулась вперед. Она увидела Хоботова, стоящего на проезжей части в расстегнутом пальто, с висящим чуть ли не до земли шарфом, который обвивал толстую шею. И шарф показался ей похожим на удава из знаменитой скульптуры «Лаокоон» – из пародии-ремейка, над которым сейчас работает скульптор.
– Можно немного быстрее? – попросила она водителя.
– Что, приставал? – осведомился таксист, прибавляя газу.
– Да нет, до этого, слава богу, не дошло.
– Сильный мужик, – уважительно произнес таксист, – если бы такой один стоял, может, и подумал, стоит ли подбирать его, но с дамой мужчины делаются покладистыми.
– Не всегда, – заметила Наталья.
Может быть, согласись журналистка на предложение Хоботова отправиться к нему в мастерскую и там напиться до чертиков, ничего бы этим вечером и не произошло. Но, оставшись один. Хоботов почувствовал пустоту и онемение в руках, словно бы они налились свинцом, и этот свинец застыл. Его следовало растопить. Пальцы стали непослушными, даже не хотели сгибаться в кулаки.
– Мразь! Сволочи! Да, да, нужна легенда, – широко шагая по краю проезжей части, бормотал скульптор, не обращая внимания, что идет по воде, что ботинки уже мокрые, что в них хлюпает вода, а край шарфа испачкался. Он взял шарф и сделал еще одну петлю вокруг толстой шеи – толстой и мощной. Он закинул край на спину, и в таком виде продолжал двигаться по пустынной улице, сопя и тяжело вздыхая.
Сзади раздался сигнал. Хоботов застыл, затем медленно повернул голову. Почти вплотную к нему подъехала «Волга» с шашечками на борту.
– Может, подбросить? – высунулся из кабины молодой парень. – Подвезти?
Хоботов на мгновение задумался, но тут же мгновенно решил – это как раз то, что ему надо. Ему необходимо, чтобы его подвезли, причем с ветерком.
– Быстро ездить умеешь?
– Много платят – быстро езжу.
– Хорошо заплачу, – Хоботов рванул на себя заднюю дверцу, забрался в машину, буквально заполнив собой салон.
– Ну, покажи, как ты умеешь ездить.
На зеркальце заднего вида покачивался крестик на цепочке. И этот крестик, простой, безыскусный, с надписью «Спаси и сохрани» привел Хоботова в трепет, но не в благоговейный. У него внутри все закипело.
– А это что такое? – Хоботов ударил ладонью по крестику, тот закачался как маятник.
Машина взревела двигателем и помчалась.
– Так нормально? – спросил парень.
– Я у тебя спрашиваю, что это такое?
– Крестик.
– И ты веришь?
– А кто не верит? Врут те, кто говорит, что не верит.
– Наверное, врут. А может, и не верят. Вот ты же не веришь, ты же больше веришь в деньги, чем в бога.
– Не всегда, – сказал водитель, уже чувствуя, что пассажир подсел в машину не совсем обычный, хотя, может быть, просто до чертиков перепил, но мужик здоровый, и алкоголь его еще не разобрал настолько, чтобы он завалился и заснул.
Сам таксист тоже был парень не слабый и звал подобное действие алкоголя по себе.
– Гульнули?
– У одного козла юбилей.
– Понятно…
– До пятидесяти, скотина, дожил. Хотя, лучше бы ему, уроду, и не родиться.
– Значит, Бог так хочет.
– Не хочет он этого. Бог.
– Кто знает… – таксисту стало немного не по себе, настолько мрачно вещал пассажир, словно повеситься собрался.
Он покосился на монтировку, лежавшую на коврике возле ног. Монтировка была хорошая, тяжелая, с резиновой ручкой. Такой, если заедешь, то наверняка голову раскроишь. Он уже пожалел, что сам зацепил этого мрачного пассажира, предложил подвезти, а ведь мог бы его и объехать.
– Так куда мы едем?
– На Лосиный остров.
– В лес?
– Нет, на край, к акведуку поехали.
– К акведуку, так к акведуку, – с трудом выговаривая мудреное слово, парень на перекрестке повернул влево, затем на светофоре повернул вправо, выбирая кратчайшую дорогу, чтобы как можно скорее избавиться от странного пассажира, пока тот еще не вырубился.
Но ноздри у Хоботова уже трепетали, он вроде бы оживал, а не впадал в сон и пьяное забытье.
– Может, музыку включить? – благодушно спросил таксист.
– Если тебе нравится, включи.
Парень нажал клавишу, зазвучала музыка – разухабистая эстрадная попса на три аккорда. Минут через тридцать машина уже была у акведука.
– Ну, вот и приехали. Где останавливаться?
– Чуть дальше. Тормози.
Парень нажал на тормоз, и машина, проехав метров пять, взвизгнула колодками и замерла. Таксист указал на счетчик.
– Сейчас, подожди. Так ты веришь в Бога?
Таксист кивнул, уже предчувствуя неладное. Хоботов полез за пазуху, но тут же, словно передумав, рванулся вперед. Его пальцы сошлись на шее таксиста, и салон заполнили истеричный хохот и хрипение.
– Посмотрим, поможет ли тебе Бог!
Крестик на цепочке раскачивался как маятник, даже стучал о стекло. Таксист, хрипя и дергаясь, дотянулся до монтировки, но в тесном салоне размахнуться было крайне тяжело. Он ударил, зацепив локтем за сиденье.
Монтировка достигла цели, но удар получился хоть и резкий, но не очень сильный.
Железный прут рассек скульптору висок, кровь потекла по уху, щеке, на шарф, затекая под него. Парень хрипел и рвался. Еще раз нанести удар он не смог, монтировка выпала из слабеющих пальцев. Он еще немного дергался, когда пальцы Хоботова разжались.
Таксист мелко вздрогнул и завалился на бок.
Хоботов взял его за волосы, посадил ровно. Затем повернул ключ в замке зажигания. В салоне погас свет.
Он вытащил окровавленной рукой из кармана нож и, держа левой рукой парня за голову, вырезал на затылке крест.
– Ну что, помог тебе твой Бог? – Хоботов сорвал крестик с зеркальца и вышел из машины.
Как он добрался до мастерской, он не помнил. Пришел в себя лишь у двери с ключами в руках. Он ввалился в мастерскую, освещенную неверным ночным светом, закрыл за собой дверь, затем включил подсветку, направив лучи на станок, сдернул мешковину, которая уже подсохла. Он сбросил пальто прямо на пол, стащил пиджак, развязал липкий, тяжелый от крови шарф и в таком виде принялся лепить.
Он работал до утра. Лишь стирал грязной рукой кровь, когда та заливала глаз, и тут же вновь брался лепить, пачкая глину темной кровью. Скульптура постепенно становилась пятнистой.
Он прекратил работу с первыми лучами солнца. Вымыл руки, сунул голову под холодную воду, затем залил рассеченный висок остатками виски, перевязал голову полотенцем, на котором розовым пятном выступила кровь, затолкал в ящик для перевозки скульптур перепачканные пальто, пиджак, шарф, рубашку, брюки, сверху бросил на них мокрые ботинки, закрыл ящик крышкой и долго, суетливо искал молоток и гвозди.
Наконец нашел. На лице появилась блаженная улыбка, растерянная, сумасшедшая, но крайне довольная.
Он забивал гвозди так, как может забивать их человек в крышку гроба, в котором лежит его злейший враг.
Наконец работа была закончена. Хоботов понял, что он измотан, голова болит, самое время лечь спать. Он завалился на диван, накрывшись одеялом, даже не положив под голову подушку. Он уснул мгновенно. Перед глазами еще плыла, клубилась, извивалась бесконечная змея, оплетая и опутывая своим телом все живое – опутывая и убивая. Скульптуру он не накрыл, и лучи солнца, попав на влажную глину, поблескивали на темно-бурых пятнах, как они поблескивают на мокрых осенних листьях.
* * *
– Двадцать восьмой! Двадцать восьмой! – взывала диспетчер автопарка. – Почему не отвечаете? Куда пропали? Будто мне это надо, – в сердцах добавила женщина.
Если бы дело касалось вызова или работы, то она, возможно, и отключила бы микрофон, но чисто из женской солидарности пыталась связаться с двадцать восьмым.
– Вам жена звонила, просила перезвонить ей, слышите, двадцать восьмой?
В динамике звучал лишь треск, отрывки разговоров, не предназначавшихся для диспетчера.
– Оленька, видел я двадцать восьмого, – прозвучал приятный мужской голос, – у Лосиного острова на акведуке стоит. Заснул, наверное.
– Двадцать восьмой! – еще раз полетело в эфир.
Естественно, мертвый таксист ответить не мог, лишь голос диспетчера звучал в остывшей машине. Мимо неподвижно стоящего такси изредка проезжали автомобили, но кому какое дело, стоит себе машина и стоит.
Может, пассажир вышел, попросил подождать, вот таксист и дремлет. Плафон же выключен. Ночная жизнь в этом районе не такая уж и бурная, это не самый центр, где полно ночных магазинов, ресторанов, баров.
Двое поздних гостей выбрались из подъезда. Такси по телефону вызывать не стали, посчитали, что это дорого. По лестнице от дома спускались, придерживаясь за перила, ноги ставили неверно. Мужчины, казалось, специально были подобраны для пары: один высокий, худой, другой низкий и толстый. Низкий считал себя более трезвым, поэтому постоянно давал советы, как лучше двигаться, чтобы не упасть.
– Да ты смотри… – дальше шло непечатное слово, употребляемое толстым и низким так же часто, как употребляется в английском языке определенный артикль «the». – Лед повсюду!
– Пошел ты! – худой остановился, перехватил руку, но не удержался.
Покрытые тонкой коркой льда металлические перила предательски скользнули в его пальцах, и худой кубарем полетел с крутой, искрошившейся бетонной лестницы.
– Куда ты? – только и придумал, что сказать толстый, глядя на друга, который, кувыркаясь, достиг автомобильной стоянки и уже лежал на спине. – Живой, что ли?
– Оооооо!
Длинный встал на четвереньки, затем облокотился на багажник старого «мерседеса», выпрямился. Сработало противоугонное устройство. Словно зуммер телефона в начальственном кабинете, взвыла сирена. Звук гулко отразился от соседнего девятиэтажного здания.
Прошло всего секунд пять, как уже хлопнуло сразу несколько балконных дверей, и трое автовладельцев выглянули на улицу. Двое из них, успокоившись, что сигнализация сработала не в их машинах, отправились спать дальше, а тот, которому принадлежал старый «мерседес», надсадно закричал:
– А ну пошли на хрен! Чего тут лазите?
– Сам на хрен пошел! – крикнул высокий.
– Живой, значит, – резюмировал толстый, осторожно спускаясь по обледеневшей лестнице.
В соседней машине лаем отозвалась собака, посаженная туда владельцем для охраны. Короче, двое – высокий и низкий – шуму наделали много, ровно столько, сколько могут наделать ночью двое пьяных мужиков.
– Пошли, ну их всех на хрен!
Владелец старого «мерседеса» стоял на балконе в трусах и майке и, невзирая на холод, дождался-таки, пока двое пьяных скроются за углом. Машина наконец успокоилась и перестала мигать фарами.
"Хорошая все-таки вещь, – подумал автолюбитель, хотя из-за новой охранной сигнализации ему почти каждую ночь приходилось вскакивать и выбегать на балкон.
То собака задерет лапу и обмочит колесо, а сигнализация сработает, то кот спрыгнет с дерева на крышу, то какие-нибудь влюбленные прижмутся к машине, а потом отпрыгнут от нее, как ошпаренные кипятком.
«Но лучше не доспать, чем лишиться собственности», – справедливо заключил автовладелец и, выкурив сигарету, вернулся в спальню, нырнул под теплое одеяло к разомлевшей от сна жене.
Пробравшись сквозь кусты, двое пьяных выбрались на тротуар к стоянке таксомотора.
– Вот же хрень, – сказал высокий и худой, – как не надо, так всегда машин навалом. Вот, помню, днем…
– Так то днем, – протянул толстый и низкий, – а теперь – мертвое время. В этом глухом районе ночью пассажиров мало, вот таксисты и тусуются в центре, а здесь никого.
Проехало такси с пассажирами. Высокий махнул рукой. В этот момент он напомнил своему толстому приятелю железнодорожный семафор.
– Ты чего машешь? Не видишь, что у него колдыри сидят, хрен остановится.
– Я бы попросил, он бы по рации кого из друзей вызвал. Сказал бы, что тут два пассажира мерзнут, мы бы и счетчик по прибытии оплатили.
– Ага, разогнался! Так они тебе и приедут!
На улице вновь стало пустынно, а от этого еще холоднее. Стоять пьяным мужикам было невмоготу, требовалось действовать. Короткий залез на скамейку и приложил ладонь ко лбу, словно рассматривал пейзаж 9 бинокль.
– Эврика! – сказал он.
– Чего?
– Кажись, тачка стоит.
– Где?
– Ты со своей близорукостью хрен увидишь.
– Хорошо, что ты дальнозоркий.
– Зато ты можешь газету без очков прочесть, а я не могу.
– Так далеко тачка-то?
– На акведуке.
– Эка ее занесло! А фонарь горит – не видишь?
– Нет, фонарь не горит, вот те крест! – и высокий, стоя на лавке, истово перекрестился, при этом чуть не потерял равновесие, и если бы короткий не схватил его за руку, он наверняка упал бы головой в грязный сугроб.
– ., твою мать .. Пойдешь, а он занят.
– Так точно занят, – сказал короткий, – наверное, привез какую-нибудь парочку, и те пошли потрахаться к речке.
– Самая погода. Хозяин собаку не выгонит, а ты говоришь – трахаться…
– Так весна ведь.
Короткий был по жизни оптимистом в отличие от своего собутыльника, который являлся отъявленным и патологическим пессимистом.
– Ладно, давай двигаться.
;
И они, обнявшись, напоминая карандаш и стирку, двинулись, пошатываясь и петляя, к акведуку. Иногда они шлепали по лужам, причем при этом их лица принимали геройское выражение.
– Хрен с ней, с водой! Мы столько с тобой на грудь взяли, никакая простуда не прицепится, никаких бацилл не размножится.
– Это ты так думаешь? – скептично заметил высокий и остановился, зажал одну ноздрю большим пальцем и ловко сморкнулся.
Вот тут-то и случилась незадача, которая едва не привела к размолвке собутыльников. Сопля, вылетев из носа, подхваченная ветром, изогнулась, как червяк, дернулась, отрываясь от родимой ноздри, и повисла на лацкане пальто у короткого.
– Да ты что, одурел? Сморкнуться аккуратно не можешь, козел!
– Прости…
– Жердь! Оглобля!
– Погоди, сейчас сниму.
И высокий попытался снять. Но это ему не удалось.
И тогда он просто-напросто размазал соплю рукавом, чем привел в ярость, причем неописуемую, своего собутыльника-коротышку. Тот затопал ножками, стал подскакивать, как мячик, размахивать кулаками.
– Да я тебе, оглобля, сейчас все зубы вышибу! Сморкнуться не можешь как следует!
– Ну чего ты ноешь, чего вопишь? Сейчас ментов набежит, повинтят. Испачкал пальто? Так, хочешь, сморкнись на меня? Вот, на, сморкайся! – и высокий, расстегнув полы пальто, развел их в Стороны. – Ну, ну, давай, сморкайся!
– Да пошел ты! Лучше я отолью.
– Только не на меня! Моча и сопли – разные материи.
– Одна и та же материя, – уже начал отходить короткий.
В темноте на льду забурлила горячая жидкость.
– Вроде один сидит, – когда до машины оставалось метров двадцать, сказал высокий. – Сидит и спит, и думать не думает, что ему деньги в руки плывут.
– Ага, – сказал короткий, застегивая молнию на куртке, – сперва меня завезет, потом тебя.
– Нет, давай иначе сделаем. Моих нет, поедем ко мне, – сказал длинный, – только в ночник заскочим, потому как дома – ни капли.
– Идет. Давай, – короткий остановился и начал считать деньги, раскладывая их на две кучки – одну для оплаты такси, другую для развлечения.
Высокий же в это время принялся свистеть, но таксист оставался недвижим.
– Да что такое!
Тогда он наклонился, взял снега, сделал снежок и бросил в автомобиль. Снежок попал в заднее стекло, но водитель остался невозмутим.
– Во спит, видал?!
– Видал, – сказал короткий, распихивая деньги по карманам.
– Пошли разбудим.
Они даже не стали стучать, как водится, в стекло, а просто-напросто высокий зло схватил за ручку и дернул на себя дверь. Водитель выпал из машины. Звякнула, упав на асфальт, монтировка.
– Во, бля, – воскликнул высокий, присаживаясь на корточки, – да он же сдох!
– Как сдох? А кто нас повезет? – до него еще не дошло, что они действительно нашли мертвого человека.
Но уже через пару минут все стало на свои места.
В их пьяном сознании факт смерти водителя такси нашел свое место и теперь они стояли, опираясь на капот «Волги», и нервно курили, раздумывая, что же сделать.
Вариантов имелось немного: выйти на дорогу, попытаться остановить какую-нибудь машину и позвать кого-нибудь на помощь. Но улица была пустынная, как-никак, три часа ночи.
Но тут высокий сообразил:
– Бля, – воскликнул он и ударил себя кулаком по лбу, – у него же в машине рация.
– Рация? – недопонял короткий.
– А, погоди, я кое-что придумал.
Он обошел мертвого водителя и принялся нажимать на клаксон. Машина оглушительно сигналила, так продолжалось минут пять. Никто на этот шум не появился.
– Херня какая-то, – сказал маленький, вытягивая рацию и крича в микрофон. – Ало! Ало! Всем, всем, всем! Внимание! Внимание!
– Да ты что орешь, придурок, кнопку нажми, микрофон включи!
– А, да, – тут же обмяк маленький, но кнопку нажал и завопил еще более бодрым голосом. – Всем, всем, всем! Возле акведука машина такси с мертвым водителем! Внимание, внимание! Всем, всем, всем! – из него, словно из мяча, вышел воздух.
И едва он отпустил кнопку, как рация разразилась хором голосов:
– Какой бортовой номер? Номер, номер назови, где находится автомобиль! Фамилию водителя! Двадцать восьмой, вы? Сто семьдесят первый, вы?
– Да, я.
– Ребята, кто ближе, подъедьте, посмотрите! – кричала женщина-диспетчер. – Где находится машина? Назовите адрес! С кем разговариваю?
– Во понеслась! – благодушно ухмыльнулся короткий. – Может, нам свалить?
– Нет, не надо, все равно повинтят. Если сваливать, надо было делать это раньше. Зато хоть такси приедет.
– И куда нас завезут, ты знаешь? – скептично поджав губы, заметил высокий.
– Нет. Думаю, домой или туда, куда мы скажем.
– В задницу тебя завезут, в участок. Уж ночник, точно, накрылся.
– Зато будет оправдание, где мы были. Справку-то они дадут.
– Какую на хрен справку!
Двое собутыльников сообщили по рации место, где нашли такси. И вскоре здесь уже собралось штук десять машин такси, «Скорая помощь» и милицейский уазик. Милиционер ворчал, что двое пьяных затоптали все вокруг и вызывал по своей рации криминалистов. Часа в четыре утра появились и они. Весть о том, что убили таксиста, благодаря рации разнеслась по городу в мгновение ока, и уже на всех стоянках таксисты переговаривались, обсуждая случившееся. Кто-то успел съездить на акведук.
– Вроде бы задушили Сильванова Сергея.
– Хороший мужик был, крепкий, главное. И машина не его, он на подмену вышел.
– Вот, блин, невезуха парню! А у него двое детей, да и жена звонила диспетчеру, искала его. Вот невезуха, нашли, а он мертвый!
– Ну, сука, поймать бы мерзавца! Я бы ему яйца вырвал, монтировку бы в горло засадил, развернул все в его башке.
– С каждым может случиться, – говорил умудренный опытом таксист, поправляя шапку.
– А еще говорят, на затылке у Сергея крест вырезали. Наверное, садисты какие или маньяки.
Крест произвел на таксистов куда большее впечатление, чем само удушение. Каждый рассказывающий о событии обязательно и непременно вставлял в разговор то, что на затылке Сильванова найден крест, по живому вырезанный ножом.
Один таксист тут же припомнил, что когда подвозил пьяного следователя прокуратуры, тот рассказал ему о маньяке, который задушил уже около десятка человек в Москве и у каждого на затылке вырезал крест.
И все убитые – мужики крепкие, словно маньяк специально их выбирал, чтобы помериться силой.
В общем, ночь для следственной группы выдалась хлопотная. А наутро пришла еще одна новость, ничуть не лучше предыдущей: коллекция Удава пополнилась за один день сразу двумя жертвами. В подвале дома, в бойлерной, обнаружили труп сантехника, который пролежал там несколько дней.
Аварийная служба приехала по ночному вызову с опозданием, потому как из подвального окна валил пар, прорвало трубу. Но поскольку вода никому не текла на потолок, аварийщики не спешили. С фонарями они спустились в подвал. Проводку замкнуло, света не было, и лучи мощных фонарей выхватили плавающий в горячей воде труп, на котором спасались от потопа две крысы. Они уже успели обгрызть уши и нос. Естественно, горячая вода и пар уничтожили все следы, но, когда воду откачали, удалось все-таки установить, что сантехник был задушен и на его затылке тоже вырезан крест. Перед смертью он с кем-то пил водку, об этом говорили два стакана и бутылка, в которой оставалось спиртное. Винтовую крышку или сам сантехник, или же его убийца успели закрутить.
Расспросили людей, живших в этом доме. Никто не мог припомнить, входил ли сантехник в подвал с кем-нибудь, выходил ли оттуда. В общем, как всегда происходило с Удавом, не было никаких свидетелей, не было и четких следов. Лишь фирменный знак – крест, вырезанный ножом.
А вот такси на акведуке дало больше. После тщательного осмотра в салоне обнаружили кровь, которая не совпадала по группе с кровью таксиста, да и ран у того на теле никаких не обнаружили. Убийца душил, сидя на переднем сиденье, там же, на коврике и на обивке была обнаружена кровь. На монтировке к крови прилипли нитки пальто, а может, и шарфа.
Проверили. Такси брали не по вызову, скорее всего, тормознули где-то в городе, где именно, было не понять. Маршрут, по которому такси ехало, тоже выяснить не удалось. А кровь – второй группы, с такой группой половина жителей Москвы могла попасть под подозрение. Кровь исследовали очень тщательно, но никаких редких болезней, никаких патологий не обнаружили.
У одного из следователей появилась версия, что убийца не просто маньяк, а человек, прошедший подготовку в спецподразделениях или спортсмен, потому как убивал наверняка и одним и тем же способом. Решили проконсультироваться со спецслужбами, возможно, убийца когда-либо служил в спецназе или в десантных войсках. Круг поиска, конечно же, сужался, но не настолько, чтобы можно было предвидеть скорый успех.
Но любую версию следует обрабатывать, причем до конца.
Глава 11
В последнее время телефон в квартире Иллариона Забродова звонил довольно редко. Когда он отошел от дел, его почти перестали беспокоить сослуживцы, делами уже не донимали. Звонили обычно букинисты и люди, связанные с книгами. Иногда требовалась консультация, иногда предлагали что-то купить, что-то продать. И поэтому, когда утром зазвонил телефон, Забродов был абсолютно уверен, что это вновь звонят по поводу покупки им девяностовосьмитомного словаря Брокгауза и Евфрона. Его донимали этим соблазнительным предложением вот уже вторую неделю, а он каждый раз отказывался, но не окончательно, желая сбить цену. Что-что, а торговаться с книгоманами Забродов умел и их психологию чувствовал, потому что был одним из них.
– Слушаю, – сказал он тоном человека, которого оторвали от важных дел и у него на разговор есть максимум секунд тридцать, хотя до этого он не занимался ничем важным.
Не назовешь же важным делом метание ножей в спил липы? Хотя как сказать, кому что дороже? Иногда умение метать ножи пригождалось Забродову во сто крат больше, чем знание половины изложенного в девяносто восьми томах словаря.
– Извините, я говорю с Забродовым? – голос Илларион узнал не сразу, хотя память у него на голоса была исключительная.
– Извините, а я с кем разговариваю? – вместо ответа спросил он.
– Полковник Сорокин Владимир Петрович.
Забродов тут же мгновенно открутил в памяти ситуацию. С полковником он столкнулся больше года тому назад, тот занимался делом двух его воспитанников – Каверина и Сизова. Знакомство приятным назвать было бы сложно. Но у каждого своя работа, каждый занимается своим делом. Хирург режет, патологоанатом вскрывает трупы, пекарь печет пироги, а мясник разрубает туши. Так что неприязни в отношениях между ними не существовало. Даже случайно встретившись на улице, они самое большое, обменялись бы легкими кивками головы, ни у кого из них не возникло бы желание остановить другого, поинтересоваться, как дела, как работа, потому что милицейская работа полковника Сорокина совсем не интересовала инструктора ГРУ.
– Помню, – коротко сказал Забродов.
– Мне нужно с вами встретиться.
– Официально? – спросил Илларион.
– Нет, что вы, мне нужна ваша консультация.
– Это все по тому же делу? Я думал, оно закрыто.
– Дело Сизова и Каверина закрыто, и я думаю, вы в курсе окончательного решения по нему.
– Сам я не могу встретиться с вами, на это нужно разрешение.
– Кто его может дать?
– Никто, – сказал Забродов.
Сорокин даже опешил от такого ответа.
– Я не совсем вас понял… Вы что, отказываетесь, напрочь?
– Нет, дело в том, что я уже не служу и человек свободный. Но все, что касается моего прошлого, за это, действительно, нужно разрешение.
– Если я получу его у полковника Мещерякова, этого будет достаточно?
– Попробуйте, – и тут же Илларион добавил, – до свидания.
Даже не дождавшись ответа милицейского полковника, он отключил трубку и взял в руки нож. И самозабвенно швырнул его, наперед зная, тот попадет точно в центр спила. Так и произошло, нож вошел на половину лезвия.
«Сейчас будет звонить Мещеряков», – с улыбкой подумал он и решил, что за это время вполне успеет сварить кофе.
Он сварил кофе, вернулся с чашкой в руке и поставил ее на столик, посмотрел на трубку. Та словно ответила на взгляд звонком, вспыхнула зеленая лампочка.
Забродов поднес ее к уху, но не спешил говорить.
– Алло! Алло! – неслось из наушников.
«Точно, Мещеряков», – подумал Илларион и на его губах появилась улыбка.
Абсолютно точно копируя голос своей домработницы, он произнес:
– Квартира Забродовых. Вас слушают.
– Мне Иллариона, пожалуйста.
– Кто его спрашивает?
– Андрей Мещеряков.
– А по отчеству как?
Полковнику ГРУ Мещерякову пришлось назвать свое имя и отчество.
– А по званию? – продолжал издеваться Илларион.
Мещеряков растерялся. Подобной наглости от домработницы он никак не ожидал.
– Забродов дома или нет? Передайте ему трубку!
– Ни о каких полковниках Мещеряковых они мне не говорили. Они сейчас отдыхают.
– Как отдыхают?
– Они лежат на диване с книжкой в руках.
– Дайте трубку Иллариону, будьте так любезны!
– Меня могут заругать, начнут бранить.
– Я вам приказываю, дайте мне Забродова!
– Ты в своем ГРУ, полковник, приказывай, – все еще голосом домработницы сказал Забродов, – а здесь частная собственность, квартира, так сказать, неприкосновенная территория. И каждый человек имеет право на отдых.
Наконец до полковника Мещерякова дошло, что над ним издеваются.
– Ты!? – закричал он, уже зверея. – Если не отдашь трубку.., черт, вконец запутался…
– Ничего ты мне не сделаешь, – мелко захихикала домработница, буквально давясь своим смехом.
И тут до Мещерякова дошло:
– Илларион, ты сволочь, скотина, мерзавец! Если я приеду, то я тебя…
– А я тебе дверь не открою, – сказал Забродов, – все-таки частная собственность. Если, разве что, приедешь с ордером, тогда впущу.
– С орденом приеду! – закричал Мещеряков. – С орденом!
– А тебе что, небось, уже орден дали? Небось, орден Сутулова первой степени?
– Ты сволочь, Илларион, ты потерял рассудок, у тебя крыша поехала.
– Ну ладно, короче. Здравствуй, Андрей, что тебе надо?
– Мне ничего не надо, кстати.
– Вот это мне нравится, – сказал Илларион, – а если ничего не надо, какого черта человека от дел отрываешь? Я тут книжку интересную читал, а ты звонишь.
– Слушай, Илларион, тут вот какое дело… МВД с вами связалось, их начальство позвонило нашему, поверь, на очень высоком уровне, даже не на моем.
– И что из того? Они, наверное, каждый день звонят, делать им нечего, государственные деньги транжирят, – как ворчливый старик отвечал Забродов.
– Да нет, там дело серьезное. Ты, может, слышал, во скорее всего нет.
– Так какое дело, Андрей? Не тяни кота за хвост, я же тебя всегда прошу излагать быстро и четко.
– С тобой хотят встретиться, они тебе обо всем и расскажут.
– Сорокин, что ли?
– Да, Сорокин встретится и объяснит. Только поедем вместе, меня наше начальство посылает.
– Что, боятся, чтобы я чего лишнего не наговорил? Государственную тайну не выдал?
– Да нет, ничего они не боятся, тут как бы дело идет о чести нашего мундира.
– Твоего серого пиджака в крапинку?
– А откуда ты знаешь, что на мне пиджак в крапинку?
– У тебя, Андрей, их всего два.
– Да, да, – сказал Мещеряков. – Заехать за тобой на машине?
– Заезжай, если уж дело не терпит отлагательства.
– Не терпит, – сказал Мещеряков.
Через полтора часа полковник ГРУ Мещеряков и бывший инструктор ГРУ капитан Забродов уже находились в кабинете полковника Сорокина. Мужчины поздоровались за руку. В кабинете имелись два стола: один маленький, за которым полковник Сорокин работал, а второй большой – для совещания.
– Присаживайтесь, присаживайтесь, сейчас кофе принесут.
– Я бы охотнее выпил чая.
Мещеряков посмотрел на Забродова:
«Вот привереда, все ему не так. Предложили бы чай, он попросил бы кофе».
К подобным заморочкам и выходкам приятеля Мещеряков привык, и они его не удивляли.
– Как будет угодно, – сказал полковник Сорокин, – есть у нас и чай.
– Это хорошо. Так, значит, ваше ведомство хорошо финансируют, если у вас есть чай и кофе.
С этими словами Забродов открыл бутылку минеральной воды, стоящей на столе, налил себе в стакан и не спеша выпил.
– Вы, наверное, еще не знаете. Уже обнаружено девять трупов, почти все в районе Лосиного острова.
– Всего девять? – спросил Забродов.
– Вам этого мало?
– Нет, когда девять человек гибнут в машине – это очень много, а когда при взрыве бомбы – считай ничто. Статистика – вещь относительная, полковник.
– Все убитые – довольно-таки крепкие мужчины, я бы даже сказал, спортивные. Все они убиты одним и тем же способом – задушены голыми руками. Ни удавкой, ни петлей, а голыми руками. И у каждого на затылке ножом вырезан крест.
– Интересно, – пробурчал Забродов, – ну и причем здесь мы?
– Я вас пригласил потому, что есть версия, хоть какая-то… Вполне возможно, убийца мог оказаться вашим человеком.
– В каком смысле – нашим, полковник? – спросил Мещеряков.
– Может быть, он служил в спецназе ГРУ, а может, и теперь служит.
– Да вы что, – вспылил Мещеряков, – у нас люди…
– Погоди, Андрей, – одернул полковника Забродов, – Сизов с Кавериным тоже служили в спецназе.
Я понял логику ваших предположений. Вы говорите, задушены голыми руками?
– Да. Вот, посмотрите, – на стол легла пачка фотографий.
Забродов разложил их и принялся рассматривать.
– Вот эти два – свежие.
– Я понял, – сказал Забродов, – читать умею, на каждом снимке отбита дата.
– Да, посмотрите, может быть, вы можете что-то подсказать.
Полковник Сорокин понял, что на гээрушников лучше не наезжать, а лучше попытаться разговаривать с ними так, как со своими коллегами.
– Я знаю, капитан, что вы занимались подготовкой спецназа ГРУ.
– Да, занимался. Много лет занимался. Не одного потенциального убийцу подготовил.
– Что вы можете сказать о своих, людях? Может среди них быть такой?
– Вполне может быть.
– Ты что говоришь?! – набросился на Забродова Мещеряков.
– Погоди, Андрей, дело серьезное. Ты посмотри на эти фотоснимки.
– Да не хочу я смотреть! – бросил Мещеряков, во его руки потянулись к фотографиям, и он с любопытством и отвращением одновременно принялся перебирать снимки.
– Знаете, полковник, – торопливо произнес Забродов, – я учил людей убивать, у нас такая работа.
Если ты не убьешь, то убьют тебя. Но я никогда никого не учил убивать таким способом. При подготовке я всегда ставлю одну и ту же цель: убивать нужно так, чтобы не испытывать при этом удовольствия. А судя по всему, ваш душитель – человек с нарушенной психикой, он от убийства получает удовольствие.
– А зачем он вырезает кресты?
– Этого я не знаю. Скорее всего – метка, чтобы подчеркнуть, убийство совершил именно он.
– Послушайте, капитан, – сказал полковник Сорокин, присаживаясь к столу, опираясь на него локтями, – скверно все получается. Если человек душит голыми руками, то зачем ему ставить подпись?
– Есть в этом логика, полковник. Например, художник пишет картину, его и так прекрасно узнают, но автограф тем не менее обязателен, иначе она не считается оригиналом.
Полковник Сорокин тряхнул головой.
– Поясните.
– Да, я учил убивать быстро и надежно. Во всяком действии нужна экономия энергии, экономия силы. Задушить голыми руками – не самый легкий и спокойный способ. Судя по всему, вы правы…
– Конечно, прав, экспертиза подтверждает, а не я.
– Так вот, – продолжил Забродов, – душить голыми руками тяжело. Согласитесь, быстрее сломать позвоночник, силы у этого человека на это хватило бы. Я не думаю, что он спецназовец. Для спецназовца такой способ – чужой, это не из арсенала профессионалов своего дела. Если бы мне надо было убивать, если бы у меня поехала крыша и рассудок помутился, а все эти люди мне чем-то стали крайне неприятны, превратились бы в моих врагов, то я бы, поверьте, убивал другим способом.
Если бы у меня не было оружия – ножа, петли, палки – я бы просто сворачивал шеи. Это быстро и экономно. Или одним ударом… Показывать не буду, – сказал Забродов, – убивал бы человека. Один удар в горло – быстрый, короткий, мгновенный – и человек мертв. Поверьте, все, кто прошли школу спецназа ГРУ, этими ударами владеют. А вы видите, убийца применяет что-то другое – скорее, из области цирка, это актерство – удава изображать и укротителя в одном лице.
– Вы говорите, удава?
– Да, удава. А что? Надеюсь, вы видели в цирке номер с удавом?
– Не приходилось, – признался полковник Сорокин, – видеть воочию.
– А я видел.
– Но знаете, капитан, мы действительно назвали его Удавом.
– А как же вы еще могли его назвать? Ведь он душит, а не кусает, не режет, не стреляет, просто-напросто душит.
И тут Забродов, положив руки на стол, немного отвлекся:
– Так говорите, вы не видели номера с удавом?
Когда дрессировщик преспокойно дает обвивать шею огромной змее, он ничем не рискует. Фокус прост: удав прежде чем трижды не обовьется вокруг шеи, давить не станет, ему просто не хватит на это сил. Вот дрессировщик и дает ему обвиться два раза, а из третьей петли все время выскальзывает, сбрасывает ее. Тут есть артистизм, элемент соревновательности. Ваш душитель не просто убивает, а ищет противника практически равного себе, – Забродов перебрал снимки. – Он душит не всегда сзади, а и спереди, и сбоку. Как я понимаю, главное для него насладиться агонией, почувствовать ее руками, ему важна не сама смерть, а процесс.
И он абсолютно не кровожадный, может быть, вид крови ему даже противен. И скорее всего противен. Если бы ему нравилась кровь, он бы полосовал лица, тела. А так лишь неглубокий разрез на уже мертвом теле, – и он выдернул снимок, на котором отчетливо был виден крест, вырезанный на затылке мертвого человека, мужчины.
– Послушайте, – сказал Мещеряков, – а почему вам в голову пришла мысль, что убийца – спецназовец?
– Тут уж, как повелось. Два ваших человека один раз засветились, теперь всегда на вас будут думать.
– Это не правильное рассуждение, – ответил Забродов. – Вы, как человек, носящий форму, должны знать, что если снаряд уже сделал воронку, то вероятность того, что второй попадет в эту же воронку, ничтожно мала. Куда скорее снаряд ляжет на чистое поле, так что зря вы ищите в нашем направлении, уж попомните мое слово.
– Утопающий за соломинку хватается, – напомнил Сорокин, – все версии нужно отрабатывать. И если до последнего времени с расследованием нас специально не подгоняли, понимая, что спешка только навредит делу, то теперь придется действовать в пожарном темпе. Журналисты уже пронюхали, скоро в Москве начнется паника.
Забродов ухмыльнулся:
– Знаете, полковник, – он посмотрел в глаза Сорокину, – ваши рассуждения не совсем верны. Все версии хороши, кроме заведомо похожих на правду.
Они, – я исхожу из своего собственного опыта, – как правило, оказываются провальными. А самые, на первый взгляд, невероятные – зачастую правильные. Так что со спецназовцами вы явно перебрали, и я ничем вам помочь не могу. Навряд ли это был кто-то из моих людей, но то, что он невероятно силен, это я могу сказать абсолютно точно. Но сильных людей много, причем сильными у этого душителя могут быть лишь руки, даже кисти рук, как у музыканта или игрока в пинг-понг.
– Странное предположение.
– Вы знаете, что у теннисистов очень сильные кисти, а бицепсы могут быть слабыми? Так же кисти могут быть сильными у пианистов.
– Вы думаете" он музыкант?
– Вполне может быть.
– А насчет паники?
– Да, это интересно, когда здоровые мужчины станут бояться выходить на улицу – ни старики, ни женщины, ни дети, а именно здоровые мужчины. Это что-то новое, убийца – человек с фантазией, во всем хочет быть непохожим на остальных.
– А я думаю, он просто сумасшедший.
– То, что он сумасшедший – это верно. Но сумасшествие бывает разное и оно совсем не говорит о глупости. В жизни он может быть нормальным человеком, так же как вы, я или полковник Мещеряков – ходить по улицам, забегать в кафе, покупать книги, диски, читать, слушать музыку. Он отличается от нас лишь взглядом на смерть. Если нам она неприятна, вызывает отвращение, страх, то ему чужая смерть доставляет удовольствие, причем огромное. К тому же удовольствие это эстетическое, кроме физического наслаждения. Это как обладание женщиной, которая сопротивляется. Ему, насколько я могу предположить, нравится сопротивление, и именно поэтому он выбирает сильных мужчин.
– По какому принципу он их выбирает? Вот таксист, вот сантехник, это спортсмен, – полковник Сорокин указал на фотоснимки, – но все они чем-то похожи.
– Да, похожи. Они все примерно одного роста и примерно одной конституции, словно их отливали в одной форме, так сказать, эталоны. Наверное, они эталоны мужской красоты в его понимании.
– Все убитые, – продолжил полковник Сорокин, – нигде между собой не пересекались, не знали друг друга. Это люди разных кругов общения, даже разного уровня жизни. Вот этот богат, этот беден, этот…
– С бородой, – сказал Забродов, – а этот без бороды. Но они похожи, словно братья.
– И что нам это дает? – спросил Сорокин.
– Не знаю, я просто-напросто рассуждаю. Вы меня позвали, чтобы я ответил на ваши вопросы. Как мог, я ответил.
– Да, да, ответили. Но, к сожалению, мало что прояснилось.
– А вы, полковник, хотели, чтобы мы с Мещеряковым сказали, что убийца спецназовец?
– Если бы вы это сказали, я был бы рад. Это намного сузило бы круг подозреваемых. А теперь вы меня убедили, что версия со спецназовцем ошибочна и ни к чему хорошему не ведет.
– Я тоже так думаю, – сказал Забродов.
– А вот ваши рассуждения, капитан, об автографе интересны, словно бы неграмотный человек подписывался, ставил крестик вместо подписи.
Забродов улыбнулся:
– Расписаться ножом сложно, а поставить крест – просто.
Еще минут двадцать беседовали мужчины, причем у всех лица были озабочены. Волнение полковника Сорокина невольно передалось Забродову и Мещерякову.
Все трое были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее разрешить запутанное дело, выйти на след убийцы. Илларион догадался, пока убийца не окажется на скамье подсудимых или в наручниках, тень краем будет задевать и его, мол, это он обучал людей убивать. И неважно, требовали ли этого государственные интересы, требовало ли ГРУ – это дело второе. Раз есть трупы, значит, существует убийца. А если существует убийца, значит, кто-то научил его страшному ремеслу. А пока Сорокину был известен лишь один учитель – Илларион Забродов.
– Послушайте, – вдруг сказал Забродов, – я понимаю, пока вы не поймаете этого мерзавца, вы будете думать, что я к этому имею какое-то отношение. Может, вы и правы. Не перебивайте меня, полковник, я тоже чувствую свою вину. Да, я готовил профессиональных диверсантов, то есть простым языком говоря, – убийц. Но так было надо, это мой хлеб, мое ремесло.
– Ты что, Илларион! – воскликнул Мещеряков. – Как ты можешь? Твои люди принесли столько пользы…
– Вот видите, полковник, – сказал Илларион, обращаясь к Сорокину, – и от убийств бывает польза.
Это как яд: он может быть и отравой, а может – и уникальным лекарством.
Уже через полчаса Мещеряков с Забродовым были на улице, неторопливо шли. Полковник машину отпустил, сказав, где шофер должен его ждать.
– Что ты обо всем этом думаешь, Илларион? Твоя совесть чиста, я это знаю. А искать убийцу – это их проблема. Пусть ищут, государство им за это деньги платит.
– Я понимаю, Андрей. Но представь ситуацию иначе: этот мерзавец может придушить и тебя.
– Меня? – воскликнул Мещеряков.
– Ну хорошо, не тебя, а меня.
– Тебя? – Мещеряков саркастически захохотал. – Хотел бы я на него, Илларион, посмотреть. Вот уж потеха началась бы, если бы он тебя решил придушить. Я ему, честно говоря, не завидую. Уж я-то знаю, как тебя пытались задушить, и знаю, что с теми тремя стало.
– Просто мне повезло в конкретной ситуации. Но признаться честно, мне очень интересно посмотреть на этого человека, – Какой у тебя интерес? – спросил Мещеряков.
– Чисто профессиональный, – сказал Илларион. – Знаешь, Андрей, он душит людей неспроста.
– Это и так понятно, – с тоном знатока воскликнул полковник ГРУ.
– За всем, судя по фотографиям и тем фактам, которые изложил Сорокин, стоит философия.
– Опять ты за свое! Какая на хрен философия, он сумасшедший!
– Нет, Андрей, не простой сумасшедший.
– Вот ты опять, Илларион, начинаешь забивать себе и мне голову бреднями. Философию приплетаешь… – Просто псих, отъявленный мерзавец. Я уверен, что од не думает, а хладнокровно душит.
– Просто душит. Мещеряков, только асфальтоукладочный каток. Вот он – просто душит, да и то за рычагами сидит человек. В этом мире ничего просто так не случается, на все существует причина. И если вычленить причину, можно предсказать и предупредить последствия. Так что надо заниматься причинами, а не следствиями. А Сорокин занимается как раз другим, он разбирает результат, а не то, как человек этих результатов достиг, и не задумывается над тем, почему он это сделал.
– Так уж и не разбирается! – воскликнул Мещеряков и испуганно оглянулся.
Прямо за ними двигался мужчина, широкоплечий, с сильными руками. Его шарф развевался на ветру, шляпа была надвинута на самые глаза, ни дать, ни взять маньяк. Этот испуганный взгляд Забродов перехватил.
– Ну вот, иллюстрация к твоим рассуждениям, паника в Москве уже началась – с тебя, полковник.
– Брось, Илларион, я не испугался, просто профессиональная привычка.
Мужчина догнал Забродова с Мещеряковым и голосом, абсолютно не вяжущимся с его грозным видом, почти девичьим или детским, поинтересовался:
– Господа, у вас зажигалки не будет? У меня бензин кончился, – на его огромной ладони поблескивала золоченым корпусом зажигалка «Zippo». Казалось, сожми он пальцы, и зажигалка сомнется, как пачка сигарет.
– Пожалуйста, – Забродов дал мужчине прикурить.
– Большое спасибо. Погода ни к черту.
– Согласен.
Мещеряков двинулся вперед. А Забродов, сделав два шага, настигнул своего приятеля и схватил его руками за горло, схватил не сильно. Но Мещеряков чуть не проглотил сигарету и только после этого попытался провести прием, которому Забродов же его и научил.
Илларион в ответ лишь расхохотался, ловко уклонившись от удара ногой.
– Ну, Мещеряков, вот видишь, голыми руками тебя не возьмешь, приемчики, сволочь, знаешь.
Тот тряхнул головой.
– Ты, Илларион, сумасшедший. Может, это ты ходишь по городу и всех душишь? Начитался какой-то ерунды в своих старинных книгах и вообразил себя сверхчеловеком.
– Да, так оно и есть.
– Здоровый мужик, – глядя вслед удаляющемуся великану, пробормотал Мещеряков.
– Не очень. Я бы его задушил.
– Ты, Илларион, и медведя задушить можешь, если, конечно, пальцы на шее сойдутся.
– А я найду медведя. Мещеряков, с тонкой шеей.
– С лебединой? – засмеялся Мещеряков, а затем посмотрел на часы. – Мне с тобой, Илларион, разговоры разговаривать время нет.
– Какого черта ты со мной поехал к Сорокину?
Небось, начальство приказало проследить, чтобы я не сболтнул чего лишнего, мундир гээрушника не запятнал?
– В общем-то, да, – смутился Мещеряков, не умевший врать своему приятелю. – Это тебе хорошо, Илларион, у тебя времени свободного с утра до вечера. А у меня служба, бумажки надо просмотреть, подписи поставить, планы составлять.
– Да знаю я. Мещеряков, чем ты там занимаешься. От тебя пользы никакой. Кстати, вон моя машина, хочешь, подвезу тебя домой?
– Не хочу.
– Ты не через Беговую поедешь?
– Через Беговую. Ты же сам прекрасно знаешь.
– Тогда и подбросишь меня туда.
– Куда туда? – спросил Мещеряков.
– Пойду книги посмотрю, может, что новое поднесли.
– Господи, Илларион, когда ты с книгами покончишь? Когда ты ерундой заниматься бросишь? Здоровый мужик, а портишь глаза, книги читаешь.
– Кому что, Мещеряков. Ты же знаешь, сколько книг ни читай, а императором не станешь.
– Я им и не собираюсь становиться. А насчет порчи глаз, так это то же самое, что сказать: ходишь – ноги портишь. Садись в инвалидную коляску и катайся по городу. Мозоли никогда не натрешь, да и подошвы будут целые.
– Вон твоя инвалидная коляска стоит с антеннами спецсвязи. Крутая, новую рацию, небось, поставили?
Мещеряков чувствовал себя неудобно из-за того, что он ездит на служебной машине, а Забродов, который ничуть не хуже, ходит пешком или ездит на своем старом «лэндровере». А вот Забродов чувствовал себя уютно в каждой ситуации, он был лишен комплексов, присущих многим людям. Его не прельщали ни звезды на погонах, ни должности, ни орденские планки. Ему было достаточно того, что он является самим собой и живет так, как ему нравится, по своим законам, исполняя приказы, которые сам себе отдает.
Машина рванулась с места, да так резво, что пригнулись антенны.
Мещерякову хотелось хоть чем-то досадить невозмутимому Иллариону;
– Кстати, Марина приехала загорелая, счастливая.
– Ну и что?
– Тебя не интересует, почему она счастливая?
– Потому что предчувствует скорую встречу со мной, – преспокойно ответил Забродов.
– Вы договорились, что ли? – выходя из себя, сказал Мещеряков.
– Нет, не договаривались.
– Кстати, она интересовалась, как прошел твой день рождения. Наверное, какой-нибудь подарок приготовила.
– Не знаю.
– Посмотришь, когда увидишь ее.
– Думаю, ты, как последний мерзавец, сказал ей, что я там был с другой женщиной?
– – Я сказал ей, что все было как всегда. Но твоя Наталья – лишь жалкая ее копия.
Забродов в ответ лишь улыбнулся, понимая, что Мещеряков его подкалывает. На Беговой он вышел, на прощание махнул рукой уносящемуся по улице автомобилю.
* * *
После дня рождения Иллариона Забродова на окраине Завидовского заповедника Наталья Болотова чувствовала себя странно. Что-то изменилось в ее жизни, в нее вошло новое, причем то, с чем она раньше не сталкивалась. Наталья задавала себе один и тог же вопрос: что за человек Илларион Забродов?
"Удивительный человек, – тут же говорила она сама себе. – Он не такой, как все. Правда, у меня странный круг знакомых: художники, скульпторы, искусствоведы – люди в общем-то немного сумасшедшие, немного завернутые. Забродов чем-то на них похож и в то же время он абсолютно другой – прямолинейный, честный. Но прямолинейность и честность у него тоже какие-то странные. А самое привлекательное в нем то, что он чрезвычайно умен, причем не в смысле начитанности. Даже не умен, – говорила себе Болотова, – нет, нет, он не умен, он какой-то мудрый, словно за его плечами не сорок четыре года жизни, а двести или триста. Иногда он мне кажется глубоким стариком, древним-древним, таким, как их изображали художники Возрождения на плафонах соборов – умудренные опытом, с седыми бородами, этакие вещуны. Да, он чем-то похож на волхва или книжника. Он вполне мог бы позировать скульптору или художнику для святого Петра или для святого Павла. Правда, он без окладистой седой бороды, но тем не менее. Вся его фигура, глаза говорят о большом жизненном опыте. Интересно, почему он такой? "
Забродов Болотову волновал и как мужчина, но в первую очередь, как интересный человек. С мужчинами у Натальи отношения складывались странные. Она была очень переборчива, и, возможно, именно эта ее черта не позволяла ей сходиться со многими, кто хотел бы иметь с ней близкие отношения. Возможно, из-за своего характера, из-за требовательности она развелась так же быстро, как и вышла замуж.
Не попадался ей в жизни достойный человек. Она в последние годы даже перестала искать такого человека, разуверившись в том, что мужчины, соответствующие ее мысленному эталону, существуют вообще. Скорее всего их нет, потому что быть не может никогда. От этого у нее на душе становилось горько. Нет, она не считала себя идеальной женщиной, была уверена, что не может быть идеальной женой. Но тем не менее, как и всякой женщине, ей хотелось «принца». Ей нужен был очень умный мужчина, который будет другом, собеседником, за плечами у которого огромный жизненный опыт, недостающий ей самой, за плечами которого она почувствует себя надежно и уверенно. Таких людей до встречи с Забродовым она не знала, с такими не доводилось встречаться.
Художники, искусствоведы, скульпторы, писатели, журналисты – люди интересные, иногда прекрасные собеседники, но ужасно ненадежные в жизненном плане. Сегодня говорит одно, завтра – другое, а послезавтра – третье. Причем то, что будет сказано завтра, напрочь войдет в противоречие тому, что говорилось вчера, но при этом под все это окажется подведена солидная философская база.
«А вот Забродов не такой. Но я его слишком мало знаю, может, и он, как все? Нет, – тут же говорила себе Болотова, – он абсолютно не такой, он словно сделан из другого теста, из другого материала».
Размышляя о Забродове, Наталья Болотова ехала в мастерскую к скульптору Хоботову. В конце концов, внутренний мир, внутренние проблемы, сердечные дела – это лишь один срез жизни. Остается работа.
Каждому человеку нужны деньги, все покупают еду, одежду. А для того чтобы деньги водились, надо работать, нравится это или нет. Надо работать постоянно, все время думать, анализировать, сочинять. И тогда статьи станут писаться сами – на автопилоте.
«Да, надо быстрее закончить материал о Хоботове, завозилась я с ним. Это странный материал, этакое большое развернутое эссе о муках творчества и о том, как рождается на свет произведение искусства».
Имелась и еще одна причина, по которой она хотела как можно быстрее написать материал о Хоботове.
Ей позвонили из Голландии, из очень солидного издания по вопросам искусства и поинтересовались, знакома ли она со скульптором Хоботовым.
– Да, я знакома с ним, – ответила Наталья.
– Не согласились ли бы вы, госпожа Болотова, написать нам большой материал о нем? Вполне возможно, что на базе этого материала будет снят документальный фильм о знаменитом русском скульпторе.
Она, естественно, поинтересовалась, как всегда в подобных случаях, кто порекомендовал ее в качестве автора. Ей ответили, что это согласовано с самим господином Хоботовым, с маэстро Хоботовым. Вот за это Болотова была благодарна скульптору и даже приготовила фразы, которые положено говорить в таких случаях. Так что дело оставалось за малым, через неделю материал будет закончен.
Вечерами она просматривала фотографии, делала выписки, занося в компьютер цитаты из высказываний великих людей, собственные рассуждения о творчестве, припоминала фразы скульптора, пыталась их анализировать и постепенно, понемногу, как большой дом из самых разных деталей, начала складываться статья.
Но в ней пока не хватало того, что Болотова называла на профессиональном жаргоне или «стержнем» или «клеем», чего-то важного, связующего, того, что накрепко соединит и цитаты, и ее рассуждения об искусстве, и высказывания Хоботова, и фотографии его последних работ, и фотографический «комикс» – как работает скульптор. Пока все это имелось лишь в виде отдельных набросков.
Она подъехала к мастерской. Захлопнула дверцу машины и с кофром в руках, на ходу поправляя пальто, приподняв воротник, потому что дул холодный ветер с колючим снегом, направилась к мастерской.
«Странно, – произнесла Болотова, – еще вчера и позавчера светило солнце, а сегодня на улице такая мерзость. Дважды чуть не врезалась, тормоза в машине уже ни к черту. Надо заехать на станцию техобслуживания, поменять накладки».
С этими мыслями она подошла к двери и перевела дыхание.
«Хоботов откроет, и надо сразу же поблагодарить его за рекомендации солидному журналу. Так и сделаю».
Она звонила в дверь довольно долго.
«Может, его нет?»
Но тут она услышала шаги, дверь распахнулась резко. Хоботов встретил ее странной улыбкой, его голова была перевязана белым махровым полотенцем, на котором проступило темное пятно крови.
– Что с вами? – вместо приветствия произнесла Болотова.
– Да так, ерунда, – безучастно махнул огромной ручищей, перепачканной засохшей глиной, скульптор. – Арматуру сгибал для каркаса, проволока ударила в лоб, будь она неладна!
– Сильно? Надо показаться врачу.
– Какой врач? – вновь махнул ручищей скульптор. – Заходи, холодно, по ногам тянет, а то простыну.
В то, что скульптор Хоботов может схватить элементарный насморк, Болотовой не верилось. Слишком уж он был силен, даже могуч. Нет, к таким людям простуда не цепляется. Это она может простудиться, распахнись пальто, выпей глоток холодной воды, а такой великан никогда не заболеет.
Хоботов переминался, затем тяжело ступая, двинулся в мастерскую. Он шел, раскачиваясь из стороны в сторону, как моряк идет по палубе застигнутого крутой волной корабля. Скульптура была накрыта мешковиной. В мастерской разбросаны комья глины с темными бурыми пятнами. Цепочка пятен тянулась и из душевой к станку.
– Что это? – спросила Болотова.
– Я же говорил тебе, ударила меня арматура. Крови много было, но уже не течет.
– Когда это произошло?
– Вскоре после того, как я посадил тебя в такси.
Кстати, нормально доехала?
– Да, да, спасибо. И еще, Леонид Антонович…
– Можно по-прежнему – просто Леонид, – Хоботов сел на подиум, сунул в рот сигарету и закурил.
– Я разбудила тебя, наверное?
– Да, разбудила. И правильно сделала.
– Кстати, а почему маэстро Хоботов работает лишь. по ночам?
– Шума нет, – спокойно сказал скульптор, – да и ночью мир выглядит немного иным.
– Но в мастерской то ничего не меняется, все как днем?
– В мастерской не меняется, а вот здесь меняется, – и Хоботов постучал пальцами по голове, – здесь все меняется.
– У вас хорошая дочь, – вспомнив про девчонку, сказала Болотова.
– Какая она хорошая? Лентяйка, бездельница.
– Зачем вы так?
– Я-то ее лучше знаю. С ее мозгами она могла бы… но ничего не хочет.
Скульптор говорил о своей дочери довольно пренебрежительно, и от этого Болотову коробило, хотя она знала, что почти так же Хоботов говорит и о своих коллегах, и об учителях – словом, обо всех.., кроме самого себя.
«Что-что, а самомнение у него бесконечно. Он страдает манией величия, но без этого настоящего художника быть не может, каждый считает себя равным богу-творцу».
Хоботов остановился рядом со скульптурой, аккуратно взялся за край тяжелой мешковины, и как тореадор перед быком, взмахнул материей, обнажил скульптуру. Крик изумления застрял в горле Болотовой.
Скульптура была поразительна. Она даже представить себе не могла, как далеко Хоботов продвинет работу за одну ночь, словно работал не он один, а с ним трудилось еще десять помощников. До окончания оставалось совсем немного, во всяком случае, на взгляд искусствоведа.
– Ну? – спросил Хоботов.
– По-моему, великолепно. Я бы даже ничего не трогала, – справившись с волнением, произнесла Наталья.
– Да, скульптура – это как бриллиант, камешек.
Но что такое даже хорошо ограненный алмаз без подобающей оправы?
Болотова не сразу поняла, куда гнет скульптор.
– Сам камень – ничто, всего лишь сверкание граней. А вот тот свет, который он излучает, и есть искусство.
Она все еще не могла понять, куда Хоботов клонит.
И тут он проговорился, его прорвало:
– Я хочу создать оправу из легенды, которая всегда будет сиять вокруг моего произведения, которая будет неразрывно связана, спаяна с ним, будет сопровождать его по жизни.
– Какую легенду?
– Желательно страшную, желательно ужасную.
Ведь страх человек помнит, даже не желая этого.
Выглядел Хоботов одновременно и комично, и страшно. Голова перевязана окровавленным махровым полотенцем, руки в бурых пятнах, такое же перепачканное и лицо. Скульптор был бос, огромные ноги и огромные волосатые руки производили зловещее впечатление. Борода была в сгустках запекшейся крови, а кожаный фартук дополнял картину, и тут Наталье даже показалось, что кровь запеклась, проступив на самой скульптуре.
Она отшатнулась.
– Нравится?
– Нет, пугает.
– Это одно и то же.
– Поражает, удивляет.
– Но она еще не закончена, я еще не вдохнул в нее жизнь. Кровь влил, а жизни пока еще нет, – Хоботов изъяснялся довольно пространно и это пугало искусствоведа.
Она уже решила, фотографировать не будет ни в коем случае, хотя такой снимок дорого стоит.
– Может, хотите запечатлеть и автора, и его произведение?
Хоботов сбивался, иногда называл Наталью на «ты», а иногда на «вы».
– Нет, не хочу.
– Нет, снимай. Открывай свой черный ящик, доставай фотоаппарат, снимай.
– Нет, нет, не надо. Нет желания.
– Снимай, я сказал! – это уже звучало как строгий приказ.
И тут Болотова почувствовала себя маленьким беззащитным человеком, который без разрешения даже не сможет покинуть мастерскую. Она оказалась в западне. Пожелай Хоботов, и она останется здесь навечно, пожелай он – сбросит ее в страшную разверстую яму, откуда черпает глину.
Робея, она попятилась, натолкнулась ногой на кофр, оставленный на полу, нагнулась. Хоботов хохотал, смех вырывался из его рта. Смех ужасный, так мог смеяться только ненормальный человек, одержимый. Но пока еще одержимость скульптора Болотова приписывала его профессии, ведь все художники немного сумасшедшие, немного одержимые, тем более, когда находятся в процессе творчества.
Она вытащила аппарат и стала навинчивать объектив.
– Ну, ну, снимай.
Дважды щелкнул фотоаппарат, а затем мокрая мешковина обрушилась на скульптуру, спрятав ее под собой. Хоботов сразу притих, словно бы исчез объект, который его раздражал и одновременно вдохновлял.
Даже его голос потеплел и стал немного ласковым.
– Извини, я немного погорячился. Иногда накатывает. Ты же знаешь, без этого не бывает творчества.
Искусство должно быть нервным. Я ненавижу все, что сделано холодным расчетом, умом. Делать надо душой, плотью. Рассудок в искусстве – плохой помощник.
– Я так не считаю, – сказала Болотова.
– Ты можешь считать, как тебе заблагорассудится, мир от этого не изменится.
– Кстати, – сказала Наталья, пряча фотоаппарат в кофр, – я забыла вас поблагодарить за предложение голландского журнала.
– А, про это… Знаешь, почему я назвал твою фамилию? – Наталья посмотрела на скульптора. – Да потому, что я только твою фамилию из всех искусствоведов и вспомнил и то лишь потому, что она имеет косвенное отношение к моей работе. Ты видела, как она начиналась, ты слышала, что я о ней говорил, и поэтому, думаю, сможешь что-нибудь написать. Да и заработаешь на мне. Все вы, искусствоведы, паразитируете на творцах, сосете кровь, перемалываете косточки, строите глупые гипотезы, украшаете свою писанину домыслами, – и тут же Хоботов захохотал. – Но мне это и нужно, именно этого я и хочу – легенд, мифов, домыслов. Я их создаю каждый день.
«О чем это он? – подумала Болотова. – Какие мифы, какие легенды? Да он, наверное, перепил лишнего или перетрудился и поэтому немного не в себе».
– Скоро ты обо всем узнаешь. И не только ты, все вы узнаете. А твоя статья дорогого будет стоить. Кстати, ты напрасно не пользуешься диктофоном, я бы разрешил тебе записывать мои речи.
– У меня хорошая память.
– Память – ничто, – сказал Хоботов, – надо иметь вещественные доказательства. Была бы у тебя кассета, был бы диктофон, ты слышала бы тембр моего голоса, слышала бы мое дыхание, чувствовала бы биение сердца, пульсацию крови. Да, да, крови. Я не люблю кровь, – разоткровенничался скульптор, – кровь – это плохо. Вот у меня разбита голова, руки в крови, фартук.., это неприятно, это отдает патологией. Хотя.., в общем-то.., любая скульптура – патология, а скульптор чем-то напоминает патологоанатома.
Правда, патологоанатом разламывает, разрезает, а скульптор как бы наоборот, как бы сшивает, складывает плоть, и, самое главное, не омертвляет, а оживляет ее. Но мастеров повсюду мало. Редко какая скульптура выглядит живой, но.., случается. Нужен миф, нужна легенда.
Хоботов явно устал и был взведен. Он подошел к стеллажу, открыл дверцу, подвинул стекло в сторону и вытащил бутылку виски.
– Будешь пить?
– Нет, не буду.
– Как хочешь.
Пробка была отвинчена, и Хоботов самозабвенно, как горнист трубит отбой, принялся глотать виски. Он пил так, как пьют воду. Болотовой стало страшно. Она была одна с полусумасшедшим художником, который может устроить все что угодно.
Она закрыла кофр и только сейчас заметила, что, войдя в мастерскую, даже не сняла пальто. Она посмотрела на часы.
– Спешишь?
– Да, да, спешу, тороплюсь.
– А мне кажется, ты боишься. Ты запомнила страх, который я на тебя нагнал.
– Да, да, страх… – Болотова отступила к двери.
Хоботов надвигался на нее, держа бутылку в левой руке и шевеля пальцами правой. Не дойдя до женщины двух шагов, он остановился.
– Ты еще придешь сюда? – то ли спросил, то ли сказал он утвердительно, Болотова не поняла, но не сказать «да» она не смогла.
– Да, загляну.
– Когда допишешь статью?
– Не знаю.
– Сколько они дали тебе времени?
– Десять дней.
– Этого хватит, – расхохотался Хоботов и двинулся вглубь мастерской. – Иди, иди, – крикнул он, даже не оборачиваясь.
Женщина выскочила на улицу, и, уже сидя в машине, облегченно вздохнула, закрыв дверцу.
"Господи, страху какого натерпелась. Не думала, что он до такой степени сумасшедший. Или я такая пугливая? Ведь ничего же мне не сделал, все слова, слова.., никаких угроз, даже пальцем не прикоснулся.
А я вся похолодела, потом облилась. Давно со мной такого не случалось. Надо ехать домой, принять душ и работать, работать…"
Глава 12
Четверо мужчин сидели в гараже. Ярко горела лампочка, свисающая на тонком шнуре с потолка.
Лампочка была голая, от этого тени мужчин делались особенно черными и зловещими. На верстаке стояло две бутылки водки. Одна – выпита почти до дна. Лежала тут же и закуска. Из-под газеты торчала финка с наборной ручкой, которой резали хлеб, колбасу и огурцы.
Мужчины курили.
– Это ты, козел, – обратился один из мужчин к водителю фургона, – привел его.
– Митя, а что я мог сделать? Он меня так отмудохал, что я вообще боялся – концы откину.
– Ты как думаешь, мент он?
– Похоже на то. Очень уж быстро нашел тебя.
– Меня, меня… – признался водила, накалывая ножом кружок колбасы и отправляя его в рот. – Машина-то приметная, – жуя колбасу, произнес он, – вы-то не сказали сперва, зачем вам фургон.
– А то ты не знал, не догадывался.
– Машина за мной числится.
– Машина, машина… – говорил Митя, – таких фургонов по Москве ездит не сосчитать. Интересно, как он тебя нашел?
Водителю, естественно, надо было отвести вину от себя.
– Вы тоже виноваты…
– Тебя, козла, следовало бы грохнуть, – сказал рыжий с рассеченной губой" – если бы не ты, все было бы чики-чики.
– Ну, было бы. А как вы думаете, мужики, почему он нас не сдал ментам? Ведь мог приехать с какими-нибудь ломовиками-волкодавами, повинтили бы нас, наручники надели и – в следственный изолятор. А там из нас все вытряхнули.
– Это из тебя все можно вытряхнуть, в чем мы и убедились, – Митя сплюнул через дырку между зубами.
Одного зуба в верхней челюсти у него не было, и от этого лицо казалось звероватым, злым, глаза хищно, но испуганно поблескивали.
– Короче, этого мента, или он не мент, в общем, без разницы, надо кончить. А ментам он нас не сдал, я полагаю, только лишь потому, что у него оружие дома лежало незарегистрированное, да и денег куча. Может, взятки берет. А сейчас все спрячет, следы заметет и приведет группу захвата. Так что наши дела хреновые.
– Правильно ты говоришь, Митяй, – сказал рыжий, срывая пробку со второй бутылки водки, – кончать его надо. Но сделать так, чтобы нас никто не увидел.
– А кто увидит? Он живет на последнем этаже, на площадке одна его квартира. Дом старый, стены толстые, никто и не услышит.
– Пушки нет, – сказал один, – мы бы его, гада, пару раз прострелили бы, а затем квартиру почистили. Барахла хватает.
– Дело говоришь, – поддержал Митяя коротко стриженый.
Митяй в этой компании был заправилой. Как-никак он один из четверых сидел в свое время в тюрьме, о чем говорили обильные татуировки на кистях рук, а если бы он разделся, то и на груди и спине. Сидел он за грабеж, причем дело было по пьяни. Не хватало на пару бутылок водки, вот и решили быстро достать деньги. Двое, которые пошли с Митяем чистить магазин, успели унести ноги, и Митяй, как положено, как должен поступать благородный человек, всю вину взял на себя. Хотя потом, в лагере, проклинал своих дружков на чем свет стоит, и решил, что как только выйдет, обязательно с ними поквитается, если, конечно, те не компенсируют лишение свободы деньгами. Но Митяю не повезло.
Дружки его мало того, что не поделились, но, когда он вышел, оба уже находились на Колыме, причем по такой дурной статье, от которой Митяя тошнило, – они по пьяни изнасиловали подростка. За это их и взяли, намотали по полной катушке. Хорошо, что еще пацан остался жив, а то могли бы получить и вышку.
Митяй уже и знать не хотел своих бывших подельников, приятелей по несчастью.
«Упекли и правильно сделали. Уроды, насильники долбаные, пидары гнойные!»
После тюрьмы и зоны у него к гомосексуалистам выработалось стойкое отвращение, гомики и насильники были последними людьми в тюрьме.
«Насильники, пацана трахнули.., сейчас вас на зоне трахают во все щели и дырки, – злорадно потирал руки Митяй, когда знакомые рассказали ему о злоключениях двух его приятелей. – Знал бы, сдал бы их тогда и, возможно, вместо пяти лет получил бы тройку, парился бы на нарах меньше. А в тюрьме день за пять идет».
Митяй вышел на свободу два года назад со стойким отвращением к нарам и к тюремной жизни. Как многие бывшие заключенные, он поклялся себе, что ни за что в жизни за решеткой больше не окажется, и ерундой заниматься не станет. Но одно дело – благие намерения, а другое – реальная жизнь.
А она встретила Митяя не ласковыми объятиями.
Все друзья-ровесники как-то в ней устраивались, как-то зарабатывали деньги. Он ткнулся в одну контору, во вторую, в третью, но его документы говорили о нем больше, чем он мог рассказать сам. Как-никак судим, и сидел в тюрьме пять лет.
– Нет, такие нам не нужны. Вы уж извините, место занято.
Кто говорил прямо, глядя в глаза, ничего не опасаясь, кто отказывал уклончиво. Помыкавшись месяца три и не найдя нормальной работы, Митяй был вынужден заняться прежним ремеслом. И, надо сказать, дело пошло как нельзя лучше. Удача буквально повалила.
Первые три квартиры и дача, которые он с приятелями обворовал, принесли солидный куш. А связи у Митяя имелись, он знал места, где можно легко избавиться от краденого. И от экономной жизни Митяй с приятелями вскоре перешли к жизни роскошной. Они тратили деньги, не жалея, понимая, что следующая квартира, следующее дело принесут немалый доход.
Так оно и шло. Проколов не случалось, работали чисто и аккуратно. Забирали: где мебель, где видеотехнику, где деньги и драгоценности. Работали по наводке и без нее. Увидят спутниковую антенну на крыше или на балконе, стеклопакеты в окнах – значит; хозяин квартиры мужик со средствами, значит, квартиру можно поставить. И ставили. Замки открывать Митяй умел еще до тюрьмы, а в тюрьме, поучившись у опытных взломщиков, свое мастерство укрепил, так сказать, отточил и усовершенствовал. Для него уже не существовало дверных замков, которые он не мог вскрыть с помощью отмычек. Иногда приходилось повозиться, но что это за дело, если без возни? Всякая работа требует определенных затрат энергии, работа вора тоже требует определенных трат.
И все бы шло хорошо, если бы не странная квартира, на которую вышли, заметив новые рамы в окнах, а в ней и взять-то толком ничего не взяли, денег немного – несколько тысяч – правда, нашлись там ствол, ножи. Но так быстро их высчитал, все забрал, да еще и морды набил странный мужик – хозяин. Как детей «развел». Кто он, откуда взялся?
Митяй крякнул, ударил кулаком с татуированными пальцами по верстаку.
– Бля буду, – сказал он, – кончать этого мужика надо, а иначе он нас кончит. Вот вам крест! Кончит, как не фиг делать, сдаст в ментовку.
– Он сам, наверное, мент.
– Я уже это слышал. Мне по хрен – мент он, военный, парашютист, инженер, банкир, кончать его надо и все! Сдаст, чую задницей, позвоночником чую! Уже мурашки по спине бегают. А как вспомню о наручниках на запястьях и о казенной фуфайке, то жить не хочется. Завтра же пойдем и кончим его!
– Э, Митяй, а может, не надо? – негромко прошептал водитель микроавтобуса, который занимался тем, что стоял на шухере и вывозил награбленное.
– Я тебе, урод, сказал: ты его привел, и ты пойдешь со мной. Кончаем его, мужики!
– Да, кончаем.
Вторая бутылка была уже пуста, когда четверо мужчин решили, что завтра займутся хозяином квартиры, который обошелся с ними так жестоко.
– Я ствол достану, – сказал Митяй, – у моего кореша есть, вместе со мной сидел.
– Какой у него ствол? – спросил рыжий.
– Хороший, – ответил Митяй, – обрез из двустволки. С такого медведя завалить можно, а уж того козла, если что, завалю, как пить дать. И баллистическая экспертиза ни хрена не покажет.
– Грохоту будет, Митяй, – сказал рыжий, вытаскивая из-под верстака третью бутылку водки.
– Вот и я думаю, грохоту будет, поэтому лучше тихо горло перерезать уроду, и все дела.
– Крученый он какой-то, Митяй.
– Крученый не крученый, а нож под ребра – и будет прямой и холодный.
Мужики самодовольно заржали. Напившись водки, они почувствовали свою силу. Как-никак их было четверо, все мужики крепкие.
– Значит, так, – уже приказывал, а не рассуждал Митяй, – завтра собираемся здесь.
– А может, не будем тянуть? Перегорим же… – вставил рыжий. – Прямо сейчас пойдем и замочим? А то, как бы сегодня он нас не сдал. Завтра приедем сюда утром, а тут уже пятнистые в масках и бронежилетах.
Повалят на землю, ноги раздвинут, отмудохают, наручники защелкнут и в машину. А там этапы, этапы…
– Не трынди, рыжий, – угрожающе сказал Митяй, – ты там не был, и не тебе про это говорить. А тюрьмы бояться – в лес не ходить.
Мужики снова заржали.
– А ты дело говоришь. На хрена тянуть? Может, сейчас и пойдем, сейчас его и завалим?
– Думаешь, он дома, Митяй? – спросил водитель.
– Дома, не дома, какая разница? Подкараулим, выждем, будет выходить, тогда и порешим. Собирайтесь.
– А ствол?
– Ствол, ствол… – Митяй забурчал, – за стволом заедем.
– Куда ехать?
– Недалеко. Полчаса туда и обратно.
– А если твоего кореша на месте не окажется?
– А где ж он будет? Он инвалид, сидит дома в коляске и никуда, в отличие от нас, не ездит.
– Митяй, а что за кореш? Не сдаст?
– Не сдаст. А если сдаст, ему голову отвертят и в унитаз засунут.
Довольный смех наполнил гараж, вернее, даже не смех, а гогот, похожий на лай злых собак, давным-давно не кормленных забывчивым хозяином.
– Так я же поддатый, Митяй, как мы поедем?
– Ничего, поехали. Окошко откроешь, проветришься. У меня таблетки есть, глотнешь, и они не во рту, а прямо в кишках запах отбивают.
– Дай.
– Держи.
– Ты ж их не водкой, а пивом, хотя бы, запей.
Заскрипела дверь гаража, звякнули замки, скрежетнули ключи. И четверо мужчин погрузились в микроавтобус, отправляясь на дело. Микроавтобус добрался до Павелецкого вокзала без приключений.
– Куда теперь? – спросил водитель.
Митяй тряхнул головой:
– Бля, забыл! На Серпуховской, улице свернем, а там я вспомню.
Добрались до Серпуховской улицы. А из нее попали на третий Павловский переулок.
– Вот теперь ждите здесь, – сказал Митяй, выбираясь из микроавтобуса.
Он отряхнулся, застегнул куртку до самого горла, размял затекшие от сидения в микроавтобусе ноги.
– Через полчаса буду.
– Полчаса сидеть здесь? – спросил рыжий.
– Сиди и не дергайся.
Сам же Митяй зашел во двор, затем взбежал на площадку четвертого этажа и постучал в дверь, обитую рваным коричневым дерматином.
– Кто? – раздался сдавленный голос.
– Свои, – отозвался Митяй и трижды с силой ударил в дверь.
– Дверь задрожала. Ударь Митяй немного крепче, и замки навряд ли выдержали бы.
– Не ломай! Не ломай.., твою мать!
– Твою мать, – с площадки крикнул Митяй.
Дверь открылась.
– Здорово, Бурый! – сказал Митяй вваливаясь в квартиру и наклоняясь к инвалидной коляске, в которой сидел мужчина с черным кучерявым чубом в тельняшке с короткими рукавами, из-под которых торчали худые синие от татуировок волосатые руки.
– Чего тебя принесло? – сразу же задал вопрос Бурый.
– Дело есть к тебе.
– Я же завязал, ты знаешь.
– Знаю я. Бурый, как ты завязал. Небось, краденым торгуешь?
– Это.., как положено.
– Были бы ноги твои целы, не отморозил бы ты их, так, наверное, не краденым бы торговал.
– Если бы да кабы… – скривился Бурый и, тряхнув головой, перебросил кучерявый черный чуб слева направо. Затем пригладил его жилистыми руками и, развернув в узком коридоре никелированную коляску, поехал в квартиру, в большую комнату. Митяй двинулся следом. – Ты один? – спросил он.
– Один, один, говори смело. Чего надо?
– А чего мне надо, как ты думаешь?
– Хрен тебя знает. Наверное, золотишко продать?
– Нет, Бурый, не угадал. А выглядишь ты хорошо, хоть и без ног, а сытый.
– Друзья не забывают, иногда подкидывают деньжат. Может, и ты принес?
– Принес, принес, – Митяй вытащил из внутреннего кармана пачку денег и бросил на круглый стол, застланный цветной скатертью. На краю стола была пепельница, полная окурков «Беломора», стояла бутылка, рядом с ней стакан. Бутылку на треть наполняла водка.
– Потянешь, Митяй?
– Нет, Бурый, я к тебе по делу.
– Перетрем, перетолкуем, смогу, окажу посильную помощь.
– Сможешь, Бурый. Мне твоя гармонь нужна.
– Ого, – изумился инвалид, – гармонь ему надо!
Выступать будешь, что ли?
– Один кент решил выступить, надо с ним хорошо поговорить. Знаешь, Бурый, так обстоятельно, чтобы больше не болтал, чтобы желание пропало, и чтобы он своим вонючим языком подавился.
– Гармонь я тебе дам, но это будет стоить…
– Ладно, мы же с тобой в одном бараке парились, так что давай, давай…
– Иди сюда, возьмешь, – Бурый подъехал на инвалидной коляске к дивану. – Поднимай.
Митяй присел, поднял сиденье.
– Валенки видишь?
– На хрена тебе валенки, у тебя же ног нет?
– Бери валенки.
Митяй вытащил валенки и сразу же понял, что в валенок засунут обрез. Вытащил, осмотрел.
– Хорошая у тебя гармонь.
– Еще бы, тульская.
– А патроны есть?
– В другом валенке. Тебе картечь нужна?
– Мне по хрен, лишь бы – наповал.
– Тогда бери красные патроны.
Митяй взял шесть патронов, сунул в карман.
– Все нормально, работает?
– Три дня тому назад смазал, работает как часы.
– Проверял?
– Что я дурак, Митяй, в кого мне пулять? Я человек тихий, живу за счет пожертвований, – А где баба твоя?
– Да ну ее на хрен, где-то трахается, кошка вонючая!
– Трахается? – засмеялся Митяй.
– Может, и не трахается, может, кого сама трахает.
– А, понятно, это другое дело. Она кем у тебя работает, контролером?
– Контролер, контролер.
– Тогда понятно, значит, трахает.
Митяй еще раз осмотрел обрез двустволки, щелкнул, заглянул в стволы, подул. Стволы загудели.
– Хороший свисток, – сказал Митяй, пряча обрез под куртку.
– Э, ты смотри, – засмеялся Бурый, – яйца себе не отстрели. А то ты, Митяй, без яиц вообще никому не будешь нужен.
– Не боись, не отстрелю, – Митяй выхватил обрез и ткнул его в живот Бурому. Тот в ответ лишь загоготал.
– А ты не боишься?
– Так он же не заряжен.
– Ты так думаешь? – Митяй откинул стволы, блеснули два патрона с золотистыми капсюлями.
– Фу ты! – тяжело вздохнул и испуганно откатился от Митяя Бурый. – Мать твою!
– Твою мать, – отрезал Митяй. – А говоришь, не заряжен. Как дал бы сейчас в нижнюю часть живота, так кишки бы по колесам развесил, как рваные спортивные трусы.
– Ну, ты дуришь!
– Я пошел. Бурый. На днях заскочу, отдам.
– Ага, заскакивай.
В микроавтобус Митяй садился уже с довольным лицом.
– Взял?
– А то! – Митяй отвернул полу куртки, показывая обрезанный приклад, перемотанный пластырем. – Видал, какая гармонь? Это тебе не из пистолета пулять, такая любого крученого завалит. А если из двух стволов пулять, то голову снесет, как пить дать.
– Эй, покажи-ка.
– Не в машине же показывать! Что тебе…
– Ну, дай, дай, Митяй глянуть! – попросил рыжий.
Митяй глянул в стекла. Никого рядом с автобусом не было. Он подал обрез рыжему.
– Положи где-нибудь, под седушку сунь, а то мало ли чего, гаишники стопорнут машину… ;
– Ага, – сказал рыжий, осматривая обрез, – наши прадеды из таких большевиков-коммунистов глушили.
– Так твой же прадед, рыжий, наверное, красноармейцем был, продразверстку проводил?
– Мой прадед? – возмутился рыжий. – Мой прадед кулаком был на Смоленщине.
– Врешь, поехали.
– Куда? – спросил водитель.
– Едь, едь за Белорусский вокзал. Только во двор не заезжай, за квартал где-нибудь остановишься, тихо припаркуешься, а потом пойдем.
* * *
Наталья Болотова сидела за компьютером. В квартире было холодно, почему-то вдруг без предупреждений и без объявлений в подъезде отключили отопление. В квартире сразу же похолодало, и Наталья, проклиная коммунальные службы своего муниципального округа, с чашкой горячего чая, закутавшись в плед, устроилась за компьютером. Прямо перед ней, на белой стене, прилепленные прозрачным скотчем, красовались фотоснимки.
На всех фотографиях в разных ракурсах была снята неоконченная работа Хоботова «Лаокоон», а так же сам скульптор. Время от времени Наталья, сделав глоток чая, посматривала на фотографии, а затем, зло чертыхаясь и грея пальцы о горячую чашку с чаем, принималась быстро набирать на компьютере текст.
Она набирала, затем стирала и писала снова.
Статья, которую она писала, никак не склеивалась.
Она пробовала и так, и этак, но все равно, выходило что-то не то. Ускользало главное, самое важное, и статья получалась вялой, хотя и интересной.
– Что же это такое? – докуривая вторую сигарету, бормотала женщина.
«Но как же так, вроде все правильно. А может быть… – тут же воскликнула Наталья и даже всплеснула в ладоши, – а может, начать с легенды? Сам же Хоботов постоянно твердит одно и то же, словно заведенный, зацикленный, что вокруг всякого произведения должна существовать легенда, как существует ореол вокруг головы святого, как обрамление драгоценного камня. Может, и мне попробовать начать с легенды, с мифа? Но какая легенда, какой миф? Не про древнегреческого же Лаокоона рассказывать. Вот легенды-то я и не вижу, вот она от меня и ускользает, именно она!»
Зазвонил телефон. Наталья зло на него покосилась.
«А ты чего верещишь? Кому это я вдруг понадобилась?»
Оттолкнувшись от стола, она подкатилась на кресле к телефону, сняла трубку. Но сняла небрежно, трубка, выскользнув из озябших пальцев, опять упала на рычаги.
«Вот незадача, день какой-то сегодня невезучий. Все, за что ни берусь, не идет. Пригласил бы кто-нибудь в гости, бросила бы я статью, поговорила бы с умным человеком, может быть, потом все и встало бы на свои места. Может быть.., может быть…»
Телефон вновь зазвонил. На этот раз Наталья осторожно сняла трубку и негромко произнесла:
– Алло! Алло!
– Здравствуй, – услышала она и тут же заволновалась.
– Илларион, ты?
– Я. А ты думала – кто?
– Я, вообще, ничего не думала. Работаю, работаю, но что-то ничего не получается.
– Если не идет, может, лучше оставить?
– Да нет, мне скоро сдавать. Я обещала издателю, что сделаю статью, а потом еще киносценарий на мне висит.., в общем, работы много, больше, чем свободного времени, – Наталья говорила это так, чтобы придать себе больше веса, чтобы показать, она не легкомысленная особа, а человек серьезный и сильно занятой.
– Понятно, – проговорил Илларион, – значит, ты очень занята?
– Как видишь.
– К сожалению, не вижу, – пошутил Забродов, – лишь слышу твое вранье и бахвальство.
– К тому же у меня в квартире чертовски холодно, а калорифер почему-то не работает.
– Калорифер не работает?
– Совсем не греет.
– Я тебе сочувствую. А у меня в квартире тепло.
– Тебе хорошо, – улыбнулась Болотова и почувствовала, ей нестерпимо хочется туда, где тепло. – У меня отопление отключили. Я приехала с улицы, вошла, сперва было нормально. А села работать – пальцы не слушаются, мертвые какие-то.
– А ты пальцами пишешь?
– Не пальцами я пишу – головой.
– Послушай, Наталья, я хотел пригласить тебя к себе в гости.
– Правда? – изумилась Болотова, – или я тебя так разжалобила, как в той песенке: «Шел по улице малютка, посинел и весь продрог…». Ты встретил малютку, пожалел и к себе отогреться пригласил?
– Если хочешь, я за тобой заеду.
– Звонишь из дому?
– От себя.
– Даже не знаю… Хочу немного поработать.
– Но если тебе станет скучно, то приезжай ко мне.
У меня есть свежая рыба, такую в ресторанах не подают. И хорошее белое вино.
– Кстати, Илларион, – пробормотала Болотова, – я ведь и адрес твой не знаю.
Забродов продиктовал адрес и объяснил, что в арку лучше не въезжать, слишком она узка.
– Знаю я эту арку и дом знаю в стиле модерн – памятник архитектуры. Неужели ты в нем живешь?
– В нем, – спокойно сказал Илларион.
– Мне интересно будет посмотреть на дом изнутри.
– Дом замечательный, – сказал Забродов.
– Если я решусь-таки ехать, то обязательно предварительно позвоню.
– Хорошо, договорились.
– А если не смогу, ты уж меня извини.
– Извиняю, – сказал Забродов.
На этом разговор закончился. Болотова положила трубку и улыбнулась, причем улыбка у нее сама собой получилась загадочная и даже соблазнительная.
– Сам позвонил, – произнесла она, – вот молодец! А я-то думала, что я ему абсолютно не интересна.
Так, простое знакомство. Все же позвонил! – и женщина почувствовала, что ей абсолютно скучна работа, неинтересна статья о скульпторе Хоботове. Все его разговоры, страсти – не больше чем поза, они абсолютно бесполезные довески к его творчеству. А жизнь – жизнь прекрасна.
Тем более, что по карнизам барабанила капель, время от времени выглядывало солнце, и его яркие лучи попадали в окно. Наталья Болотова даже щурилась, довольная, как кошка, греющаяся на подоконнике, хотя в квартире было нестерпимо холодно.
«Э, черт подери, – подумала Болотова, – простыну в своей сырости, на собачьем холоде. Простыну и заболею, а тогда мне уже станет не до статьи и не до визита к Иллариону».
А Илларион в это время сидел в кресле и просматривал старую книгу, к которой его руки не прикасались уже несколько лет. Книга только недавно вернулась в дом из подвалов Марата Ивановича Пигулевского.
Ее давным-давно Илларион выменял у известного книгомана, жившего на Цветном бульваре.
Книга называлась «Каббала», была напечатана на английском языке готическим шрифтом. Для кого-то изотерические знания были сущей ерундой, а Иллариона Забродова все это, особенно в последние годы, сильно интересовало, занимало и развлекало. Ему нравилось сравнивать, докапываться до истины. Его удивляло то, какие решения придумывали люди, складывая цифры во всевозможные комбинации, как из слов и цифр получались магические слова и волшебные формулы.
Нет, в колдовство Илларион не верил, слишком практичным человеком он был, слишком много знал о жизни, причем не понаслышке, а на личном опыте постигал философские и физические законы бытия. Но тем не менее книги об оккультных науках его интересовали.
Он сидел в кресле с чашкой чая, уже остывшего, бережно перелистывал пожелтевшие страницы. Время от времени рассматривал текст сквозь увеличительное стекло. На его губах появлялась загадочная улыбка, он шептал слова, словно бы произнеся их, он мог свершить то, о чем мечтал.
А мечтал он и думал сейчас о Болотовой. Она ему нравилась. Нет, чувства, которые он к ней испытывал, нельзя пока было назвать любовью – скорее увлечением, но довольно сильным. Болотова в чем-то была такая же, как он сам. Ее интересовали сложные вещи, она увлекалась философией, искусством, всевозможными теориями, из которых пыталась создавать жизнь, возможно, в чем-то вымышленную, но в чем-то и реальную. Иногда Иллариону было чрезвычайно интересно слушать рассуждения Болотовой об искусстве.
Ее суждения были неординарными, и даже Забродов, человек начитанный и грамотный, поражался тонкости сравнений и оригинальности мышления. Да и как женщина она его интересовала, Болотова была хороша собой. Правда, красота ее была не броской, не яркой, ее красоту можно было сравнить с красотой старого серебра. Она тихо мерцала, поблескивала, иногда улыбалась, и тогда ее лицо преображалось. Глаза начинали испускать свет, и от женщины исходила теплая энергия, настолько сильная, что Илларион физически ощущал ее так, как можно ощущать теплый ветер, внезапно налетевший в тихий двор и зашумевший листвой деревьев, или же как пламя костра, вернее даже не пламя, а жар костра под серебристым сильным пеплом.
«Да, она интересный человек, она замечательная женщина. Но то ли мне нужно? К чему я стремился все эти годы, о чем мечтал?» – задал себе уже в который раз один и тот же вопрос Илларион.
И как всегда ответа, полностью его удовлетворившего, на вопрос Илларион не нашел.
«Я мечтал о спокойствии, о тишине, о любимых вещах, о любимых книгах, о любимых занятиях. Мне осточертела кровь, осточертели приказы, порой настолько глупые и бездарные, что даже голова шла кругом. А порой и толковые. Но, тем не менее, лучше всего, когда не тебе отдают приказы, а ты сам себе отдаешь приказы. Как же впишется в это мое мировоззрение женщина? Для нее не остается места. Переводчица с фарси Марина – другая, она человек системы, в которой мы оба существовали. Может, лучше держаться от Болотовой подальше? Чувства могут сыграть со мной злую шутку. Я могу ошибиться, испорчу жизнь ей, испорчу себе. Нет, нет, Илларион, ты никому ничего не испортишь. Так должно быть. Есть мужчина, рядом с ним – женщина. Это закон природы, и спорить с ним бесполезно. Ты же не извращенец, ты нормальный здоровый мужик, полный сил».
Илларион был погружен в приятные размышления.
Дверной звонок прервал его мысли на самом приятном и интересном. Он недовольно поморщился, и ему почему-то показалось, что, возможно, это под воздействием магических заклинаний на площадке оказалась Болотова.
Он поднялся, бережно отложил книгу, даже не закрыв ее, на страницу опустилась лупа в латунной оправе с костяной ручкой. Илларион заспешил к двери по длинному коридору. Он никогда не спрашивал, кто за дверью, абсолютно не волнуясь и не опасаясь за свою безопасность. Повернул ключ, нажал на ручку, потянул дверь на себя. На площадке было темновато, но он увидел силуэт мужчины и тут же словно пробудился, словно бы очнулся от сладкого забытья, понял, кто это, и мгновенно среагировал. Но было поздно. На дверь навалились, она подалась в квартиру, прижимая Иллариона к стене, к спилу старой липы, из которого торчали три тяжелых ножа. Правой рукой Илларион, даже не глядя, даже не опасаясь, а вернее, не думая о том, что может жестоко порезаться об острое, как бритва, лезвие, выдернул нож.
Двое мужчин уже ввалились в квартиру. Илларион, не произнеся ни слова, успел кулаком правой руки ударить по выключателю. Слава богу, он был рядом, и он смог до него дотянуться. В коридоре погас свет, стало довольно темно и это его спасло.
Громыхнули один выстрел, за ним второй. Илларион едва успел вжаться в узкое пространство между стеной и дверью, а затем сообразил, что стреляли из двустволки, скорее всего, из обреза, ведь с ружьем не очень-то развернешься в узком коридоре.
С невероятной силой, упершись спиной в стену, ногами и руками Илларион с силой отбросил тяжелую дверь от себя. Дверь сшибла рыжего, и он с грохотом покатился вниз. Митяй успел выскочить на площадку.
«Сволочи!» – подумал Илларион, тут же открывая дверь, и не давая опомниться, бросился на пытавшихся ворваться в его квартиру.
Водителя он сбил первым же ударом, причем бил ногой в солнечное сплетение. Бил сильно, не так, как на тренировках со спецназовцами, когда бьешь и боишься покалечить человека, а по-настоящему, как в бою, когда от удара зависит твоя жизнь. Хрустнули ребра, водитель ударился о перила, монтировка выпала из его руки и, грохоча и звеня, запрыгала по ступенькам. Митяй же тем временем переломил стволы, извлек две стреляные гильзы и судорожно вставлял новый патрон.
Рыжий, сбитый дверью, успел подняться на ноги и, поводя из стороны в сторону головой, с ножом поднимался по ступенькам. С лестницы, ведущей на чердак, на Иллариона, не заметив ножа в его руке, бросился еще один из нападавших. И надо сказать, удачно. Он сшиб Иллариона с ног, и Забродов, ударившись об угол, о дверной откос правым плечом, едва успел вскочить на ноги. Тут же рывком он вывернул руку с ножом нападавшему, ударил его ребром ладони по горлу.
Удар получился несильным, правая рука сильно болела, и Забродов понял, что нападающий устоит, что удар оказался слабым. Тут же с разворота, изловчившись в тесном пространстве, он ударил ногой в пах. На этот раз удар получился точный, резкий и сильный, тем более что нападавший не ожидал подобного поворота. От этого удара он даже подлетел в воздух, ноги оторвались от пола. И он еще не успел упасть, как говорится, на четыре точки, когда Илларион второй раз ударил бандита ногой по ребрам.
На этот раз нападавший в кожаной куртке на меховой подстежке кубарем покатился по ступенькам и сшиб второго мужчину. А Митяй уже успел перезарядить обрез. Илларион бросился на него, умудрился перехватить правую руку и начал выворачивать запястье. Митяй был силен, он, понимая, что Илларион сейчас вывернет руку и лишит его оружия, впился зубами в плечо Иллариона.
А Забродов продолжал выворачивать запястье. Захрустел сустав. Указательный палец нажал на курок.
Выстрел грохотом наполнил гулкий подъезд. Где-то хлопнула дверь, на втором или на третьем этаже. Схватка подходила к концу, но пока Забродову предстояло разделаться с Митяем. Если бы не поврежденное правое плечо, то на это хватило бы и десяти секунд. А так правая рука не слушалась, и нож с острым, как бритва лезвием оказался лишним, бесполезным оружием.
– Ах ты, сука! Урод! Мент поганый! – хрипел, подбадривая себя, Митяй.
Забродов медленно заваливал его на перила. И тут возник рыжий. Илларион качнулся в сторону и левой ногой ударил его в грудь. Но и сам Илларион потерял равновесие, Митяй оказался сверху. И Забродову уже ничего не оставалось, как отпустить руку и разведенными пальцами левой руки с силой ударить Митяя в глаза.
Раздался истошный вопль, жуткий, страшный, словно бы ревел зверь, лапа которого попала в железный капкан. Илларион сбросил с себя Митяя, зная наперед, тому понадобится, чтобы прийти в себя, по меньшей мере, минут пять или семь. Ведь он бил по-настоящему, но не так, чтобы выбить глаза, лишь на время выключить нападавшего и ослепить.
И тут же, бросив Митяя, Забродов рванулся к трем оставшимся. Он бил ногами и руками, бил до тех пор, пока все трое не остались лежать на широких ступеньках старинной лестницы. Митяй же сидел и скулил, даже боясь подняться на ноги, понимая, что это может привести к самым жутким последствиям, понимая, что мужик, которого они затеяли убить, может сбросить его с лестницы в широкий проем. И тогда он наверняка сломает себе шею и на всю жизнь останется калекой, таким же инвалидом, как и его кореш, которому принадлежал обрез.
– Ну что, уроды!? – Илларион подошел к Митяю, взял его за волосы и рванул вверх. – Вставай, скотина! Кто вас послал?
– Не убивай! Не убивай! – заверещал Митяй, теряя сознание от боли, ничего перед собой не видя.
– Ах, вот ты как запел!?
Илларион услышал грохот тяжелой обуви, бряцанье оружия. В это время он уже сунул руки Митяя в кованую решетку перил и заломил их так, что Митяю без посторонней помощи вытащить их навряд ли бы удалось. Двое нападавших лежали без сознания, водитель сидел у окна со сломанным носом, весь залитый кровью. Он прижимал руки к лицу, по которому, как из крана, текла горячая яркая кровь…
Омоновцев, по звонку соседей, прибыло шестеро, все они были с короткими автоматами и в масках.
– Стоять! К стене! – крикнул майор, наводя пистолет на Иллариона.
– Спокойно, майор, не горячись, – медленно поворачиваясь к стене, произнес Забродов.
– Стоять, мать твою! Стреляю!
– Не горячись.
Омоновцы, переступая через тела, поднялись на площадку, прижали Иллариона к стене, обыскали. Внизу, на лестничной площадке, да и по всему подъезду, открылись двери и люди вышли на лестницу.
– Документы! Кто такой?
– Илларион Забродов, – тихо сказал хозяин квартиры на последнем этаже.
– Документы есть?
– Есть, майор.
Защелкивались наручники. Забродову тоже защелкнули на запястьях браслеты. Митяй судорожно дернулся, пытаясь вытащить руки из кованых решеток – сержант никак не мог придумать, каким же образом надеть наручники и ему.
– Говоришь, есть документы?
– Это хозяин квартиры, живет он здесь, – сказала женщина с четвертого этажа. – Машина его внизу, во дворе.
– Сейчас разберемся. А вы расходитесь. Кстати, кто нас вызвал?
– Я и вызвала. Услышала, как стреляют, тут же позвонила, – призналась женщина с седыми волосами.
– Кто они такие? – спросил у Иллариона майор ОМОНа.
– Спроси у них сам, майор.
– А ты не груби мне. Документы где?
Два омоновца и майор вошли в квартиру.
– Да у него тут оружие, – увидев ножи, зло осклабился майор ОМОН.
– Да, холодное оружие, – признался Илларион. – Но с документами у меня все в порядке, не волнуйтесь, майор.
– А я и не волнуюсь.
Через пару минут майор ОМОНа просмотрел документы и хмыкнул:
– Да уж, не ожидал.
– Чего не ожидали?
– Не ожидал коллегу, так сказать, встретить. Документы у тебя хорошие, тут уж ничего не скажешь.
Скажу честно, покруче моих.
– Майор, не я их себе выписывал.
– Сидоров, сними с него браслеты.
Сержант отстегнул наручники, Илларион тряхнул руками, затем несколько раз сжал пальцы.
– А на ножики у тебя разрешение есть, капитан?
– Ты как думаешь, майор?
– Думаю есть.
– Правильно думаешь.
– Ас ними что делать?
– Что хотите, то и делайте.
– А чего они хотели?
– Они? – Илларион улыбнулся. – Да, наверное, убить меня хотели.
– Кто стрелял?
– Этот.
Наконец-то два омоновца смогли высвободить руки Митяя и защелкнуть на них наручники. Митяй понемногу приходил в себя, понемногу возвращалось зрение.
Он уже понял, что попал в дерьмовую ситуацию, и теперь ему от тюрьмы не отвертеться.
– Я, капитан, думаю, что этот урод сам вам все расскажет. А я, честно говоря…
– Понимаю, капитан, понимаю. Так вы уверены, что они хотели вас убить?
– Ну а вы как думаете, они что, просто так с обрезом пришли, в потолок пострелять?
– Ну, кто же знает, – пожал широкими плечами майор ОМОНа.
Забродов подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. Была рассечена бровь, темнела ссадина на правой скуле, побаливало плечо.
– Ловко ты их, капитан!
– Не очень ловко. Честно признаться, не ожидал нападения.
– А если бы ожидал? – спросил майор.
– Ну, если бы ожидал… Женщину ждал за дверью увидеть.
И омоновцы вместе с Забродовым расхохотались, причем расхохотались весело.
– Грузите их в машину, спускайтесь вниз, а я немного потолкую, – приказал майор своим подчиненным.
Все жильцы подъезда смотрели, как омоновцы выводят и выносят изувеченных людей. Последним тащили Митяя, который упирался, орал и грязно матерился, проклиная Забродова, омоновцев и свою долбаную жизнь.
На первом этаже он истошно закричал:
– Эх, тюрьма, тюрьма, встречай родного сына!
Илларион хмыкнул.
– Вот, сволочь!
– Грабануть хотели, наверное?
– Да нет, майор, грабанули они меня раньше.
– Как это раньше?
– А вот так, – и Илларион коротко рассказал о том, что произошло совсем недавно. – ., а потом, наверное, подумали, что я заявлю в милицию, и их посадят. А чтобы я не заявил, они решили меня убить. Для них так поступить, кстати, было вполне логично, просто я сам об этом как-то не подумал.
– А надо думать, ведь с такой мразью, капитан, ты связался.
– Я с ними не связывался, это они решили со мной связаться. Думаю, теперь пожалеют.
– Добрый ты не к месту бываешь, капитан. Я бы на твоем месте…
– Да ну, майор, брось. Не хочу я, чтобы кто-то оказался на моем месте. Со своими проблемами я разберусь сам.
– А если бы мы не приехали, что бы ты сделал?
– Сбросил бы их с лестницы, уроды, все-таки.
– Да, капитан, развелось мрази. Ловим, ловим каждый день, а только дело до суда дойдет, тут же адвокаты находятся, юристы.., и вся эта сволота опять гуляет на свободе. Опять бегают, ходят, ездят, жить не дают.
– Так что, майор, предлагаешь убивать их? И адвокатов отменить?
– Я бы, честно признаться, убивал бы их без зазрения совести. И адвокатов к ним не подпускал. Ведь они не люди – отбросы, мразь.
– Ну, я, допустим, так не считаю.
– Ладно, капитан Забродов, в случае чего мы вас вызовем. Будете писать заявление?
– Не буду, – сказал Илларион. – Не хочу я ничего писать.
– Ну, как знаешь. Придется тогда протокол подписать. А в общем ты их отделал здорово, моим ребятам даже возиться не пришлось.
– Не очень здорово, – пошутил Забродов, – можно было и лучше, да вы подоспели.
Когда омоновцы ушли, а майор на прощание пожал руку, Иллариону пришлось заниматься невеселым делом. Довелось убирать лестничную площадку и вытирать лужи крови. Соседка хотела помочь, но Забродов отказался, поблагодарив сердобольную женщину.
– Я-то думала, что вас застрелили. Так громыхнуло, как из пушки! Вот сволочи!
– Сволочи, но, к счастью, не меткие.
– И носит же таких земля!
– Как видите, Елизавета Васильевна, носит.
– Сейчас они получат.
– Вы-то, наверное, зря признавались, что позвонили.
– Да? Вы думаете?
– Не беспокойтесь. Я завтра зайду в управление и надеюсь, все вопросы решу.
– Спасибо большое.
– Вам спасибо, – на этом разговор и закончился.
Лестница была чисто вымыта.
Илларион принял душ, осмотрел ссадины, смазал их и чертыхнулся:
– Такой вечер, мерзавцы, испортили! Хорошо хоть, на лице и на руках следов не осталось.
И тут зазвонил телефон:
– Еду, – сообщила Наталья…
Она уже собиралась, когда телефон в ее квартире ожил, но звонок показался ей каким-то чужим, трубку она не взяла.
«Я поехала, меня уже и дома могло не быть», – тем не менее она все еще возилась.
Хоботов подержал отзывающуюся длинными гудками трубку в руке:
«Сучка, сказала, работать будет, а сама с кем-то поговорила и ушла? Проверим».
Он накинул пальто, кепку, вышел во двор, сел в машину.
Когда Хоботов уже подъезжал к дому Натальи, то увидел ее машину, женщина выворачивала со двора.
Беспричинная злость закипела в душе скульптора.
«Сука, небось трахаться поехала? Работница! А ну-ка, я за тобой увяжусь».
И он поехал следом, в отдалении, так, что бы не мозолить глаза.
Глава 13
Должность инструктора на полигоне ГРУ, которую раньше занимал Забродов, до сих пор оставалась вакантной. Желающих на нее хватало, но одного желания мало, нужно умение. Начальство уже решило, что инструктором станет майор Лев Штурмин, но дело оставалось за малым – чтобы он дал согласие. Его не торопили, Мещерякову еле удавалось сдерживать натиск генералов.
Разговор с ним провели только один – неофициальный, на дне рождения у Забродова.
– Подождите, – говорил Мещеряков, – Штурмин сам решит.
– Поскорее бы! – сетовал генерал Глебов, не без участия которого проводилось большинство диверсионных операций с людьми ГРУ.
Глебов сделал все, что мог. Оформил для Штурмина командировку на два месяца в Таджикистан, и как бы невзначай обмолвился, мол, если согласишься занять пустующее место Забродова, то в командировку пошлем кого-нибудь другого. Сказал и замолчал.
Командировка была опасной. Штурмин нервничал.
Никогда еще так рано его не знакомили с условиями, в которых придется работать – целый месяц дали на размышления. Две недели он ничего не говорил жене о том, что придется уехать. И та, казалось, была счастлива. Но тянуть до бесконечности было невозможно.
Не сделаешь же так – уедешь, а потом позвонишь с недосягаемого расстояния в несколько тысяч километров, поставишь перед фактом. Потом домой можешь не возвращаться, характер жены майор знал, обманывать ее нельзя, характер покруче, чем у любого генерала ГРУ.
Детей жена Штурмина воспитывала в строгости, в такой же строгости держала и мужа. И, на первый взгляд, они были образцовой семьей. Никто не знал, какие страсти кипят за закрытой дверью их квартиры. Майор раз десять в году вспоминал фразу, слышанную им от Забродова, что говорить с упрямой женщиной сложнее, чем штурмовать президентский дворец в Кабуле.
Жена, в отличие от президентских гвардейцев, никогда не сдается, стоит насмерть, и единственный способ сломить ее сопротивление – это уничтожить физически. Но пойти на такое радикальное изменение в личной жизни майор не мог.
Наконец он решился, назначил сам себе дату, когда скажет жене о командировке. Времени для раскачки оставалось два дня, такой люфт давал возможность собраться с силами и решиться. Эти два дня майор Штурмин ходил тише воды, ниже травы. Естественно, делал всю работу по дому. Пропылесосил ковры, починил розетки, поменял прокладки в смесителях. Жена улыбалась, хотя наверняка, как знал Штурмин, заподозрила недоброе. Ведь перед серьезными разговорами майор неизменно начинал мелкий ремонт.
И вот этот день настал. Штурмин не мог думать ни о чем другом, как только о предстоящем разговоре с женой. С утра он обрадовался, что назначил лишь дату, но не назначил точного времени. Он дождался, когда старший сын уйдет в институт, дочь в школу, и сел на кухне. Жена, как назло, затеяла вытирание пыли в комнатах. Позвать ее у Штурмина не хватало духа, хотя в боевых условиях майор всегда рвался вперед, иногда даже этим нарушая устав. Мог первым вскочить в атаку и собственным примером увлечь людей за собой. Он выпил уже столько чая, что почувствовал горечь во рту, язык одеревенел, успел выкурить четвертую сигарету, выбрасывая окурки в форточку.
Наконец он замер. Шуршание щетки, которой жена стирала пыль, приближалось к коридору, и вот он уже мог видеть ее руку со щеткой, которой жена протирала двустворчатую дверь.
– Варвара, иди сюда, – произнес майор и не узнал собственного дрожащего голоса.
Женщина обернулась, внимательно посмотрела на мужа и улыбнулась обезоруживающе:
– Как хорошо, когда ты дома. А я заработалась и даже забыла, казалось мне, что одна.
Варвара прошла на кухню, но и тут нашла себе дело.
Муж ее даже не просил, она сама принялась готовить бутерброды:
– А то все пьешь голый чай.
Она знала, чем можно купить мужа. Штурмин обожал бутерброды с чесноком и сыром. Майор ГРУ сидел, вдыхал запах и проклинал себя за то, что сейчас заставит жену страдать.
– Да погоди ты, не суетись, – сказал он, смотря в стол.
Протянул руку, обнял жену за плечи и усадил себе на колени.
Та продолжала мазать батон маслом.
– Значит так – сказала она, – я вчера с мамой по телефону разговаривала, обещала, что мы приедем на этой неделе.
– Ас чего это вдруг? – почти беззвучно проговорил Штурмин.
– И ты не помнишь? Твоей любимой теще… – женщина произнесла это без всякой иронии, – исполняется шестьдесят пять. Я уже с детьми договорилась, они тоже поедут, так что напомни начальству, пусть припомнят – у тебя есть отгулы.
– Есть, – мрачно проговорил Штурмин.
– Ты вроде бы не рад?
– Еще как рад, – майор покрепче обнял жену и проговорил. – Только я. Варвара, к сожалению, поехать не смогу.
– Опять?
– Да, уже подписаны бумаги, я улетаю в командировку.., в долгую.., длительную.
– Да ты что, один там, что ли? Почему других не посылают, все ты да ты?
– Это тебе только кажется. Все ездят, я не исключение.
– Так я тебе и поверила!
Жена зло сбросила руку мужа с плеча и задумалась, что лучше сделать – скандалить или плакать. То, что муж поедет в командировку, это однозначно, но сдавать позиции без боя она не собиралась, следовало выбрать способ, как его наказать, следовало дать бой.
– Так вот почему ты такой ласковый, столько по дому сделал! Я-то думала, ты наконец за голову взялся, вспомнил, что у тебя есть жена, дети, что их надо растить, кормить, что их предстоит крепко поставить на ноги…
– Все это я помню, – промямлил Штурмин.
А жена вроде бы и не услышала его слов:
– Прости, конечно, меня. Лева, но ты делаешь все, чтобы приблизить собственные похороны, а сам на них даже денег не отложил. Ты, небось, спишь и мечтаешь, как тебя понесут в гробу, а следом подушечки с орденами…
– Подушечки с орденами впереди гроба носят.
– Вот видишь, ты уже об этом думаешь. А все твои полковники и генералы будут стоять, вытирать скупые мужские слезы и.., салют из автоматов. А потом они все забудут и о тебе, и обо мне, и о твоих детях.
Тихо забудут, забудут даже памятник тебе на могилу поставить. Если я им не напомню.
– Нет, это не забудут, у нас не такие люди.
– И не про таких героев забывали, что ты мне рассказываешь!
Женщина уже завелась настолько, что больше не могла сидеть на коленях у мужа. Она вскочила и яростно принялась намазывать остатки масла на остатки батона, хотя бутербродов получилось уже столько, что при всем желании Штурмин не смог бы их съесть.
Единственное, чем семья Штурмина отличалась от семей многих своих коллег, так это тем, что все ножи в его доме были идеально наточены. Наконец, вытерев длинный острый нож о горбушку батона, жена набрала побольше воздуха в легкие.
Взмахнув ножом, словно разрубала невидимую веревку, женщина почти выкрикнула;
– Выбирай одно из двух: или я с детьми, или твоя дурацкая служба!
– Это запрещенный прием, – сказал Штурмин, – ты же знаешь, службу я не брошу.
– Значит, ты хочешь, чтобы все шло как прежде?
Чтобы ты возвращался измочаленный, в дырках, а я зализывала твои раны?
– Варвара…
– Так вот, учти, этого больше не будет! Все, кончено! И если хочешь, я сама сейчас позвоню Мещерякову и скажу, что он последняя свинья. Он мне обещал, что ты уже достаточно пролил крови, чтобы заслужить право каждый день бывать дома.
– Каждый день даже у генералов не получается.
– Ну, хотя бы не каждый день, но что бы ты не ездил в командировки. И не нужны мне дурацкие ордена, не нужна мне звезда Героя России на подушечке – посмертно. Мне нужен ты, живой и здоровый. И кстати, детям нужен отец, ты подумал об этом?
Штурмину в это время приходили в голову слова о том, что его долг – защищать родину, что он сам выбрал такую службу, что Варвара знала, за кого выходит замуж. Но говорить об этом он не рисковал, потому что о долге перед родиной жена могла слушать и не возражать против этого словосочетания лишь на торжественном вечере или на похоронах кого-нибудь из его друзей, боевых товарищей. А таких набиралось немного.
– Ты, наверное, мне хочешь сказать о долге перед родиной? – криво усмехнулась она, сделавшись от этого некрасивой.
Лицо Штурмина пошло пятнами.
– Вижу, вижу, хочешь. Ты уже даже рот открыл.
– Я рот открыл, чтобы бутерброд откусить.
– Уже даже твой бессовестный язык шевельнулся, чтобы говорить о долге перед родиной. А твоя родина – вот она, – женщина обвела рукой кухню. – И дети – твоя родина, и я – твоя родина.
– И твоя мама – моя родина?
– Да. А кто будет огород им сеять? Кто крышу починит?
– Затрахали меня огороды, крыши, – не выдержал Штурмин, – я лучше денег твоей теще дам.
– Какой моей теще? Моей матери? А теща-то она твоя. Думаешь, деньгами откупиться? Много будто ты их зарабатываешь, на жизнь едва хватает! Все твои одноклассники давным-давно людьми стали, а ты? Одна радость, что похоронят за казенный счет. Все за границу ездят отдыхать, а тебя не выпускают, ты не выездной. Даже в Болгарию долбаную и то съездить не можем!
Возразить на это Штурмину было нечего.
– Я уже не могу отказаться, – тихо сказал он, – поздно.
– А ты ни от чего отказаться не можешь, ты человек подневольный. Тебе прикажут меня убить, так ты придешь со службы и каким-нибудь своим приемчиком меня прикончишь. Я же не забыла, как ты соседу руку сломал.
– Ты хоть думай, что говоришь, Варвара, – вяло возразил Штурмин, зная, что в ответ последует новая порция упреков.
– Я уже тридцать пять лет как Варвара, а жизни хорошей не видела.
– Ну, что я могу поделать? Приказали…
– Думаешь, я не знаю, что у тебя есть выбор? – жена с ножом в руках развернулась всем корпусом и посмотрела в глаза мужа.
Ему она казалась сейчас страшной и мощной, хотя на самом-то деле была хрупкой и весила не больше пятидесяти килограммов, такую можно сломать двумя пальцами.
– И что тебе сказали? Кто сказал?
– Мещеряков звонил.
– Сволочь! Так на меня все навалились, просил же тебя не впутывать!
– Это ты сволочь, что до сих пор молчишь. Тебе место хорошее предлагают, может, последний раз в жизни, а ты отказываешься. Хоть дома тебя видеть стану, а то уедешь на три месяца, а то и на полгода, только телефонными звонками изредка и отделываешься. А бывает и того хуже, просишь кого-нибудь позвонить, мол, у тебя возможности до телефона добраться нет. А так под руками будешь, хоть покормлю нормально.
– Ты хотела сказать, не под руками, а под каблуком? – вставил Штурмин, понимая, что по большому счету жена права.
Но и он не хотел сдаваться, не тот характер. Варвара вышла в коридор и вернулась, неся телефонный аппарат, длинный шнур волочился за ней.
– Вот, звони.
– Кому?
– Сейчас же позвонишь Мещерякову и скажешь, что согласен.
– А может, они уже кого взяли? – с надеждой проговорил Штурмин, хотя знал, место Забродова на полигоне ГРУ ждет его.
– Звони при мне, чтобы я все слышала.
– Не стану.
– Тогда я сама позвоню, – и Варвара, сняв трубку, принялась набирать номер.
Не выдержав, Штурмин вырвал у нее трубку и, возможно, положил бы, но его остановил голос Мещерякова, зазвучавший в наушнике.
– Алло!
У того, как знал Штурмин, аппарат с определителем номера, а значит, он будет знать, кто звонил, поймет, что происходило.
– Говори, – шепотом приказала жена.
– Андрей, ты?
– А то кто же, – не к месту засмеялся Мещеряков, этот смех подлил масла в огонь.
– Какого хрена, ты моей жене сказал?
– Не ты, а вы. Я пока еще полковник, – сказал Мещеряков.
– А что бы ты на моем месте делал?
– То, что советует Варвара Станиславовна.
– Сговорились, сволочи, да?
Мещеряков захохотал:
– Сговорились с пользой для дела. Что, Лева, наехала на тебя покруче генералов? Я точно рассчитал, кого на тебя натравить надо. Генерала ты, подумав, послать можешь, а вот жену – никогда.
– И жену могу.
– Пошли. Я же знаю, она сейчас рядом с тобой стоит. Слушаю…
– Не стану.
– Вот видишь! Значит, я могу считать, что ты согласился?
– Не совсем.
Мещеряков сообразил, не хватает совсем немного, чтобы додавить несговорчивого майора, всего лишь одного штриха, и самому ему не справиться, тут без Забродова не обойтись. Тот убеждать умеет, даже без слов, одним своим присутствием, спокойствием, невозмутимостью. А может и рукой возле лица поводить, как тогда в лесу, на дне рождения, и Штурмин почувствует головокружение.., от успехов.
– Небось, после такой встряски у тебя желание выпить появилось?
– Не отказался бы, надо нервы в порядок привести, – Я тебе предлагаю чудесный план. Жене сейчас скажи, что ты согласился.
– Я еще согласия не давал.
– А ты скажи. Если потом передумаешь, всегда можешь соврать, что место уже занято.
– Не умею я так.
– Тогда дай трубку Варваре Станиславовне.
– Не хочу.
– Дай, я приказываю.
– Дома у меня ты не приказываешь.
– Конечно, там у тебя другие приказывают. Так вот и передай трубку генералиссимусу.
Неохотно Штурмин отнял трубку от уха и протянул ее жене:
– Варвара, тебя просят.
– Ну, слушаю, – как показалось Штурмину, ласковым, даже чересчур, голосом проворковала Варвара.
– Не сдается?
– Сдастся, куда денется, – уже зло и твердо сказала Варвара.
– Пара усилий осталась. Думаю, он сломается.
– Он уже дрогнул, трещины пошли.
– Вы, Варвара, честно сказать, молодец, сделали то, что не под силу дюжине генералов.
– Ага, всегда, когда что-нибудь тяжелое, то Варваре делать?
– Ну, не всегда. Я хочу, чтоб вы. Варвара Станиславовна, отпустили Леву часика на четыре…
– А может, на два месяца? – произнесла в трубку женщина.
– Нет, нет, – сказал Мещеряков.
– А если вы подъедете к нам? – предложила Варвара.
– К сожалению, не могу. Да и Лева не обрадуется.
Лучше мы на нейтральной территории коньяка граммов по пятьдесят выпьем и он согласится.
– Знаю я ваши пятьдесят.
– Ну, не пятьдесят, – сказал Мещеряков, – по сто. Идет?
– А что вы со мной торгуетесь, вы ему предложите.
– На это он согласен.
– Ему одно надо – лишь бы из дому уйти, лишь бы меня не видеть!
– Зачем вы так… – Мещеряков понял, что встрял в не очень приятную ситуацию и тут же громко произнес:
– Сейчас, сейчас, полковник, секундочку.., присядьте, – он говорил деловым голосом так, чтобы произвести на Варвару впечатление, хотя сидел в кабинете абсолютно один, даже ноги забросил на край стола. – Дайте, пожалуйста, трубочку вашему супругу.
– На, тебя, – Варвара сунула трубку майору.
Штурмин прижал ее к уху.
– Ну, как там?
– Нормально, – буркнул Штурмин.
– Я, ты знаешь, договорился с ней, она тебя отпускает.
– Куда отпускает?
– Встретимся где-нибудь.
– Где? – спросил Штурмин.
– Ко мне нельзя.
– Что, жена – ехидна?
– Нет, – признался Мещеряков, – теща приехала. Они сейчас с женой разбираются, как детей воспитывать. Давай к Иллариону, он один живет, и думаю, обрадуется.
Штурмину уже было все равно, где и с кем пить, самое главное – уйти хотя бы на пару часов из дому.
Ведь он хорошо знал, что этот накат, эта ссора, скандал – лишь начало, так сказать, первый всплеск, первый толчок большого землетрясения, а за первым должен последовать второй, третий, четвертый. И тогда ему уже небо покажется с овчину, жена выльет на голову все, что накопила за долгие годы. Припомнит мельчайшие подробности, причем, такие, о которых Штурмин даже не подозревает. Вспомнит его друзей, убитых и раненых, вспомнит инвалидные коляски, похороны, цветы, свадьбы, торжественные собрания, вспомнит тещу с ее огородом и дырявой крышей, которую Штурмин чинит каждое лето – в общем, все, что можно.
Память у нее дай бог, даже припомнит болезни детей, случившиеся, когда он был в командировке и защищал родину, отдавая ей священный долг. А слушать это Штурмину не хотелось.
– Я, Варвара, пойду.
– Да, да, – веско сказала Варвара, – и договорись с Мещеряковым, что ты станешь работать инструктором на полигоне и будешь приезжать домой хотя бы три-четыре раза в неделю.
– Но и это не близко.
– А мне все равно. Это ближе, чем Таджикистан или Югославия. Надеюсь, ты меня понял?
– Понял, понял… – пробурчал Штурмин, выбираясь из-за стола.
– Ты бы бутербродов перед пьянкой поел, – миролюбиво сказала Варвара.
– Вот приду и поем. Ты же знаешь, у меня аппетит не до пьянки, а после.
– Знаю. Минералки купить?
– Да, купи.
– Тогда иди.
Штурмин оделся быстро, словно бы у него в запасе, как у солдата новобранца, было всего лишь сорок пять секунд, словно бы дембель с ремнем в руке уже зажег спичку, и если он не уложится в сорок пять секунд, то железная пряжка со звездой обрушится на его спину.
– Куда ты бежишь? – прижавшись плечом к стене, бросила жена. – Словно на пожар летишь. Тебя по тревоге подняли, что ли?
– Я всегда так, – быстро всовывая руки в рукава и застегивая молнию, бросил Штурмин.
– Шарф поправь, – сказала жена, подошла и поправила мужу шарф.
– Брось, не маленький…
– И шапку в руках не носи, это тебе не перчатки, шапка должна быть на голове, – жена, поднявшись на цыпочки и едва дотянувшись до головы мужа, принялась надевать шапку. – Да наклонись ты, вырос до потолка.
– Я всегда такой был.
– Ну, да, это я стала маленькой, ты это хочешь сказать? Тебе, наверное, нравятся другие – толстые и длинные бабы?
– Такого не бывает, – заметил Штурмин, – если толстая, она уже не длинная.
– А я, значит, тебе уже не нравлюсь?
– Ты опять за свое…
– Естественно, за свое. Какого черта я буду за чужое переживать, я только за свое переживаю.
– По-моему, ты перебираешь, – Штурмин боком попытался протиснуться между женой и стенкой, но сделать это оказалось посложнее, чем прожаться между двумя бетонными колоннами.
– Ладно, – Штурмин за локти легко приподнял жену и поцеловал в плотно сомкнутые губы, – чтобы расслабилась, – сказал он.
– С тобой расслабишься. Когда перейдешь на полигон, вот тогда мы и расслабимся.
– Дался тебе этот чертов полигон! Как будто там мед ложками едят.
– Может, и не едят, – со знанием дела произнесла Варвара, – но зато в своих не стреляют и ножами животы не порют.
– Это точно, – хотя Штурмин прекрасно знал, что делается на полигоне, и временами там куда опаснее, чем в горах, где засели враги.
Он не успел прикрыть дверь, как услышал окрик:
– Ключи забыл! Придешь, начнешь греметь, детей разбудишь.
– Словно бы они маленькие.
– Маленькие, – сказала Варвара, – совсем несмышленыши, делают лишь бы что. А тебе с ними позаниматься некогда. Хотя чему ты их научишь? Сам такой. Иди.
– Иду…
Штурмин сжал в руке связку ключей, словно хотел заехать кому-нибудь по роже. Вышел на лестницу, быстро закурил, несколько раз затянулся. Почувствовал облегчение, словно бы стопудовый камень свалился с плеч и не тянет его больше ко дну. А затем, даже не вызывая лифт, побежал по лестнице, перескакивая через несколько ступенек.
На улице он преобразился окончательно. Теперь это был, уверенный в себе мужчина, которому встречные, как правило, уступают дорогу.
Варвара стояла у окна и любовалась своим мужем, какой он большой, сильный, за ним как за каменной стеной. И тут же подумала сама о себе:
«И все же, я счастливая. У многих, вообще, мужей нет, кого поубивали, кто спился. А мой – здоровый, хороший и, главное, не шумный. Никогда слова поперек не скажет, всегда я его побеждаю. А почему? Потому что как только замуж вышла, сразу его на место поставила и слабины ни разу не давала. Вот он и стал у меня таким правильным, все мне завидуют. А как мундир наденет, так, вообще, герой, ходить даже иногда с ним бывает стыдно, все заглядываются. Ладно, пусть выпьет, я своего добилась. Крови попортил, правда, мне, сволочь! Ну, да ничего. Вернется, я ему устрою, я ему еще не все сказала, – Варвара аккуратно сложила бутерброды на большую тарелку, затем прикрыла их второй – поменьше, и сунула на верхнюю полку холодильника. – Придет же, есть захочет. Кстати, надо не забыть купить ему минералки, а то жажда замучит», – и она продолжила уборку.
Вытирала пыль она так спокойно, как будто до этого ничего не произошло, словно и не случилось крутого разговора с мужем, от которого зависело их будущее. Она даже тихонько напевала.
«И откуда только пыль берется? Два раза в неделю влажную уборку делаю, а она появляется. И книг дома немного, и от тряпок шкафы не ломятся, а пыли… – и Варвара провела пальцами по экрану телевизора. На экране осталась диагональная полоса. – Сейчас, сейчас протру», – и она тщательно вытерла экран, нажала кнопку.
Заработал телевизор. Теперь уборка пошла веселее.
Варвара поглядывала на экран, слушала рассеянно.
Шли новости. Политика женщину интересовала лишь в том разрезе, пошлют куда-нибудь мужа или нет. Дебаты в Думе ей давным-давно надоели, кстати, как и всем остальным в России. Смотреть на полусумасшедшего Жириновского ей не хотелось, как не хотелось слушать и рассудительных спикеров обеих палат.
Она пошла сполоснуть тряпку, хоть та и была довольно чистой, а когда вернулась, то в телевизоре тоже произошли перемены. Политические новости кончились и теперь журналист с бесстрастным лицом, но дрожащим голосом рассказывал о криминальных ужасах, творящихся в Москве. Если к заказным убийствам, ко взрывам машин с бизнесменами Варвара привыкла, и эти новости ее не трогали, – как-никак к богатым она себя и мужа причислить не могла, а значит, и подобные ужасы им не грозили, – а вот когда пошел почти безобидный материал о том, как дети отравились обедом в простой московской школе. Варвара Станиславовна отложила тряпку и присела на край кресла. Такое же могло случиться и с ее дочкой.
«Наверное, лучше давать ей обеды с собой», – решила она и уже хотела встать, когда пошли кадры ночной Москвы.
Журналист стоял на тротуаре, вокруг сновали люди, мелькали огни машин. А он, выхваченный из темноты яркой лампой подсветки, взволнованно говорил:
«Совсем недалеко от людного места был обнаружен труп молодого сильного мужчины…».
Тут же показали акведук, такси с открытой дверцей, возле которого ходили криминалисты, что-то измеряли. А журналист продолжал рассказывать о том, что труп в этом месте далеко не первый. Из его рассказа Варвара узнала о том, что в городе завелся маньяк, жертвами которого становятся не девочки-подростки, не мальчики, не старики и даже не женщины, маньяк душит сильных и здоровых мужчин.
Когда пошел блок рекламы. Варвара тут же подумала о сыне. Парень он был хоть и совсем молодой, но видный, сильный. Пошел в отца, а не в нее. А вот дочь, наоборот, хрупкая и стройная, как она. Варвара сына любила больше, чем дочь, а вот отец – наоборот.
«Нужно сказать сыну, чтобы поздно не ходил, – и тут же Варвара усмехнулась, – будто бы он меня послушает. Он уже третий год занимается дзюдо у какого-то приятеля отца. Мужчины так устроены, что никогда не слушаются. Весь в отца сын пошел. Тот тоже, тихий, тихий, а все делает по-своему. Вот же, – спохватилась Варвара, – пыли на телевизоре было столько, что яркость до конца закрутили. Так и кинескоп сгорит».
Присев на корточки, она отрегулировала телевизор и выключила его.
Штурмин стоял на перекрестке неподалеку от мигающего желтого светофора, всматривался в проезжающие мимо машины. Он не знал, на чем сейчас подъедет Мещеряков – то ли на своей машине, то ли на служебной. Как и каждый мужчина, он засматривался на красивых женщин, проходивших мимо, даже сам. того не желая, сравнивал их с женой.
«Да, вот та ничего… – подумал Штурмин, скользя взглядом по стройным ногам молодой девушки. Но тут же спохватился, той было лет чуть больше, чем его дочери. – Вырядилась как проститутка! – со злостью подумал он и тут же переключил внимание на полную молодую женщину в короткой расстегнутой шубке. – Точно, права Варвара, – подумал он, – вот на таких меня тянет. Хотя тянет – не то слово, ведь никогда же не подойду, не заведу разговор. Это только так, в мыслях, могу изменить жене. На самом же деле, сколько лет живем, а никогда не изменял, хотя возможностей было не счесть», – мечтательно подумал Лев Штурмин и самодовольно улыбнулся, словно бы это являлось его большим достоинством, самым главным из всех положительных качеств.
Он радовался, что спокойно способен стоять неподалеку от перекрестка, и соблазны в виде красивых женщин могут проплывать мимо него, а он и шагу не сделает навстречу. Пусть даже ему улыбаются, пусть строят глазки, а он как часовой у полкового знамени – ни разговоров, ни лишнего движения.
Он даже не заметил, как возле него притормозила машина, и в окошко высунулся Андрей Мещеряков:
– Чего стоишь, как столб? Баб красивых разглядываешь?
– Тебя жду, дышу воздухом, – неторопливо Штурмин повернулся и кивнул Мещерякову.
– Садись быстрей, тут стоять нельзя.
– Это тебе нельзя, а мне без машины можно.
Мещеряков приехал на служебной «Волге».
– Чего не на своей приехал? – осведомился Штурмин, забираясь на заднее сиденье.
– Ты же знаешь, когда за рулем, ни грамма не беру. Святой закон, я его блюду, как ты свою верность, – Мещеряков, перегнувшись через спинку сиденья, крепко пожал руку Штурмину.
– А ты позвонил Иллариону? – спросил Штурмин.
– Я наверняка знаю, что он дома. Пусть это станет сюрпризом. Как-никак и Забродов приложил руку к твоему новому назначению.
– Я еще окончательного согласия не давал.
– Дашь, куда ты денешься. Ты как волк, обложенный красными флажками, выбирай из двух одно: или Варвару на тебя напущу, или улетаешь в командировку. А там не сладко.
– Я бы предпочел командировку. Но из нее возвращаться надо, а тогда жена достанет, хуже командования – печенку выгрызет.
– Да, она у тебя хуже душмана.
– Но не хуже тебя, Андрей. По достаче вы с ней примерно равны.
– Спасибо за комплимент. Хотел бы я быть таким, как твоя Варвара. Моя жена твою всегда в пример ставит, мол, вот как надо мужа держать – шаг в сторону – выстрел без предупреждения и наповал.
– Да уж… – хмыкнул Штурмин, с улыбкой вспоминая свою жену.
Он приспустил стекло и закурил.
– Не курил бы ты в машине, к тому же дрянные дешевые сигареты, а? Если хочешь, выброси эту, я тебе свою дам, хорошую.
– Хорошие – это те, к которым привык, – философски заметил Штурмин.
– Так что, сильно Варя на тебя наехала?
– Как танк, – признался Штурмин. – Да что на меня… – он махнул рукой с зажженной сигаретой и пепел упал на ковер.
– Эй, машину сожжешь! – одернул его Мещеряков.
– Не сгорит твоя машина… Она у нас как разойдется, – Штурмин говорил так, словно бы отпускал комплименты жене, – всю семью на уши поставит. И дочка, и сын, и я – все ее боимся. А спроси, из-за чего, так черт его знает! Маленькая, худенькая, голос тихий, но как начнет атаку – хуже атомной войны.
Мы прямо к стенам прижимаемся.
– Что, в укрытие сразу?
– Какие укрытия, от нее нигде не спрячешься, она как нейтронная бомба! Вот сижу сейчас рядом с тобой в машине, вроде от дома далеко, а впечатление такое, будто она мне в затылок смотрит и тихо так шепчет:
«Лева, смотри у меня, доиграешься!».
– То-то ты так мало пьешь. Возьмешь стакан, поднимешь и назад на стол поставишь.
– Да уж, привычка. А вообще-то, я к алкоголю равнодушен.
– Ты и к женщинам равнодушен. Единственное, что тебе нравится, так это пострелять, тут уж ты самозабвенно действуешь, – Мещеряков посмотрел на водителя. – Ты туда не заезжай, машину побьешь. Я на своей фару рассадил, потом бумаги пиши, отчитывайся.
– Получится, – уверенно сказал шофер.
– Нет, не получится. Остановишься перед аркой и в арку не едь. Я тебя потом вызову.
– Хорошо, – кивнул водитель. – А сколько вы будете отсутствовать?
– Часа три. Словом, позвоню, свяжусь с тобой.
– Понял, – сказал водитель, притормаживая возле арки.
– Ну, Лева, пошли.
Мужчины прошли сквозь длинную узкую арку, и Мещеряков, указав рукой, самодовольно хмыкнул:
– Вон стоит его «лэндровер». На такой обшарпанной машине ездит, но сносу ей нет. Что он с ней делает, никак понять не могу! Сколько просил секрет долгоживучести открыть…
– Что, не рассказывает? – пробурчал Штурмин.
– Не рассказывает.
Ни Штурмин, ни Мещеряков, занятые друг другом, не обратили внимание на машину, стоявшую на противоположной стороне. В салоне за рулем сидел бородатый мужчина с длинным шарфом на шее и в кепке, козырек которой был опущен прямо на глаза. На руле лежала развернутая газета. Мужчина читал криминальные новости, одну и ту же заметку – уже раз двадцать. В ней рассказывалось о страшном маньяке, который душит крепких мужчин, а на затылках вырезает кресты.
Временами мужчина ухмылялся, бросал короткие взгляды на прозрачный люк, сквозь стекло которого он наблюдал верхние этажи старого дома, построенного в стиле модерн. Он уже несколько раз видел, как за стеклом появлялся и исчезал силуэт женщины с бокалом в руке. Иногда за стеклом появлялся и мужчина.
Следивший за верхними этажами тоже не заметил появление Мещерякова и Штурмина, ведь машина в арку не заезжала. А мало ли кто может выйти на улице, место людное.
Штурмин и Мещеряков поднялись на верхнюю площадку.
– Он, говорят, ремонт сделал, но я этого ремонта не видел.
В руках у Мещерякова был пакет, в пакете позвякивали друг о друга две бутылки хорошего коньяка.
– Ты будешь звонить? – спросил Штурмин.
– Как звонить, если у него звонка нет, – оглядывая металлическую дверную коробку, пробурчал Мещеряков. – Давай, по телефону позвоним, – он вытащил из кармана пальто трубку мобильного телефона.
– Э, погоди, не надо. Давай, вежливо постучим в дверь.
Но Мещеряков уже успел набрать хорошо знакомый номер, и за дверью послышалось чуть различимое чириканье мобильного телефона. А Штурмин постучал по дверной ручке, собачка замка защелкала. С телефонной трубкой в руке Забродов двинулся к двери, на ходу сообщая невидимому абоненту:
– Погодите, я сейчас открою.
– Открой, – Забродов услышал голос Мещерякова, который доносился и из-за двери, и из трубки.
– Сволочь, первый раз разыграл по-человечески, а то вечно шутит, как школьник младших классов.
Он приоткрыл дверь, придерживая ее ногой.
– Лева, штурмуй! – услышал Забродов голос полковника.
Штурмин навалился на дверь, но та осталась стоять мертво, будто в паркет был вбит толстый лом.
– Незваный гость хуже татарина, – в узкую щель сообщил Забродов. – Кстати, Андрей, телефон выключи, чего аккумулятор садишь.
– Так впустишь нас или нет? Мы к тебе по делу.
– Слышу я ваше дело. В пакете звенит. Заходите.
Дверь открылась, мужчины пожали друг другу руки.
И тут же на лице Мещерякова появилось кислое выражение: из гостиной выглянула Болотова с бокалом в руке:
– Здравствуйте, Наталья.
– Здравствуйте, Андрей, здравствуйте. Лев.
– Здравствуйте, Наталья. Наверное, мы не кстати.
– Да уж, не кстати, – признался Забродов. – Но раз пришли, то входите.
Мужчины переминались с ноги на ногу, еще не успев принять решение.
– Мы тут рядом проходили, вообще-то, не рассчитывали… Но думали, если ты дома, то будешь рад нашему визиту, – говоря это. Мещеряков поглядывал на Наталью, ожидая увидеть либо положительную, либо отрицательную реакцию на лице женщины.
Но та лишь вежливо улыбалась. По обстановке Мещеряков не мог понять, провела ли Наталья здесь ночь, или пришла совсем недавно.
Он тут же подумал:
"Блин, надо было положить руку на капот «лэндровера». Если капот теплый, значит, приехали недавно, а если холодный, как труп, значит, всю ночь тусовались здесь.
– Кстати, мне пора уходить.
– Как это уходить? – услышав такое от Болотовой, забеспокоился Мещеряков, хотя в душе желал, чтобы Наталья ушла. Но потом, он понимал, Забродов съест его живьем за то, что испортил ему времяпрепровождение.
– Значит, так, – сказал Забродов, – или все вместе перекочуем в другое место, или все остаемся.
– Перейдем на нейтральную территорию, – предложил Лев Штурмин, понимая, что это лучший выход.
– Что ж, пойдем, – согласился Забродов. – Ты как, Наталья?
– Я не против.
– Времени у тебя немного есть? – в голосе Забродова звучала просьба.
– Да, конечно, – кивнула Наталья.
– Тогда идем.
– А зачем я это тащил? – Мещеряков встряхнул пакет, в котором звякнули бутылки.
Забродов принял пакет, вытащил одну бутылку, осмотрел, затем вторую.
– Хороший коньяк. Ты, Андрюша, уже и в спиртном начинаешь разбираться, успехи делаешь. Кстати, ты не забыл, что проспорил мне две бутылки хорошего спиртного. Я беру коньяком. Не таскать же их с собой? Не будем же мы пить в ресторане свой коньяк, разливая его по рюмкам под столом?
– Нет, не будем, – с досадой поморщился Мещеряков, – но учти, – тут же нашелся он, – я к тебе приду в гости, и этот коньяк мы выпьем вместе. И Лева придет. Придешь, Лева?
– Если Илларион позовет, то почему бы не прийти?
– По-моему, про меня забыли, – напомнила Наталья.
– Нет, что ты, что ты! Ты – само собой разумеющееся.
Илларион помог надеть Наталье пальто, причем обслужил ее так изящно и быстро, что никто из мужчин даже не успел прикоснуться к одежде.
– Профессионально, как швейцар, – улыбнулся Мещеряков. – Ты так, Штурмин, не умеешь. Пока ты будешь думать, женщина успеет сама одеться.
– Главное участвовать, – пошутила Наталья, – не в процессе одевания, а в процессе раздевания, – произнеся это, она немного покраснела, в конце концов, она не настолько хорошо была знакома с Мещеряковым и Штурминым, чтобы отпускать такие шутки, но присутствие Забродова всегда действовало на нее расслабляюще.
– Ну, что, господа, идем?
– Погоди, я же не посмотрел ремонт.
– Дальше нельзя, – расставил руки Забродов.
– Почему нельзя?
– Потому что нельзя.
Все четверо двинулись вниз. Уже на лестнице Илларион заметил, что Мещеряков осматривает ступеньки.
– Что ищешь? Что потерял?
– Мне уже позвонили.
– Кто позвонил?
– Наши коллеги, так сказать, братья меньшие. Говорят, ты тут дел наворотил.
– Каких дел? – прикидываясь простаком, буркнул Забродов.
Ему не хотелось, чтобы Наталья слышала о его вчерашнем приключении и о драке.
– И что они хотели?
– Уточняли, откуда ты такой шустрый взялся, четверых лбов заломал и у всех увечья. Одному челюсть вывернул, другого чуть без глаз не оставил, третьему горло повредил, а четвертому руку сломал.
– Ладно, Андрей, не шуми, не пугай женщину. Это у нас такие шутки.
– Так вот синяки откуда! – Наталья посмотрела на Забродова.
Наконец ей стало ясно происхождение ссадин и синяков на теле Иллариона. Этим она себя и продала, Мещеряков догадался, что Наталья ночевала у Забродова. Лицо-то Иллариона оставалось чистым.
– Так куда пойдем?
– Здесь недалеко, через полквартала, есть приличное кафе, там и посидим.
Мужчина в машине отложил газету и пригнулся к рулю, словно что-то искал в ящике. Трое мужчин и женщина, весело переговариваясь, двигались по улице. Когда они уже были метрах в сорока, двигатель автомобиля заработал, и машина двинулась вперед. Но ехала она медленно, словно бы в моторе были какие-то неполадки. Проехала немного и стала.
– Ну, вот и наше кафе, – произнес Илларион, останавливаясь у стеклянной двери. – Я здесь иногда обедаю, поэтому отношение ко мне тут дружеское, – он пропустил вперед Наталью, затем вошел сам. – Добрый день, Борис, – обратился он к официанту.
– Добрый, добрый, – сказал тот и улыбнулся. – А вы сегодня не один.
– Да, не один.
– Тогда предлагаю вам самый лучший столик у окна, в углу. Там тепло и уютно.
– Спасибо.
Илларион помог Наталье раздеться, опять же сделал это очень быстро и элегантно, даже швейцар не успел помочь. Затем они все четверо прошли в угол небольшого, но очень уютного зала. Столы устилали льняные темно-синие скатерти, стояли салфетки, продетые в блестящие колечки, на каждом столике – цветы. Когда все уселись, появился все тот же официант и подал меню – одно Иллариону, другое Наталье.
Илларион, даже не читая, передал меню Мещерякову.
– Что у них есть, завсегдатай злачных мест? – спросил полковник.
– У них есть почти все.
– А коньяк хороший?
– Коньяк у них не очень, – честно признался Илларион, – а вот вина хорошие. И водка у них всегда хорошая.
– Что значит всегда хорошая? – улыбнулся Штурмин.
– Всегда хорошая.
– Понятно, – не стал уточнять майор Штурмин, не очень искушенный в сортах спиртного. – Так, может, Илларион, ты сам закажешь?
– Погоди, пусть Наталья выберет то, что ей по Душе.
Болотова посмотрела на мужчин:
– Знаете, я буду пить то, что и вы, если это вино.
Крепче двадцати градусов – не для меня.
– Кстати, у них очень хороший кофе, – сказал Илларион.
Такие тонкости для Штурмина были удивительны.
Для него водка всегда была водкой, кофе всегда кофе.
Он не привык к всевозможным изыскам, и уже в который раз удивился Забродову. Когда надо, Забродов мог быть неприхотливым, мог пить неразбавленный авиационный спирт, лакать воду из следа конского копыта, мог утолить голод змеями, ящерицами, жуками, жабами – в общем, Забродов был абсолютно не брезглив и это качество прививал своим воспитанникам. И в то же время он знал толк в винах, во всевозможных экзотических блюдах, мог легко отличить одну национальную кухню от другой, знал названия фруктов, овощей, сортов кофе, причем настолько мудреные, что для Штурмина они звучали, как термины из высшей математики или из искусствоведения. Слова были звучные, красивые, но абсолютно непонятные.
Мещеряков в этом отношении ушел недалеко от Штурмина, хотя ему довольно часто приходилось бывать на всевозможных светских мероприятиях и, в какой руке держать вилку, а в какой нож, он знал четко.
Но в отличие от Забродова, щипцами для раздавливания панциря омара он не умел пользоваться, они ему напоминали стоматологический инструмент. Забродов же пользовался всеми этими штучками так легко, словно бы ел омаров каждый день, причем с раннего детства.
Иногда Забродов как бы между прочим объяснял Мещерякову, из какого фарфора или стекла изготовлена та или иная чашка, на каком заводе сделана тарелочка. И самое странное, когда Мещеряков пытался уличить друга в ошибке и заглядывал на донышко тарелки, то видел там клеймо фирмы, которую только что называл Забродов. А о книгах Мещеряков с Забродовым даже и говорить не решался. Здесь Илларион мог дать фору в сто очков любому из полковников или генералов ГРУ.
Хоботов, поняв, что компания мужчин вместе с Болотовой, за которой он следил со вчерашнего вечера, надолго устроилась в маленьком кафе, объехал квартал и остановил машину на противоположной стороне улицы – так, чтобы хорошо видеть дверь и заметить, когда вся компания покинет ресторан. Он бы и сам толком не мог объяснить, почему вчера отправился за ней следом, прячась, скрываясь. Проследил ее до самого дома на Малой Грузинской и просидел всю ночь в машине, дожидаясь ее появления, тая в душе злость, словно Болотова была виновна в том, что работа не клеится. Сейчас его больше всего злило то, что Болотова соврала. Он-то услышал от нее, что Наталья всецело занята статьей об его работе, спешит окончить ее, а сама, оказывается, не за компьютером сидит, а развлекается с каким-то мужчиной, явно не принадлежавшем к кругу людей искусства.
Хоботов был человеком импульса. Занявшись чем-то, он уже не мог думать ни о чем другом, это уже превращалось в манию.
"Сволочь! Я бы уже мог работать, а она выбила меня из колеи. Сука похотливая! Работать мне уже совсем не хочется, – Хоботов посмотрел на свои руки, которые подрагивали. – Мне хочется кого-нибудь убить.
И лучше всего его", – Хоботов посмотрел на силуэт Забродова, которого видел сквозь полупрозрачную штору, прикрывавшую кристально чистое окно.
Хоботов облизнулся. Взгляд его скользнул в сторону, он увидел широкие плечи Штурмина, крепкий, коротко стриженый затылок, прижатые к голове уши.
Наталья как раз подавала Штурмину меню. Тот был неповоротлив, протягивая руку, задел вазу с цветами и если бы Забродов не подхватил ее, вода разлилась бы по темно-синей скатерти. Хоботов наблюдал за происходящим в кафе, словно бы смотрел театр теней. Свет от настольной лампы отбрасывал причудливые тени на шторы, Забродов и Штурмин казались огромными, а вот Наталья – совсем маленькой, хрупкой, как девчонка-подросток.
Мужчины заказали себе водку, Наталье – легкое вино. Теперь Хоботов видел на занавесках тени бутылки и графина, словно бы рядом стояли две башни – одна тонкая, вытянутая, готическая, вторая же похожая на русскую колокольню, увенчанную пробкой-луковицей.
«Бутылка с вином похожа на одну из башен собора Гауди в Барселоне», – подумал Хоботов и со сладострастием в очередной раз перечитал заметку о маньяке в газете.
Эта заметка была не первой. Еще несколько газет лежали в ящичке под приборной панелью. Хоботов с ними не расставался и, приезжая в мастерскую, забирал из машины, клал на журнальный столик. Иногда он даже прерывал работу, бросался к газетам, вчитывался, черпал в этих заметках вдохновение и вновь бежал к станку, его руки давили, давили глину, а она вылезала, просачивалась между пальцами как живая плоть.
Сейчас же давить ему было нечего, и он изо всех сил вцепился в баранку. Ему казалось, захоти сейчас, и согнет баранку, превратит ее в эллипс, а если пожелает, вырвет с корнем и всю рулевую колонку.
Присутствие за столом женщины, причем умной, действовало на Мещерякова и Штурмина как лед на больную голову: вроде бы легче, но шею не повернешь.
Третья рюмка сделала свое дело. Глаза мужчин заблестели, посыпались комплименты, разговор за столом оживился. Штурмин уже и забыл, по какому поводу происходит встреча и почему он сейчас сидит в ресторане, а не у себя дома на кухне с любимой Варварой.
Когда же подали салат из жареного картофеля, он вспомнил о жене и, ковырнув вилкой, сказал, обращаясь к Мещерякову:
– Вот ты, Андрей, надо мной подтруниваешь, что я, мол, жену во всем слушаю. Но поверь, моя жена делает этот салат раз в десять вкуснее, пальчики оближешь. Я один могу легко съесть большую тарелку.
– И ты хочешь сказать, что ради картофельного салата можно позволить жене измываться над собой? – отпустил колкость Мещеряков.
– Так она же не со зла, для пользы дела.
– Да-да, для пользы дела.
– Вечно мужчины, как выпьют, – вклинилась в разговор Болотова, – начинают говорить о женщинах. И если бы еще о посторонних, я бы стерпела, но когда за столом начинают оговаривать жен – это невыносимо.
Мещеряков прикусил язык, а Илларион самодовольно улыбнулся. Ему понравилось, как Болотова поставила на место Мещерякова. Он и сам не любил разговоров о женах и детях. В общем-то, семейная жизнь – дело интимное, и втягивать посторонних или даже близких в нее – дело непозволительное. Он пожал руку Болотовой, та в ответ улыбнулась, накалывая на вилку кусочек помидора. Перед ней стоял бокал белого вина, из которого она отпила всего глотка четыре, не больше. Когда хорошо – тогда и спиртное не надо, – этого правила Болотова придерживалась неукоснительно, как пономарь придерживается церковного устава.
– И все же кафе – в любом случае гадость.
– Я понимаю, – заулыбался Илларион, – тебе, Лева, конечно же, больше нравится сидеть возле костра, хлебать спирт из фляги, а когда костер гаснет, лить спирт в огонь и жарить мясо на острие штык-ножа.
– Да, это мне нравится, – признался Штурмин. – Еще люблю прикуривать от уголька. Берешь его двумя пальцами, подуешь, поднесешь к папиросе и слышишь запах огня.
– Как это двумя пальцами? – изумилась Болотова. – Вы что, как и Илларион, можете черпать угли пригоршнями? Я думала, он уникален.
– И я могу, – сказал Мещеряков.
Илларион покосился на друга и сказал:
– Покажи ладонь, – свои положил рядом.
И Штурмин тоже положил свои огромные ручищи на стол. Болотова поддалась общему порыву и пристроила руки. Ее ладони были бледно-розовые, а вот руки Забродова и Штурмина казались загорелыми и с внутренней стороны. Руки Мещерякова хоть и отличались от ладоней Натальи, но не намного. Она даже позволила себе прикоснуться пальцем к ладони Штурмина. Кожа была твердой, как ремень.
– Да, такими руками можно брать уголья. И не только уголья…
Штурмин стыдливо сжал пальцы, и на столе образовалось два огромных кулака, как будто два осьминога, вытащенные из воды, сжали щупальца.
Илларион постучал пальцами по скатерти, как пианист по клавишам, пробуя, как звучит инструмент, а затем, щелкнув зажигалкой, зажег сигарету.
– Андрюша, ты врешь, цену себе набиваешь. Можно я погашу о твою ладонь окурок?
– Лучше о его, – кивнул Мещеряков на кулак Штурмина.
Тот разжал руку. Лев Штурмин делал это немного стыдливо, как ребенок, постоянно отводя глаза в сторону.
– Не буду, не буду. Лева, знаю, что ты даже не скривишься. Тебе хоть гвоздь-сотку в руку вгони, твое лицо останется непроницаемым.
– Нет, гвоздь не хочу, это больно.
– Конечно, больно, – улыбнулся Илларион, ловко подхватывая узкую бутылку и доливая в бокал Болотовой вина.
Одновременно левой рукой взял водку и разлил по рюмкам. Создавалось такое впечатление, что руки действуют самостоятельно, и пожелай Забродов, он сможет писать два разных текста правой и левой рукой.
«Как рычаги у запрограммированного робота», – подумал Мещеряков.
Но Штурмин сказал:
– Илларион, не делай так. Ты же знаешь, водку левой рукой не наливают.
– А, да. Лева, извини. За что выпьем?
– За твою Наталью.
– Я не его, – сказала Болотова, загадочно улыбаясь, – я сама по себе.
– Все равно, за красивую женщину стоит выпить.
Мещеряков рюмкой чокнулся с бокалом Болотовой, который еще стоял на столе. То же самое сделали Штурмин с Забродовым.
– Как я понимаю, он согласен? – продолжил тему службы на полигоне Забродов, глядя на Мещерякова.
– Потом, мы не одни, – сказал Штурмин.
– Не держите вы меня за полную дуру, – произнесла Наталья, – я же понимаю, вы встретились не случайно, у вас какие-то дела, серьезные разговоры. Я могу пойти. Кстати, я уже и так засиделась, у меня работы полным-полно.
– Он согласен, – произнес Мещеряков.
– Я хочу это услышать от него. Лева, как ты?
– Илларион, они меня так приперли к стене, что ни вздохнуть, ни пальцем пошевелить. Деваться некуда.
– Думаю, ты не пожалеешь, хотя хлеб нелегкий, вся работа на нервах.
– Знаю, не новичок.
– Если знаешь, – бросил Мещеряков, – тогда тебе и флаг в руки.
– Ты бы сам, Андрей, с этим флагом походил, узнал бы тогда почем фунт лиха. А то, небось, и норматив скоро не сдашь, толстый стал.
– Ничего не толстый, – обозлился Мещеряков, а Илларион громко засмеялся.
– Толстый, толстый. У тебя даже пальцы на руках от сидячей работы толстыми стали, и задница плоская, как речной камень.
– Ты еще скажи, что у меня на лбу сало наросло.
– Нет, Андрей, на лбу у тебя пока только кость.
– Выпьем и не будем переходить на личности.
– Они всегда так, – сказал Андрей, обращаясь к Наталье, – чуть что, найдут крайнего и, давай, измываться. Это они ради вас стараются, умники этакие.
Понравиться хотят. – Больше не будем. Правда, не будем, Лева?
– Не будем, – согласился Штурмин.
Наконец решение было принято, оставалось лишь произнести короткое слово «да». Но язык пока еще не поворачивался, и Мещеряков, – а он был неплохим психологом, – почувствовав слабину Штурмина, быстро налил ему рюмку водки:
– Выпьем за твое «да».
– Да, – сказал Штурмин.
– Что да?
– Выпьем.
– Ну и разговоры у вас – содержательные, – улыбнулась Болотова.
– Как она скажет, так тому и быть. Соглашаться мне, Наталья?
– Я же. Лев, не ваша жена и даже, честно признаться, не знаю, в чем дело. Но насколько могу судить, они пытаются вас подбить поменять призвание.
– Если быть откровенным, – признался Штурмин, – меня хотят поставить на место Иллариона.
Болотова дважды моргнула, мысленно сравнивая Штурмина с Забродовым. Конечно, плюсов было больше у Забродова, но это лишь на ее взгляд.
– Я бы, наверное, согласилась.
– Почему? – спросил Мещеряков.
– Я думаю, что Илларион на плохом месте не работал бы.
– Вот, в точку! – даже хлопнул в ладоши Мещеряков. – Это самое умное, что я услышал за сегодняшний день. Это самый веский аргумент. Лева, чтобы ты сказал «да». Илларион не дурак, на дерьмовом месте работать не станет.
– Перестань, Андрей, дерьма я за свою жизнь разгребал столько, что тебе и не снилось. Ты-то видишь одну верхушку айсберга, блестящую, в искорках снега и льда, а я знаю подводную часть – грязную, липкую, изъеденную рытвинами. Это как днище у корабля, там столько всего налипло, что даже счистить невозможно.
– Кстати, об айсбергах, господа. Вы знаете, где можно взять самую чистую воду?
– В каком смысле, чистую? – Мещеряков посмотрел на бутылку минералки.
– Самую чистую воду на планете Земля.
Илларион, конечно же, ответ знал. Штурмин втянул голову в плечи, как ученик, врасплох застигнутый учителем, причем вопрос был из домашнего задания.
Илларион хмыкнул.
– Мещеряков, Наталья и подсказку дала.
– Наверное.., из айсберга.
– Да, из айсберга. До этого японцы додумались.
Они отлавливают айсберг и буксируют его к берегу. А затем распиливают и растапливают на воду. Вода чистейшая.
– А вы пробовали?
– Да, меня один японский художник угощал. Она стоит дороже водки и дороже вина.
– И как на вкус?
– Вода, – сказала Наталья, причем произнесла слово так, что все прямо-таки почувствовали во рту вкус холодной ключевой воды.
Официант подошел и спросил:
– Подавать горячее?
– Я как-то и забыл, – изумился Забродов, – что мы сидим в кафе, настолько нам здесь хорошо.
– Спасибо, – ответил официант. – Так горячее все-таки подавать?
– Да, неси, Борис.
– Будет сделано.
Воцарилась пауза, какая всегда возникает при смене блюд, словно бы новое блюдо послужит новой темой для разговора. Это как в театре: при смене декораций меняется и смысл сцены.
И тут, в наступившей тишине запищал телефон в кармане пиджака Мещерякова. Наталья от неожиданности вздрогнула.
– Ну вот, все как дома, даже телефон под рукой.
Извините, – Мещеряков поднялся и с трубкой отошел в угол зала – туда, где никто не мог помешать ему разговаривать.
Наталья видела, как меняется лицо Андрея. До этого веселый, даже бесшабашный, он вдруг стал сосредоточенным. Лицо подобралось, напряглось, улыбка исчезла с губ, словно бы ее стерли салфеткой.
Болотова подумала:
"Интересно все-таки, сколько я ни наблюдаю за людьми, беседующими по телефону, замечаю, что они не могут избавиться от привычки жестикулировать, будто бы говорящий видит их, а вот Андрей лишь говорит, даже мимика лица его не выдает. А слышу только его короткие «да», «понял», «нет».
Наконец он захлопнул крышечку, зло опустил трубку в карман и, посмотрев на часы, подошел к столу.
– Извините, я думаю, мне придется вас оставить.
– Что-то случилось? – спросила Наталья и тут же осеклась, поняв, что раз Забродов и Штурмин ничего не спрашивают, значит, и задавать вопросы бессмысленно.
– Пока толком не знаю, но ехать должен.
– Надолго? – спросил Забродов.
– Вернуться уже не успею. Так что догуливайте без меня, – и он сунул руку во внутренний карман пиджака. – Может вам нужны деньги?
– С какой стати?
– Ну, как же, я все-таки спровоцировал встречу, из-за меня вы сидите здесь.
– Успокойся, Андрей, в следующий раз заплатишь за всех, а мы постараемся наесть и напить на максимально возможную сумму.
– Договорились, – наконец-то улыбнулся Мещеряков.
И тут Наталья тоже глянула на часы. Ей-то думалось, что сидят они всего лишь минут сорок, ну, от силы час, а как оказалось, они сидели в кафе уже два с половиной часа, и поняла, что опаздывает. Ей не хотелось никому портить настроение своим уходом, но работа есть работа.
– Извините, и мне идти нужно, я совсем засиделась, о времени забыла.
– Вот те на! – Забродов откинулся на спинку мягкого дивана и с укором посмотрел на друзей. – В кои веки выберешься из дому, и тут же у всех появляются дела, проблемы.
– Стоянка такси недалеко? – Наталья забрасывала в сумочку сигареты, зажигалку.
– Такси редко пользуюсь. Я провожу.
– А вам куда? – спросил Мещеряков.
– С тобой ей не по дороге, – сказал Илларион.
– Подожди, тебя не спрашивают. Вам куда?
Оказалось, что Мещеряков может подвезти Наталью, не изменив при этом маршрута.
– Вот и женщину увели, – вздохнул Забродов, провожая взглядом Андрея и Наталью, идущих к двери.
Хоботов, сидевший в машине на другой стороне улицы, тут же втянул голову в плечи, когда увидел, что дверь в кафе открылась. Он увидел Наталью и какого-то мужчину вместе с ней.
«Стерва, уже с другим!»
Но потом, бросив короткий взгляд на Болотову, понял, ее и спутника связывает малое.
«Скорее всего, спешит куда-то по делам», – решил Хоботов.
Мужчина, вышедший из кафе с Болотовой, даже не поднял руку, даже не посмотрел в сторону, но тут же к крыльцу подкатила черная «Волга», сверкающая лаком, с тонированными стеклами и с двумя антеннами спецсвязи на крыше.
«Начальство какое-то…» – Хоботов проследил взглядом за Мещеряковым, который открыл заднюю дверь, помогая даме сесть, а затем обошел машину и сам сел на переднее сиденье.
«Точно, они не вместе. Если бы было по-другому, сидели бы рядом на заднем сиденье», – решил Хоботов.
Черная «Волга» сорвалась с места и исчезла за поворотом.
Глава 14
Леонид Хоботов подавил в себе желание поехать следом. Он ощутил, что несколько охладел к Болотовой.
Теперь его куда больше привлекали те двое, которые остались за столиком у самого окна.
«Она сама ко мне придет. Она же на мне и славу, и деньги зарабатывает, без меня она никто».
К столику почти беззвучно подъехала двухэтажная каталка, на которой стояли горячие блюда.
– Борис, ты извини, конечно, у нас все расстроилось. Наш друг и дама покинули компанию, остались мы вдвоем. Нам только две порции.
– Ничего страшного, не волнуйтесь, вот за тем столиком только что заказали такое же блюдо, как и вы. Думаю, они будут только рады, что заказ исполнен так быстро.
– Что ж, хоть кому-то этим расставанием мы доставили радость, – грустно усмехнулся Забродов, наливая в рюмки водку.
Пить вместе уже не хотелось ни ему, ни Штурмину.
Лев Штурмин хоть и уважал Забродова, но всегда чувствовал его превосходство, а потому становился молчалив. Вот если бы рядом сидел кто-то еще, тогда другое дело, а Забродов, сам не желая этого, подавлял его.
– Ты, Лев, правильно сделал, что согласился. В командировки тебе все равно придется ездить, от этого никуда не убежишь, но реже. Жена довольна будет.
– Если бы не жена, то честно тебе скажу, на твое место не пошел бы.
– Зря. Когда пробудешь на полигоне с месяц, войдешь во вкус, почувствуешь – это твое. Тебе понравится.
– Если бы, – Штурмин, не отрываясь, смотрел на полную рюмку водки и вращал ее в пальцах, – Мужик ты опытный, именно это и нужно.
– Не умею я жить, как ты, Илларион. Хотел бы, да не получается. Вот если бы после какой-нибудь бездари пошел инструктором, то – с легкой душой. А тебя все вспоминать станут, со мной сравнивать, а я до тебя не дотягиваю.
– Прибедняешься, Лев. Меня же все чудаком считают.
– Нет, что ты, Илларион!
– Я же знаю, за моей спиной иногда пальцем у виска покрутят, забывают, что у каждого своя жизнь, свои методы. Ты, небось, тоже недоумеваешь, мол, зачем мне книжки, которые дома уже ставить некуда, зачем мне знакомства с антикварами?
– Честно сказать, всегда этому удивлялся.
– Ну, так вот. Лев, придешь на мое место, и станут тебя со мной сравнивать. У тебя-то никаких порочащих увлечений нет, за твоей спиной никто пальцем у виска крутить не станет.
– В нашей конторе порочащих увлечений ни у кого нет, на службу бы не брали.
– Это точно.
– Я же вижу, Илларион, не хочется тебе сейчас со мной сидеть, вид у тебя, словно на поминках.
– Брось, Лев, – не очень-то убежденно произнес Забродов и постарался улыбнуться.
Но Штурмин сам, будучи правдивым, чувствовал фальшь и у других.
– Тебе одному побыть хочется, так ведь?
– Да, – согласился Забродов.
– И мне хочется. Зачем друг друга мучить? Выпьем по рюмке, доедим и двинемся отсюда, каждый в свою сторону.
– Наверное, ты прав, – согласился Забродов.
Они чокнулись, но выпили не до дна, лишь по маленькому глотку.
Забродов сидел и думал:
"В самом деле, Штурмину стоит побыть одному.
Принял он решение, можно сказать, сгоряча, под давлением. Теперь должен свыкнуться с ним, взвесить все «за» и «против», понять, что его жизнь меняется к лучшему. И мешать ему в этом не стоит".
Затем он исподтишка глянул на Штурмина и приметил, тот не спешит есть.
"Ага, скорее всего, жена отпустила его до самого позднего вечера, и теперь ему не хочется, как дураку, прийти засветло. А куда он пойдет? Пригласить к себе?
Так это вновь сидеть и молчать, смотреть друг на друга. Он может и здесь посидеть. Выпивка есть, закуски тоже хватает".
– Знаешь, Лева, если появятся какие-нибудь вопросы, приходи, расскажу, помогу. Если надо, приеду сам, проконсультирую. А теперь.., приятного тебе аппетита, – он хлопнул по плечу Штурмина.
– Спасибо, Илларион.
В отличие от Мещерякова, у Штурмина не было комплексов. Он не полез за деньгами, когда Забродов рассчитывался с официантом, знал, что у Иллариона семьи нет, в быту он аскетичен, деньгами не дорожит.
А вставь слово, мол, заплачу, обидится.
– Счастливо, – Забродов, уже подходя к двери, взбросил руку, сжав ее в кулак.
Такой же жест сделал и Штурмин, причем быстро, механически. Это была не рисовка на публику. И Забродов, и Штурмин могли бы общаться жестами, находясь в километре друг от друга, рассматривая собеседника в бинокль. Они бы могли долго беседовать одними жестами, мимикой, как глухонемые. Иногда Штурмин удивлялся этому. Такому общению никто не учил, оно приходило с опытом само, и почти все, прошедшие спецназ ГРУ, участвовавшие в боевых операциях, владели этим искусством.
Пройдя мимо окна, Забродов еще раз напомнил о себе, стукнув в толстое витринное стекло костяшками пальцев и широко улыбнувшись Штурмину. Тот поднял рюмку и подмигнул Иллариону, мол, за твое здоровье.
На том и расстались.
" Забродов не стал заходить домой, ему захотелось пройтись, прогуляться по улицам, дать хоть какую-то нагрузку ногам, потому как сегодня зарядки его лишила Болотова. А секс, хоть и отнимает много энергии, но он не зарядка, не работа, а удовольствие, как считал Забродов. И он пружинистой походкой двинулся по улице, минуя один квартал за другим.
Штурмин, отхлебнув маленький глоток водки, вновь поставил рюмку на стол. Пить одному не хотелось.
«Не алкоголик же я какой-нибудь! Хотя Варвара и уверена, что я пьяница. Но говорит она так потому, что никогда настоящих пьяниц не видела. Ей со мной повезло, всегда домой сам приходил, никогда ей меня в постель укладывать не приходилось. Сам раздевался, сам умывался. И утром никогда на головную боль не жаловался. Единственная слабость, так это после пьянки с утра на минералку тянет, целый литр выпить надо, чтобы в норму придти. А интересно, вода из айсберга лучше помогает, чем минералка?»
Лев Штурмин посмотрел на пустые места возле себя, где совсем недавно сидели его друзья. О Забродове и Мещерякове он вспомнил с теплотой, а вот Наталью, хоть она ему и понравилась, сразу после ее ухода невзлюбил.
"Забродову везет. Красивых баб с собой водит, и до сих пор не женился. Мало того, что красивые, так еще и умные. Про чистую воду, про айсберги знают… А вот толку с такой бабы, кроме разговоров, наверное, никакого. Она точно, ни черта готовить не умеет, в отличие от моей Варвары, разве что яичницу. А моя Варвара из ничего ужин приготовить может. Бывало, придешь, друзей с собой приведешь, кажется, дома ни черта нет, а она через пятнадцать минут, глядь, полный стол накрыла! И откуда что берется, из дому же не выходила!
Она у меня волшебница, добрая волшебница. Интересно получается… – рассуждал Штурмин, сидя за столом, – когда жены нет, думаю о ней с теплотой, слова хорошие придумываю, а приду домой – язык словно к небу прилип, или того хуже, не удержусь, какую-нибудь гадость да скажу".
Официант убрал пустую посуду, но на столе еще оставалось много закуски. Да и водки в графине было почти до половины. Штурмин, поняв, что теперь рисоваться ему не перед кем, расстегнул верхнюю пуговицу и поудобнее устроился на мягком диване.
"Музыку включили бы, что ли, – подумал он, но не стал напрягать официанта. – Все, делать больше нечего. Согласие я дал, не станешь же слово назад забирать.
Побуду Забродовым. Правда, из меня такого инструктора, как он, не получится. Он – ас, а я кто? Начнут сравнивать – и не в мою пользу. – И тут же он нашел положительное в таком раскладе. – Значит, появится стимул к росту".
И он уже увидел себя в мыслях на полигоне ГРУ перед строем новичков, которых предстоит научить уму-разуму, сделать из них настоящих бойцов, вложить в них все то, что известно ему самому.
Штурмин сидел с рюмкой водки в руке, от которой отпил глоток, его мысли были далеко. Они то кружились вокруг полигона, то вдруг оказывались в Таджикистане или в Югославии, в общем, там, где он побывал в последние год или два. Единственное, что его радовало, – он до сих пор жив, его не зарезали и не убили, не сбросили в пропасть, а бог дал ему возможность вернуться в Москву. Он сидел и улыбался.
– Извини, браток, можно присесть? А то за другими столиками компании.., несимпатичные.
Штурмин вернулся на землю и огляделся. И в самом деле, кафе уже заполнили люди и только его стол, рассчитанный на шесть персон, был занят с одного утла. Перед ним стоял широкоплечий бородатый мужчина в твидовом пиджаке поверх свитера. Длинные волосы, борода, огромные руки лежали на синей льняной скатерти. Мужчина опирался о край стола.
– Я ненадолго. Кофе выпить, съесть чего-нибудь…
– Кому ты помешаешь? Садись, – легко Штурмин назвал незнакомца на «ты».
По комплекции они были схожи, по годам ровесники, но короткая стрижка и длинные седоватые волосы кардинально меняли первое впечатление от них. А в остальном сходство было разительное. Если бы Лев Штурмин отпустил длинную шевелюру и недели две не брился, он бы наверняка был похож на Хоботова как родной брат.
Подошел Борис и хотел возмутиться, предложить новому посетителю устроиться где-нибудь в другом месте, ведь как-никак, Штурмин был знакомым Забродова, и именно Илларион оставил его здесь, за своим столом.
– Я не против приютить его здесь, – спокойно сказал Лев.
Официант пожал плечами:
– Что желаете?
Заказав кофе и салат. Хоботов посмотрел на Штурмина. Тот поглядывал на рюмку с водкой.
– Я бы тоже с удовольствием выпил.
– Так в чем проблема? Выпей, – сказал Штурмин и, взяв чистую рюмку, двинул ее к собеседнику.
– Нет-нет, я за рулем.
– А жаль, – сказал Штурмин, – сидел с друзьями, а они вдруг разбежались. Случается и так… Словно ветер налетел, подхватил их, а я остался один. Сижу, как дурак, в кафе, а в графине еще…
– Вижу, вижу, понимаю, – Хоботов крякнул.
Тут же взял сигарету и закурил. Закурил и Штурмин, вернее, он раздавил в хрустальной пепельнице предыдущий окурок, еще тлевший, прикурил новый.
– Отмечали?
– Давно не виделись.
– Понятно. А у меня.., вот.., неприятности, – сказал Хоботов, – работа застопорилась, и ни туда, ни сюда. Бьюсь над ней как рыба об лед, и ничего не выходит.
– Что за работа? – безо всякого интереса осведомился Штурмин.
– Скульптор я.
– Скульптор? – удивился Лев.
Такие профессии, как художник, скульптор, музыкант раньше существовали за кругом интересов Штурмина. А тут такой день случился, сперва искусствовед Болотова умные вещи говорила, затем скульптора занесло и, судя по всему, мужик он толковый, сильный.
А силу в мужчинах Штурмин уважал, наверное, больше, чем какие-либо другие качества. Это и расположило его к Хоботову.
– А что ты такое делаешь? Памятник, что ли, на могилу?
Хоботов сидел, и его пальцы, словно кусок пластилина, сминали и разминали толстую жестяную пробку от напитка.
– Одну работу пообещал. А надгробия я не делаю, это то же самое, что музыканту на похоронах играть. Лабух какой-нибудь согласится, а настоящий мастер – нет.
– Почему?
– Так заведено. Вообще-то, ты" наверное, спортсмен? Тренер, да?
– В общем-то, да, – признался Штурмин, хотя сказал это довольно уклончиво, могло быть и так, и эдак.
– Смотрю, мужик ты сильный.
– Чем-чем, а силой, бог не обидел.
Официант принес кофе и салат. Хоботов ел с аппетитом, а Штурмин выпил рюмку водки. Теперь она пошла легко, ведь как-никак, появилась компания.
Говорить можно было вполне откровенно о делах житейских, настолько откровенно, как говорят попутчики в поезде, которые понимают, что эта встреча единственная и больше никогда не повторится, что жизненная дорога их свела. Волей случая они оказались в одном вагоне, в одном купе, а дорога их разведет. Они сойдут на разных станциях и уже никогда в жизни не встретятся и вскоре о встрече забудут. А вот душу в разговоре облегчат. Только постороннему человеку можно легко раскрыться и выплеснуть все то, о чем ни друзьям, ни близким не расскажешь.
И Штурмин как-то сам того не примечая, может, согретый алкоголем, а может, сильно перенервничал, не успел как следует выговориться с друзьями, рассказал Хоботову о многом. Естественно, он умолчал о том, кто он, где работает, в каком звании служат, и кто те, с кем он сидел за одним столом. С другой стороны, он вполне мог говорить и о них, потому как скульптор со звучным именем Леонид их не видел и, скорее всего, больше никогда не увидит.
– Так вот, все хотят, чтобы я занял должность и взялся учить молодых. А я, честно говоря, боюсь. Ответственность просто зверская, вдруг, что не так, кто будет отвечать? И не перед начальством, не подумай, не перед ним. Я начальства никогда не боялся и не. боюсь, тяжелее – перед собой.
Хоботов участливо кивал, а его руки с сильными толстыми пальцами и короткими ногтями уже разорвали пробку на четыре части, и теперь он шуршал острыми железками, перекатывая их в ладони, как ребенок перекатывает гладкие морские камешки, отполированные прибоем.
– Наверное, правильно. У меня тоже самое, хотя и с другой стороны.., но все проблемы в жизни схожи.
Если работать холодными руками, без охоты, без переживаний, без сердца, а одним умом, то ни хрена не получается. Глина холодная, мрамор мертвый. Ты вот правильно говоришь, настолько мертвый, что надгробие напоминает. А если с душой, с нервами, тогда все живое. Сейчас я одну штуку делаю, никому еще не показывал, вещь тяжелая… Бьюсь, бьюсь… И вот, уже кажется, вот, он, вот он, конец уже вижу, а на утро гляну – все не то. И опять ломаю.
– А что ты хоть делаешь?
– Это словами не расскажешь. Это надо видеть.
Если бы скульптуру или картину можно было рассказать словами, то на хрен они кому были нужны! В музее одни таблички болтались бы: «Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику» или «Геракл», «Давид» – такие таблички и висели бы. А люди деньги платят за то, чтобы скульптуры смотреть, не таблички читать.
– Справедливо говоришь, хоть и путано.
– Вот я, – заговорил Хоботов, положив кулаки на стол и подавшись вперед, – я сразу вижу – где с душой сделано, с нервами, а где – халтура, за голые деньги. Ненавижу все эти памятники вождям, колхозницам, крестьянкам, пролетариям, царям – это такая дребедень, такая вонь, что я даже на улицу выхожу, голову не поднимаю. Как увижу такой памятник, так мне кувалду хочется взять и голову ему отбить.
– У меня тоже иногда такое желание возникает.
Когда вижу, кто-то что-то плохо делает.., тоже, знаешь ли, не за деньги работаю…
– Но платят-то тебе хоть хорошо? – спросил Хоботов.
– Какое там хорошо! Но на жизнь хватает, не жалуюсь. А жене все мало. Ну, да это ее дело, бабское, а у меня работа мужская, как и у тебя. Люблю мастеров, кто душу в свою работу вкладывает.
– Слушай, поехали ко мне, я тут совсем недалеко живу. Поговорим с тобой, ты мне душу разбередил.., и так выпить захотелось.
– Пей.
– Я же на машине, – напомнил скульптор, – здесь не бросишь, стоянки нет.
– Недалеко живешь?
– Двадцать минут на тачке, там у меня мастерская.
Кстати, ты был когда-нибудь в мастерской у скульптора?
– Никогда не был, – признался Штурмин. – Был только в мастерских, где надгробия делают, своим родителям заказывал и друзьям.
– Тогда поехали. За тебя рассчитаться?
– Брось, Леонид, за все, как говорится, уплачено.
– Уплачено, заплачено, – скаламбурил Хоботов, – если что, деньги есть. И выпивки у меня в мастерской хватает. Поехали.
Штурмин, ничуть не стесняясь, хотел собрать отбивные в салфетку, но Хоботов его остановил:
– Погоди, – и подозвал официанта. – Послушай, любезный, нам с собой закуски какой-нибудь сделай.
Запакуй и это, пожалуйста.
– Нет вопросов, – сказал официант.
Как ему показалось, и бородатый вполне может оказаться знакомым Забродова, а обижать постоянного клиента ему не хотелось.
– Пару минут подождите. Спиртное нужно?
– Этого у нас хватает, – широким жестом предупредил желание официанта скульптор.
Через пять минут с большим бумажным пакетом, теплым на ощупь. Хоботов и Штурмин садились в машину. Та даже качнулась, когда два силача заняли переднее сиденье. Ехали, как обещал Хоботов, недолго.
Вскоре машина свернула во двор мастерской.
Когда Лев Штурмин переступил порог, то его поразил сам объем здания. Он никак не мог поверить, что огромное помещение, по величине сопоставимое с небольшим спортзалом, занимает только один человек.
И это даже не его квартира, а лишь мастерская, куда он приходит работать, под настроение.
– Красиво у тебя, – с искренним восхищением, когда зажегся свет, пробормотал Штурмин. – А потолок действительно стеклянный? – майор ГРУ стоял посреди мастерской, запрокинув голову и глядя на угасающее небо.
– Да, стеклянный.
– А дверь у тебя большая, машина въехать может?
– На то и рассчитано, чтобы скульптуру вывезти"
Не станешь же ее по частям распиливать?
Штурмин осторожно присел на кожаный диван. Он-то ожидал приехать в какой-нибудь грязный подвал, где мебелью служат старые стулья да лавки, он ожидал увидеть стол, сколоченный из грубых досок, а здесь все дышало изяществом и, в то же время, мощью. Полки стеллажей настланы из дубового бруса, стойки покрашены в черный цвет, пол – из широких сосновых досок, покрыт лаком и подметен до зеркального блеска. В середине мастерской стоял станок, на котором высилась скульптура, накрытая уже подсохшей мешковиной.
Прежде чем доставать спиртное, Леонид Хоботов взял пульверизатор и сбрызнул мешковину.
– Чего ты? – спросил Штурмин.
– Нельзя, чтобы глина высыхала, а то скульптура растрескается.
Штурмину хоть и не терпелось посмотреть на скульптуру, но он не торопил Хоботова. Нужно будет, сам покажет.
– Ну, что, сперва посмотришь, над чем мучусь, а потом выпьем – или наоборот?
– Покажи сначала, – Штурмин поднялся и шагнул к станку.
– Стой здесь, ближе не подходя. Скульптуру сперва издали смотреть надо, потом подойдешь, когда первое впечатление получишь, – и Хоботов одним рывком ловко сдернул мокрую мешковину, она, как приспущенное знамя, тяжело легла на пол.
Штурмин ожидал увидеть что-нибудь привычное – обнаженную женщину, которую в мыслях уже называл «голой бабой», русалку, дельфина, ну, в конце концов, лошадь. Но то, что предстало перед его взором, было неожиданным и в то же время немного знакомым. Он никак не мог припомнить, где видел подобное, не совсем такое, но все же близкое – трое сильных мужчин и гигантская змея.
– Ну, что скажешь? – Хоботов присел, откинув край пальто, на валик дивана.
Штурмин не спешил говорить. Прищурившись, обошел скульптуру со всех сторон.
– Где-то я видел похожую, только где, черт его знает!
– Когда? – тут же спросил скульптор.
– Наверное, в школе, а может, в музее, когда на экскурсию водили, а может, когда учился в…
– Это «Лаокоон», – веско сказал Хоботов.
Слово тоже сидело где-то в подсознании, вбитое туда навечно.
– Ла-о-коон? – по слогам проговаривая лишенное смысла слово, произнес Штурмин. – Пусть себе и Лаокоон. Но ты же сам говорил, что табличка – дело десятое? Все-таки здорово, есть жизнь.
– Что, поражает?
– Поражает. У меня аж под ложечкой засосало.
Знаешь, я смерть не раз видел – есть она в твоей скульптуре! Это вот.., как связанный, рвешься, рвешься, а вырваться не можешь. И понимаешь, что вырваться не удастся, а рвешься. Потому как человек хитро устроен, он, и умирая, стремится быть свободным, стремится выжить.
– И выпить стремится, – внезапно весело сказал Хоботов. – Твое мнение для меня дороже всех статей. Ты не специалист. Если тебя проняло, то и других достанет.
– Такое достанет, это уж точно. Не ожидал.
– А что ты ждал увидеть?
– А… – махнул рукой и усмехнулся Штурмин, – думал баба голая будет или конь.
– С яйцами блестящими, что ли?
– Пусть себе и с яйцами. А тут ты, конечно… Уважаю, – произнес Штурмин настолько искренне и обезоруживающе, что Хоботов не смог скрыть улыбку.
Такая реакция ему и была нужна. Но как всякий мастер, он понимал, работа еще не окончена, и слишком много разговаривать о ней нельзя, вредно, как и смотреть на нее.
– Я ее еще не закончил.
– А что здесь заканчивать?
– Много, много работы. Начать всегда проще, чем завершить. Это тяжело, – размахивал руками Хоботов, – очень тяжело, поверь мне. Помоги накрыть.
Они вдвоем подняли тяжелую мешковину, и под руководством Хоботова аккуратно, чтобы не повредить скульптуру, спрятали ее под влажной тканью.
– Помоем руки и за стол. Выпьем. Хороший у меня сегодня вечер.
– У меня тоже вроде бы ничего, – признался Штурмин, – как-никак, решение принято.
– И правильно сделал, – поддержал его Хоботов, – хотя и не понял толком, на что ты там согласился. Детей тренировать, что ли?
Они вдвоем, стоя плечом к плечу, помыли руки.
Если бы кто-то смотрел на них со спины, то наверняка бы заметил, что Штурмин на полголовы выше Хоботова, а вот в плечах они примерно одинаковы.
Помыв руки, Штурмин вышел в мастерскую, сел на валик дивана и увидел у ног кусок скрученной арматуры – той, которую завязал Хоботов. Вышел и Хоботов, с подвохом посмотрел на Штурмина, который вертел в руках, разглядывая с разных сторон рифленый прут толщиной в палец.
– Это что такое? Головоломка?
– Как-то со злости скрутил его в бараний рог. Бывает иногда такое…
– Можно? – спросил Штурмин.
– Что можно?
– Развязать.
– Если сможешь, то попробуй.
У Льва Штурмина даже жилы вздулись на короткой шее, когда он разгибал прут.
Наконец он выдохнул:
– Вот, вроде ровный.
– Ты смотри, разогнул! Из моих знакомых этого бы никто не сделал. Слабые.
– А ты сам откуда, кстати? – спросил Штурмин.
– Родом? Так я с Волги, так сказать, потомок бурлаков.
– С Волги? Так и я же с Волги. Вот откуда у нас сила, земляк. Ну, давай пить будем.
Выбор был в баре богатый. Но Штурмин всем напиткам предпочитал водку. Водка была в литровой граненой бутылке. Они распаковали то, что завернул им заботливый официант, разложили на журнальном столике, поставили два простых стакана. И Штурмин, сам не зная, почему, скорее всего, поддавшись азарту соревнования с Хоботовым, выпил сразу целый стакан, причем сразу, на одном дыхании. Хоботов тут же налил еще. Уступать Штурмину не хотелось, особенно после того, как он сумел развязать железный узел, завязанный скульптором.
Закусили, закурили. Посмотрели друг на друга.
– А ты силен. Ты на самом деле тренер? И чему ты учишь?
– Всему, – сказал Штурмин. – Учу людей выживать.
– В смысле?
– Не деньги зарабатывать учу, а выживать в экстремальных условиях. И убивать учу.
– Чтобы учить, надо самому уметь. Я правильно кумекаю?
– Правильно, – кивнул Штурмин, ему все больше и больше нравился этот здоровенный бородач, говоривший без экивоков, напрямую, причем все, что приходило в голову.
– А тебе-то самому убивать приходилось?
– Хороший вопрос, – сказал Штурмин. – А ты как думаешь?
– Если учишь, то, наверное, и сам умеешь?
– Вот ты и ответил за меня.
– Многих убил?
– Лучше не спрашивай, все равно не отвечу, потому, как не считал.
–А я знаю, скольких убил.
–Ты? – и Штурмин улыбнулся. – Что, тоже повоевать пришлось, в Афгане, небось?
– Не совсем там. Лучше не спрашивай, – почти повторив фразу Штурмина не ответил на вопрос Хоботов.
Мужчины с еще большим уважением посмотрели друг на друга.
– Выпьем, чтобы не убивать?
– Давай, – сказал Хоботов немного ледяным с металлическими нотками голосом и налил по полному стакану.
– Леонид, не гони коней. Я-то выпить много могу, но зачем?
– И я могу выпить много, – сказал Хоботов, – меня никто пьяным никогда не видел, под заборами не валяюсь.
– И меня тоже.
Мужчины незаметно для себя перешли ту черту, за которой начинается пропасть, и стаканы идут мелкими пташечками, не застревая в горле и не раздражая слизистую. Жидкость просто вливается, а как глотается, не замечаешь.
– Ты не будешь против, – сказал Штурмин, – если еще бутылку из твоих запасов возьмем?
– Бери хоть все. Для того и стоят, чтобы с хорошим человеком выпить.
– Один, случается, пьешь? – спросил Штурмин.
– Случается и пью. Иногда так заработаюсь, что потом не уснуть, и самое лучшее снотворное – стакан водки или виски.
– Виски?
– Виски я люблю, – мечтательно проговорил Хоботов" – и ты мне этот напиток не порочь.
– Самогонка самая настоящая, я пробовал.
– Ты его плохо распробовал, – сказал скульптор и полез в бар, загремев бутылками.
Искал рьяно, но оказалось, что есть водка, есть коньяк, есть вино, а виски нет – только пустые бутылки.
Штурмин рассмеялся:
– Ищешь как алкоголик заначку с утра – рьяно.
– Нет, гостя хочу угостить. У меня целый ящик стоит, я оптом закупаю. Сейчас, – и он отправился в комнатку, служившую кабинетом.
Из-за письменного стола он вытащил запечатанный картонный ящик и тут же разорвал его, именно разорвал, а не распаковал. Взял две бутылки, как бы взвешивая их в руках и прикидывая, сможет ли уговорить полтора литра. Решил, что вдвоем – смогут.
Когда Хоботов вышел к Штурмину, то увидел того сидящим с газетой в руках. Газеты лежали на нижней полке журнального столика. Скульптор тут же остановился, с его лица смело улыбку. Штурмин читал отчерченную маркером заметку из раздела криминальной хроники, в которой говорилось о маньяке, душившем сильных мужчин. Было там сказано о слесаре и о таксисте.
– Вот оно, виски – благородный напиток. Шотландский, отличный, сейчас попробуешь, – Хоботов выдернул газету из рук Штурмина и бросил ее на диван. А затем, высоко держа бутылку, стал наливать в стаканы.
* * *
Маша Хоботова добралась до мастерской отца на автобусе. Те деньги, которые он дал ей в прошлый раз, девушка истратила очень быстро. Она купила себе ботинки, а матери перчатки. Остальные ушли неизвестно куда – испарились: на кофе, на вино, на сигареты.
И теперь она нуждалась в улучшении финансового положения, то есть в подпитке. А так как деньги ей взять было негде, кроме как у отца, то она и приехала к его мастерской. Уже издали Маша увидела свет в окнах и даже обрадовалась.
«Работает папашка, денежки зарабатывает. А когда папашка работает, он не пристает с расспросами, сунет денежку и вытолкнет в дверь».
Особо любезничать с отцом ей не хотелось, все-таки разные они были люди, и если говорили больше десяти минут, то обязательно ссорились. Уже приготовив радостную улыбку для встречи с отцом, она подошла к двери. Но затем любопытство взяло верх, и Маша заглянула в окно, уцепившись пальцами за край жестяного карниза.
– Вот же, черт! – сказала Маша. – А отец-то не один, и не с женщиной.
«Если бы с женщиной, дело решилось бы просто: вошла, получила деньги и тут же, чтобы не мешать, удалилась».
А отец мало того, что был не один, так еще пил свой любимый напиток – виски. Маша знала, в такой момент лучше ему под руки не соваться, денег не получишь, а нагоняй устроит по полной программе, припомнит все. А этого девчонка не любила.
– Вроде, много уже выпили, – глядя на стол, пробормотала она и посмотрела на циферблат огромных наручных часов, где не было ни одной цифры, а только стрелки.
«Денег на пару чашек кофе у меня хватит. Пойду, потусуюсь в какой-нибудь кафешке или барчике, а потом вернусь».
И она, развернувшись, перепрыгивая через лужи, через грязные шумящие ручьи выбралась из двора.
«Будь ты неладен, папашка, только ботинки из-за тебя перепачкала! А шузы классные, сто пятьдесят баксов отдала. Таких ни у кого нет в классе, только у меня, да еще у Катьки похожие. Правда, ее – сотку стоят, а Катька врет, что двести. Я то цену ее шузам знаю, а она – моим».
Маша добралась до первого попавшегося барчика, но что-то он ей не понравился. Слишком уж много было там народа, слишком много небритых здоровенных парней в турецких куртках, от которых, как знала Маша, пахнет сырой или даже мокрой кожей. Она нашла другой барчик, метрах в ста пятидесяти от первого, там народу было поменьше. Она вошла, осмотрелась. Затем, улучив момент, когда мужчина слез с высокого табурета и направился в туалет, забралась на его место и постучала по барной стойке.
Подошел бармен:
– Вам чего?
– Добрый вечер, – буркнула Маша. – Мне спички.
– И все?
– Еще кофе, – буркнула девушка и, вытащив из кармана пачку сигарет, быстро прикурила.
Когда мужчина в сером плаще вернулся с мокрыми руками из туалета, его место оказалось занято. На табурете сидела худощавая девчонка.
– Это… – начал мужчина.
– Что это? – буркнула Маша. – Чего пристаешь?
Я не съемная.
– Место мое.
– Твое место? Где табличка, папаша, что место это твое?
– Какая табличка?
– А, да ты колхозник, не знаешь, что табличку надо ставить, мол, пошел в туалет пописать, место не занимать.
Мужик смутился. Такого он от девчонки-переростка не ожидал услышать. К тому же посетители уже обращали на них внимание.
А Маша, чувствуя себя в центре внимания, раздухарилась еще больше.
– Ходят такие… Маньяк ты, наверное, сексуальный!
Девочку увидел, и с мокрыми руками к ней лезет. Руки бы вытер! Или тебе носовой платок дать? Своего, небось, нет.
Мужик зло заворчал и сунул руки в карманы. Еще пару секунд, пару резких фраз, и он как цепной пес бросился бы на эту девчонку. Но вокруг захохотали.
Поведение девчонки посетителям бара понравилось.
– Платок покажи, батя, – послышался голос из угла. – Покажи!
– Пошли вы все! Вот молодежь!
Мужчина взял портфель, стоявший у высокого табурета, сунул его под мышку и быстро ретировался.
– Где мой кофе? – громко, голосом победителя крикнула Маша.
– Несу, несу, не кричи, не на вокзале! Это там можно шуметь и выпендриваться, а здесь веди себя прилично.
– Так я же ничего, просто дед ко мне клеиться начал, а лысые пескоструйщики не в моем вкусе.
– Какие в твоем вкусе? – бармен подвинул чашку с дымящимся кофе.
– Да вот такие, как ты, мне нравятся, в белых рубашках и с бабочками.
– Ну, спасибо, – бармен подобрел, ив не ожидал услышать комплимент. – Может, тебе сахару бросить?
– С сахаром я не пью, – щелкнув языком, сказала Маша, – сахар – белая смерть.
– Колеса, извини, не подаю.
– А мне колеса и не нужны, я не наркотка.
– Но кофе – это наркотик, – напомнил бармен, – легкий, но наркотик.
– А мне легкий и нужен, надо немного возбудиться. У меня сейчас разговор готовится с моим папашкой, ой, какой не простой.
– Успеха тебе. Он сюда придет, что ли?
– Еще не хватало! Если б он сюда пришел, он бы здесь все разворотил как бульдозер, мол, почему ребенку курить разрешаешь и коньяк в кофе льешь.
– Я тебе коньяк не лил.
– Это мне понятно, что ты не лил. А он скажет!
Тогда доказывай, что ты не лысый.
Бармен понял, лучше прекратить любезничать с обозленной девчонкой.
«Вот, стерва малолетняя! Злющая, как змея подколодная, которой на хвост наступили. Фыркает, шипит, того и гляди, в бедро зубами вопьется!»
Бармен взял сигарету, повертел ее в пальцах, причем повертел так ловко, как художник вертит карандаш, положил на место. Курить ему не хотелось.
А Маша пила кофе. Наконец чашка оказалась пустой, и девчонка перевернула ее вверх дном, а затем семь раз звонко щелкнула пальцами. Подняла чашку резко и принялась рассматривать черное пятно гущи, образовавшееся на тарелочке. Она вертела его и так, и этак, силясь понять, на что оно похоже.
– Иди сюда, – позвала она бармена, – смотри, что это?
– По-моему, гуща кофейная.
– Я и без тебя знаю, что гуща кофейная. На что она похожа?
– На клубок какой-то.
– Какой еще клубок? Где ты видел клубок с ногами?
– Тогда.., на паука.
– На паука похоже. А ты знаешь, к чему паук?
– Что я тебе, астролог или цыган, чтобы разгадывать твои ребусы?
– Но ты, как профессиональный бармен, должен делать это легко, играючи.
Бармен еще раз скосил глаза:
– Паук, и все.
– А медведя видишь?
– Какого медведя?
– Не белого, естественно, а бурого. А может, и гризли, хрен его знает. Но я вижу медведя.
– Где?
Маша провела пальцем:
– Вот он, из-за тебя все испортила. Точно, был медведь. Паук – он к доброй вести, а медведь… Не знаю, к чему, но, наверное, к деньгам. Так что из-за тебя я кучу денег потеряла.
– Хочешь сказать, за кофе платить не станешь?
– Нет, за кофе заплачу. За удовольствие платить надо, это первая заповедь.
– Чья?
– Моя, – сказала Маша.
– А я думал…
– Мне плевать, что ты думал, – Маша положила деньги, раздавила окурок о смазанную кофейную кляксу, теперь уже напоминавшую только клубок, и, легко спрыгнув с табурета, ушла из кафе.
«Наверное, гость уже свалил, папашка один, вот тут я его и возьму тепленького. Пусть раскошеливается, нечего жмотом быть. Ушел из семьи, оставил дочь.» пусть теперь подпитывает, если не духовно, то хоть финансово".
Она вошла во двор мастерской. В окнах горел свет.
Маша решила заглянуть, ушел ли гость. Мужчины сидели и, судя по лицу отца, было понятно, он изрядно пьян и не в духе. Одна бутылка виски уже стояла у ножки журнального столика, вторая на столе – пустая наполовину.
"Вот бы вас сейчас ментам сдать, пьяниц несчастных! Но они только уличных пьяниц забирают… Вроде бы виски вам осталось с полбутылки выпить, пойду еще чашку кофе опрокину, полюбезничаю с барменом.
Парень он ничего, мне такие нравятся. Не наглый".
На чашку кофе денег еще хватало. Она направилась уже знакомым маршрутом и через дверь увидела, что ее место не занято.
"Словно я табличку повесила: «Место не занимать, ушла в туалет!» – самодовольно подумала Маша.
А в это время Леонид Хоботов согнул прут арматуры в скобу, сделав его похожим на букву "Г", и стоял, опираясь на него, как на клюку.
– Да врешь ты все, Леня, – говорил Штурмин, даже не оборачиваясь к Хоботову, – навыдумывал всякой ерунды. Поменьше газет читать надо.
– Да точно я тебе говорю, это все про меня написано.
– А может, про меня? У меня тоже руки сильные.
– Нет, это не про тебя, про тебя еще напишут. Я их всех задушил.
Штурмин засмеялся, по-детски, беззлобно. Наконец он понял, что крепче Хоботова, хоть и начал раньше, смог-таки его перепить, если тот несет околесину.
– Проспишься, тебе с утра стыдно станет, что такой хренотени мне наговорил. Нашел чем хвастаться, будто ты маньяк, людей душишь, и кресты на затылках вырезаешь! – Штурмин наколол на вилку холодную телятину, макнул ее в горчицу и, держа вилку в руке, как священник держит свечу, сказал:
– Все это бред, Леонид. Ни одному слову твоему не верю. Выдумки творческого человека – вот что это.
– Я говорю тебе, следующая заметка в газетах о тебе будет!
Штурмин неторопливо повернулся. В голосе Хоботова что-то показалось ему подозрительным – словно скульптор мгновенно протрезвел. Лев Штурмин посмотрел на кусочек мяса, неровно испачканный в горчицу.
И в это время Хоботов бросился на него, держа прут как пику. Стальная рифленая проволока, срезанная сваркой под углом, вошла Льву Штурмину в левую сторону груди. Не задев сердце, острие вышло, разорвав ткань пиджака, чуть выше диванного валика. Вилка застряла во рту Штурмина.
Хоботов громко захохотал, прутом опрокидывая майора на пол. Штурмин хрипел, силясь что-то сказать, а Хоботов уже вцепился ему в горло. Единственное, что успел сделать Штурмин, так это ударить вилкой Хоботова в плечо. Но что такое вилка по сравнению с сильными пальцами, могучими, как слесарные тиски, сошедшимися на шее!
– Ну, что, теперь веришь? Веришь? – выкрикивал Хоботов.
Глаза Штурмина закатились, язык вывалился изо рта. Он несколько раз дернулся, наконец, замер.
– Ну, вот, все. Я тебя задушил, я сильнее тебя!
Хоботов бросился к окнам и задернул в мастерской все шторы. Затем выдернул прут и обшарил у мертвого карманы. Он нашел портмоне, в котором лежали деньги и документ с фотографией, с печатью.
– Майор ГРУ? – Хоботов повертел головой, словно бы отгоняя назойливую муху. – Ничего себе! А я-то думал, чего ты такой здоровый. Так ты оказывается, в самом деле убийца, профессиональный убийца!
А я всего лишь любитель, и смог тебя завалить. Мне даже работать захотелось. Правда, с тобой предстоит развязаться как можно скорее. Дождаться ночи и вывезти отсюда. А завтра тебя найдут. Остался последний росчерк.
Хоботов взял нож, которым совсем недавно резал мясо, и вырезал на затылке Штурмина большой крест.
Крови уже натекло изрядно, и Хоботову пришлось повозиться. Он завернул тело Штурмина в толстый целлофан, перевязал веревкой, затем открыл яму, в которой хранилась глина, и подумал:
«Черт, возни много – доставать, если я его туда затолкаю, весит он немало. Лучше, под стеллаж».
Он вытащил пару скульптур и засунул мертвого Штурмина под стеллаж. Затем поставил скульптуры и задернул шторы. Протер шваброй пол. Подошел к столу и выпил несколько глотков виски. А затем сбросил свитер. Оставшись в майке и джинсах, принялся лепить. Руки стали послушными, пальцы не делали лишних движений, они приближали шедевр к завершению.
«Ну, ну, еще немного», – шептал скульптор, когда дверь открылась, и он краем глаза увидел на пороге дочь.
– Тебе чего?
– Привет, добрый вечер. Ты один?
– Один.
На столе стояли бутылки, два стакана.
– Видишь, я работаю?
– Вижу.
Хоботов развернул станок так, чтобы дочь не видела, над чем он работает.
– Тебе деньги нужны?
– Ага, – сказала Маша.
– Возьми в моем пиджаке, во внутреннем кармане.
– Сколько можно взять?
– Сколько совесть позволяет.
Маша подошла, запустила руку в карман. Там было триста долларов шестью купюрами по пятьдесят.
– Если я половину возьму, не обидишься?
– Возьми две сотни и проваливай, я работаю.
– Слушаюсь, папа, – Маша быстро покинула мастерскую, удивившись щедрости отца.
«Даже не вспомнил, что несколько дней назад уже финансово подпитывал оставленную семью. Странный он какой-то, но, наверное, не от доброты. А может, денег у него куры не клюют, вот и дал. Все равно, деньги не пахнут», – и Маша, перепрыгивая через лужи и ручьи, на этот раз не боясь запачкать свои новые шузы, побежала к стоянке такси. Но тут же подумала:
– Деньги-то надо обменять на российские, деревянные, родные, так сказать. Эх, была бы мелочь зеленая.., жаль, не стрельнула у него и рублей, дал бы точно. А что все деньги не взяла, это правильно. Возьми я все, он наверняка запомнил бы, а так заработается, забудет и подумает, что истратил. Глаза то у него сейчас, как у сумасшедшего, огнем горят – одержимый.
После трех часов за полночь Хоботов неохотно бросил работу.
Глава 15
Полковник Уголовного розыска Владимир Петрович Сорокин вернулся домой во втором часу ночи с сильнейшей головной болью. Жена и дети уже спали. Он тихо пробрался в квартиру, аппетита не было.
«Да, надо выпить таблетку, и лучше но одну, а сразу две. Чертов Удав! – запивая таблетки холодной водой из стеклянного графина, подумал полковник Сорокин. – Из-за тебя ни днем, ни ночью нет покоя. Экспертизы, десятки версий, разговоры, встречи с психиатрами, проверка психлечебниц, прогнозирование возможных жертв – словом, непрерывная, бесконечная, тяжелая работа. Надо выспаться.., хотя бы часов до восьми, а то и до девяти».
Владимир Петрович принял душ, но головная боль не прошла, виски ломило, как после тяжелого похмелья.
«Господи, да что это такое! Выпить еще воды? Может, и усну».
Пришлось вернуться на кухню, включить электрочайник. Затем Владимир Петрович выпил стакан кипяченой воды и тихо прошел в спальню.
Жена приоткрыла глаза:
– Чего так поздно? – задала она избитый будничный вопрос, которым почти каждый день встречала мужа.
– Чего, чего… Можно подумать, ты не знаешь?
Спи, работы много.
– Ox, и работа же у тебя!
– Да, работа, – сказал муж, положил на прикроватную тумбочку телефон, натянул до подбородка одеяло.
Ему показалось, что в спальне жарко. Поднялся, приоткрыл форточку.
– Холодно, – услышал он голос жены, раздраженный и злой.
– Спи, спи.
«Холодно ей, жарко, а у меня голова кругом идет».
– Голова болит? – на этот раз участливо спросила жена.
– Да.
– Работа у тебя дурацкая, вот она у тебя и болит чуть ли не каждый день. Покажись врачу.
– Я и без врача знаю от чего: сигареты, кофе и никакого отдыха, никакой разгрузки.
– Вот и покажись врачу, – жена повернулась на бок, отворачиваясь от мужа. – И свет погаси.
– Ага, – сказал Владимир Петрович, дергая шнурок настольной лампы.
В спальне стало темно. Владимир Петрович еще некоторое время лежал, глядя на белый потолок, расчерченный голубоватыми тенями.
«Надо уснуть как можно скорее! – улыбнулся, – ну и дурацкий же совет я себе дал!»
Головная боль понемногу начала проходить. И тут же в голове опять начали бешено крутиться версии.
«Нет-нет, не надо об этом думать! Не надо! – сам себе приказал полковник Сорокин. – Завтра будет день, завтра я и подумаю. Кстати, что-то давно Удав не преподносил сюрпризов. Давненько».
У опытного сыщика проснулась уверенность, что в ближайшие несколько дней должна появиться очередная жертва. Полковник и сам не мог понять, чем обусловлено это предположение, ведь каких-то явных предпосылок не существовало. Но у него появилось твердое убеждение, что именно в ближайшие дни, возможно, в конце недели, появится еще один труп со зловещим крестом на затылке.
«Раз, два, раз, два…»
Полковник попытался представить быстро бегущую реку с кристально чистой водой, натянутую как струна леску, которая эту воду режет, и крупную рыбу, серебристо поблескивающую боками в переливах стремительно изменчивой воды. Рыбу надо вытаскивать, но, как назло, забарахлила катушка спиннинга – не проворачивается.
– Черт побери, – уже засыпая, пробормотал полковник Сорокин, – да крутись же ты, крутись!
Катушка начала вращаться, леска натянулась еще сильнее, удилище изогнулось, и тут же леска безжизненно провисла. Спиннинг стал легким, а катушка закрутилась с бешеной скоростью.
«Вот и все. Ушла. Ну, и, слава богу. Она была такая большая, сильная и красивая, что пусть себе плывет».
А потом милицейскому полковнику стали сниться камыши, серые облака над рыжим жнивьем, птицы и вода – много прозрачной воды, в которой отражаются камыши, небо, летающие птицы, и в глубине воды проносятся стремительные, как торпеды, с темными спинами и острыми плавниками рыбы.
Владимир Петрович Сорокин в высоких рыбацких сапогах брел по вымоченной дождем траве, и на душе было легко. Бандиты, садисты, маньяки остались в другом мире, в мире людей, "сложном, жутком. А во сне струилась река, холодил чистый воздух, во всем царила ясность, гармония и умиротворение.
"Дойду до излучины, – во сне решил Владимир Петрович, – и там, возле ивы, попытаюсь порыбачить.
Там обязательно должна быть рыба, я ее поймаю, обязательно".
Он перешел через маленький ручей, забрался на пригорок. Трава везде была не примята, лишь за его спиной вдоль берега извилистой реки оставался темноватый след. Вот и ивы, их серебристо-зеленые вершины уже показались над камышом.
«Туда, туда, скорее! Что это такое? Какой странный звук… Что это за птица? – во сне подумал Владимир Петрович. – Никогда такой не слышал здесь, на реке. О, да это же не птица!» – и тут же догадался, что это звонит на прикроватной тумбочке сотовый телефон, пищит настойчиво, требовательно и, самое главное, абсолютно безразлично к спящему и видящему прекрасные сны полковнику и его супруге.
Не открывая глаз, Сорокин нащупал трубку, нажал кнопку и левой рукой дернул шнурок настольной лампы – в спальне было все еще темно. На часы Владимир Петрович пока еще не посмотрел.
– Алло, слушаю, – усталым голосом произнес он в трубку.
– Владимир Петрович, вы?
– А то кто же! Ты, Борщевский?
– Я, Владимир Петрович.
– Ну, чего там? Какого черта! – наконец Владимир Петрович разглядел циферблат настенных часов.
Было шесть с небольшим. В узкой щели между шторами чуть-чуть серел рассвет.
– Владимир Петрович, у акведука обнаружили…
– Обнаружили-таки?
– То же, что и в прошлый раз.
– В машине? – уже холодея, спросил полковник Сорокин.
– Нет, не в машине, возле сугроба, внизу.
– Возле сугроба.".
– Да, в грязи. А лужа немного подмерзла.
– Кто обнаружил?
– Две женщины, на электричку спешили.
– Задержали их? Откуда звонишь, Борщевский?
– Я уже на месте, за вами выслал машину. Минуть через пять-восемь будет у подъезда.
– Хорошо.
– Чего ж хорошего…
– Бригада выехала?
– Они уже на месте, разворачиваются.
– Никого не подпускай, я выезжаю.
– Есть, Владимир Петрович.
– Чего ж хорошего, капитан, поспать не дали. Лег в два, а сейчас всего лишь шесть. Вот так всегда.
Жена тоже проснулась, села на кровати.
– Очень торопишься?
– Да, очень, – сказал Владимир Петрович, кулаками протирая глаза с тяжеленными, словно свинцовыми, веками.
Затем Сорокин тряхнул головой, сбрасывая дремоту, от которой никак не мог избавиться.
– Я тебе сейчас кофе приготовлю, Володя.
– Приготовь. А я быстро умоюсь, да немного побреюсь. Кстати, дома сигареты есть?
– Есть. Я целый блок вчера купила.
– Вот за это хвалю, молодец. Только тихо, детей не буди.
– Хорошо.
Детьми в их доме считались трое – двадцатипятилетний сын с женой и внуком, которому было три с половиной. Наспех выпив чашку крепкого кофе и даже не успев побриться, полковник сбежал с четвертого этажа во двор, где стояла черная «Волга». Он забрался на переднее сиденье.
– Что, поспать не дали, Владимир Петрович? – осведомился дежурный водитель.
– Не дали, Витя, будь они неладны. Прикончит. бы всех бандитов, вывезти их куда-нибудь в карьер и засыпать бульдозером живьем. И сровнять, чтобы осталось ровное поле.
– Много же вывозить придется, Владимир Петрович, такого карьера не найти.
– Хватило бы, тысяч пять, Витя, вывезти бы, а тогда и другим стало бы не повадно.
– Сталин, Владимир Петрович, уже вывез поболей пяти тысяч, а толку?
– Да, ты прав, наверное, парень, толку с этого мало.
Профилактикой правонарушений заниматься надо, – как-то вяло ответил полковник, понимая, что эти слова – всего лишь дежурная фраза и ни к чему не обязывают. – Включи мигалку и гони поскорее, хочу приехать пораньше.
Машина с мигалкой помчалась, пересекая Москву, даже не приостанавливаясь на светофорах. Водитель Витя лишь изредка слегка сбрасывал скорость. Сорокин за время пути выкурил две сигареты и третья была уже во рту, когда он увидел пять милицейских машин и машину «Скорой помощи» у акведука.
Он плотнее запахнул пальто, надвинул кепку, поправил шарф и, широко перепрыгивая через замерзшие лужи, которые похрустывали под подошвами башмаков, двинулся к сгрудившимся у машины людям.
Навстречу ему шел капитан Борщевский:
– Владимир Петрович, опять Удав объявился.
– Я так и знал. Что-то вчера уснуть не мог, все про него думал. Вот он, сволочь, и всплыл, будь он неладен! Что криминалисты сказали?
– Увозят тело. Тут уже все осмотрели.
– Еще раз осмотрим местность. Нашли что-нибудь?
– Пока ничего положительного.
– Что значит пока, и что значит положительного?
Думаешь, найдем?
– Не знаю. Он ведь никогда следов не оставляет.
– Надо искать.
– Личность установили?
– Установили, Владимир Петрович.
– Ну, и кто?
– Вот тут-то, Владимир Петрович, собака и зарыта.
– Ну, говори же, – жадно затягиваясь и подрагивая от холода, пробормотал Сорокин.
Капитан Борщевский подошел к Сорокину почти вплотную и зашептал:
– Майор ГРУ Штурмин Лев Иванович.
– Майор ГРУ?
– Очень сильный мужик.
– Ты уже сообщил коллегам из органов?
– Да. Здесь сейчас ФСБ будет, представитель ГРУ.
Надо встречать.
– Ладно, я сам этим займусь. Что еще скажешь?
– Лучше поговорите с криминалистами, они в этом…
– Понял, Борщевский, понял, – и Владимир Петрович направился к криминалистам.
Труп Штурмина уже лежал в машине, запакованный в черный полиэтилен.
– А, Владимир Петрович, – сказал старший группы, беззлобно улыбаясь, – и тебя подняли?
– Да, подняли, подняли, Александр. Не одним нам такая собачья жизнь по ночам ездить. Вам-то что, отдежурили сутки и сутки отдыхать. А мне опять на ногах туда-сюда.
– Что скажешь?
– Почерк тот же.
– Убежден?
– Убежден, что это Удав.
– А новенькое что-нибудь есть?
– Есть и новенькое. Наверное, Удав впервые почувствовал слабость. ;
– Как это слабость?
– Вначале убил чем-то острым, проткнул насквозь.
Но сердце, насколько я понимаю, не задел.
– Чем?
– Вполне возможно, острым металлическим прутом. Но это лишь предположение, Владимир Петрович, вскрытие покажет.
– У тебя вечно вскрытие только и покажет.
– Врать не хочу, сочинять не стану, поэтому давай подождем несколько часов.
– Вы его куда сейчас?
– Куда, куда… На стол, конечно. Но мужик, я тебе скажу, Владимир Петрович, здоровый.
– Да уж, вижу, наверное, метр девяносто, да и весит под сто килограммов.
– Да, – согласился криминалист, – ну, а потом?
– А потом, как всегда. Удав его додушил. Еще могу сказать, что мужик, перед тем как его убили, выпил довольно много.
– Даже так?
– Даже так. Но это предварительное заключение, к обеду будет более полная и исчерпывающая информация.
– Надеюсь на тебя, Саша. Давай, разберись как следует.
– Постараюсь, Владимир Петрович. Мы поедем.
– Давайте, ребята.
Подошел Борщевский.
– Я вот что могу сказать, Владимир Петрович, он его сюда притащил.
– Мертвого?
– Да. А затем сбросил вниз вот отсюда, – махнул рукой капитан уголовного розыска Борщевский.
– А следы остались?
– Нет почти никаких следов, женщины все затоптали. Они-то думали, это пьяный лежит в луже, спустились к нему, сердобольные. А это оказался майор Штурмин.
– Все понял, – полковник Сорокин закурил очередную сигарету и закашлялся. – Как мне все это надоело! – пробурчал он, осматривая место, где был найден труп. – Женщин отпустил?
– Жду вашего распоряжения.
– Допроси и отпусти. А если есть возможность, подвези.
– Хорошо, – сказал капитан Борщевский.
* * *
Ровно в два закончилось совещание у генерала Глебова. В конце генерал спросил у Мещерякова:
– Будем отдавать приказ?
– Да-да, – сказал Мещеряков, – мы вчера этот вопрос утрясли. Майор Штурмин согласен, он займет место Забродова.
– Ну, вот и слава богу. Не хотелось бы силой человека заставлять, все-таки работа крайне ответственная.
– Да-да, генерал, – сказал Андрей Мещеряков, покидая кабинет своего шефа.
И тут же прямо в коридоре он увидел офицера, своего помощника.
– Вас срочно к телефону.
– Кто? – спокойно спросил полковник Мещеряков.
– Из Уголовного розыска полковник Сорокин беспокоит.
– Сорокин? – Мещеряков вспомнил немного одутловатое, уставшее лицо полковника Сорокина и улыбнулся. – Интересно, на этот раз чем озадачит? Неужели он все еще думает, что наши люди годятся на роль маньяка?
– Он просил перезвонить.
Мещеряков вошел в свой кабинет, но тут же на столе у него зазвонил телефон.
– Алло, слушаю!
Голос был женский и Мещеряков не сразу понял, кто его беспокоит.
– Это Варвара, жена Штурмина.
– А, Варвара! Могу обрадовать. Как там, кстати, Лев?
– Никак, – сказала Варвара.
– В смысле?
– Его нет.
– Как это нет? Не понял…
– Он не ночевал дома. Я уже вам звонила.
– Я был на совещании?
– Да, два раза набирала – утром и потом еще через два часа. Вы извините, конечно.
– Лев не ночевал дома?
– Я волнуюсь.
– Не волнуйтесь, всякое бывает.
– Не бывает. Никогда такого не случалось, он всегда предупреждал.
– Ну, знаете ли. Варвара, может, он у Забродова засиделся?
– Как это засиделся? Такого не может быть. Что, у Забродова нет телефона?
– Конечно же, есть. Но, знаете ли, мужская компания…
– Вы мне голову не морочьте, какая мужская компания? Может, вы его в командировку отправили?
– Нет, что вы. Варвара, никаких командировок.
– Не знаю…
– Я уточню, перезвоню. Не волнуйтесь, никуда Лев не денется, он же без вас, как иголка без витки.
Мещеряков поморщился:
«Вот еще не хватало! Майор ГРУ и проблемы с женой, не хватало еще мне в этом разбираться», – Варвара, я перезвоню, – Мещеряков положил трубку и тут же, абсолютно без паузы, телефон зазвонил пронзительно и зло.
Андрей перевел дыхание, поднял трубку и немного жестко бросил:
– Слушаю! – это прозвучало как приказ, «отставить», «кругом».
– Владимир Петрович беспокоит, Сорокин.
– А, Владимир Петрович! – с облегчением вздохнул Мещеряков. Услышать что-нибудь плохое от полковника Сорокина он не ожидал. – Ну, что у вас стряслось?
– Боюсь, не только у меня или, как вы говорите, у нас, боюсь, что и у вас стряслось.
– Ну, что, говорите.
– Фамилия Штурмин вам что-нибудь говорит?
– Да, говорит, – внутренне холодея, произнес полковник Мещеряков.
– Его тело сегодня утром найдено у акведука.
– У какого акведука?
Сорокин что-то недовольно пробурчал в трубку, и Мещеряков не расслышал.
– Я не понял, Владимир Петрович, повтори то, что ты сказал.
– Тело майора Штурмина обнаружено сегодня утром.
– Да ты что, брось! Не может быть.
– Штурмин мертв, – спокойно сказал Сорокин, так спокойно, как это говорят опытные сыщики, видевшие на своем веку всякое.
– Погоди, погоди… Ты сейчас где?
– У себя в конторе.
– Выезжаю, сию минуту.
– Да, я жду.
Тут же Андрей Мещеряков связался с генералом Глебовым и доложил о случившемся.
– Быстро поезжай, Андрей, – приказал генерал.
Уже из машины полковник Мещеряков, вконец расстроенный, но все еще не верящий в случившееся, дважды позвонил Забродову. Телефон у того молчал. А через час он уже находился в кабинете у полковника Сорокина.
* * *
Что-что, а рассказать о случившемся жене и детям Льва Штурмина было самым тяжелым, самым страшным испытанием, которые в последнее время выпали на долю полковника Мещерякова. Но он был человеком военным, и ехать на квартиру пришлось, причем сразу из морга.
Уже из квартиры Штурмина Мещеряков направился к Иллариону. Поднялся наверх. Дверь заперта, телефон не отвечает, зеленого добитого «лэндровера» во дворе нет. Но Иллариона видели утром, он делал зарядку. А затем дворничиха, увидев удостоверение полковника Мещерякова, сообщила, что видела собственными глазами как хозяин зеленого «джипа» открывал капот, а затем, бросив в салон машины вещмешок, уехал.
– Вещмешок.., вещмешок… – бормотал Мещеряков. – Куда он с вещмешком мог податься?
Но это сообщение хоть немного обрадовало Мещерякова, у него в голове уже появлялись жуткие мысли, будто погиб не только Штурмин, но и Забродов.
"Куда он мог поехать? – задавал себе вопрос Мещеряков. – Куда угодно, – ответил сам себе, – он человек ничем и ни с кем не связанный, захотел и поехал. Ни семьи, никого. Раньше, когда он служил, найти его не составляло труда, начальство всегда знало, где находятся подчиненные, и в любой момент, если была необходимость, могло отыскать любого из своих сотрудников. Но так было до тех пор, пока Илларион Забродов являлся инструктором спецназа.
Сейчас же Мещеряков, как ни напрягался, так и не смог придумать, где искать Забродова. Единственное, что он сделал, так это вырвал из блокнота лист и написал записку: «Срочно! Очень срочно позвони мне!» и, подписавшись, сунул ее в дверь.
«Объявится».
Но Забродова искал не только Мещеряков. С ним жаждал встретиться и полковник уголовного розыска Сорокин. После выяснения обстоятельств вчерашнего вечера выходило, что одним из последних Штурмина видел Забродов. Но затем Забродов ушел, оставив Штурмина в одиночестве. Это подтвердил и официант. Официант же и припомнил, что за столик к Штурмину подсел мужчина – бородатый, крепко сложенный, с длинными волосами. Никогда раньше в кафе он его не видел. Ушли они одновременно, кажется, вместе, но куда потом направились, официант не знал. Но ведь могло случиться, что бородатый мужчина к смерти майора Штурмина не имел никакого отношения. По словам официанта выходило, что в кафе свободных столиков не было, кроме как за большим столом с засидевшимся Штурминым. Любой новый посетитель сел бы за этот столик.
Полковник Мещеряков смог найти Болотову, но та ничего определенного о месте пребывания Забродова сказать полковнику Мещерякову не смогла. Нет, Илларион ей ничего не говорил, о следующей встрече они не договаривались. Куда он мог отправиться, ей не известно, и вообще, как понял Мещеряков, она человек очень занятой, у нее какая-то важная срочная работа.
А Илларион в это время уже находился далеко от Москвы и прогуливался по берегу реки у Завидовского заповедника.
* * *
Новости обрушились на Иллариона Забродова как снежная лавина, причем сразу, едва он успел переступить порог своей квартиры. В двери торчала записка.
Илларион передернул плечами, внес в квартиру рюкзак, в котором была свежая, совсем недавно пойманная рыба. Прочел записку, хмыкнул, а затем, неторопливо переложив рыбу в морозильную камеру холодильника, тщательно вымыв руки, набрал номер Мещерякова. То, что эта записка от него, хоть подпись и была неразборчивой, у Иллариона сомнений не оставалось. А то, что он услышал от полковника Мещерякова, его потрясло:
– Вчера, Илларион, днем, на Котляковском кладбище мы похоронили Льва, – после долгой тягостной паузы сообщил полковник Мещеряков.
– Черт, не успел!
– Куда не успел – на похороны? Почему ты, Илларион, даже адреса не оставил, уехал, как будто…
– Хватит, Андрей, понял. Виноват, – сказал Илларион.
Настроение у Забродова сразу же стало отвратительным, хуже некуда. Ведь он потерял человека, которого хорошо знал, человека, который собирался занять его место.
– Что же это такое? Как это могло случиться? Ты что-нибудь можешь рассказать более подробно?
– Что я тебе могу рассказать, Илларион, ищут.
Ищут какого-то бородатого мужчину, с которым Штурмина видели в кафе.
– Бородатого мужчину?
– Да. И, судя по всему, он не слабый. Видишь, как все получается! Мы еще пошутили тогда у полковника Сорокина, что человека из ГРУ…
– Помню, все помню, Андрей, не надо, – остановил друга Илларион, – эту сволочь надо найти.
– Буду надеяться, найдут.
– Нет, надо найти самим.
– Илларион, не наше дело ловить маньяков.
– Может ты и прав, не наше. Но он убил Льва, а это меняет дело, очень сильно меняет.
– Наши уже подключились, и ФСБ сейчас занимается этим делом.
– Я к тебе сейчас приеду, надо поговорить.
– Приезжай, жду. Тебя, возможно, будет разыскивать полковник Сорокин и люди из ФСБ. Но ты пока на телефонные звонки не отзывайся, жди меня.
– Договорились, – бросил в трубку Забродов, ощущая, что его руки подрагивают, а в горле першит, словно туда попал песок.
"Что же это такое!? Вот, Штурмин Лева, сколько лет я его знал? Лет пятнадцать, – сам себе ответил Илларион. – Он же из таких передряг выбирался, в таких операциях участвовал! Его ни пуля, ни нож не брали, а тут, на тебе, в городе погиб, в своем городе.
Что же это за несправедливость такая!"
О том, что полковник Сорокин сможет предположить, будто виновник смерти Штурмина Илларион Забродов, не было даже и мысли. Сейчас Забродов не думал о себе, не думал о своей безопасности, о том, что ему говорить. Он всецело погрузился в воспоминания и в тягостные размышления о случившемся.
«Да, да, приедет Мещеряков, я получу хоть какую-то информацию. Это дело так оставлять нельзя. Нет, ни в коем случае нельзя! Эту сволочь, тварь, надо найти. Ведь все-таки я виновен, частично, но виновен. Это я потащил всю компанию в кафе. Ах, да, кафе… – Илларион посмотрел на часы, до приезда Мещерякова еще оставалось время. – Надо сбегать туда!»
И он, захлопнув дверь квартиры, как был, в куртке защитного цвета и в высоких ботинках на шнуровке, сбежал на улицу, забрался в «джип» и быстро вырулил через узкую арку на улицу. До кафе было близко.
Если бы Илларион знал, что он припарковал свою машину точно на том месте, где несколько дней назад стояла машина убийцы Штурмина! Но это ему не было известно. Он вошел в кафе, даже не раздеваясь. В кафе был занят только один столик, за которым сидели парень с девушкой и пили вино из высокой узкой бутылки. Закусывали вино шоколадом.
Забродов осмотрелся.
– Вы кого-то ждете, ищете? – странным взглядом осмотрел Забродова, абсолютно его не узнавая, один из официантов.
– Мне Бориса надо.
– Сейчас позову, он там.
Через пару минут появился Борис в черной бабочке, в белой накрахмаленной рубахе, еще не смятой, с блокнотом в руке.
Илларион поприветствовал официанта, тот вежливо кивнул.
– Слушай, Борис, я к тебе по этому делу.
– Знаю, знаю, – сказал официант, – меня уже вызывали, я уже разговаривал со следователем.
– А что ты мне скажешь?
– Что я могу сказать…
– Давай присядем, – взяв за локоть официанта, Илларион усадил его рядом с тем столиком, за каким сидел в тот злополучный день.
– Я уже все рассказал Сорокину.
– Повтори, пожалуйста, мне.
– Мест в кафе не было, – Борис посмотрел на часы, – ну, как раз в такое время, так бывает. Все столики оказались заняты. Не каждый день такое происходит, но случается. А ваш друг остался сидеть. Я убрал посуду, а он все сидит. Счет был оплачен, вы же и оплатили.
– Да, я помню, продолжай, Борис, – сказал Забродов.
– Вошел мужчина, посмотрел по сторонам… Все как всегда. Видит, место свободное возле вашего друга, подошел и сел.
– Что заказывал? – спросил Илларион.
– Водку не заказывал, заказал кофе и два салата., – А у моего приятеля водка еще была?
– Да, была, где-то полграфина.
– Он много выпил?
– Нет, что вы! Я потом водку унес, когда они ушли.
– Они уходили вместе?
– Встали они одновременно, а как пошли, кто ж их знает? Я потом убрал стол и посадил других посетителей, какая-то компания из шести человек – четверо мужчин и две женщины.
– А как выглядел, Борис, человек, который сидел с моим другом?
– Здоровый такой. С моих слов фоторобот составили, кстати, я сейчас его покажу, дали, что бы постоянным посетителям показывал, – официант вытащил из заднего кармана черных отутюженных брюк сложенный вчетверо лист бумаги, развернул и положил перед Забродовым, аккуратно разгладив. – Ну, примерно, вот такой.
– А что еще ты запомнил? Какие-нибудь приметы?
– Нет, ничего особенного.
– Борис, подумай, подумай. Может, на руках что-нибудь было?
– Нет. У меня уже все спрашивали, я ничего не помню.
– А ты бы его узнал?
– Конечно, узнал бы. Я на память не жалуюсь, помню даже тех, кто в кафе два или три раза бывал.
– Да, это хорошо, – Забродов развернул лист бумаги и принялся рассматривать портрет мужчины.
– А руки какие у него были?
– Здоровые, пальцы толстые, как у лодочника.
– Почему как у лодочника? – спросил Забродов.
– У меня дядя-лодочник на Оке, так у него мизинец толще моего большого пальца. Понимаете, он на веслах лет сорок, каждый день гребет, гребет, вот пальцы и становятся такими сильными.
– Ты думаешь, он гребец?
– Не знаю. Может, в детстве греблей занимался, очень сильный.
– А роста какого?
– Ростом он с вас, где-то метр семьдесят восемь, может, быть метр восемьдесят. Но высоким не выглядит, потому что плечи очень широкие.
– А как он был одет? Пиджак, свитер, шарф, брюки, шарф хороший, дорогой? Часы какие у него были?
– Какие часы, не помню, не видел. Вполне может быть, их у него и не было.
– Так ты говоришь, Борис, смог бы его опознать?
– Конечно, узнал бы! Если зайдет, сразу позвоню.
Мне и полковник сказал это сделать.
– Хорошо, хорошо… – пробормотал Забродов, – спасибо тебе, Борис, – Забродов пожал руку и заспешил к себе.
Уже в машине, когда повернул ключ в замке зажигания, Забродову показалось, в памяти промелькнуло лицо мужчины.
«Где-то я его видел. Видел похожего человека. Но где, когда?» – и Забродов, уже проводя джип сквозь узкую арку, судорожно пытался вспомнить, где, при каких обстоятельствах и в какой компании видел похожего мужчину.
Мещеряков уже стоял во дворе. Мужчины взглянули друг другу в глаза, пожали руки.
– Как дела? Ладно, не говори, – сказал Илларион, – знаю, тебе худо, вижу.
– Да уж, досталось. Особенно страшно, Илларион, говорить о смерти близким.
– Понимаю.
– Чем ты занимаешься?
– Практически ничем.
– Ты какой-то напряженный? – спросил Мещеряков.
– Напряженный, – признался Забродов. – Я видел сейчас фоторобот, мне кажется, я этого мужчину где-то видел и не могу вспомнить. Провал в памяти, понимаешь, Андрей, провал! Пошли.
Они поднимались наверх, на последний этаж, поднимались не спеша. Каждый из них был погружен в свои мысли.
– Варвара плакала, ты себе не можешь представить. А сын держался.
– Почему не могу представить? Мне тоже приходилось быть плохим гонцом и приносить скверные вести.
Наверное, правильно в старину делали, что гонца с плохими вестями убивали.
– Ну что, вспомнил?
– Нет, не вспомнил, – честно признался Забродов. – Никогда такого не было, всегда лица вспоминал легко и сразу же вспоминал обстоятельства, при которых видел того или иного человека. А тут что-то другое.
– Что другое, Илларион?
– Не знаю, не знаю, Андрей… Присаживайся.
– Не раздевайся, сейчас поедем к Сорокину, он с тобой хочет встретиться.
– Сорокин? – переспросил Забродов.
– У Сорокина дурные предположения на твой счет.
– В смысле?
– Что ты как-то причастен к убийству Штурмина.
– Да брось ты, – улыбнулся Илларион, – если бы я остался с ним…
– А почему ты не остался?
– Он хотел побыть один.
– Так и сказал?
– Я понял, что ему лучше всего посидеть, поду мать, взвесить все «за» и «против».
– Взвесил… – зло произнес Мещеряков. – Лучше бы он сразу согласился, тогда ничего бы этого не было.
– Было бы, – сказал Забродов. – Если человеку на роду написано быть убитым, то его наверняка убьют. А у меня даже предчувствие было, что Штурмин странный.
– Илларион, ты опять начинаешь мистические теории излагать. Ничего этого нет! – Нет, можешь не верить, если не хочешь, но я знаю, что так и есть.
От полковника Сорокина Илларион вернулся домой в еще более тягостном состоянии. На душе стало паршиво, словно бы туда вылили ушат помоев. Он не находил себе места, руки ни к чему не лежали. Брал книгу, вертел, тут же ставил на полку, брал вторую, открывал, пробегал несколько строк и со злостью захлопывал. Схватил нож, бросил в спил липы, послушал, как дрожит и гудит лезвие, чертыхнулся.
Теперь у него был фоторобот. Он взял лист бумаги со стола полковника, и то и дело возвращался к рассматриванию изображения бородатого мужчины.
* * *
Только через два дня после того, как Хоботов убил и выбросил возле акведука тело майора ГРУ Льва Штурмина, скульптор понял, что его жизни угрожает опасность. А ведь он еще не успел сделать то, что задумал, не успел отлить из бронзы уже законченную скульптуру. Он съездил на завод, договорился с мастерами, что через несколько дней они прямо у него в мастерской снимут форму, а затем форму осторожно перевезут на завод, соберут и отольют скульптуру из бронзы. Деньги на это у Хоботова были отложены. А даже если бы денег и не было, то он прекрасно понимал, эта скульптура последняя в его жизни, и ради того, чтобы начатое довести до конца, он продаст все – мастерскую, квартиру, машину, но обязательно отольет «Лаокоона» из бронзы.
Наталья Болотова принесла статью, Хоботов прочел ее, статья понравилась. Ведь там была изложена его теория о том, что произведение становится только тогда великим, когда вокруг него, как оправа вокруг бриллианта, существует миф, легенда. И чем страшнее, таинственнее эта легенда, тем притягательнее и величественнее воспринимается произведение.
С легендой все было в порядке, легенда существовала. Правда, она еще не стала известна публике, но Хоботов понимал, придет время. Может неделя, может, две или месяц, и все всплывет, а его «Лаокоон» станет одной из самых известных скульптур в истории искусств.
«Да, тогда обо мне станут говорить не только специалисты, тогда я стану великим».
Он вполне дружелюбно простился с Болотовой, поблагодарил ее за работу и на прощание сказал:
– Скоро обо мне заговорят все.
– Из-за статьи?
– Да нет, не из-за статьи, – сказал Леонид Хоботов и расхохотался, причем так, как может хохотать лишь человек, сошедший с ума.
От этого смеха даже мороз пробежал по спине Натальи, и она постаралась ни на секунду не задерживаться в мастерской, а покинуть ее скорее. Закрылась дверь, а Хоботов бегал по мастерской вокруг скульптуры. Он даже схватил газету с заметкой, подчеркнутой маркером, и размахивал ею как воин, захвативший окоп, размахивает флагом.
– Вот! Вот! – выкрикивал он. – Скоро о тебе заговорят, – как к живой, обращался он к скульптуре, укрытой влажной мешковиной. – О тебе заговорят все, фотографии напечатают во всех журналах. О тебе снимут фильм, все будут смотреть и удивляться. Нет, восхищаться не будут, смотреть на тебя станут со страхом, с ужасом. Только бы успеть! Только бы успеть!
Хоботов остановился, словно наткнувшись на невидимую стену.
– Этот щенок! Мерзавец! Он же меня может опознать, может выдать раньше времени.
Щенком и мерзавцем Хоботов назвал официанта, который обслуживал его и Штурмина в кафе.
– Да, да, сволочь! Да, да, мерзавец! Ты меня можешь опознать, ты свидетель, – и Хоботов стал раздеваться, – э, нет, приятель, никому ты ничего не скажешь, правда? Конечно, никому не скажешь. Мы с тобой встретимся. Правда, встретимся? И ты станешь еще одним предложением в страшной легенде вокруг моей скульптуры, ты станешь еще одним моим подвигом. Уж не сомневайся в этом. Я тебя запомнил. Может, ты запомнил меня не очень, а я твое круглое личико с гладкими волосенками, гаденыш, запомнил, хорошо запомнил. Если б ты знал, приятель, как мало тебе осталось, ты бы, наверное, от страха наделал в штаны. Вы же все трусы, для вас жизнь – самое ценное, а самое ценное в жизни – не сама жизнь, а легенда, миф, который делает жизнь полной смысла.
В ноль пятнадцать официант кафе «Парадиз» покидал свое рабочее место. Он был в дубленке, в теплой шапке. В правой руке Борис нес бумажный пакет с едой. Он простился с коллегами и вышел во двор, где стоял его серый «фольксваген-гольф». Он достал из кармана ключи от автомобиля, сработала сигнализация. Борис открыл дверцу.
– Добрый вечер, – услышал он за спиной немного хрипловатый голос.
– Добрый вечер, – как-то механически, одновременно потянув на себя дверь и обернувшись, произнес официант.
Он увидел мужчину, который сидел за столиком в тот злополучный вечер.
– Вы!? – воскликнул Борис.
– Я. Садись в машину.
Борис дернулся, хотел закричать, но огромные руки с могучими пальцами сошлись на его шее, и изо рта официанта вместо крика о помощи вырвался негромкий хрип, который с каждой секундой становился все тише и тише. Выпал из рук бумажный пакет, рассыпались по грязной мостовой котлеты и бутерброды. А пальцы все сжимались и сжимались.
Когда официант был уже мертв. Хоботов усадил его в машину, сам забрался на заднее сиденье и вырезал на затылке официанта свой знак.
– Ну, вот так-то будет лучше.
Затем запустил двигатель, проехал квартала четыре, загнал «фольксваген» во двор, где стояло дюжины четыре самых разных машин, выбрался из автомобиля, закрыл дверцу и, улыбаясь, поднял ворот куртки. А затем направился, словно ничего и не произошло, к автобусной остановке. Он стоял на задней площадке, смотрел на поток автомобилей и улыбался. А его толстый сильный указательный палец рисовал на запотевшем стекле кресты. Крестов же нарисовал Хоботов ровно столько, сколько было жертв.
Он покинул автобус на той же остановке, где всегда выходила его дочь, направляясь к отцу, чтобы выклянчить денег. Войдя в мастерскую. Хоботов снял влажную мешковину и осмотрел скульптуру. Он ходил вокруг нее, иногда прикасался пальцами к глине.
Вытащил из ящика бутылку виски, сделал несколько глотков.
– Да, славная работенка! – эти слова относились одновременно и к жертвам, и к скульптуре.
Они для Хоботова слилось воедино – в одно произведение, жуткое, страшное, но в то же время величественное. Скульптура дышала, пульсировала, конвульсивно сокращалась, она была как последний вздох его жертв – великолепна. В ней еще теплилась жизнь, она остановила мгновение, когда живая плоть становится мертвой. Тот маленький момент, очень короткий, Хоботов сумел зафиксировать, ему это удалось.
А какой ценой, для него не имело значения.
Спортсмен живет лишь для того, чтобы установить рекорд, чтобы взойти на пьедестал. Так же жил и поступал Леонид Хоботов. И сейчас он уже чувствовал под ногами ступеньки пьедестала, чувствовал запах славы, но не дутой, а настоящей.
– Обо мне станут говорить. Пока живут люди, обо мне будут говорить, меня будут помнить всегда!
Он сел на диван, развалясь, и принялся лакать виски. Он пил до тех пор, пока бутылка не опустела, и он не почувствовал, что сердце бьется ровно, а на душе воцарилось спокойствие.
– Послезавтра приедут мастера, а еще через пару недель скульптура из глиняной станет бронзовой, заблестит. Она станет вечной.
Глава 16
Прошло еще несколько дней. Естественно, «фольксваген-гольф» с мертвым официантом был найден. Сомнений не оставалось, чьих рук это дело, Удав оставил подпись – крест на затылке, прикрыв его зимней шапкой. И если сотрудники следственных органов и ФСБ, под влиянием и давлением из ГРУ, сумели информацию о смерти майора Штурмина скрыть от журналистов, не сделать достоянием гласности, то с официантом Борисом Алимовым это сделать не удалось. И газеты запестрели фотографиями, статьями о похождениях ужасного маньяка, который на этот раз выбрал своей жертвой безобидного и далеко не могучего телосложения человека. Жертвой стал заурядный официант. Фотография Бориса Алимова и фоторобот были напечатаны во многих изданиях, а сюжеты прошли почти во всех информационных программах.
Хоботов ликовал.
– Вот она, слава, вот она!
Единственное, что приносило досаду, так это то, что пока застопорилось дело со снятием формы с его скульптуры. Мастер, с которым Хоботов договорился, повредил руку, и к работе, тем более, к такой тонкой и ответственной, был не пригоден. Хоботов же все эти дни ходил по городу и скупал газеты. Газет в мастерской собралась уже изрядная стопка. Нужные статьи были отчеркнуты желтым и красным маркерами, и они для Хоботова были дороже, чем диплом Нобелевского лауреата. Еще что сделал Хоботов, так это полностью сменил имидж: он сбрил бороду и так же наголо обрил голову. Даже дочь, войдя в мастерскую, не сразу узнала отца. Она немного испугалась, отшатнулась.
– Ну, чего ты, – сказал Хоботов, – это я, твой отец.
– Брр, какой ты страшный! – воскликнула Марина, тряся головой. – Ты похож на водяного.
– Какого еще водяного? Тебе нужны деньги? Скоро вы станете богатыми.
– Да? Вот хорошо, – воскликнула Марина.
– У вас будет море денег, ведь я стану фантастически известен.
Подобные истории девочка слышала уже не впервые и особого значения им не придавала. Отец дал ей двести долларов, и она, радостная, покинула мастерскую.
«Матери расскажу, чего он над собой утворил. Вот удивится. Был похож на художника, а превратился черт знает в кого. Голова, как бильярдный шар. Ну да ладно, мне с ним по улице не ходить, хотя, может быть, так он даже интереснее».
* * *
Чтобы хоть как-то развеяться и выйти из того состояния, в котором Илларион Забродов пребывал уже почти неделю, он решил наведать своего старого приятеля Марата Ивановича Пигулевского. Сел в джип и покатил а антикварную лавку на Беговую. Марат Иванович оказался на месте. Он обрадовался Иллариону, тут же схватил его за локоть и потащил в маленькую комнатку пить чай.
– Что-то ты мне не нравишься, – немного шепеляво говорил старик, – вид у тебя какой-то…
– Какой?
– Да словно жену похоронил или кого-то из близких.
– Вы прозорливы, Марат Иванович.
– На самом деле? – старый антиквар даже немного побледнел.
– Похоронил… Без меня похоронили, ну, да ладно, что об этом говорить. А ты-то как?
– Что я, Илларион… Дела идут помаленьку, правда, у нормальных умных людей как-то денег становится все меньше и меньше. Красивые вещи почти совсем перестали покупать, лишь интересуются, смотрят. А к очень дорогим даже и не прицениваются.
– Что ты имеешь в виду?
– Денег нет у народа, довели.
Кто довел, Забродов спрашивать не стал, ответ Пигулевского знал наперед.
– Даже серебряным браслетом никто больше не интересуется, понимают, им не купить.
– Это тот, с поломанной застежкой?
– Застежку-то я починил.
– Починил? – воскликнул Илларион. – Ты же говорил, нет сейчас мастеров.
– Мало ли что я говорил… Есть мастера, были и будут, только найти их тяжело. А браслет этот лежит у меня в лавке второй год, вот я и решил починить его.
– Что же за мастер такой отыскался?
– А, – махнул рукой Марат Иванович, – я давным-давно его знал, он часы чинит старинные. А тут пришел как-то ко мне, я стал его подначивать, говорю, мол, мастер ты хороший, а вот браслетик не починишь.
И знаешь, так его завел, что он даже затрясся. «Какой такой браслет?» – говорит. Я браслетик вытащил, лупу ему подал. Он смотрел, смотрел, пыхтел, как паровоз под парами, а потом и говорит: «Назло тебе, Марат, сделаю и даже денег с тебя не возьму».
– И не взял?
– Конечно, нет! Слово, оно ведь не воробей, вылетело – не поймаешь. Да и мужик он, слово держит, ни разу не подводил. Я ему, знаешь ли, Илларион, без расписок такие часы в починку отдавал, что дороже «мерседеса» стоят и никогда никаких проколов. Сегодня он браслет принес, полюбуйся, – и Марат Иванович Пигулевский положил на стол перед Илларионом серебряный браслет в виде змеи, к которому в день знакомства с Забродовым присматривалась Наталья Болотова…
Забродов смотрел на него, смотрел долго, внимательно. Его глаза были полуприкрыты. И если бы не Марат Иванович, возможно, он еще пребывал бы пару минут в таком состоянии. Но Пигулевский поставил на стол чашки и предложил приступить к чаепитию.
– Марат Иванович, не продашь ли ты его мне?
– Тебе, Илларион? На кой черт тебе нужна такая вещь, вроде, драгметаллы и антиквариат ты не собираешь. Тебя же, насколько я знаю, книги интересуют, карты старинные, это не твой профиль.
– Подарить хочу.
– Чертовски дорогой подарок. Значит, человек должен быть очень важный для тебя.
– Хочется сделать…
– Нет, если хочется, то забирай. Я даже сделаю для тебя скидку.
– Не надо делать скидку. У меня есть книга по хиромантии, помнишь, я тебе показывал?
– Львовское издание?
– Да, – сказал Забродов.
– И что ты предлагаешь? – Марат Иванович оживился, даже забыл о чае, который стыл в чашках.
– Я тебе отдам эту книгу, и сколько скажешь, столько доплачу.
– Да ты что, Илларион, за кого ты меня держишь?
Я-то знаю, сколько стоит эта книга начала девятнадцатого века. Одна обложка… Она дороже браслета стоит, правда, ненамного, но…
– Ловлю на слове, – тут же сказал Забродов, – если ты говоришь, что дороже, пусть так оно и будет.
Значит, в счет включаем и ремонт застежки.
– Согласен, – тут же сказал Марат Иванович.
– Только книга у меня не с собой, лежит дома.
Хочешь, завтра привезу? ; Марат Иванович положил браслет в деревянный футляр и подвинул его к Забродову.
– Браслет можешь забрать хоть сейчас. Тебе я верю.
– Еще бы ты мне не верил! Я у тебя почти все свои книги хранил, не боясь за их сохранность, – и они оба, глядя друг на друга, улыбнулись. – Можно я воспользуюсь телефоном?
– Илларион, тебе в моей лавке можно все, я разрешаю даже на голове ходить.
– На голове не умею, а на руках, пожалуйста. Но не стану этого делать, а то твоя помощница перестанет меня считать серьезным человеком.:
– Тебя-то она серьезным считать не перестанет, а вот обо мне может подумать, что старик Пигулевский в маразме.
Илларион снял трубку, а Марат Иванович, покинув маленькую комнатку, направился в торговый зальчик.
Он не хотел мешать своему другу разговаривать по телефону, он понимал, что, скорее всего, Илларион будет звонить женщине.
Так оно и случилось.
– Алло, – услышал Забродов голос Болотовой.
– Здравствуй, Наталья, это я.
– Илларион, ты?
– Я, – коротко бросил Забродов.
– Где ты пропадал? После того вечера…
– Я все знаю, Наталья. Как ты?
– Ничего, вроде бы работу закончила, вроде бы все довольны. Устала чертовски, в квартире холодно.
– Все еще не включили отопление?
– Да ну их к черту! Они раскопали весь двор, то ли трубы, то ли еще что. Горячую воду дадут через четыре дня, так что я страдаю от холода.
– А что если я к тебе приеду?
– У меня холодно, – произнесла женщина, – у меня даже еды в доме нет, даже угостить тебя будет нечем.
– Чай у тебя есть?
– Чай есть, кофе есть и даже коньяк.
– А ты говоришь – ничего. Я еду.
– Как скоро? – спросила Наталья, глядя на свое отражение в зеркале оценивающе.
«Господи, я плохо выгляжу», – подумала она.
– Да, приезжай, – сказала она в трубку.
– Через час у тебя.
– Во двор не въедешь, Илларион, все перекопано.
– Я это понял.
Распрощавшись с Маратом Ивановичем, Илларион бросился к машине. Ему хотелось как можно скорее увидеть Наталью, он понял, что скучал по ней, что, может быть, сейчас эта встреча сможет развеять ту тоску, которая его охватила, не дает ему жить.
Он поднялся на площадку, позвонил. Наталья открыла.
– Проходи, – она посмотрела на Иллариона, словно бы не решаясь впустить.
Забродов сам сделал шаг навстречу. Наталья привстала на цыпочки и поцеловала Иллариона в холодные губы.
– Это тебе, – Илларион подал женщине деревянный футляр.
– Что это?
– Открой, посмотри.
Наталья подняла крышечку и ахнула:
– Ты купил этот браслет? Но ведь он стоит бешеные деньги!
– Нет, – покачал головой Забродов, – я его выменял. Когда я был еще мальчишкой, мы с друзьями часто менялись между собой: фонарик на ножик, значок на медаль. Короче говоря, обмены были самые невероятные. Вот и сейчас я выменял, вспомнив детство, и заполучил вещь, которая тебе нравится.
– Да, мне очень нравится этот браслет. Но ведь сломана застежка, и антиквар говорил, починить его невозможно.
– Починили, иначе я не стал бы тебе его дарить.
– В самом деле, починили… – немного грустно произнесла Болотова. И он стал, как его собратья, а раньше отличался, но теперь о нем можно говорить, это тот самый браслет, застежку которого никто не мог починить целых два года. – Проходи же, раздевайся.
В квартире было тесно. И как у большинства тех, кто занимается искусством или связан с ним, в квартире царил своеобразный художественный беспорядок.
– Садись, садись на диван, – сказала Наталья, аккуратно опуская на черный комод футляр с браслетом. – Сейчас я приготовлю чай, кофе. Но коньяк…
– Ты правильно догадалась, коньяк я пить не буду, за рулем.
– Ну, что там.., по тому делу?
– Пока ничего.
– Я пойду домою чашки, – извиняясь, произнесла Наталья.
Она успела привести себя в порядок, но грязную посуду вымыть времени не хватило, и теперь ей предстояло заняться именно этим. Она удалились на кухню, а Илларион сидел, осматривая большую комнату.
Спальня, как он догадался, за стеклянной дверью, которая изнутри была затянута темной шторой. В квартире действительно было прохладно и сыро, дом старый, стены толстые.
И тут он увидел фотографии скульптора Хоботова, приколотые к компьютеру. Сразу он не обратил на них внимания, вернее, увидел, но даже не стал присматриваться, А сейчас произошло какое-то удивительное явление: тот фоторобот, который был у него, наложился на изображение Хоботова и практически совпал.
Он подошел и почти минуту рассматривал одну фотографию за другой. Затем перешел на кухню:
– Наталья, а что это за скульптор у тебя над компьютером?
– Это… Я уже закончила о нем статью, забыла снять фотографии, – женщине было немного не по себе от обилия грязной посуды, оттого, что кухня не убрана. Ей хотелось как можно скорее выпроводить Иллариона в большую комнату. – Ты мне мешаешь, – сказала она.
– Погоди, погоди, Наталья, где он живет? Адрес ты знаешь?
– Ревнуешь?
– Нет, мне нужен адрес.
– Конечно, знаю, – и она назвала адрес.
– Спасибо, – произнес Забродов, понимая, что ему уже не до чая, не до кофе и даже не до объяснений.
Слишком явным было совпадение фоторобота и Хоботова на фотографии. – А что он лепил?
– Скульптура у него называется «Лаокоон», ремейк. Да, да, по мотивам «Лаокоона». Удивительная работа, я никогда ничего подобного в своей практике не встречала. Сейчас многие этим занимаются. Время такое – конец столетия – и многие художники, скульпторы начинают пересматривать то, что было сделано их предшественниками сто, двести, пятьсот лет тому назад. А Хоботов отскочил на две тысячи лет в прошлое и занялся…
– Что он за человек? – спросил Илларион, почти не слушая то, о чем говорит Болотова.
– Нормальный человек. Как все скульпторы, немного не в себе, но чертовски талантлив. Несколько дней назад я с ним говорила, так он стал вообще каким-то странным, словно бы с ума сошел. А что такое, Илларион, почему ты о нем расспрашиваешь? – Болотова подумала самое элементарное, что Илларион ревнует ее к скульптору. – Я тебе о нем уже рассказывала.
И сейчас Илларион вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел лицо Хоботова:
«Да, это случилось, когда я сам завез Болотову сдавать пленку, а затем забрал маленькие контрольные снимки из проявки. И тогда же я мельком видел его лицо на снимках».
– Послушай, Наталья, ты извини меня, мне надо ехать, у меня очень срочное дело, чрезвычайно срочное. Ты меня извини.
– Почему ты меня не предупредил.
– Забыл.
Илларион еще раз переспросил адрес. Наталья была обескуражена, когда дверь закрылась и Илларион покинул ее квартиру. Она слышала, как он сбегает вниз по лестнице, торопясь.
«Причем тут Хоботов? Куда он бежит? Почему он так неожиданно ушел?»
Она налила в бокал коньяка и, сделав несколько глотков, прикурила сигарету. Она пыталась понять, что происходит.
«Скорее! Скорее в мастерскую!» – «лэндровер» мчался, обгоняя все попутные машины.
А Леонид Хоботов сидел на диване и читал газеты, вернее, лишь то, что касалось маньяка, вырезавшего кресты на затылках задушенных жертв.
В дверь постучали.
«Кто это?» – подумал Хоботов, поднялся и открыл.
– Что надо? – сказал он, увидев перед собой Забродова.
Он сразу же вспомнил этого мужчину, он его видел раньше. Видел с Болотовой, видел, как он входил в кафе, видел, как уходил.
«Это у него ночевала Болотова. Стерва!» – о Штурмине он даже не вспомнил, как не вспоминает скульптор о слепке, с которого уже сняли форму.
– Что тебе надо? – прорычал Хоботов.
– Бороду сбрил, голову побрил? Думаешь, тебя никто не узнает?
– О чем это ты? Входи, – Хоботов впустил в мастерскую Забродова и тут же бросился убирать газеты с журнального столика.
Это не ускользнуло от взгляда Иллариона. Его догадки и предположения подтвердились. Но догадки и предположения это одно, Забродов хоть и привык полагаться на интуицию, но тут лучше иметь факты, желательно неопровержимые.
– Ты кто? – странным, почти замогильным голосом спросил Хоботов.
– Я Илларион Забродов. А ты, судя по всему, скульптор Хоботов?
– Да, Хоботов, – скульптор подал руку. Он решил сразу же огорошить гостя.
Забродов не испугался, протянул руку. Пальцы Хоботова сомкнулись на ладони Иллариона. Почти полминуты мужчины смотрели в глаза друг другу. Пальцы Хоботова сжимались все сильнее и сильнее, у Иллариона заходили желваки в скулах. Но он выдержал это рукопожатие, если, конечно, можно таким словом обозвать то, что хотел сделать с ладонью Иллариона Хоботов.
– Здоровый ты мужик, – произнес Илларион с легкой улыбкой.
Скульптор ослабил хватку и отпустил ладонь.
– Ты тоже ничего, здоровый. Проходи, садись. Водку будешь пить?
– Выпью, – произнес Забродов.
– Тогда садись на диван. Тебя, наверное, прислала ко мне Болотова?
– Не совсем чтобы прислала. Я просто прочел статью о тебе и решил взглянуть на великого скульптора.
– Да уж, есть на что посмотреть.
– Вид у тебя странный.
– Имидж сменил, – произнес Хоботов, направляясь в маленькую комнату, где под столом стоял картонный ящик, уже наполовину пустой.
Илларион прошелся по мастерской, осматривая скульптуры на стеллажах.
– Нравится?
– Интересно, – сказал Забродов.
– Ты в этом разбираешься?
– Не очень, – признался Забродов.
– То-то я смотрю, ты обращаешь внимание не на те работы, которые действительно интересны.
– Каждому свое, на вкус и цвет, как говорят, советчика нет.
– Это не правильно, это расхожее мнение. Есть настоящие работы, а есть фуфло. Почти все, что на наших выставках – это настоящее фуфло, а то, что здесь – работы.
– Настоящие? – сказал Илларион.
– Самые что ни на есть. Садись, садись на диван.
Водки у меня уже нет, есть только виски.
– Виски так виски, – сказал Забродов.
На столе появилось два высоких стакана.
– Льда у меня тоже нет.
– Можно и безо льда, я неприхотлив.
– Ну, и что Болотова сказала обо мне?
– Сказала, что ты интересный скульптор.
– А ты скульптурой интересуешься, что ли?
– В общем-то, да, – соврал Забродов. – Но у меня свой интерес.
– И какой же?
– А это что? – спросил Забродов, кивая на скульптуру в центре мастерской под влажной мешковиной.
– Это? – Хоботов даже крякнул от удовольствия. – А это, брат ты мой, самое что ни на есть настоящее искусство. Шедевр.
– Все художники и писатели одинаковы, что ни сделают, шедеврами любят обзывать.
– Это дерьмовые писатели и художники так говорят, а настоящие редко признаются в удачах.
– Так это удача?
– Удача, – сказал скульптор.
– Покажи.
Они разговаривали так, словно были давным-давно знакомы.
– Что ж, покажу. Посмотри, – Хоботов подошел и бережно, довольно долго, боясь повредить скульптуру, снимал мокрую мешковину.
Наконец скульптура была обнажена. У Иллариона Забродова даже холодок прошел по спине от того, что предстало его взору. А Хоботов молчал, Илларион лишь слышал, как за спиной булькает в стакан виски.
– Ну, что скажешь?
– Ха – это шедевр. Об этой работе будут говорить, будут говорить долго, может даже тысячу лет.
Скульптура прямо-таки дышала, человеческая плоть пульсировала. Это было последнее, что мог сделать человек в объятиях страшной змеи, последние судороги, последняя попытка освободиться, причем попытка, обреченная на провал.
– Страшно, – сказал Забродов.
– Страшно? Нет, не страшно, величественно. Смерть сама по себе не страшна, она даже отвратительна, – рассуждал Хоботов со стаканом в руке, – величественен лишь один момент, та грань, когда человек еще жив, но уже обречен. Не знаю, ты, наверное, этого никогда не переживал.
– Да, похоже, никогда, – соврал Илларион, медленно обходя скульптуру.
– Она хороша со всех сторон.
«Да уж, хороша», – думал Забродов.
И тут его взгляд зацепился за страшную вещь, за страшный знак: на постаменте был вырезан крест.
Обыкновенный прямой крест, самый простой, проще которого не бывает – вертикальная и горизонтальная черточки, пересекающиеся между собой. Крест был процарапан стеком с рваными краями. Эти кресты Иллариону были знакомы, но он не стал задавать вопрос, что означает этот знак.
Он неторопливо обошел скульптуру. Ему показалось, что лицо одного из тех, кто пытается освободиться от объятий страшной змеи, очень похоже на лицо Льва Штурмина. Но он этого не сказал.
– А твоя Болотова стерва, как и все бабы. Кстати, все бабы стервы, причем гнусные.
– Не надо так, – тихо и вдумчиво ответил Забродов, – слишком резко ты все судишь.
– А как я еще могу судить? Я люблю крайности, люблю ясность.
– Но ведь она же написала о тебе статью и, по-моему, толковую.
Илларион статью не читал, но примерно мог представить, что могла написать Наталья.
– Статья – это мелочи. А ты пей, пей.
Илларион взял высокий стакан, посмотрел на Хоботова – тот ему подмигнул. Было что-то страшное в огромном, широкоплечем, абсолютно лысом, гладко выбритом человеке. Он сам походил на удава, на гигантского удава. Сходство было не только внешним, но и внутренним. Двигался Хоботов мягко и в то же время стремительно.
«Да, он невероятно силен, зверь прямо-таки в человеческом обличий, – подумал Забродов. – Такой, конечно, смог задушить Штурмина».
Они выпили по стакану виски, выпили молча, лишь время от времени бросая украдкой взгляды друг на друга, причем, взгляды были оценивающие, словно бы каждый примерялся. Они напоминали взгляды борцов, вышедших на ковер, причем, схватка должна произойти скоро, и схватка не на жизнь, а на смерть.
– Ты убил моего друга? – глядя в глаза, поставив стакан на край журнального стола, сказал Забродов.
– Убил твоего друга?
– Да, – произнес Забродов.
– Ты ошибаешься, я его не убил.
– Ты задушил официанта?
– Вновь ошибаешься. Лучше выпей виски и успокойся.
– И знаешь что, – сказал Забродов, – я пришел, чтобы убить тебя.
Илларион Забродов уже просчитал ситуацию. О том, что произведение искусства должна сопровождать легенда, он знал, о бредовой мечте Хоботова ему рассказала Болотова. И теперь весь внутренний мир этого человека ему открылся, стал понятен. Для него самым дорогим и самым важным является не человеческая жизнь, а страшная скульптура, ею он дорожит больше всего.
– И что ты собираешься с ней делать? – кивнув в сторону скульптуры, осведомился Забродов.
– С ней? – ласково произнес Хоботов. – Ее отольют в бронзе, ее будут повторять в мраморе, ее станут фотографировать, печатать, о ней примутся снимать фильмы. Она войдет в историю искусств как «Христос» Дали, как «Давид» Донателло, как Роденовский «Мыслитель». О ней станут говорить, когда ни тебя, ни меня, ни Болотовой уже не будет на этом свете. О нас забудут, вернее, забудут о вас, а меня будут помнить.
– Ты думаешь? Ты уверен в этом?
– Абсолютно, – сказал Хоботов. – Завтра придут мастера, снимут с нее форму, отольют в бронзе.
– Мастера, может, и придут, – сказал Забродов, – а вот в бронзе ее не отольют.
– Как это не отольют?
– А вот так. Я пришел, чтобы ее уничтожить.
– Что!? – прорычал Хоботов и вся его голова, даже лысина, выбритая и гладкая, как бильярдный шар, вначале побагровела, а затем стала белой, словно бы голову скульптора перепачкали мелом. – Ты ее? – до Хоботова дошло, зачем и почему появился этот мужчина в его мастерской. Но, по мнению скульптора, Илларион Забродов был слишком слаб, чтобы противостоять ему.
– Хочешь, я тебе что-то покажу?
– Покажи, – сказал Забродов.
Хоботов с бутылкой виски в руке двинулся в угол мастерской. Затем наклонился, схватился за стальное кольцо и рванул на себя большой люк, под которым была яма, где хранилась глина. Из ямы, как из могилы, пахнуло влагой и сыростью.
– Иди, глянь.
Илларион подошел. Интуиция у него была развита превосходно, он приблизился к краю. Яма была два на полтора, ну, точь-в-точь яма на кладбище.
– Посмотри, что там.
Илларион сделал полшага, и в это время Хоботов с диким утробным звуком, вырвавшимся из раскрытого рта, бросился на Иллариона. Только феноменальная реакция и интуиция спасли Забродова, он успел увернуться, успел устоять на краю ямы и отпрыгнуть от нее. Хоботов с бутылкой в руке вновь двинулся на него.
– Я тебя убью! Ты станешь еще одним звеном легенды, страшной легенды, – шипел, как самый настоящий удав, скульптор, надвигаясь громадой своего тела на Иллариона.
Ударом ноги, резким и быстрым, Забродов смог выбить бутылку из правой руки скульптора. Та, описав дугу, ударилась о стену, рассыпалась на мелкие темно-зеленые осколки. Илларион ничего не говорил, он действовал беззвучно. Хоботов же рычал, шипел, он лез на Иллариона, расставив руки, нацеливаясь на его горло.
Забродов это понял. И вот Хоботов бросился. Это был бросок удава на свою жертву, бросок стремительный и мощный. Илларион успел пригнуться к полу, и скульптор всей громадой пролетел над ним с шипением и свистом, как локомотив проносится над человеком, упавшим между рельсами.
Илларион резко выпрямился и нанес ребром ладони сокрушительный удар по печени. Хоботов лишь ойкнул, но этот удар не смог его остановить.
«Ну и силен!» – мелькнула мысль.
На полу, у стеллажа, лежала кувалда с длинной деревянной ручкой, кувалда для сгибания арматуры. Подобные всегда есть в мастерских скульпторов. Хоботов схватил кувалду и, размахивая ею, вновь двинулся на Иллариона.
– Ну, давай, давай, – выкрикнул Забродов.
Кувалда пронеслась над головой Забродова. Если бы не реакция, этот удар размозжил бы череп – так, как тяжелый молоток разбивает грецкий орех. Хоботов размахивал ей так легко, словно бы это была ложка, словно бы она ничего не весила. Еще дважды Илларион смог увернуться и понял, следующий раз обмануть Хоботова ему не удастся, и удар достигнет цели. Если кувалда попадет даже не в голову, а в плечо или грудь, он уже не сможет противостоять скульптору.
И тогда Забродов, сконцентрировавшись, превратившись в комок сжатых нервов и мышц, сделал обманное движение, бросившись вначале влево, а затем качнулся вправо, и ребром ладони ударил Хоботова в горло. Ударил сильно. Скульптор-убийца остановился, кувалда упала на деревянный пол с глухим стуком.
Судорожное дыхание со свистом вырывалось из разверстого рта скульптора. Илларион начал бить, методично нанося удар за ударом.
Наконец, огромный скульптор качнулся и медленно опустился на колени. Дважды Илларион заехал ногой Хоботову в живот и грудь. Тот рухнул на пол – лицом вниз.
«Этого хватит минут на пять», – подумал Забродов и, бросившись к стеллажу, оборвал штору, укрепленную на стальном тросе.
С тонким стальным тросом, который сразу же свернулся в пружину в руках, Илларион подошел к неподвижно лежащему скульптору-маньяку, присел на корточки. И в этот момент Хоботов бросился на него.
Казалось, не было ни сокрушительных ударов, ни того, что предшествовало им. Хоботов опрокинул Забродова, навалясь на него всем своим тяжелым могучим телом. Его руки тянулись к горлу Иллариона, и тот понял, что если пальцы сомкнутся на шее, его песенка спета.
Он двумя руками принялся выворачивать запястья скульптора, и тот, не придумав ничего лучшего, вцепился зубами в руку Иллариона. Забродов разжал пальцы, схватил Хоботова за уши и несколько раз изо всей силы ударил головой в лицо. Захрустели сломанные носовые перегородки. Хоботов захрипел, кровь полилась на грудь и на лицо Иллариону. Он вывернулся, сбросил скульптора, руки которого тянулись к нему, в дважды ударил ногой.
Хоботов замер. Затем Илларион связал запястья стальным тросом, заломив руки Хоботова за спину, связал и ноги, подтащил Хоботова к дивану, набрал в ведро воды и вылил на голову скульптору. Тот тряхнул головой, открыл глаза. Он смотрел на Иллариона с ненавистью, но сделать уже ничего не мог. Он дергался, дергался яростно, но стальной трос лишь сильнее впивался в его тело. Хоботов ревел, рычал. А Илларион лишь улыбался, и улыбка, как понял Хоботов, на губах Забродова не предвещает ничего хорошего.
Но то, что задумал Забродов, Хоботову даже и в голову не могло прийти. Забродов нашел кувалду, схватил ее за длинную ручку и приблизился к скульптору.
– Ты что, хочешь меня убить?
– Нет, – сказал скульптору Илларион, – ты мне нужен живым.
– Тогда, что ты собираешься делать?
– Сейчас увидишь.
Илларион развернулся, подошел к скульптуре и принялся наносить удар за ударом. Глина, каркас, все это разрушалось, с каждым ударом скульптура становилась все безобразнее.
– Никто не отольет ее из бронзы, и не будешь ты знаменитым скульптором. Ты, возможно, будешь знаменитым маньяком и не больше этого. Ты станешь заурядной мразью. Хоботов, самой заурядной, обыкновенным душителем.
– Ты вандал, варвар, – ревел Хоботов, брызгая слюной и кровью.
– Пошел ты…
Когда со скульптурой было покончено, по лицу Хоботова текли слезы. Он плакал, в кровь кусая и без того разбитые губы. Илларион взял трубку и по памяти набрал вначале номер полковника Сорокина, попросил его вместе с людьми приехать в мастерскую скульптора.
Он сказал:
– Полковник, вы сейчас встретитесь с Удавом.
Затем позвонил Мещерякову и сообщил ему примерно то же. А уже через полчаса омоновцы вытаскивали из мастерской уже скованного наручниками, но все еще связанного стальным тросом скульптора Хоботова.
На прощание Сорокин крепко пожал ладонь Иллариону и, глядя в глаза, сказал:
– Извини меня, Илларион, я был не прав.
– Ничего, полковник, бывает.
– Сейчас я вижу, ты настоящий ас. Недаром тебя так называют.
– Это преувеличение, Владимир Петрович. Хотя доля правды в этих словах есть и немалая, – пожав руку полковника, сказал Забродов.
– Ну, Илларион, ты молодец! – сказал Мещеряков.
– Я сделал все, что мог.
Мещеряков отошел на пару шагов от Забродова и осмотрел его с ног до головы.
– Представляю, как это не просто было сделать!
* * *
Отпечатки пальцев, найденные экспертами в такси у акведука, совпадавшие с отпечатками пальцев в автомобиле официанта, были идентичны отпечаткам, снятым со скульптора Хоботова. А еще через неделю Леонид Хоботов заговорил. Следователи содрогнулись, услышав исповедь этого страшного человека.
Статья Натальи Болотовой была напечатана в самых крупных журналах, посвященных искусству. А сама она через месяц вместе с сыном уехала в Англию.
Среди провожавших ее был и Илларион Забродов, бывший инструктор спецназа ГРУ, носивший кличку Ас.


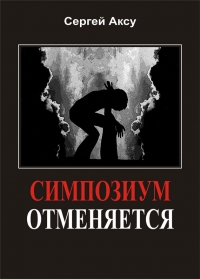

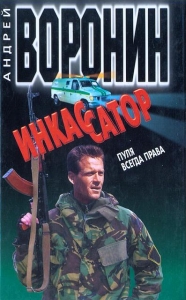


Комментарии к книге «Время вспомнить все», Андрей Воронин
Всего 0 комментариев