ГЛАВА 1
Генерал ФСБ Федор. Филиппович Потапчук манией величия не страдал, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что половину успеха его отдела обеспечивает специальный агент по кличке Слепой, о существовании которого знали немногие. И лишь сам Фёдор Филиппович знал настоящее имя этого человека — Глеб Сиверов. Только он мог отыскать его, имел выход на него.
Федор Филиппович никогда не являлся публичной фигурой, перед телекамерами не мелькал, интервью не раздавал, хотя внешностью обладал телегеничной: невысокого роста, седой благообразный мужчина в преклонных годах с немного театральной щеточкой серебряных усов, подтянутый, жизнерадостный, с озорными, вечно смеющимися глазами. Козырять перед публикой должностью и званием Федор Филиппович считал делом пустым и искренне сочувствовал тем, кто не мог избежать этого. Директору ФСБ, тому часто приходилось вместо того, чтобы заниматься работой, оправдываться перед журналистами.
Как и у всякого пожилого человека, у Потапчука имелись привычки, переросшие со временем в обряды. Бросить курить Потапчук собирался уже пятый год: врачи запрещали. Но если в чем-нибудь другом Федор Филиппович мог проявить волю, то здесь он был бессилен. Да, он мог не курить день, два, даже неделю или месяц, но тогда ни о чем другом, кроме сигарет, не был способен думать. Они снились ему, мерещились, он мог идти по улице за курильщиком лишь затем, чтобы ощутить запах табачного дыма.
О том, что ему нельзя курить, напоминали все: и сотрудники, и начальство, и, жена, и даже Глеб Сиверов, подтрунивавший над генералом за слабохарактерность.
Именно поэтому Потапчук каждую субботу выходил подолгу гулять на набережную. Гулял в одиночестве, надвинув на глаза шляпу, если было холодно, или надев солнцезащитные очки: опасался быть узнанным знакомыми при встрече. Именно во время таких прогулок генерал позволял себе в охотку выкурить одну-две сигареты и не чувствовал при этом угрызений совести. Гулял подолгу, по нескольку часов, сперва предвкушая, как достанет из кармана портсигар, разомнет сигарету, а потом глубоко затянется горьковатым дымом.
В эту субботу стояла жара, и генерал Потапчук шел по набережной в светлом костюме, при галстуке, в простецких солнцезащитных, очках, купленных в киоске всего за сорок рублей. Сверкала вода в реке, чайки кружили над ней, высматривая добычу. Иногда одна из них пикировала к воде, всего на мгновение касалась ее и взмывала в небо, сжимая в лапах трепыхающуюся рыбку.
Потапчук любил наблюдать за подобными сценками, на которые никто из занятых горожан внимания обычно не обращал. На набережную попадают люди, не занятые делом. Тут гуляют пенсионеры, резвятся дети, хмуро смотрят на поплавки безумные рыбаки, целуются парочки.
Потапчук шел заложив руки за спину, и приветливо улыбался незнакомым встречным. «Какой милый, добродушный пожилой мужчина», — думали многие из них, не подозревая, что на самом деле перед ними генерал ФСБ, вынужденный по долгу службы принимать иногда очень жесткие и даже жестокие решения.
Потапчук засунул руку в карман и нащупал полированный серебряный портсигар. Указательным пальцем прижал к ладони бензиновую зажигалку и подумал: «Дойду до балкончика на парапете, устроюсь на нем и закурю, — Федор Филиппович помимо воли прибавил шаг. — Эй, не спеши, — обратился он сам к себе, — к удовольствию нельзя бежать сломя голову. Сперва насладись им мысленно, а затем получи в реальности, после — вспоминай, как тебе было приятно. Глядишь, и меньше сигарет выкуришь.»
На балкончике никого не оказалось, неподалёку на лавочке сидел довольно опрятного вида бомж, если не считать страшных синяков и ссадин на лице. Генерал носком ботинка сбросил в реку пивную пробку, лежащую на балконе, проследил траекторию падения взглядом и увидел, как к планирующей к воде пробке подплыла большая рыба и попыталась проглотить ее.
«Вот дура!» — подумал генерал. Ему захотелось крикнуть «кыш», но рыба — не птица, не кошка, не услышит.
Наконец рыба сама разобралась, что к чему, выплюнула пробку и исчезла в глубине. Потапчук открыл портсигар, в котором лежало три сигареты — норма, которую он позволял себе в обычные дни. Генерал вытащил одну, поднес к носу и насладился ароматом отменного табака. Долго разминал хорошо набитую сигарету, с минуту держал ее в губах, втягивая через табак воздух.
Но всякому искушению бывает предел. Генерал провернул колесико бензиновой зажигалки, синий язычок заплясал на ветру. Потапчук не любил газовых зажигалок: гаснут от малейшего дуновения. То ли дело бензиновая, сработанная по принципу керогаза: чем сильнее ветер, тем ярче разгорается огонь. Он затянулся глубоко и с наслаждением.
Уже сутки Потапчук не курил. Сразу же закружилась голова, но он знал, что это не от никотина. Чтобы попасть в кровь, раствориться в ней, никотину потребуется хотя бы минута, только потом он достигнет рецепторов в мозгу.
Бомж, кряхтя, поднялся со скамейки и заковылял к генералу.
— Извините — спасибо — пожалуйста. Здравствуйте, — прошамкал он ртом, наполовину лишенным зубов.
Потапчук даже не обернулся.
— Третий день в Вязьму добираюсь, — сообщил бомж, — вчера так напился, что даже штаны у меня украли.
— С некоторыми такое случается довольно часто. Бывает, — согласился Потапчук, страшно злясь, что ему мешают.
— Вот, нашел какие-то в контейнере, — бомж игриво продемонстрировал старое заношенное трико. — Теперь бы мне до Вязьмы добраться.
— Я не шофер такси, — глядя на воду, отвечал генерал.
— Если на электричку денег дать жалеете, тогда бы здоровье поправить — на пивко.
Потапчук редко ругался матом, но на этот раз пришлось, другого языка, бомж просто не понимал.
— Сам такой, — услышал генерал в ответ.
«Эх, сигарета сгорела, на целую затяжку, пока я сусала разводил, — расстроился генерал. — Надо было бомжару сразу матом обложить!»
Но докурить спокойно ему не дали. Он вновь спиной почувствовал у себя за спиной присутствие человека. Хотел было послать, но что-то сдержало его, осторожность или природный такт, присущий генералу. Он оглянулся: прямо за ним стоял заместитель директора ФСБ генерал-лейтенант Огурцов, естественно в штатском, и приветливо улыбался.
Потапчук знал точно, замдиректора здесь никогда не гуляет, иначе они встречались бы раньше. Люди такого ранга, как он, передвигаются по городу исключительно на служебной машине, оснащенной всеми видами спецсвязи, с хорошо натасканной охраной.
— Курите? — абсолютно нейтрально спросил замдиректора для того, чтобы заполнить паузу.
— Балуюсь, — зло ответил Потапчук и бросил окурок в воду.
— Извините, Федор Филиппович, что не даю побыть одному, но…
— Да, конечно, дела. И в управлении нет дежурных офицеров.
— Есть даже дежурные генералы, — усмехнулся замдиректора, — но дело по вашей части. Человек службы должен быть готов к тому, что его могут выдернуть в любую минуту: из-за праздничного стола, из постели жены или даже любовницы, из бани, из санаторного номера, с операционного стола. Дело срочное и не терпит отлагательства.
Генерал, твердо помнивший правила конспирации, знал, что вести секретные разговоры, стоя на месте, запрещено, нужно передвигаться. И он пошел рядом с замдиректора вдоль гранитного парапета. Годы службы в секретном ведомстве приучили мужчин разговаривать тихо, не проявляя эмоций на лице. Глядя на них со стороны, могло показаться; идут двое пожилых мужчин и беседуют о семьях, о внуках, о начинающих донимать болезнях. На самом деле разговор шел о делах куда более важных.
Потапчук в душе злился, что опять его делали крайним, опять ему приходилось разгребать руками чужие завалы, копившиеся годами. Хотелось твердо сказать «нет», но вместо этого Потапчук изредка согласно кивал, понимая, что на месте генерал-лейтенанта поступил бы точно так же. Для проведения любой операции избирается самый быстрый, самый надежный путь, и в данном случае обеспечить решение мог лишь один человек — Глеб Петрович Сиверов, спецагент по кличке Слепой.
— Ты же понимаешь, Федор Филиппович, письменно отдать такой приказ я не могу. Если всплывет, что ФСБ имеет отношение к этому делу, не только моя голова полетит, но придется назначать и нового директора. Ты не раз уже выручал контору.
— Я не волшебник, — напомнил Федор Филиппович.
— Ты, может, и нет, а вот твой спецагент…
— Его нет, его не существует, — улыбнулся генерал Потапчук.
На какое-то мгновение генерал-лейтенант Огурцов принял эту фразу за чистую монету, затем погрозил Федору Филипповичу пальцем:
— Именно поэтому он нам и понадобится. Несмотря на то что его не существует, гонорар я ему обеспечу приличный.
Потапчуку хотелось сказать, что вся ценность Слепого в том, что он не покупается на деньги, берется исполнять задания только тогда, когда досконально разберется и поймет, зачем ему необходимо вмешаться в ход событий.
— И смотри, — напомнил замдиректора, — лишние подробности твоему спецагенту знать незачем. От него требуется: или нажать на спусковой крючок, или подложить мину, забросить гранату в окно, нож метнуть — я уж не знаю, какой способ он выберет. Выбор цели за нами, а он волен в средствах. Я пока что не услыхал от тебя слово «да», — напомнил замдиректора. Он явно куда-то спешил, то и дело поглядывая на часы.
«Конечно, время такого человека. расписано по минутам.»
— Да, — с усилием выдавил из себя Фёдор Филиппович.
Генерал-лейтенант Огурцов обрадовался:
— Я знал, что ты человек старой школы. Смотри, много не кури, — замдиректора пожал вялую руку Потапчука и зашагал по набережной.
Только сейчас Федор Филиппович заметил черный «мерседес» с тонированными стеклами, стоявший прямо на парковой аллее. Генерал-лейтенант сел в машину и уехал.
«Даже не знаю, кто из них больше испортил мне сегодня настроение: замдиректора или вонючий бомж», — в сердцах подумал генерал Потапчук и уже без соблюдения ритуала закурил.
Затяжки он делал быстрые, неглубокие, резко поднося сигарету к губам.
«Сами плодят мерзавцев и преступников, якобы во имя благих целей, а потом спохватываются!»
Генерал метнул, окурок в урну. Тот ударился о край жестяного раструба и упал на асфальт.
Потапчук поднял очки на лоб и, поскольку был дальнозорким, стал набирать номер на «мобильнике», держа его на вытянутой руке.
— Да, Федор Филиппович, — услышал он в трубке спокойный голос Глеба. Фоном звучала классическая музыка, что-то из оперы. В композиторах Потапчук никогда не был силен, ни в высшей школе КГБ, ни в академии его этому не обучали.
— Ты сейчас где?
— Там, где вы можете меня найти.
— Жди, скоро буду.
— Кофе поставить? — очень уж по-домашнему спросил Сиверов.
— Если я буду пить кофе такой же крепости, как и ты, да еще стану выкуривать по пачке сигарет в день, то сдохну, не дожив до понедельника.
— Вас, наверное, сильно разозлили?
— Кажется, и ты хочешь меня позлить. До встречи, — Потапчук, всегда бывший не в ладах с электроникой, боязливо нажал кнопку на трубке мобильного телефона и спрятал его в карман.
На набережную генерал пришел пешком от самого дома, хотя за ним и в выходные была закреплена дежурная машина. Потапчук уже собрался было ловить такси, даже поднял руку, стоя на бордюре, как увидел нагло пересекающую сплошную осевую линию черную «Волгу» с покачивающейся на крыше антенной спецсвязи. Это была его, Потапчука, служебная машина.
— Доброе утро, Федор Филиппович.
— Куда уж как доброе, — буркнул генерал, — если и тебе и мне отдохнуть не дадут.
— Получил срочный вызов. Куда едем?
— На Арбат.
Когда Федор Филиппович приезжал к Глебу Сиверову, то всякий раз покидал машину в новом месте. Даже его личный шофер не имел права знать, где расположена конспиративная квартира спецагента. Для стоянок Потапчук определил себе два квартала.
— Ты чем, Василий, заняться сегодня думал? — спросил Федор Филиппович.
— Ничем, — признался шофер. — Просто отдохнуть собирался, поваляться, телевизор посмотреть.
— Вот если бы ты с дочкой в цирк собрался, — назидательно сказал генерал, — я бы тебя отпустил. А теперь ждать придется.
Шофер не обиделся, знал, это своего рода игра. Сказал бы, что с дочкой в цирк идет, Потапчук бы ответил: «Ничего, пусть жена с ней сходит. Женщине приятно на публике показаться».
— Жди здесь.
— Сколько ждать придется?
— Может, полчаса, а может, и все восемь.
Генерал бросил в портфель папку, полученную от замдиректора ФСБ, и, старясь держаться подтянутым, распрямив плечи, перешел улицу. Это наедине с самим собой Федор Филиппович мог позволить расслабиться, с подчиненными же он держал себя так, будто его не могли одолеть никакие болезни.
Служебная квартира Сиверова располагалась в старом жилом доме. Жильцы подъезда знали лишь, что в ней находится мастерская какого-то художника. Глеба Сиверова можно было представлять кем угодно — художником, журналистом, рабочим, писателем. Он обладал универсальным лицом, в котором каждый был волен разглядеть что угодно: один интеллектуала, другой недалекого рубаху-парня, третий ловеласа. Скажи кому-нибудь, что Глеб — преступник, отсидевший десять лет за убийство, поверили бы и этому. Такая внешность удобна — захочешь, на тебя обратят внимание, а пожелаешь — никто тебя и не заметит. Своеобразная шапка-невидимка.
Потапчук преодолел шесть высоких этажей без единой передышки и, остановившись у металлической двери, прислушался к биению сердца.
— Входите, Федор Филиппович, — уже из коридора на генерала пахнул чудесный аромат свежесваренного кофе, дым дорогих сигарет. Слышна была музыка.
— Снова Вагнер? — Потапчук снял солнцезащитные очки и, поскольку это было единственное, с чем он пожелал расстаться, положил их на полку вешалки.
— На этот раз Верди.
— Никогда отличать их не научусь.
— Вам это и не надо.
Генерал прошел в большую комнату. Она многим напоминала мастерскую художника, если не считать, что в ней не было ни единого холста, ни единой картины. Подиум, застланный полотном, лампы, укрепленные на кронштейнах, ими при желании можно было высветить любую точку помещения. Компьютер, немного книг на деревянной полке и, конечно же, музыкальный центр и стойка для компакт-дисков.
— Ты бы для приличия хотя бы этот, как его… — пытался припомнить генерал, — поставил.
— Этюдник, что ли? Или мольберт?
— Конечно, он самый.
— Ко мне только вы и приходите. Но вы-то знаете, что я не художник. К тому же теперь художник может работать и на компьютере, без красок. Глеб широким жестом указал на потухший монитор и тут же спросил: — Как сердце, Федор Филиппович?
— Как в молодые годы, — улыбнулся генерал.
— Это как? — сразу почувствовал подвох Глеб.
— Так же неровно оно у меня билось, когда я впервые поцеловал девушку.
— Надеюсь, все остальное функционирует не хуже?
— Да, да, все как и в первый раз, — генерал принял из рук Сиверова чашечку с кофе. — Соблазны те же, но возможности уже не те, — вздохнул Потапчук. — Теперь мне только и остается что нюхать кофе, вдыхать дым твоей сигареты и глазеть на женщин. Страшно, Глеб! Мозги остаются прежними, а тело дряхлеет, — генерал звонко положил на журнальный столик портсигар, вытащил последнюю сигарету и картинно прикурил от бензиновой зажигалки. — Глеб Петрович, ты на меня не обижайся, пришел я к тебе по делу, от которого нельзя отказаться.
— Кому нельзя, мне или вам? — сразу же уточнил исходные позиции Глеб.
— Мне нельзя, а значит, тебе — тоже. Я сам сто раз себе в душе говорил «нет», придумывал десятки способов увильнуть, но, когда меня прямо спросили, берусь я или нет, ответил одним словом — «да».
— Я еще не знаю, что отвечу, — серьезно сказал Глеб, садясь напротив генерала.
— Музыку выключи.
Глеб подхватил пульт дистанционного управления и через плечо направил его на музыкальный центр. Музыка мгновенно замолкла.
— Тебе придется убрать одного человека, — и тут же предвидя возражение, Федор Филиппович вскинул руку. — Погоди, Глеб, отказаться ты всегда успеешь. Войди в мое положение, меня обязали не разглашать тебе подробности, просто указать цель. Но для этого сгодился бы банальный киллер.
— Уже и вы сорите английскими словечками, — подколол Потапчука Слепой.
— Я, зная твои принципы, расскажу тебе предысторию человека, и ты узнаешь, почему именно его, именно сейчас решили убрать. А тогда решай сам.
— Я хотел бы глянуть на его фотографию, — попросил Сиверов.
Федор Филиппович с готовностью распахнул папку, полистал и вытащил большого формата портрет, отпечатанный на цветном принтере. Перед Глебом был портрет мужчины типично восточной внешности: жесткие темные волосы, округлое полное лицо, карие глаза с легкой поволокой, какие в народе принято называть коровьими, несколько щегольские усы.
— Я могу сказать, что этот человек обладает сильной волей, — тихо сказал Глеб, обращаясь как бы к самому себе, — что родился на Среднем Востоке. По национальности скорее всего — он задумался, — узбек, но не из наших, не из советских. Большую часть жизни провел в Афганистане, в боях, если и участвовал, то как командир. В атаку не ходил, в окопах не сидел. Фото сделано не так давно, теперь он живет в России, — Сиверов отложил фотографию и глянул на генерала с легкой улыбкой, мол, не ошибся?
— Не знаю, Глеб, как ты это делаешь, но все — сущая правда. Даже если ты назовешь его имя, я не удивлюсь, наоборот, это многое объяснит мне Возможно, ты уже встречался с ним?
— Нет, никогда. Скажите, Федор Филиппович, какое из предположений, сделанных мною, более всего удивило вас?
— Откуда ты знаешь, что он сейчас живет в России?
— Иначе вы ко мне не обращались бы, иначе он не попал бы в сферу интересов ФСБ.
Потапчук рассмеялся:
— Глеб, или ты слишком, умный, или я слишком тупой.
— Ни то ни другое, Федор Филиппович, просто каждый из нас привык мыслить своими категориями.
— Да, он афганец, по национальности — узбек, зовут его Омар шах-Фаруз. Во время афганской войны поддерживал наших, занимал большие должности, но умел ладить и с душманами. Никогда не лез вперед, не светился. После вывода советских войск перебрался в Москву. Омар был ценным клиентом для ГРУ, для внешней разведки, ему доверяли и доверяют в арабском мире, особенно в Палестине и в Ираке. Благодаря ему в восьмидесятые годы наше правительство легко переправляло на Восток партии оружия.
— Кому переправляло? — уточнил Сиверов.
— Тогда это называлось «помогать национально-освободительным движениям», теперь чаще употребляют термин «пособничество международным террористам».
— Связи, как я понимаю, у него остались?
— Еще какие! Когда у нас начался дикий капитализм, Омар круто поднялся. Его друзья из Афганистана быстро сообразили, что лучшего места для отмывки денег, чем Россия, не придумаешь. Если во всем мире гоняются за легальными деньгами, размещенными на банковских счетах, то у нас в почете «наличка». Русские фирмы готовы перечислять деньги полтора к одному, для того чтобы обналичить безнал. У наркоторговцев другая задача — наличные деньги превратить в банковский счет. Омар поставил дело на широкую ногу. Сегодня по Москве и России ему принадлежат пять супермаркетов, восемь крупных магазинов, сеть заправок на юге, даже несколько региональных газет и, подозреваю, еще многое, о чем ФСБ даже не догадывается. Но это лишь видимая часть, хотя и ее Омар особо не афиширует. Только избранные люди в тех же супермаркетах знают, кому они принадлежат на самом деле. Основной же его промысел — торговля российским оружием.
— И ФСБ об этом знало?
— Знало и знает. Насколько я понимаю, он занимается этим с молчаливого благословения нашего правительства.
— По какой схеме?
— Он переправляет стрелковое вооружение, гранатометы в Беларусь, а уже оттуда направляет их по своей клиентуре в горячие точки — в ту же Югославию, на Ближний Восток, в Африку. Мы не можем официально вести торговлю оружием с воюющими странами, а Беларуси в международном плане терять уже нечего. До этого Омар проводил сделки чисто, но если бы его и накрыли, то к России претензий не предъявишь. Ответ у чиновников был заготовлен: оружие белорусское, бывшего советского производства, вот к белорусам претензии и предъявляйте.
— И чем же теперь не угодил нашей конторе Омар? — Глеб продолжал разглядывать фотографию.
— Американские, английские и французские спецслужбы раскопали, что это именно Омар шах-Фаруз организовал два теракта. Помнишь, когда расстреляли в Париже автобус с английскими туристами? И второй террористический акт — взрыв в Чикаго, в супермаркете. Американцы сейчас готовят документы и через три недели потребуют от России выдачи Омара шах-Фаруза. Пойти мы на это не можем. Во-первых, Советское правительство предоставило ему гарантии безопасности, когда он переезжал в Москву, во-вторых, выплывут на белый свет не только подробности по сделкам с оружием советского производства, но и выяснится, что мы до сих пор подбрасываем оружие палестинцам, переправляем его в Ирак. Омар не должен попасть в руки американцев, и не потому, что там его ожидает электрический стул, просто мы не можем поставить под удар правительство России. К тому же он мерзавец, — напомнил Потапчук, — дважды его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетних, но он откупался деньгами.
— Погодите, Федор Филиппович…
— Он был мерзавцем во все времена, и когда торговал оружием с теми, кто представлял наши интересы на Востоке, и тогда, когда готовил террористические акты.
— Я согласен, что он заслужил смерть и не избежит ее. Но при чем здесь я?
— Во-первых, — Федор Филиппович принялся загибать пальцы, — мы не можем допустить, чтобы он попал в руки заграничных спецслужб. Во-вторых, мы не можем устранить и даже арестовать его официально, в-третьих, мы не можем допустить, чтобы его ликвидировали в России, это сразу же спровоцирует ненужную шумиху — за месяц до того, как Омара затребуют западные правительства по обвинению в подготовке терактов, его убьют в Москве? Нет, Глеб, есть единственный способ повернуть дело так, чтобы комар носа не подточил. Омар редко покидает Москву, наверное, все вышеперечисленное он понимает не хуже нас с тобой. На протяжении будущего месяца Омар всего один раз покинет пределы России, вот тогда ты и должен убрать его.
— Пока что должны вы, я еще не сказал «да».
— Но и не сказал «нет», — улыбнулся Федор Филиппович.
— Какие интересы на этот раз он преследует в Беларуси?
— Омар едет в Витебск на музыкальный фестиваль «Славянский базар».
Улыбка Сиверова свидетельствовала: знаем мы эти фестивали, террористов музыка интересует в последнюю очередь.
— Как звучит официальная версия? — спросил Глеб.
— Омар спонсирует выступление палестинской певицы.
— С каких это пор палестинцы стали славянами? — деланно удивился Глеб.
— А израильские певцы на том же «Славянском базаре» тебя не смущают?
— Я уже привык, что к славянам, когда это выгодно, у нас причисляют и грузин, и армян, и даже греков.
— Не знаю, — нахмурился Потапчук. — Такие вопросы задавай не мне, а устроителям фестиваля. Если устранение Омара произойдет на территории Беларуси и это будет выглядеть как криминальная разборка или же как несчастный случай, считай, ты вытащишь Россию из еще одной выгребной ямы прошлого.
— Боюсь, как бы это не втянуло ее в новую яму, — Глеб одним глотком допил кофе.
— Вот все, что на этот день у меня есть, и больше не предвидится, времени мало.
Потапчук принялся раскладывать на журнальном столике документы. Сиверову даже пришлось переставить кофе на подиум. Потапчук, увлекшись, не выпускал сигарету из зубов. Он уже позаимствовал вторую из пачки Сиверова.
— Вот номер вагона и поезд, которым Омар отправится в Витебск, поэтажный план гостиницы «Эридан». В ней он проживет весь фестиваль, если, конечно, не передумает. Кстати, номер певички с ним на одном этаже.
— Его амурные похождения меня не интересуют.
— Почему?
— Влюбленность или даже сексуальная слабость — это чисто человеческие чувства. Я не могу себе позволить очеловечивать врага.
— Для тебя он не человек, а мишень, — строго напомнил Потапчук одну из заповедей специального агента. — Передвигаться по городу Омар будет на собственной машине — новой «вольво», черной. Ее перегонят в Витебск. Программы пребывания Фаруза я не знаю, и вряд ли она существует. Держи расписание концертов и приемов. Если хочешь, я могу организовать тебе приглашение на каждый из них.
Сиверов задумчиво перебирал бумаги, складывал их в одному ему ведомом порядке.
— Он едет один?
Потапчук пожал плечами:
— Времени было очень мало. Информацию взяли из подбора — то, что имелось в ФСБ. Ведь только вчера американцы специально организовали утечку из своего ведомства, чтобы мы смогли успеть убрать Омара.
Потапчук помедлил и неуверенно предложил:
— Назови свою цену за работу, Глеб.
— Пока я сделать этого не могу.
— Почему?
— Боюсь продешевить. Я не знаю, зачем он едет, с кем встречается, но главное, Федор Филиппович, мне придется действовать в экстремальных условиях.
— Почему?
— Витебск — город небольшой. Народа во время фестиваля набьется выше крыши.
— Затеряться среди приезжих — дело плевое.
— Вы, наверное, плохо читали программу фестиваля, — и Сиверов подал генералу папочку с аккуратно заправленными в пластик бумажными страницами.
Теперь и до Потапчука дошло, какую подставу ему учинил замдиректора ФСБ. В программе значилось, что в один из дней фестиваля на сцене появятся сразу три президента: России, Украины и Беларуси.
— Вы представьте себе, — Глеб придавил пепельницей программу, — три президента — три службы охраны, тройные меры предосторожности. На курок, как говорите, вы, я нажать смогу, и Омар будет мертв. Но после этого начнется что-то невообразимое: амфитеатр на пять тысяч мест, начнется стрельба — люди затопчут друг друга. Я, конечно, умею многое, но в службу охраны глав государств набирают не последних идиотов. И конечно же, Федор Филиппович, день, когда президенты встречаются, никому не известен заранее. Одни меры предосторожности порождают другие, а в результате может сорваться хорошо задуманная операция.
— Я постараюсь разузнать точное число встречи, — неуверенно проговорил генерал.
— И не пытайтесь. Информации вы не получите. Хорошо. Я берусь устранить Омара, — полуприкрыв глаза, проговорил Глеб.
— Что тебе для этого нужно?
— Полчаса тишины.
Генерал Потапчук сидел, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть Сиверова. Тот молча курил, выпускал колечки дыма, пытался нанизать их на сигарету, иногда просто любовался их извивами.
Когда долго чего-то ожидаешь, поневоле начинаешь прислушиваться к собственному организму, а если лет тебе порядочно — что-нибудь да обнаружишь. Сперва Потапчук ощущал свое сердце, билось оно сносно, но не так часто, как в молодые годы. И потихоньку генерал стал забывать о нем, зато стала ныть рана, полученная три года тому назад. Генерал вообще поражался, как тогда он остался жив. Если бы не упал головой в снег — лежать бы ему сейчас на кладбище или, что хуже, в больничной кровати, пребывая в состоянии овоща. Обнаружили его лишь через полчаса после остановки сердца. И если бы не свалившаяся шапка, не двадцатиградусный мороз, не снег, охладивший мозг и сохранивший его от омертвения…
Потапчук поежился, представив себе леденящую душу картину: больничная палата, резкий запах мочи, плачущая жена…
И тут он почувствовал, что ноет зуб, давно залеченный и прикрытый коронкой. Боль была сперва слабой, еле ощутимой, но коварной, нараставшей, подступавшей толчками. Потапчук недовольно поморщился.
— Вы расстроены тем, что я так долго думаю? — спросил Глеб, мыслями вновь возвращаясь в мастерскую.
— Нет, Глеб Петрович, ты тут ни при чем. Зуб побаливает.
Сиверов пропустил ответ мимо ушей:
— Мне нужны… — Глеб глубоко вздохнул, чтобы выпалить все на одном дыхании.
Потапчук торопливо схватил бумагу и ручку. На память, подпорченную прожитыми годами, он не надеялся.
— …две хорошие бельгийские снайперские винтовки, их заранее спрячут в указанных мной местах. Ослепляющая граната, лучше три штуки. Магнитная мина, эквивалентная килограмму тротила, с электронным управлением. Автомобиль представительского класса с затемненными стеклами и московскими номерами, лучше всего шестисотый «мерседес», — гарантировать, что он вернется целым, я, естественно, не могу; униформа водителя…
Потапчук на глаз попытался определить размер, который носит Сиверов, но тот его опередил:
— Униформа должна быть сшита на двухметрового верзилу. Ботинки — сорок шестого размера, при ходьбе они не должны издавать ни звука.
Потапчук автоматически записал и это.
— С гостиницей во время фестиваля, как понимаю, будет напряженка. Но мне нужны: один номер в гостинице «Эридан», где поселится Омар, еще один номер в самой большой гостинице города и хороший номер в каком-нибудь пригородном доме отдыха или на туристической базе, в мотеле, не дальше двадцати километров от Витебска.
— Что еще?
— Еще мне нужна боевая машина пехоты с полным боекомплектом и замаскированное укрытие для нее на минском выезде из города.
Не дописав до конца, Потапчук вскинул голову и уставился на Сиверова.
— Это серьезно?
— Настолько же, как и униформа для двухметрового верзилы, — рассмеялся Глеб. — Уже и пошутить нельзя. Вы слишком мне доверяете, Федор Филиппович. Вычеркивайте боевую машину пехоты.
— И униформу? — спросил Федор Филиппович, любивший во всем порядок.
— Нет, униформу оставьте. И ботинки тоже.
— На хрена они тебе сдались?
— О том, что я существую в вашем ведомстве, некоторые знают. И если вы закажете униформу и ботинки, то нетрудно будет понять, что они предназначены для меня. Пусть думают, будто я два метра ростом и ношу сорок шестой размер.
— Глеб, я и не подозревал, что ты так осторожен. Как ты решил его убрать? — сложив бумагу пополам и засунув во внутренний карман пиджака, спросил Потапчук.
— Пока еще не знаю. Осмотрюсь на месте. Номер в гостинице закажите за два дня до фестиваля. Да, и бэдж участника «Славянского базара» мне не забудьте принести.
— Какую должность в нем тебе проставить?
— Координатор.
— Хорошо, Глеб. Документы получишь через неделю. Никуда из Москвы не уезжай, будь на месте. Если понадобится, я тебя отыщу. Возможно, дадут отбой.
Потапчук с отвращением загасил недокуренную сигарету. Во рту горчило, голова кружилась.
— Спасибо, Глеб, что не отказал.
— Не забудьте, цену я назову после того, как выполню задание.
Сиверов пожал генералу руку, и Потапчук вышел на лестничную площадку.
Шофер дремал в машине, откинув спинку сиденья. Он даже не сразу проснулся, когда Потапчук постучал в стекло.
— Можешь ехать в гараж без меня, Василий. Я уж как-нибудь дойду пешком. Надеюсь, тебя сегодня больше никто не потревожит.
Сказав это, Федор Филиппович заложил руки за спину и пошел по улице. Тучку согнало ветром, и ярко засияло солнце. Только тогда Потапчук вспомнил, что забыл солнцезащитные очки на вешалке у Глеба Сиверова.
— Не велика потеря, всего сорок рублей, — щурясь от яркого света, пробормотал генерал и опустил руку в карман, где обычно держал портсигар. Он знал, что в нем нет ни сигареты, но есть вещи, к которым привыкаешь и без них чувствуешь дискомфорт. Плоский, на один ряд сигарет, серебряный портсигар покоился на месте. Но рядом с ним отыскались и очки, хотя генерал точно помнил, что повесил их на вешалку.
«Когда только засунуть успел? И все-то он примечает, — подумал генерал о Сиверове. — Глеб, если согласился, выполнит задание.»
ГЛАВА 2
К контрольно-пропускному пункту на белорусско-литовской границе, в районе небольшого городка Ошмяны, вытянулись две длинные очереди машин — отдельно трейлеры, отдельно легковые. Пересменка на таможне только началась, и те, кто не успел пересечь границу, коротали время: кто раскладывал прямо на капоте машины нехитрый ужин, состоящий из сала, черного хлеба и минеральной воды; кто перебрасывался в карты. Никто не нервничал. Люди здесь собрались в основном привычные челноки, дальнобойщики, мелкие бизнесмены.
Обе смены белорусских таможенников собрались во времянке. Здание терминала с восточной стороны еще достраивалось. Отбывшие смену переодевались в штатское, прибывшие — надевали форму. Начальник новой смены Козлеятко переоделся раньше других. Грузный мужчина с благородной сединой, в форме, он смотрелся внушительно. Люди, плохо знавшие его, испытывали при встрече с ним беспричинное волнение Даже кристально чистым туристам, не везущим через границу ничего запрещенного, тут же мерещилось, что их ссадят с автобуса, потому что в чемоданах непременно отыщется контрабанда.
Бывают такие люди, которые одним своим видом умеют внушать почтение и трепет. Но стоило повнимательнее и непредвзято заглянуть Козлеятко в глаза, как тут же становилось ясно: никакой он не страж порядка, а самый заурядный вороватый чиновник. Глаза у него бегали, как у всякого воришки, укравшего больше, чем ему положено. Обычно на таможне работают не больше трех лет, а затем уходят в легальный бизнес. Иначе накопленное богатство трудно спрятать от посторонних глаз.
В Ошмянах Козлеятко жил в простом деревянном доме, доставшемся ему еще от отца, но успел возвести два коттеджа по другую сторону границы, в Литве. Их обживали его сыновья с невестками. Так уж повелось: литовские пограничники строили дома в Беларуси, а белорусские — в Литве. Козлеятко служил на таможне уже третий год и начинал подумывать, куда бы ему вложить деньги.
Начальник смены стоял на крыльце вагончика времянки и курил. Сигарет, как и спиртного, он уже давно не покупал, все приносили ему прямо на дом.
Вереница машин растянулась почти до горизонта, и таможенник обреченно вздохнул.
«Придётся поработать… Сволочи, — подумал он о сменщиках, — в конце работы дурака валяли, чтобы нам больше единиц транспорта осталось. Ну ничего, я вам в утреннюю пересменку устрою, за смену не разгребетесь, — взглядом таможенник выхватывал из очереди знакомые машины. — С водителя восьмидесятой „ауди“ много не получишь, — думал он, — максимум десятку. Как всегда, везет контрабандную водку. А вот с водителя белого микроавтобуса можно поживиться и соткой — челноков катает.»
Когда виртуальная сумма достигла пятьсот баксов, Козлеятко сладко потянулся, щелчком отбросил дымящийся окурок и вернулся во времянку.
В это время со стороны Минска появился темно-синий внедорожник «опель». За рулем сидел худощавый мужчина лет сорока пяти, по-модному небритый, в дорогой, но безвкусной одежде. Сразу чувствовалось, что человек всю жизнь проходил в форме и теперь никак не научится носить костюм. «Опель», взвизгнув тормозами, остановился в самом конце очереди. Мужчина ступил на асфальт и, приложив козырьком ладонь к глазам, глянул вперед. Идти полтора километра пешком ему не улыбалось, да и бросать машину на произвол судьбы — не дело. Он забрался в салон и, вытащив из перчаточного ящичка машины пачку долларов, принялся на коленях методично отсчитывать купюры. Когда соток набралось ровно тридцать, он туго свернул их в трубку и перетянул черной аптекарской резинкой. Завернул в газету, аккуратно закрутил концы, отчего денежный сверток стал похож на большую конфету. После этого мужчина круто вывернул руль, и джип сполз с пологого откоса.
Среди кустов и молодых сосенок петляла не то дорога, не то тропинка, вся в выбоинах, в лужах. Машина, поскрипывая и раскачиваясь, ползла вдоль шоссе, уставленного автомобилями. Наконец впереди показалось проволочное заграждение. Мужчина заглушил двигатель и забрался по откосу к сетчатому забору. Неподалеку виднелась времянка таможенников. Как назло, на крыльце никого не оказалось. Пару раз мужчина неуверенно крикнул:
— Эй!
Но внутри вагончика играло радио, и никто его не услышал. Тогда он насобирал пригоршню шишек и стал их бросать. С третьей попытки удалось попасть в окно. Стекло жалобно задребезжало. Таможенник, чья широкая спина виднелась в окне, обернулся и нехотя свернул веер карт.
— Эй, начальник, — обратился он к Козлеятко, — твой братан приехал.
То, что мужчина на «опеле» никакой не родственник начальника смены и уж тем более не брат, знала каждая собака на границе. Ошмяны городок небольшой, и люди, что-то значащие в его жизни, знают друг о друге все. Но условности соблюдать приходилось. Раз начальник сказал, что владелец «опеля» двоюродный брат, — значит, так тому и быть.
— Опять за кого-нибудь просить станет, — фальшивое недовольство исказило лицо Козлеятко, но при этом глаза его радостно засветились.
Он неторопливо проследовал на крыльцо и приветственно помахал небритому мужчине за сетчатым забором.
— Ты чего, Леонид, камнями бросаешься? Стекло разобьешь — вставлять заставлю.
— Это же всего лишь шишки, — подмигнул Леонид и продемонстрировал кулак, с двух сторон которого торчали газетные хвосты.
Таможенник погрозил визитеру пальцем, при этом довольно улыбнулся. Козлеятко вплотную подошел к забору и поздоровался с Леонидом Новицким, бизнесменом из Минска. Поскольку ячейка в проволочной сетке была мелкая, здороваться пришлось не пожатием руки, а сцепив указательные пальцы.
— Сегодня ночью фура придет, — особо не боясь, что его услышат, говорил Новицкий, — ты уж, как всегда, обеспечь беспрепятственный проход товара.
— Ох уж эти мне бизнесмены! — вздохнул таможенник. — Мебель возите, а в документах указываете — дрова.
— Ну уж, не дрова, — изобразил обиду Новицкий, — а полуфабрикаты для мебельного, производства.
— Кончится когда-нибудь мое терпение.
Рука таможенника красноречиво искала в сетке ячейку покрупнее. Новицкий изловчился и просунул в дырку сверток с деньгами.
— Три штуки, как и договаривались. Совсем ты меня разоряешь.
— Я же не крохобор какой-нибудь, не все мне в карман идет. Такса существует, мне с литовцами делиться надо.
— Можно подумать, они с тобой не делятся.
— Они? — начальник смены сплюнул под ноги, — они скорей задавятся, чем лишнюю копейку переплатят. Наши, славяне, — другое дело.
Козлеятко говорил так для порядка. На той стороне границы в таможне служили отнюдь не литовцы, а те же белорусы и поляки, что и с восточной стороны. Многие из них являлись родственниками друг другу. Литовцем по паспорту был лишь начальник смены, да и тот носил подозрительную фамилию Баранаускас, Местные старожилы утверждали, что еще его дед по паспорту был Барановым.
Тутой скруток спрятался в широкой, как совковая лопата, ладони белорусского таможенника.
— Смотри, чтобы до девяти утра фура пришла. До пересменки, — предупредил Козлеятко, — сменщики заступят, не пропустят.
— Будет как всегда, — пообещал Новицкий, подмигивая начальнику смены.
Расстались они полностью довольные друг другом. У Козлеятко было не много таких хороших клиентов, как Новицкий. Обычно деньжата обламывались по мелочевке. А разницы нет: берешь десять баксов или десять тысяч — рискуешь одинаково. Объявился Леонид на пограничном переходе год назад и сразу же предложил выгодную схему: пригоняют фуру с мебелью, накладные же оформлены как на материалы — ламинированные плиты, древесный массив. Первое время Козлеятко удивляло направление, в котором Новицкий возит мебель: из Беларуси в Литву. Обычно же возили с запада на восток.
«У каждого свой бизнес, — рассудил таможенник. — Не станет человек действовать себе в убыток.»
Новицкий, проклиная лес и грязь, вновь выехал на шоссе.
«Жаль, машина не собака, чтобы отряхнуться от грязи, — подумал он, разглядывая залепленные грязью колеса джипа. — Пока доеду до Минска, на ветру обсохнет и обвалится», — решил он, вновь садясь за руль.
Ему повезло. Новицкий пристроился за машиной с дипломатическими номерами и мчался по шоссе со скоростью сто двадцать километров в час. Гаишники с радарами радостно выбегали на шоссе из своих укрытий, но потом зло матерились: с дипломата не потребуешь откупного. За компанию проскакивал и Леонид.
Бизнесом Новицкий пытался заняться уже давно — с самого конца перестройки. Бывший офицер, прошедший Афганистан, с распадом Советского Союза оказался не у дел. Он пробовал изготавливать надмогильные памятники, торговать фруктами, мороженой рыбой. Но стоило ему чуть-чуть развернуться, как тут же, словно стервятники на падаль, слетались контролеры и налоговики. Приходилось откупаться. И чем больше Новицкий платил, тем больше становилось желающих.
В конце концов, чтобы совсем не прогореть, приходилось свертывать дело и начинать новое. А освобожденную им нишу уже занимал кто-нибудь из родственников чиновников, наславших на него проверки. Но Новицкий был упрям. Полтора года тому назад он решил торговать мебелью. Возил дешевую белорусскую мебель в Литву, где сбывал ее процентов на тридцать дороже. Закон старался ни в чем не нарушать, документы оформлял правильно, налоги платил исправно. Кое-что оставалось ему и на жизнь.
И в тот момент, когда бывший советский офицер смирился с мыслью, что уже никогда не сумеет круто разбогатеть, а будет довольствоваться крохами, в его небольшой офис на окраине Минска зашел несколько странного вида человек. То, что пришедший не славянин, Новицкий понял с первого взгляда: жесткие черные волосы, масляные глаза.
— Омар, — назвался визитер и без приглашения уселся в мягкое кресло для гостей.
По-русски Омар говорил правильно, слов не коверкал, хотя и чувствовался легкий акцент. Вместе с тем в его разговоре присутствовал и типичный московский говорок. Слово за слово, выяснилось, что Омар — афганец, перебравшийся после ухода советских войск в Москву. Немного странно было видеть перед собой человека из страны, с которой ты сам воевал. Омар рассказал, что тоже занимается мебельным бизнесом и хотел бы объединить усилия.
На многое Новицкий не рассчитывал, но, когда Омар изложил свои условия, у Леонида глаза округлились. Самому ему почти ничего не нужно было делать. Мебель за свои деньги покупал афганец, грузил ее в фуру в Москве и пригонял в Беларусь. Все, что от Новицкого требовалось, — найти в Минске трейлер, прицепить к нему уже загруженную фуру и дать взятку таможеннику на границе, чтобы груз пропустили без досмотра. Трейлер доставлял фуру в Клайпедский порт и тут же возвращался в Минск.
За каждый рейс Омар предлагал Новицкому десять тысяч долларов. Три тысячи уходили на взятку, полторы тысячи на транспортировку, еще пятьсот приходилось отдать как таможенную пошлину, полторы тысячи съедали офис, налоги. В результате каждую неделю у Новицкого на руках оставалось три с половиной тысячи долларов. Когда Леонид проработал с Омаром три месяца, то почувствовал вкус больших денег. Приятно радовало и то, что, всяческие проверки и бандиты улетучились как по мановению волшебной палочки.
Леонид осторожно поинтересовался у афганца, почему, собственно говоря, тот не может сам дать взятку таможеннику и найти белорусский трейлер. Афганец улыбнулся и похлопал бывшего советского офицера по плечу:
— Леня, не забывай, кто ты, а кто я. Восточных людей — азиатов — у вас не любят. Одно дело, когда взятку дает свой, славянин, а другое, когда деньги пытается втюхать лицо нерусской национальности. Мне так спокойнее. Поверь, деньги я тебе зря не плачу.
И Новицкий успокоился. Он чувствовал, что у Омара многое схвачено. Возможно, кроме мебели, он переправляет через границу и небольшие партии наркотиков. Но если хочешь получать большие деньги, то приходится поступаться и принципами. К тому же Новицкий одинаково не любил и прибалтов, и мусульман.
«Если мусульмане и травят прибалтов наркотиками, то это их разборки и их проблемы», — рассудил он.
До Минска от границы Новицкий домчался за два с половиной часа, благо, не надо было ехать через весь город: его офис находился на северо-западной окраине столицы Беларуси. Офисом одноэтажную хибару из силикатного кирпича мог назвать только неисправимый оптимист. Когда-то тут располагался приемный пункт стеклотары, но он Новицкого вполне устраивал. Здание на двадцать квадратных метров и огороженная площадка — склад.
Омар скучал, сидя за письменным столом. Афганец забросил на столешницу ноги, обутые в дорогие ботинки. Новицкий каждый раз изумлялся: подошвы ботинок были такими чистыми, словно афганец надел их, уже зайдя в кабинет.
Фура, прибывшая из Москвы, стояла на площадке. Омар с недоверием взглянул на часы:
— Быстро же ты успел обернуться.
— Все в порядке, таможня дает добро. Готовь документы.
Омар уступил хозяйское кресло Новицкому.
Документы, прибывшие с фурой, из которых следовало, что она загружена мебелью московских производителей, Омар спрятал в портфель. Новицкий составил новые накладные. По ним получалось, что фура загружена полуфабрикатами белорусского производства.
— Мы с тобой фокусники, почище Дэвида Коперфильда, — рассмеялся Омар. — Трах-тибидох, и концов не найти.
Сделка между афганцем и белорусом никогда не составлялась документально: деньги из рук в руки — наличными, документы писались с чистого листа.
Компаньоны еще успели посмотреть последние новости по старому, купленному на барахолке, телевизору, когда подъехал заказанный Новицким трейлер. Шофер всегда приезжал один и тот же — Виктор Баранчук на новеньком МАЗе.
Баранчук, хоть и было ему уже пятьдесят лет, лелеял мечту начать собственное дело — скопить денег и купить микроавтобус, возить на нем челноков в Россию, Польшу и Литву. Потому и рвался работать с фирмой Новицкого: тот жадным не был, всегда набрасывал полтинник сверх положенного — лишь бы только в дороге ничего не случилось.
Баранчук привычно, не дожидаясь хозяина, подогнал трейлер под фуру, закрепил ее, и только собрался зайти в офис, как навстречу ему вышли Омар и Леонид. Омара Баранчук видал редко, раз пять за все время, но знал, что это именно тот человек, который дает ему работу. Шофер и афганец вместе обошли фуру, проверили пломбы.
— Смотри не гони: растрясешь, — предупредил Новицкий, передавая Баранчуку документы. Затем вручил конверт с деньгами. — Когда приедешь в Клайпеду, позвонишь мне на «мобильник».
— Хозяин, все будет в ажуре, — пообещал Баранчук, забираясь в кабину МАЗа.
Папку с документами он бросил на соседнее сиденье, конверт же с деньгами спрятал глубоко во внутренний карман потертого кожаного пиджака. Как всегда перед дорогой, Баранчук закурил крепкую сигарету без фильтра, вставленную в погрызенный пластиковый мундштук. Шоферу с мундштуком курить сподручнее: держись двумя руками за руль, сигарета в губах не мокнет, дым глаза не ест. МАЗ выбросил из выхлопной трубы густое облако темного дыма, и фура медленно выехала с площадки.
— Сегодня мы поедем за ним, — неожиданно сказал афганец.
Новицкий, уже настроившийся, что через час будет дома, мысленно выругался. В холодильнике его ждала целая упаковка баночного пива и бумажный пакет с сухой рыбой. Теперь же получалось, что, только вернувшись от литовской границы, он вновь должен к ней ехать. Леонид умаляюще посмотрел на афганца, но во взгляде того не было жалости.
— Я должен проследить, — спокойно сказал Омар. Леонид почувствовал: упрашивать бесполезно. «В конце концов, это такая малость, — утешил он себя, — по сравнению с деньгами, какие мне платит Омар.»
Мужчины сели в «опель».
— Не старайся догнать. Иди так, чтобы между нами оставалось несколько километров.
«Зачем?» — хотелось спросить Леониду.
Он не видел в этом смысла. Но Омар был не из тех людей, кому принято задавать вопросы.
«Что ж, — решил Новицкий, — придется смотаться туда и обратно. В холодильнике пиво не согреется и не скиснет.»
Дорога к границе была одна, и, если бы с машиной Баранчука что-то случилось, они непременно увидели бы ее стоящей на обочине.
За город выехали, когда было уже совсем темно. Встречных машин почти не попадалось. Омар, незаметно для Новицкого, сунул руку под полу легкой куртки и нащупал в кобуре тяжелый пистолет. Усмехнулся.
— Музыку можно включить? — осведомился Леонид.
— Пожалуйста.
Новицкий не привык ездить медленно. Если выдавалась возможность, он гнал, сколько выжимала машина. Но теперь ему приходилось ползти как черепаха. Тяжелый трейлер скорости выше девяноста не мог развить просто физически.
— Не гони, — несколько раз напоминал Омар, когда впереди показывались габаритные огни фуры.
Наконец афганец не выдержал.
— Остановись, — скомандовал он, — у придорожного кафе. Поужинаем, куда нам спешить. Пусть оторвется.
В мангале зловеще краснели угли, зонтики над столиками трепыхались на ветру. Омар пил вино, Новицкому приходилось довольствоваться минералкой. Быстро остывший на свежем воздухе шашлык Новицкому приходилось резать ножом. Застывший жир покрыл его губы. Афганец же рвал мясо зубами и о чем-то сосредоточенно думал. Когда в его кармане заверещал «мобильник», Новицкий даже вздрогнул, настолько нереальным показался этот звук среди загородной тишины.
— Але, — бросил Омар в трубку, и тут же глаза его забегали.
Он затараторил по-арабски. Фарси, язык, на котором говорят в Афганистане, Новицкий немного знал и поэтому сперва пытался ловить слова, но вскоре сообразил: язык принадлежит к другой группе. Разговор был насколько оживленным, настолько же и коротким. Омар на глазах потух, спрятав «мобильник» в карман. Леониду показалось, что сейчас последует команда «гнать вперед со всей скоростью», но вместо этого Омар вяло махнул рукой.
— Еще минут десять подождем, не спеши.
Тем временем Баранчук, сидевший за рулем трейлера, не разжимая зубов, мурлыкал под нос песенку. В пластиковом мундштуке торчала погасшая сигарета, тихо играло радио, и пожилой водитель никак не мог попасть в такт с певцом.
Фура шла тяжело, словно ее под завязку набили тяжелым ДСП. В уме Баранчук прикидывал, сколько же ему осталось собрать денег до заветной покупки — белого, не старше пяти лет микроавтобуса. Он проделывал эту операцию каждый день. И каждый раз ему казалось, что осталось совсем чуть-чуть, пара месяцев. Однако всякий раз из денег, полученных за работу, на семью уходило больше, чем он рассчитывал.
«Еще полторы тысячи», — вздохнул водитель. В мечтах он уже видел себя за рулем белоснежного «фольксвагена», а в салоне своей несуществующей машины-мечты — мирно дремлющих челноков.
«Куплю машину — приглашу друзей, и махнем в лес на шашлыки, — размечтался Баранчук. И тут же отбросил эту идею как негодную: — Если я за рулем, значит, мне пить нельзя.»
Выпить он любил, для этого приходилось изыскивать левые деньги. Придерживая руль одной рукой, другой он извлек из заветного кармана конверт с деньгами, полученными от Новицкого. Большинства плат и поборов он избежать не мог, и взгляд его остановился на пятидесятидолларовой купюре, отложенной специально для оплаты за проезд по шоссе. Оплату установили совсем недавно, и не на выезде из Минска, а почти на самом подъезде к границе, когда основная часть дороги позади: просто власти решили не разоряться на два пропускных пункта.
— Очень трудно привыкнуть платить за дорогу, если до этого ездил по ней бесплатно» — так рассуждал не только Виктор, но и большинство водителей. С легковых автомобилей денег не брали, если те следовали с белорусскими номерами. С грузовиков же драли — со всех без разбора: скандинавы, немцы, поляки, даже литовцы с латышами вздыхали, но платили. Первое время платили и русские с белорусами, ругались, но расставались с дензнаками. В конце концов — не свои, а полученные от хозяина. Но славянская душа так уж устроена: если где-то можно закон обойти и сорвать халяву, это непременно будет сделано.
Трейлер, натужно урча мотором, взъехал на подъем, и с него открылся впечатляющий ночной пейзаж: переливающаяся огнями, дымящая, парящая, недавно построенная электростанция, гладь озера, полная луна на небе, мириады звезд, зубчатая полоска леса… Тут взгляд Баранчука наткнулся на красные огоньки поста по взиманию платы за проезд, полосатые шлагбаумы, стеклянные будки кассиров. Возвышенное настроение тут же испортилось. Баранчук нецензурно выругался:
— Придумали, еще и за дорогу платить. При коммунистах ее построили за народные деньги, а теперь кому-то в карман обламывается.
Вправо от шоссе уходил грунтовый съезд, перед которым стоял знак, так нелюбимый водителями, — «кирпич».
«Что за хрень, — подумал шофер, притормаживая и останавливая трейлер. — Если есть дорога, значит, по ней кто-то ездит, но если висит знак, то ехать по ней нельзя.»
Знак был новенький. Столб, на котором он держался, воткнут в кучу недавно высыпанного гравия. Баранчук полез за сиденье, вытащил карту и принялся искать на ней это самое место. Нашел. Возмущению его не было границ:
— А, гаишники, сучьи дети!
По карте выходило, что, попав на съезд, можно проехать две деревни и вновь оказаться на шоссе, но уже за постом, где берут деньги. Баранчук аккуратно сложил пятидесятку и засунул ее в портмоне. С этого момента она стала его собственностью.
«Кому какое дело, какой дорогой я попаду на пропускной пункт», — подумал он.
Подойдя к знаку, шофер обхватил тонкий бетонный столбик и, поднатужившись, вырвал его из кучи гравия. Знак с глухим звоном исчез в придорожном кювете. Водитель отряхнул руки и гордо вскинул голову: «Не было тут знака, когда я ехал».
Трейлер сдал задним ходом.
Баранчук, как законопослушный шофер, включил правые повороты, и его машина покатила по грунтовой дороге. Проселок оказался разбитым, впору только на тракторе ездить, но Баранчук, сжав зубы, вел машину. Во-первых, пятьдесят баксов он уже считал своими, а во-вторых, развернуться было уже негде. Впереди показалась деревня. Старые приземистые домишки вплотную подступали к дороге, и фура, расцвеченная огнями, на их фоне казалась пришельцем из будущего. Даже собаки боялись лаять на машину, ползущую по их деревне.
ГЛАВА 3
Полноприводной «опель» взъехал на подъем легко, словно мчался по ровной дороге.
— Красота, — сказал Новицкий.
Омар кивнул. Электростанция переливалась огнями, отражалась в озере. У самого леса подмигивал красными огоньками пункт оплаты за проезд. «Опель», разогнавшись на спуске, пронесся мимо грунтового съезда с одиноко торчащей кучей гравия.
Новицкий нетерпеливо барабанил пальцами по рулю, ожидая, пока сквозь единственный работающий шлагбаум проедет длиннющая цистерна из нержавейки.
— Пустая идет, — уверенно сказал Леонид. — Красивая машина, красивая надпись. А знаешь, Омар, что они в них возят?
Афганец, продолжая думать о чем-то своем, отрицательно покачал головой.
— Промышленные отходы они сюда возят. Немцы и скандинавы у себя боятся всякую отраву хоронить, а к нам, в Беларусь, и к вам, в Россию, возят. Кому-то неплохие деньги обламываются, но не нам с тобой, а чиновникам. Живут себе люди в городке и не знают, что у них под боком бомба замедленного действия.
— А для тебя есть разница, — спросил Омар, — своей отравой тебя в могилу сводят или заграничной?
Подобный вопрос поставил Новицкого в тупик.
Цистерна проехала шлагбаум, и кассир нетерпеливо махнул рукой — мол, проезжай, чего стоишь? С легковушек денег не берем.
— До границы пятнадцать километров осталось, — проговорил Новицкий, обходя на повороте отливающую в свете фар серебром длинную цистерну с красивой люминесцентной надписью.
— Умеют буржуи даже дерьмо в красивую упаковку заворачивать.
Омар нетерпеливо всматривался вперед. Впереди горели стоп-сигналы большой машины, стоящей на обочине.
— Нет, наша фура побольше будет, — успокоил его Новицкий. — Я думаю, Баранчук уже таможенный контроль проходит.
Омар немного расслабился, убедившись, что на обочине стоит не МАЗ, а «вольво», хотя фуры и были немного похожи.
Баранчук тем временем проклинал собственную жадность. Объездная дорога петляла среди кустов, валунов. На легковой машине тут еще можно было проехать, но длиннющая фура, того и гляди, отцепится. Виктор недооценил гаишников. Те тоже были славянами и прекрасно понимали психологию соплеменников. Перед самым въездом в лес, за которым горела скупыми огнями вторая деревня, высились две огромные кучи гравия. Между ними был оставлен узкий проезд, в который могла втиснуться средних размеров легковушка, но никак не большегрузный автомобиль. Баранчук остановил машину, спрыгнул на дорогу и принялся чесать затылок. Трижды он мерил шагами расстояние между кучами, и как ни крути, но широкий МАЗ между ними не пройдет!
— Сволочи!..
Водитель не жалел слов для тех, кто высыпал кучи гравия. Он вытащил из кабины лопату с длинной ручкой. Получалось, что не только придется попотеть, но и на таможенный терминал он опоздает. Обливаясь потом, водитель разбрасывал лопатой гравий. Лезвие то и дело натыкалось на крупные камни, в темноте даже искры выскакивали. Пот заливал глаза.
Полчаса махал лопатой Баранчук, пока вконец не выбился из сил.
«Баста», — прорычал он в ночную темень, разбавленную лунным светом.
Даже курить ему уже не хотелось. Но, назло всем, водитель закурил. Он сидел за рулем машины, зло сжимая в зубах мундштук с дымящейся сигаретой. Правая нога нервно давила на газ. По-хорошему, надо было бы еще полчасика помахать лопатой, но, как всякий славянин, Баранчук надеялся на авось.
Трейлер рывком двинулся с места, педаль газа пошла вниз. Баранчук шел на первой передаче. Вздыбилась кабина, когда трейлер переваливался через гравийный вал. Затем водитель увидел перед собой уже не небо со звездами, а ярко освещенный фарами песок проселка. Это задние колеса переезжали через кучи. Виктор еще сильнее сжал зубами мундштук и добавил газа.
«Кажется, пронесло…» — успел подумать Баранчук, прежде чем почувствовал, что правые колеса отрываются от земли.
Фура несколько секунд балансировала, затем завалилась на бок, увлекая за собой тягач. Баранчук даже не сразу понял, что произошло. Ему показалось, будто горизонт вдруг поднялся и стал вертикально. Справа теперь были звезды, слева — лес и дорога, а фары освещали верхушки сосен. Когда Баранчук пришел в себя, то больше всего его удивило не то, что автомобиль перевернулся (к этому он был готов), а то, что в зубах он продолжал сжимать мундштук с дымящейся сигаретой.
— Вашу мать! — сказал водитель, пытаясь удержаться за рулем.
Он уперся ногой в спинку соседнего сиденья, повернул ручку и распахнул дверцу, как люк.
— Хорошо, хоть все стекла целы.
Он выбрался на кабину, стал, как капитан тонущего корабля на мостике, и осмотрел картину разрушений. Фура лежала на боку. Переднее колесо трейлера медленно вращалось. Немолодой водитель с трудом спустился на землю. Ярко светила луна, освещая днища машины и фуры.
«Вот и заработал я пятьдесят баксов…» — зло подумал Баранчук.
Проблем появилось выше крыши. Мобильника у него не было, рации тоже. Бросить фуру на произвол судьбы и идти в деревню искать телефон он не мог: за сохранность груза расписывался.
«Хоть бы мебель не сильно поломалась», — с надеждой подумал он и боязливо глянул на дверцы фуры.
От удара сорвало запор, никому не нужная теперь пломба болталась на порванной проволоке. Баранчук еле успел отскочить, когда тяжелая дверца сама собой открылась и рухнула на дорогу, подняв столб пыли. Следом за ней посыпались обломки досок.
«Ну вот, еще и запор сорвало, — с отчаянием подумал водитель, глядя в непроницаемое облако пыли, из которого к его ногам упал обломок хорошо оструганной доски. — Ничего, наверное, не я один такой умный. Кто-нибудь тоже поедет в объезд. Попрошу позвонить его в контору Новицкому. Он с меня, конечно, голову снимет за груз. Ну и правильно сделает».
Пыль понемногу улеглась, и Баранчук решил посмотреть, что же все-таки сделалось с грузом. Он увидел торцы деревянных ящиков с набитыми под трафарет цифрами. Ящики были слишком маленькими для того, чтобы в них могли уместиться мягкие диваны и кресла. Ящики, оказавшиеся теперь внизу, не выдержали нагрузки и треснули. Из обломков торчали клочья промасленной бумаги. Баранчук уже собрался было заглянуть внутрь сломанного ящика, как услышал гул двигателя.
— Еще один идиот едет, — обрадовался он и взобрался на кучу гравия, чтобы посмотреть на еще одного любителя экономить хозяйские деньги.
Если бы ехал трактор, могла быть надежда поставить машину на колеса. Свет фар слепил водителя. Он не мог определить, что за машина приближается к нему. Ясно было одно — такой же бедолага, как и он, решивший сэкономить деньги. Виктору даже не пришлось махать руками. Легкий мерседесовский грузовик с бортовым кузовом остановился. Молодой парень соскочил на дорогу и сокрушенно покачал головой.
— Что ж, бывает, — сказал он вместо приветствия.
— Думал — объеду, — Виктор плюнул в дорожную пыль.
— Гаишники, сволочи!
— Сволочи! — согласился Виктор. — Хоть бы знак поставили,
— Я прошлый раз ехал, знак стоял, — сказал водитель, — но наш брат его всегда норовит в кювет сбросить. Днем еще постоит, а как стемнеет, его и вытаскивают.
— Слышь, братан, — сказал Баранчук, — у тебя «мобила» есть?
Молодой водитель засмеялся:
— Я похож на человека с «мобилой» в кармане?
— Нет, — признался Виктор, — но спросить-то можно.
— Ты спросил — я ответил.
Виктор вытащил пригоршню мятых рублей мелкими купюрами.
— Не в службу, а в дружбу, — обратился он к парню, — ты же на границу едешь…
— Через границу, в Каунас.
— Так вот, позвони с терминала в Минск.
Баранчук на колене шариковой ручкой прямо на рублевой купюре написал номер мобильного телефона Новицкого.
— Скажешь, что фура перевернулась. Пусть присылают другую машину груз перекинуть.
— Что ж, ждать тебе до утра здесь, если не больше, — безо всякого злорадства произнес молодой водитель. — Сделаю. Со всяким случиться может.
— Не могу же я машину бросить, — развел руками Баранчук и с тоской посмотрел на то, как легкий грузовик преодолел разровненные его стараниями кучи гравия и покатил по лесу.
— Кончит меня Новицкий, ой кончит…
Виктор вернулся к фуре, присел на корточки.
Никогда прежде ему не доводилось видеть, что именно он возит. Из Москвы в Минск фура приходила опечатанная. Опечатанную он и оставлял ее в Клайпедском порту. Прикормленные таможенники пропускали его без задержек, лишь штамповали документы. Он отвернул промасленную бумагу и замер… Под ней водитель увидел приклад автомата — новенький, сияющий лаком. Из-под него выглядывал ствол другого АКМа, густо покрытый заводской смазкой.
— Ни хрена себе! — пробормотал Баранчук. — Так вот какая тут мебель!
У него стало холодно внутри. Сколько раз он пересекал границу, а ведь могли тормознуть, открыть фуру, и тогда попробуй докажи, что не знал о контрабанде. Ящики были трех видов. Что в меньших, Виктор теперь уже знал. Вытащил сверху больший. Действуя обломком доски как ломиком, вскрыл его и увидел казавшийся в лунном свете черным ручной противотанковый управляемый ракетный снаряд. Такие Баранчук видел, когда последний раз был на военных сборах, в восемьдесят третьем году. Он торопливо принялся прибивать доски на место, а затем затолкал ящик в фуру и устало опустился на землю.
«Вот так влип», — подумал он.
***
Очередь на таможенном терминале уже рассосалась. Ночью мало охотников пересекать границу. Козлеятко хорошо изучил нравы водителей: к утру прилетят стаей — не успеешь разгребать. Деньги, полученные от Новицкого, он уже спрятал в тайнике: доллары носить в кармане на службе боялся. Тайник начальник смены придумал себе надежный. Брезгливые таможенники не пользовались общественным туалетом, а справляли нужду в лесу. И Козлеятко не поленился отойти подальше, чем обычно, нагнул молодую березу, прикрутил к ее стволу скотчем газетный сверток с деньгами, а затем отпустил дерево. Три тысячи баксов, спрятавшись среди листвы, вознеслись на высоту пяти метров. И теперь начальник смены любовно вглядывался в темноту, прислушивался, пытаясь различить в шуме листвы шелест денег.
«Опель»-внедорожник остановился у вагончика времянки. Козлеятко не стал дожидаться, пока Новицкий зайдет вовнутрь. Переговорить стоило с глазу на глаз.
— Уже проехал? — спросил Леонид после того, как пожал руку начальнику смены.
— Не было еще.
— Как так? — изумился Новицкий.
— А вот так, — пожал плечами таможенник и тут же забеспокоился, поняв, что если фура не проедет, то Новицкий может затребовать деньги назад.
Омар сидел в машине и прислушивался к разговору, доносившемуся к нему сквозь приспущенное стекло автомобиля. Новицкий обернулся, встретился взглядом с Омаром. Тот поманил его пальцем. Леонид сел за руль.
— Ничего не могу понять… — Новицкий морщил лоб. — Ты же сам видел, на дороге мы его не встретили, а сюда он не приезжал.
Таможенник постучал согнутым пальцем в стекло. Новицкий открыл дверцу.
— Может, у него родственники живут где поблизости или баба?
— Не знаю, — задумчиво ответил Леонид.
— Возвращаемся, — негромко произнес Омар.
Его лицо стало мрачным. Отъезжая от терминала, «опель» разминулся с мерседесовским грузовиком. Парень притормозил у телефона-автомата, сунул в прорезь карточку. Сверяясь с номером на денежной купюре, набрал цифры.
Закрепленный на приборной панели джипа, мобильный телефон зазвенел. Новицкий вдавил кнопку. В салоне из динамиков зазвучал голос:
— Алло! Алло!
— Слушаю вас, — в голосе Леонида чувствовалось волнение.
— Вы меня не знаете. Я водитель. Звоню от литовской границы. Меня попросил позвонить ваш шофер. Его машина перевернулась, но сам он жив-здоров. Просил прислать другую машину, чтобы перегрузили ящики.
Омар предупредительно поднял палец и прошептал:
— Ящики? Где он?
— Куда прислать? — спросил Новицкий.
— На сто пятьдесят пятом километре есть съезд вправо, если ехать от Минска. Грунтовый съезд, перед самым пунктом оплаты. По нему проехать километра два. Там его и найдете.
— Спасибо, что сообщили, — сказал Новицкий.
— Не за что.
Новицкий, немного подумав, добавил:
— Вы только в ГАИ не сообщайте.
— Зачем? Водительская солидарность… Он объехать хотел…
— Всего хорошего.
Омар отключил связь. Еще никогда Новицкий не видел своего компаньона в таком разобранном состоянии.
— Где этот долбанный съезд? — прорычал Омар. Афганец буквально пожирал глазами дорогу. Он подался вперед, чуть ли не уткнувшись лбом в стекло. Когда мелькнула куча гравия, он еле сдержался, чтобы самому не ухватиться за руль.
— Туда! — крикнул Омар.
Новицкий перевалил через разделительную полосу, и вот уже джип раскачивался на рытвинах полевой дороги.
— Какого черта его туда понесло? — рычал Омар.
— Деньги, наверное, решил сэкономить, — нервно ответил Новицкий.
— Ты же дал ему деньги, — сузил глаза афганец.
— Дал. Надеюсь, хоть мебель не поломалась.
При слове «мебель» губы Омара брезгливо искривились. Новицкий спинным мозгом почувствовал: разборок не миновать. Джип промчался сквозь сонную деревню. В свете луны издалека была видна перевернувшаяся фура. Баранчук уже стоял на дороге, нервно прикуривал. Огонек выхватил его лицо из полумрака. Новицкий и Омар вышли из машины. Баранчук выглядел жалким, потерянным.
— Как это произошло? — спросил Новицкий. — Как, как — случилось…
Шофер с досадой хлопнул себя по пыльным брюкам. Омар тем временем подошел к фуре, приподнял промасленную бумагу, осмотрел верхние ящики. Ему сразу стало ясно, что шофер видел: никакую не мебель он вез, а оружие. Он вытащил трубку мобильного телефона и зло недолго говорил по-арабски. Затем подозвал компаньона и водителя:
— Идите сюда, посмотрим, что можно сделать.
Первый страх у Баранчука прошел. Он осмелел, для профилактики решил немного наехать на работодателей:
— Ладно, мужики, вы тоже виноваты.
Омар косо посмотрел на него.
— В чем дело?
— Если бы я мебель вез, то ни за что бы не перевернулся.
Новицкий пока ничего не понимал. Он с недоумением смотрел на деревянные ящики, в которых наверняка были не мягкие диваны и матрасы.
— Разве ты не мебель вез? — спросил Омар.
— Значит, так, — сказал Баранчук, приподнимая бумагу над разбитым ящиком, — я молчу о том, что вы оружие везли, а вы за это мне… — Он на секунду задумался: — …десять штук баксов.
Выше его фантазия не поднималась.
— Хорошо, сейчас ты их и получишь, — спокойно произнес Омар, заводя руку под полу куртки.
Даже Новицкий был уверен сейчас афганец вытащит деньги, пусть не десять штук, но пару сотен — точно. Однако произошло другое.
Всего на несколько секунд в руке афганца возник пистолет, трижды полыхнул огонь. Звуки выстрелов показались Леониду Новицкому безобидными, словно Омар стрелял из детского пистолета пистонами.
Баранчука словно ударил в грудь кто-то невидимый, мощный. Два выстрела он еще держался на ногах, а третьим водителя бросило на землю. Он лежал, глядя на звезды невидящими глазами, продолжая сжимать в зубах мундштук с дымящейся сигаретой. Омар не моргнув одним движением отправил пистолет в кобуру, запахнул куртку.
Новицкий, уже осознавший, что Баранчук мертв, хотел было броситься бежать в ночь, понимая, что такая же участь уготована и ему, но то, что афганец спрятал пистолет, помогло ему справиться с собой. Бизнесмен стоял, ноги дрожали, Леонид не мог вымолвить ни слова. Офицер, ранее бывавший под обстрелами, ходивший в атаку под пули, сейчас боялся, как ребенок. Он понимал, Омару ничего не стоит его прикончить, и не понимал одного — почему тот медлит.
— Омар, не надо, — наконец вырвалось у него, и Новицкий не узнал собственного голоса.
Афганец, широко улыбаясь, подошел к нему и несильно хлопнул по плечу:
— Леня, успокойся. Ты сильный человек, не то что он, — Омар кивнул на мертвого Баранчука, — ты-то понимаешь, шантажистов всегда убирают. Ты соображаешь, большие деньги просто так не платят.
Наконец-то Новицкий вздохнул полной грудью. Страх отступал, он поверил в то, что будет жить.
— Надо же что-то делать, Омар.
— Для начала надо оттащить труп с дороги.
Омар не прикасался к мертвому водителю. Новицкий с готовностью схватил Баранчука за руки и отволок за фуру.
— Ну что, теперь поехали? — с надеждой спросил он.
— Нет, — Омар закурил и сел в «опель». — Ждать будем.
— Чего? Рассвета? Ментов?
— Не бросать же добро!
Новицкий подбежал к фуре, попытался один приподнять тяжелую дверцу, лежащую на земле, но сумел ее лишь оторвать на полметра, а затем выронил, чуть не отбив себе ноги.
— Леня, не суетись, положись на меня. Я тебя еще никогда не подводил.
И странное дело, спокойный голос афганца подействовал на Леонида успокаивающе. Он забрался в джип.
— Сосредоточься, успокойся, — советовал Омар. Новицкий почувствовал, как унимается дрожь в ногах, в руках, как приходят в порядок мысли.
«Я подозревал что-то подобное, — подумал Леонид, — но не хотел думать об этом. И вот, как водится, правда вылезла наружу. Теперь дороги назад мне нет: или смерть, или работаю с афганцем дальше,»
Омар потянулся к магнитоле, включил музыку, негромко, как делает человек, желающий подумать, но боящийся одиночества.
Не прошло и часа, как на проселке показались огни — две машины. Новицкий нервно потянулся к ключу зажигания.
— Ты чего? — спросил Омар.
— Машину надо спрятать.
— Не бойся, свои едут.
Немного не доехав до фуры, остановились два крытых брезентом трехосных ЗИЛа с военными номерами.
— Оставайся в машине, — сказал Омар Новицкому и вышел в свет фар. Постоял секунд пятнадцать, щурясь, но не прикрывая глаза руками. Его узнали.
Происходившее казалось Новицкому сном. Из машины выпрыгнуло десять человек в черных танкистских комбинезонах. ЗИЛ подогнали задним бортом вплотную к фуре, и началась перегрузка. Люди работали молча, слаженно, без перекуров, ящики один за другим перекочевывали в объемный кузов военного ЗИЛа. Брезентовый полог задраили, и машина отъехала. Второй ЗИЛ загрузили так же быстро, как и первый, минут за десять-пятнадцать.
Фура опустела. Омар подошел к Новицкому.
— Я уеду с ними, а ты возвращайся в Минск к себе на квартиру. Можешь немного выпить, чтобы снять стресс. Утром позвони на таможню, поинтересуйся, проезжала ли твоя фура. Думаю, менты сами разыщут тебя где-то к обеду, — афганец легко вскочил на подножку ЗИЛа, захлопнул дверцу.
Машины с выключенными фарами исчезли за поворотом дороги. И тут Леонид услышал, какая тишина стоит вокруг. Лишь ветер изредка нарушал ее шелестом кустов.
«На войне как на войне», — почему-то подумал Новицкий, хотя ни войны, ни боя не было, было лишь преступление.
Он исполнил все, как велел ему Омар, в точности, даже по дороге помыл машину. Мыл он ее на шоссе, таская воду из придорожной канавы. Оказавшись в своей однокомнатной минской квартире, Новицкий достал из шкафчика бутылку теплой водки и выпил целый стакан, не отрываясь, мелкими глотками. После чего закусил магазинной солянкой, черпая ее столовой ложкой из банки.
Уже светало, когда Леонид позвонил на таможню. Козлеятко, конечно же, сказал, что пока фуры не было, и попытался успокоить Новицкого:
— Наверное, все-таки Баранчук к бабе заехал, выпил немного, вот и ждет, пока протрезвеет.
— Не знаю, — Новицкий удивился, что говорит очень спокойно, — я уже начинаю волноваться, не случилось бы чего.
— Не беспокойся, в другой раз все будет в порядке, — Козлеятко намекнул, мол, деньги не пропадут, в следующий раз проедешь бесплатно.
Представители милиции приехали на квартиру бизнесмена лишь к четырем часам вечера. Сперва вместе с Новицким заехали в офис, сверили печати, номера бланков, и лишь после этого следователь рассказал Леониду о том, что случилось. По милицейской версии выходило, что Баранчук, возможно, находился в сговоре с преступниками и по договоренности с ними решил инсценировать ограбление. Но то ли бандиты чего-то не поделили с Баранчуком, то ли были полными отморозками, но они пристрелили водителя после того, как он загнал фуру на проселок.
Новицкий подписал протокол с показаниями и вскоре сам уже почти верил в милицейскую версию. Об Омаре он не упомянул ни словом.
Даже в материальном смысле особо переживать не приходилось. Автомобиль принадлежал конторе по грузоперевозкам и наверняка был застрахован. Имелась страховка и на груз. Новицкого милиция не подозревала: какого черта станет хозяин похищать собственное имущество?
Неделю от Омара не было ни слуху не духу. Появился он неожиданно — вечером. Сперва позвонил по телефону и сказал, что стоит у двери подъезда.
— Мне спуститься? — дрогнувшим голосом спросил Новицкий.
— Нет. Если ты не против, я поднимусь сам, — засмеялся афганец.
Пришел он с бутылкой виски, которого Новицкий на дух не переносил. По советской традиции они устроились на кухне. Омар был в курсе всего, что происходило за последние дни, почти дословно знал показания Новицкого.
— Вот что, Леня, — Омар разлил виски в рюмки, — дело о хищении груза попадет в разряд нераскрытых. Это я тебе обещаю. Пару раз тебя для порядка вызовут к следователю, и все тихо заглохнет само собой, — афганец говорил так уверенно, что не поверить ему было невозможно.
— У тебя крыша надежная? — шепотом спросил Новицкий.
— Надежнее не бывает. И не бойся, ты у себя дома, можешь говорить нормально. Кричать, чтобы соседи слышали, конечно, не стоит.
— Что дальше будет? — на выдохе спросил Леонид.
— Дальше — работать будем. На таможне небось, уже заждались, давненько мы им ничего не подбрасывали. На следующей неделе жди очередную фуру, я позвоню, — афганец хоть, и разлил спиртное, но сам к нему не притронулся. — И учти, Леонид, одно неверное движение… — Омар улыбнулся. — Но его не будет, ты человек умный и понимаешь, крыша у меня самая надежная. Куда ты ни обратишься, в конечном счете будешь виноват сам. И еще, отыщи вдову Баранчука, дай ей денег, скажи, мол, на памятник мужу. Женщины, они народ такой, пока муж жив, держатся за него зубами и когтями, а стоит ему умереть, сразу о деньгах начинают думать. Дай ей две тысячи, — афганец положил доллары перед Новицким и широко улыбнулся, обнажив крепкие, здоровые зубы. — Не будь как Баранчук, не пытайся сэкономить, — после этих слов Омар обнял Леонида, будто тот был его лучшим другом, напомнил: — Встретимся на «Славянском базаре» в Витебске, — и покинул квартиру.
Новицкий тупо смотрел на деньги, лежавшие на столе, и думал о том, что если его оставили в живых, то лишь для того, чтобы втянуть во что-то еще более масштабное и одновременно преступное. Хотя куда уж больше — нелегальная торговля оружием! Но тут же бывший советский офицер успокоил себя: «Я думал, что Омар возит наркотики, волновался, но потом успокоился. А оказалось — оружие. Наркотики — удел крутых, но все-таки уголовников, оружием же можно торговать лишь с благословения государства. Значит, крыша над афганцем высокая и надежная. Я просто испугался, хотя в душе всегда мечтал об этом. Я выхожу на новый уровень в бизнесе».
Леонид поставил на стол рядом с бутылкой виски бутылку водки и посмотрел на них, сравнивая. Водка явно проигрывала виски в оформлении: простецкая цилиндрическая бутылка с дешевой этикеткой, четырехгранная бутылка виски заманчиво блестела золоченым тиснением.
«Крутые бизнесмены водку не пьют», — подумал Новицкий, наливая в рюмку золотистый напиток. Он понюхал его, в нос ударил запах, как ему сперва показалось, деревенской самогонки. Но чем дольше держал рюмку в руках Леонид, чем дольше нюхал, тем больше достоинств находил в виски.
— Омар — моя счастливая карта, — тихо сказал он и, запрокинув голову, выпил. Посмаковал, огляделся. Теперь квартира казалась ему убогой, хотя неделю назад он гордился сделанным ремонтом. — Не было счастья, да несчастье помогло, — проговорил Леонид, наливая вторую рюмку. — Не стану мелочиться, все деньги, оставленные Омаром, отдам вдове Баранчука.
ГЛАВА 4
В родной Витебск, город, в последнее десятилетие прославившийся «Славянским базаром», Ефим Абрамович Лебединский возвращался из Москвы не с пустыми руками. Ефимом, а тем более Ефимом Абрамовичем, его в Витебске никто не называл — Фима да Фима, хоть и исполнилось Лебединскому уже пятьдесят лет. Был он из той породы людей, которые практически не меняются с возрастом.
Фима на службу не ходил: считал это делом ниже своего достоинства. Зарабатывал на жизнь, как любил говаривать сам, талантом. Играл на трубе в похоронном оркестре. Досконально он знал лишь одну мелодию — похоронный марш Шопена, но исполнял ее только за деньги.
Жил он в самом центре города, неподалеку от витебской ратуши. Его старый бревенчатый дом больше напоминал деревенскую избушку, чем городское жилье. Стоял в овраге, неподалеку от реки — Двины, вплотную примыкая к двухэтажному кирпичному дореволюционному дому. Дом тот совсем обветшал, жильцов из него выселили три года назад, и, поскольку никакой архитектурной ценности он собой не представлял, его собирались снести вместе с халупой Лебединского. Но горисполкому не повезло. Халупа принадлежала Фиме Лебединскому на правах собственности, и он упрямо отказывался сменить ее на квартиру в новостройках.
Приятели-жмуровики, наведывавшиеся к холостому Фиме домой выпить дешевого вина, недоумевали:
— Соглашайся на снос, квартиру получишь плюс деньги.
— Я не доставлю им такого удовольствия, — гордо заявлял Фима, оглядывая свои владения, состоящие из комнаты, сплошь забитой рухлядью, и небольшой кухоньки, правда оснащенной всеми удобствами.
В шестидесятые годы отец Фимы добился-таки подключения водопровода, газа и канализации. Сделать это оказалось не так уж сложно. Все коммуникации были подведены к соседнему дому. Кухня являлась одновременно и ванной комнатой, и прихожей, и даже туалетом. Унитаз от плиты отгораживал старый буфет, а дверью в него служила ситцевая занавеска. Старая чугунная ванна стояла в самом центре кухни, и в обычное время использовалась как стол — ее накрывали досками.
Фима больших денег не зарабатывал. Последние годы горожане стали чаще ходить в церковь, и священники учили прихожан, что музыка на похоронах так же неуместна, как и обильная выпивка.
Покойная мама Фимы любила приговаривать, что если еврей пьяница, то это беда, а если дурак, то это уже национальная трагедия. Фима являлся всего лишь бедой еврейского народа. Выпить он любил. Иногда на неделю уходил в запой и мог даже кое-что из вещей поменять на водку или «чернила». Правда, свято берег черный строгий костюм с белой рубашкой и галстуком да сверкающую медную трубу.
Когда он выходил из запоя, ему становилось стыдно. Стыдно смотреть в глаза людям, стыдно заходить в магазин, стыдно смотреть на собственное отражение в зеркале. Из этого гнусного состояния Фима придумал два выхода. Он запирался в доме, включал старый проигрыватель, ставил поцарапанный виниловый диск, а их у него имелась довольно большая коллекция, и в забытом всеми доме звучал Армстронг, Дюк Эллингтон, а Фима подыгрывал знаменитостям на трубе.
К этому способу Фима прибегал довольно часто, но иногда использовал и второй: клал в карман паспорт, шел на вокзал, садился на электричку и перекладными добирался до Москвы. Если его и ссаживали контролеры, то Фима не расстраивался, садился в следующий поезд.
В Москву он ехал не наобум. В российской столице жил его родной дядя Яков Наумович Кучер, человек положительный во всех отношениях, великолепный стоматолог, раньше работавший в поликлинике КГБ, а в последние годы развернувший частную практику. Сильноначитанный, хорошо образованный москвич, чтивший при этом своих витебских предков: в большой комнате его квартиры висели три портрета, написанных еще до войны, в тридцатые годы, его дядей, студентом Витебского художественного техникума. Техникум был преобразован в ставшее потом знаменитым на весь мир художественное училище, в котором преподавали в начале двадцатых годов такие величины, как Шагал, Малевич… Во времена Сталина об этом старались особо не вспоминать даже преподаватели, они прилежно учили студентов работать в стиле соцреализма. Как-то, в порыве родственных чувств, студент решил нарисовать портреты своих братьев-благодетелей: железнодорожника — будущего деда Фимы Лебединского, военного и фельдшера. Поскольку денег на покупку нового холста и подрамников не было, он на чердаке мастерских техникума отыскал старые работы, выполненные в чуждом соцреализму духе, спрятанные туда политически осторожным завхозом, и со спокойной совестью записал их не масляной краской, а более дешевой и легкой в работе водорастворимой темперой. Все четверо братьев: и железнодорожник, и военный, и фельдшер, и сам художник погибли в войну. Кто в гетто, кто на фронте, а портреты остались у родственников. Яков Наумович собрал их вместе, вправил в одинаковые рамы и вывесил в своей гостиной.
Стоматолог беспутного витебского племянника недолюбливал, но куда денешься — родственник… Приходилось принимать.
Приехав в первопрестольную, Фима врал дяде, что у него разболелся зуб, и Якову Наумовичу приходилось менять пломбы, сверлить дырки, ставить коронки. Спиртного Фиме он не наливал принципиально, а тот и не настаивал. Жил в дядиной квартире, отъедался, без алкоголя здоровел лицом, раздавался телом.
Но проходила неделя, и Фима обязательно срывался. Пока Яков Наумович практиковал в клинике, он шел в гастроном, прихватив с собой из дядиного холодильника иногда замороженную курицу, иногда кусок купленного на базаре мяса, и менял съестное на водку. Пил непременно в одиночестве на дядиной кухне. Когда же Яков Наумович возвращался с работы и делал выговор племяннику за неумеренную выпивку, Фима набрасывался на него с упреками: мол, денег у тебя немеряно, жалеешь единственному племяннику лишний рубль на жизнь подбросить.
В спор пробовала вмешиваться жена Якова Наумовича, но стоматолог мягко останавливал ее:
— Фима мой племянник, а не твой. Я с ним сам и разберусь.
Обычно заканчивалось тем, что дядя давал Фиме немного денег на жизнь, покупал ему билет в купейный вагон, оплачивал проводнице белье, и Фима возвращался в родной Витебск, чтобы снова играть на похоронах и подыгрывать пластинке, с которой звучали великие музыканты прошлых лет, на сверкающей медной трубе.
Но на этот раз денег Яков Наумович Фиме на обратную дорогу в Витебск не дал: многолетняя традиция прервалась. Не потому, что было жалко, а из принципа. Фима требовал купить билет ему не на поезд, а на самолет, хотя самолеты летали только в Минск и в Брест, прямого рейса до Витебска из Москвы не существовало.
— Ни копейки ты от меня не получишь! — твердо сказал Яков Наумович и посмотрел на жену.
Та, как всегда, согласилась с мужем и кивнула.
— Ну и не надо, жминда старый.
Фима осмотрелся. На стене в комнате висели три портрета — старые, написанные еще в тридцатые годы дядей Якова Наумовича, а значит, двоюродным дедушкой Фимы Лебединского, студентом Витебского художественного техникума.
Портреты, надо сказать, были выполнены в хорошей академической школе, полностью отвечали духу тридцатых годов. На центральном был изображен железнодорожник в форме. Особенно тщательно были прописаны молоток и штангенциркуль на кокарде. Фима Лебединский внезапно припомнил, что железнодорожник — родной брат художника — его дед.
— Если вы жминдите дать мне деньги, тогда мы больше не родственники, тогда я забираю от вас дедушкин портрет, был бы он жив, денег бы мне не пожалел.
Фима, прежде чем Яков Наумович успел опомниться, подскочил к стене и сорвал с нее портрет железнодорожника.
— А ну, повесь на место! — взъярился Яков Наумович.
Но, как человек интеллигентный, по-настоящему кричать и ругаться, а тем более драться он не умел.
Фима взял его горлом:
— Чей он дедушка: мой или твой? — кричал Лебединский, размахивая портретом в тяжелой раме. — Я на него как две капли воды похож. Мой дед — не то что ты, жминдой никогда не был.
Деда Фима никогда не видел, тот погиб во время войны в гетто.
— Ну и задавись! Больше чтобы я тебя в своем доме не видел! — сказал Яков Наумович и удивился собственной смелости.
Фима зло хлопнул дверью и вышел на улицу. На пьяные мозги он воспылал любовью к своему погибшему в фашистском концлагере дедушке и твердо решил привезти портрет в Витебск. Шевельнулась было шальная мысль отделить портрет от рамы и продать ее за бутылку водки, но Фима сдержался. Добрался-таки до Белорусского вокзала и пустился в обратную дорогу на перекладных электричках. Его даже пожалели железнодорожные контролеры, когда словили под Смоленском без билета.
Фима показывал им портрет, плакал и приговаривал: «Мой дед тоже на железной дороге работал, его фашисты за это убили, а вы меня с поезда снять хотите».
Дома Фима долго думал, куда бы повесить портрет. В комнате он только ночевал, а все остальное время проводил на кухне — тут ел, играл на трубе, выпивал, один и с друзьями, смотрел старенький телевизор, мылся в ванне и даже ходил в туалет.
Деду он отвел место в простенке между окнами. Гвоздь вбивать не пришлось: Фима привязал портрет веревкой к водопроводным трубам. И теперь, когда к нему приходили гости, он с гордостью показывал на портрет, чувствуя себя чуть ли не потомственным дворянином.
— Это — мой дед. Железнодорожник. Его брат нарисовал. Он в Витебском художественном техникуме учился.
Теперь, даже оставаясь в одиночестве, Фима имел виртуального собутыльника. Наливал рюмку, поднимал ее, подмигивал железнодорожнику на портрете и говорил:
— Чтобы у тебя, дедушка, на том свете тоже было что выпить,
Приближался «Славянский базар». На его время городские власти старались задействовать всех, кто хоть что-нибудь умел делать, имеющее отношение к искусству. На каждой улице, на каждой площади планировались выступления: детские коллективы, самодеятельные театры, военные духовые оркестры. Фима, являвшийся главным диспетчером оркестра жмуровиков, тоже рассчитывал что-нибудь получить: во-первых, деньги заработать, во-вторых, себя показать.
Диспетчером его избрали не потому, что он имел большой музыкальный талант или организаторские способности, просто Фима, единственный из всех жмуровиков, жил в центре, и потому к нему легко было добраться заказчикам.
До фестивального амфитеатра, возле которого располагалось управление культуры, Фиме было идти пять минут: просто выбраться из своего оврага на центральную улицу и перейти трамвайные пути. Фима для визита надел белую рубашку, галстук, черный костюм, протер тряпкой поношенные ботинки. В общем, оделся как на похороны, что в его понимании значило «лучше некуда».
Прихватил с собой и гордость последних месяцев: один заказчик, не будучи в силах рассчитаться с Фимой деньгами, изготовил ему целую кипу визиток, нарядных, как елочные игрушки, тесненные фольгой в два цвета. С одной стороны на них значилось «Ефим Абрамович Лебединский. Руководитель духового оркестра. Обслуживание погребений и других семейных торжеств». Внизу карточки — телефон и адрес, с микроскопическим планом центра Витебска, где у реки поблескивал красной фольгой крест, очень похожий на могильный. С другой стороны текст был продублирован по-английски.
Разговор с управляющим отдела культуры состоялся недолгий:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Я насчет участия в «Славянском базаре».
Управляющий секунд десять смотрел на Фиму, стараясь припомнить, кто он такой. Лицо ему было знакомо. Управляющий тоже жил в центре и пересекался с Фимой в гастрономе, но сейчас не мог признать в хорошо выбритом, одетом в строгий костюм пятидесятилетнем мужчине неряху в спортивных штанах и майке, выпрашивающим у продавщицы штучного отдела бутылку в долг.
Фима торжественно положил на начальнический стол переливающуюся всеми цветами радуги визитку. И стоило управляющему прочесть фамилию Лебединский, как он вспомнил прошлый «Славянский базар».
Фиминому оркестру отвели тогда для развлечения публики улицу подальше от центра, в районе медицинского университета. Пока было светло, музыканты играли то, что было заявлено в программе, причем играли профессионально, умудряясь обходиться без одного исполнителя. Кто-нибудь постоянно бегал в магазин за выпивкой. Когда стало темнеть и публика потянулась в центр города к амфитеатру, где начинался концерт, Фима поскучнел. За день он уже привык к славе и вниманию.
— Нас бросили, — грустно сказал он жмуровикам. И добавил: — Мы им еще покажем!
Он построил музыкантов на проезжей части улицы и повел в центр. Трубы надрывались «Маршем славянки». Милиция подумала, что так и надо. Публика на бродячий оркестр особого внимания не обращала: хватало и других развлечений. И уже на подходе к главной площади города Фима с ужасом понял, что он дошел до цели, но его никто не замечает. И он, сделав паузу, заиграл на трубе соло, вариацию на «Траурный марш» Шопена. Жмуровики тут же подхватили знакомую мелодию.
Фима играл самозабвенно, наверное, лучше, чем когда-либо до этого в жизни, импровизировал. Публика подтягивалась со всех сторон. Вначале думали, что это один из многочисленных праздничных перфомансов, но исполнение похоронного марша затягивалось, Фима Лебединский никак не мог остановиться.
И тогда охрана амфитеатра решила все-таки выяснить, кто это мешает выступлениям артистов. Фиму и весь его оркестр доставили в отделение…
— Ничего вы у меня на этот раз не получите, — твердо сказал управляющий отделом культуры, припомнив прошлогодние Фимины похождения, — даже на городской помойке я вам не доверю выступать.
— Почему?
— Сами знаете, — скомканная визитка полетела в урну для бумаг.
— На ваши похороны я играть не приду, — с выражением произнес Фима Лебединский, щелкнул каблуками как заправский белогвардейский офицер и резко склонил голову.
Он покинул кабинет, обуреваемый ненавистью ко всем чиновникам. Если раньше Фима иногда еще сомневался, стоит ли покидать халупу на дне оврага, то теперь решил твердо: такого удовольствия он им не доставит. К «ним» он причислял всех, кто был обличен хоть маломальской властью.
По дороге Фима зашел в гастроном. Продавщица водочного отдела, увидевшая его в костюме, при галстуке, онемела от удивления. Фима, выложив все деньги, какие у него имелись, купил три бутылки водки и, гордо держа их в руках за горлышки, спустился в овраг.
На лавочке у крыльца его уже поджидали двое жмуровиков, желавших первыми узнать от диспетчера, какая площадка в городе отведена им на время праздника. На другой заработок рассчитывать не приходилось. Люди словно сговаривались на дни проведения «Славянского базара», переставали умирать.
— Ну, Фима, не томи, — попросил барабанщик, завороженно глядя на искрившиеся на солнце бутылки с водкой.
— Не будет для нас праздника! — патетично воскликнул Фима, открывая дверь дома.
— Почему?
— Им не понравилось наше прошлогоднее выступление.
— Так я и знал.
Трое мужчин сели на кухне вокруг ванной, накрытой досками. Было слышно, как журчит вода в унитазе за занавеской.
— Дедушка, твое здоровье!
Фима поднял рюмку, подмигнул железнодорожнику тридцатых годов и опрокинул водку в горло. Он был так расстроен, что даже очки запотели.
— Душно мне.
Фима рванул галстук, расстегнул верхнюю пуговицу пока еще белоснежной рубашки. Его загорелое лицо стало таким черным, что казалось, Фима не еврей, а негр. Барабанщик тяжело вздохнул и выпил молча.
— Чего дома сидеть?
Долговязый тромбонист с тоской посмотрел в открытую дверь, за которой виднелись деревья, а за ними сверкала река.
— Вынесем стол на улицу, там и посидим.
Предложение пришлось по вкусу. Из комнаты вытащили круглый стол, стулья. На улице и пилось лучше, и говорилось откровеннее.
— Эх, во что они Витебск превратили, — вздыхал пьяный тромбонист после очередной ходки к гастроному.
— Такой город был! Одни фамилии чего стоят: Шагал, Малевич, Добужинский, Лисицкий…
— Бахтин, — подсказал тромбонист.
— И мой дедушка-железнодорожник.
Фима сидел, подперев голову руками, и смотрел на залитую лунным светом реку.
— А теперь человеку искусства и податься некуда. Даже на вшивом попсовом «Славянском базаре» нам места не находится.
— Они еще придут к тебе, — барабанщик тронул Фиму за плечо.
— Придут, — усмехнулся тот. — Только не они, а их родственники. И вот уж тогда я сыграю на их похоронах.
— Ты на всех похоронах сыграешь, кроме своих собственных, — взгляд тромбониста зацепился за церковные купола. — Если только нам попы мешать не будут.
— Они конкурентов боятся, — брезгливо поморщился Фима Лебединский и хватил стопку водки, после чего ему стало так себя жалко, что на глаза навернулись слезы.
Он чувствовал себя полным ничтожеством перед лицом своего дедушки-железнодорожника. Единственное, что он умел делать в жизни хорошо, это играть на трубе. Фима, прикрыв глаза ладонью, поднялся из-за стола и, пошатываясь, зашел в дом, снял со шкафа трубу, потер ее рукавом пиджака и взял пару нот на пробу. От обильной выпивки скапливалась слюна. Фима Лебединский на кухне сплюнул в умывальник и встретился взглядом с портретом.
«Они меня не оценят», — подумал он о коллегах, оставшихся за столом.
Ломая ногти, развязал узлы на веревках, снял портрет и с ним вышел на улицу. Поставил его посреди стола, прислонил к пустым бутылкам и заиграл. От души…
За краем оврага, наверху, шла обычная городская жизнь, звенели трамваи, проносились троллейбусы. Поздние посетители покидали кафе. Прохожие иногда останавливались, прислушивались, не чудится ли им это: из глубины оврага доносилось неровное соло трубы. Вариации на тему «Траурного марша» Шопена. Фима играл для неба, для звезд, для реки, для шумящих на ветру деревьев. И конечно же, для покойного дедушки-железнодорожника, которого ни разу в жизни не видел.
— По-моему, он умом тронулся, — сказал в конце концов барабанщик тромбонисту после того, как Фима отказался выпить.
Пьяные жмуровики прихватили с собой целую бутылку водки, по-честному оставив Фиме выпитую наполовину, и вскарабкались на откос. Очутившись на ярко освещенной улице, они забыли о своем друге.
Фима играл, пока хватало дыхания, пока слезы не передавили горло. Тогда он отложил трубу и из горлышка допил водку. Как он очутился дома, как разделся, как лег в постель и заснул — Фима не помнил.
Проснулся он ближе к обеду и понял, почему так долго спал: за окном барабанил дождь. Фима сел, протер глаза. Во рту после вчерашнего возлияния было сухо, как в пустыне. Лебединскому некуда было спешить, никто его не ждал.
Он вышел на кухню, долго чистил зубы, отпивался холодной водой, даже успел поставить чайник на плиту, как вдруг увидел, что портрета дедушки на прежнем месте нет. Моментально вспомнился вчерашний вечер, ночь, безумная игра на трубе под звездами и строгий взгляд железнодорожника, словно говоривший: «Выпивка, Фима, тебя до добра не доведет. Ты беда еврейского народа».
Как был, в трусах и носках, Фима выбежал на крыльцо. Стол стоял на дворе, возле него три стула. Дождь ручьями стекал с мокрой скатерти, вздувал пузыри в тарелках, стаканах. Под дождем золотилась труба. Портрет уже не стоял на столе, он лежал.
Фима не торопясь, понимая, что то, что произошло, уже не исправишь, спустился с крыльца.
Ливень впивался в его тело стремительно летящими и больно жалящими каплями. Лебединский замер возле стола. Золоченая рама, как фотографическая кювета, была до половины налита водой — мутной, непрозрачной, она, казалось, кипела.
Фима двумя руками взялся за раму, поднял ее. Вода вылилась на стол через угол рамы. Мутный ручеек сбежал, и Фима увидел, что нет больше его деда-железнодорожника. Темперную краску, которой он был написан, смыло водой. Не до конца — еще читались околыш фуражки, овал кокарды, но уже ни лица, ни петлиц не существовало. Из-под воды родился другой портрет, абсолютно чужой, непонятный и даже враждебный Фиме. Неряшливо, как ему казалось, написанная женщина прижимала к груди букет цветов, а за ней простирался глубокий, плотный, небесный фон, словно она летела среди облаков.
Фима провел рукой по картине. Его пальцы оставили четыре полоски на жалких остатках околыша фуражки, четыре голубых небесных следа. Фима опустился на мокрый стул и краем грязной скатерти стал тереть картину, будто надеялся, что дождевая вода смоет и это изображение, а под ним вновь проступит строгий дедушка-железнодорожник, спасший его от контролеров в электричке.
Но женский портрет не хотел исчезать. Наоборот, он становился ярче, сочнее, и Фиме стало стыдно. Он унес из дома своего дяди, Якова Наумовича Кучера, портрет, который провисел там не один десяток лет в целости и сохранности. И вот теперь он, Фима Лебединский, уничтожил его — единственную довоенную память о своем предке. Если бы сейчас московский дядюшка Яков Наумович Кучер, стоматолог, оказался перед племянником, тот не задумываясь упал бы перед ним на колени и молил бы о прощении.
У Фимы, растиравшего по лицу слезы, смешанные с дождем и грязью, было такое чувство, будто он узнал о смерти самого близкого ему человека. Лебединский прижал картину к груди, занес ее в дом, долго вытирал полотенцем, а потом поставил в комнате на тумбочку у кровати.
Битый час он сидел, глядя на женщину, смотрящую на него с портрета. Женщина счастливо улыбалась, хотя сказать с точностью, улыбается она или смеется, Фима не рискнул бы. Рот был нарисован одним мазком, прерывистым, неровным. За этот час Лебединский возненавидел женщину на портрете, счастливую, беззаботную, с охапкой цветов. Утешало лишь одно: если портрет покойного дяди был нарисован поверх ее изображения, то и сама она уже давно умерла.
Фима, как мог, просушил портрет и спрятал его в платяной шкаф. Закрылся в доме, включил проигрыватель и принялся играть на охрипшей после дождя трубе спиричуел — песни американских негров. К вечеру Фима уже пришел в себя, смирился с потерей и твердо решил избавиться от портрета. Просто толкнуть его кому-нибудь перед гастрономом, как Фима понимал, не получится: настоящей цены никто там не даст. В лучшем случае за раму получишь на бутылку. И тут он счастливо улыбнулся. Приближался «Витебский базар», дни, когда город наполнялся денежными гостями и художниками.
Картинами в дни фестиваля торговали повсюду, настоящими и бездарными, подражаниями великим художникам, жившим в Витебске, и просто милыми детскими рисунками.
«Это настанут мои дни, — подумал Фима. — В городе появятся люди с деньгами, — он помнил, что цены в дни „Витебского базара“ взлетали в три-четыре раза. — И сумею втюхать эту мазню. Хоть будет на что устроить поминки по портрету дедушки.»
ГЛАВА 5
В первом часу ночи, ровно за два дня до начала «Витебского базара», на стоянку возле гостиницы «Витебск» заехал черный шестисотый «мерседес» с московскими номерами, с тонированными стеклами. В казино только-только по-настоящему разворачивалась игра, в гостинице было людно. Организаторы праздников уже понемногу съезжались в город, чтобы подготовить выступления звезд, которых они представляли.
Из машины вышел ничем не примечательный мужчина, молодой, незапоминающейся внешности. На заднем сиденье автомобиля стояли две большие картонные коробки. Мужчина захлопнул дверцу, поставил автомобиль на сигнализацию. Дорогая машина бросалась в глаза, даже тут, хотя в центре города, возле казино, всегда собирались крутые тачки. Оставив машину, мужчина вышел на улицу, остановил такси и уехал.
Ровно через пятнадцать минут другое такси доставило с вокзала к гостинице «Витебск» позднего пассажира.
— На стоянку не надо заезжать, — сказал Глеб Сиверов, расплачиваясь с таксистом.
Весь багаж Глеба состоял из легкой спортивной сумки.
— На «Базар» приехали? — поинтересовался водитель.
— Именно.
— Вы артист?
— Мое лицо вам знакомо?
Шофер вгляделся в Глеба. У него возникло странное чувство, будто они когда-то встречались.
— Даже не знаю, может, виделись когда-нибудь.
— Вряд ли. Я впервые в Витебске.
Глеб дождался, когда машина уедет, и проследовал на стоянку. Бросил взгляд на номера шестисотого «мерседеса». Все сходилось — именно такой номер сообщил ему генерал Потапчук. Глеб достал из кармана ключи с электронным брелоком, нажал кнопку. Сигнализация издала короткий свист, и лампочка, укрепленная у лобового стекла, погасла.
Машина открылась легко. Сиверов забрался вовнутрь, захлопнул дверцу. Теперь его никто не видел. Лобовое стекло смотрело в сияющую рекламой стену казино, остальные стекла были темны, как тропическая ночь. В перчаточном ящике лежали документы: три паспорта на разные фамилии, журналистское удостоверение, пластиковые бэджи с металлическими клипсами.
Глеб перебрался на заднее сиденье, вскрыл ящик и засмеялся: в нем, как он и просил, лежала униформа. Такую мог носить водитель лимузина, если бы среди них нашелся парень под два метра ростом. И ботинки сорок шестого размера. Тут же, в картонном ящике, Сиверов отыскал запалы к гранатам и детонатор к мине, три коробки патронов для винтовки. В другой картонке лежали сами гранаты, два пистолета, глушители к ним и мина, замаскированная под пакет с апельсиновым соком.
«Снарядили меня, словно коммандоса. Эх, жаль, надо было сказать, что боевая машина пехоты — это всерьез. И она бы ждала меня на выезде из Витебска.»
Глеб переложил права и техпаспорт на машину в карман куртки, зашел в гостиницу. На стекле, у окошка администратора, красовалась давно забытая с советских времен надпись: «Свободных мест нет», а внизу, уже выполненная шрифтом помельче, висело объяснение: «В связи с проведением фестиваля „Славянский базар"“.
— У меня номер забронирован.
Администратор долго сверялась со списками, затем посмотрела на Глеба с уважением. Ему был отведен одноместный номер на шестом этаже, там, где селили людей с положением в обществе. Сиверов заполнил анкету аккуратными печатными буквами, а подпись поставил неразборчивую, но достаточно похожую на ту, которая была в оперативном паспорте. Получив от администратора ключ с тяжелым латунным конусом-брелоком, он вошел в лифт. Тут же Глеб отсоединил конус от ключа — не хватало еще таскать его с собой.
«Лучше бы уж открывалку для бутылок прицепили», — подумал Сиверов.
Створки лифта разъехались, и перед Глебом показался длинный, застланный ковром коридор. Все двери в номерах были снабжены глазком. Ярко горели вмонтированные в низкий подвесной потолок галогенные лампочки.
«Если в номере есть еще и горячая вода, я буду удивлен», — подумал Сиверов, открывая дверь.
«Скромно, но со вкусом», — решил он, оглядывая номер. Двуспальная кровать, несмотря на то что номер был одноместным, фирменный телевизор на кронштейне — аппарат можно было закреплять в любом положении, небольшой письменный стол, кувшин, стаканы. В дверь ванной комнаты вставлено матовое стекло. Вместо самой ванной — кабинка для душа. Унитаз прикрывала бумажная полоска с синей надписью: «Продезинфицировано».
«Не знаю, может быть, и стерильно, но пить оттуда я не собираюсь», — подумал Глеб.
Он только успел помыться, как зазвенел телефон.
«Вот уж новость. Генерал Потапчук никогда не позволит себе связаться со мной иначе, кроме как по мобильному. Кому я понадобился?»
Номер в гостинице «Витебск» Сиверов заказал на всякий случай, для подстраховки. Она являлась самым высоким зданием в городе, и ее крышу можно было использовать как площадку для снайперской стрельбы.
Сиверов снял трубку.
— Алло, с приездом вас, — прозвучал несколько развязный женский голос.
— Спасибо, — улыбнулся Сиверов.
— Вы, наверное, устали с дороги, хотели бы с толком отдохнуть?
— Именно отдохнуть.
— Я бы могла помочь вам в этом.
— Девочка, — Сиверов сел на двуспальную кровать, — запомни и своим подругам передай: этого номера нет в ваших записных книжках. Во всяком случае, на то время, пока я в Витебске.
— Но вы же один, — не унималась проститутка, — и вам, наверняка, скучно. А я умею делать это великолепно. Или, может быть, ты другой ориентации? Тогда я передам трубку своему другу.
— Забудь этот номер.
Глеб сказал так твердо, что проститутка наконец смирилась: в ее услугах здесь не нуждаются.
— Ну, тогда как хочешь.
Она повесила трубку. Сиверов подошел к окну, раздернул шторы. Пейзаж открывался великолепный: широкая река, мост через нее, вознесенный на трех металлических арках, и небольшая древняя церковь в византийском стиле.
«Конечно, хорошо иметь красивый пейзаж за окном, — подумал Сиверов, — но мне больше бы подошел номер, чьи окна расположены над подъездом гостиницы. Исполнителя подвел стереотип — он постарался и выбрал лучший номер, но далеко не самый удобный для заказного убийства.»
Глеб покинул гостиницу, вновь открыл машину. Перегрузил ящики в багажник, униформу и ботинки бросил на переднее сиденье.
«Есть время покататься по городу», — и машина взлетела на мост. Сиверов обернулся. Сзади никого не было. Он, притормозив, распахнул дверцу, ботинки поставил на тротуар, а униформу швырнул в реку.
К утру Глеб обследовал окрестности города на расстоянии десяти километров, знал все небольшие частные мотели, заправки, ресторанчики и кафе. На всякий случай запомнил несколько мест, где легко инсценировать аварию. Лучше всего для этой цели подходили участки дорог с высокими насыпями, крутыми откосами, на поворотах. Достаточно взорвать перед идущей ночью машиной ослепляющую гранату, как шофер слепнет, и автомобиль на скорости, пробивая ограждение, уходит с дороги. Следов практически никаких, все выглядит правдоподобно, как несчастный случай.
Сиверов любил действовать самостоятельно, иметь в запасе с десяток вариантов. К утру он вернулся в Витебск и отсыпался в номере до обеда. Прошелся по городу пешком, присмотрел точки, с которых из снайперской винтовки можно поразить цель в амфитеатре. Таковых оказалось немного: старая пожарная каланча на другом берегу Западной Двины, точно напротив фестивальной площадки, башня ратуши и три современных высотных дома.
Сиверов зашел в маленький уютный бар в старой части города попить кофе. Девушка за стойкой покосилась на его заношенные джинсы. Даже за день до открытия фестиваля публика в зале собралась сплошь солидная, если не в костюмах, то хотя бы в белых штанах и светлых рубашках.
«Выгляжу я отвратительно, — решил Глеб, сидя на высоком табурете перед чашкой отлично сваренного кофе. — Не вяжется джинсовый прикид с шестисотым „мерсом“, я должен быть под стать автомобилю, я должен стать незаметным. И если большинство народа предпочитает костюмы, то и мне придется надеть пиджак.»
В ближайшем магазине Сиверов присмотрел себе вполне пристойный костюм, легкий льняной пиджак и темные брюки. Серая рубашка и серебристый галстук дополнили картину. Теперь Глеб выглядел достаточно безлико для изготовившегося к празднику города.
«Еще три пары таких же рубашек», — попросил Сиверов и вскоре вышел с бумажным пакетом в руках на улицу.
Костюм был на нем, в пакете лежали джинсы, куртка и рубашки, купленные про запас.
Глеб, приезжая в другие города, не любил расспрашивать жителей, он всегда сам пытался найти то, что ему нужно. Если живешь в большом городе, то в меньшем ориентируешься с легкостью. Вскоре Глеб уже стоял перед подъездом гостиницы «Эридан». И здесь для него людьми Потапчука был забронирован номер. Глеб заселился по другому паспорту, прежний остался в номере гостиницы «Витебск».
— …и место на гостиничной стоянке, — предупредил Сиверов, когда платил за номер. — А цены у вас покруче, чем в Москве будут, — усмехнулся он.
Девушка-администратор пожала плечами:
— «Славянский базар» всего один раз в год проводится. Приезжайте в другое время, тогда не разоритесь.
Глеб забрал паспорт и пропуск в гостиницу.
— Мне ваши цены до лампочки: деньги платит продюсер.
Эта гостиница выгодно отличалась от прежней. Номер больше, широкие окна, просторная ванная комната. От номера, в котором должен был поселиться Омар шах-Фаруз, Глеба отделяло три апартамента. Пока администратор оформляла, его, он успел заглянуть в списки. Соседний номер был забронирован на имя Макса Фурье, в скобочках старательно было выведено «Франция», чтобы не ошибиться и сорвать плату за гостиницу в валюте. Номер Фурье от номера Омара отделял двухместный номер.
«Если жильцов двое, значит, они охранники», — справедливо рассудил Глеб.
Он открыл окно, выглянул на улицу. Третий этаж, внизу стоянка машин, отделенная от проспекта нешироким сквериком, ни одной приличной точки, чтобы засесть со снайперской винтовкой. Разве что на крыше блочного пятиэтажного дома, но расстояние от него солидное, стекла в оконных пакетах двойные, и траектория пули наверняка изменится, вряд ли Омар оставит открытой раму окна. Нужно было искать другие варианты.
Пока у Сиверова точного плана не было, лишь прикидки. Но ни одна из них его не устраивала. По опыту он знал, можно составить подробнейший план, где будет расписан каждый шаг, каждое движение, но жизнь обязательно подбросит пару сюрпризов, и действовать придется спонтанно, полагаясь на талант импровизатора.
Омар шах-Фаруз должен прибыть сегодня вечером, и еще оставалось время осмотреть город. Достопримечательности Глеба не интересовали. Он объехал на машине весь центр, нашел несколько дворов со сквозными проездами, отметил места, где можно спрятать машину. И хотя центр города был перекрыт для автомобильного движения в связи с фестивалем, Глебу даже не понадобилось предъявлять пропуск, заготовленный Потапчуком. «Мерседес» выглядел внушительно, не хуже, чем другие представительские автомобили, обслуживающие известных артистов. Глеба повсюду принимали за шофера одной из звезд эстрады.
Вечером гостиница до отказа наполнилась народом. В бар не протолкнуться, у окошечка администратора выстроилась длинная очередь. Глеб сидел в холле с книжкой в руках, он ничем не выделялся среди других постояльцев. Одетые так же как и он, водители лимузинов таскали чемоданы. То и дело возникали скандалы: то одной певичке не нравилось, что окна ее номера выходят во двор, то танцовщик возмущался, что его номер расположен рядом с баром и он не сможет выспаться.
Весь обслуживающий персонал гостиницы был на ногах, директору приходилось успокаивать капризных артистов. Дежурные вымученно улыбались, и было видно, будь их воля, они, несмотря на деньги, выгнали бы склочную публику на улицу.
«Каждый артист считает себя пупом земли и поэтому ведет себя соответственно», — подумал Глеб и достал сигарету.
Прямо к подъезду гостиницы подкатила черная «вольво». Вначале из нее вышел крепко сложенный мужчина в расстегнутом пиджаке. Осмотрелся. Коротко стриженные волосы, бычья шея, маленькие, невыразительные глазки.
«Охранник, потому и пиджак не застегнут, под ним кобура», — отметил Глеб.
Охранник распахнул дверцу, и на ковровую дорожку, раскатанную от самой двери гостиницы до бордюра, ступил Омар шах-Фаруз. В руке он держал плоский серебристый портфель с кодовыми замками. Следом за ним выбрался моложавый европеец с цепким, вороватым взглядом. На плече небольшая цифровая видеокамера в футляре.
«Французский тележурналист Макс Фурье, — его фото Глеб пару часов назад отыскал в Интернете. — Кого только не сведет вместе „Славянский базар!“
Макс Фурье был личностью довольно известной. Прославился он документальным сериалом «Ночная жизнь больших городов». Самого сериала Глеб не видел, но знал о нем благодаря сайту журналиста в Интернете. Отзывы критиков о нем были прямо противоположные. Одни называли сериал открытием современного телевизионного кинематографа, другие обзывали Макса Фурье ремесленником, идущим на поводу у низменных инстинктов публики.
У двери гостиницы Омар и Макс разыграли сценку из немой кинокомедии, каждый норовил пропустить вперед другого. Наконец, как и положено, окончилось тем, что оба мужчины протиснулись вдвоем — одновременно. Охранник все время нервничал, ему не терпелось, чтобы его хозяин оказался в закрытом помещении.
«Омар не похож на человека, которому известно, что жить ему осталось совсем недолго, — подумал Глеб. — Даже совсем наоборот, ему кажется, он будет жить вечно.»
Хорошо знакомый с советскими порядками, Омар бросил взгляд на очередь перед окошком администратора и даже не стал становиться в ее хвост. Посмотрел на ближайшую девушку с бэджем сотрудника гостиницы и поманил ее пальцем. Взгляд у него был властный, такому трудно не повиноваться.
Девушка подошла:
— Добрый вечер! Вы наш гость?
— Милая моя, — взгляд Омара скользнул по затянутой в лиловый костюм пышной фигуре девушки.
«Больше всего его впечатлили широкие бедра», — отметил Глеб.
Не таясь, Омар достал из бумажника двадцать долларов и сунул в нагрудный карман служительницы гостиницы:
— Я не люблю тратить свое время попусту, я люблю тратить деньги. Макс, давай свой паспорт.
Француз, искавший до этого в холле знакомых, торопливо вытащил паспорт. Формальности были улажены за каких-то пару минут, девушка вручила гостям пропуска и пожелала им приятно провести время на празднике.
«Он неравнодушен к полным славянским женщинам.»
Дожидаясь лифта, Омар ощупывал взглядами толстушек. Сиверов дождался, когда створки лифта сойдутся, и вышел на улицу. Обогнул здание и оказался на автомобильной стоянке. Свет в окнах третьего этажа зажегся. Вначале к окну подошел охранник и, приложив ладони к лицу, чтобы не мешал свет, оценил обстановку. Он лишь слегка приоткрыл окно и тут же плотно задернул шторы.
Сосед же шах Фаруза, Макс, особой осторожности не проявлял. Он настежь открыл окно, сел на подоконник с ногами и закурил. Глеб вернулся к себе в номер, оставил дверь приоткрытой.
Палестинская певичка приехала уже за полночь, но Омар даже не вышел ее встретить, отправил охранника. Худая, смуглая, с длинными черными волосами девушка прошла мимо Глеба, даже не взглянув на него. Бывают такие женщины, всем своим видом показывают: «Не подходи!»
Зазвенел «мобильник», этот номер знал один лишь человек — генерал Потапчук. Пришлось прикрыть дверь.
— Да, я слушаю.
— Как у тебя дела?
— Встретил нашего друга, он приехал не один.
— Знаю, с французским журналистом. Ты говорил, что назовешь два адреса? — Потапчук имел в виду места, куда надо положить снайперские винтовки.
— Пожарная каланча возле реки и первая фанерная буква «С» в огромной надписи на площади — «Славянский базар».
— Хорошо. Схема закладки, как и в прошлый раз?
— Вряд ли мне они понадобятся, но на всякий случай стоит положить.
— Все сделаем. Если возникнут проблемы, звони.
— Не дождетесь.
Всю ночь Омар не покидал номера, хотя люди к нему приходили. Какие-то арабы, кавказцы, не то сербы, не то боснийцы. О деле они говорили вряд ли, больше пили водку. До обеда Омар дрых, а Макс Фурье терпеливо дожидался в баре, пока его друг проснется.
Француз пил апельсиновый сок, умудряясь растягивать один стакан на полчаса. Камера уже лежала у него на коленях, и Глеб, внимательно наблюдавший за французом, видел, как тот умело, не поднимая камеру с колен, направляет объектив в нужное место и ведет съемку.
Снимал он российских знаменитостей в тот момент, когда они ели, пили. При этом Макс умудрялся сохранять беспристрастное выражение лица, отхлебывал кофе и левой рукой вращал настройки камеры.
Макс Фурье взглянул на часы. Сиверов в это время сидел неподалеку от него, но не за стойкой, а за столиком — так, чтобы оставаться вне зоны видимости, не мозолить глаза. Француз достал трубку «мобильника», набрал номер. Глеб, внимательный ко всяким мелочам, запомнил его.
— Омар, ты уже проснулся? — по-русски спросил Макс.
— …
— Тогда спускайся в бар. Через два часа открытие фестиваля.
— …
— Если ты хотел жрать водку и снимать красивых девушек, то мог бы заниматься этим и в Москве.
Ответа, естественно, Сиверов не слышал, но по улыбке Макса понял: Омар отшучивается.
Сиверов дождался прихода шах Фаруза. В баре народу еще прибавилось. Перед концертом исполнители спешили выпить чашечку кофе, пропустить по пятьдесят граммов коньячку, просто переговорить.
«Да, не так часто встретишь такое скопление красивых женщин», — осмотрелся по сторонам Глеб Сиверов.
Тут имелись женские фигуры на все вкусы — от худых, как топ-модели, до рубенсовских красавиц. Одна из последних и попивала кофе, стоя рядом с Глебом. Дородная, с чисто украинской внешностью, она не стеснялась своей полноты, наоборот, подчеркивала, надев облегающий кожаный костюм.
Глеб не привык сидеть, когда женщина стоит.
— Присаживайтесь, — уступил ей место и бросил взгляд на бэдж. Всего три слова — «Певица. Оксана. Украина».
Женщине на вид было лет двадцать пять.
— Спасибо, — низким грудным голосом ответила Оксана и опустилась на стул. Тот целиком спрятался под ее широкими бедрами.
Омар, глядя на украинку, принялся шептать на ухо Максу Фурье:
— Посмотри, какая баба!
— Не в моем вкусе, — поморщился француз. — Была бы она раза в два тоньше, я бы обратил на нее внимание.
— Ты ничего не понимаешь в женщинах. Такие фигуры я называю «два в одном».
— Я бы сказал, даже три в одном.
Омар и сам худобой не отличался. Он сполз с высокого табурета перед стойкой и поставил перед певицей бокал с «мартини».
— Позвольте угостить вас?
Певичка быстро оценила ухажера: богат, но хорошими манерами не отличается. В другое время она бы, возможно, закрутила с ним роман, но на фестиваль приехала не одна, ее опекал украинский бизнесмен, он же любовник и продюсер, вложивший в нее немалые деньги, Петр Гриненко. Он устроился в дальнем конце зальчика у подоконника с группой таких же любителей выпить и потусоваться, как сам — молодых, здоровых мужчин с плотно набитыми кошельками и сытыми лицами.
То, что Глеб уступил место Оксане, Петр еще стерпел: в конце концов, Сиверов не приставал к ней, но появление Омара привело его в бешенство.
— Чего этой обезьяне от моей бабы надо?
Он хотел было направиться к певице, но собутыльник остановил его:
— Петро, не делай скандал, лучше выпей.
Гриненко посмотрел на Оксану так, что последние сомнения в ее душе развеялись, интрижке не состояться.
— Я не одна, — прошептала украинка, взглядом указывая на Гриненко.
Омар достал визитку и ручкой на ней написал номер своего «мобильника», с которым приехал в Витебск.
— Красавица, если ты наведаешься ко мне в номер или пригласишь к себе, то не пожалеешь.
Оксана незаметно взяла визитку и сунула ее в карман пиджака.
— Муж? — поинтересовался Омар.
— Нет, продюсер.
— Это серьезно!
— Отойдите, пожалуйста, он очень злой.
— Клюнула, — прошептал Омар, похлопывая француза по спине.
— На тебя или на твои деньги?
— Какая разница? Будут деньги, будут и женщины.
Появился охранник афганца, и Фурье с Омаром покинули бар. Глеб Сиверов вышел следом.
***
Люди с положением в обществе не любят приходить на концерт заранее, они имеют привычку появляться чуть позже, тогда на них обращают внимание.
От гостиницы до амфитеатра было недалеко, минут пять ходьбы. Омар махнул рукой своему водителю, мол, поезжай, пешком дойду. Охранник шел следом за хозяином, держа руку под полой пиджака.
Фурье сгорал от любопытства. Вот уже целый месяц, как он пытался выйти на Омара шах-Фаруза. Журналист задумал новый документальный цикл «Торговцы смертью» — о людях, торговавших наркотиками, оружием, о поставщиках женщин в европейские бордели. Как ни странно, желающие сняться в этом сериале находились. Герои ставили лишь одно условие: лиц не показывать, фамилий не называть. Подпольным миллионерам хотелось блеснуть своим богатством, влиянием и остаться при этом инкогнито. Три серии Фурье уже снял в Колумбии, одну в Афганистане, где ему и подсказали, что в Москве живет их соплеменник, поставляющий оружие в горячие точки.
День ото дня Фурье исправно названивал в московский офис Омара. Секретарша терпеливо объясняла ему, что босса на месте нет, но она передаст шах-Фарузу просьбу тележурналиста. Фурье караулил Омара у выхода, но телохранители всегда оказывались проворнее, даже отснятую пленку они у него изъяли, дав взамен чистую кассету.
И вот две недели тому назад случилось невероятное: Омар шах-Фаруз позвонил журналисту сам. Извинился за свою охрану, за нерасторопную секретаршу, мол, не поняла, о чем идет речь, и назначил встречу.
За рюмкой Омар был откровенен, признался, что имеет отношение к торговле оружием, правда, конкретных получателей товара не назвал. Тут же пообещал, что, как только представится возможность, пригласит француза в поездку, чтобы тот своими глазами смог посмотреть, как заключаются подобные сделки.
— Но лиц не показывать, фамилии не называть, — сказал привычную для француза фразу Омар,
— Конечно, все герои будут представлены инкогнито, если хотите, я могу показать уже смонтированные первые две серии о колумбийских наркобаронах, они остались довольны моей работой.
— В отличие от Колумбии, мой бизнес куда скромнее, — улыбнулся Омар, — и заплатить за рекламу я вам не смогу.
Вот таким образом Макс Фурье и оказался на «Славянском базаре» в Витебске. Омар предупредил его за неделю до отъезда, сам заказал гостиницу и оплатил дорогу.
— Не разгоняйся, — шах-Фаруз придержал Макса за локоть, — сейчас все и произойдет. Камеру не включай, снимешь потом какую-нибудь лабуду, две беседующие за столиком тени. Человек, с которым я встречаюсь, переправляет стрелковое оружие за границу небольшими партиями.
На каменном парапете набережной Двины сидел Леонид Новицкий. Заметив Омара, он привстал и помахал рукой, но тут же сник, увидев спутника афганца. Особенно его насторожила видеокамера, висевшая на плече француза.
— Знакомьтесь, французский тележурналист Макс Фурье. А это мой помощник в трудном деле, фамилию его тебе знать необязательно. Можешь не стесняться, — обратился он к Новицкому, — Макс — человек надежный, хотя, в силу своей профессии, излишне любопытный.
— Я бы хотел говорить один на один, — неубедительно попросил Леонид о
Омар широко улыбнулся:
— Предоставь мне вести дела. Каждый из нас по-своему видит свой бизнес, по-своему зарабатывает деньги. Здесь десять тысяч, — Омар вынул конверт и передал его Новицкому. — Держи документы, — поставив ногу на парапет, Омар раскрыл кейс, отдал Леониду папку. — По этим документам примешь фуру, оформишь свои бумаги и переправишь за границу как обычно. Да, не забудь, таможенникам заплатишь еще раз.
Макс Фурье недоумевал, почему Омар так откровенен. Новицкий суетливо спрятал деньги, зажал папку под мышкой и, оглядевшись, страшно испугался. Толпу у театра буравили небольшие группы крепко сложенных мужчин, даже человеку непосвященному было понятно: под надетыми не по сезону плащами и куртками у них таится оружие.
Двое коротко стриженных парней расположились совсем неподалеку. У одного был надет головной радиотелефон, кронштейн с микрофоном покачивался возле губ. Выглядели парни так, как будто специально копировали повадки голливудских киношных телохранителей: ленивые надменные взгляды, широко расставленные ноги, небрежность в движениях. Отличало их от американцев лишь то, что оба парня щелкали черные семечки, шелуха висела даже на поролоне микрофона.
— Значит, сегодня три президента соберутся, — быстро определил Омар. — Чего ты трясешься, Леня? Пока тебя брать еще не за что. Посмотри на Макса, он держится молодцом.
Телохранитель афганца улетучился. Омар на него особо не рассчитывал и держал в качестве средства для устрашения: телохранителя гигантского роста было видно издалека.
— Все, Леня, действуй, фура придет на следующей неделе.
— И это все? — изумился Макс, когда они уже направлялись к амфитеатру.
— Тебе мало? Могу рассказать подробнее. Московским производителям оружия некому его сбывать, у армии нет денег, и они готовы продавать его хоть черту лысому, лишь бы было чем рассчитаться с рабочими и с поставщиками. Я отстроил четкую схему: покупаю оружие в России и нахожу покупателя в горячих точках. Белорусы покупают его за мои деньги у россиян и переправляют в порты когда легально, когда нет. Естественно, в обоих правительствах у меня есть покровители, я делюсь с ними деньгами. Вот и весь бизнес. Переваривай информацию, — сказал Омар, предъявляя пропуск на вход в амфитеатр двум омоновцам со зверскими лицами.
Меры предосторожности были приняты чрезвычайные: на каждом углу — наряд милиции, повсюду — патрульные машины. Но это лишь видимая часть. Службы охраны трех президентов рассеялись по городу. Глеб как профессионал, то тут, то там замечал вооруженных охранников, замаскировавшихся под гуляющую публику. Опытным глазом он заметил и снайперов, расположившихся на крышах. Не сходя с места, он насчитал десять человек на крышах близлежащих домов, одиннадцатый засел на башне ратуши.
«Да, ребята, пострелять мне сегодня вряд ли придется!»
Глеб миновал площадь и остановился на набережной. Оттуда хорошо просматривалась старая пожарная каланча на другом берегу Западной Двины.
Возле нее стояло несколько черных «Волг». Трое мужчин в черных костюмах нервно курили и переговаривались, между собой. Из башни вышли двое молодых мужчин в штатском, несли что-то длинное, завернутое в брезент.
«Ну вот, ребята из Минска не зря хлеб едят, обнаружили-таки закладку генерала Потапчука. Теперь могут ожидать новые звезды на погонах. Не шутка ли, обнаружили гнездо террориста, решившего убить одного из трех президентов, а может, даже и всех троих вместе. Теперь охрана засуетится.»
Брезентовый сверток бережно уложили на заднее сиденье «Волги», и начальство укатило. Возле каланчи оставили охрану — двое молодых парней сидели на лавочке с бутылками пива в руках.
«Вам, ребята, повезло, можете отдыхать. Даже вы, любители пощелкать семечки, понимаете, что снайпер на каланчу не придет.»
Тем временем уже стемнело. В амфитеатре звучала музыка, фестиваль открылся. Весь город собрался в центре, счастливчики сидели на трибунах. Те, кому повезло меньше, пытались, стоя на ратушной площади, рассмотреть, кто именно сейчас выступает на далекой сцене.
Глеб пробрался сквозь толпу на площади к огромной фанерной композиции, сложенной из трехметровых букв; «Славянский базар». Переплетение металлических труб, трепещущие на ветру флажки. Глеб забрался на бетонный куб, на котором была укреплена буква «С».
Взоры всей публики были устремлены к амфитеатру, лишь охранники, внедренные в толпу, глазели по сторонам. Глеб улучил момент и спрыгнул с куба на землю — в середину композиции. Прямо над ним возвышалась, укрепленная на сваренных металлических трубах, огромная голубая буква «С», сбитая из фанеры. Музыка звучала так громко, что, закричи сейчас, Глеб не услышал бы собственного голоса.
Сиверов выждал. Никто не заинтересовался его исчезновением с бетонного куба. Он подпрыгнул, ухватился за перекладину и быстро подтянулся. Забрался внутрь пустотелой буквы. Поднял вверх руку и за изгибом нащупал завернутую в брезент винтовку. Мягко щелкнуло лезвие универсального швейцарского складного ножика. Пилка легко врезалась в мягкую фанеру, Глеб пропилил себе небольшое окошечко.
Позиция была очень удобная: одной ногой Сиверов упирался в металлическую распорку, а спиной лежал на фанере. Расстояние от плеча до окошечка было таким, что даже ствол винтовки не показывался наружу.
Глеб плавно перевел затвор винтовки, досылая патрон в патронник, и припал к окуляру оптического прицела. Амфитеатр и сцена были перед ним как на ладони. На сцене стояли три президента и ведущие. Сиверов не удержался от соблазна и на доли секунды задержал перекрестие прицела на каждом из них.
«Возможно, нашлись бы люди, которые дорого заплатили бы, прозвучи сейчас выстрел, но я здесь по другому вопросу», — Сиверов перевел прицел в зал.
Случайного выстрела он не боялся, винтовка стояла на предохранителе. В перекрестье мелькали затылки, профили людей, воздушные шарики с символикой фестиваля, лица охраны. Телохранители переговаривались по рации.
«Как они еще что-то слышат в этом шуме? А где же наш друг Омар? В задних рядах он сидеть не будет, до ложи не дорос», — Глеб прошелся по передним рядам.
Первым он увидел Макса Фурье, тот, припав к окуляру, вел съемку. Омар сидел рядом с ним в третьем ряду у самого прохода. Перекрестье точно легло на затылок афганцу. Большим пальцем Сиверов тронул предохранитель, но не повернул его. Прямо перед Омаром сидела женщина, пуля могла пройти навылет и угодить в нее.
«Погоди, Глеб, не спеши. Выстрелить ты всегда успеешь, — подумал Сиверов. Он представил, что произойдет, если сейчас он нажмет на спусковой крючок. — Если я прицелюсь повыше, чтобы не зацепить женщину, Омару череп разнесет на части. Разлетятся мозги. Завизжит обрызганная кровью женщина, начнется паника.»
Глеб плавно перевел прицел на выход из амфитеатра, он был перекрыт тройным кордоном президентской охраны, ОМОНа и армейского спецназа.
«В зале пять тысяч зрителей, женщины, дети. Все рванут к выходу, охрана — к сцене. Стоит упасть хотя бы одному человеку, как начнется свалка», — Глеб тяжело вздохнул и вновь перевел прицел на Омара, тот лениво попивал сок из бумажного пакета. — У тебя сегодня праздник, афганец, — беззвучно произнес Сиверов, — но завтра я до тебя доберусь.»
Он спрятал винтовку в тайнике и, повиснув на перекладине, разжал пальцы. Под ногами хрустнула заброшенная кем-то сюда пивная жестянка.
Глеб выбрался из конструкции не замеченным никем.
— Завтра, все откладывается на завтра, — успокоил он себя и решил остаток вечера просто погулять по городу.
ГЛАВА 6
Фима Лебединский день открытия фестиваля «Славянский базар» из принципа провел дома. Он даже не вышел в магазин, чтобы купить хлеба.
«Не хотят видеть меня на празднике, что ж, тогда и я не хочу их видеть!»
Он слышал, как играла в амфитеатре музыка, видел взмывающие в небо огни фейерверка. Ему не давали заснуть крики прохожих. Фима Лебединский всю ночь просидел на кухне, методично подливал себе водку. Привычки пить в одиночестве у него не было, хотелось поговорить. И если раньше он мог разговаривать хотя бы с портретом дедушки, то теперь приходилось пить в обществе дамы с букетом цветов, имени которой он даже не знал.
— Ну что, уродина косоглазая? — Фима поднимал рюмку и подмигивал даме. — Хахаль тебе цветочки подарил? Ну так вот, нет на свете теперь твоего хахаля, и тебя на свете нет. Остался лишь гнусный портрет, по которому никто тебя не узнает. Сколько ты стоила при жизни — трешку, пятерку? Теперь я узнаю красную цену тебе в базарный день.
Фима, выпив водку, расстроился до такой степени, что завесил даму грязным полотенцем, чтобы та не смотрела на него наглыми глазами.
— То-то! Нечего тебе на голых мужиков пялиться, — приговаривал Фима, разбирая доски, закрывавшие ванну.
Он напустил горячую воду, влил в нее остатки жидкого мыла и долго взбивал пену. На этот раз Фима не повторил ошибки, в ванне сидел ровно до того времени, пока его не стал морить сон. Затем мокрый, шлепая босыми ногами по грязному полу, перебрался в постель.
Утром его разбудил звук духового оркестра. Военные стояли на самом краю оврага спиной к Фиминому дому и играли бравурные марши. Лебединский посмотрел в окно на конкурентов, послушал музыку и убежденно произнес:
— Фальшивят. Их даже за угощение никто на похороны не позовет, не то что мой оркестр.
Фима позавтракал остатками вчерашнего ужина, по третьему разу заварил спитой чай и, наконец, вызволил из плена даму с букетом цветов.
«Рама солидная, — решил Лебединский, — она одна баксов на тридцать тянет. Может, располовинить, продать раму отдельно, а картину отдельно? — но как человек искусства, Фима ценил целостность композиции. — Проиграю на этом, но совесть моя будет чиста.»
Фима готовился к продаже основательно. Отыскал под плитой рулон серой оберточной бумаги, отмотал от него не жалея, завернул картину и крест-накрест перевязал мохнатой пеньковой веревкой. День выдался жаркий, и надеть черный костюм Фима не рискнул. С похмелья он обычно сильно потел и не хотел, чтобы пропахло потом его единственное достойное одеяние.
«В конце концов, не меня покупают, а картину», — и он как был, в старом спортивном трико с вытянутыми коленями и обтрепанными лампасами, в серой застиранной майке, с картиной под мышкой вскарабкался по откосу. И тут же очутился в самом центре событий.
Улица, перекрытая для движения транспорта, была забита народом. У стен расположились продавцы, в основном художники. На продажу были выставлены и глиняные горшки, и резьба по дереву, и ювелирные украшения. Однако большую часть торгующих составляли художники — графики, живописцы.
У Фимы запестрело в глазах от разнообразия. Картины висели на стенах домов в три или четыре яруса, и если в других городах торгуют в основном закатами, рассветами да морскими пейзажами, то витебские художники целый год рисовали фантазии на темы Шагала, Малевича, Лисицкого, Добужинского.
Фима сразу же погрустнел, поняв, что его косоглазая дама с букетом цветов вмиг потеряется среди этого разнообразия.
«Жаль, лака дома нет, так бы потянул холст, глядишь, и купили бы подороже.»
Фима долго прохаживался среди торгующих, чтобы прицениться. Наконец выяснил для себя, что цены картинам назначаются в соответствии с размером. Такие же холсты, как бывший портрет дедушки, ценились от пятидесяти до ста долларов.
«Значит, я выставлю — семьдесят, — решил Лебединский. — Тоже неплохо. Если учесть тридцатник за раму, то получится заветная сотка.»
Он отыскал свободное местечко. Ему повезло, милиция десять минут тому назад забрала с собой пьяного мужика, разложившего для продажи неполный чайный сервиз. Лебединский постелил на тротуар наследство, доставшееся ему от несчастного любителя выпивки, — глянцевый плакат с суперкроссвордом, сел, сложив ноги по-турецки, картину прислонил к стене. Прежде Фима никогда не торговал, но в нем проснулась память предков — витебских евреев.
— Господа, — кричал он, — не проходите мимо, аттракцион невиданной щедрости, всего, один день на родине великих художников! Настоящая живопись, одна рама чего стоит! Остановитесь, посмотрите!
Люди останавливались, привлеченные не картиной, а криком Фимы, но, когда узнавали цену — сто баксов, тут же переходили к другим торговцам.
Фима кричал им вслед:
— Хорошая вещь дешево не продается. Вы еще пожалеете! — и тут же искал взглядом очередную жертву.
Особенно усердствовал он перед иностранцами. Но те даже не останавливались. Иностранных языков Фима Лебединский не знал, а его картина смотрелась блекло на фоне написанных яркими красками полотен витебских художников. Город буквально бурлил, даже сами горожане удивлялись: неужели в Витебске проживает столько народа и где может разместиться столько приезжих?
Сиверов сидел в «мерседесе» неподалеку от входа в гостиницу «Эридан». Сидел уже давно, с девяти часов утра. Можно было подкараулить Омара шах-Фаруза и его французского приятеля в самой гостинице, но Сиверову не хотелось липший раз попадаться им на глаза. В машине он оставался невидимым для окружающих, следил за улицей сквозь чуть приспущенное боковое стекло. Сигаретный дым тонкой струйкой вытекал на улицу.
Омар и Макс вышли на улицу вместе, их появление предварил выход охранника. Омар смотрелся несколько карикатурно: в зубах сжимал толстую голландскую сигару, пухлые пальцы украшали сразу четыре золотых перстня.
— Ты удовлетворен? — спросил Омар Макса. Тот пожал плечами:
— Маловато для документального сериала.
— Если хочешь, я позволю снять тебе загрузку машины оружием. Это будут подлинные кадры, а не фальшивка.
— Неплохо бы, — отвечал Фурье. — Не могу понять, с чего это ты вдруг стал таким общительным?
— Надоело все, — махнул рукой шах-Фаруз. — Схемы обкатаны до автоматизма, я уже практически ничего не делаю, лишь управляю денежными потоками.
— Ой ли? — покачал головой Фурье. — Ты расплачиваешься своими деньгами?
— Когда как.
Афганец и француз никуда не спешили. Они медленно шли по улице, разглядывая выставленные на продажу картины, украшения, но ничего не покупали. Глеб обратил внимание на то, что Макс несет камеру не в футляре, а в руках, расчехленную, со снятой крышечкой объектива.
«Ничего удивительного, — успел подумать Сиверов, — он профессионал-телевизионщик, должен быть готов начать съемку в любую секунду. „Бегущего волка ноги кормят"“, — вспомнилась ему поговорка.
Чуть позже он заметил небольшую уловку Макса. Индикаторная лампочка, которая загорается в момент съемок, была аккуратно заклеена полоской лейкопластыря, видоискатель поднят вверх — так, чтобы Макс мог видеть в нем то, что находится в поле зрения объектива. Иногда большим пальцем француз скрытно от Омара нажимал кнопку, снимал, при этом продолжал болтать, всячески отвлекая афганца.
— Посмотри, какое милое украшение, — говорил он, указывая на массивный серебряный браслет.
— Из украшений я признаю только золото, — отвечал Омар.
Навстречу афганцу и французу шел полный невысокий мужчина в годах, в белом костюме и купленной тут же на распродаже самодельной соломенной шляпе. При ярком солнце лицо его терялось в тени, были видны лишь идеально подстриженные густые черные усы. Камера Макса работала, хотя он и не смотрел в окуляр. Мужчина, проходя рядом с Омаром, вложил ему в руку записку, после чего принялся изучать сувенирные открытки с видом Витебска на проволочном стенде. Омар не вздрогнул, не удивился, когда встречный человек коснулся его рукой, сжал записку в кулаке и бросил взгляд на Макса — тот, казалось, ничего не заметил.
Глеб, уже теряя афганца и француза из виду, завел двигатель и медленно поехал за ними среди толпы гуляющих людей. На лобовом стекле его машины красовался пропуск: «Проезд всюду». Под сиденьем Сиверова лежал пистолет с глушителем.
«Вряд ли мне придется сегодня им воспользоваться, — думал Глеб, — слишком много народу. Омар осторожен, еще ни разу не появлялся в безлюдном месте, только на публике.»
Черный «мерседес» медленно проехал мимо Омара и Фурье, и объектив телекамеры отразился в тонированном стекле. Глеб доехал до поворота, завернул за угол и остановил машину. Пистолет сунул в карман и поспешил вернуться. Он потерял шах-Фаруза и его спутника из виду всего секунд на двадцать, но этого времени хватило, чтобы произошло следующее.
Держа в руках расписной глиняный кувшин с еще не оторванным ценником, стоял у прилавка сорокалетний мужчина. Его стриженые виски чуть тронула седина. На нем был немного помятый джинсовый костюм, чувствовалось, что к этой одежде мужчина не привык, она мешает ему, сковывает движения. Куда органичнее смотрелся бы на нем военный мундир, сшитый в хорошем ателье. Он немного удивленно смотрел на спутника Омара и даже не подозревал, что камера на короткое время запечатлела его.
Когда афганец поднял голову, мужчина чуть заметно кивнул ему и тут же быстро зашагал по улице. Омар шепнул охраннику пару слов на ухо по-арабски и тут же радостно воскликнул:
— Кажется, это то, что я искал.
Он взял в руки первую попавшуюся картину, безвкусную, написанную анилиновыми красками, — нарисованный всего за несколько часов пейзаж Витебска, залитый лучами заходящего солнца.
— По-моему, она ничего. Хотя я не разбираюсь в живописи, — и он сунул картину в руки Максу Фурье.
Тот, конечно, не был экспертом, но кое-что в искусстве понимал, как всякий творческий человек.
— По-моему, мазня, — убежденно произнес Фурье и поднял голову.
Он был уверен, что Омар стоит рядом с ним, но на его месте почему-то оказался охранник. Шах-Фаруз исчез.
— Где Омар? — спросил француз по-русски.
— Просил подождать, — спокойно отвечал охранник, мерно жуя резинку. Его лицо не выражало никаких чувств, будто так и должно быть. — Он сказал, что сам вас найдет.
Омар же, тем временем избавившийся от спутника, миновав проходной двор, уже выходил на другую улицу.
Сиверов видел Фурье, видел охранника, но те его не интересовали.
«Куда же подевался афганец? Неужели заметил слежку?»
Омара нигде не было. И чтобы не потерять последнюю нить, Сиверов решил держаться поближе к французу.
«Должен же афганец вернуться?»
Шах-Фаруз тем временем сел на каменный парапет, идущий вдоль фасада старого дома, и нервно закурил. Мужчина в джинсовом костюме долго ждать себя не заставил, сел рядом с Омаром. Поприветствовал его пожатием руки.
Место для разговора было выбрано удачно, от тротуара беседующих отделял широкий газон, густо засаженный можжевельником, туей и розовыми кустами. Мужчина в джинсовом костюме держал себя подобающе: спина прямая, взгляд властный, как и положено заместителю министра обороны Беларуси. Сам он был родом из России, попал в Минск за год до провозглашения независимости в звании полковника, понял, что тут сможет достичь высот, какие в России ему и не снились. Вот уже два года он носил погоны генерал-майора и занимал должность заместителя министра обороны.
— Генерал Бартлов, — рассмеялся Омар, — вы бы лучше что-нибудь попроще надели. На джинсового мальчика вы мало походите.
— Так меня труднее узнать, — улыбнулся генерал-майор, — даже родная мать прошла бы мимо меня.
— Неужели вы родились в военной форме?
— Нет, родился в рубашке, а форму надел чуть позже, в Суворовском училище, — и тут же генерал-майор с отвращением отставил расписной кувшин. — Извините, жена у меня подобную дребедень любит, ей купил.
— Конечно, нужно же чем-нибудь оправдаться, вернувшись со «Славянского базара». По всему чувствуется, вы любите свою жену, — взгляд афганца сделался насмешливым.
— Какого черта вы притащили с собой французского журналиста? — вспылил заместитель министра обороны. — Я еле улучил момент, чтобы дать вам знак о встрече.
— Восток — дело тонкое, — улыбка блуждала на губах шах-Фаруза. — Мало того, что я пригласил его, я еще и слил ему информацию о том, как переправляется стрелковое оружие через границу.
Глаза генерал-майора округлились:
— Зачем?
— Мы с вами, генерал — преступники, — спокойно говорил афганец, — международные преступники. И если уголовник совершил убийство, что он делает?
— Не знаю, — немного растерялся Бартлов.
— Он ввязывается на улице в пьяную драку и садится в тюрьму, чтобы исчезнуть на несколько месяцев из поля зрения милиции. Он француз, поэтому и сольет информацию западным спецслужбам. Груз в худшем случае досмотрят в Клайпеде. Здесь у нас крыша надежная, нам ничего не грозит.
— Мне подсказали, будто бы Макс Фурье работает на французские спецслужбы, поэтому и так рвался встретиться со мной.
— Что ж, посмотрим, по какому каналу всплывет информация о фуре, груженной автоматами. Так мы и вычислим, на кого он работает.
— Мне не нравится ваш стиль работы. А если арестуют Новицкого?
— Его арестовать может только белорусский КГБ. И будьте уверены, Бартлов, если груз задержат в Клайпеде, не пройдет и двух часов, как сами белорусские чекисты Новицкого ликвидируют.
Генерал-майор сидел задумавшись, понимая, что по большому счету Омар прав.
— Пока будут отслеживать груз, пока будут готовить операцию, мы и провернем то, о чем договаривались. Вашей жене кувшин не понравится, — внезапно переключился Омар на другую тему и потер пальцем край декоративного кувшина, — обожжен плохо.
Генерал-майор Бартлов был малой сошкой в сделках с оружием, исполнителем, от него принятие решений не зависело. Над ним стояло пять человек видных политиков, кто мог себе позволить, пренебрегая мнением мировых правительств, вести торговлю оружием с Ираком.
— Я читал в газетах, — задумчиво проговорил шах-Фаруз, — что вы уничтожили ракетный комплекс «Меркурий» в присутствии американских представителей. В таком случае, что вы надеетесь продать через меня Ираку?
Бартлов сдержанно улыбнулся:
— Американцы — тоже люди, и их легко провести. Мы уничтожили учебный вариант комплекса земля-воздух «Меркурий», и в нашем распоряжении остался неучтенный боевой.
— Вы меня успокоили, — шах-Фаруз отставил кувшин, — поскольку шестьдесят миллионов долларов, переведенных на указанные вами счета, — сумма не маленькая даже для Саддама Хусейна, тем более что ему жизненно необходимо иметь оружие против американских самолетов.
— Да, деньги получены, — подтвердил генерал Бартлов. — Зенитный комплекс разобран на блоки и в любое время может быть доставлен, куда вы укажете.
— Я рад, что мы сумели договориться и ваша сторона удовлетворилась авансом. Вторую часть, шестьдесят миллионов, я переведу на указанные вами счета после того, как мы получим ракетный комплекс земля-воздух.
— Куда и когда его доставить?
— На этот раз рисковать не станем: доставим воздушным путем в Ливию. Оплату транспортного самолета иракская сторона берет на себя.
— Подготовить груз к отправке воздушным путем мы можем через три дня.
Омар задумался:
— Хорошо, в среду мы ждем вас в Триполи. Когда эксперты убедятся, что комплекс находится в рабочем состоянии, мы перечислим остальные шестьдесят миллионов.
Генерал-майор Бартлов благодарно улыбнулся. Он любил работать с Омаром, тот всегда действовал четко, с пониманием ситуации, не создавал искусственных трудностей.
— Вы упрекнули меня в том, что я приехал с французским журналистом?
— Это не упрек, хотел выяснить мотивы.
— Я сделал это специально. В вашем министерстве работают бездари, — шах-Фаруз ударил ребром ладони по каменной кладке. — Как могло случиться, что журналисты узнали о том, что в Академии Минобороны обучается тридцать иракских офицеров по программе пользования ракетным комплексом «Меркурий»?
Бартлову только оставалось развести руками:
— Тридцать человек — не иголка, в стогу не спрячешь.
— Теперь вся западная пресса трубит о том, что Беларусь готовит специалистов противовоздушной обороны для Ирака. Именно поэтому мне пришлось сливать информацию французу, направлять его по ложному следу.
— Я отвечаю только за себя, — Бартлов поднялся.
— К вам у меня претензий нет.
Мужчины пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. И если замминистра обороны Беларуси мог теперь позволить себе расслабиться, то Омару предстояла еще одна встреча. Он, как и генерал-майор, являлся исполнителем, не вкладывал в сделку свои деньги. Сто двадцать миллионов — сумма для него была неподъемная, такие сделки заключаются только на уровне правительств. Шах-Фаруз получал лишь свои комиссионные, не больше того.
Омар взглянул на часы. Он еще успевал: до времени, указанного в записке, оставалось три минуты.
Грузный мужчина в белом костюме и самодельной соломенной шляпе поджидал его в дорогом уличном кафе под низко опущенным зонтом. Дорогое кафе было выбрано по одной простой причине: там всегда меньше народа. Люди стремятся заполучить выпивку и сладости подешевке, и, если в одном месте продают за рубль то, что рядом продают за полтора, толпа соберется у рублевого прилавка. Грузный мужчина не зря прятал свое лицо, его могли узнать. Изредка он мелькал на экранах телевизора в другом ряду при официальных дипломатических встречах.
Военный атташе Ирака в России Мансур прибыл на «Славянский базар» с единственной целью — встретиться с Омаром. Именно тот обеспечивал ему связь с белорусским правительством.
— Ты пунктуален, — проговорил атташе, ногой отодвигая стул. Омар сел, придвинул к себе чашечку остывшего кофе. — Ты виделся с Бартловым?
— Мы уточнили последние детали. Комплекс будет в Триполи в среду, обеспечьте встречу.
Военный атташе Ирака повертел в руках незажженную сигарету:
— Ты в этом уверен?
— Аванс в размере половины стоимости комплекса подействовал на них магически. Сделка неофициальная, поэтому деньги разошлись по частным счетам чиновников, и можете быть уверены, чиновники потратили их в мыслях еще до того, как получили. За нами еще шестьдесят миллионов, — напомнил шах-Фаруз.
— О таких вещах я не забываю.
— Вот номера моих счетов, куда вы их переведете в четверг.
— Я доверяю вам, деньги уже послезавтра окажутся на ваших счетах.
— Мы, мусульмане… — возвышенно начал Омар Военный атташе посмотрел на него с издевкой:
— Мы сейчас одни и можем позволить быть самими собой.
— Может, тогда заказать по сто граммов водки? — усмехнулся Омар.
— Да, за успех нашего дела.
Официант всегда чувствует денежных клиентов. Стоило военному атташе щелкнуть пальцем, как тут же возле столика появилась девушка в белом переднике:
— Что-нибудь еще?
— По сто граммов водки, холодной.
— И вазочку фисташек, — добавил Омар. Мужчины выпили, военный атташе вскинул на прощание руку.
— Счастливо, Омар. Мы провернули великое дело: купили за сто двадцать миллионов то, что американцам обойдется дорого — они потеряют не один самолет.
— Стараюсь, — шах-Фаруз еще раз глянул на часы.
С того момента, как Омар оставил Макса Фурье, прошло двадцать минут.
«Охранник, конечно, постарается его задержать на том же самом месте, но не стоит вызывать лишние подозрения. Скажу, что увидел красивую толстушку, — подумал Омар. — Макс поверит, он знает, что я неравнодушен к полным женщинам.»
Француз держал в руках безвкусную, написанную анилином картину:
— Не знаю, что Омар нашел в ней, но это безвкусная мазня. Мусульмане никогда не разбирались в живописи.
Фима Лебединский, сидевший неподалеку и наблюдавший за потенциально богатым покупателем, расслышал последние слова:
— Конечно, мазня! — закричал он, махая двумя руками французу. — Конечно, мусульмане никогда не разбирались в живописи. Зато евреи не только разбирались, но и рисовали лучше всех в мире. Спешите сюда, почтенный, лучшей картины вы не найдете на всем «Славянском базаре».
Поскольку Максу все равно нужно было убить время в ожидании Омара, он подошел к Фиме.
— О какой картине вы говорите? — он обвел взглядом стойки, плотно заставленные живописью.
— Только для вас и по специальной цене, — зашептал Фима. — Настоящая живопись! — и он подал Фурье бывший портрет дедушки железнодорожника, за одну ночь превратившийся в портрет незнакомой Фиме женщины, прижимающей к груди букет цветов.
Фурье сразу же привлекла картина. Сперва — странной золоченой рамой, затем он всмотрелся в изображение. Краска старая, видно, что полотно написано достаточно давно, что-то таинственное и привлекательное было в женщине с цветами. Французу казалось, где-то он уже видел эту картину.
Он перевел взгляд в угол полотна. Подпись художника практически не читалась, но зато он смог разобрать год — тысяча девятьсот двадцать первый. Французский тележурналист впервые был в Беларуси. Он много читал о Витебске и почему-то считал его до этого русским городом.
Тут же вспомнился описанный в книгах Витебск: двадцать первый год, витебская школа, Шагал, Малевич, Лисицкий. Француз понимал, что не может продаваться на базаре что-то стоящее, картину скорее всего рисовал кто-нибудь из учащихся витебского художественного училища, подражал любимому преподавателю. Но это означало, что, возможно, на нее смотрел Шагал и, вполне вероятно, мог провести на ней одну линию, подсказывая ученику, как лучше закончить композицию.
Заметив, что француз немного заинтересовался картиной, Фима затараторил:
— Вы не думайте, я не какой-нибудь босяк! На штаны и майку не смотрите, просто костюм сдал в химчистку. Я человек солидный, — он достал визитку и попытался всучить ее Максу Фурье.
Тот даже не глянул на нее:
— Сколько? — спросил Макс.
Фима набрал в грудь воздуха, намереваясь сказать «сто баксов», но у него помимо воли вырвалось:
— Двести американских рублей. Уф… — почти беззвучно Фима завершил выдох и подумал, что зарвался. Но тут же рассудил: «Сбросить цену я всегда успею».
— Хорошо, я подумаю, — сказал Макс, поставил картину на тротуар и отступил на пару шагов.
«Если уж мне суждено потратить двести баксов на картину неизвестного витебчанина, то я хотя бы должен вернуть себе потерю, засняв колоритного продавца для документального фильма.»
Он включил камеру, направил ее на Фиму Лебединского. Выглядел тот колоритно.
Глеб стоял неподалеку, перебирая украшения из мореного дуба. Камера плавно повернулась, Сиверов понял, что снимают его. Но деваться было уже некуда, единственное, что он успел сделать, так это опустить на глаза солнцезащитные очки. В объектив попала и девушка с зелеными сережками.
— Разве я много прошу? — заныл Фима. — Одна рама чего стоит.
Макс терпеливо доснял то, что хотел, поставил камеру у ног и вытащил портмоне. Две зеленые сотки он торжественно вручил Фиме. Музыкант-жмуровик с замиранием сердца взял деньги и тут же засуетился:
— Я сейчас, секундочку, заверну.
Теперь простецкая оберточная бумага, серая, протертая на сгибах, казалась Фиме недостойной того, чтобы обвить картину ценой в двести долларов.
От прежнего торговца, уехавшего вместе с милицией, Фиме в наследство достался плакат, на котором неудачник раскладывал чайный сервиз — суперкроссворд, разгаданный наполовину. Фима старательно протер его рукавом, пару раз плюнув на глянцевую бумагу. Полный чувства благодарности к французу, незаметно засунул визитку в щель между холстом и подрамником поверх плаката, обвил картину мохнатой пеньковой веревкой и убежденно произнес:
— Она украсит вашу парижскую квартиру.
— Почему вы думаете, что я из Парижа?
Фима, ничуть не церемонясь, ткнул пальцем в грудь Максу: на майке у того белым шелком была вышита миниатюрная Эйфелева башня.
— Такую же майку можно купить на базаре и в Витебске.
— Вы говорите с настоящим парижским акцентом, — сказал Фима, побывавший за всю жизнь всего в трех городах: Витебске, Минске и Москве, если не считать Смоленска и Вязьмы, где он пересаживался с электрички на электричку. — Если бы вы только знали, как мне тяжело с ней расставаться! — Лебединский приложил растопыренную пятерню к сердцу, продемонстрировав при этом грязные ногти.
— Больше денег я не дам, — улыбнулся Макс.
— Ну хотя бы на бутылочку в честь праздника… — Фима мял в руке доллары.
Макс сверху вниз посмотрел на тщедушного жмуровика и пожалел его, представив то, что может произойти дальше. Фима пойдет менять сотку, потому как денег у него нет ни копейки, не в официальную сдачку, а станет отираться у гастронома, приставая к прохожим в надежде продать доллары подороже. В лучшем случае у него просто заберут деньги, в худшем — настучат по голове.
— Вот тебе на бутылку, — Фурье протянул пригоршню мелких белорусских рублей, скопившихся у него в кармане. — Но только обещай, что возьмешь бутылку и пойдешь с ней домой, а деньги сдашь на трезвую голову.
— Клянусь! — выпалил Фима, схватил деньги и только сейчас сообразил, что в спортивных штанах нет карманов.
Заговорщически улыбаясь французу, он сел на тротуаре, трижды переломил долларовые купюры, спрятал их в правый носок, а белорусские деньги — в левый.
— За это ты расскажешь историю картины.
Фима, особо не таясь, но и не вдаваясь в подробности, рассказал о том, как дождь смыл дедушкин портрет и пришлось нести семейную реликвию на рынок.
— Снято, — сообщил Фурье, — теперь ты богат и свободен.
— Левой, правой, левой, правой, — несколько секунд Лебединский маршировал на месте, а затем, счастливый, бросился в толпу навстречу развлечениям.
ГЛАВА 7
Макс в очередной раз поднял камеру, направив ее на толпу. Когда он прильнул к окуляру, то увидел, что Омар спешит к нему, пробиваясь среди гуляющих. Глеб стоял за спиной у тележурналиста, делая вид, что его заинтересовал герб, укрепленный на башне ратуши.
— Извини, Макс, — выдохнул шах-Фаруз, — такую бабу увидел, что не удержаться, — он развел руки, как рыбак, рассказывающий об улове. — Бедра у нее… ты же знаешь, не мог устоять, боялся, упущу.
Француз вежливо улыбнулся. Мол, я понимаю, что ты меня обманываешь, но приходится верить тебе на слово. Омар выглядел чрезвычайно довольным, можно было подумать, будто он на самом деле встречался с женщиной. А радовался он тому, что сумел встретиться с военным атташе и заместителем министра обороны так, что его отсутствие не вызвало особых подозрений.
— Купил-таки? — спросил он у Фурье, глядя на запакованную картину.
— Купил, но другую. Твоя мне не понравилась. У настоящей картины должна быть история, как у моей. Клошар мне ее рассказал.
— Я подумал, — поморщился шах-Фаруз, — что ты прав: та картина — настоящая мазня, и выбирать полотно надо со специалистом.
Омар разглядывал перстни на руках, затем неожиданно для француза предложил:
— Скучно мне, выступления вялые. Моя певичка уже отстрелялась, свадебным генералом я побыл. Пора и в Москву возвращаться. Как ты?
Макс даже растерялся:
— Не знаю, наверное, я останусь.
— Как хочешь. Гульнем сегодня напоследок и распрощаемся.
— Даже на концерт не пойдешь?
— Чего я там не видел? Свой номер я отбыл. Оставайся, Макс, тебе тут в диковинку. Может, еще одну картину купишь.
Француз прижимал купленное полотно и не мог понять, почему Омар так быстро принимает странные решения. То обещал ему устроить ночные съемки погрузки оружия, то словно забыл о договоренности.
Солнце уже клонилось к закату, когда афганец закончил прогулку по городу. Он ни разу не рискнул оказаться в безлюдном месте, был только в толпе, только под прикрытием телохранителя.
Глеб, следивший за ним, уже подумал, что тот мог заметить за собой слежку или его предупредили, что американцы собираются потребовать его выдачи. Разговора шах-Фаруза с Максом он не слышал, стоял от них далековато, но восполнил пробел тем, что умел читать по губам.
«Завтра он уезжает.»
Получалось, что ликвидировать Омара нужно непременно сегодня, иначе он вернется в Россию и будет поздно.
«Нет, меня он не заметил, — решил Глеб. — И за себя не опасается. В Витебск ему нужно было приехать, чтобы встретиться с кем-то — с продавцом или с покупателем оружия. Встреча состоялась, и теперь ему тут нечего делать.»
Омар бросал взгляды на красивых девушек. На «Славянском базаре» было на что посмотреть. Сексуальная неудовлетворенность сквозила в каждом движении афганца, в его маслянистом взгляде, в словах.
Макс и Омар вернулись в гостиницу, когда уже начался концерт. И если первый день фестиваля заставил всех приехавших на него собраться в центре города, то теперь часть публики отдыхала. Встретились старые друзья, завязались новые знакомства, деловые контакты. Макс и Омар пришли к шапочному разбору. Девиц с улицы в гостиницу не пускали, и все свободные дамы в баре оказались разобраны.
Пару раз шах-Фаруз пытался заигрывать с певичками, но в конце концов понял: ничего ему не светит, так как у них были надежные спутники. От скуки афганец выпил сто граммов коньяку и сладко зевнул:
— Пойду-ка я спать. И тебе советую.
Макс имел больше шансов на успех. Исполнители второго эшелона мечтали о том, чтобы их запечатлели для телевидения. Однако Фурье приехал в Витебск не за этим. Он, прихватив купленную картину, забросил на плечо камеру и вместе с охранником и Омаром скрылся в лифте.
Глеб вызвал вторую кабинку, уехал вслед за ними. Выходя в коридор, он успел заметить, что все трое мужчин разошлись по своим номерам. Теперь вытащить Омара из номера было практически невозможно. При желании Глеб мог устранить шах-Фаруза в коридоре, когда шел следом за ним, но тогда оставались бы охранник и француз, видевшие его. Убивать ни в чем не повинных людей Сиверов не хотел.
Глеб прикусил губу. Время уходило, он терял шанс за шансом.
«Прямо наваждение какое-то!» — подумал он.
Он вернулся к лифту, сел в кресло, закурил. С его места хорошо просматривался коридор, оттуда Омар не смог бы выйти незамеченным.
«Он не станет выходить, придется каким-то образом забраться к нему в номер. Дверь, окно — в любом случае охранник среагирует, придется убрать и его.»
Мигнула красная стрелка на табло, раздался, мелодичный звонок, и створки кабинки разошлись. На площадку вышла горничная в белом переднике, на указательном пальце она держала связку ключей. Приехала она не одна: у зеркальной стены лифта, облокотясь на поручни, стояла украинская певица, вся в черной коже, с незажженной сигаретой в руке. И без того пышная, размноженная зеркалами, она, казалось, занимает всю кабину.
Глеб молниеносно поднялся, шагнул в уже закрывающиеся створки. Певица чуть подвинулась, чтобы дать Глебу возможность добраться до панели с кнопками.
— Отлично, мне тоже на шестой, — улыбнулся Сиверов.
Из лифта они вышли вместе. Пустой коридор. Глеб молча шел рядом с Оксаной. Певица остановилась, остановился и Сиверов.
— Вам что-то надо от меня? — игриво поинтересовалась Оксана.
— Совсем немного — один телефонный звонок, — Глеб вытащил из кармана «мобильник».
— Хотите позвонить любовнице и боитесь, что ее муж дома? — девушка взяла трубку в ладонь. — Если вы сами не женаты, то я помогу.
— Нет, я поспорил с приятелем. Помните, в баре к вам клеился богатенький Буратино, восточный человек, полный, с усами.
— Омар? Однако у вас и друзья!
— Как всякий восточный человек, он очень обидчивый, после вашего отказа в сердцах сказал мне, что не пойдет к вам в номер, даже если вы позвоните и пригласите его к себе, намекнув, что сейчас одна.
— Не думала, что задену его за живое.
Сиверов был из той породы мужчин, которые безоговорочно нравятся женщинам. Он умел врать, глядя в глаза и не краснея.
— Мы хорошо выпили с ним вечером, и я сдуру предложил спор, сказал, что он не устоит и прибежит по первому вашему звонку.
— И много вы поставили на кон?
— Шестьсот долларов. Я был пьян. А теперь получается, я проиграю в любом случае, потому что звонить вы ему не собираетесь.
Толстушка задумчиво смотрела на Глеба, вертела в руках мобильный телефон.
— Если мой звонок не прозвучит, вы все равно проиграете?
— Да. Так мы условились. Никогда больше не буду спорить пьяным, — Глеб умоляюще взглянул в глаза певички. — Давайте накажем развратника на деньги? Я уверен, против вашей красоты он не сможет устоять.
— И что я с ним буду потом делать?
— Скажете, произошла ошибка, звонили не вы. Можете не сразу открыть дверь номера. Дождетесь, пока подойду я, и вместе посмеемся над ним.
— Его зовут Омар?
— Да.
— Диктуйте номер, — хитро улыбаясь, Оксана прижала трубку к уху.
— Да, — неохотно ответил Омар. Номер, высвеченный на дисплее, был ему незнаком.
— Омар? Ты меня узнаешь? — томно спросила Оксана. Секундная пауза. Певичка подмигнула Сиверову. — Значит, в баре были всего лишь слова? Я теперь одна.
— Красавица, где ты?
— Мой продюсер ушел на концерт, а я одна в номере, скучаю. Постель в «Эридане» такая холодная!
— Какой у тебя номер?
— Шестьсот пятидесятый. Жду, козлик ты мой! — Оксана вернула трубку Глебу.
— Выигрыш пропьем вместе. Спасибо.
Глеб сбежал на третий этаж по лестнице и сел в кресло возле лифта. Закурил, хотя окурок брошенной им впопыхах сигареты еще дымился в пепельнице. Дверь номера Омара бесшумно отворилась, и шах-Фаруз быстро зашагал по мягкому ковру к лифту. В руке он держал бутылку шампанского, холодного, запотевшего, только что из холодильника. Глеб, опустив руку в карман, нащупал усики чеки у гранаты и большим пальцем вырвал кольцо. Придержал рычаг ладонью.
Омар окинул Глеба безразличным взглядом — мало ли чего человек решил покурить у лифта, может, ждет кого. Омар зашел в кабину, нажал кнопку шестого этажа. Створки начали сходиться. В последний момент шах-Фаруз что-то заподозрил, рука его скользнула в карман.
«Наверное, за пистолетом», — подумал Глеб и бросил в кабинку гранату, бросил в самый последний момент, когда между створками оставалось каких-нибудь пятнадцать-двадцать сантиметров. Омар не успел вставить между ними ногу, и лифт тронулся.
Афганец метался в просторной кабине, понимая, что его уже ничто не спасет.
Глеб абсолютно беззвучно бежал по коридору к двери своего номера. Когда у него за спиной громыхнул взрыв, он резко развернулся на сто восемьдесят градусов и, лишь только услышал, что в конце коридора в дверях проворачивается ключ, быстро зашагал к лифту.
Хлопали двери, мимо Сиверова пробежал Макс, тележурналист на ходу проверял камеру. Фурье боялся опоздать, оказаться вторым, он первым должен снять происшествие. Взрыв в элитной гостинице на «Славянском базаре» назавтра же, после посещения Витебска тремя славянскими президентами, — такую новость можно дорого продать.
Охранник афганца стучал в дверь хозяина, надеясь его разбудить. У лифта уже собрался народ. Фурье с включенной камерой был не один, еще двое операторов пытались занять выгодную для съемки позицию, но француз ловко оттирал их. Граната взорвалась, когда кабина поднялась лишь до половины своей высоты. Блестящие створки из нержавеющей стали выгнулись, из-за них валил удушливый дым. Горела пластиковая облицовка лифта и мягкое ковровое покрытие.
Появилась охрана гостиницы, милиция, пожарные. Прибежал охранник шах-Фаруза. Макс Фурье не выключал камеру, он ловил тот момент, когда наконец откроют створки лифта и он сможет снять внутренности кабины. Орудуя пожарным топором и багром, двое гостиничных охранников сумели раздвинуть створки. В кабине бушевало пламя. На любопытных повалил густой, едкий от горящей синтетики дым.
Пожарник ловко, как на учении, сорвал огнетушитель, и из алюминиевого раструба вырвалась струя углекислоты. Пожар был ликвидирован в течение десяти секунд.
— Живой кто-нибудь есть? — прошептала горничная, глядя на стекающий из высокоподнятой кабинки дым, и тут же заверещала от ужаса.
Узнать Омара в том, что предстало перед глазами любопытных, было почти невозможно. Осколком разбитого зеркала шах-Фарузу срезало пол-лица, грудь разворотило взрывом. То, что погибший в лифте именно Омар шах-Фаруз, поняли лишь три человека: охранник и Макс Фурье, узнавшие ботинки афганца, да и сам Глеб Сиверов, забросивший в кабину гранату.
— Срочно всем эвакуироваться из здания! — захрипел над головой собравшихся динамик пожарного оповещения. — Лифтами не пользоваться, спускаться по лестницам. Без паники!
Макс Фурье медленно опустил камеру, лицо его было бледным, губы дрожали. Он сделал шаг назад, и тут же его место заняли два других телеоператора, желающие снять трагедию в подробностях.
— Правильно, — тихо сказал Сиверов, проходя мимо Макса Фурье, — надо успеть собрать вещи, иначе потом мы кое-чего в своих номерах не досчитаемся.
Счастливчиков, кто успел пройти к себе в номер, оказалось немного — Сиверов, Фурье и двое танцоров кордебалета. Милиция перекрыла вход в коридор, теснила желающих забрать вещи. Глеб нагнал Макса, когда тот с картиной под мышкой, с камерой на плече выходил на стоянку через черный ход, специально открытый дежурным для эвакуации.
— Оставаться здесь у меня нет ни малейшего желания, — сказал Сиверов французу.
— У меня тоже.
— Насколько я знаю, через два часа поезд на Москву и через три — на Минск. Вам в какую сторону?
— В Москву, конечно же, в Москву, — растерянно проговорил Макс и нервно огляделся.
Ему казалось, что с минуты на минуту прикончат и его, ведь он все время на «Славянском базаре» был рядом с Омаром.
Глеб остановил такси:
— Садитесь. Или вы передумали?
Фурье теперь боялся даже собственной тени. Когда он увидел на крыльце гостиницы мрачного вида милиционера, то быстро юркнул в салон желтой «Волги».
— Да, я с вами.
— Федор Молчанов, — представился Глеб Сиверов.
— Макс, просто Макс, — не стал называть свою фамилию француз.
— Вы, наверное, бельгиец? — специально ошибся Сиверов.
— Конечно, да, я из Брюсселя, — обрадованно вздохнул Макс Фурье. — Я думал, только в России гремят взрывы, оказывается, можно погибнуть от бомбы и в тихом Витебске.
— Кстати, вы не знаете, кто погиб?
— Понятия не имею.
Оксана стояла среди толпы постояльцев, собравшихся возле гостиницы. У крыльца она насчитала десять милицейских машин, три черные «Волги» и один «Мерседес» с тонированными стеклами.
— Что же, все-таки, произошло? — допытывалась она у своего подвыпившего продюсера Петра Гриненко. Того взрыв застал в баре, и, выходя на улицу, он прихватил с собой уже оплаченный графин водки и рюмки.
— Хрен его знает, Оксанка, выпей.
Певица, не покривившись, проглотила рюмку водки, налитую до краев.
— Говорят, взорвали кого-то.
— Кого?
— Кого надо, того и взорвали. Какого-то трижды нерусского. Не то афганец, не то иранец…
— Полный такой, с усиками? — ужаснулась Оксана.
— Не знаю, от него мало что осталось.
И тут Оксана принялась осматриваться. Она искала взглядом Глеба. Тут до нее дошло, что она стала невольной соучастницей.
«Боже мой, сейчас начнутся допросы, объяснения. Что я стану отвечать? Незнакомый человек подошел ко мне, попросил вызвать иностранца из номера… — и тут от души у Оксаны отлегло. — Я звонила по его телефону, откуда они узнают о звонке?» — и певица, радостная, повисла на локте у Петра.
— Оксанка, ты чего так обрадовалась? — Гриненко смотрел на свою подопечную с опаской, уж не поехала ли крыша у девушки.
— Это я обрадовалась, что не мы с тобой в лифте ехали.
— А, — расплылся в довольной улыбке Петр, — нас-то с тобой за что взрывать?
— А его?
— Они, чурки, хитрые, — Петр приложился к графинчику с водкой.
Оксана нежно прильнула к своему защитнику:
— Петро, ехали бы мы с тобой в лифте, а там бомба лежит, что бы ты делал?
Гриненко не на шутку задумался:
— Кто ж его знает? В штаны наложил бы, наверное, от страха.
— А я-то думала, ты бы бомбу собой прикрыл, чтобы я жива осталась.
— Конечно, накрыл бы, — одним глотком Петро допил водку из графинчика и с лживой нежностью посмотрел на Оксану. — Слушай, а это не тот мужик был, который к тебе в баре приставал?
— Какой? — деланно вскинула брови певичка. — Не помню я такого.
Гриненко взглянул на часы.
— Еще часа два на улице торчать, пока все здание проверят. Пошли, в кабак завалимся. Одно нам остается — напиться сегодня.
Милиционер, стоявший на крыльце, через мегафон просил видевших что-нибудь подозрительное в последние дни подойти к следователю. Петр и Оксана, не обращая на него внимания, перебрались в уличное кафе.
Макс Фурье боялся даже на шаг отойти от Сиверова, повсюду ему мерещились преследователи. Француз успокоился лишь после того, как поезд тронулся. В купе они ехали вдвоем.
— Я видел, как вы снимали, — сказал Сиверов. — Странные вы люди, журналисты — ведете себя как стервятники. Вместо того, чтобы помочь лифт открыть, мешаете людям работать, снимаете.
Фурье даже не обиделся:
— Я горжусь тем, что моя камера оказалась на месте происшествия первой. Вы сами чем занимаетесь?
— Бизнесом, — уклончиво ответил Глеб.
И Макс, знакомый с правилами приличия, принятыми в странах бывшего Советского Союза, не стал расспрашивать, каким именно бизнесом его попутчик занимается.
Глеб старался не подавать виду, что ему заметны опасения француза. Тот даже в туалет боялся выйти без сопровождения.
«Он не так прост, — подумал Сиверов, — наверняка понял, чем занимается шах-Фаруз, а может, и сам замешан в его аферах.»
— Выйдем покурить? — предложил Макс.
— Можем курить и здесь, — Сиверов чуть опустил раму. Фурье явно расстроился, он хотел вместе с Глебом выйти из купе.
В дверь постучали. Тележурналист тут же глянул на спутника — уж не сговор ли это?
— Войдите.
Появилась проводница, молодая стройная девушка в униформе:
— Чай? Кофе?
— Не сейчас. У вас выпить найдется?
— Ресторан в соседнем вагоне, — напомнила проводница.
— Вы составите мне компанию?
Глеб согласился.
— Документы прихватите, — напомнил Сиверов, — не ровен час умыкнут.
— Я их всегда ношу при себе.
Макс Фурье прихватил камеру. Он пропускал Сиверова перед собой во все двери, зная, что если обрушится удар, то он придется на голову идущему первым. Наконец они дошли. Половину вагона занимал ресторан, половину — бар. У Макса Фурье зажглись глаза, когда он увидел спиртное.
— Что будете пить? — спросил журналист, устраиваясь у стойки.
— Вы человек проницательный, попробуйте угадать мой любимый напиток.
Фурье смотрел то на полки, то на Глеба:
— Обычно вы пьете водку, но это не ваш любимый напиток, она лишь дань русской традиции.
— Пока угадываете.
— Виски пьют в основном снобы, а вы не из их числа.
— Иногда люблю выпить хорошее виски. Но, если человек любит черную икру, это не значит, что он ест ее с утра до вечера столовой ложкой.
— Я сейчас закажу, — обрадовался француз. Понемногу к нему возвращалось хорошее расположение духа, его никто, не преследовал, никто не приставал. — Два по сто армянского коньяка.
— Попали в десятку, — улыбнулся Глеб. — Я люблю коньяк, но не французский, а армянский, грузинский и азербайджанский.
Бармен подал два бокала.
— Лимон будете? — спросил он.
— По-моему, это тоже русская традиция, — задумался француз.
— Я даже знаю ее происхождение.
Глеб грел коньяк в ладони, пропустив ножку рюмки между пальцев.
— Интересно… Абсолютно не русские вещи — и коньяк, и лимон.
— Как назывались заводы, производившие коньяк до революции?
Француз пожал плечами.
— Заводы Шустова. Именно он, первый в Российской империи, решил производить коньяк, сделал это в Армении, где больше солнца. Ну и конечно же, чтобы сделать рекламу, угостил царя своей продукцией. Подарил ему бочонок. Император был человеком тактичным, коньяк ему страшно не понравился, и, чтобы перебить вкус, он попросил лимон — закусить. Шустов понял, в чем дело. Но мужик он был хитрый и раструбил о том, что его коньяк нужно непременно закусывать лимоном, как сделал это сам император.
— А я-то думал! — рассмеялся француз. — Лимон перебивает всякий вкус и всякий запах, даже рыбный, — он приподнял бокал, подмигнул Глебу и сделал маленький глоток. — Чем дольше сохраняется во рту вкус, тем лучше коньяк.
Глеб хлопнул себя по карману:
— Сигареты забыл в купе, сейчас принесу.
— Воспользуйтесь моими, — Макс открыл пачку.
— Ваши для меня слишком слабые, я привык к крепким.
Глеб вернулся в купе и тут же открыл сумку Макса. Все отснятые кассеты Фурье прихватил с собой в бар. В сумке же лежали чистые, еще не распечатанные. Глеб сам видел, как на «Славянском базаре» Макс подписывал отснятые кассеты. В вещах ничего подозрительного не нашел, ни пистолета, ни компрометирующих документов. Картина, упакованная в глянцевый плакат с суперкроссвордом и перевязанная мохнатой пеньковой веревкой, стояла на полке.
Глеб развязал узел, снял обертку. Теперь он мог внимательнее рассмотреть картину. Женщина на полотне улыбалась, ей улыбнулся и Глеб. Он ловко отогнул гвозди и вынул полотно из рамы. По краям оно оказалось записано темперной краской.
«Странно. Раньше полотно было записано, и недавно темперу смыли.»
Даже по жалким остаткам живописи было видно: сделана она была в стиле соцреализма. Наверху просматривался кусок кумачового лозунга и самые верхушки написанных охрой букв, по которым нетрудно было восстановить и всю надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Поскольку Сиверова интересовала не живопись, а то, использовал ли Фурье картину в качестве тайника, он вновь завернул полотно в плакат и перевязал поверху бечевкой. С сигаретной пачкой в руке Глеб вернулся в бар.
Макс делал вид, что тянет всю ту же самую рюмку коньяка. Рюмка, конечно, осталась прежней, но коньяк был налит повторно. Алкоголь хорошо снимает стресс, а Максу не хотелось показывать свою слабость. Свою работу Сиверов выполнил и поэтому тоже мог позволить себе выпить.
Выпить, в понимании Глеба, означало граммов двести-двести пятьдесят, так, чтобы алкоголь пошел в радость. Он, конечно, мог выпить и больше, но в крайних случаях, когда требовалось подпоить собеседника. В ответственных ситуациях Сиверов практически не пьянел.
Француз захмелел быстро, как бывает со всяким, кто получит временную передышку, а потом дорывается до спиртного. Когда Глеб завел его в купе, Макс сразу же рухнул на полку, пробормотал пару фраз по-французски и заснул.
«Я мог бы посмотреть его вещи и теперь, зря старался — улыбнулся Глеб, — лучше всего сейчас отдохнуть, я заслужил отдых.»
ГЛАВА 8
Серей Петрович Максимов, или попросту Серж, своей жизнью был доволен вполне. Четыре года он уже официально работал оператором французской государственной телекомпании ТМ-6 в России. Гонораров и зарплаты ему вполне хватало на женщин, выпивку, путешествия и на то, чтобы ко всему этому снимать неплохую трехкомнатную квартиру в районе Садового кольца, в пятиэтажном кирпичном доме.
Сергей ждал гостя, своего старого знакомого французского журналиста Макса Фурье, который обещал быть во второй половине дня. Тот позвонил ему ночью со «Славянского базара» из Витебска, нес какую-то околесину, просил никому не говорить о его приезде. Сергей мало что понял, кроме того, что Фурье приедет.
С утра Сергей съездил на рынок, затем в супермаркет. Вернулся домой с двумя огромными сумками еды и сразу же принялся распихивать все по холодильнику: мясо, фрукты, овощи, бутылки с алкоголем. Максу Фурье он был обязан многим, а самое главное, работой. Это не без его помощи он устроился на довольно-таки хорошо оплачиваемую работу в московское представительство французского телеканала.
Когда он закончил с продуктами, то тут же принялся за уборку. Квартира в последнее время была сильно захламлена: журналы, книги, фотографии, почтовые конверты, банки из-под пива, пустые бутылки — в общем, самый что ни на есть настоящий гадюшник. Сергей работал быстро. Он был в шортах, в майке, босиком, в целлофановые пакеты запихивал мусор, журналы без системы складывал на стеллажи. На всю квартиру гремела музыка, Сергей дымил сигаретой, иногда пепел падал на паркет, но Серж не обращал на это никакого внимания. Он знал, что после того, как все будет запихано в пакеты, которых в прихожей становилось все больше и больше, он пройдется по полу пылесосом, затем протрет паркет влажной тряпкой, сядет в машину, съездит в прачечную, заберет чистое белье, и будет в его квартире полный порядок.
Но всякая работа требует определенных усилий. Когда весь хлам был рассован по пакетам, а пакеты вынесены во двор, Сергей понял: убирать дальше он не в состоянии, силы иссякли. Да и не любил он, как и большинство мужчин, заниматься женской работой.
— Значит, так, — сказал сам себе оператор, садясь в глубокое кресло и забрасывая ногу за ногу. — Убрать хорошо я не смогу, а времени до приезда Макса осталось ровно шесть часов. Он будет в Москве ровно в четыре. Сделаем вот что, — и Серж схватил трубку радиотелефона.
Быстро по памяти набрал номер.
— Клавдию Николаевну можно?
— …
— Здравствуйте, Клава, — когда Серж услышал знакомый голос, его губы растянулись в улыбке — Клава, родная, мне нужна твоя помощь. Надеюсь, ты не откажешься заработать немного денег?
— …
— Нет? Я так и знал. Прекрасно! Прекрасно! — мягким баритоном говорил оператор в трубку. — Тогда подъезжай, времени у тебя в обрез. Хочешь, возьми кого-нибудь еще себе в помощь.
— …
— Возьмешь дочку? Что ж, прекрасно, приезжай с дочкой. Мне вот что надо… Хотя нет, давай по-другому: ты приезжай, я тебя жду, — Сергей отключил телефон и бросил его в кресло, стоящее напротив него. Он налил себе в стакан минералку, жадно выпил.
«Клавдия с дочкой будут через полчаса, вот они-то все и сделают: окна помоют, постель перестелют, протрут пыль, пол и даже приготовят обед. О чем еще можно мечтать? Мог ли я себе позволить такую жизнь лет пять тому назад? Нет, конечно же. И это благодаря Максу, благодаря ему.»
Макс был «голубым», но Сергея это абсолютно не волновало, он не был во вкусе своего французского приятеля. У того имелись свои пристрастия: он любил молодых парней и с ними развлекался, хотя в Париже у него была жена и трое детей.
«И как это он умудряется, — иногда думал Сергей, — жить с женой, делать ей детей, да еще ко всему этому успевает гулять на стороне с молодыми арабами?»
А почему с арабами, этому было самое банальное объяснение: арабы стоили намного дешевле.
«Пусть поживет несколько дней у меня. Хотя какого черта он будет жить у меня? Он состоятельный человек и может позволить себе снять номер в гостинице. Что-то здесь не так. Ну да ладно, приедет — расскажет.»
Через полчаса в дверь позвонили. Сергей открыл. В двери с большой хозяйственной сумкой в руках стояла женщина средних лет, а из-за ее плеча выглядывала восемнадцатилетняя девчонка в коротеньких джинсовых шортах, в коротенькой майке. Голова девушки была повязана пестрой банданой.
— Добрый день, Сергей Иванович.
— Проходи, Клавдия, и ты, Светлана, проходи. Значит, объясняю, что вам надо сделать. К четырем ко мне приедет друг, значит, все должно сиять, сверкать и вкусно пахнуть. Я думаю, Клавдия, вы успеете.
Женщина осмотрела квартиру, ехидно улыбнулась:
— Вы, Сергей Иванович, ставите почти невыполнимую задачу.
— Доплачу, Клавдия, и еще за сложность, и за срочность. Приступайте, а я поехал в прачечную, привезу чистое белье.
Когда Сергей Максимов вернулся на маленьком джипе из прачечной и внес в квартиру тяжелую стопку постельного белья, в квартире стоял уже совсем другой запах, словно он в ней никогда не курил. Пахло свежестью, чистотой, а из кухни тянуло запахом жареного мяса. Девушка стояла на подоконнике и мыла окна. Она была хороша собой: длинные, стройные ноги, высокая девичья грудь.
Сергей несколько мгновений любовался ею, затем причмокнул языком.
Из кухни в гостиную вошла Клавдия, на ней был чистый передник, волосы прикрывала белая косынка.
— Ну как вам, Сергей Иванович?
— Дочка у тебя, Клавдия, красивая. Достанется же кому-то такая прелесть.
— У нее кавалеров как собак, — Клавдия рассмеялась.
— Я тут, Сергей… — засмущалась девушка.
— Можно без отчества, — сказал Максимов.
— Ваши компакты брала, вы уж извините, пожалуйста.
— Слушай. Можешь и домой пару штук прихватить. Только давай договоримся — с возвратом.
— Я сама потом вам принесу.
— Я принесу, — вставила Клавдия Ивановна, — нечего тебе к Сергею Ивановичу ходить.
— Вот так всегда, — сокрушенно покачал головой телеоператор.
— Сейчас она домоет окна, а я перестелю постель.
— А я сбегаю в соседний супермаркет, куплю упаковку пива. Выпьешь? — обратился он к девушке. Та покосилась на кухню. — Я думаю, против пива твоя мама возражать не станет.
— Станет. Она даже курить мне не позволяет.
— А ты куришь? — улыбнулся телеоператор.
— Почему бы и нет? Я не только курю, — ехидно наморщила пухлые губы Света.
— Тогда с тобой все ясно.
— Что ясно? — продолжая тереть сверкающее стекло, спросила Света.
— Да все с тобой ясно, — и Сергей покинул квартиру.
Когда он вернулся из магазина с двумя упаковками баночного пива, квартира уже сияла чистотой. Не хватало для полноты картины, может быть, лишь букета цветов на журнальном столике.
«И как это женщинам удается так быстро сделать уборку? У меня бы это заняло почти неделю. Пока бы я убирал квартиру, она одновременно и захламлялась. В общем, женщины — существа удивительные, им удается то, что никакому мужчине не под силу.»
Если бы к нему в гости ехал кто-нибудь другой, Серж не стал бы так суетиться, но Макс Фурье был человек особенный. Познакомились они лет пять тому назад, когда Макс приехал в Москву снимать сюжет для фильма и ему понадобился профессиональный оператор. Через каких-то знакомых их свели. Макс говорил неплохо по-русски и смог объяснить Сергею задачи, которые он преследует. Сергей быстро въехал, по складу характера он был авантюристом, падким на всякие приключения, а если приключение еще и сулило неплохой заработок, то тогда Сергей становился вообще человеком незаменимым. Он снял все, что просил Макс Фурье, тот увез материал в Париж, смонтировал и выдал программу. А Сергей получил свой гонорар. Потом Макс Фурье пригласил Сергея во Францию поработать вместе с ним. Сергей на предложение Фурье сорвался с места, бросил все свои дела, которые сулили неплохие деньги, и с Максом за три месяца объехал всю Европу, наснимал кучу материала. Вот тогда-то Сергей и заработал свои первые хорошие деньги.
Руководству канала материал понравился, рейтинг у программы Макса Фурье был довольно высокий, и Сержу предложили подписать договор о сотрудничестве сроком на один год. Серж, естественно, согласился.
Без десяти четыре Сергей Максимов в шортах, в кроссовках, в майке, поверх которой был надет операторский жилет, в синей бейсболке, повернутой козырьком к спине, прохаживался по перрону Белорусского вокзала среди толпы встречающих. Серж держал руки за спиной, мерил шагами перрон, цветы решил не покупать, чтобы не возникло двузначной ситуации с «голубизной» Макса.
Наконец появился темно-зеленый поезд, медленно подъехал к перрону, дернувшись, замер. Открылись двери, проводники принялись протирать поручни. Разношерстная толпа пассажиров повалила на перрон. Объятия, встречи, крики, радостные поцелуи прямо на перроне. Стояла невероятная жара, и Серж морщился, когда видел, как парень или девушка, мужчина или взрослая женщина, потные и липкие, прилипают на мгновение друг к другу.
— Фу, гадость какая! — бормотал Серж, подходя к четвертому вагону.
Он увидел черную голову Макса, тот махал руками и стучал костяшками пальцев в стекло. Серж улыбнулся как можно более раскованно, приветливо и заспешил к двери. Появился Макс Фурье в голубых джинсах, майке в облипку и в спортивных тапках на босу ногу. Макс наскоро попрощался со своим попутчиком, лица которого Серж даже не разглядел, и спустился на перрон. На плече у него висела сумка, в левой руке — камера в футляре и что-то завернутое в плакат с черно-белыми клеточками кроссворда. Серж перехватил камеру, потянулся рукой к свертку. Макс передал сверток, затем они пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга вначале по-французски, затем по-русски.
— Как добрался, дорогой? — хлопнув по плечу приятеля, поинтересовался Серж.
— Все хорошо, — Макс озирался по сторонам, лицо его было бледным, а улыбки получались довольно-таки натянутыми, вымученными.
— У тебя какие-то проблемы? — заметив озабоченность приятеля, спросил Серж.
— Нет проблем, — сказал Фурье.
— Ну, тогда идем, — и он потащил за собой Макса Фурье к выходу.
Его джип стоял неподалеку, на платной стоянке. Они загрузили вещи в багажник, Серж сел за руль, Макс устроился рядом.
— Как «Славянский базар»?
— К черту! — пробурчал Макс Фурье, и по его голосу, по интонации Серж понял, что у Макса там возникли какие-то довольно серьезные проблемы. Но расспрашивать не стал. Он прекрасно понимал, когда Макс захочет, то расскажет сам. А не пожелает, это его проблема, пусть свои тайны держит при себе.
«Какого черта я должен взваливать их на свои плечи? Что, у меня своих дел нет?»
Они ехали по Москве. Серж уверенно вел свой маленький джип, через каждую секунду чертыхаясь и посылая ругательства в адрес неразворотливых водителей.
— Злой ты, — сказал Макс Фурье, тронув Сержа за плечо.
— Достало уже все! Жара, будь она неладна, толпы народа. Не могу. Уехать бы куда-нибудь, где тихо и никого нет, отдохнуть как следует, сил набраться.
— Я тебя понимаю, — сказал Макс, — очень хорошо понимаю. У тебя дома, надеюсь, никого нет?
— Нет. А что?
— Я так просто поинтересовался, — немного виновато улыбнулся тонкими губами Макс Фурье.
Он был небрит, короткая черная щетина создавала впечатление, что он несколько дней не умывался. Его майка была мокрая от пота, такими же были и ладони, волосатые руки с тонкими, чуткими пальцами.
Наконец они добрались до дома. Макс всю дорогу оглядывался по сторонам, боялся слежки или чего-то еще.
— Что с тобой такое? — поинтересовался Серж, когда машина въезжала во двор.
— Ничего. Как ты говоришь, достали все.
— Но мне кажется, у тебя какие-то проблемы.
— Есть немного, — признался Макс, уже выбираясь из машины и разминая затекшие ноги.
— Берем вещи и идем в дом. Там у меня прохладно, обед готов. Посидим, выпьем, покурим, поговорим, ты мне все расскажешь.
— Нет, Серж, лучше не расспрашивай, еще не время рассказывать истории, потом как-нибудь, — пообещал Макс Фурье.
Они оказались в квартире, и Макс, чего не делал никогда раньше, сам закрыл входную дверь на все замки. Эта деталь немного насторожила Сержа, но он прекрасно знал, что у журналиста могут появиться свои заморочки.
«Может, ему что-то мерещится, а может, заболел шпиономанией, такое ведь случается. — Как опытный оператор, удивительно наблюдательный, подмечающий самые незначительные детали, с подобными явлениями Серж сталкивался довольно часто, особенно когда снимал иностранцев, приехавших в Россию на работу. — Они вечно чего-то боятся, опасаются. Наверное, у них сидит в крови страх перед Комитетом государственной безопасности, или, возможно, им мерещатся медведи, которые вдруг ни с того ни с сего выскочат из-за угла и сомнут своими могучими лапами, разорвут на части.»
Но никаких медведей, естественно, в Москве Макс встретить не опасался. Да и к ФСБ относился с легким презрением. Ничем недозволенным он старался не заниматься, поэтому грехов за собой не чувствовал. А если у его приятеля какие-то проблемы, ну так пусть он сам их и расхлебывает.
«Я многим ему обязан, так что если Макс поживет у меня недельку, с меня не убудет, а ему я окажу хорошую услугу, за которую мне в конце концов воздастся. Ведь я живу не последний день на свете!»
— Что это за сверток? — ткнув ногой в плакат-кроссворд, осведомился Серж.
— Это картина.
— Ты начал живопись скупать?
— Да, я стал немножко коллекционером.
Это для Сержа явилось новостью. Он был и в парижской квартире Макса Фурье, и в его родительском доме под Тулузой, но никаких картин там не видел. Причем он был у него полгода назад, ранней весной, когда в Москве еще стояли страшные холода, а во Франции уже было тепло, градусов четырнадцать, и он ходил в легкой куртке, а французы ежились от холода, кутали шеи шарфами, ходили в теплых свитерах и зимних ботинках.
— Все у меня чики-чики, — сказал Серж. — Там полотенце, халат, можешь принять душ, а я пока соберу на стол.
Макс втянул воздух. Его чуткие ноздри затрепетали.
— Жареная картошка, — сказал он, — и мясо под соусом.
— Хорошее обоняние, — похвалил приятеля-гурмана Серж.
— У меня есть бутылка хорошего красного вина под мясо, она здесь, в сумке, — Макс Фурье вытащил бутылку вина и передал ее Сержу.
Тот взглянул на этикетку, но название вина ему не говорило ровным счетом ничего — вино и вино. Серж, в отличие от Макса, любил крепкие напитки: водку, текилу, виски, коньяк, к винам он, как всякий русский, относился с предубеждением и легким пренебрежением, вино он за серьезный алкоголь не считал.
Через полчаса в бледно-коричневом халате с мокрыми взъерошенными волосами, в гостиную вошел Макс Фурье. Он был до синевы выбрит и улыбался чуть виновато и немного испуганно, как показалось Сергею Максимову.
— Давай к столу. Ты все-таки гость, а я тебя стану развлекать. Как супруга? Как дети? Рассказывай.
— Все у них хорошо, они уехали отдыхать в Италию, а я поехал сперва в Москву, потом в Витебск… У меня было одно дело.
Они пили, ели, вспоминали прошлые встречи, совместные проекты, над которыми Макс Фурье работал в качестве журналиста и автора, а Серж в качестве оператора. Им было о чем поговорить, и они обед провели в веселой незамысловатой беседе. Вспоминали знакомых, как французских, так и русских.
Когда зазвенел телефон, Макс Фурье вздрогнул и насторожился. Серж взял трубку и буркнул в нее свое неизменное:
— Алло, алло!
— …
— А, это ты? Куда пропала, крошка?
— …
— Как никуда? Почему тогда не звонишь, не пишешь?
— …
— Простыла? В такую жару? Ты с ума сошла! Нечего пить холодную водку.
— …
— Не пила? Тогда мороженым объелась?
— Кто это? — шепотом поинтересовался Макс.
— Да так, подруга одна, — прикрыв микрофон рукой, сказал Серж, — на ОРТ работает ассистентом режиссера.
— …
— Нет, это я не тебе, но о тебе.
— …
— С кем разговариваю? С мужчиной.
— …
— Да ну, брось, я же нормальный, ты знаешь, ориентация у меня правильная. А если переживаешь за мою ориентацию, то давай встретимся, я к тебе подскочу. Надеюсь, твой в командировке? — и Серж расхохотался в трубку.
— …
— Все, хорошо, до встречи. Я тебя наберу. А если хочешь, то ты набери меня.
Макс махал руками, показывая, чтобы Серж ничего конкретного о нем не говорил.
— …
— Ко мне нельзя пока, у меня гость, — Серж положил трубку. — Хорошая девушка, двадцать пять лет, а она уже третий раз замужем, представляешь?
Макс Фурье лишь улыбнулся и допил вино из своего бокала.
— Я очень устал, Серж, у меня нервы расшалились. Если ты не будешь против, то я хотел бы отдохнуть.
— Конечно, располагайся. Моя квартира, мой дом к твоим услугам.
— У тебя чисто, я другого ожидал.
— У меня, конечно же, не всегда чисто, это я к твоему приезду немного навел порядок, вещи разложил по местам, да и все остальное.
— Ты хороший, Серж, — вдруг ни с того ни с сего сказал Макс, и его щека дернулась.
«Да он сильно чем-то напуган. Но, сволочь, молчит как партизан на допросе», — подумал о своем французском приятеле Серж.
— Что в Витебске хорошего было? Я телевизор не смотрю.
— Ровным счетом ничего хорошего.
— А плохого?
Макс Фурье насторожился, влип в кресло, раздосадованно махнул рукой.
— Но, я надеюсь, у тебя-то, Макс, все в порядке?
— У меня-то да…
— А у кого не в порядке?
— У одного знакомого, с которым я знаком лишь мельком.
— Главное, чтобы у тебя да у меня было все чики-чики, а остальные… Какое нам до них дело?
— Я пойду посплю, отдохну немного. У тебя нет снотворных таблеток?
— Таблеток? Снотворных? Может быть, есть, — Серж отправился на кухню и оттуда вернулся с таблетками. — Вот эти две желтые проглоти, и ты будешь спать до завтрашнего утра.
— Хорошо, спасибо, — Макс дрожащими пальцами выдавил из упаковки две маленькие желтые таблетки, забросил их в рот, запил минералкой. — Все, я пошел. Голова болит и очень устал, — и он постучал указательным пальцем по лбу.
— Счастливо. Постараюсь не шуметь, если хочешь, даже телефон отключу.
— Да, отключи. И пожалуйста, Серж никому не говори, что я остановился у тебя. Так надо, поверь мне.
— Как скажешь, Макс. Иди ложись.
Француз забрался под махровую простыню, сжался весь, свернулся калачиком, но, как ни старался, целый час не мог заснуть. Серж слышал, как он вертится.
Наконец в спальне стало тихо. Серж бесшумно, как опытный официант, убрал на кухне посуду и сел у окна, глядел на пыльный московский двор. Закурил сигарету, вторую за этот день. Он выпускал дым в окно, смотрел на свой джипчик и думал о Максе.
«Наверняка у него неприятности. А собственно, какое мне дело? Он мне ничего не должен, я ему тоже ничего, так что все нормально.»
На подоконнике стоял пустой бокал. Серж вынул из холодильника начатую бутылку водки, налил граммов сто пятьдесят, в два глотка выпил. Ну вот, теперь порядок. А то все их вина — сплошное баловство. То, что французу хорошо, русскому смерть. Серж улыбнулся, швырнул окурок на газон.
Вышел в прихожую и стал расставлять вещи своего французского приятеля,
«Что это у него такое?» — переставив камеру поближе к стене, Серж взял картину в руки.
Он почти ни о чем не задумывался, разрезал ножом шпагат, которым была перевязана бумага, развернул ее и посмотрел на картину. Холст был старый, грязный, подранный, немного кривоватый. Картина выглядела так, словно лет тридцать провалялась на чердаке или в подвале. Краска местами вздулась, отшелушилась. На холсте, размерами примерно шестьдесят на восемьдесят, была изображена черноволосая женщина с темными, как чернослив, глазами, с такими же кучерявыми волосами, в белом кружевном платье и с букетом цветов. Фон был небесно-синий, неаккуратно закрашен. В правом нижнем углу виднелась неразборчивая подпись.
«Чушь какая-то!» — подумал Серж, заворачивая картину в плакат и пряча ее в стенной шкаф.,
Макс Фурье проспал до одиннадцати вечера. Затем, проснувшись, выпил кофе, бокал вина, съел бутерброд с сыром и принялся названивать со своего «мобильника» во Францию. Серж сидел на кухне и курил. Макс говорил по-французски, причем очень быстро, и Серж почти ничего не понял, уж слишком торопливо выговаривал слова Макс, слишком напористо вел разговор.
Когда он закончил, Серж вышел из кухни в гостиную:
— С кем это ты?
— Один знакомый, будь он неладен. Это он должен был ехать сперва в Москву, а потом на фестиваль в Витебск, а пришлось мне. Вот ему и повезло. Я хотел сказать ему, что он, как вы, русские, говорите, свинья.
— И ты ему сказал? — ухмыльнулся Серж.
— Нет, не сказал. Он сразу же начал извиняться, ждет, когда я приеду. Мой работодатель предлагает интересный проект на своем канале, хочет, чтоб я у него делал в две недели одну программу.
— Опять про ночную жизнь? — поинтересовался Серж, словно чувствуя, что в работе Макса Фурье есть и его интерес.
— Да, нечто в этом роде. Он придумал проект, но сделать сам не может и хочет заказать работу мне. Так что если что, и ты мне понадобишься.
— Я рад и всегда с удовольствием помогу, — немного возбужденно сказал Серж, наливая себе в стакан минеральную воду.
— Послушай, Серж, мне нужна твоя помощь, — взглянув своими темными глазами из-под кустистых черных бровей, произнес француз.
— Ты же знаешь, тебе отказать не могу. В чем моя помощь?
— У меня есть картина, я купил ее в Витебске у какого-то… — Макс Фурье долго подбирал слово, а затем, не найдя эквивалент, сказал: «клошара». — Мне она понравилась.
— Та, что я убрал?
— Куда ты ее убрал?
— В шкаф поставил, не стоять же ей в прихожей под ногами! Еще упаду на нее, зацеплюсь, продавлю, порву, поломаю, — Макс Фурье согласно кивнул. — А в чем моя помощь?
— Помощь, помощь, помощь, — трижды произнес одно слово француз. — Я хочу эту картину вывезти, а для этого ее надо оценить. Я же не в салоне ее приобрел, не в галерее, а с рук купил. Таможенники потребуют бумаги на вывоз.
— А, хорошо, понял. Есть у меня знакомый галерейщик, так что никаких проблем. Я про него сюжет снимал заказной, так что, думаю, проблем с ним не возникнет.
— Очень хорошо, — потер ладонь о ладонь француз, — займись этим, пожалуйста, а, Макс?
— Утром и займусь.
ГЛАВА 9
Утром Серж позвонил знакомому владельцу галереи, которая размещалась почти в самом центре, неподалеку от Крымского вала, тот не отказался.
— Ты не хочешь прокатиться по городу? — спросил Серж, обращаясь к Максу.
— Нет, я останусь. И вообще, я выходить из дому не хочу.
— Как знаешь, — передернул плечами и разочарованно улыбнулся Серж. — Не нравишься ты мне, Макс, ты какой-то никакой.
— Как ты говоришь?
— Я говорю, никакой.
Макс Фурье не совсем понял это сочетание слов и удалился в спальню.
Серж поставил картину на заднее сиденье джипа и отправился в галерею. Он вошел со служебного входа, машину оставил во дворе. Хозяин галереи, уже немолодой мужчина, в дорогих очках, кожаных штанах и в серой майке, сидел за огромным столом перед компьютером. Серж вошел. Хозяин галереи поднялся, вышел из-за стола.
— Какие люди! — улыбнувшись, произнес он и пожал руку Сержу. — Выпить хочешь?
— Нет, я за рулем.
— Тогда чай, кофе, минералка?
— От кофе, Олег Петрович, не откажусь.
— Тебе покрепче? Эльвира, — сказал он, выглянув в приемную, — моему гостю кофе покрепче, а мне стаканчик минералки, только, пожалуйста, холодненькой.
Молоденькая девушка с очень сексапильной фигурой и абсолютно невыразительным лицом игриво улыбнулась.
— Присаживайся, где тебе удобно. Какие проблемы? И почему ты без камеры? Я привык, что ты вечно с ней, как снайпер со своей винтовкой.
— А я, Олег Петрович, сейчас не на работе, взял тайм-аут.
— Это хорошо. Что привез? Показывай, не стесняйся. Небось что-нибудь пятидесятых годов?
— Нет, мазня какая-то. Это мой приятель приобрел и сейчас хочет вывезти.
— Документы приятеля ты прихватил?
— Конечно, в сумке лежит его паспорт, — и Серж хлопнул по спортивной сумке.
Он развернул картину и поставил к серой бетонной стене. Кабинет у хозяина галереи, надо сказать, был роскошный: огромное окно во всю стену, мебель из черного дерева с хромированным металлом, картины на всех стенах, абсолютно Сержу непонятные и неинтересные. Он поставил холст рядом с креслом. Секретарша внесла поднос с напитками, поставила на низкий стеклянный столик.
Серж сел:
— Курить у вас можно, Олег Петрович?
— Кури на здоровье.
— А сигару или хотя бы сигарету мне предложат? — осведомился оператор.
— Это не вопрос. В деревянном ящике, выбирай, какая понравится.
Серж взял тонкую коричневую сигарету, щелкнул зажигалкой, задымил.
— Ну, где твоя картина? — отрываясь от экрана компьютера, повернулся к картине на вертящемся кресле владелец галереи.
Серж посмотрел на лицо Олега Петровича Чернявского. Тот почти полминуты моргал глазами, затем, сняв очки, крадучись, вышел из-за стола. Он подходил к картине так, как охотник подходит к жертве. Возможно, так гладиатор в древние времена на арене римского амфитеатра подходил к разъяренному раненому льву. Когда до картины осталось два шага, Олег Петрович присел на корточки, водрузил на лицо очки, потер ладонью вспотевшие залысины, взъерошил седые волосы, хлопнул ладонями по коленям:
— Где ты, говоришь, твой приятель ее взял?
— Вроде из Витебска привез.
— И что он за нее хочет?
— Он ее не продает.
— Ты уверен?
— Он хочет ее вывезти, хочет, чтобы вы дали ему бумаги, оформили все путем, как положено в таких случаях. Я в этом не разбираюсь, признаюсь честно.
— Да, да, не разбираешься, — хозяин галереи бросился к столу, схватил лупу в черной эбонитовой оправе под цвет письменного стола и уже с лупой, положив картину на стол, принялся ее разглядывать. Он вертел холст, изучая подрамник, гвозди, полотно, затем перевернул и взялся рассматривать красочный слой. Особо пристально Олег Петрович Чернявский рассматривал правый нижний угол, где сохранились остатки подписи.
— Боже мой! Боже мой! — иногда вырывалась, как вздох, одна и та же фраза у хозяина галереи. — Эльвира, — крикнул чрезвычайно громко хозяин галереи, — скажи, Софья на месте?
— Да, у себя была, — девушка опять игриво улыбнулась, но на хозяина ее улыбка не произвела никакого впечатления.
— Ты посиди, Эльвира, развлеки гостя, а я вскоре вернусь, — Чернявский схватил холст, принесенный Сержем, и исчез из кабинета.
Его не было почти полчаса. Эльвира то появлялась в кабинете, то исчезала, пытаясь завести с Сержем разговор, но она ему не понравилась с первого взгляда. Он понял, что Эльвира конченая дура, а на таких лучше время не тратить.
— Принесите мне, Эльвира, почитать что-нибудь, если, конечно, вас не затруднит.
Эльвира принесла стопку журналов. И, попивая крепкий, очень ароматный кофе, Серж принялся листать страницы глянцевых журналов. Листал он журналы безо всякого интереса, время от времени поглядывал то на свои наручные часы, то на циферблат странных авангардных часов в углу кабинета.
Часы напоминали огромный кристалл, механизм был виден весь — все шестерни, звездочки, винтики и пружинки. Но больше всего Сержу нравился перевернутый маятник, похожий на стрелу. Маятник раскачивался из стороны в сторону, как метроном, кабинет наполнял металлический шорох.
Вспотевший, с красным лицом и без картины в кабинет вошел Олег Петрович. Он тяжело сопел, майка прилипла к груди. Он сел напротив Сержа, взял стакан с недопитой минералкой, жадно выпил воду, запястьем вытер влажные губы.
— Черт подери! — пробурчал он.
— Проблемы, Олег Петрович?
— Да вроде никаких проблем. Так ты говоришь, твой друг купил ее в Витебске? Интересно, за сколько же?
— Больше чем за двести баксов мой приятель ничего не покупает.
— Говоришь, за двести? А если я ему предложу две тысячи?
— Две тысячи зеленью?
— Да, две тысячи зеленью за этот холст или любую другую картину из моей галереи, какая ему понравится, ту и отдам взамен?
Серж хмыкнул, пожал плечами:
— Даже и не знаю, что вам сказать, Олег Петрович. На эту тему я с Максом не разговаривал.
— С Максом?
— С Максом Фурье, это французский журналист.
— Французский журналист, говоришь? Две тысячи? Хотя, думаю, он может и согласиться.
— А если нет?
— Если он согласится, — Олег Петрович Чернявский подался вперед и, глядя в глаза Сержу, произнес: — Если он согласится продать мне ее за две штуки, то еще штуку получишь и ты. Так что постарайся, Сергей.
— Понял, поговорю. Где картина?
— Пусть она у меня побудет.
— Нет, — сказал Серж, — я ее должен привезти, я ее брал у друга, я ее и заберу.
— Ну, как знаешь, я сейчас за ней схожу.
Когда Олег Петрович Чернявский вернулся, картина была запакована аккуратнейшим образом. Она была укутана в мягкую ткань и вставлена в картонный футляр по размерам. Олег Петрович то и дело поглядывал на нее, вытирал вспотевшее лицо, тер виски, хрустел суставами пальцев и, расхаживая по кабинету, курил сигарету:
— Ты постарайся, Сергей, я тебя очень прошу.
— Что, такая ценная вещь?
— Да как тебе сказать… цена этой вещи небольшая, но я знаю человека, который оторвет ее у меня с руками.
— И много заплатит?
— Не много, ей цена ровно три тысячи, но я тому человеку сильно обязан, хочу ему сделать подарок. Надеюсь, ты меня понимаешь?
— Женщина, что ли?
— Нет, не женщина. Женщине я бы нашел что подарить. Мужчина, политик.
— А-а-а, наши политики начали живописью интересоваться?
— Есть некоторые неравнодушные.
— Я поговорю.
— Позвони мне сразу же, как приедешь. Кстати, оставь свой телефон и адрес.
Серж подал визитку, Олег Петрович Чернявский спрятал ее в верхний ящик письменного стола. Проводил гостя до выхода из галереи, сам лично положил картину на заднее сиденье и на прощание, вопросительно заглянув в глаза Сержу, с придыханием попросил:
— Ты уж постарайся, родной, а я уж тебя отблагодарю за твои труды.
— Надеюсь, смогу договориться.
— Заболтай его, Сергей. Думаю, что твой приятель в живописи профан, а меня эта картина очень интересует, человека мне нужно к себе расположить.
Оператор вернулся домой весьма озабоченным. Макс Фурье лежал на диване, курил сигарету. На его лице была досада, перемешанная с испугом. Он увидел картину и лишь тогда поднялся, прошелся по комнате:
— Ну, как наши дела? Привез бумаги?
Серж положил на стол паспорт своего французского гостя, передернул плечами, взял сигарету в одну руку, а в другую банку с пивом. С хрустом сорвал колечко, пена плеснула на пол, но Серж даже не придал этому ни малейшего значения. Он сделал глоток пива, а затем уперся испытывающим взглядом в лицо Макса Фурье.
— Говори, — француз смотрел то на картину, стоящую у дивана, то на телеоператора.
— Галерейщик купить хочет, предлагает неплохие деньги.
Фурье подобный ответ удивил:
— Купить хочет? Зачем она ему?
— Не знаю, — передернул плечами Серж, раскуривая сигарету и выпуская дым в отверстие банки с пивом. — Не знаю, ничего не знаю. Вел он себя довольно странно.
— Что значит — довольно странно? — попытался уточнить француз.
— Схватил ее, аж затрясся весь и бросился куда-то в рабочее помещение, с кем-то советоваться убежал. И не было его довольно долго, где-то около получаса. Мне уже журналы листать осточертело. Затем вернулся, но без картины.
— Ты ее привез назад?
— Привез, вот она, в коробке. Вернулся галерейщик и начал со мной разговаривать. Говорит, если я тебя, Макс, уболтаю продать картину за две тысячи, то тоже смогу на этом штуку заработать.
Макс Фурье напрягся, его тонкие пальцы сжались в кулаки:
— Нет, я ее не буду продавать ни за две, ни за три тысячи. Что такое две тысячи? Деньги заработать я смогу и так, не продавая картину. Что-то здесь не так, Серж.
— Я тоже подумал, не все просто с этим Олегом Петровичем. Темнит он, может, картина ценная?
— Вполне может быть, — вспоминая клошара, задумчиво сказал Макс Фурье. — Человек, который продал ее, не похож на того, кто мог нарисовать подделку. Эта картина подлинная, так что скажи своему коллекционеру, продавать ее я не стану.
— Хозяин — барин, — русской пословицей ответил Серж и, допивая остаток пива, смял жестяную банку.
— Ты еще у кого-нибудь смог бы уточнить? Показать специалисту?
— Что ты имеешь в виду?
— Надеюсь, у тебя есть и другие хорошие знакомые, кому ее показать можно?
— Надо подумать, — и Серж Максимов повернул бейсболку козырьком вперед, потер виски и нервно раздавил окурок в пепельнице, а затем сунул его в пустую пивную банку, измятую и никчемную. Окурок зашипел. — У моей знакомой приятель художник, мы с ним по очереди ее имеем. Можно ему показать.
— Да, покажи, пожалуйста, я буду тебе обязан.
— Макс, перестань!
Поездка к художнику, которого Серж знал лишь мельком, расставила все на свои места. Когда Серж приехал в мастерскую, художник, бородатый, нечесаный, в черной робе, перепачканной масляной засохшей краской, был немного навеселе. Знакомая Сержа тоже сидела в мастерской.
Художник грязной рукой пожал ладонь оператора и пригласил его выпить полстакана водки. Серж от водки отказался, сославшись на коронную причину:
— Я за рулем.
— Так она поведет, — бросил художник взгляд на их общую подругу.
— Я уже выпила, тоже не поведу, — заупрямилась девушка.
— Тогда как знаешь, мое дело — предложить, — художник хлопнул полстакана водки, заел медом, картинно закурил трубку, распространяя удушливо сладкий запах чересчур уж ароматного табака.
Серж вытащил из коробки картину. Художник указал на свободный мольберт.
— Поставь ее туда.
Художник уселся в кресло напротив мольберта, его подруга помогла Сержу пристроить полотно. Лицо художника исказила гримаса, его желтые прокуренные зубы стали видны до десен, словно кто-то невидимый сунул ему в рот пальцы и растянул бородатые щеки. На глазах художника, как показалось Сержу, даже сверкнули слезы. Он принялся их тереть кулаками, затем подбежал к полотну и стал его буквально обнюхивать, поглаживая пальцами поверхность.
— Твою мать! — глядя на Сержа, буркнул он. — Да это же Шагал! Гадом буду — Шагал, самый что ни на есть настоящий! Ранний Шагал, витебский период. Сейчас посмотрим… — он бросился к стеллажу, который был спрятан за полотняной, перепачканной масляной краской шторой, откинул полотно, забросив его на мольберт, и принялся на пыльной полке искать нужную книгу.
Наконец подбежал к столу, держа в огромных лапах священный фолиант в белом супере, с автопортретом Марка Шагала на обложке и датами жизни.
— Вот это самое полное собрание его картин, скульптур, рисунков, гравюр, — он принялся листать. — Вот смотри, — он ткнул пальцем в две картины на разных страницах. — Видишь, это портрет Беллы, его жены. Тот же голубой фон, то же белое платье, только цветы в руках другие. Но это она — Белла, гадом буду, она! Не могу я перепутать! Слушай, парень, ты где картину украл? Признайся сразу.
— Нигде я ее не крал, это картина моего приятеля, француза. Купил он ее недавно.
— Француза, говоришь? Он что, у тебя миллионер, чтобы такие картины покупать?
— Не миллионер, но мужик не бедный. Ты хоть знаешь примерно, сколько этот холст стоить может?
— Нет, не знаю. А вот смотри, что сейчас произойдет, — художник бросился к другому стеллажу и вытащил оттуда старинную раму, широкий резной багет, потемневший от времени. Рама была точь-в-точь как на этот холст Шагала. Он быстро и умело вынул картину из родной рамы, приладил подрамник в свою раму, повернул картину к свету. — Ну, смотрите, — художник протрезвел буквально на глазах.
Серж в живописи не очень разбирался, и к тому же современное искусство его не сильно занимало. Вот старые мастера — там все понятно, а с искусством начала двадцатого века у Сержа были непонятки: то ли он не догонял в связи с нехваткой вкуса, образования, то ли это искусство было абсолютно не его, но картина в раме поразила и Сержа. Он понял, что перед ним подлинник, самый что ни на есть настоящий.
— Дай-ка я вот что сделаю, — художник намочил бинт нашатырем и очень аккуратно, бережно, как будто мать протирает лицо младенца, прошелся по поверхности холста, снимая старую грязь, снимая остатки вторичной записи. — Здесь что-то было нарисовано, — глядя на бинт, бурчал художник, какой-то придурок записал Шагала темперой. — Я бы ему руки повыдергивал и спички вставил, варвар этакий!
— Слушай, Павел, — обратился Серж к художнику, — а сколько, по-твоему, холст стоить может?
Художник злобно хлопнул в ладоши и, вызверясь, взглянул на Сержа:
— Да это шедевр, мать твою, он цены не имеет! Он может стоить и миллион, и пять миллионов! А любитель и двадцать не пожалеет.
— Миллионов чего? — произнес телеоператор.
— Как это чего — не деревянных рублей, а полнокровных, зеленых, американских, — тех, что с президентами.
— Повтори, пожалуйста.
— Повторяю для невежд. Иди смотри, — художник подозвал свою подругу, похлопав ее, как лошадь, по спине.
— Какая красота! — произнесла женщина.
— И я говорю, красота самая настоящая!
— Ладно, доставай ее из своей рамы, — попросил художника Серж.
Тот дрожащими пальцами вытащил холст из рамы, бережно запаковал в мягкую ткань и аккуратно вставил в картонный футляр.
— Счастливый твой приятель, такую вещь имеет. Это тебе не наши специалисты. За мой лучший холст, если удается выручить тысячи полторы, я за счастье считаю. Хотя, может быть, лет через сто и мои картины будут миллионы стоить.
Серж рассматривал картины Павла, висевшие на стенах мастерской. Они ему нравились, они ему были понятны, но от них не исходила та внутренняя сила, то свечение, которое присутствовало, которое буквально било в глаза с маленького холстика Шагала. И Сержу даже показалось, что он понял именно здесь, в этой мастерской, чем отличается настоящее искусство от суррогата: от настоящего всегда исходит энергия, невероятная жизненная сила, а от суррогата веет мертвечиной, как от муляжа, который изображает кусок мяса или яблоко — нет ни аромата, ни вкуса, хотя вроде бы похоже на живое.
Он распрощался с художником, крепко пожав на прощание мозолистую широкую ладонь, перепачканную краской, чмокнул в щеку подругу художника и поспешил покинуть мастерскую.
Он приехал к себе домой. Макс Фурье варил кофе.
— Слушай, Макс, — сразу без всяких обиняков сказал Серж, — это картина Шагала — раннего — витебский период, и стоит она много миллионов.
— Кто это тебе сказал?
— Художник сказал.
— Настоящий художник?
— Есть у меня один знакомый, картины пишет.
— Это правда?
— Да, — кивнул Серж, — он в этом разбирается.
— Тогда давай выпьем. У меня есть еще бутылка «Рене Марти», держал на случай, — он полез в сумку и вытащил пузатую бутылку коньяка.
Поставил ее на стол. Мужчины принялись пить. О картине пока говорить боялись, слишком были потрясены новостью и пока еще не успели ее переварить, осмыслить и прикинуть, как себя вести в сложившейся ситуации.
— Слушай, а может, он ее украл!
— Кто? — спросил Макс Фурье.
— Ну, этот барыга, который ее тебе продал.
— Мне какое дело? Я деньги заплатил. Он говорил, что на ней какого-то его родственника был портрет, но потом что-то произошло, краска обсыпалась, отвалилась или смылась, я, честно признаться, не вникал… — Макс Фурье говорил по-русски, вставляя французские слова, когда был не в состоянии подобрать адекватное слово из русского.
К подобным речам Серж привык и ориентировался в них прекрасно, умудряясь улавливать даже нюансы и интонации.
ГЛАВА 10
Из Витебска, не дождавшись окончания «Славянского базара», уехали не только Сиверов и Фурье. В другую сторону — к Минску — мчался в скором поезде и заместитель министра обороны Беларуси Бартлов. О взрыве в гостинице «Эридан» он узнал через десять минут после того, как Глеб забросил в кабину лифта гранату, и сразу же нехорошее предчувствие охватило Бартлова, а через пять минут он уже знал, что погиб именно Омар шах-Фаруз. Бартлов тогда коротко выругался, даже забыв отключить трубку.
Он попал в ужасное положение, и непонятно было, что теперь делать? Повадки политиков он знал — спрячутся в кусты, на время затаятся, сделают вид, что об Омаре шах-Фарузе ничего не знают. Деньги, естественно, не отдадут, и ракетный комплекс земля-воздух в Ирак не уйдет. В итоге отдуваться придется ему — Бартлову, за шестьюдесятью миллионами баксов люди с Востока не поленятся приехать в Беларусь, чтобы отыскать концы.
Бартлов, вернувшись в Минск, даже не стал заходить в министерство, не стал вызывать служебную машину. Ему, как и Максу Фурье, казалось, что за ним следят, идут следом. Когда он очутился один в длинном подземном переходе, то не выдержал и побежал. Вынырнул у старого сквера, сел на скамейку и отдышался.
«Делать нечего, придется докладывать», — Бартлов был настолько перепуган, что даже побоялся воспользоваться «мобильником», позвонил в приемную министра из телефона-автомата.
Его соединили тут же.
— Ты где? — спросил министр.
— В Минске.
И только Бартлов набрал воздуха, чтобы рассказать о случившемся, как министр прервал его:
— Я все знаю. Пока что-нибудь выяснится, тебе лучше взять отпуск. Думаю, тебе не стоит напоминать, чтобы ты не покидал пределы Беларуси? «Мобильник» держи всегда включенным, можешь понадобиться.
— Я сейчас заеду.
— Не надо, — чувствовалось, что министру даже на короткое время не хочется оказаться рядом с Бартловым. — Отпуск я оформлю тебе сам.
Первым трубку повесил министр. Бартлов вернулся в скверик.
«Домой не пойду, пусть жена думает, что я еще на „Славянском базаре“. Ночевать дома — себе же дороже.»
Троллейбусом Бартлов добрался до гаражного массива, где перед отъездом оставил свою машину. Богатым человеком Бартлов никогда не был, но кое-что от сделок с продажи оружия ему обламывалось в виде премиальных, поэтому кое-что он мог себе позволить. Жена не знала, сколько именно получает ее муж. Год тому назад генерал-майор купил на подставного человека дачу под Минском в старом поселке. Об этой покупке, как он думал, не знал никто, кроме его любовницы, именно ради нее он и пошел на трату денег. Любовница была молодая, носила странное имя Алиса и жила в районе новостроек.
Познакомился с ней Бартлов на военном авиационном шоу, когда, устав стоять на трибуне, спустился в кафе для простых смертных. В постели они оказались уже вечером того же дня. Секс с Алисой был для Бартлова чем-то вроде наркотика, один раз попробовав, он уже не мог отказаться от него. Чем именно занимается Алиса, Бартлов не знал. Сколько он ни пытался выведать у нее, девушка отшучивалась. Еще ни разу не случалось, чтобы он позвонил ей, а она не смогла бы с ним встретиться. Домой к себе она ни разу заместителя министра не пригласила, но трубку всегда брала сама.
Бартлов набрал номер и замер в ожидании. Могло оказаться, что Алисы нет дома, и тогда ему придется сидеть на даче одному, изнывая от безделья.
— Алло!
— Это я. Мы можем несколько дней пожить вместе?
— Можем или поживем? — засмеялась девушка.
— Я в твоем районе, машину поставлю возле универсама. Если не успею вернуться к твоему приходу, дождись меня, — генерал-майор с облегчением вздохнул. Неприятность оборачивалась милым приключением.
Обычно Бартлову удавалось выкраивать для встреч с Алисой день, максимум два, теперь же развлечение могло затянуться. Он накупил выпивки, взял целую упаковку минералки, потому как вода на даче была отвратной, недолго думая, набрал всяких копченостей и консервов, чтобы самим не готовить.
Уже выйдя за кассы, Бартлов купил букет бордовых роз, бросил их на продукты и покатил тележку к машине.
Алиса ждала его, облокотившись на капот. Будь майор более проницательным, задумался бы: когда она могла успеть сделать тщательный макияж за столь короткое время?
На людях Алиса не спешила высказать восторг, потому прошептала:
— Привет, милый. Твои розы очень красивые.
— Это твои розы, — шепотом же отвечал Бартлов, торопливо открывая дверку машины.
Алиса юркнула в салон, шелестящий букет заместитель министра обороны положил ей на колени.
— Ты мне колготки шипами порвешь.
Снедь, воду, выпивку Бартлов положил в багажник, сел за руль.
— Теперь на природу? — проворковала молодая женщина.
— В уединенное местечко, — генерал-майор положил «мобильник» на приборную панель. В любое мгновение аппарат мог зазвенеть, звонка Бартлов одновременно ждал и боялся, все зависело от того, кто позвонит.
— Ты противный, — рука женщины легла на колено мужчины, когда машина остановилась у светофора. — Ты не взял меня с собой на «Славянский базар», хотя был там один.
— Откуда ты знаешь? — испуганно поинтересовался генерал.
— Подружка звонила, видела тебя на концерте. Кстати, что ты там купил? — Алиса заметила на заднем сиденье горшок, завернутый в оберточную бумагу.
— Это подарок жене, — с легкой неприязнью отвечал генерал-майор.
— Тогда я к нему не прикоснусь. Я не ослышалась, ты сказал, будто мы можем провести вдвоем несколько дней?
— Точно не знаю. При моей должности меня могут выдернуть в любую минуту, но министр обещал…
— Я буду счастлива, если нам удастся пробыть даже два дня.
Автомобиль уже мчался за городом. Алиса опустила стекло, наслаждаясь теплым воздухом, врывавшимся в салон. Он сбивал с кончика ее сигареты пепел, заставлял жмуриться.
Бартлов бросил на спутницу короткий взгляд.
«Она очень красива, — подумал военный, — слишком красива и молода, чтобы быть честной женщиной. Ее могло спасти одно: если бы молодой вышла замуж. Теперь она вошла во вкус и не может остановиться.»
Влево уходил хорошо асфальтированный, с недавно нанесенной разметкой съезд. Бартлов огляделся, не видно ли ГАИ, и, перевалив на машине через разделительную линию, съехал с автомагистрали. Обычно конфликты с ГАИ решались легко, стоило лишь показать удостоверение. Милиция хоть и не любит военных, но высокая должность остановит любого милицейского служаку. Но сегодня Бартлову не хотелось светиться.
«Спрятаться на даче, носа оттуда не показывать, — подумал он. — Мои покровители — люди большие, пусть и решают проблемы», — губы заместителя министра обороны нервно дернулись. Он понимал, что никто проблему не решит, другие, как и он сам, затаятся, выжидая, пока все рассосется само собой чудесным образом.
— Наверное, ты сделал что-то важное, поэтому тебе и дали отпуск?
— Я не солдат первого года, — рассмеялся генерал-майор, — иногда могу себе позволить и отдохнуть просто так.
— Жена знает, что ты в городе? — Алиса обычно не спрашивала про жену, в ее разговорах с любовником супруги генерала словно не существовало.
— Никто не знает, где мы, только я и ты.
Машина проехала по безлюдному дачному поселку. Бартлов загнал автомобиль под навес, опустил брезентовый полог.
— Вот мы и дома, — он подал руку женщине, помогая ей выбраться из машины. Обычно жесткий и неприветливый, Бартлов проявлял в общении с любовницей чудеса любезности.
Вскоре дом ожил. Бартлов включил электричество, разжег камин, затопил печку. «Мобильник» положил на журнальный столик на самом видном месте, отдельно поставил заряжаться аккумулятор.
— Теперь нам никто с тобой не помешает, — сказал он, открывая бутылку вина для женщины и бутылку водки для себя. — За нашу встречу, — сказал генерал-майор, коротко коснувшись краем рюмки ножки бокала Алисы, и опрокинул спиртное в рот. Тут же привлек с себе женщину.
Они поцеловались, прежде чем во рту исчез вкус спиртного. Алиса сидела, поджав ноги, короткая юбка задралась высоко, обнажив край белых кружевных трусиков.
Когда она успела снять колготки, Бартлов даже не заметил. Алиса пила мало, Бартлов же, наоборот, торопился напиться.
Женщина остановила его:
— Я не хочу, чтобы ты сразу заснул.
Дом был хорош всем, в нем имелся даже душ, но главное удобство располагалось во дворе.
— Пойду подышу воздухом, — генерал поднялся с дивана и как был, в расстегнутой джинсовой рубашке, пошел к выходу.
Алиса бросила ему вдогонку:
— Можно позвонить с твоего телефона?
— Только быстро, мне должны звонить.
Алиса схватила трубку, подбежала с ней к окну.
Она видела Бартлова, идущего по двору между кустами роз к дощатому туалету. Торопливо вдавила кнопки:
— Только бы не было занято, — прошептала она, поднося телефон к уху. — Мансур, — зашептала Алиса в микрофон, — это я. Бартлов со мной на даче. Он выпил, поэтому никуда не уедет.
— …
— Нет, не пьян, соображает отлично. Поняла, держать его здесь.
Когда генерал-майор вернулся, Алиса нежно посмотрела на него:
— Иди ко мне.
Когда мужчина и женщина обнялись, Алиса через плечо любовника то и дело бросала взгляд на часы, стоявшие на каминной полке.
— Здесь так душно! Переберемся на улицу? — красотка спрыгнула с дивана, заместитель министра обороны даже не успел ее удержать.
Она прихватила бутылку сухого вина, бокал и выбежала во двор. Столик стоял в беседке, увитой виноградом. Бартлов с большим удовольствием остался бы в доме, в тепле, но ему пришлось повиноваться. Алиса щебетала, то восхищаясь красотой роз, то критиковала соседский дом. Бартлову было все равно, о чем она говорит, мрачные мысли не шли у него из головы.
«Неужели моей карьере конец? — подумал он. — Я не довел начатое до конца, и никого не будет интересовать, моя в этом вина или чья-то еще. Я из тех людей, кого в официальных бумагах именуют коротко — исполнитель. Значит, с меня и спрос, пусть я даже трижды не виноват. Угораздило же такому случиться в самый ответственный момент!»
— Ты меня не слушаешь, — донеслось до его ушей.
— Нет, что ты, слушаю, дорогая, — рассеянно проговорил генерал и потянулся к бутылке.
Возле дачи остановилась черная «ауди» с тонированными стеклами. Бартлов испуганно огляделся. Мир, до этого казавшийся ему безопасным и спокойным, в миг преобразился. За сараем ему уже мерещились вооруженные люди. Он смотрел на машину.
«Сейчас стекло поползет вниз, — с замиранием в сердце подумал он, — и я увижу ствол винтовки.»
— Ты кого-нибудь приглашал? — беззаботно спросила Алиса.
— Помолчи, — одними губами произнес Бартлов и потянулся к «мобильнику», лежавшему на столе.
Стекло так и не опустилось. Открылась дверца, и из машины вышел грузный человек восточной внешности. Губы его были сложены в дежурную улыбку. Имени его Бартлов вспомнить не смог, даже должность не сразу пришла ему на память.
«Военный атташе Ирака! Из Москвы.»
Следом за грузным мужчиной из машины появились двое широкоплечих молодых мужчин с каменными лицами. Одеты они были в одинаковые строгие костюмы, при галстуках, пиджаки расстегнуты.
— Кто они? — спросила Алиса.
— Молчи и не делай резких движений, — Бартлов отодвинулся от женщины.
«Мансур!» — как вспышка молнии, пронзило сознание генерала вспомнившееся имя.
Военный атташе шел между розовых кустов с разведенными в стороны руками и непонятно было, то ли он собирается обнять Бартлова, то ли показывает, что у него нет оружия. Генерал-майор от испуга даже не мог вспомнить, говорит ли Мансур по-русски.
«Ну вот, началось!»
Охрана военного атташе осталась у входа в беседку, сам Мансур облокотился о край стола, заглянул в глаза Бартлову:
— Извини, что помешал, — с сильным акцентом говорил он, — но я привык все дела доводить до конца.
Бартлов глупо улыбнулся и протянул иракцу руку. Тот даже не глянул на поданную для пожатия ладонь.
— Что здесь происходит, ты можешь мне объяснить? — засуетилась Алиса.
— Женщина останется здесь, — твердо сказал Мансур, и охранники синхронно посмотрели на нее, — а мы перейдем в дом.
Как всякий восточный человек, Мансур умело скрывал свои чувства, желания, и, глядя на его улыбку, было не понять, пришел он осчастливить Бартлова или убить его. Бартлов пошел впереди, военный атташе за ним. Они шли как заключенный и конвоир.
— Садись, — военный атташе указал на одиноко стоящее у камина кресло.
Бартлов повиновался. Сам Мансур стоял опершись о дверной косяк.
— Я не знаю, что произошло, — сбивчиво заговорил Бартлов, — Омара убрали не наши люди.
— Ты уверен, что об этом тебя стали бы предупреждать?
Заместитель министра обороны тут же почувствовал себя мелким, никчемным человеком, которого могут использовать лишь в чужой игре.
— Я сам до конца не понимаю, что случилось, — честно признался Мансур и опустился на диван. — Все мы оказались в дерьме по самую макушку. Давай смотреть, генерал, правде в глаза. Мы до этого не встречались с тобой, между нами стоял Омар.
— Придется начинать переговоры практически с нуля, — вяло ответил заместитель министра обороны.
— Нет, не с нуля, а с минуса, — улыбнулся Мансур. — Шестьдесят миллионов баксов тобой получены?
— Я координатор, я передаю деньги, перевожу их со счета на счет.
— Ты уже разбросал их по счетам своих хозяев? Значит, вернуть деньги за несостоявшуюся сделку ты не в состоянии? Можешь не оправдываться, — Мансур вскинул руку, когда Бартлов открыл рот. — Полученные деньги никто не вернет. А поскольку с Омаром имел дело ты, то тебе и отвечать. Если я в чем-то ошибаюсь, то подскажи.
— Я не виноват!
— Если деньги не вернутся, то тебя уберут, ты просто исчезнешь. И я даже не знаю, кто быстрее с этим справится — мои люди или люди тех, на кого ты работаешь. — Губы Бартлова дрожали, возразить ему было нечего. — Я обрисовал твои проблемы, но у меня их не меньше. Деньги для Омара шли через меня, и я отвечаю за них перед своим правительством. Оба мы сидим в одной лодке, которая вот-вот пойдет ко дну.
— Я даже не знаю, что и делать, — почувствовав расположение к себе Мансура, признался Бартлов.
— Есть только один выход избежать расправы — довести сделку до конца. Ты сможешь убедить своих покровителей отдать комплекс не за сто двадцать миллионов, а за шестьдесят — за те, которые уже получены ими?
Генерал-майор некоторое время сидел задумавшись, а затем покачал головой:
— Вряд ли они пойдут на это.
— Конечно, твою жизнь они оценят в меньшую сумму. Сколько тебе обламывалось от сделки, только честно?
— Десять тысяч, — неохотно признался генерал-майор.
— Обидно умирать за копейки. И что самое обидное, ты даже не получил их.
— Это все француз, журналист, — генерал-майор подался вперед, — которого Омар притащил с собой в Витебск. Только он мог убрать шах-Фаруза!
— Ты начинаешь кое-что соображать, хотя сам не веришь в это. Какой смысл французу убирать Омара?
— Чтобы сорвать сделку.
Мансур пожал плечами:
— В лучшем случае, даже если скандал удастся замять, тебе придется расстаться с должностью.
— Я готов к этому.
— Даже сбережений у тебя нет, разве что эта дача. Если мы будем действовать отдельно, то погибнем, каждый в одиночку. Вдвоем мы можем не только спасти ситуацию, но и хорошо подняться.
— Я не понимаю вас…
— Дело в том, что я не успел перевести на счета, указанные Омаром, шестьдесят миллионов, хотя по времени должен был сделать это. Все уверены, что со смертью шах-Фаруза эти деньги зависли между небом и землей — на счетах, номера которых знал только покойный. Я предлагаю сыграть тебе в одну руку со мной: я делаю вид, что не могу вернуть деньги, ты убеждаешь свое руководство в том, что комплекс нужно отдавать за шестьдесят миллионов, и получаешь за это от меня два миллиона долларов.
— Они не поверят, — глаза Бартлова сверкали. Он уже почувствовал вкус денег. — Омар был слишком осторожным человеком, чтобы не продублировать ситуацию.
— Да, очень осторожным. Знай он, что его жизнь под угрозой, назначил бы дублера из надежных людей, передал бы номера счетов ему. Но это только в том случае, если бы он собирался перевести деньги вашим чиновникам. Омар не погиб, нет, он инсценировал свою смерть, а сам удрал вместе с деньгами.
— Этого не может быть!
— Я не говорю, что так оно и было, но можно убедить в этом твоих и моих покровителей. Смотри, месяц тому назад американцы приняли решение требовать выдачи Омара у России, где он прятался. Омар узнает это и решает исчезнуть, но не просто так, а с деньгами. Чтобы усыпить бдительность партнеров, первый транш в шестьдесят миллионов он переводит, а затем получает от меня на свои счета вторую часть, тоже шестьдесят миллионов, и тут же инсценирует собственную гибель — подрывает гранатой в лифте человека одной с ним комплекции. После взрыва от Омара мало что осталось, лицо и тело изуродованы. Француз ему нужен как свидетель, раструбит об увиденном по всему миру. Опознание Омара построено лишь на документах, найденных при нем. Кстати, его друг бесследно исчез, так что его можно спокойно представить как сообщника шах-Фаруза. Мы должны убедить всех, что Омар жив. Если в это поверят, то все претензии по деньгам будут направлены на него. Пусть его ищут по свету ваши спецслужбы, наши. Но беда в том, что на сегодня даже американцы не ставят под сомнение то, что погиб именно Омар. У тебя есть связи, ты ими воспользуешься. Организуй на государственном уровне запрос насчет идентификации тела погибшего. Беларуси это выгодно, гибель террориста в Витебске из политической плоскости сразу переходит в уголовную. Если убитый не шах-Фаруз, то, значит, Омар организовал мистификацию и скрывается с деньгами.
Бартлов в напряжении барабанил кончиками пальцев по подлокотникам кресла. Затем выпалил:
— Три миллиона.
— Хорошо, получишь три. За эти деньги ты должен сделать две вещи: первое, убедить своих покровителей расстаться с комплексом «Меркурий» за уже полученные ими шестьдесят миллионов, потому как другую часть получить невозможно, она исчезла вместе с Омаром. Поверь, они согласятся, никому не захочется возвращать деньги. И второе, на государственном уровне вы поднимаете вопрос об идентификации тела погибшего.
— А если его опознают со всей точностью и будет доказано, что это Омар?
— Каким образом?
— Могут сравнить останки с результатами анализов — лечился же он где-то в Москве?
— Я хорошо знал покойного, — улыбнулся Мансур — он был абсолютно здоровым человеком, в поликлиники никогда не обращался, на операции в больницы не ложился.
Бартлов все еще сомневался.
— Даже самый здоровый человек в его возрасте обращается к дантисту. У Омара половина зубов золотые, кто-то же делал ему коронки и сможет опознать свою работу.
— Я уже думал об этом. Если его дантиста убьют в ближайшее время, то это будет еще одним доказательством того, что Омар жив и заметает следы.
— Я сделаю все, что смогу, — пообещал Бартлов.
— Теперь я могу пожать тебе руку, — Мансур и заместитель министра обороны скрепили договоренность рукопожатием, долгим и сильным.
Уже миновав дверь, Бартлов замер и резко обернулся к военному атташе:
— Скажите, Алиса работает на вас?
— С чего ты взял?
— Это она сообщила вам, где меня найти?
— Какая разница? — рассмеялся Мансур. — Сексом от этого она заниматься хуже не стала, да и деньги тянет из тебя не в том объеме, в каком могла бы. Если не она, то могла быть другая, мы нашли бы к тебе подход.
Когда Мансур уже сел в машину, а охранники вышли из беседки, Бартлов спросил:
— Как мне найти вас?
— Мой номер есть в памяти твоего «мобильника». Проверь последний звонок.
Черная «ауди» ловко развернулась на тесном перекрестке дачных улиц и умчалась, оставив на влажном песке отчетливые следы протекторов.
Бартлов вернулся к Алисе, заглянул ей в глаза:
— Кажется, я начинаю тебя любить еще больше, чем прежде, — и тут же добавил: — Сучка!
— Ты возвращаешься в Минск?
— Да, срочно.
— Можешь никуда не спешить, поедем ранним утром. Выветрится алкоголь, ты соберешься с мыслями. Я не хочу, чтобы ты нервный садился за руль, поверь, я смогу тебя расслабить.
Алиса налила водки в рюмку, и Бартлов покорно выпил спиртное.
ГЛАВА 11
Пока люди военного атташе Ирака генерала Мансура сбившись с ног пытались отыскать Макса Фурье, пока Серж Максимов по поручению того же Макса разъезжал по Москве с полотном Шагала на заднем сиденье джипа, Олег Чернявский, хозяин галереи со звучным названием «Мост», тоже не тратил время даром. Едва машина оператора покинула стоянку, как Чернявский влетел в кабинет своего эксперта. Женщина сидела, держа перед собой каталог картин Марка Шагала.
— Ты уверена?
— На девяносто восемь процентов.
— А почему не на сто?
— Я всегда оставляю шанс, Олег Петрович.
— Шанс, шанс… Мне шанс не нужен, ты мне это брось. Гарантируешь подлинность?
— Да, — выдохнула женщина.
— Тогда запомни, Софья, ни слова, ни полслова о том, что видела! Ты въехала в мои слова?
— Да-да, я никому ничего не скажу, — испуганно пробормотала немолодая симпатичная женщина, снимая очки с толстыми линзами. — Я никому не скажу.
— Вот это будет правильно. А я тебе выпишу хорошую премию, так что в конце месяца можешь рассчитывать на поездку к морю. И в отпуск, кстати, отпущу на две недели, идет?
— Спасибо, Олег Петрович, вы так добры!
Чернявский покинул кабинет своего эксперта, искусствоведа, которого он переманил из Пушкинского музея, и, придя в свой модный кабинет, с презрением взглянул на картины, которые украшали стены.
— Дерьмо собачье! — пробурчал он. — Эльвира, кофе, крепкий кофе!
Секретарша подсуетилась, кофе появился через полторы минуты. Чернявский в это время уже разговаривал по телефону.
— Слышишь, Сергей, не уходи, будь на месте, я через сорок пять минут буду у тебя. Позови своих ребят, есть работа, очень хорошая работа, так что давай дождись меня обязательно.
Сергей Проханов, отставной офицер спецназа, держал небольшой барчик у цирка на Цветном бульваре. Бар был маленький, но довольно уютный. Как правило, его посещали свои — спецназовцы, афганцы, кэгебисты, потерявшие работу, в общем, военные и полувоенная публика, а также люди, близкие к этим кругам. Проханов время от времени выполнял просьбы Олега Чернявского. Преимущественно его помощь заключалась в выбивании долгов, правда, иногда Чернявский просил Проханова перевезти картины из одного города в другой или привезти картины из Тбилиси, Еревана в Москву. Также иногда Проханов развозил крупные суммы денег по нужным адресам безо всяких расписок, а иногда с ним передавал взятки нужным людям.
Он и сейчас рассчитывал, что Чернявский предложит ему что-нибудь в этом же роде. Сергей Проханов сидел в маленьком кабинетике два с половиной на три метра, где стояли ящики с бутылками, компьютер и письменный стол. В кабинете было всего лишь два кресла, маленькое окошко, забранное решеткой с внутренней стороны и белой роллетой с улицы. Окошко выходило во двор.
Чернявский вошел, резко толкнув дверь. Он привнес в прокуренную комнатку запах дорогого одеколона и настоящей роскоши.
— Здорово, Сергей, — протянул он через стол руку и поприветствовал Проханова. — Не вставай, сиди. Ты не ученик в классе, а я не учитель.
Проханов был крупным сорокалетним мужчиной, широким в плечах, с могучей короткой шеей, с квадратными челюстями. Если бы не лысина, то его вполне можно было назвать настоящим плейбоем.
— Пойдем-ка, друг мой, по улице пройдемся.
— А что, здесь нельзя поговорить? — спросил Проханов, выбираясь из-за стола.
— Минералочки стаканчик можно?
— Идем к стойке.
Они подошли к стойке. Бармен тут же выполнил просьбу гостя, он прекрасно был осведомлен и знал, что Чернявский — друг хозяина, а может быть, как иногда думалось ему, Чернявский и есть истинный хозяин их маленького бара.
Они вышли во двор, сели в машину Чернявского на заднее сиденье.
— Хочешь, кури.
Автомобиль был роскошный, стоил не менее семидесяти тысяч.
«В таком автомобиле и жить можно», — не без зависти подумал бывший спецназовец.
— Серега, вот какое дело: ты можешь заработать кусков пятьдесят-восемьдесят.
— Сколько?
— Скажем точно — восемьдесят.
— Зеленью?
— Конечно.
— Что я для этого должен сделать?
— Для этого всего лишь надо забрать одну картину у двух нехороших парней.
— Они не хотят ее отдавать?
— Думаю, нет, хотя, может быть, они и согласятся. Если не боишься, что тебя потом опознают, можешь вести переговоры.
— Я определюсь на месте, — эту фразу Чернявский произнес с неуверенностью в голосе и с надеждой. — Хорошо, давай адрес, — из блокнота, закрепленного на панели машины, Чернявский вырвал лист бумаги, написал телефон и адрес. — Посмотри, запомни и порви.
— Прямо-таки шпионские страсти, — шутливо буркнул Проханов, изучая листок и шевеля губами, проговорил цифры телефонного номера и адрес. Затем он изорвал листок на мелкие клочки и выбросил в окно.
— Запомнил? — уточнил Олег Петрович, хлопнув себя по коленям.
— Вроде запомнил, — интонацией, не терпящей возражения, сказал Проханов.
Адреса и телефоны он запоминал хорошо, и по сей день в его памяти хранились все номера оружия, которое прошло через его руки, а оружия прошло немало.
— До сегодняшнего вечера все выяснится. И учти, затягивать нельзя.
— Понял, — ответил Проханов, закуривая сигарету. — Так сколько, говоришь, я могу получить, если эту картинку смогу забрать?
— Восемьдесят, — спокойно, без придыхания произнес владелец галереи.
— Восемьдесят зеленью? — повторил Сергей. Олег Петрович кивнул, открывая дверцу джипа. Проханов покинул салон, на прощание звонко щелкнув пальцами.
«Тореадор, мать твою», — подумал о приятеле Олег Петрович Чернявский, выбрался из машины, сел за руль и покинул двор.
Вернувшись в галерею, он набрал Сергея Максимова. Тот ответил быстро, словно держал свой телефон в руке и только ждал звонка Чернявского.
— Нет, мой приятель, Олег Петрович, отказывается. Ему не нужны деньги.
— Как это не нужны деньги? А если я ему предложу пятьдесят тысяч? — быстро произнес в трубку владелец галереи.
— Сейчас спрошу. Макс, тебе предлагают за картину пятьдесят тысяч. — Макс в ответ лишь покачал головой. — Нет, он не согласен.
— Спроси у него, Сергей, сколько он хочет, за какую сумму он расстанется с холстом?
— За какую сумму ты расстанешься с холстом?
— Ни за какую. Мне не нужны деньги.
— Он говорит, ни за какую, что деньги ему не нужны. Извините, Олег Петрович, что так получилось.
— Ладно, на нет и суда нет, — раздосадованный Олег Петрович Чернявский швырнул мобильный телефон. Тот, проехав по столешнице, упал на пол. Но Чернявский даже не стал его поднимать, у него было нестерпимое желание каблуком башмака раскрошить «мобильник», превратить его в пыль. Ярость, закипевшая в душе Олега Петровича, относилась, конечно же, не к телефону, а к тем, с кем он только что имел разговор.
— Цены растут, — сказал Серж, глядя на Макса Фурье.
Тот лишь развел руками, дескать, ничего не могу поделать, картина — моя собственность и уступать ее я не намерен.
Все события последних дней, испуг Макса Фурье, картина, стоимость которой по сегодняшним временам огромная, заставили Сержа разволноваться. И, не найдя лучшего способа, чтобы погасить волнение, он вытащил из холодильника бутылку водки.
— Макс, ты не собираешься никуда ехать в ближайшие пять часов?
— Нет.
— Тогда я выпью. — Серж налил себе чуть больше чем полстакана, залпом выпил и упал в кресло, закрыв лицо руками.
— Ты кончишь жизнь алкоголиком.
— Я не доживу до старости. Макс, ты представляешь, каких денег стоит этот холст, если Чернявский готов за него заплатить столько деньжищ. Сколько же она на самом деле стоит?
— Шагал — дорогой художник, — уже уверовав в то, что в его руках золотая птица, произнес Макс Фурье. — Я знаю, кому ее предложить. Есть у меня знакомый барон, он собирает Шагала. У него три завода и огромное количество земли — виноградники…
— Ты хочешь ее продать своему знакомому? — спросил Серж.
— Вполне возможно. Я поторгуюсь.
В одиннадцать вечера, когда на улице было уже темно, во двор дома въехал и остановился рядом с маленьким джипом оператора подержанный «форд». В салоне сидело четверо — двое на заднем сиденье, двое впереди. Рядом с водителем расположился Сергей Проханов. Он был в джинсовом костюме, двое на заднем сиденье были в коротких кожаных куртках. Все мужчины — примерно одного возраста, лет по сорок с небольшим.
— Пошли.
Трое вышли из машины и торопливо, почти бегом направились к подъезду.
В это время Серж Максимов говорил по телефону со своей домработницей:
— Да-да, все хорошо.
— …
— И мясо было замечательное, и салаты удались, и картошка вкусная. Хотелось бы повторить. Будет славно, если завтра ты привезешь уже приготовленный обед. Договорились?
— …
— В одиннадцать можешь приходить. Ключи, надеюсь, ты не потеряла?
— …
— Ну, вот и славно. Завтра нас побалуют, Макс, — положив «мобильник» на журнальный столик, произнес Серж.
— Очень хорошо, — сказал Макс Фурье, ставя на стол банку с пивом. Он потянулся к сигарете, когда в дверь позвонили.
— Кого это черт принес? Я никого не жду.
Макс Фурье напрягся и тотчас покинул гостиную, уйдя в спальню с незажженной сигаретой в пальцах.
Серж направился в прихожую. Он был в шортах, в майке, в тапках на босу ногу.
— Кто там? — спросил он, даже не глядя в глазок.
— Свои, от Чернявского.
— Снова от Чернявского? — Серж открыл дверь. Что-либо сказать он не успел, ствол пистолета уперся ему под ребра. Сергей Проханов прижал оператора к стене, зажал ему рот ладонью.
— Стой и не рыпайся, урод, а то нечаянно могу выстрелить! Кто еще в квартире? — шепотом, глядя в глаза, спросил Проханов.
— Там, — глазами показал на дверь комнаты Серж.
— Сколько?
— Один француз.
— Туда?
— Да, — с придыханием выдавил из себя Серж.
— Где он?
— Был в гостиной.
Больше Серж ничего не помнил. Раздался хлопок, похожий на удар ладоней. Серж, получивший пулю в сердце, начал медленно оседать, и, если бы его не поддерживал Проханов, он упал бы прямо на полку с обувью. Но Проханов не дал ему упасть, а медленно опустил на пол.
Два других парня быстро двигались по квартире, словно производили хорошо спланированную операцию. Они действовали синхронно, один открывал дверь, второй с пистолетом в руках стоял на подстраховке.
Макс Фурье услыхал хлопок, а перед этим сдавленные тихие голоса. Его охватил панический ужас, он бросился на пол, забился под кровать. Как он умудрился туда втиснуться, он бы и сам не ответил: зазор между нижней панелью и полом был небольшой, сантиметров двадцать, не больше, но Макс Фурье все же умудрился забраться под кровать. Незажженная сигарета оставалась в руке.
— Никого нет, — знаками показал один из мужчин, заглянув в спальню.
— Ищите, должен быть второй.
Макс истошно завопил, когда увидел пистолет, ствол которого был нацелен ему прямо в глаз. Кровать приподняли, француза выволокли.
— Где картина? — глядя в глаза Макса Фурье, спросил Проханов.
— Не знаю… Какая картина?
— Тащи его сюда.
Все шторы на окнах были закрыты, так что нападающие могли не опасаться. Француз дрожал, лежа на полу, его приволокли в гостиную. Проханов подошел, взял Макса за волосы, приподнял голову, запрокинул ее и сунул ствол пистолета с коротким глушителем в рот французу.
— Картина где, урод? Или ты, может быть, по-русски не понимаешь?
— Понимаю, — давясь слюной с металлическим привкусом, произнес Макс Фурье. — Она в шкафу, в спальне.
— Забери, — приказал Проханов одному из подручных. Тот через полминуты вернулся с картонным футляром в руках. — Эта? Вытащи, — попросил Проханов.
Мужчина развернул мягкую ткань. Проханов утвердительно кивнул.
— Запакуй, сложи как следует. Зря ты отказался от денег, тебе же предлагали хорошую сумму, а ты, урод, кочевряжиться начал… — медленно произнося слова, говорил Проханов.
— Не убивайте меня! Я все забуду, завтра же уеду из Москвы! Не убивайте… — с ужасающим акцентом, от ужаса коверкая русские слова, бормотал Макс Фурье, из его темных, как сливы, глаз катились крупные слезы, лицо покрылось красными пятнами.
— Хорошо тебе рассуждать, но «се ля ви», как говорится у вас, лягушатников.
Француз дернулся, пытаясь вырваться. Он бросился под ноги тому, который складывал картину. Бывший спецназовец с разворота ударил ногой Макса в голову. Француз отлетел к стеклянному столику, ударился затылком об его край.
— Мочи его, Серж, — услышал Проханов голос одного из подручных.
— Сам мочи, я уже одного вальнул.
Прозвучало два негромких выстрела, на которые никто из соседей даже не обратил внимания. Мужчины забрали картину, профессионально, с подстраховкой, покинули квартиру. Они сели в «форд» и исчезли со двора, словно их здесь никогда и не было.
В тот же вечер Сергей Проханов, бывший офицер спецназа, получил восемьдесят тысяч долларов от Олега Петровича Чернявского, передав ему холст Шагала. Проханов вручил своим приятелям по двадцать тысяч долларов, себе оставил сорок, и все трое бывших спецназовцев покинули Москву. Они на время уехали подальше от столицы, от ретивых сотрудников правоохранительных органов.
Естественно, ни Сергей Проханов, ни его подручные, ни Олег Петрович Чернявский не знали, что произошло далее. В одиннадцать утра, когда самолет Москва — Красноярск уже взлетел в воздух, а скорый поезд уносил Сергея Проханова на запад, к подъезду дома, проехав две остановки на троллейбусе, подходили Клавдия Ивановна и ее дочь. Девушка накрасилась, зная, что сейчас, возможно, познакомится с французом, причем с положением в обществе, человеком, который живет в Париже. Она несла в руках тяжелую сумку с тушеной картошкой, салатами и запеченным мясом, без умолку тараторила.
Они поднялись на третий этаж. Клавдия Ивановна из сумочки достала связку ключей, предварительно позвонила в дверь. Выждала полминуты и лишь после этого вставила ключ в замочную скважину и повернула. Она хотела открыть и второй замок, но оказалось, тот и не был закрыт. Женщина толкнула тяжелую металлическую дверь, и та бесшумно открылась.
— Кто-нибудь есть дома? Доброе утро, — учтиво и громко произнесла женщина, переступая порог квартиры.
Сергей Максимов лежал в луже крови, уже темной, загустевшей, у обувной полки. Голова его была неестественно запрокинута. Женщина даже не вскрикнула, а лишь замерла. Затем медленно, выталкивая спиной дочь, выбралась из квартиры на лестничную площадку.
— Господи! Боже мой! — уже на площадке простонала она.
— Мамочка, что там такое? Давай я войду.
— Стой! Не двигайся! Не шевелись! — приказала женщина.
Она позвонила в соседнюю квартиру, поставив сумку на ступеньки. Дочь заглянула в квартиру и как ошпаренная выскочила на площадку. Она дрожала от страха, ее зубы стучали, загорелое тело мгновенно покрылось гусиной кожей. Она вся сжалась, села прямо на ступеньки.
Соседи вызвали милицию, которая приехала на удивление быстро. Следственная группа прибыла вслед за дежурной машиной. Она, обнаружив в квартире два трупа, нашла документы, и начался опрос соседей. Клавдию Ивановну пригласили в квартиру.
Молодой следователь лет двадцати восьми от роду, в темных очках на бледном небритом лице, похожий на учителя младших классов частной гимназии, обратился к женщине:
— Клавдия Ивановна, осмотрите все, но ни к чему не прикасайтесь. Постарайтесь вспомнить, исчезло что-нибудь из квартиры или нет.
Дочка осталась на лестничной площадке, а Клавдия Ивановна, причитая через каждую минуту, принялась обходить квартиру, а затем обернулась к молоденькому следователю:
— Вроде все на месте, — тихо прошептала она. — Боже мой, за что же их! Сергей был таким добрым, таким добрым ко всем…
— Был, был, — остановил ее словоизлияние следователь.
Вскоре приехали сотрудники ФСБ. Почти одновременно с ними появились мужчина и женщина, элегантно одетые, пахнущие дорогими духами, представители французского государственного канала. Снимать им, естественно, ничего не позволили.
«Вот и познакомилась я с французом, самым что ни на есть настоящим, из самого города Парижа, с положением в обществе, — куря уже третью сигарету, думала дочь Клавдии Ивановны, сидя на лавке у подъезда. — Картошка и мясо давным-давно остыли…»
***
Генерал Потапчук всегда приезжал на работу раньше обычного, и сегодня он приехал за два часа до начала рабочего дня. Всю дорогу, сидя на заднем сиденье, он морщился и не произнес ни единого слова. Водитель, работавший с Потапчуком последний год, прекрасно знал характер своего шефа. Если генерал молчит, то знай — настроение у него скверное, а дела идут хуже некуда. Водителю нравилось, когда Потапчук был весел и сыпал меткими замечаниями. Сегодня же генерал угрюмо молчал. Когда проехали пост, водитель спросил:
— Федор Филиппович, что-то не так?
— Ты, Василий, здесь ни при чем. Старость — она и есть старость, от нее, братец, никакого лекарства не существует. Хорошо вам, молодым, а у меня вот последний зуб разболелся.
— Что значит последний?
— Последний, которого еще не касался врач.
Потапчук выбрался из машины с мрачным, бледным лицом и, втянув голову в плечи, нахохлившись, подался к себе в кабинет. Помощника еще не было. Войдя, Потапчук закурил. Он сел за стол, посмотрел на пачку бумаг, где он вчера черкал остро отточенным карандашом, ставя кучу галочек и вопросительных знаков. Затем, все так же продолжая морщиться от зубной боли, позвонил дежурному и попросил оперативную сводку по Москве и Московской области за прошедшие сутки.
Документы через несколько минут принес молоденький лейтенант. Войдя в кабинет генерала Потапчука, который слыл в управлении грозным начальником, лейтенант разволновался.
— Разрешите обратиться? — выпалил он, словно на плацу перед трибуной.
— Не кричи, родной, — тихим голосом попросил Федор Филиппович, — давай бумаги. Ты же не на Красной площади. Разговаривать, вообще, друг мой, надо тихо, нежным и ласковым голосом, как с любимой женщиной, тогда перед тобой и двери будут открываться. Надеюсь, ты меня понял, Сидоров?
— Так точно! — уже на два тона ниже произнес лейтенант и положил на стол оперативную сводку.
— Можешь идти, — спокойно сказал генерал.
— Есть, — лейтенант четко развернулся и тихо вышел из кабинета.
Генерал надел очки и принялся неторопливо просматривать бумаги. Просмотр оперативной сводки — это был как ритуал, как утреннее чтение газет и журналов. Генерал читал строчки скупых сообщений: операция в ресторане таком-то, взрыв на улице такой-то, два трупа, один человек ранен, убийство в квартире — в общем, обыденная, рутинная работа. Лишь на шестой странице, а всех страниц было восемь, рука генерала Потапчука с остро отточенным карандашом замерла: «Двойное убийство. На снимаемой квартире обнаружены два трупа — представителя французского телеканала Макса Фурье и российского телеоператора Сергея Максимова. Личности убитых установлены, дело ведут представители уголовного розыска…».
— Макс Фурье… — произнес генерал и втянул в себя воздух. От этого вдоха нестерпимо заныл больной зуб. — Да будь ты неладен, — пробурчал генерал, — этого мне только не хватало! — Боль была такой острой и въедливой, что пришлось даже отодвинуть бумаги. — Черт подери, что же делать? — генерал взглянул на напольные куранты, они показывали половину восьмого. — Да, говорил же мне Яков Наумович, что этот зуб себя еще покажет. А я его тогда не послушал. Вечно недосуг, вечно нет времени довести начатое до конца! Будь она неладна, эта работа, вечно собой заняться некогда!
Генерал подпер щеку, прижав болящий зуб. Боль от этого стала чуть слабее. Потапчук выпустил воздух и распрямил согнутую спину, откинувшись на спинку кресла. Он снял очки и протер запотевшие стекла. Ладони тоже стали влажными от пота. Когда генерал прикоснулся к листам оперативной сводки, на тонкой бумаге остались влажные пятна.
— Дактилоскопия, — хмыкнул Потапчук, вытирая носовым платком руки. Закурил вторую сигарету. — Макс Фурье… Макс Фурье… Это же ты был в Витебске с Омаром? О тебе говорил Глеб? Правда, в иностранных именах я могу путаться. Позвонить Сиверову, уточнить, что ли? Ладно, еще не время. Он, наверное, сейчас бежит размеренно и спокойно по парку, ровно дышит, улыбается, наслаждаясь природой и свежим воздухом. А может, и уехал куда-нибудь и его нет в городе? Он же не обязан сидеть с утра до вечера в квартире, ожидая моего звонка.
Генерал опять вздохнул сквозь зубы, вновь скорчился от боли, которая была настолько сильной и нестерпимой, что ему показалось, будто вся левая щека на несколько мгновений онемела. Когда боль чуть утихла, генерал Потапчук вытащил из письменного стола блокнот с алфавитным указателем и принялся концом карандаша вести по буквам. Блокнот был старый, и Федор Филиппович им очень дорожил. В нем были записи даже тех времен, когда Потапчук был еще полковником, когда существовала аббревиатура «КГБ», позднее успешно замененная на «ФСБ».
— Так, так, так… — карандаш остановился на букве «К». На каждую букву в этом справочнике было по десять страничек, и Потапчук принялся изучать телефонные номера и фамилии. — Ковалев, Кузьмицкий, Кречетов, Кошкина, Караваев, Колобков, Колобов, Кублицкий, Кожемякин, Кошев Виктор Павлович, Кочевников Анатолий Кузьмич… Ага, вот, — карандаш вздрогнул над записью, сделанной красной шариковой авторучкой. — Кучер Яков Наумович, стоматолог, квартирный телефон и рабочий. Рабочий телефон был зачеркнут, рядом простым карандашом был выведен новый телефонный номер.
Потапчук, прижимая ладонь к правой щеке, пальцем прощупывая сквозь щеку зуб, раздосадованно хмыкнул:
— Хотя, хотя… — сказал генерал сам себе, — Яков Наумович встает рано, да и ложится не позже одиннадцати, если, конечно, он не изменил свой распорядок. Три года назад я раз пять ходил к нему, и он сделал мне, как он выразился, все, что возможно в нынешние времена.
Генерал Потапчук подвинул к себе телефон и неторопливо указательным пальцем набрал номер. Трубку не снимали секунд восемь, наконец он услышал характерный и немного картавый говор:
— Говорите, я вас слушаю.
— Доброе утро, Яков Наумович! Федор Филиппович Потапчук беспокоит тебя, не забыл?
— Ба, какие люди!
— Как жизнь? — задал дежурный вопрос Федор Филиппович.
— Жизнь как в кино, что ни день, то сюрприз, то черно-белое, то цветное.
— А если серьезно, Яков Наумович?
— По-прежнему, — на этот раз коротко и умиротворенно сказал стоматолог.
— Как супруга себя чувствует?
— Как всегда. Что ей сделается? В такие годы человек всегда себя чувствует одинаково, не очень плохо, но и не очень хорошо, если, конечно, нет хронических болезней. Моя Фаина следит и за своим здоровьем, и за моим. Вот приучила меня кашки есть по утрам, и я теперь, как младенец, по утрам ем кашки, пью некрепкий чай, а только после этого иду на работу. А вы-то как, Федор Филиппович? Наверное, вы уже не просто генерал, а генерал-полковник?
— Нет, что вы, Яков Наумович! У меня тоже все без изменений, если, конечно, не считать проблем со здоровьем.
— Что стряслось? — учтиво осведомился стоматолог.
— Что-то зуб заболел.
— Все вы такие, — немного раздосадованно произнес Яков Наумович Кучер, — вспоминаете о моем существовании только тогда, когда зуб болеть начнет.
— Но это, наверное, не так плохо?
— Плохо, Федор Филиппович! С друзьями и хорошими знакомыми надо встречаться не только по делу, а и просто так.
— Хотелось бы, — сказал генерал Потапчук, — да не выходит. Дела заели.
— Зуб… зуб… наверное, — задумался Кучер, — четверочка, верхний справа?
— Точно, — сказал Потапчук. — Ну и память у тебя, Яков Наумович!
— На что не жалуюсь, так на память. А вот все остальное… На женщин уже только смотрю. — Потапчук хмыкнул в трубку, услышал такой же смешок старого стоматолога. — Какие проблемы? Подъезжайте, Федор Филиппович, прямо сейчас.
— Прямо сейчас не могу, а вот если это возможно, во второй половине дня — с удовольствием.
— Удовольствия большого я не гарантирую, но принять приму. Даже коньяка могу налить, мне тут по случаю привезли французского две бутылки, а я люблю армянский.
— Вот с ним и приеду.
— Смотри, Федор Филиппович, тебе видней. А твоя супруга как?
— На даче она сидит, говорит, Москва ей до такой степени осточертела, что жить здесь может только зимой, когда туристы уезжают, а дачу снегом заметает.
— Поклон ей от старого эскулапа, пожалуйста.
— Будет сделано, Яков Наумович. Скажи адрес, куда ехать.
— Все туда же.
— Что, прямо возле дома?
— Да, вот туда и приезжайте. Может, подождать придется минут пятнадцать, но за это, надеюсь, ты на меня не обидишься?
— Нет, не обижусь.
— Сильно болит?
— Изрядно дергает.
— На что — на холодный воздух, горячий чай?
— Нерв открылся.
— Зуб уже тогда был не очень, на ладан дышал. Я тебе предлагал, да ты заупрямился, сказал, пока не болит, зачем его лечить.
— Все, давай, до встречи.
— Фаина рукой машет, привет тебе шлет.
— Поцелуй за меня свою красавицу.
— Будет сделано.
Генерал положил трубку, потер щеку, выбритую, как у молодого офицера перед свиданием.
С Яковом Наумовичем Кучером Потапчук познакомился лет двадцать пять назад. Тогда стоматолог проходил по делу, связанному с торговлей золотом — монетами, слитками и коронками. Яков Наумович помог тогда генералу Потапчуку раскрыть довольно запутанное дело. Стоматолога оклеветали, и генерал Потапчук, тогда еще майор КГБ, помог ему сохранить свою репутацию честного врача, не скупающего золото и не торгующего им. Они подружились. Генерал помог устроиться Якову Наумовичу в клинику КГБ. Федор Филиппович всегда относился с почтением и нескрываемым уважением ко всем мастерам своего дела. И не важно, врач это или хирург, летчик, водитель, сантехник, сталевар, — главное, чтобы ты был мастер.
А стоматолог, приехавший в Москву из города Витебска, был самым что ни на есть профи своего дела. Сейчас таких мастеров уже нет, сейчас у всех узкая специализация — один рвет, второй пломбирует, третий лечит, четвертый протезирует, пятый снимает форму, шестой отливает… — в общем, бесконечный поток, в котором никто не отвечает за конечный результат.
Яков Наумович был не таким, он все делал сам — от первого осмотра до последнего. Он сам вырывал, сам пломбировал и сам лечил. Только отливкой коронок занимались другие мастера, такие же спецы, как и сам Яков Наумович. Поэтому и ходили к нему на прием лишь самые-самые: артисты театров, кинозвезды, дипломаты, генералы — в общем, богатые люди, те, кто мог себе позволить лечиться у такого мастера. Ведь искусство, как известно, стоит дорого, хотя, на первый взгляд, подлинное искусство от подделки отличается не очень сильно. Но пломбы, поставленные Яковом Кучером, стояли во рту по двадцать-тридцать лет.
Однажды, когда три года назад генерал Потапчук оказался в кресле у своего приятеля-стоматолога, тот, восхищенно причмокнув, игриво воскликнул:
— Кто это вам так чудненько эти пломбочки сделал?
— Как это кто, — возмущенно воскликнул Потапчук, — да вы же сами мне и сделали!
— Здорово! Сейчас я бы уже так не смог, тонкая работа! — разыграл удивление Кучер.
Сейчас эти воспоминания перемешивались с резкой, острой болью, и генерал Потапчук то морщился, то улыбался, когда боль отступала.
— Макс Фурье… по-моему, это тот журналист, о котором говорил Глеб. Французский журналист со «Славянского базара». Со «Славянского базара»… О, какое совпадение, — вдруг поймал себя генерал Потапчук, — «Славянский базар» проходил в Витебске, а Яков Наумович тоже из Витебска. Странно все в жизни перекрещивается, цепляется одно за другое. Сколько же мне еще терпеть? — Потапчук посмотрел на часы. — До двух надо продержаться, а затем поеду к Якову Наумовичу, и он избавит меня от гнусной боли.
Ни утреннего чая, ни кофе генералу не хотелось. Единственное, что немного снимало боль, так это курение. И Потапчук курил сигарету за сигаретой. Когда в кабинет вошел помощник, Потапчук сидел в клубах дыма, мрачный и нахохлившийся.
Майор удивился, поприветствовав шефа, поинтересовался:
— Что-нибудь непредвиденное случилось?
— Зубная боль, дорогой ты мой, всегда непредвиденная. Это как понос — появляется неожиданно.
Майор от шутки генерала улыбнулся и во рту языком ощупал свои зубы, они у него были в прекрасном состоянии.
— В одиннадцать у вас совещание.
— Да, знаю я о нем, — махнул рукой Потапчук. — Забери бумаги. Я все выправил, так что можешь отдавать в печать. И формулировки, пожалуйста, более корректные, а то пишешь, как агроном: столько-то посадили, столько-то убрали. Так нельзя, майор, бумаги наверх пойдут. Либерально выражаться следует. Времена теперь другие. Надеюсь, ты меня понимаешь?
— Так точно! — сказал майор, взял бумаги со стола генерала, чихнул от сигаретного дыма и покинул кабинет.
За час до совещания зазвенел телефон. Генерал взглянул на аппарат и понял, что не взять трубку он не имеет права.
— Потапчук слушает, — морщась от боли, выдавил из себя генерал, стараясь произносить слова бодрым голосом.
Звонил заместитель директора, генерал-лейтенант:
— Федор Филлипович, зайди ко мне срочно, — после дежурного приветствия сказал замдиректора.
Потапчук выбрался из-за стола, взглянул на свое отражение в зеркале, поправил серый галстук, потуже затянул узел, потер припухшую щеку и подумал: «Если она начнет пухнуть таким же темпами, то к четырем часам появится изрядный флюс».
— Я к замдиректору, — сказал майору генерал, проходя через приемную.
Воспаленный нерв в больном зубе уже реагировал не только на холодный воздух, но даже на движение, и генерал старался ступать мягко, словно шел по скользкой поверхности, а не по ковру, устилавшему длинный коридор. Он поднялся этажом выше, на ходу кивая знакомым, но ни с кем не задерживаясь для разговора. Он оказался в приемной и сразу же прошел в кабинет генерал-лейтенанта Огурцова.
ГЛАВА 12
Замдиректора ФСБ сидел за столом. Когда генерал Потапчук вошел, он поднял голову от бумаг и выключил компьютер.
— Добрый день, Федор Филиппович! Проходи, присаживайся к столу, — хозяин кабинета протянул руку, сухую, крепкую ладонь, пожал руку Потапчука, и тот поежился от боли, пронзившей щеку. — Что это с тобой, Федор Филиппович?
— Зуб, будь он неладен, — сказал Потапчук, прикладывая ладонь к щеке.
— За здоровьем не следишь, профилактикой надо заниматься. Одними прогулками по набережной в выходные дни здоровье не поправишь.
— Да, вот теперь понимаю, что надо. Неожиданно как-то все случилось.
— Садись и слушай меня внимательно.
Потапчук сел, а генерал-лейтенант Огурцов принялся расхаживать у него за спиной.
— Тут такое дело, Федор Филиппович, я бы сказал, неприятное. Но мы с тобой профессионалы, как два хирурга. Как тебе сравненьице?
— Да-да, как хирурги, мясники чертовы, — утвердительно кивнув, произнес Потапчук и подпер правую щеку ладонью.
— А хирург, сам понимаешь, делает всякие операции, и приятного в его работе мало. Так что ты меня извини, но дерьмо разгребать вновь придется тебе.
Потапчук обернулся и посмотрел на генерал-лейтенанта. Тот стоял, прижавшись спиной к шкафу. В кабинете было довольно жарко, и Потапчук понял: его шеф пытается хоть немного охладить шею и спину.
— Вот какое дело. У меня на столе лежат бумаги, думаю, ты уже в курсе. Два журналиста, один наш, один французский, убиты при невыясненных обстоятельствах. Были бы они какими-нибудь барыгами, бог с ними, пусть себе уголовный розыск занимается, это их специфика, их материал, а тут дело пахнет политическим скандалом. Уже из посольства французского звонили, требуют разъяснений. Я, конечно, как мог успокоил их, сказал, что лучшие из лучших будут работать на этом деле, результат не замедлит себя ждать. Я ведь прав? — генерал-лейтенант обошел письменный стол, оказался напротив Потапчука, оперся руками на спинку стула и пристально посмотрел в лицо Федору Филипповичу.
— Я предполагал, что вы меня за этим и вызываете.
— У меня настоящих профессионалов лишь по пальцам можно перечесть, только на старую гвардию положиться могу. На таких, как мы с вами, все и держится. Молодая смена, конечно, растет, но у них ни опыта, ни связей, да и разворотливость не та. По-моему, — генерал быстро подошел к своему письменному столу, взял маленький листок бумаги, — Макс Фурье во Франции фигура известная. Он там какие-то программы ведет на государственном канале, что-то вроде нашего Доренко. Только он о ночной жизни больших городов программы снимает и теперь — о торговцах смертью. Ты, наверное, не помнишь уже, как шесть лет назад он о московских проститутках, бомжах, казино программу выдал, короче, оклеветал нашу страну, как мог.
— Я помню эту программу, — Потапчук оторвал ладонь от щеки, но тут же поморщился.
— Вот видишь, ты со мной согласен, — хотя генерал Потапчук со своим шефом согласен не был, но тот не дал ему вставить реплику, а выражение его лица, скорбное и пренебрежительное, воспринял как подтверждение своим словам. — В принципе, он, как и все журналисты, нам много нервов попортил, и плакать на его похоронах я не собираюсь, но плохо то, что убили его в Москве, на нашей территории. Завалили бы его где-нибудь в Гондурасе, или Ливии, или в Западной Германии, то и бог с ним. А так в Москве, в столице нашей родины… Дело приняло политический оборот, и директор сегодня на утренней встрече стучал карандашиком по столу, стучал так, что и у меня мурашки по спине побежали.
— Знаю, как это он делает, — генерал Потапчук вымученно улыбнулся.
И тут же ему захотелось сказать, что никакой Западной Германии давным-давно не существует, и не так страшен директор, как живописует генерал-майор Огурцов. Но Потапчук сдержался: к чему дразнить гусей? Да и повод был не тот, чтобы начать артачиться и качать свои права.
— А из этого, Федор Филиппович, делаем такой вывод, — генерал-лейтенант Огурцов опять подбежал к своему письменному столу, схватил лист бумаги и показал его Потапчуку. — Вот приказ, что ФСБ берет это дело к производству. Руководителем назначаетесь вы, генерал Потапчук. Я уже приказ подписал. Так что бери своих полковников, майоров и всех, кто вам понадобится. Требуется результат, причем желательно быстрый и хороший.
— Какой здесь может быть хороший результат? Оживить француза я не смогу.
— Преступники должны быть задержаны. Думаю, нам придется отчитываться по этому делу, и отчитываться серьезно. О нем не забудут, тем более что журналисты в нем увязаны, а журналисты — народ такой… Да что я тебе говорю, генерал, ты сам имеешь огромный опыт и знаешь, что это за племя. Им ведь только повод дай, так они дерьмом зальют с ног до головы и при этом будут улыбаться.
«И при этом будут правы», — подумал Потапчук, но мысль вслух не высказал.
— Не люблю я журналистов. А что пресс-конференции приходится давать, так это меня обязали. Ты же сам, Федор Филиппович, понимаешь, без этого в нашем деле ни туда ни сюда. Мы уже страна демократическая, либеральные ценности поддерживаем, будь они неладны. Помнишь, как славно было работать, когда мы были молодыми? Полная секретность, хорошо, как у бога за пазухой! Никто на тебя косо не глянет, не напишет. А что из-за бугра клевещут, так за это им деньги платят.
— Да уж, помню, — выдохнул Потапчук, понимая, что разговор закончен, тем более что уже есть приказ.
— Так что, дорогой Федор Филиппович, болеть тебе некогда, но зубы подлечи. Решай свои дела, как можешь. Зачем нам беззубый генерал? Несолидно. Вот я к стоматологу два раза в год хожу.
Потапчук сокрушенно покивал головой. Ему очень хотелось выругаться, грязно, как ругаются сантехники или водители грузовика, но он знал, никакая ругань ничего не изменит, а лишь усугубит и без того незавидное положение. Единственным утешением во всей этой ситуации была мысль, которая возникла у генерала: может быть, весь мир для него мрачен по той простой причине, что у него болит зуб, болит, не переставая. А как только он съездит к своему давнему другу, Якову Наумовичу, тогда глаза откроются, пелена спадет, и он все увидит, услышит, поймет, все станет отчетливым и прозрачным, мир станет лучше. Его раздражал пестрый галстук замдиректора ФСБ, его раздражал запах, голос заместителя.
Его сегодня раздражало все, а больше всего то, что преступлению, с которым ему придется возиться, придана политическая окраска. Сейчас это дело окажется на контроле многочисленных зарубежных журналистов, свои тоже не отстанут, станут писать в каждой газете, в каждом журнале. Да и по телевизору будут показывать его сотрудников, дом, квартиру и, естественно, портреты Макса Фурье и Сержа Максимова, которые пострадали, как скажут их коллеги, в борьбе за правое дело, хотя почему они погибли — еще очень большая загадка.
— Что это ты задумался, прямо поник весь? — услышал он голос генерал-лейтенанта Огурцова.
Потапчук тут же поднялся со своего места, передернул плечами:
— Постараюсь.
— Уж постарайся. Всем, чем нужно, поможем. Если будут проблемы, обращайся в любое время. Но ты, я знаю, по пустякам беспокоить не станешь, потому что ты, как и я, старая гвардия, не то что нынешнее племя.
— Да уж, — произнес в сердцах генерал Потапчук, покидая кабинет генерал-лейтенанта Огурцова.
Он пока еще имел зазор времени, в ФСБ один только Потапчук знал о том, что Фурье ездил в Витебск вместе с Омаром.
«Но что это может дать? Глеб постоянно вертелся рядом с афганцем и французом… Смог услышать что-то, чему не придал тогда значения…»
Федор Филиппович пришел к себе и тотчас собрал совещание, отдал нужные распоряжения, подписал приказы. Созвонился с руководителем МУРа, прокуратурой, поставил в известность всех, кого надо, о том, что это дело будет расследоваться, параллельно с МУРом и прокуратурой, Федеральной службой безопасности. Эта новость неприятно поразила как МУРовцев, так и прокуратуру. Как правило, у семи нянек дитя без глаза, а если подключается ФСБ, то дело принимает серьезные обороты: придется рыть землю по-настоящему, на самотек работу не пустишь, придется каждый день отчитываться, как можно скорее класть на стол результаты.
После совещания Потапчук попросил своего помощника принести ему прессу, всю, которая вышла утром, и найти материалы, в которых журналисты высказывались по делу Макса Фурье.
Зуб продолжал болеть. Ни таблетки, ни сигареты на него не оказывали ровным счетом никакого влияния. Генералу даже показалось, что за работой он привык к боли и может с ней смириться.
Но, когда кабинет опустел, когда последние приказы и распоряжения были прочитаны и подписаны, генерал понял: это была лишь иллюзия, короткая передышка. Зуб разболелся с новой силой, то ли потому, что на него попал чай, холодный воздух, то ли он уже болит от приоткрытого рта. Генерал Потапчук плотно сжал губы.
В половине второго, страдая и мучаясь, он вызвал машину, спустился к служебному входу. Осторожно забрался, чтобы не потревожить зуб, на заднее сиденье и назвал водителю адрес.
— Что, Федор Филиппович, продолжает болеть? А вы не пробовали кусочек сала приложить?
— Чего? — хмыкнул Потапчук.
— Старого сала, товарищ генерал. Говорят, очень действенный способ. Я вам еще утром хотел сказать. Моя бабка, когда у нее болели зубы, привязывала к запястью разрезанный надвое зуб чеснока. Но привязывать надо, Федор Филиппович, не с той стороны, где зуб болит, а с противоположной.
— Что ты там рассказываешь про чеснок и про сало?
— Это старинные способы.
— Ты знаешь самый лучший старинный способ избавиться от головной боли?
— Выпить сто граммов.
— Нет, — сказал Потапчук и поморщился, — самый лучший способ — это отрубить голову, тогда она перестает болеть. Думаю, что и с зубом надо поступить так же.
— В смысле, дернуть? — лавируя в потоке машин, переспросил водитель.
— Думаю, да. И мне это сейчас предстоит.
— Я вам сочувствую. Когда мне вырывают зуб, то я старею сразу лет на десять, — водитель произнес эту фразу и осекся. Генерал Потапчук ему казался древним стариком, таким же древним, как «Царь-колокол» и «Царь-пушка». Генерал Потапчук и был одним из самых старых сотрудников аппарата ФСБ, человеком, о котором ходили легенды.
Молодым показывали генерала Потапчука и говорили:
— Вот, смотрите, генерал Потапчук идет.
Выпускники академии с восхищением смотрели на подтянутого и все еще моложавого генерала, который быстро шел по коридору, как правило опустив вниз голову.
«Что, это тот самый?»
«Да, тот самый Потапчук.»
Самому же Федору Филипповичу иногда казалось, что он лично был знаком и с Дзержинским, и со всеми прочими руководителями МГБ, КГБ, ФСБ.
«Как долго я работаю? — иногда думал генерал, — Давно пора покинуть эти стены и ходить сюда лишь на торжественные собрания.»
Но начальство за Потапчука держалось обеими руками, таких практиков, как он, в ФСБ оставалось немного.
— Сюда, Федор Филиппович? — спросил водитель, останавливаясь перед двухэтажным зданием без всяких вывесок.
На стоянке было припарковано несколько шикарных тачек, одна из которых — Потапчук определил это мгновенно — принадлежала чешскому посольству, и, судя по номеру, ездил на ней консул Чехии.
Потапчук не спеша, боясь потревожить больной зуб, выбрался из машины с антеннами спецсвязи. Обернувшись, он взглянул на свое отражение в тонированном стекле и, неудовлетворенный увиденным, направился к частной стоматологической клинике Кучера. Генерал открыл тяжелую дверь. Звякнул колокольчик.
«Прямо как в баре», — подумал Потапчук и тут же увидел приятную миловидную девушку, сидевшую за стойкой перед телефоном.
— Добрый день, — произнес он.
— Здравствуйте, — ответила девушка мягким, вкрадчивым голосом. От тона, каким было сказано простенькое приветствие, Потапчуку стало легче, ему даже показалось, что зуб уже не болит. — Вы, конечно же, к Якову Наумовичу?
— Так точно, — ответил генерал и под взглядом женщины тотчас принял бравый вид, забыв о зубной боли.
— Извините, пожалуйста, на какое время вам был назначен прием?
— После обеда, — коротко сообщил генерал Потапчук.
— Сейчас, секундочку, — женщина вышла из-за стойки и направилась во второй кабинет. В коридоре напротив двери сидел мужчина в роскошном сером костюме, в темно-синем галстуке, постриженный, надушенный.
«У него, судя по всему, зуб не болит», — подумал Потапчук, глядя на довольное лицо.
Девушка, невероятно стройная, на высоких тоненьких каблуках, процокав, скрылась за дверью. В кабинете послышался специфический смех, который спутать ни с чем было невозможно. Тотчас из-за двери, опережая свою помощницу — администратора маленькой клиники, появился Яков Наумович Кучер. У него на руках были перчатки. Бледно-зеленый халат, такая же шапочка.
— Ну вот, наконец-то, — разведя руки в стороны, воскликнул Яков Наумович и весело улыбнулся. Яков Наумович Кучер был похож на популярного телеведущего Владимира Познера.
«Словно братья родные», — подумал генерал Потапчук, раскрывая объятия старинному приятелю.
Тот похлопал генерала по плечам, заглянул в измученные зубной болью глаза.
— Уже припухла, — небрежно заметил стоматолог, прикасаясь кончиками пальцев к щеке. — Федор Филиппович, великодушно прошу меня извинить, но у меня на четверть часа работы. Как только закончу, тотчас займусь тобой. Ты уж меня не обессудь, старого, я и сам забыл, на какое время тебе назначил. Тут так сбежалось, ты же знаешь сам, терпеть зубную боль никто не любит. Мне осталось всего чуть-чуть, парочку деталей.
Тут же генерал увидел мужчину в добротном элегантном костюме. Яков Наумович учтиво ему кивнул и поприветствовал:
— А вы, пожалуйста, пройдите в третий кабинет. — Яков Наумович, приоткрыв дверь третьего кабинета, обратился с порога в глубину: — Будь добра, тщательный осмотр, а потом мне расскажешь. Я займусь господином.
— Вы от Павла Николаевича, я правильно понял? Ну, я так и знал. Проходите. Прошу прощения за небольшую задержку.
Генерал хотел сесть в кресло, но Яков Наумович Кучер взял его под локоть:
— Пойдем, Федор Филиппович, ко мне, пока я буду работать, мы с тобой немного поговорим, не виделись ведь целую вечность.
— У вас здесь хорошо.
— Стараемся соответствовать европейским стандартам, — хохотнул стоматолог, показывая свои замечательные зубы. — Вот сюда, здесь тебе будет удобнее. Присаживайся, Федор Филиппович.
В кресле полулежала женщина. Генерал Потапчук с удовольствием наблюдал, как работает его приятель. Каждое движение Якова Наумовича было точным, выверенным, безошибочным. При этом, разговаривая, он время от времени бросал на Потапчука короткие ободрительные взгляды. Что делает Яков Наумович, генерал Потапчук понять не мог, как ни старался.
— Ну вот, как родной. Проверьте языком, нигде ничего не цепляет, не царапает?
— Нет, что вы, замечательно!
— Посмотрите, — Яков Наумович взял со столика зеркальце и подал женщине.
Та с полминуты смотрела на свои зубы, лицо ее было удивленным. Затем подняла глаза и посмотрела на врача, улыбнулась и опять посмотрела на свои зубы.
— Ну как? — спросил стоматолог.
— А собственно, Яков Наумович, что же вы такое сделали? У меня такое ощущение, будто все осталось, как было.
— Это самое лучшее ощущение, голубушка, — сказал Яков Наумович, развязывая накидку и снимая ее с полулежащей женщины. Он галантно помог ей слезть с кресла, учтиво поклонился: — Пройдите к администратору, к стоечке, там вам все объяснят. И если что-нибудь будет беспокоить, хотя, я уверен, года два с прежними проблемами вы не столкнетесь, приходите.
Женщина посмотрела на Потапчука. Ее лицо было немного измученным, но скорее всего не работой Якова Наумовича, а собственным ожиданием, напряжением и всеми теми чувствами, которые испытывает нормальный человек, попав в кабинет к стоматологу.
— Ну, Федор Филиппович, располагайтесь, принимайте удобную позу. Я вижу, вы чем-то сильно озабочены кроме больного зуба?
— О да, — выдохнул генерал Потапчук, устраиваясь поудобнее в кресле.
Яков Наумович чисто парикмахерским жестом набросил накидку, аккуратно завязал сзади.
— Ну, хвалитесь. Так широко рот можете не открывать.
Сунув в рот зеркальце и прикасаясь уже вымытыми руками к щеке, Яков Наумович издал стон.
— Что, мои дела так плохи?
— Да уж, — неудовлетворенно, как показалось Потапчуку, ответил Яков Наумович.
— Безнадежный зуб, Яков Наумович?
— Нет, не все так сразу. Давайте посмотрим, изучим ситуацию, все взвесим, проанализируем, а тогда уж будем делать выводы, станем рассуждать. Где-то у меня есть снимочек ваших зубок, сейчас, секунду, — Яков Наумович вышел из кабинета, через плечо бросил: — Федор Филиппович, рот можно закрыть. Что вы сидите, как птенец в гнезде?
После этой нехитрой шутки Потапчуку на душе стало немного легче, и он понял, дела его хоть и плохи, но не безнадежны.
Через пару минут появился Яков Наумович с рентгеновскими снимками в пальцах. Долго рассматривал их на свет, поворачивая голову то вправо, то влево. Сменил очки.
— О боже, — произнес он, пренебрежительно взглянув на Потапчука.
— Что вы меня пугаете? Вы же знаете, Яков Наумович, я человек терпеливый.
— Да уж, потерпеть вам придется. Эх, лет двадцать назад, Федор Филиппович, когда мы с вами были молодыми, когда на женщин заглядывались, я бы вас помучил, причем от души. А сейчас времена другие, двадцать первый век на дворе, третье тысячелетие, я стараюсь соответствовать всем мировым тенденциям, так что терпеть вам не придется. Сейчас сделаем укольчик, и я лично займусь вашим зубом.
— Будем удалять?
— Что вы так вот сразу — удалять? Я же вам ничего пока не сказал, сказал, что займусь им.
— А как у вас вообще дела? — спросил Потапчук. Зуб у него перестал болеть напрочь, не ныл, не дергал, в общем, абсолютно не беспокоил.
— Ну как у меня, старого еврея, могут обстоять дела? Вот застрял в этой стране, дети звонят…
— Где они? — осведомился Потапчук.
— А то вы, Федор Филиппович, не знаете! Небось прежде чем ехать, личное дело Якова Наумовича Кучера посмотрели от первой странички до последней? Я-то вас знаю.
— Никуда я не смотрел!
— И правильно, я сам все расскажу. Давайте разговор построим по-другому: вы будете молчать, а говорить будет Яков Наумович, Вы все-таки у меня в кабинете, а не я у вас.
— Вас это радует?
— Не то чтобы радует, но и не огорчает. Все, открываем рот. — В руках стоматолога сверкнул маленький шприц. — Сейчас немножко будет больно, совсем немножко.
Яков Наумович сделал укол, от которого генерал поморщился, бросил шприц в корзину для мусора и посмотрел в глаза Потапчуку:
— Теперь минут пять можем пообщаться. Говорите, спрашивайте, отвечу на все интересующие вас вопросы.
— Вы шутник.
— Да уж, без шуток в наше время не проживешь. Такие дела, что приходится лишь отшучиваться да отбрехиваться.
— Давно на родине были, Яков Наумович?
— О, давненько, уже одиннадцать лет как не посещал родной Витебск. Одиннадцать лет, а как один миг! Правда, родственники наезжают, Фима был месяца четыре назад. Повезло же мне с ним.
— Кто такой Фима?
— Есть у меня родственничек из Витебска, он и сейчас там живет. Был талантлив, как его дед. Представляете, Федор Филиппович, в четыре года он начал читать и в четыре года играть на скрипке. А в девять он уже стал лауреатом какого-то важного конкурса.
Потапчук кивал. Он уже не чувствовал щеки, язык стал непослушным, немного одеревенел.
— Ну как, действует? — улыбнулся Яков Наумович, словно видел своего пациента насквозь.
— Да, действует, — выговорил Федор Филиппович и тут же задал вопрос: — И что ваш Фима представляет собой сейчас?
— Конченый человек. Его можно было бы списать, вычеркнуть из списка родственников. Но вы же знаете, моя Фаина такая сердобольная, ну такая сердобольная, она даже котикам в подвал каждое утро выносит еду.
— О да, помню, — произнес Потапчук, словно он следил за супругой Якова Наумовича и прекрасно был осведомлен о том, чем занимается пожилая женщина. — А вы как, Яков Наумович?
— В чем — как?
— Судя по всему, не бедствуете? — с трудом выговаривая слова, произнес Потапчук.
— Ой, что вы, Федор Филиппович, хотелось бы жить еще лучше, но хвала Всевышнему, что и так живы-здоровы, дети устроены, внуки растут, хорошо учатся, играют, поют. А я живу себе понемножку. Хотите анекдот, старинный-старинный? Наверное, даже если сложить наши годы вместе, этот анекдот будет постарше.
Потапчук утвердительно кивнул, он любил слушать анекдоты Якова Наумовича, они всегда были с глубоким смыслом, а рассказывал их стоматолог не просто хорошо, а великолепно,
— Так вот, слушайте, — хлопнув по колену своего пациента Яков Наумович воздел руки к небесам, глядя в глаза генералу, начал говорить: — Два еврея — Лева и Мойша — собрались, встретились. Начали разговоры разговаривать. Лева и говорит:
— Слушай, Мойша, если бы ты был царем, ты хорошо бы жил?
— О, да, конечно, — отвечает Лева.
— А я, если бы был царем, — говорит Мойша, — жил бы еще лучше.
— Лучше, чем кто?
— Лучше, чем ты.
— А это почему?
— Какой ты глупый, — восклицает Лева, — я бы жил лучше тебя потому…
— Почему?
— …потому что я бы еще немножко шил!
Потапчук рассмеялся.
— Ну вот так и я. Немножко шью, поэтому и живу неплохо. Ну-ка, открывайте, Федор Филиппович, рот, займемся вашим зубом.
Полчаса, а может и больше, Федор Филиппович сидел с закрытыми глазами. Он слышал лишь вздохи, восклицания стоматолога, звяканье инструментов. Он абсолютно не чувствовал боли. Работал Яков Наумович нежно, как будто сидел в кресле не видавший виды мужчина, прошедший огонь и воду и медные трубы, а ребенок лет четырех-пяти.
Пожилой еврей разговаривал с больным зубом, ругался, сердился на него, иногда хвалил зуб и самого себя, вспоминал своих родственников и супругу Фаину, вспоминал молодость, жалуясь на то, что и глаза, и руки у него уже не те, что скоро он станет никому не нужным.
Генералу хотелось перечить, сказать, что ты, Яков Наумович, пока жив, будешь иметь кусок хлеба с маслом, а сверху толстый слой черной или красной икры. Однако, измученный длительной зубной болью, он сейчас находился в каком-то странном блаженном состоянии. У него ничего не болело, при этом он почти спал, точнее сказать, дремал, прислушиваясь к словам Якова Наумовича.
— Ну как, не болит?
— Нет, не болит.
— Хотел обрадовать вас, Федор Филиппович. Хотел сказать, что вы теперь опять года четыре у меня не появитесь, но так не скажу, а скажу совсем по-другому: придете вы ко мне через пару дней, но приходите не сюда, а ко мне домой. В клинике у меня каждая минута на месяц вперед расписана. Вы меня слышите?
— Да, слышу.
— Вот придете, и Яков Наумович за двадцать минут закончит свою работу, и вы сможете этим зубом даже орехи щелкать. Это шутка насчет орехов, конечно, хотя зуб я вам спас. Так что с вас… — Яков Наумович глянул в идеально белый потолок и крякнул.
— Просите все, что хотите, — ощупывая зуб, произнес генерал Потапчук, стараясь попасть в тон Якову Наумовичу.
— Что с вас возьмешь? Ничего у вас нет, кроме пыльных папок, пистолета да еще погон с большими звездами. Ничего с вас, Федор Филиппович, Яков Наумович Кучер брать не станет, а вот выпьет коньяка армянского или грузинского, какого пожелаете, с преогромным удовольствием. Фаина будет рада. Я когда ей сказал, что вы ко мне придете, она улыбнулась и говорит: «Тащи Федора Филипповича к нам на обед». Я ей объясняю, что никак не получится, если зуб удалю, то генералу будет не до еды, а если залечу, то два часа к столу ему не садиться. А она, глупая, говорит: «Пусть просто так зайдет, я с ним хочу поговорить. Давно ведь не виделись».
— Обязательно зайду.
— Ну, значит, договорились. Через пару дней я жду вас у себя. Дом рядышком, вы с машиной. Все хотел спросить, почему-то все генералы КГБ…
— ФСБ, — поправил стоматолога Потапчук.
— Ну ладно, пусть ФСБ… на черных «Волгах» ездят. Это что, у вас там в КГБ мода такая?
— Как вы сказали?
— В ФСБ, — воскликнул Яков Наумович Кучер, воздевая руки в блестящих тонких перчатках к потолку. — Твердого пока ничего не грызите, может быть, чуть-чуть и побеспокоит вас, хотя я не думаю. Я бы мог вам сделать этот зуб прямо сейчас, но я хочу, чтобы он остался живым, с одним нервом, но пусть поживет.
— Пусть поживет, — согласился генерал Потапчук.
Яков Наумович Кучер хотел помочь генералу встать с кресла, но Потапчук замахал руками:
— Бросьте, Яков Наумович, я же не дама, сам могу подняться.
Они обнялись на прощание, и Яков Наумович проводил тенерала до самой двери.
На службу Потапчук возвращался в приподнятом настроении.
— Что, хороший врач? — спросил водитель, когда генерал, улыбаясь, располагался на заднем сиденье.
— Наверное, самый лучший.
— Молодой, старый, мужчина, женщина?
— Отгадай.
— Думаю, мужчина.
— Правильно думаешь.
— Думаю, немолодой.
— Правильно думаешь.
— Я даже его фамилию знаю — Кучер.
— Ты, наверное, подходил к стойке и расспросил симпатичную девушку?
— Так точно, — ответил водитель и улыбнулся во весь рот, показав два ряда крепких белых зубов.
Генерал Потапчук в ответ рассмеялся.
— Вы, Федор Филиппович, даже помолодели лет на десять.
— Да уж, помолодеешь, куда денешься. Когда зуб перестает болеть, сразу на мир другими глазами смотреть начинаешь.
— В контору едем?
— В контору, в контору.
ГЛАВА 13
В Москву из Минска после очередного уточнения позиций с Бартловым и его хозяевами военный атташе Ирака генерал Мансур возвращался на машине. Замминистра старался изо всех сил, деньги отрабатывал. Дело сдвинулось с мертвой точки. Комплекс согласились отдать за половину стоимости. Следовало спешить. Конечно, перемещаться на автомобиле не так быстро, нежели на самолете или поездом, но зато надежнее. Пассажир самолета оставляет свою фамилию и номер паспорта в списках улетающих, на поезде кто-нибудь непременно запомнит твое лицо — то ли соседи по вагону, то ли проводница. Автомобиль же позволяет перемещаться незамеченным. Даже если шофер нарушит правила и его номер запишет гаишник, кто докажет, что военный атташе сидел в это время в салоне?
Когда водитель Мансура уже хотел сворачивать у Смоленска на обходную дорогу, его хозяин скомандовал:
— В город.
В каждом крупном городе существует своеобразная диспетчерская для бандитов. Обычно это ресторан или клуб, где сидят с «мобильниками» в карманах пара-тройка уголовников. Сюда приносят деньги, взятые у коммерсантов за крышу, здесь назначают встречи. Сидящие в курсе всего, что происходит в городе.
Именно у такого ресторана и остановилась «ауди» с затененными стеклами. Мансур не стал сам выходить из машины, послал охранника:
— Найдешь блатных, приведи кого-нибудь из них ко мне.
Охранник отправился выполнять задание хозяина. Он зашел в фойе ресторана. В глубине полупустого зала, за столиком, у самого окна сидели пятеро парней в кожаных куртках. Не очень вязались с ними бутылки «кока-колы» и ваза с печеньем. Парни лениво перебрасывались в карты, играли не на деньги, просто так, а потому без особого запала. Время было еще раннее, оживление начиналось ближе к вечеру.
Охранник решительно прошел к столику, тронул ближайшего к нему парня за плечо. Пять пар серых невыразительных глаз уставились на него.
— Мужик, ты че?
— Мой босс хочет видеть одного из вас, — бесцветным голосом произнес охранник.
Зависла секундная пауза. Блатные переглянулись. Выглядел охранник внушительно, в смысле комплекции и в смысле одежды, но подобных наглых приглашений блатным раньше никогда не поступало.
— Если ему надо, пусть сам сюда двигает поршнями, а мы еще подумаем,
Пальцы охранника сжали плечо парню. Глядя со стороны, ничего нельзя было заметить, как лежала рука, так и лежит. Но блатной взвыл от боли, попытался высвободиться. Охранник вдавил его в кресло.
— Где твой босс? — блатной чувствовал, еще немного, и хрустнут кости под пальцами невесть откуда взявшегося силача.
— В машине, у входа.
— Солидная тачка, — державший в руке огромный веер карт блатной с уважением посмотрел в окно на «ауди».
Мансур не сомневался в своем охраннике, тот доставил блатного прямо к машине.
— Садись, — приказал он, заталкивая уголовника в раскрытую дверку.
Блатной смотрел на Мансура и не мог сообразить, кто перед ним. На уголовника военный атташе не походил, на бизнесмена тоже. В нем чувствовалась военная выправка и светский лоск одновременно.
— Где сейчас Хвощ? — назвал одного из местных авторитетов Мансур.
— Не знаю, — сказал было блатной, но тут же вспомнил об охраннике, маячившем за тонированным стеклом. — В бане.
— Поехали.
Мансуру пришлось потесниться. — Теперь заднее сиденье машины они делили на троих. Блатной показывал дорогу, обходились без названий улиц. «Ауди» остановилась перед черным входом в водноспортивный комплекс. Охрана Хвоща, двинувшаяся было к машине, остановилась, признав в блатном своего.
— Кто тебя притарабанил?
— Хрен его знает! Просил Хвощу передать, что Мансур приехал.
— Стой здесь, — охранник авторитета отправился в баню.
В бассейне плескались три голых девицы, Хвощ лежал в парилке на верхней полке и постанывал от удовольствия. Он лишь скосил глаза на вошедшего охранника.
— Дверь закрой, кайф выходит.
— Какой-то Мансур приехал, хочет перетереть.
Хвощ мгновенно сел, протер осоловевшие глаза.
— Мансур? Ты его видел?
— Нет, в тачке сидит, стекла темные.
— Веди сюда.
Свою охрану военный атташе оставил в машине. Он прошел длинными гулкими коридорами и оказался в выложенном голубым кафелем зальчике, две трети площади которого занимал бассейн, Хвощ уже загнал проституток в парилку и прикрыл двери. Сегодняшний визит был для него неожиданностью. Он иногда встречался с Мансуром в Москве, тот обеспечивал ему транзит наркотиков из Афганистана. Небо должно было упасть на землю, чтобы высокопоставленный дипломат сам приехал в Смоленск и отыскал воровского авторитета в бане.
Немного близорукому Масуру издали показалось, что тело Хвоща сплошь покрывают синяки, но когда авторитет подошел к нему, стало ясно, это татуировки.
— Какие люди! Садись, Мансур, — предложил Хвощ и тут же потянулся к запотевшей бутылке водки.
— Не гони, дело есть.
Из двери парилки по пояс высунулась голая девушка:
— Мы там задохнемся!
— Назад! — грозно, как собаке, скомандовал Хвощ, и девушка тут же исчезла. — Я помню, Мансур, что многое по жизни тебе должен.
— Нужно в Москве одно дельце провернуть, так, чтобы никто об этом не узнал.
— Если в моих силах…
— В твоих, иначе я бы к тебе не приехал.
Странно смотрелись двое мужчин на краю бассейна. Один голый, лишь в накинутой на плечи простыне, другой в стильном костюме, при галстуке.
— Ты бы, Мансур, разделся. Попарились бы.
Военный атташе никак не отреагировал на приглашение. Запустил руку в карман, подал Хвощу визитку:
— На все про все у тебя неделя. Этого человека нужно замочить, причем надежно.
Хвощ разглядывал картонку: «Яков Наумович Кучер. Стоматолог». На визитке значились два адреса — клиники и квартиры.
— Раз надо, сделаем, — осклабился Хвощ.
— Это еще не все. В клинике и в его квартире надо уничтожить все карточки пациентов и рентгеновские снимки. Лучше всего вывезти их на машине и сжечь где-нибудь в лесу.
— Клиника хоть большая?
— Маленькая частная клиника на три кабинета.
— У меня есть неделя времени? — уточнил Хвощ.
— Это верхний предел.
— Мужик он здоровый?
— Пожилой, лет шестьдесят пять. Дома у него кое-какие деньги могут быть, золотишко. Пусть барахло твои ребята берут, не жалея, но ни одной карточки, ни одного снимка уцелеть не должно. Мне гастролеры для того нужны, чтобы в Москве никто не узнал, кто замочил стоматолога.
— Не вопрос.
— Ребятам заплатишь из моих денег, — Мансур сунул голому Хвощу в руку тонкую пачку долларов. — И смотри, если подставишься, не жить тебе!
— Сукой буду, не подведу! — пообещал Хвощ.
— Поразвлекся бы, но спешу, — военный атташе в сопровождении охраны Хвоща покинул баню.
Смоленский авторитет опустился на деревянное кресло. Сидел, задумчиво глядя то на деньги — пять тысяч долларов, то на визитку. Затем спохватился, открыл дверь в парилку. Девушки сидели на полу раскрасневшиеся, потные, ошпаренные как кипятком. При появлении Хвоща они попытались изобразить улыбки.
— Можете выходить.
Проститутки попрыгали в бассейн. Немного остынув, две девушки подплыли к бортику, попытались приласкать задумчивого Хвоща.
— Пошли вы к черту!
Авторитет наскоро принял душ и уехал в город на машине. Блатного, служившего Мансуру проводником, бросил в одиночестве, пусть добирается как знает.
Да, жизнь полна случайностей и неожиданностей. Но только на первый взгляд они кажутся нелепыми совпадениями. Стоит присмотреться к ним поближе, понимаешь — по-другому и быть не может.
И генерал ФСБ Потапчук, и террорист Омар шах-Фаруз, и даже военный атташе Ирака Мансур пользовались в Москве услугами одного и того же дантиста. Хороших специалистов во всех отраслях человеческой деятельности не так уж и много, и они бесценны. Яков Наумович Кучер до выхода на пенсию работал в поликлинике КГБ, делал зубы и генералам, и полковникам, и иностранцам, перебежавшим под крыло советской спецслужбы. При этом, как всякий советский дантист, вел и свою полулегальную практику. Не растерял он прежнюю клиентуру и после того, как вышел на пенсию и организовал собственное дело. Те же люди ходили к нему и платили теперь, не таясь, в открытую.
Так уж случилось, что Яков Наумович Кучер был единственным, кто мог бы опознать останки Омара шах-Фаруза. Свою руку, свою работу он узнал бы и через двадцать лет. Яков Наумович любил рассказывать пациентам поучительную историю об узнике Бухенвальда, немецком еврее-дантисте, обслуживавшем все высшее руководство концлагеря.
После войны и через двадцать, и через тридцать лет он опознавал своих бывших мучителей, когда западные разведки отлавливали состарившихся эсэсовцев в Южной Америке. И когда следователи, сомневались, стоит ли оплачивать перелет дантиста над половиной земного шара, все-таки тридцать лет прошло, зубы могли и выпасть, тот горделиво говорил: «Если это я делал мост, значит, он стоит до сих пор». Военных преступников не спасали пластические операции, новые документы. Дантист всегда узнавал свою работу.
Поразмыслив, Хвощ решил, что сам должен заняться поручением Мансура, от благосклонности которого зависело его благополучие. В другое время он отыскал бы пару отморозков, поручил бы им замочить дантиста, но авторитет проникся важностью момента. Он сам отобрал преданных людей, верных ему не только за деньги, но обязанных по жизни, и на неприметных старых «Жигулях» отправился в Москву.
***
Чем глубже генерал ФСБ Федор Филиппович Потапчук занимался убийством Макса Фурье и Сергея Максимова, тем больше у него возникало вопросов. На его столе стопка бумаг по этому делу росла с каждым часом. Бумаги уже не вмещались в одной папке, пришлось завести вторую.
Утро генерала Потапчука начиналось с просмотра газет и программ телевидения. Во всей прессе помощники отчеркивали желтым и красным маркером все, что касалось убийства Макса Фурье. А материалов становилось все больше и больше. Журналистская братия, почувствовав горячий материал, сообразив, что интерес к нему будет не только у отечественного читателя, но и у зарубежного, набросилась на печальное событие, как голодный пес набрасывается на кость. И интервью с сослуживцами, с сотрудниками французского телеканала, с поклонниками, с детьми, с женой покойного Макса Фурье — все эти материалы свалились, как снежная лавина на голову Потапчука. Потапчук прекрасно понимал, как работает пресса, и на журналистов не был в обиде.
«У меня своя работа, а у пишущей братии — своя. Я зарабатываю деньги тем, что ловлю преступников, раскрываю заговоры, а журналисты тем, что выдумывают самые невероятные версии.»
Один из владельцев ночного клуба, естественно парижского, рассказал очень много трогательного о своем завсегдатае Максе Фурье. Тепло поведал о его сексуальной ориентации, естественно нетрадиционной, и о том, какой он добрый, сколько у него поклонников не только во Франции, но и по всему миру, какой он был замечательный человек.
В одиннадцать дня заместитель директора ФСБ вызывал к себе на доклад генерала Потапчука и, строго глядя на него, подражая директору ФСБ, постукивая карандашом по столу, придирчиво расспрашивал, куда продвинулось следствие и над какими версиями работает группа, которую возглавил генерал Потапчук, Федор Филиппович рассказывал, объяснял, иногда пускался в довольно пространные рассуждения, но не опирался на журналистские версии, а исходил лишь из тех фактических материалов, которыми располагало следствие.
Результаты на сегодняшний день были не очень. Да, получены заключения баллистической экспертизы, патологоанатомического вскрытия, допрошены соседи, уборщица и ее дочь, сотрудники корпункта французского канала, друзья Сергея Максимова, но все это не приближало следственную группу к раскрытию преступления. В это время генерал-лейтенант хрустел суставами пальцев, постукивал карандашиком по столу и каждый раз напоминал, что это дело на контроле у директора ФСБ и он требует скорых результатов.
Естественно, у Потапчука, как опытного сотрудника ФСБ, были на руках козыри, но до поры до времени он их придерживал, умело прятал, не делился информацией с сотрудниками прокуратуры и уголовного розыска.
Информация была завязана на Глеба Сиверова, который был в Витебске в то же время, когда там находился Макс Фурье, когда там находились президенты трех восточнославянских государств, когда был уничтожен Омар шах-Фаруз. Другие заместители директора ФСБ о том, кто ликвидировал Омара, пока не знали. Это было личное поручение генералу Потапчуку от директора ФСБ, переданное ему через генерал-лейтенанта. Огласить эту информацию генерал Потапчук не имел права.
— Вы, Федор Филиппович, топчетесь на одном месте. Вам даны широкие полномочия, все это надо прекращать, — генерал-лейтенант показывал на стопку газет, точно такую, как на столе у генерала Потапчука. — Они нас сожрут, они нас обливают грязью в каждой самой захудалой газетенке. В каждом выпуске новостей я вижу портреты журналистов. С этим надо кончать!
— Не те времена, — вздыхал генерал Потапчук. — Лет двадцать назад проблемы бы не было, а сейчас мы ничего не можем сделать, и, на мой взгляд, с журналистами надо дружить.
— Я вижу, как с нами дружат, — кричал шеф Потапчука, — вижу очень хорошо! Вот, смотрите, — он хватал со стола газету, исчерканную маркером, с грозным шелестом разворачивал, показывал генералу, стуча по газете карандашом и пробивая дырки. — Видите, какая утечка информации! А вы говорите, с ними надо дружить.
— Мало денег платят нашему брату, — говорил Потапчук, — вот и продают информацию журналистам.
— А им что, много платят? Кто им платит? Это тоже следовало бы выяснить — и всех к ногтю!
«Какой же ты дурак, — думал Потапчук о своем шефе, — дурак полный. С журналистами лучше жить мирно, а потому дозированно сливать информацию, манипулируя общественным мнением. А ты собираешься на них наехать. Что ж, попробуй!»
И генерал-лейтенант попробовал. На пресс-конференции он активно внушал, обманывая журналистов, что следствие располагает очень серьезными материалами, важными уликами. Но пока в интересах того же следствия сотрудники ФСБ материалы следствия не разглашают, чтобы не навредить своей работе.
Возвращался из кабинета генерал-лейтенанта Огурцова Потапчук всегда раздраженным. Садился за стол, пил кофе или чай и читал бумаги. Проводил совещания со своими подчиненными, указывая на то, что надо заняться тем или иным направлением, активнее разрабатывать ту или иную версию.
Потапчук уже чувствовал спинным мозгом, что без Слепого ему это дело не разрулить и скорее всего завязано оно на политику, на торговлю оружием, на большие деньги. Но доказательства на сегодняшний момент у Потапчука отсутствовали, а привлекать к этому делу Глеба Сиверова у Потапчука не было желания, слишком много народу крутилось возле него: и прокуратура, и уголовный розыск, и ФСБ, и, вполне возможно, ГРУ тоже занимается этим делом, но пока лишь в плане аналитики. Еще, может быть, подключились люди из внешней разведки, так что бросать в кипящий котел своего лучшего человека, агента, который его почти никогда не подводил, генералу не хотелось.
Он прекрасно понимал, какие могут быть последствия и что Слепого в передряге и борьбе интересов разных спецслужб и разных силовых ведомств можно просто-напросто засветить, и тогда у генерала его невидимого ангела-хранителя не станет. А другого такого, как Глеб Сиверов, это Потапчук понимал, днем с огнем не сыщешь.
***
Шесть утра. Неяркое солнце, прохладный после дождя воздух, полупрозрачные облака, затягивающие небо. Москва медленно просыпалась. Еще не было толп, спешащих на работу людей, еще не начали нервно сигналить водители, пытаясь перестроиться из одного ряда в другой, еще не скопились пробки на перекрестках. Сотрудники ГИБДД еще были спокойны. Голуби расхаживали по тротуару. В общем, начинался обычный московский день…
Глеб бежал. До дома оставалось три квартала. Сиверов знал, что ровно через восемь с половиной минут при таком темпе, какой он держит сейчас, окажется во дворе, остановится, перейдет на шаг. Тело еще будет горячим, но дыхание станет абсолютно ровным и ритмичным. Сердце стучало спокойно, может быть чуть быстрее, чем обычно.
Глеб бежал, глядя вперед на вымытые дождем машины, на темную зелень листвы, с которой ночной дождь смыл серый пыльный налет, на темный влажный асфальт, на птиц и людей. Он бежал так, как бегал всегда. И ему почему-то подумалось, что так будет вечно, каждый его день будет начинаться с длинной пробежки, затем — душ, завтрак, и он не будет знать куда себя деть.
По возвращении из Витебска Сиверов заскучал. То ли работа оказалась не такой сложной, как он предполагал, то ли он сильно устал… Многое в жизни перестало приносить удовлетворение.
Маленький коричневый пейджер, неизменный, как часы на руке, вдруг зажужжал и завибрировал. Но Глеб продолжал бежать.
«Скорее всего это Ирина прислала какое-нибудь смешное сообщение.»
Она в последние годы научилась просыпаться и тотчас вставать, подражая Глебу. Она уже не валялась в постели, как прежде, а сразу же, открыв глаза, сладко потягивалась и поднималась. Однако Ирины в Москве сейчас не было. Она жила на даче, в доме, который она обустроила по собственному разумению для себя и Глеба.
Вбежав во двор, Глеб перешел на размеренный шаг и остановился. Сообщение было от генерала Потапчука, абсолютно нормальное, не закодированное: «В девять вечера буду у тебя. Федор Филиппович».
Проставлено было и время. Потапчук любил на документах и в сообщениях помечать дату и точное время.
Глеб хмыкнул: «Ну вот хоть какое-то дело, есть повод не поехать сегодня вечером за город, где назойливо гудят комары и где мне абсолютно нечего делать».
Отношения с Ириной Быстрицкой у Глеба складывались неизменно хорошими, ровными и спокойными. Сиверов старался быть предельно внимательным и предупредительным к своей подруге. Ирина отвечала тем же. Несмотря на то что ушла страсть — всепоглощающая, захватывающая, от которой невозможно скрыться, которая мешает думать, сосредоточиться, Глеб и Ирина жили вместе, их отношения устраивали обоих.
«Это время, это годы, это привычка», — говорил себе Глеб, когда, уходя куда-нибудь, целовал Ирину в затылок, вдыхая аромат ее волос, приятный, но уже не такой возбуждающий.
«Встречусь с Потапчуком, а потом поеду к ней», — в том, что она будет рада его видеть, Сиверов не сомневался.
Хотя в душе Глеб чувствовал, что никуда он не поедет, что ему скорее всего будет не до поездок за город. Встреча с генералом ФСБ Федором Филипповичем наверняка заставит его ощутить полноту жизни, опять внесет в повседневность терпкий привкус риска, солоноватый и резкий. Тогда он станет смотреть на жизнь абсолютно иначе, не будет воспринимать людей как обычных прохожих, глаз станет цепко фиксировать цвет и регистрационные номера автомобилей.
Глебу этого хотелось. Он чувствовал в себе нерастраченную силу, которую надо бросить, сжечь в работе. Лишь после этого можно ехать к Быстрицкой, можно вернуться, как Одиссей возвращался к своей Пенелопе, к Ирине Быстрицкой. И она будет рада, счастлива, и таким же счастливым станет уставший, вымотавшийся Глеб Сиверов.
На лестнице вновь зажужжал пейджер, и Глеб, даже не задумываясь о том, от кого сообщение, посмотрел на окошечко пейджера.
«Сегодня вечером маленькое торжество. Надеюсь, ты не забыл о нем без моих напоминаний. Целую и обнимаю. Ирина.»
— Торжество… — прошептал Глеб, входя в квартиру. — Какое же сегодня торжество?
Он быстро, как перелистывают книгу, пытаясь найти нужную главу, мысленно пролистал воспоминания.
«Боже, что это со мной? — поймал себя на мысли Глеб. — Я не могу сосредоточиться, я не могу вспомнить, какое торжество, какой юбилей, по какому поводу.»
И тут же вспомнил Хармса — писателя, которого Ирина Быстрицкая любила перечитывать и цитировать.
— Как же, как же… поэт закончил поэму, по этому поводу в городе праздник, — Глеб усмехнулся, сбрасывая с себя одежду и направляясь в ванную комнату.
Уже стоя под упругими струями ледяной воды, он с иронией подумал:
«В городе праздник, а флагов я не заметил. А может, они были? — тут же спросил он сам себя, этот вопрос выглядел уже профессионально. — Нет, нет, флагов не было», — ответил Глеб, подставляя лицо под струи воды, плотно смыкая веки. Он ловил губами холодные капли, жадно дышал, ощущая, как в каждой мышце, в каждой клеточке его организма закипает жизнь.
После холодного душа он насухо растерся. В холодильнике стоял его завтрак, оставалось только поставить его в печь СВЧ, разогреть и вспомнить добрым словом Ирину, а после с аппетитом съесть. Что он и сделал.
Генерал Потапчук с тяжелым, пухлым портфелем, со сложенным зонтиком в левой руке, наклонив голову вперед, шел по сумрачным коридорам управления ФСБ. Перед окончанием рабочего дня он имел тяжелый разговор с генерал-лейтенантом. Тот как заведенный требовал скорейшего результата, ругал обнаглевших журналистов, которые домогаются от него невозможного. Теперь он в свою очередь вынужден требовать невозможного от своих подчиненных, в том числе от генерала Потапчука.
— Будет тебе результат, будет, — размахивая зонтом, как тростью, бурчал Потапчук.
Машина уже стояла у служебного входа.
— Домой? — мельком взглянув на пухлый портфель, осведомился водитель.
— Нет, давай-ка на Арбат.
— Куда именно? Арбат большой.
— Поезжай, я тебе скажу, где свернуть.
В машине генерал не проронил ни слова. Он был сосредоточен, тонкие губы сжались в линию, на лбу пролегли морщины. Портфель и зонтик Потапчук держал на коленях.
«Вроде бы дождя нет и не предвидится», — подумал водитель, но высказываться вслух он опасался, слишком уж сосредоточенным было лицо генерала, и не к месту заданный вопрос, нечаянно оброненное замечание могут вызвать негативную реакцию.
— Здесь направо, — генерал взглянул вперед,
— Слушаюсь, — выворачивая баранку, произнес водитель и, перестроившись из третьей линии в первую, резко повернул на желтый свет.
— Нарушаешь, — буркнул Потапчук.
— Спокойно, товарищ генерал, ситуация под контролем, — резонно заметил водитель.
— А теперь налево.
Они въехали в Арбатский переулок, узкий и почти безлюдный. Лишь парень с зачехленной гитарой да пожилая женщина с длинной таксой попались на их пути.
— Здесь во двор.
Машина въехала в зажатый между двумя домами небольшой грязный арбатский дворик с мусорными контейнерами — ржавыми и помятыми, с чахлыми деревьями и покосившейся беседкой.
«Центр города, а такая нищета! Нет, не нищета, а заброшенность и абсолютное безразличие жильцов к своему быту. А ведь рядом центр, роскошные витрины, реклама сверкает, музыка гремит, хорошо одетые люди прогуливаются, туристы, гиды — как в другой мир попадаешь.»
— Жди меня здесь
Ни сколько ждать, ни зачем, генерал объяснять водителю не стал. Ожидание могло растянуться на час, а могло и на всю ночь. Водителю, естественно, такая перспектива не нравилась, но он уже не первый год работал в ФСБ и понимал, что у каждого своя забота. Генерал занимается своими делами, а его участь сидеть и ждать пассажира. Если понадобится, он будет сидеть и ждать целую неделю, будет дремать, выходить из машины, прогуливаться рядышком, но тем не менее будет держать ухо востро, прислушиваясь к звонку телефона, установленного в автомобиле.
Генерал выбрался, приподнял ворот плаща. На этот раз портфель он держал в левой руке, а зонт в правой и так же, как шел по коридору в управлении ФСБ, двинулся по диагонали через двор: голова наклонена вперед, движения уверенные и сосредоточенные. Генерал Потапчук прошел во второй двор, обогнул детскую площадку, подошел к нужному подъезду и взглянул на знакомые окна. Они были темны — другого Федор Филиппович и не ожидал.
Он, конечно же, мог воспользоваться «мобильником», который лежал у него в кармане. Набрать номер своего агента и уточнить, на месте ли он. Но за долгие годы уже была выработана своя тактика и стратегия в отношениях и поведении. Генерал Потапчук позволял себе телефонные звонки к Сиверову лишь в самых-самых крайних случаях, когда никакой другой возможности оперативно найти Сиверова не существовало, лишь тогда он брал в руки трубку телефона.
Тяжело дыша, экономя силы, Федор Филиппович поднялся на последний этаж. Остановился у не очень приглядной двери, обитой железом, с глазком, позвонил условленным звонком. Перед этим он взглянул на светящиеся цифры командирских часов, старых, как и сам Потапчук, но таких же верных и надежных, как хозяин. Эти часы его никогда не подводили.
ГЛАВА 14
Через условленных семь секунд дверь отворилась, причем абсолютно бесшумно, и если бы генерал не смотрел на нее, то наверняка он бы не услышал.
— Добрый вечер, — из темноты небольшой прихожей произнес Глеб, оглядывая силуэт генерала. — Прошу.
Генерал Потапчук повел носом. На площадку потянуло запахом кофе, из глубины комнаты слышалась музыка.
Дверь, у которой стоял Глеб Сиверов, бесшумно закрылась, в прихожей вспыхнул свет.
— Да, так лучше, — сказал генерал, пожимая крепкую ладонь Глеба. — Выглядишь ты хорошо.
— Дежурный комплимент? А вот я вам, Федор Филиппович, подобного комплимента не отвешу, не рассчитывайте.
— Что, сдал Федор Филиппович?
— Да уж, — произнес Глеб, поправляя зонтик и вешая его на крючок, рядом с серым плащом генерала. — Проходите, гостем будете, — не без галантности сказал Глеб и сделал рукой жест, мгновенно напомнив генералу хорошо вышколенного официанта из дорогого ресторана.
— Тебе бы бабочку да смокинг, мог бы и в ресторане работать.
— Мог бы быть и официантом, и барменом. Вы, вообще, Федор Филиппович, наверное, даже не представляете, сколько всякой ерунды я могу делать?
— Да уж, не представляю, голубчик. Думаю, побольше, чем я.
— Ну уж ладно вам! Присаживайтесь в кресло, в ваше любимое. Кофе, как вы понимаете, уже готов. Но если вы вдруг пожелаете чая, то у меня есть и зеленый, и черный, и красный. Весь, естественно, листовой, высших сортов, стоит вам лишь…
— Не хочу я, Глеб, чая, будем пить кофе, — генерал уселся.
Глеб, сидя напротив Потапчука, принялся разливать кофе по чашкам.
— Прошу, угощайтесь. Без сахара.
— Спасибо, Глеб. Может, у тебя и сигарета найдется?
— Любой каприз, Федор Филиппович, за ваши деньги,
— Это еще что за штучки?
— Ее я из Витебска привез.
— Хорошая фраза. Ты еще не решил, какой гонорар тебе полагается за витебскую командировку? Ой, Глеб, кофе хорош! — делая глоток, причмокивая, обронил генерал,
— Еще думаю. Я и сам неплох — не только кофе.
— Что-то ты больно весел, раздухарился, как будто женщину привел. Кстати, как Ирина?
— Все хорошо. Сегодня она какое-то торжество придумала, ждет не дождется меня.
— Какое торжество? — лоб генерала Потапчука сморщился, и он подозрительно взглянул на Глеба.
Тот выдержал взгляд как ни в чем не бывало, передернул плечами:
— Сколько ни думал, Федор Филиппович, не могу вспомнить или угадать, какое сегодня у нее или у нас с ней торжество. Морщил лоб, виски тер, сигарету выкурил, кофе выпил, а вспомнить не удалось. Единственное, что я придумал…
— Ну и… — генерал пытливо взглянул в лицо Глеба.
— Это торжество по поводу того, что наш поэт закончил поэму.
— Не понял… еще раз.
— Поэт закончил поэму, — бойко продекламировал Глеб.
— Какой к черту поэт и какую к тому же поэму?
— Я и сам не знаю, какой поэт и какую поэму, и закончил ли он ее. Ирина любит так говорить. Тут я уже напрягся, тоже начал думать. Федор Филиппович, если вы ко мне пришли, значит, у вас есть дело. А если ваш портфель тяжелый, словно в нем лежат два кирпича, а в левой руке вы держали зонт, значит, я могу сделать вывод, вы заглянули ко мне не на чашку кофе.
— Продолжай, продолжай, издевайся над стариком, ерничай. Тебе можно, ты никакими обязательствами с органами не связан, а я там служу.
— Я не ерничаю, Федор Филиппович, это просто цепь наблюдений выстраиваю и делаю выводы. А если хотите, продолжу дальше.
— Валяй, Глеб, — генерал взглянул на циферблат часов.
— Вот вы взглянули на часы, а это говорит о чем?
— Ну и… — вставил три копейки генерал.
— О том, что у вас мало времени и вы хотите как можно скорее перейти к делу и вытряхнуть на стол содержимое вашего портфеля. Но если вы мне дадите три попытки, я отгадаю, какой вопрос вас мучит.
Лицо Потапчука стало непроницаемым, и он мгновенно стал походить на зрителя, случайно вырванного гипнотизером для своих штучек из зала, зрителя, который не желает поддаваться на уговоры или трюки гипнотизера.
— Вы сейчас невероятно напряглись и не желаете верить в то, что я могу знать, могу догадаться о вашей тайне.
— Нет у меня никакой тайны! — в сердцах пробурчал Потапчук. — Хватит, Глеб, меня разыгрывать. — Говори, что ты уже знаешь?
— Ничего не знаю, Федор Филиппович, — наивно улыбнулся Сиверов, повел сильными плечами и, картинно заломив пальцы рук, хрустнул ими прямо над столом.
— О боже, как только с тобой Ирина живет? Ты и с ней загадками, ребусами разговариваешь?
— Она женщина, вы мужчина. Она полагается на интуицию и чувства, а вы, Федор Филиппович, в первую очередь на факты, которые пытаетесь выстроить в логическую цепочку, причем так, чтобы каждое звено соответствовало предыдущему и следующему, чтобы цепочка оказалась крепкой, чтобы звенья были склепаны или спаяны на совесть. Вы пришли ко мне по делу Макса Фурье и оператора Сергея Максимова. Это первый вариант. Возможно, он ошибочный. Но я думаю, все сегодня вертится вокруг них.
— Ты, Глеб, конченый, — генерал допил кофе, — разговаривать с тобой становится просто невыносимо, ты издеваешься, сам того не подозревая.
— Хотите, я продолжу дальше?
— Слушай, что это за симфония? Опять Вагнер? — чтобы сбить Глеба с мысли, поинтересовался генерал, взглянув в темный угол, где стояла огромная колонка, похожая на гроб средних размеров.
— То, что это Вагнер, догадаться несложно. Но не симфония. Вы ведь знаете мои пристрастия. А вот если вы скажете, какой оркестр и в каком году исполнил вот это произведение, то я вами, Федор Филиппович, буду искренне восхищаться, а к вашему авторитету в моих глазах я смогу пририсовать еще один жирный плюс.
— К черту оркестр, Глеб Петрович, к черту год, когда они записали этот концерт!
— Нет, Федор Филиппович, раз уж мы договорились играть по правилам, то давайте будем их придерживаться.
Генерал поставил портфель на колени, отодвинул в сторону чашку, расстегнул замок и вытащил две пухлые папки, обыкновенные, серые. Тесемки были завязаны на аккуратные бантики.
— Сами завязывали, — сказал Глеб. — Такие бантики только генерал Потапчук вязать умеет, только у вас хватает терпения вот так аккуратно разгладить тесемочки в пальцах, а затем…
— Глеб, не до бантиков мне. Каждый день на ковер по два раза хожу, и дрючит меня замдиректора во все дырки, как ему захочется, только еще старым ослом не обзывает. Но, думаю, он завтра-послезавтра перейдет и к подобным формулировкам.
— Ну, если так, то за оскорбления ему придется ответить.
— Что-то у тебя, Глеб, сегодня тон шутливый? Вроде Вагнер к подобным разговорам не располагает, видишь, как серьезно играют, вдумчиво?
— Несерьезно они играют, Федор Филиппович. Серьезно играет Караян, а японцы играют с легкой иронией. Для них Вагнер — это всего лишь объект, а вот для Герберта фон Караяна Вагнер — Бог, на которого он молится. И всех своих оркестрантов — скрипачей, виолончелистов, духовиков, ударные — заставляет служить Богу, как настоятель храма заставляет служить весь свой клир.
— Слова-то какие красивые знаешь — клир! Ты еще скажи архимандрит, синклит.
— Нет, не буду, — улыбнулся Глеб, наполняя чашки уже остывшим кофе.
Генерал закурил, но развязывать красивые бантики на двух папках не спешил. Глеб смотрел на него немного грустно. Настроение изменилось у него мгновенно.
— Давайте к делу. Только сначала скажите, угадал я насчет француза?
— Нет, не угадал.
— Жаль, я надеялся.
— Ты высчитал, Глеб, что я к тебе пришел именно с этой проблемой. Наверное, ты тоже газеты читаешь?
Глеб отрицательно покачал головой:
— Давно не читаю, Федор Филиппович, и вам советую отказаться от вредной привычки. Хотя вы — человек государственный, на службе, и газетки вам приходят бесплатно, контора за них платит. Правильно я говорю?
— Да правильно, только не пойму, куда клонишь.
— Все это болтается в Интернете. Включаешь компьютер и начинаешь рыскать. Там кусочек, там предложение, там абзац, там два слова, там картинка, там дата. А потом все это складываешь, складываешь, разделяешь, опять складываешь, умножаешь. Получается, в общем-то, цельная картина, в которой отсутствуют некоторые элементы. Это как на картине…
— На какой еще картине?
— На старой картине, Федор Филиппович, плохо сохранившейся, прошедшей огонь и воду. На картине образуются утраты. Плохой реставратор возьмет и станет внагляк дорисовывать недостающие части, стараясь подражать стилистике художника.
— А хороший? — насторожился генерал.
— Хороший придумает способ, как из картины сделать новое произведение.
— Когда-то, Глеб, ты мне уже это рассказывал.
— Ну вот видите, память у вас замечательная. А рассказывал я вам это в восемьдесят девятом году. Могу даже назвать число, день, месяц.
— Лучше бы ты вспомнил, какое торжество у Ирины.
— Я же говорил вам, вспомнить этого я не могу. Вот возьму флаг и с флагом в руках приеду к ней, поздравлю с праздником.
— Твое настроение мне, конечно же, нравится. В другое время я, возможно, хохотнул бы вместе с тобой, постарался тебя подначить, раззадорить, но, поверь, Глеб, мне не до шуток.
— Все, Федор Филиппович, понял, я серьезен, как фокусник во время сеанса. Знаете, они ведь обманывают зрителя с очень серьезным выражением лица. Если маги арены начнут улыбаться, хихикать, то ощущение фокуса исчезает. Я становлюсь серьезным, — Глеб провел ладонями по лицу, и, действительно, выражение губ, глаз, бровей изменилось мгновенно. Он стал сосредоточенным, похожим на минера, держащего в руках проводки, которые нужно соединить, и тогда произойдет взрыв где-то далеко, не рядом, но взрыв будет ужасной силы. А еще Глеб стал похож на хирурга со скальпелем в руке, готовым начать операцию. Все эти сравнения пронеслись в голове генерала Потапчука как вихрь.
Глеб сам развернул первую папку и подвинул ее к Потапчуку.
— Давайте по порядку, излагайте, — и взглянул на часы, хотя прекрасно, с точностью до двух минут, мог сказать, который сейчас час.
— Значит, смотри, — генерал Потапчук профессионально, как хирург хирургу, принялся объяснять Слепому суть дела. — Вот заключение баллистической экспертизы. Оружие было с глушителем, вот марка оружия. В розыске оно не числится, нигде не засвечено. Можешь почитать заключение патологоанатома, ему я доверяю больше, чем себе. Этого доктора я знаю лет пятнадцать, он профессионал, если что-то утверждает, ему можно верить на сто процентов. И баллисты толковые работали. Вот копии допросов, биографии, список фигурантов, проходящих по делу. Может быть, у прокуратуры есть что-то, чем они на сегодняшний день не хотят делиться с ФСБ; возможно, у МУРовцев что-то есть, но они держат козыри на руках…
— А вы? — задал вопрос Глеб.
— Что я?
— Надеюсь, вы им тоже свои козыри пока не только не показывали, но и блефовали?
— Ты прав. О том, что ты был в Витебске, знает лишь директор ФСБ и генерал-лейтенант Огурцов, а его другие заместители не знают ровным счетом ничего.
— Как вы сказали фамилия?
— Огурцов.
— Это что, тот, который любит пресс-конференции давать?
— Он самый. Получается, что мы с тобой знаем намного больше о Максе Фурье, чем знают в МУРе и прокуратуре.
— Выходит, так, — согласно кивнул Глеб. — А что это за женщина? Откуда она там взялась?
— Она убирала и готовила в тот день, когда приехал Макс Фурье.
Глеб улыбнулся, когда закончил читать копию допроса домработницы и ее дочери.
— Я с Максом Фурье ехал в поезде из Витебска в Москву. Я видел, как его встретил Сергей Максимов, как они загрузились в джип, — Глеб назвал номер и модель, — и уехали. Встретились они вполне радушно, но Макс Фурье вел себя немного странно.
— В каком смысле странно?
— Мне пока трудно определить: то ли он был чем-то сверх меры напуган, то ли чем-то озадачен, в общем, он был дерганый. Для такого профессионала, как он, я имею в виду его журналистскую деятельность, он был слишком зажат. Журналисты такого уровня, как Макс Фурье, ведут себя раскрепощенно, раскованно и независимо.
— У него почти на глазах погиб человек, есть отчего разволноваться.
— Фурье в своей жизни видел крови не меньше, чем я и вы. Он смотрел на происходящее через окуляр камеры. Первым прибежал снимать место взрыва.
— Это еще ни о чем не говорит, это эмоции, наблюдения. Может, у него живот болел, может, обувь тесная. Ведь больной человек будет вести себя не так, как обычно. К примеру, вот у меня, Глеб, болел зуб, я себе места не находил, весь мир для меня был в черно-белых красках. Я срывался на подчиненных, стал невероятно придирчив, цеплялся ко всякой ерунде.
— И сильно вам это помогло, Федор Филиппович?
— Да вообще не помогло. Я это говорю к тому, что на эмоции внимание обращать надо, но зачастую они — следствие какой-нибудь ерунды. Может, у него кошелек в Витебске сперли, может, он часы потерял.
— Часы были у него на руке, а кошелек — в заднем кармане. Так что нет.
— Но причина, сам понимаешь, могла быть самой неожиданной.
— Вот и я о том же, Федор Филиппович, надо искать причину хренового настроения журналиста, вернее, даже не настроения, а состояния.
— Значит, так, Глеб, просмотри документы и думай. Вот фотографии, — генерал вытащил из стопки бумаг тонкую пластиковую папочку. — Посмотри, вот здесь все — как их нашли, как они лежали.
— Отпечатков, естественно, в доме нет?
— Конечно, нет, убийство выполнено профессионально.
— Вы выезжали на место?
— Зачем, там столько людей перевернулось, наследило, что ехать туда смысла не было, да и тела увезли сразу. Там МУР работал, прокуратура, нас подключили не сразу, а после того, как французские представители обратились к директору ФСБ.
— Пардон, Федор Филиппович, посольство или руководство телеканала?
— Посольство, — сказал Потапчук.
— Вы видели бумагу?
— Зачем мне ее видеть, она у директора в кабинете. Мне ее не передавали.
— Где кассеты, блокноты, видеокамера? Все это осталось на месте? Где оно сейчас?
— Кое-что в прокуратуре, кое-что в МУРе, кое-что у нас. Тебе-то зачем?
— Пока просто интересуюсь, а затем, вполне возможно, и понадобится.
— Что тебе понадобится?
Глеб пожал плечами:
— Не знаю.
— Что ты думаешь обо всем этом?
— Ничего определенного.
— Но ты же искал в компьютере информацию?
— Нашел, ну и что из того? Я много чего там нахожу о композиторах, о политиках, о бизнесменах, о журналистах, о проститутках и порнозвездах, об ученых. О ФСБ полным-полно материалов, и даже фамилия ваша там пару раз мелькала.
— Как мелькала?
— Попадалась мне, Федор Филиппович.
— Своей фамилии ты там не находил?
— Фамилию находил, но писали не обо мне. Слава Богу, что пока не обо мне.
Генерал с облегчением вздохнул:
— Я могу оставить тебе эти бумаги, чтобы ты ознакомился, подумал.
— Мне нужны лишь адреса, телефоны, фамилии. Вы хотите, Федор Филиппович, чтобы я поработал над этим делом, нашел тех, кто убил журналистов?
— Да, — сказал генерал, отведя взгляд в пустую чашку, — именно этого я хочу. И этого же хочет генерал-лейтенант Огурцов, об этом мечтает директор ФСБ. Другое дело, обрадует их реальный результат или нет. Но это разговор о другом. Здесь уже начинается политика, а мы с тобой, Глеб, — практики. Наше дело преступников найти, обезвредить, задержать, если удастся.
— А если нет? — задал вопрос Слепой.
Генерал даже не улыбнулся, а заморгал, словно в глаза попал песокчили табачный дым.
— Я сейчас, — Глеб вытащил из принтера лист белой бумаги, сел к столику, принялся быстро выписывать фамилии, адреса, телефоны.
Строчки ложились ровно, цифры были отчетливо прописаны, словно отпечатаны. Генералу всегда нравилось, как красиво, каллиграфическим почерком пишет Глеб Петрович Сиверов.
— Слушай, Глеб Петрович, ты когда срочную службу служил, писарем в штабе не работал?
— Никогда не работал штабным писарем, и вы, Федор Филиппович, это прекрасно знаете. А то, что так красиво пишу, так это вы мне завидуете.
— Честно признаться, да. Завидуешь всегда лишь тому, что сам делать не умеешь и знаешь, что никогда не научишься.
— Если бы захотели, научились бы, это не такая большая наука, не такое сложное искусство. А вот так играть ни вы, ни я никогда не научимся, даже если будем до конца своей жизни по двадцать четыре часа сидеть за инструментом. Слышите, как ведет?
Звучала партия виолончели. Генерал не стал морщиться, понимая, что этим разозлит Глеба. Он почти минуту сидел, прислушиваясь к игре музыканта.
— Да, красиво, — сказал Потапчук и постучал пальцем по пустой колбе.
— Еще кофе?
— Если тебя, конечно, не затруднит.
— Любой каприз, Федор Филиппович.
— Опять шутить начал? Я тебя понимаю, к торжеству готовишься, но, самое интересное, что даже не знаешь к какому.
— Возможно, это у меня в первый раз — приглашают на праздник, а я не знаю, что за праздник, что в таких ситуациях надевают.
— Думаю, Ирина обрадуется, в каком бы виде ты ни появился перед ее светлым взором.
— О, Федор Филиппович, вы женщин конечно же знаете лучше меня, но Ирину я знаю лучше, для нее мой наряд не важен.
Глеб исписал всю страницу, перевернул и продолжил делать выписки на обратной стороне. Закурил. Генерал Потапчук тоже поджег сигарету.
— Ну, что скажешь?
— Ничего пока, Федор Филиппович, не скажу.
— Не хочешь говорить?
— Не уверен.
Глеб взял бумаги, раздавил сигарету в пепельнице и принялся их перебирать. Генерал следил за его руками, за взглядом:
— Что ты ищешь, может, я смогу подсказать?
— Смотрю, ни прокуратура, ни МУР и даже ваши сотрудники не дают перечня похищенного из квартиры Сергея Максимова.
— Ничего не украли.
Глеб загадочно улыбнулся:
— Вы уверены, что ничего?
— Судя по опросам, ровным счетом ничего. Деньги, кредитки, видеокамеры, кассеты, видеомагнитофон, компьютер, диски — все вроде бы на месте. Их просто убили. Хотя я, Глеб, понимаю, ни за что, просто за голубые глазки двух мужчин никто убивать не станет.
— Если произошла элементарная ошибка?
— Ошиблись жертвой?
— Зашел наемный убийца, хотя, насколько я понимаю, убийц было несколько, два или три.
— Все может быть. Если бы были отпечатки, то…
— Если бы да кабы, — произнес Глеб. — А мне вот кажется, что кое-чего недостает. Но мне надо это проверить. Федор Филиппович, мы можем попасть в квартиру?
Генерал Потапчук на мгновение задумался:
— Если надо, то почему бы и нет? В конце концов, я какой-никакой руководитель, курирую это дело, мне подчиняются. Так что, полагаю, можем попасть.
— Завтра с утра.
— Можно и завтра с утра, — кивнул генерал. — Ну где же твой кофе хваленый, вкусный, ароматный, крепкий?
— Все будет исполнено в лучшем виде, — Глеб легко поднялся с кресла. Через минуту он поставил на стол, на пробковое донышко, колбу с кофе.
Они выпили по чашке, поглядывая друг на друга.
— Мне кажется, Глеб, ты что-то недоговариваешь.
— Недоговариваю, — признался Слепой, — но лишь по той причине, что не хочу вас интриговать прежде времени. А вот завтра, если все так, как я полагаю, у меня может появиться результат.
— Какой ты быстрый, — хмыкнул Потапчук, поджав тонкие губы. — Так у тебя все быстро и легко. МУРовцы работали, старались, землю рыли, следователи из прокуратуры тоже проявляют рвение, несвойственное им, мои ребята стараются — ответа нет, а ты вот так быстро!
— Знаете, Федор Филиппович, мне известно немного больше, чем сотрудникам правоохранительных органов. Ведь я был в Витебске, возвращался в поезде вместе с Максом Фурье, видел Сергея Максимова на Белорусском вокзале. В общем, я знаю предысторию, знаю, что произошло там. Есть у меня одно соображение насчет Макса Фурье, но оно странное.
— Говори, Глеб.
— Мне кажется, что не так он прост, как мы о нем думаем, и даже не так прост, как хотел казаться.
— Не совсем въезжаю в твои рассуждения, конкретизируй.
— Если быть конкретным, то это лишь версия, предположение, которое строится на наблюдении за ним, на моих личных воспоминаниях и, может быть, даже на моей интуиции, хотя я понимаю, все это к делу не подошьешь и на стол перед замдиректора не положишь. А Огурцову все мои измышления, впрочем, как и вам, Федор Филиппович, будут просто по барабану.
— Ты говори факты, а не философствуй.
— Фактов у меня, к сожалению, нет. Но мне кажется, что Макс Фурье — не просто журналист-телевизионщик, мне думается, что он выполнял задание и скорее всего за ним стоит организация. Полагаю, это не террористическая организация, а…
— Ты хочешь сказать, он еще и работал на французскую разведку? — Глеб вместо ответа медленно кивнул. — Ну ты, брат, смелую версию высказываешь. Если бы это было так… Хотя, погоди, а почему бы, собственно, и нет? Давай, давай дальше.
— Все, — коротко обронил Глеб. — Дальше, как говорится, сплошной туман. Мне нужно побывать в квартире.
— Хорошо, это я устрою. Тебе нужны документы?
— Да, я хочу отсканировать снимки.
— Пожалуйста. Только сам понимаешь, эти материалы никуда не должны…
— Все я понимаю, что вы, Федор Филиппович, на воду дуть принялись? Разве я когда-нибудь организовывал несанкционированную утечку?
— Сам понимаешь, береженого Бог бережет. И так непонятно, кто сливает информацию журналистам. Иногда мне кажется, эти мерзавцы знают больше нас.
Глеб рассмеялся:
— У них работа такая, Федор Филиппович, они, даже если что-то и придумают, обстряпают все так, что выглядит написанное как чистая правда, как исповедь. Вы же знаете не хуже меня, правда, всегда в деталях, в интонациях, в маленьких штрихах. Вот дети, в отличие от взрослых, воспринимают мир иначе: они запоминают не общее, не праздник, не количество демонстрантов, колонн, надписи на транспарантах, а какие-то совершенно другие вещи, маленькие и незначительные для взрослых, а для ребенка невероятно выразительные и важные.
— Ну вот ты опять бросился в теорию. Знаю я о деталях. Детали, — генерал поднял палец, — это всегда подсказка, путь к постижению истины.
— О, — улыбнулся Глеб, — вы заговорили как поэт.
— Какой к черту поэт, я пять слов зарифмовать не могу, для меня стихосложение хуже высшей математики.
— Вот в том-то и дело, надо искать детали. Будут детали, будут подсказки, и дело станет прозрачным, ясным, как вода в стакане без узоров. Здесь все как вот в этой чашке: пар, аромат и черный непрозрачный напиток. Дна не видно, виден лишь объем чашки.
— Хорошо, — сказал генерал, отставляя чашку и глядя на дно, словно там была подсказка, — давай расстанемся до завтра. На пейджер сброшу тебе время, встретимся во дворе.
Глеб кивнул.
Генерал аккуратнейшим образом, после того как Глеб отсканировал нужные ему материалы, все сложил, расправил тесемки и, перевязав папки, спрятал их в портфель.
— Я бы вас проводил.
— Не надо, — учтиво предупредил Федор Филиппович, — я не такой древний, спущусь и сам доберусь до машины, не волнуйся.
Потапчук неторопливо оделся, подхватил портфель, зонт. Глеб открыл дверь, генерал кивнул на прощание и пошел по лестнице к выходу.
Глеб сел к экрану компьютера и принялся рассматривать отсканированные снимки. Сбросил все на диск, спрятал его, стер снимки из памяти компьютера и, накинув серую куртку, тоже пошел на улицу.
Через пятьдесят минут он уже подъезжал к загородному дому. На заднем сиденье лежал букет цветов, большой и пышный. Цветы были подобраны очень изящно, хотя на первый взгляд букет выглядел бесформенным.
ГЛАВА 15
В семь утра пейджер принес Сиверову сообщение, что генерал Потапчук ждет его в девять тридцать.
В девять двадцать пять серебристый «БМВ» остановился в соседнем дворе, а через пять минут Глеб уже стоял возле нужного подъезда. На нем была серая куртка, берет, черные джинсы, кроссовки, на куртке темнели капельки дождя. Потапчук был в плаще и кепке.
Они не поздоровались за руку, как всегда при встрече, а лишь кивнули друг другу.
— Пойдем, — сказал генерал, открывая дверь подъезда. Потапчук шел впереди, Глеб следовал за ним.
На площадке они остановились. Федор Филиппович абсолютно спокойно сорвал с двери бумажки с печатями, открыл дверь и вошел в квартиру.
— Какой неприятный запах!
— Да, воздух застоялся, — произнес Глеб, извлекая из кармана куртки бумажный конверт, натягивая на руки тонкие прозрачные перчатки.
Потапчук посмотрел на него с удивлением, даже брови над серыми глазами приподнялись.
— Что это ты, словно вор?
— Ничего, — ответил Сиверов, — не люблю оставлять следов. Вы присядьте, Федор Филиппович, Сколько у нас времени?
— Сколько тебе надо, столько и есть.
— Надеюсь, сюда никто не придет?
— Если и придут, то я никого не пущу, — сказал генерал с улыбкой.
Глеб начал осмотр квартиры. Он действовал методично и очень профессионально, генерал догадался, его агент по кличке Слепой работает не наугад, а целенаправленно. Он не выдвигал мелкие ящички, не рылся на стеллажах, а открывал лишь шкафы, заглядывал на антресоли, взбираясь на стремянке на последнюю ступеньку, смотрел на шкафах, под диванами, под креслами, кроватями, даже вышел на балкон.
— Где камеры?
— Камеры пришлось отдать, одну и вторую. Камеры — собственность телеканала.
— А где личная камера Макса Фурье?
— Тоже отдана.
— Понятно. Последнюю кассету из камеры француза достали?
Генерал Потапчук задумался, вытащил трубку мобильного телефона и быстро набрал номер.
— Потапчук говорит, — произнес он в трубку, — подполковника Григорьева мне.
— …
— Ага, добрый день. Меня интересует вот что: кассеты, отснятые Максом Фурье, где?
— У нас.
— Очень хорошо. К двенадцати ноль-ноль их копии должны быть у меня. Я сейчас отправлю в МУР водителя. Вы меня поняли?
— …
— Мой водитель подъедет, он представится, покажет документы. Записи нужны мне.
— …
— Кассеты будут, — сказал генерал после того, как позвонил своему водителю и черная «Волга» покинула двор.
Глеб осматривал квартиру не более получаса, затем сел в кресло, достал из кармана сигареты, вытряхнул из пачки одну и предложил генералу:
— Закурим, Федор Филиппович?
— Ты соблазнитель, Глеб. Только ты мне расскажи, что ты так упорно искал. Вещь эта, судя по всему, не маленькая.
— Не маленькая, где-то семьдесят на восемьдесят сантиметров.
— Чемодан или сумка?
— Мимо, Федор Филиппович.
— Что же тогда?
— Сегодня вечером я вам скажу. Надеюсь, вы меня проведаете часиков в девять?
— Будет сделано, — угодливо и почти подобострастно сказал генерал. Глеб понял, что генерал ФСБ Федор Филиппович подшучивает.
И в тон ему Глеб сказал:
— Кофе будет свежий и непременно горячий.
— Идет, — ответил Потапчук.
Они выкурили по сигарете, стряхивая пепел в пустую пачку. Глеб сидел в перчатках. Он снял их лишь на лестничной площадке.
— Вас подвезти, Федор Филиппович?
— Буду признателен.
На этот раз Потапчук изменил своей привычке, на заднее сиденье садиться не стал, а устроился рядом с Глебом.
— Музыку? — спросил Сиверов, прикоснувшись к клавише лазерного проигрывателя.
— Уволь, не хочу.
— Больше предложить нечего. А может, все-таки с музыкой помчимся?
— Ладно, валяй, с тобой легче согласиться, чем отказывать.
— Вот это мне нравится, — Глеб вдавил клавишу, зазвучала негромкая музыка.
— Труба, что ли? — предположил Потапчук.
— Нет, не труба, а саксофон.
— Саксофон, труба, какая разница?
— И пулемет, и винтовка убивают, а разница между ними, Федор Филиппович, огромная.
— Ой ли? Убитому разницы нет, из чего бы его ни пристрелили.
Глеб довез Потапчука до конторы, даже не довез, а домчал. Но к служебному входу подъезжать не стал, затормозил прямо у парадного.
— Все, до встречи, — произнес Потапчук, выбираясь из машины.
Он не успел сделать и десяти шагов, как автомобиля Глеба уже не было.
«Летает как бешеный. Не хотелось бы мне, чтобы Глеб работал у меня водителем, с ним до инфаркта один шаг», — беззлобно подумал генерал, показывая свое удостоверение дежурному.
Он прошел в кабинет. Помощник улыбнулся на приветствие Потапчука, вскочил из-за стола и включил мышкой экран компьютера.
— Вас спрашивал генерал-лейтенант…
— Знаю какой, — не дослушав, обронил Потапчук. — Когда?
— Как только появитесь.
— Хорошо, дорогой, — абсолютно неофициальным тоном произнес Потапчук, заходя в свой кабинет.
Через две минуты с кожаной папкой в руках и хмурым, сосредоточенным лицом он проходил через приемную. Федор Филиппович наперед знал все, что ему скажет генерал-лейтенант Огурцов: тот будет нервничать, требовать результаты. Так оно и получилось. Не успел Федор Филиппович переступить порог кабинета своего шефа, как тот поднялся из-за стола. На заместителе директора ФСБ была белая рубашка, галстук в тон пиджака. Бесцветные брови сведены к переносице. Под бровями зловеще сверкали глаза.
— Ну, Федор Филиппович, присаживайтесь, — с ходу, даже не поздоровавшись, начал Огурцов.
Потапчук сел, положил перед собой папку, извлек из кармана пиджака авторучку и посмотрел на шефа.
— Чем порадуете? Я вас с утра разыскивал. На шестнадцать ноль-ноль у меня назначена пресс-конференция. Естественно, меня станут теребить.
— Результатов пока нет, — коротко доложил Потапчук.
— Как это нет? Чем же вы занимаетесь и ваши люди? Нам нужен результат, — генерал-лейтенант принялся рассуждать о долге, чести и тому подобной дребедени, от которой у Потапчука завяли уши и, как ему показалось, начал даже поднывать только недавно вылеченный Яковом Наумовичем Кучером зуб.
«Ну когда же ты в конце концов угомонишься? И откуда в тебе столько энергии? Говорить можешь целых двадцать четыре часа в сутки!»
— Вы меня слушаете?
— Да-да, конечно! — промолвил генерал Потапчук.
— Вы записывайте все, что я вам говорю.
— Пока на память не жалуюсь.
— Нет, вы все-таки записывайте, — и генерал-лейтенант Огурцов принялся по пунктам задавать вопросы.
Через тридцать минут зазвенел телефон, и генерал-лейтенант схватил трубку.
— Можете быть свободны, — бросил он Потапчуку.
Звонил директор, это Потапчук понял по телефонному аппарату, трубку которого подобострастно прижимал к уху генерал-лейтенант Огурцов.
«Как вы мне все хуже горькой редьки надоели! Ну какой я тебе могу дать результат? Вся надежда на Слепого, он может дать результат. Но с результатом я пойду не к тебе, дорогой ты мой генерал-лейтенант, а пойду прямо к директору и буду разговаривать с ним.»
Потапчук закрылся у себя в кабинете, попросил помощника принести кофе и строго-настрого приказал, чтобы его ни с кем не соединяли и никого к нему в кабинет не пускали.
***
Глеб без труда отыскал нужный дом, Он припарковал свой серебристый «БМВ» рядом с «жигулями» и «москвичом». В этом доме, судя по машинам, жили люди небогатые, престижных иномарок во дворе не было. Он поднялся на третий этаж, остановился перед квартирой № 27 и позвонил. Он держал палец на кнопке недолго.
— Кто там? — раздался из-за двери голос.
Глеб улыбнулся так, как улыбался лишь женщинам — чуть-чуть застенчиво, но в то же время открыто и искренне.
И дверь, словно бы от его улыбки, открылась. За дверью стояла девушка лет семнадцати.
— Добрый день, — произнес Глеб.
Девушка смутилась. Вроде бы мужчина обыкновенный, но было в нем что-то такое, отчего румянец выступил на щеках у девушки в коротких джинсовых шортах.
— Вам кого? — с придыханием произнесла она и прижалась к стене, приглашая Глеба войти.
— Погодите, погодите, — произнес Сиверов, — может, я ошибся номером, а вы сразу так смело приглашает меня войти?
— Ой, извините, я даже не спросила, кто вы и к кому.
— Мне нужна Свиридова Клавдия Леонидовна.
— Ах, вам нужна мама! Ее нет, она в магазин вышла.
Глеб втянул воздух:
— У вас чем-то вкусным пахнет.
— Да, — кивнула девушка, — мама меня попросила присмотреть, картошка тушится, — она сказала о картошке так, словно там, в маленькой кухоньке, готовилось какое-то невероятное экзотическое блюдо, достойного того, чтобы быть поданным к королевскому столу.
— Жаль, — сказал Глеб.
— Вы по какому вопросу?
— Просто так, поручение к ней одно есть.
— Проходите, она скоро придет.
Глеб вошел в зал. Девушка бросилась убирать с дивана разбросанную одежду: халат, бейсболку, белье. Давно Глеб не бывал в квартирах, таких, как эта. Он безошибочно понял, и, наверное, только идиот не догадался бы, что женщина с дочкой живут одни.
— А вас как зовут? — на «вы» обратился к девушке Глеб.
— Я Светлана.
— А я Федор.
— Какое у вас, Федор, дело? — Светлане перед Глебом было не совсем удобно, словно она в своих легкомысленных шортах вошла в театр или в музей, хотя смотрел мужчина на нее абсолютно спокойно. И возможно, от этого спокойствия румянец то и дело приливал к щекам Светланы. Она уселась на край дивана, забросила ногу за ногу, затем тотчас сменила позу.
— Послушай, Светлана, — вдруг перешел на «ты» Глеб, подался немного вперед, — ты ведь с мамой была?
— Где? — спросила Светлана.
— Тогда, когда приехал Сергей Максимов со своим приятелем — французом?
— Вы журналист, что ли?
— Можно сказать, что журналист. Мы с Сергеем дружили, работали когда-то вместе. Я узнал, что случилось, и расстроился, словно потерял родного брата.
— Да, это ужасно. Там было столько крови, столько крови, ужас какой-то! Я таких кошмаров даже в кино не видела!
— Ладно, Светлана, не думай об этом. Вспомни хорошенько, что ты видела в квартире?
— Когда?
— Не в тот момент, когда вы с мамой пришли, а в первый раз?
— В первый раз? — Светлана задумалась. — Что мы могли видеть? Мы принесли еду, мама поставила меня к плите — разогревать, затем я мыла окна, а мама продолжала готовить.
— Вещи какие-нибудь ты помнишь?
— В смысле?
— С какими вещами в руках вошли в квартиру Сергей и француз?
— Вещи… вещи… Чемоданы были, сумка, какая-то картина, завернутая в кроссворд, я первый раз такой большой кроссворд увидела…
— Картина точно была?
— Ну да, — произнесла девушка. — Абсолютно точно, картина была, шпагатом таким серым перевязана. Плакат еще кое-где был скотчем заклеен.
— Естественно, какая картина, ты не видела?
— Нет. Как же я могла увидеть, если она была завернута?
— Понятно, — произнес Глеб. — Ужасно все это.
— И не говорите. Я с французом поближе хотела познакомиться, он симпатичный, мне такие нравятся.
— Ух ты! — хмыкнул Глеб.
— Да. А что, я уже взрослая девушка. А потом… ужас… даже вспоминать не хочу.
— Ну и не надо, не вспоминай. Мама тоже картину видела?
— По-моему, да.
— А почему вы не сказали следователю, что видели картину?
— Разве мама не сказала? У меня про картину никто и не спрашивал, вот я и не сказала. А вы откуда знаете, что картина была? — немного подозрительно взглянула на Глеба Светлана, но тут же расхохоталась. — Извините, пожалуйста.
— Что уж тут извиняться. Откуда я о картине знаю? Я в тот момент на вокзале был с Максом, но к Сержу не поехал, у меня была своя машина.
— Серебристая, что во дворе стоит?
— Да, это мое авто.
— Хорошая тачка, мне такие нравятся: клевая.
— Обыкновенная машина, добитая уже, ей четыре года.
— Почти что новье.
— Какое там новье! Менять пора.
— А вы, Федор, считаете, мы должны сказать следователю, что картину видели?
— Можете и не говорить, какая разница, была картина или нет. Вы мне сказали, этого и достаточно.
— Вы из милиции? Хотя на…
— Мента? — вставил Глеб.
— Ага. На мента вы не очень похожи.
— А на кого похож?
Девушка пожала плечами. Глеб заметил, что лифчика на ней нет и что она вполне ощущает свою женскую привлекательность и умеет ею пользоваться.
В двери щелкнул замок. Светлана тут же переменила позу, положила руки на колени.
— Вот и мама пришла.
Глеб поднялся со своего места, поднялась и Светлана. Он увидел женщину с довольно объемным и увесистым пакетом в руке.
— Здравствуйте, — немного испуганно произнесла Клавдия.
— Здравствуйте, Клавдия Леонидовна. Меня зовут Федор, фамилия Молчанов. Вы извините меня велико душно, что я без звонка заглянул.
— Мама, это друг Сергея Максимова.
— Вы друг Сергея? — лицо женщины изменилось, и вместо испуга на нем появилось грустное, смешанное с досадой выражение. — Вы из милиции, что ли?
— Нет, я журналист.
— Журналист… Они тоже приходили. А что я им могла рассказать?
— Мне уже все Светлана рассказала.
— Светлана? Что ты рассказала?
— Про то, мама, что была какая-то картина, шпагатом перевязанная, скотчем заклеенная… Ты же ее сама еще в шкаф поставила.
— А, да, конечно же была. Может, она и сейчас в шкафу стоит, — махнула рукой женщина. — Ты бы хоть гостю чаю предложила.
— Ой, извините, забыла. Я растерялась.
— Нет, не надо никаких церемоний. Я пришел сказать вам спасибо.
— За что спасибо? Какое еще спасибо?
— За то, что другу моему помогали, Клавдия Леонидовна. И тебе, Светлана, спасибо, что окна ему помыла.
— Лучше и не напоминайте. Давайте чаю выпьем. А может, вы кофе хотите?
— От кофе я не отказался бы.
— Только у нас растворимый, я вам сама сделаю. Вы с сахаром или без?
— Без, — в тон девушке ответил Глеб.
Через пять минут они уже пили кофе прямо в зале и беседовали, в общем-то, ни о чем. Глеб рассказывал женщинам о своем «друге», о том, что в последнее время виделись они довольно редко, лишь иногда пересекались их пути по работе. А вот раньше они были неразлучными и даже в горы отдыхать ездили вместе.
— Вы за границей бывали? — спросила Светлана.
— Бывал.
— В каких странах?
— Как сказать… Много где — и во Франции, и в Германии, и в Бельгии, и в Голландии, и в Испании. Даже в Африке был.
— В Африке? — воскликнула Светлана. — И слонов видели?
— Видел. Но для того, чтобы их увидеть, необязательно в Африку летать, пошел в зоопарк и любуйся.
— Вы в каком журнале работаете? Или как Сергей, на телевидении?
— Вы угадали, в журнале, но только в музыкальном.
— В музыкальном журнале? Так вы что, и артистов лично знаете?
— Ясное дело, знаю.
— Со многими знакомы?
— Как же по-другому? — искренне удивился Сиверов, изогнув левую бровь. — С очень многими.
— И Лагутенко знаете? И Децила?
— Кого-кого?
— Децила.
— А, этого… нет, лично с ним не знаком. Понимаешь, Света, мы по возрасту слишком разные. Тебе сколько лет, шестнадцать? А мне, извини, побольше. Так что с Децилом я лично не знаком.
— А с кем вы знакомы, ну… из таких, из наших?
— С Шевчуком, с Макаревичем.
— Они же совсем старые.
— Ну что поделаешь, возраст, — тихо и скромно произнес Глеб.
— Светка, перестань приставать к Федору! Извините, как вас по отчеству?
— Можете называть просто Федором, я не люблю, когда ко мне по отчеству обращаются, старым себя начинаю ощущать.
— Вот видишь, мама, — воскликнула Света, — я же тебе говорила, на Западе все безо всяких отчеств друг к другу обращаются. А ты мне: «К старшим по имени-отчеству.»
— Правильно твоя мама говорит. Это у них так принято, а у нас другое воспитание, культура иная. То, что хорошо для них, у нас не всегда проходит. И наоборот, для нас что-то хорошо и обычно, а для американца неприемлемо.
— Вы и в Америке были?
— Был и в Америке.
— Как вам интересно! А у меня никаких интересов. Школа, школа, вот сейчас — институт, и никакой жизни.
— Успокойся, наживешься еще. Вы, Федор, не обращайте внимания на мою дочь, она, сколько знаю ее, всегда такая бесцеремонная, лезет ко всем, пристает.
— Нормальная она у вас девушка, милая, вполне ответственная.
— Перестаньте, перехвалите. Ой, картошка! — вдруг всплеснула руками Клавдия Леонидовна, соскочив со своего места.
Светлана громко расхохоталась:
— Мама, мамочка, выключила я огонь, не беспокойся. Все уже давным-давно сделано.
— А вы говорите! — похвалил Светлану Глеб. — Она у вас толковая.
— Да уж! Когда накричишь, наругаешься, тогда начинает слушаться. А когда с ней по-хорошему, мигом от рук отбивается.
— Возраст такой, — произнес Глеб и, улыбнувшись, взглянул на Светлану. — Симпатичная девчонка и на маму похожа.
— Вот, видишь, а ты говоришь, будто я на тебя совсем не похожа.
Клавдии Леонидовне комплимент Глеба явно пришелся по вкусу, с ее лица исчезли строгость и напряженность.
— Послушайте, Федор, может, вы пообедаете с нами?
— У нас такая картошка с грибами! Мама так чудесно готовит, это просто караул, пальчики оближешь, язык проглотишь!
— Светка, замолчи! — прикрикнула на дочь Клавдия Леонидовна.
— Что молчать, если это чистая правда.
Глебу понравились и мать, и дочка, к тому же они дали ценнейшую информацию, до которой не смогли докопаться ни МУРовские сотрудники, ни прокурорские следователи, ни сотрудники ФСБ.
— С удовольствием. Не откажусь.
— У вас есть жена? — спросила Света, стыдливо заглядывая в глаза Глебу.
— А ты как думаешь?
— Чтобы у такого мужчины да жены не было. И жена у вас конечно же красавица.
— Что есть, то есть, — согласился Глеб.
Глеб провел в квартире гостеприимных Свиридовых целый час и узнал о своем мнимом друге Сергее Максимове много такого, чего не узнает ни один следователь и ни при каких обстоятельствах. Лишь Глеб со своим талантом смог расположить к себе Лидию Леонидовну и ее дочь Светлану.
— Приходите к нам в гости еще, Федор, просто так, мы будем рады, — почти в один голос предложили Глебу мать и дочь.
— Обязательно загляну. Извините за беспокойство. Я, в общем-то, забежал всего лишь на несколько минут, а видите, как получилось.
Уже у самой двери девушка приблизилась к Глебу, запрокинула голову, томно заглянула ему в глаза:
— Вы можете, Федор, прийти на мой день рождения ровно через неделю, в шесть?
— Света, перестань! — воскликнула Лидия Леонидовна. — Федор занят, ты что, разве этого не понимаешь?
— Ну и что, пусть приходит с женой, мы ведь, мама, будем рады?
— Да, конечно, — немного опустив голову, произнесла сорокалетняя женщина и затем посмотрела в глаза Глебу. — Мы действительно будем рады, к нам ведь никто не ходит.
— Спасибо за приглашение. Если такая возможность представится, то обязательно буду.
Глеб распрощался, как будто мать и дочь были его старыми друзьями и он знал их уже лет сто. Садясь в машину, он оглянулся: Светлана стояла у окна и махала ему рукой.
— Так, не забыть, — сказал себе Глеб, — ровно через неделю. Надо будет прислать цветы Светлане, бутылку вина и хороший торт. Думаю, это будет им приятно.
Глеб уехал в приподнятом настроении. Как он предполагал, так и получилось.
«Вот что такое профессионализм. Надо запоминать все, каждую деталь, каждую мелочь. Кто знает, что потом понадобится. Все-таки удивительно, зачем он покупал картину у бомжа? Что же было изображено на той картине? — Глеб продолжал ехать и пытался напряженно вспомнить сюжет. — Да, конечно же, портрет, немного странный — девушка в белом с цветами на каком-то ярко-синем фоне, словно по небу летит. Не хватало лишь звезд, солнца, птиц. Странная картинка, словно ребенок нарисовал…»
Картину Глеб видел в Витебске мельком, из-за плеча рыжего мужчины с двумя родинками на шее. Тогда его больше, чем живопись, интересовало, куда подевался Омар. Мужчина был с женщиной с короткой стрижкой и серьгами, в которых поблескивали зеленые камешки.
«По-моему, в руках мужчина держал фотоаппарат „мыльницу“. А как был одет Макс Фурье? Ну давай, давай, восстанавливай, собирай из кусочков цельную картинку. Играл духовой оркестр, по-моему, музыканты играли Штрауса. Да, да, фантазию Штрауса. Гобой немного фальшивил, а барабан бил слишком торопливо. Да что возьмешь с духовиков? Наверное, самодеятельный оркестр. Ясное дело, не оркестр фон Караяна. Так в чем же был одет француз? Воротник стойка, очки, круглые очки, камера… француз был с видеокамерой. На ногах у Макса Фурье, по-моему, сандалии. Нет, ног я не видел, но то, что рубашка была с коротким рукавом, а худые руки были волосатыми, это точно, в этом я ошибиться не мог. Рыжий мужчина с родинкой на шее на ухо сказал своей подруге: „Смотри, иностранец покупает у этого придурка“. Придурок… А как же выглядел этот придурок? Почему я его практически не запомнил? Ну, Глеб, вспоминай, вспоминай, ты можешь вспомнить все.»
И картинка, словно по заклинаниям, возникла.
«Мужчина лет пятидесяти с испитым лицом, очень смуглый, с залысинами, в очках. Круглое лицо, припухшие губы, небритые щеки. Какая-то дурацкая майка с растянутым воротом, черные или темно-синие, в общем, темные, — рассуждал Глеб, — да, темные брюки — трико, с отвисшими, растянутыми коленями, и черные туфли. У него была одна картина, с ней он и стоял. Пухлые губы, загорелое лицо, загорелое, как у работника пляжа. Наверное, мужичок много бывает на свежем воздухе, поэтому так сильно загорел. Ну вот, будь я художником, я наверняка смог бы нарисовать его портрет. Да, на память мне жаловаться грех, хотя, наверное, есть люди, зрительной памяти которых я мог бы позавидовать.»
ГЛАВА 16
Софья Ивановна Куприна, искусствовед, эксперт галереи «Мост», замужем была трижды. И все три брака были неудачными, закончились разводом. Вот уже второй год Софья была свободна. По большому счету, ей нравилась работа: презентации, фуршеты, подготовки выставок, заграничные командировки, встречи с искусствоведами и художниками, интересные разговоры. Но она чувствовала, как может чувствовать только женщина, насколько все в этом мире быстротечно и изменчиво. Красота уходила, возраст брал свое, и уже требовались усилия, требовалось время, чтобы восстановить силы и выглядеть как в тридцать, быть обаятельной, умной, сексапильной, неотразимой.
Да, Софья была хороша собой, даже слишком. Она чувствовала на себе взгляды мужчин, липкие и хищные. Стоило ей поговорить с мужчиной минут десять, и ее пухлые губки, идеально накрашенные, начинали кривиться.
«Какой же он идиот!» — думала женщина, но произносила совершенно другую фразу:
— Извините, пожалуйста, но у меня дела… Да, можете позвонить, конечно же, я буду рада, — и уходила быстро и незаметно, как сухой песок на берегу моря уходит сквозь пальцы.
О, как печален ты, безжизненный песок, едва сожму в руке. Шурша, чуть слышно сыплешься сквозь пальцы.Все чаще и чаще вспоминала она японское пятистишие, глядя на свое отражение в зеркале.
К капризам, причудам и своеволию своего шефа Олега Петровича Чернявского она привыкла. Она старалась не обращать внимания на его чересчур резкие высказывания, а иногда на грубую, почти площадную брань. Олег Петрович хорошо платил, а она старалась безупречно делать свою работу.
После того как Чернявский принес в ее кабинет полотно Шагала, их отношения изменились. Шеф резко стал мягким, покладистым, изменился по отношению к ней кардинально. Он стал обходителен, учтив, отпускал своей сотруднице комплимент за комплиментом. Обращал внимание на ее одежду, на тонкий вкус, и Софья даже немного начала теряться, не понимая, с чем связаны подобные изменения.
Вот и сегодня, едва она вошла к себе, не успела поправить прическу, немного растрепанную теплым летним ветром, как в ее кабинет, постучавшись, чего ранее никогда не было, вошел Олег Петрович. Он был в кожаных штанах, дороих туфлях, рубахе, его глаза за стеклами очков поблескивали, словно в каждый попало по капельке масла. Губы Олега Петровича были влажными, он, как всегда, распространял вокруг себя аромат очень дорогого одеколона.
— Доброе утро, Софья.
— Здравствуйте, Олег Петрович.
— Ты с каждым днем хорошеешь, Софья. Уж не влюбилась ли?
— Перестаньте, Олег Петрович, какое там влюбилась! Кому я нужна?
— Вы, — искренне воскликнул Чернявский, — да будь я помоложе, да будь я побогаче, вы из моих рук не ускользнули бы.
— Ох, все вы, мужчины, такие, смотрите в глаза и врете.
— С чего вы взяли, что я вру? — Чернявский обращался к своей сотруднице то на «ты», то на «вы». К подобному обращению Софья Ивановна привыкла. — Присаживайтесь, — обратился он к ней, — сюда садитесь, напротив меня, — он взял Софью за плечи и усадил на вертящееся кресло возле компьютера. Затем неторопливо развернул кресло и устроился напротив. — Софья, скажи честно, глядя мне в глаза.
— Что сказать?
— Куда бы ты хотела поехать отдохнуть на месяц?
Женщина пожала плечами, тряхнула головой и чуть надула свои и без того пухлые губы.
— О, Олег Петрович, вы такие вопросы задаете! С вами хоть на край света, — в тон шефу пошутила Софья.
— Зачем так ставить вопрос? Я должен остаться на хозяйстве, должен же кто-то за всем присматривать?
— Не знаю, не знаю.
— Париж? Лондон? Роттердам? Канны? Рим? Мадрид? Венеция? А может быть, Софья, ты хочешь что-нибудь экзотическое?
Софья взмахнула ладонью, сверкнуло колечко с маленьким бриллиантиком.
— Какая уж там экзотика, хочется простых, незамысловатых радостей.
— Незамысловатые — это где: Кижи, Подольск, Ярославль?
— О нет, туда мне почему-то не хочется. Если только в командировку.
— А не хотите ли вы поехать во Францию? У меня к вам будет поручение, вы сможете совместить приятное с полезным.
— Что за поручение, Олег Петрович?
— Я хочу, чтобы вы съездили в Париж и кое с кем встретились, уточнили детали, — Олег Петрович смотрел на округлое колено своей сотрудницы, взгляд его глаз был холодным.
Но Софья этого не видела, ведь мужчина держал голову наклоненной вперед.
— И что вы думаете, Олег Петрович, я откажусь?
— Значит, не отказываетесь. Другого ответа, честно признаться, я от вас и не ожидал. Завтра этот вопрос мы с вами обсудим поподробнее, я должен созвониться и кое с кем переговорить. Кстати, Софья, будь так любезна, найди ценники аукционов последних трех лет и посмотри, какие цены на Шагала. До обеда, надеюсь, справишься?
— Постараюсь, — Софья уже догадалась, куда клонит Чернявский.
— Меня интересуют цены на холсты, написанные в Витебске.
— Будет сделано, — Софья, глядя на шефа, включила компьютер.
— Вот и хорошо. Извини за беспокойство, — Чернявский покинул ее кабинет.
Женщина озадаченно передернула плечами и еще раз взглянула на свое отражение в экране монитора. Компьютер лишь начал грузиться, и экран пока оставался темным. Отражение ее вполне удовлетворило.
После двух часов перерыва в кабинет Софьи Ивановны без стука не вошел, а влетел Олег Петрович. Он был невероятно возбужден:
— Ну, Софья Ивановна, чем обрадуете?
Софья повернулась от компьютера, принтер печатал последнюю страницу.
— Вот все, что я нашла, — она подала бумаги Олегу Петровичу.
Тот уселся за письменный стол на ее место, взял бумаги и принялся быстро просматривать, при этом издавал нечленораздельные звуки.
— Вот это что?
— Это девяносто девятый год. Извините, Олег Петрович, дату не пробила, это аукцион Кристи, который проходил в Нью-Йорке.
— Да? Это что, за двенадцать миллионов?
— Да. Ее купила авиационная компания.
— Двенадцать миллионов, я не ошибся?
— Стартовая цена была восемь.
— Восемь и двенадцать, разница в четыре миллиона. Очень даже неплохо.
— А вы, наверное, заметили, обратили внимание, что с Шагалом, как и с Ван Гогом, всегда так, почти на пятьдесят процентов продажная цена выше заявленной.
— Это не может нас не радовать. Но мы никому об этом не скажем. Правда, Софья? — он снял очки, и его сытое лицо стало каким-то немного детским и в то же время хищным.
«А он ничего, — подумала Софья, — очень даже ничего. Но… не моего поля ягодка.»
Она уселась на подлокотник кресла, повела плечами и тут же подумала о том, что помада на губах уже не такая свежая, как утром, а прическа наверняка растрепалась.
— Послушай, Софья, — опершись локтями о стол и положив голову на руки, сказал Олег Петрович Чернявский, — мы с вами сколько лет работаем вместе?
— Больше трех лет, Олег Петрович.
— Вот и я говорю, давным-давно знакомы, а ты меня еще никогда в гости не приглашала. Мне интересно, как ты живешь.
Софья улыбнулась. Ее красивое лицо стало загадочным.
— Так вы же не придете, если я вас приглашу.
— Это еще почему?
— Я вас как-то приглашала на свой день рождения, а вы не пришли.
— Когда это было?
— Три месяца назад, Олег Петрович.
— А, вспомнил… У меня встреча была, с банкирами, если я не ошибаюсь. Я очень переживал, что не смог попасть к тебе. Вообще, все это мне надоело, ерунда какая-то, эти встречи, разговоры, переговоры. Софья, а если сегодня?
— Что сегодня?
— Если сегодня я приду в гости?
— Но мне надо подготовиться.
— Зачем? — воскликнул Олег Петрович. И тут же она спохватилась.
— А почему бы, собственно, и нет? — сказала она это довольно кокетливо, стараясь вложить во фразу не столько многозначительность, сколько эротический оттенок.
— Вот и договорились. В восемь я буду у вас. А сейчас ты свободна. Спасибо за сделанную работу, — Олег Петрович взял со стола бумаги, подошел к Софье и поцеловал ей руку. Быстро вышел из кабинета.
Софья стояла, словно ее ударило током и на несколько мгновений парализовало.
«Что с ним? Или со мной? — она взглянула на себя в зеркало. — Щеки порозовели, глаза блестят, губы подрагивают. Боже мой, о чем это ты подумала? — в мыслях спросила женщина у своего отражения и опять же сказала себе и своему отражению: — А почему бы, собственно, и нет? Я, конечно, противник служебного романа, но если шеф хочет ко мне прийти в гости, собирается отправить меня за границу, значит, я ему интересна и нужна.»
И она поспешно принялась собираться. Выключила компьютер, собрала сумочку и, цокая тонкими каблучками, почти побежала по коридору на стоянку машин.
«Что же он любит? Чем его поразить? Знаю. Хороший коньяк у меня есть, у меня есть вино, которое буду пить я. Сейчас заскочу на рынок, затем в магазин, потом к косметичке. Макияж, прическа, надену черное белье, надену вечернее платье на тонких бретелях, оно меня стройнит. Надену новые туфли, ну вот, собственно, и все. Квартира у меня, слава Богу, убрана, хотя… Цветы, обязательно надо купить цветы.»
Софья жила одна в двухкомнатной квартире, доставшейся ей от родителей, в центре.
«Не забыть постелить шелковую простынью, хотя, может быть, у него другие интересы и совершенно иные цели. Но, если мужчина сам напрашивается в гости, это говорит о том, что цель у него… Господи, размечталась, дуреха, чуть на красный не проехала!» — резко затормозив, обругала сама себя Софья.
Олег Петрович Чернявский в шесть приехал к себе домой. Жена и дети были за границей. Интерьер его квартиры печатали во многих модных дизайнерских журналах: серо-бело-синий колорит, много металла, стекла — дизайнеры поработали на совесть. Но о тайном сейфе в платяном шкафу знал лишь хозяин.
Олег Петрович проверил, хорошо ли заперты входные замки, и лишь после этого открыл платяной шкаф, набрал одному ему известный код, повернул в замке ключик и открыл тяжелую дверцу сейфа. Картина стояла, девушка, изображенная на ней, улыбалась и смотрела с картины.
«Так может смотреть лишь влюбленная на возлюбленного», — мелькнула мысль в голове у владельца галереи.
Он бережно вытащил картину, поставил так, чтобы на нее падал скользящий свет, устроился напротив в кресле-качалке, закурил, держа пепельницу на коленях, и стал любоваться. Чернявский разбирался в живописи, мог отличить настоящую работу от подделки. Сейчас перед ним был шедевр, причем самый что ни на есть подлинный, и обладание этой картиной, знание, что она стоит около десяти миллионов долларов, делало эти моменты самыми сладкими в жизни галерейщика. Он испытывал состояние высшего блаженства.
Наверное, скряга, конченый, сошедший с ума, так смотрит на сундук, наполненный драгоценностями. Так смотрит влюбленная мать на своего ребенка, когда тот делает первые шаги или произносит невнятно, с улыбкой «ма-ма» — два простых слога. Но это детское бормотание, этот лепет, переворачивает все в женской душе, и женщина счастлива.
— Боже, как мне повезло! — воскликнул коллекционер, когда пепел упал прямо на колени. — Фу ты, черт подери! — Олег Петрович вскочил, подошел к картине, потрогал ее, прикоснувшись к поверхности подушечками пальцев. — Это мое, это мое и больше ничье! Я тебя никому не отдам, я даже тебя не продам. А если и продам, то буду плакать, — он снял очки, протер стекла.
Изображение на холсте слегка расплывалось. Он взял картину в руки, поднес к лицу, рассматривая поверхность.
— Я ее никому не покажу, о ее существовании не узнает никто на свете. Проханов никому не скажет, он не сумасшедший. На нем два трупа, а он хочет жить, поэтому Проханов будет молчать. Да и не знает он, какую картину мне привез.
Олег Петрович поворачивал в руках холст. Белая бумажка выпорхнула к его ногам.
— Это еще что? — мужчина наклонился, поднял твердый глянцевый прямоугольник с помятыми уголками, надел очки и прочел то, что было написано на визитке. — Интересно, интересно, — пробормотал он, на мгновение забью о существовании картины, — кто же такой Ефим Лебединский? Ефим Иосифович… Это скорее всего тот урод, у которого была куплена картина. Понятно… — Олег Петрович Чернявский спрятал картину в сейф, все еще не расставаясь с визиткой Ефима Лебединского.
Он расхаживал с нею по квартире, которая занимала целый этаж, и бубнил себе под нос:
— Ефим Лебединский… Ефим Лебединский, — он произносил слова так, будто в них таился скрытый смысл, и вот сейчас, произнеси он еще раз имя и фамилию, Ефим Лебединский материализуется и появится здесь, на шведском паркете, маленький, темноглазый, с хитрющей улыбкой на еврейских губах. — Я тебя проведаю, Ефим, ты от меня никуда не уйдешь. Чудес, конечно же, не бывает, но вдруг у тебя есть еще что-нибудь или, может быть, ведь так бывает, ты спер этот холст у своих знакомых, нашел его где-нибудь.
И тут звонко ударили часы, модерновые, красивые, с прозрачным механизмом. Олег Петрович взглянул на свои часы на запястье правой руки.
«Меня сегодня ждет женщина, — его лицо стало строгим, губы сжались, между бровями залегла глубокая морщина. — Я должен быть красив, я должен быть очарователен, обходителен, вежлив и так далее, и тому подобное. Что ж, я постараюсь ее не разочаровать. Она мне нужна, но совсем недолго, все свои дела я могу уладить и без нее, вполне могу.»
Он вынул из ящика письменного стола короткий алюминиевый цилиндрик, хранившийся в запертой на ключик шкатулке. Потряс его. Глухим стуком отозвались таблетки. Сердце забилось чаще.
Чернявский сдал квартиру на сигнализацию. Портье, который сидел внизу, немолодой мужчина, отставной полковник бронетанковых войск, поднялся со своего места, когда Чернявский спускался по лестнице.
— Вы надолго, Олег Петрович?
Подполковник был лет на десять старше Чернявского, но выглядел старше его на все тридцать.
— Как карта ляжет, — небрежно бросил Олег Петрович, покидая подъезд.
Его джип стоял на площадке во дворе дома. Площадка тоже охранялась, в будочке сидел крепко сбитый парень в солнцезащитных очках. Он улыбнулся Чернявскому. В доме было двадцать две квартиры, и в каждой жили очень состоятельные семьи, кто-то был банкиром, кто-то предпринимателем. А вот Чернявский для портье и охранника стоянки был абсолютно непонятен: вроде как с художниками водится, какую-то галерею имеет. Политики к нему известные часто наведываются, бизнесмены. Машина у Чернявского — одна из самых крутых на стоянке, да и у супруги тачка замечательная, и «мерседес» представительский у Чернявского имелся.
«Не бизнесмен, не политик, какими-то выставками занимается, а такие деньги гребет!» — подумал охранник стоянки, поднимая полосатый шлагбаум.
Он увидел за тонированным стеклом профиль Олега Петровича с сигаретой в зубах. Охранник завидовал, но понимал, что подобная жизнь ему просто-напросто недоступна и непонятна. Откуда Чернявский берет деньги? Ведь ничего не производит — ни машин, ни станков, не гоняет эшелоны с нефтью, не продает металл. Какие-то там картинки, рисунки, неужели это может стоить так дорого? Охранник закурил и включил погромче музыку.
Софья тем временем готовилась к встрече с боссом. Выглядела она на пять с плюсом. Стол в гостиной уже был накрыт. Вино, коньяк, виски — все было готово. Комнату наполняла негромкая музыка — этакая симфоническая попса. Софья прекрасно знала вкус своего хозяина: серьезная музыка не для него, а вот смесь симфонии с попсой — то самое. И ей самой иногда нравилась музыка, которая не напрягает, которая не заставляет думать, а лишь звучит фоном, смягчая голоса, делая их более тихими, а разговор более задушевным.
Звонок тренькнул коротко, всего лишь один раз, словно тот, кто стоял за дверью, небрежно тронул кнопку. Цокая каблуками по паркету, женщина заспешила к входной двери. Она не стала спрашивать: «Кто там?».
Открыла дверь, сделала шаг в сторону.
— Это вы…
Олег Петрович Чернявский с букетом цветов стоял за дверью, мило улыбаясь.
— Ну, привет, — произнес он, подавая букет и целуя Софье руку, пахнущую духами. — Даже голова закружилась, — сказал Чернявский, быстро оглядываясь по сторонам.
— Проходите, Олег Петрович.
— Давай договоримся: с этого момента не Олег Петрович, а просто Олег.
— Хорошо, — согласилась женщина. — Проходи, Олег. Усаживайся. Какие красивые цветы! Спасибо.
— Не смог придумать ничего лучшего как прийти с букетом.
— И правильно сделал.
Чернявский прислушивался к музыке, садясь на мягкий диван.
— О, какие рисунки!
Он, не вставая с дивана, закинув ногу за ногу, рассматривал рисунки на противоположной стене.
— Они мне очень нравятся, — сказала Софья, ставя букет в вазу.
— Нравятся, нравятся… — ответил Чернявский.
И вдруг резко, как отскакивает мяч от пола, сорвался со своего места. Подошел к стене и пристально принялся всматриваться в подписи.
— Подарил он тебе их сам?
— Да. Я написала о нем несколько статей, когда готовилась выставка.
— Мне не очень нравится Шемякин, — сказал Олег Петрович. — Я пробовал им заниматься, но в самом начале. Человек он несговорчивый, хотя художник… Да ладно, что мы о нем говорим. Софья, присядь.
— Я понимаю, Олег, ты за рулем.
— Ну и что из того? Могу и выпить немного, я не спешу.
— Водка, коньяк, виски, вино?
— Что ты посоветуешь? Сама-то что пить будешь?
— Я — вино, белое, под рыбу.
— А я выпью виски, только, пожалуйста, без чудес, если ты не возражаешь.
— Что значит «без чудес»?
— Безо льда. Просто так, чистый напиток.
Олег Петрович взял бутылку с вином, наполнил бокал, затем налил себе виски в широкий тяжелый стакан.
— За тебя, Софья!
— Хорошо, — ответила женщина.
Она пила аккуратно, чтобы не испортить помаду, чтобы не разрушить контур губ, ведь она долго и старательно их рисовала. Губы ей удались. Они получились довольно эротичными, манящими и многообещающими. И это не ускользнуло от Олега Петровича.
— Ты выглядишь, Софья, чудесно, Как это я раньше не замечал, что ты так красива?
— Некогда, наверное, было. Да и работа — не то место, где мужчина любуется женщиной.
— Да уж, — согласился Чернявский. — Что-то работы в последнее время навалилось выше крыши, даже голова к вечеру начинает гудеть.
— Но, судя по всему, дела идут неплохо?
— Как сказать, — пожал плечами владелец галереи. — В общем, к Новому году будет ясно…
— Олег, — многозначительно взглянув на мужчину, произнесла Софья, — а чей был Шагал?
Чернявский насторожился и ответил не сразу. Сделав глоток виски, поморщился:
— Чей он был? Ты не знаешь этого человека. Это не мой клиент. Вообще, лучше о ней забудь. Ты ее не видела…
— Олег, он собирается продать эту картину?
— Я его уговариваю продать, естественно не мне. Откуда у меня могут быть такие деньги? Мы с тобой выступим посредниками и снимем свои проценты, если, конечно, сделка будет удачной.
— Сколько он хочет за этот маленький шедевр?
— Он думает, — глядя в глаза Софьи, солгал Чернявский. — Он еще целую неделю будет думать и лишь после этого скажет.
— А если бы у тебя было столько денег, ты бы купил Шагала?
— Да, наверное. Но это ж какие деньги надо иметь, чтобы покупать такие картины! Я полагаю, даже Эрмитаж или Пушкинский музей купить ее не в состоянии.
— Это точно, их дела я знаю. Верхний предел для них — миллион долларов, да и то, если подключатся спонсоры.
Олег Петрович согласно кивал. Мужчина, отставив стакан, взял женщину за руку, за запястье — там, где билась ниточка пульса.
— Скажи, пожалуйста, если, конечно, не сочтешь мой вопрос бестактным и нахальным.
— Да, я слушаю, — Софья подалась вперед, руку не вырвала, лишь посмотрела на пальцы мужчины.
— Почему это ты, такая хорошая, красивая, умная… Нет, я неправильно формулирую, вначале надо говорить красивая, затем умная, а уж потом — хорошая, и одна?
Пухлые губы женщины шевельнулись, она изобразила чуть виноватую улыбку, а затем расхохоталась, показывая белые, крепкие зубы.
— Так получилось, так нравится. И возможно, это к лучшему, — затем она сделала глоток вина и накрыла руку Олега Петровича теплой ладонью. — Мне почему-то не везет на умных мужчин. Все с претензиями, чего-то от меня хотят, а чего — сказать не могут. Три замужества, и все неудачные. Один был слишком талантлив и обеспечен, он сейчас живет в Нью-Йорке, довольно известная личность, театральный художник, на Бродвее спектакли оформляет. Второй тоже был художник, мы расстались, причем с ужасными скандалами и истериками с его и моей стороны. Потом мы пытались несколько раз наладить наши отношения, но слишком все уже было запущено.
— И где он сейчас? — спросил Олег Петрович, сжимая запястье женщины.
— Где он сейчас? — глаза Софьи на мгновение сделались грустными. — Он умер.
— Извини, пожалуйста.
— К чему извинения! Он сам виноват, сначала водка, потом наркотики. Я пыталась его спасти, хотела его вытащить, но он сам не хотел. Когда мужчина не хочет за что-то отвечать, а вернее, он вообще ни за что не хотел отвечать, он радовался жизни, как ребенок, и я ему была не нужна. Я ему мешала со своими нравоучениями, со своей работой, со своими мыслями. И он ушел к какой-то молодой грязной барышне. Они расписались, затем он бросил ее. Приходил ко мне, но я уже не могла с ним даже разговаривать, мы стали с ним разными. К тому же у меня появился мужчина, мне казалось, что это был тот человек, которого я искала.
— Художник? — осведомился Олег Петрович.
— А вот и нет, никакой не художник, и к искусству он не имел никакого отношения. Он был технарь. Знаешь, Олег, есть такие фанаты своего дела, для которых цифры, формулы, каркасы конструкций, сопротивление материалов превыше всего. Поначалу, поверь, меня это очень устраивало. Он не лез в мои дела, потому как ничего в них не понимал, а я не могла вникнуть в его проблемы, слишком они были от меня далеки. Он был ведущим конструктором, бросил свою семью, жену, двух детей, переехал ко мне, Поначалу у нас все шло хорошо, я даже планировала родить ребенка, а потом вдруг… Мне тяжело все это вспоминать, ну, да бог с ним, оно уже далеко — в прошлой жизни.
— Если не хочешь, не рассказывай, — продолжая поглаживать запястье женщины, произнес Чернявский.
— А затем я вернулась с работы, я еще тогда в музее работала, и такое у меня настроение хорошее было, думала, уедем с ним за город, погуляем по лесу, к реке выйдем… Открываю дверь, а его нет. Он сложил всю свою одежду в два чемодана и ушел, оставив записку. У меня после этого была такая депрессия, но я не стала ему звонить, не стала разыскивать, потому что поняла, что-то у нас не сложилось, не срослось, мы оказались чересчур разными, каждый был занят собой. Вот, собственно, и все три мои замужества. Смешно, Олег?
— Нет. Давай выпьем знаешь за что? — мужчина наполнил бокал вином, плеснул себе виски в стакан. Сосуды нежно соприкоснулись друг с другом, издав тихий звук, как будто обручальным кольцом ударили в зеркало. — Выпьем за то, чтобы у тебя все сложилось. Я ведь давно на тебя смотрю.
В ответ на это замечание Софья чуть кокетливо ухмыльнулась, затем встала, сделала музыку чуть громче.
— Сейчас я принесу рыбу.
— Не нужна никакая рыба, и так хорошо.
— Но я же должна показать, что, кроме того что разбираюсь в искусстве, я еще неплохо готовлю, могу быть радушной хозяйкой. Кстати, если хочешь, кури.
— Очень хочу, — Олег Петрович положил на стол пачку сигарет, придвинул серебряную пепельницу в виде ракушки.
— Это пепельница моего отца. А еще раньше она принадлежала деду.
— Твой дед был художником?
— Да, — сказала Софья, — в тридцать девятом чекисты его расстреляли. Бабушка замуж больше не вышла.
— Да, тяжелые времена были в России.
— Очень тяжелые, — с грустью в голосе произнесла Софья, делая чуть громче музыку.
Она говорила искренне, стоя спиной к гостю. Если бы она вдруг увидела выражение глаз Олега Петровича Чернявского, то, наверняка, мурашки пробежали бы по ее спине и ее гладкая кожа на округлых плечах мгновенно стала бы гусиной.
Когда она обернулась, Олег Петрович улыбался немного растерянно.
— Потанцуем? — произнес он, вставая.
— Что, так сразу? — улыбнулась в ответ Софья, делая шаг навстречу мужчине.
Олег Петрович положил ладони ей на плечи и начал переминаться с ноги на ногу. Танцор он был никудышный, танцевал как медведь, все плотнее и плотнее прижимая, привлекая к себе Софью. К середине танца мужчина уже целовал женщину в шею и шептал ей на ухо:
— Никогда не думал, что ты так привлекательна, так хороша собой.
— Вы мне льстите, — то ли в шутку, то ли всерьез отвечала Софья. — Все мужчины одинаковы.
— А вот и нет, я говорю это вполне искренне, — кривя губы в недоброй улыбке, шептал на ухо женщине Олег Петрович. Его руки скользили по спине, затем легли на бедра, и он еще сильнее прижал к себе сотрудницу. — Ты слишком хороша.
Софья Петровна понимала, чем кончится танец, и была готова к подобному финалу.
«Ну вот, сейчас он поведет меня в спальню. А почему бы, собственно, и нет? Он — мужчина, я — женщина, и сейчас абсолютно не важно, что он мой босс, а я его подчиненная, мы сейчас на равных.»
Пальцы Чернявского прикоснулись к тонкой бретельке платья, и бретелька медленно упала к локтю.
— Погоди, осторожно, — прошептала Софья, она уже была податлива, желание овладело ею. Может, подействовало вино, музыка, а может, все вместе. Да и с мужчиной в подобной обстановке она уже не встречалась несколько месяцев. Поэтому дремавшие чувства, желания проснулись быстро и захватили ее всю от макушки до пят. Она выгибалась, прижимаясь грудью к груди Олега Петровича, она терлась о него. А он неторопливо искал ее губы и в конце концов нашел.
В спальню они шли, обнявшись.
— Погоди, я сама помогу тебе раздеться.
— Нет, я помогу тебе, — сказал Чернявский, медленно расстегивая молнию на черном шелковом платье.
Когда оно упало на ковер, соскользнув с тела, как ненужная старая кожа, он усадил к себе на колени Софью и принялся целовать шею, грудь, Софья постанывала, они страстно и, как это ни удивительно, неумело целовались. Затем Олег Петрович быстро разделся, и они оказались в постели на скользкой шелковой простыне. Софья была невероятно возбуждена, и ее возбуждение передалось мужчине.
Она быстро кончила и с удивлением посмотрела на своего партнера. Лицо Олега Петровича Чернявского было каким-то странным, глаза прикрыты, он покусывал губы, на щеках бегали желваки.
— Что-то не так, Олег?
— Все хорошо, все нормально.
— Всего лишь нормально? — переспросила Софья.
— Нет, все хорошо, не переживай. Ты прелестна. Я даже и не ожидал, даже и не предполагал, — перевернувшись на бок, сказал Олег Петрович, поглаживая грудь Софьи.
Сосок мгновенно отвердел, набух. Софья прильнула к шее Олега Петровича.
Через час мужчина поднялся и покинул спальню. Когда из гостиной появилась Софья, ее гость сидел голый в кресле со стаканом виски в руках, зажженная сигарета лежала на краю пепельницы. Он так и не нашел в себе силы бросить таблетку с отравой в бокал Софье. Ему впервые за многие годы было так хорошо с женщиной.
— Ты себя нехорошо чувствуешь?
— Наоборот, слишком хорошо, — Чернявский взял сигарету, и Софья заметила, как дрожат у мужчины пальцы. — По-моему, все нормально.
— Ты какой-то напряженный. Почему не можешь расслабиться?
— Я сам толком не знаю, — ответил Чернявский, выпивая виски.
— Пойдем, — Софья взяла его за руку. Мужчина не сопротивлялся, и она повела его в спальню. Софья уложила его на большую кровать, сама села рядом, сбросила шелковый халат и принялась поглаживать волосатое тело Чернявского, скользя пальцами по груди, животу. Мужчина начал постанывать, возбуждаться.
— Расслабься, Олег, расслабься, и все будет хорошо.
Так оно в конце концов и получилось. Чернявский смог расслабиться.
— Что это ты пьешь за таблетки? — спросил он уже после секса.
— Какие таблетки?
— В ванной на полочке стоят.
— А, это аспирин, я каждый день выпиваю таблетку, мне посоветовал врач. Я их пью уже на протяжении двух лет.
— У тебя голова болит, что ли?
— Нет, это профилактическое. И вообще, об этом я не хочу и говорить.
— Что, каждый день? — переспросил Олег Петрович с явным любопытством в голосе.
— Да, каждый день перед тем, как выйти из дому.
— И в выходные?
— Я же сказала, каждый день.
— Все понятно, извини. Я хочу принять душ.
— Пожалуйста, а я отдохну. Все найдешь в ванной.
— Найду.
Войдя в ванную, мужчина закрылся. В его руке была пробирка. Он взял бутылочку с аспирином, вытряхнул себе на ладонь пять таблеток, находившихся в бутылочке из прозрачного белого стекла, несколько мгновений их рассматривал. Затем откупорил свою пробирку. Таблетки аспирина на его ладони и таблетки, которые он достал из своей пробирки, были похожи по размеру и цвету. Он взял таблетку аспирина, бросил ее в умывальник, смыл, а таблетку из своей пробирки бросил в бутылочку с аспирином и аккуратно закрыл пробку. Лишь после этого забрался под душ. Он стоял под струями горячей воды, которая смывала пот, смывала желание и запах Софьи, и его губы в каплях воды кривились.
«Пять дней. Может, это произойдет даже завтра, а может быть, послезавтра. В общем, пять дней.»
— Ты собираешься уйти, Олег? — открыв ванную и глядя на мужчину, спросила Софья.
— Ты предлагаешь остаться?
— Конечно, хотя как тебе будет удобно. Но, честно говоря, я не советовала бы тебе садиться за руль, все-таки ты немного выпил.
— Это не страшно, — сказал Чернявский. — Я могу на ногах не стоять, но ехать смогу.
— Не советую, — произнесла Софья.
— Может, ты и права. Пожалуй, я уеду утром.
— Где твои сейчас?
— Где же им еще быть — за границей отдыхают. Иногда звонят, иногда по Интернету пишут, как им хорошо, просят, ясное дело, денег.
ГЛАВА 17
Все было как обычно. Без десяти девять генерал Потапчук остановил машину в арбатском дворе. Водитель понимающе кивнул, когда Потапчук с портфелем в руках, на этот раз без зонта, покинул машину.
«Любовница у него тут живет, что ли? — подумал водитель, глядя в зеркальце на своего шефа, который решительно по диагонали пересекал двор. — Явно кто-то у него здесь близкий, слишком часто он ездит. Правда, если бы это была женщина, то генерал хоть иногда приезжал бы с букетом цветов. Значит, не женщина», — решил водитель, включая погромче музыку и откидываясь на спинку сиденья.
Потапчук вошел в соседний двор, обошел беседку и трех ребят, которые перебрасывались мячом, и взглянул на знакомые окна. Как он и предполагал, они были темные.
«Вот уж прирожденный конспиратор. Ни разу я не видел, чтобы окна были открыты, чтобы свет пробивался сквозь жалюзи.»
Неторопливо поднялся на последний этаж, переложил портфель из левой руки в правую и дважды надавил кнопку звонка.
Дверь открылась.
— Входи, Федор Филиппович, — услышал он голос Глеба, переступая порог.
Дверь бесшумно закрылась, щелкнули замки. Лишь после этого, как всегда, в маленькой прихожей вспыхнул свет, невероятно яркий, аж глаза у Потапчука заслезились.
— У тебя здесь, Глеб Петрович, как в операционной.
— Это вам кажется после подъезда.
— Почему лампочки на лестнице не вкрутишь?
— Я периодически вкручиваю, а подростки их периодически выкручивают. Мне это дело надоело, и я решил — пусть будет как есть.
Генерал разделся и с портфелем вошел в мастерскую. Как всегда играла музыка, светился монитор компьютера.
— Я принес кассету, на нее согнали все, что было при Максе Фурье, — сказал Федор Филиппович, ставя на журнальный столик портфель и извлекая из него кассету. — Я специально попросил сделать копию под твой видеомагнитофон.
— Если бы вы принесли маленькую кассету, я бы мог и ее использовать. Камера у меня есть.
— Извини, Глеб, не знал.
— Куда же вы, думаете, я деньги налогоплательщиков трачу?
— На женщин конечно же, — пошутил генерал Потапчук, передавая Глебу кассету.
— Нет, Федор Филиппович, на улучшение материально-технической базы. Ведь двадцать первый век — это время прогресса, а прогрессу следует соответствовать. Все вооружаются — компьютеры, ксероксы, все новое… Вот и я стараюсь идти в ногу со временем.
— Ладно тебе, Глеб Петрович, старика лечить.
— Я не лечу, а отчитываюсь, Федор Филиппович, чтобы вы не думали, чтобы вам за меня стыдно не было, а то еще подумаете, будто ваш человек транжирит государственные денежки, а пользы не приносит.
Глеб вставил кассету в видеомагнитофон и уселся в кресло.
— Скажи мне, что ты надеешься увидеть?
— Хочу получить подтверждение одной из своих версий.
— У тебя уже есть версии?
— Да, — спокойно произнес Глеб. — Прошу прощения, забыл вас кофе угостить.
— Давай, я не откажусь: голова болит.
— Сильно болит?
— Тяжелая. Достали в конторе. Но я жду версию…
Глеб наполнил чашки ароматным кофе, придвинул к генералу пепельницу, пачку сигарет, при этом сказал:
— Можете курить мои. Я знаю, вы по будним дням без сигарет ходите.
— Все ты знаешь, все тебе известно, даже версия у тебя существует.
— А вот ваши люди, Федор Филиппович, скажу откровенно, работают хреново.
— Без тебя знаю.
— Причем не просто плохо, а абсолютно непрофессионально. МУРовцы работают бестолково, и прокурорские следователи тоже действуют как слоны в посудной лавке.
— Что они сделали?
— Дело в том, что они ничего не сделали.
— Не понял, — генерал насторожился. Он не любил, когда кто-либо упрекает в бездеятельности его и его сотрудников. Он не стерпел бы подобных упреков от начальства, но с Глебом Сиверовым отношения были иные, и если Слепой что-то утверждал, то скорее всего это правда, у него есть веские доказательства, и Потапчуку хотелось их выслушать.
— Я просмотрел отчеты еще тогда, когда вы их принесли, а затем провел кое-какую работу. Встретился с домработницей Сергея Максимова, с ее дочерью Светланой.
— Давай ближе к делу. Любишь ты нервы наматывать! Ты мне чем-то напоминаешь директора ФСБ, тот тоже любит начинать издалека, с геополитического положения России, с ситуации, экономику затронет, о налогах поговорит. И так полчаса, пока в конце концов к делу не перейдет.
— Никто не обратил внимания, — отчетливо произнес Глеб, — на такую простую деталь: в квартире Сергея Максимова исчезла картина.
— Какая картина? — генерал тряхнул головой, отставил чашку с кофе и принялся вертеть в пальцах сигарету, раздумывая, зажечь ее сейчас или подождать.
Глеб щелкнул зажигалкой, поднес огонек Потапчуку.
Тот закурил.
— Почему остановился? Прикурить я и сам мог.
— Картина была перевязана шпагатом, завернута в плакат с суперкроссвордом, заклеена скотчем, размером шестьдесят на восемьдесят или шестьдесят пять на восемьдесят, могу на пару сантиметров ошибиться. Макс вез ее из Витебска. А вот когда приехали МУРовцы, картины в квартире не оказалось.
— Откуда ты знаешь, что картина была в квартире?
— Домработница мне сказала.
Потапчук принялся вспоминать протоколы допросов и другие документы по делу убийства двух журналистов.
— Не напрягайтесь, Федор Филиппович, картины в квартире после убийства уже не было.
— Значит, картину украли? Ты это хочешь сказать?
— Нет, я пока ничего не хочу сказать, я лишь утверждаю то, что ее нет в квартире. Вот, собственно, и все.
— Интересно, интересно, — жадно затягиваясь, бормотал Потапчук.
Глеб включил телевизор. Он просматривал записи в ускоренном режиме и лишь минут через восемь вдавил кнопку на пульте, запись пошла в нормальном режиме. Съемки были вполне профессиональными, явно, что человек, снимавший это, не первый год держит в руках камеру. Крупные планы, общие, снято все было почти монтажно.
— Вот смотрите, — Глеб сделал стоп-кадр. На экране застыл мужчина с загорелым лицом, с пухлыми губами, в очках, в майке и трикотажных штанах. Мужчина воздел руки, у его ног стояла картина.
— Вот она, — сказал Сиверов, проматывая запись. — А вот и продавец картины.
— И что из того? — невнятно произнес генерал Потапчук.
— Может, я ошибаюсь, может, интуиция меня начала подводить. Могу спорить, что он ее в мусорный контейнер не выбросил.
— Резонно, — ответил генерал. — В мусорный контейнер, конечно, не выбросит, а вот знакомым подарить может. Вполне возможно, что он ее купил в подарок для своей возлюбленной.
— У меня впечатление, что этот Макс Фурье имел ориентацию совершенно иную.
— Значит, подарил своему другу.
— Я вам говорил, Федор Филиппович, в поезде картина была с ним, завернутая в тот же самый плакат,
— Первый раз слышу.
— И в машину к Сергею Максимову он садился с картиной, и в квартире картина в день приезда была. Это подтвердили домработница и ее дочь.
— Вот даже как! На все у тебя, Глеб Петрович, ответ заготовлен. И какой план?
— Все остальные версии мне не кажутся правдоподобными, а версия с картиной — вполне рабочая. Если вас, Федор Филиппович, интересует это дело, я буду заниматься именно этой версией. Мне кажется, здесь дело деньгами пахнет.
— Какими деньгами?
— Пока я не знаю, могу лишь предположить. Судя по рассказам домработницы, в квартире обыск никто не производил, все вещи остались на своих обычных местах, да и по фотографиям видно, что в квартире все на месте. Деньги остались, часы, кредитки, видеокамеры, а аппаратура немалых денег стоит. И у Сержа Максимова камера дорогая, и у Макса Фурье также больших денег камера стоит, но их не взяли.
— Из этого следует сделать вывод, что грабители хотели взять картину, знали, где она лежит, а двое телевизионщиков ее не хотели отдавать, и их пристрелили.
— Похоже, что да, — меланхолично произнес Глеб, — и убили профессионально. Никаких отпечатков в квартире не найдено, а оружие, которым воспользовались, непаленое, пистолет с глушителем. Конечно же, действовали профессионалы. которым подобная работа не впервой, а журналистов убили как свидетелей.
— Всякое бывает, — задумчиво сказал генерал, — и не такое я в своей жизни видел. Получается какой-то кроссворд, — слово «кроссворд» генерал Потапчук сказал, глядя Глебу в глаза, — Да выключи ты телевизор!
— А вы меня видели?
— Нет, не видел.
— Хотите, покажу?
— Тебя? Ну давай.
Глеб отмотал запись:
— Смотрите, найдете меня?
Потапчук смотрел в экран, Глеб смотрел на генерала. Он видел, как моргают глаза за стеклами очков, видел, как Потапчук морщит лоб.
— Нет, тебя я не увидел.
— Это говорит о том, Федор Филиппович, что я работал хорошо. Вы меня знаете уже не один год… Смотрите, вот я, — Глеб сделал стоп-кадр и, подойдя к экрану телевизора, ткнул пальцем в мужчину.
Генерал тоже привстал, подался вперед:
— Это ты, что ли?
— А то кто же!
— Ну и ну! Наверное, встреть я тебя на улице, сто процентов прошел бы мимо. Но вот так, когда начинаешь всматриваться, я теперь вижу, что это ты. Зачем ты за ним, а не за Омаром ходил?
Глеб сел, взял сигарету, чиркнул зажигалкой, поводил язычком пламени в воздухе:
— А затем, Федор Филиппович, чтобы посмотреть, что французу надо, кого он снимает и почему с видеокамерой не расстается.
— И что? Какие выводы?
— Вывод я вам могу сказать, но я не на сто процентов уверен, что он вас обрадует.
— Ладно, говори, а то опять тянуть начинаешь.
— Нет, я не тяну, я и сам не уверен. Но похоже, я вот сейчас просмотрел запись, вам она ничего не скажет, а мне дает повод заподозрить Макса Фурье в том… — Глеб сделал паузу, словно ожидая вопрос генерала. И Потапчук быстро спросил:
— Ну, в чем же?
— А в том, что Макс Фурье — определенно сотрудник спецслужб. Каких, не знаю, но скорее всего он в Витебске оказался не как журналист, его попросили присматривать за всеми, с кем контактировал шах-Фаруз, сейчас я вам их покажу, — через тридцать секунд Глеб показал на экране телевизора мужчину в соломенной шляпе. — Снято безобразно, опущенной в руке камерой, не глядя в видоискатель. Для телевидения так не снимают, это полный брак, но как оперативная съемка — годится. Запомните его лицо, и еще — мужчина в джинсовом костюме с горшком в руках. Он не привык носить гражданское платье. А сейчас, смотрите, будет кое-что любопытное, — Глеб промотал еще немного, и на экране возникло два крупных плана. — Вы знаете, вот так снимают, когда хотят получить достаточно приличное изображение того, за кем следишь, кого разрабатываешь.
— Это могло произойти случайно. На этой пленке много крупных планов мужчин, женщин, детей и даже торговец картин снят довольно крупно, так что это ни о чем не говорит.
— Вам ничего не говорит, а мне говорит. Макс Фурье определенно снимал людей для оперативной разработки. Он знал, кого следует снять, следил за появлением людей. Заодно и делал привычную работу, готовил материал для фильма. Эти съемки отличаются как небо и земля.
— Вот сейчас ты меня озадачил, Глеб Петрович. Если это правда, то дело приобретает совершенно иной оборот, и мне становится понятна активность французских дипломатов, консула и журналистов. Ты хочешь сказать, что он следил за окружением Омара?
— Почему бы и нет? Омар организовал теракт в Париже. Выдачи шах-Фаруза могла бы затребовать и Франция, но их опережали американцы.
— Нет, картина, в таком случае отпадает. А твоя новая версия мне нравится больше. Тогда возникает следующий вопрос: почему убили не только Фурье, но вместе с ним и Максимова?
— Он под замес попал, генерал, — ответил Сиверов.
— Тогда зачем убийцы взяли картину?
— Вот видите, Федор Филиппович, опять мы столкнулись с феноменом картины и кроссворда. Ее взяли не просто так, и она в убийстве играет не последнюю роль.
***
В отличие от хороших людей, отъявленным мерзавцам судьба помогает. Так случилось и с Олегом Петровичем Чернявским.
Он позвонил Фиме Лебединскому. Для Фимы этот звонок был полной неожиданностью, он оторопел. Взяв трубку телефона, он продолжал стоять в трусах в своей убогой халупе, босиком, на холодном полу, несмотря на похмельный синдром.
Прижимая дрожащую руку к уху, Фима тяжело сопел:
— Кто? Кто, вы говорите?
— Олег Петрович Чернявский, — вторично представился галерейщик.
— Олег Петрович? Вы из исполкома, что ли?
— Из какого исполкома, — ответил Чернявский, — я вам звоню из Москвы.
— Из Москвы? — воскликнул Фима, облизывая пересохшие губы каким-то одеревеневшим языком. — Что-нибудь с дядей стряслось?
— Я хотел бы с вами встретиться, — коротко и веско произнес Олег Петрович.
— Со мной встретиться? Это что, я должен все бросить? У меня работы выше крыши, а ехать к вам в Москву… А командировочные расходы?
— Я сам к вам приеду.
— Вы ко мне?
— Да, — сказал Чернявский, — Вы же Ефим Лебединский. Руководитель духового оркестра? Мне вашу визитку один француз дал, который у вас картинку на «Славянском базаре» купил.
— А что у вас за дело ко мне? Вам трубач хороший нужен? Тогда разговор будет, — Фима осматривался по сторонам, не осталось ли где бутылки пива или хотя бы полстакана вина. Но глаз цеплялся лишь за остатки вечерней трапезы, грустно скользя по банкам со съеденными консервами. Натюрморт на столе был таков, что и Петров-Водкин, и Хаим Сутин восхитились бы, рука потянулась бы к бумаге, чтобы запечатлеть аскетичное великолепие. — А когда вы приедете?
— Сегодня вечером. Я уже выезжаю, скажите мне, вы дома будете?
Фима сказал адрес и сбивчиво принялся объяснять, как можно добраться до его халупы.
Олег Петрович не слушал, он записал лишь название улицы, номер дома. Больше ему ничего не требовалось. На этом разговор закончился.
Фима еще пару минут стоял с гудящей трубкой телефона в руках и пытался приклеить грязный кусок синей изоляционной ленты, стягивающей микрофон.
«Вот тебе и на! Какой-то там Олег Петрович, у него ко мне дело. Какого-то француза друг… Что за француз, хрен его знает! Ну да чем черт не шутит, может, у него и на самом деле ко мне интерес есть.
Ефим Лебединский умылся, побрился тупым лезвием, пригладил редкие волосы, с трудом отыскал очки.
— Надо бы немного убраться, — сказал себе Фима и оглядел свое жилище. — Все как всегда. Тут сколько ни убирай, от грязи не избавишься, она была, есть и будет. Но остатки пищи надо уничтожить.
У Фимы заварка хранилась в старой банке от кофе «Nescafe». Фима выпил чай и принялся за работу. Он взялся выворачивать карманы и дрожащими руками пересчитал деньги. После этого лишь издал возглас, который был красноречивее слов.
«Придется брать в долг, гостя надо как-то приветить. Куплю бутылку водки и четыре пива. Или, может быть, купить две вина и четыре пива? А вдруг он вино не пьет, а водку, как известно, употребляют все.»
Фима даже вымыл посуду, хотя у него был запас одноразовых пластиковых стаканчиков. Они когда-то — Фима уже и забыл, по какому поводу, — достались ему от одной знакомой, которая продавала водку на разлив в небольшом шалманчике на берегу Двины. Вопрос о закуске Фима себе не задавал: «Будет день, будет пища». С этим афоризмом — а он был у музыканта любимый — не расставался никогда, шел с ним по жизни, как с начищенной трубой.
Вот о чем следовало подумать, так это о том, чтобы вид иметь респектабельный. Когда хорошо выглядишь, тогда и разговор совсем по-иному ведется.
«На сколько ты выглядишь, Фима, столько денег тебе и предложат, а выглядишь ты всегда на бутылку дешевого чернила», — вспомнилось высказывание московского дяди Якова Наумовича.
Фима отутюжил измятые брюки, начистил, как мог, ботинки, перевязал шнурки — так, чтобы не было видно узлов. Отутюжил тенниску, уже месяц висевшую в шкафу на деревянных плечиках. Выглядел он теперь, по его же собственному мнению, не меньше чем на четыре с плюсом.
***
Софья Ивановна Куприна вспоминала о своем возрасте два раза в сутки: ранним утром и поздним утром — так уж устроена женщина, с этим ничего не поделаешь. Поднявшись с постели, помахав перед раскрытым окном руками, она посмотрела на свое отражение. Женщина в зеркале ей, как правило, не нравилась. Но, приняв душ, позавтракав, проведя полчаса у зеркала, она молодела сразу лет на десять-двенадцать, после чего начинала себе немного нравиться.
Так было и сегодня.
Она проснулась, сделала легкую зарядку, взглянула на свое отражение и почему-то, как в детстве, показала своему двойнику в зеркале кончик языка.
«Что, мешки под глазами? Немного припухшее, отечное лицо, волосы растрепаны? Ну да ничего. Контрастный душ, завтрак малокалорийный, но очень витаминный, чашечка крепкого кофе, основательный макияж, со вкусом подобранная одежда, и ты будешь выглядеть отменно. Хотя к чему сегодня стараться, ведь Олега Петровича не будет. Когда он у меня ночевал, когда я ему отдавалась со страстью сорокалетней женщины, умелой и искушенной во всех премудростях плотской любви, он сказал перед уходом, что уедет дня на два. Значит, сегодня его не будет, можно и не выкладываться на все сто. Разве он один? Мужчин полный город, а на меня, даже когда я за рулем, обращают внимание. И в галерее на меня глядят иногда так, словно пытаются сбросить одежду и увидеть обнаженной. От этих взглядов кровь приливает к лицу, а на душе становится легко, словно бы я взлетаю над столом и медленно парю, как космонавт в безвоздушном пространстве. Нет, нет, — сама себя поправила эксперт галереи „Мост“ Софья Ивановна Куприна, — не как космонавт, а как женщины на картинах Шагала.»
Она позавтракала, сварила себе очень крепкий кофе в стильной, прекрасного дизайна, итальянской кофеварке и с чашечкой в руках подошла к окну, посмотрела на улицу. Погода стояла чудесная, ясная, солнечный день — типичное московское лето.
«Как на картине Поленова „Московский дворик“, даже колокольня церкви видна из моего окна. А вот дворик не тот, но состояние абсолютно поленовское.»
Софья Ивановна пила кофе неторопливо. Ей почему-то стало грустно, захотелось выкурить сигарету, но она сама себе сказала: «Нет, это будет уж слишком. Что-то ты, Софья, перестаешь себя контролировать. Служебный роман затеяла, да причем с боссом. Подобные вольности к добру не приведут. Сотрудники начнут шушукаться, обсуждать. Хотя какое мне до них дело? Мне с ним было хорошо, хотя второй муж, по сравнению с Олегом, был куда лучше, интересней и веселей. Ну да что поделаешь, что о нем вспоминать? Он уже отрезанный ломоть, думать о нем — лишь душу бередить».
Вымыв посуду, так и не выкурив сигарету, Софья устроилась перед зеркалом в спальне и принялась колдовать над своей внешностью. Самое сложное было нарисовать губы, и она провозилась с этим минут пятнадцать. Затем промокнула их салфеткой, взглянула на изящный отпечаток, потом на свое отражение.
Когда она занималась макияжем, то воспринимала свою внешность фрагментарно: глаза, брови, прическа, щеки, губы — все по отдельности. И лишь в конце, одевшись, она остановилась перед шкафом с огромным зеркалом, осмотрела себя всю, от каблуков на изящных туфлях до прически, расстегнула две пуговицы на блузке — так, чтобы в разрезе виднелся край кружевного белья, поморщилась.
— Не фиг стараться? — сказала она, глядя на своего двойника, и застегнула вторую пуговичку.
С сумочкой и солнцезащитными очками в руках, уже собравшись уходить, она замерла, звякнув ключами.
— А таблетку? — сказала сама себе.
Она снова вернулась в ванную комнату, взглянула на бутылочку: в ней было четыре таблетки. Софья открыла пробку, вытряхнула на розовую ладонь таблетку, вошла в кухню, цокая каблуками по сверкающему паркету. Наполнила стакан минералкой, положила таблетку на язык и, не разжевывая, проглотила, запив четырьмя глотками воды. Она старалась пить воду аккуратно, чтобы не испортить губы, и это ей удалось — на краю стакана остался только туманный след.
«Ну вот, теперь полный порядок. Хотя примета скверная, когда что-нибудь забываешь. Надо взглянуть на себя в зеркало и трижды сплюнуть через левое плечо.»
В подъезде встретилась соседка, она возвращалась с прогулки и вела на поводке смешного мопса.
— Здравствуй, Софья! Прекрасно выглядишь, — сказала пожилая седоволосая женщина.
— Стараюсь, Вера Ильинична. Что нам, незамужним, остается делать?
— О да, у тебя еще все впереди, — сказала Вера Ильинична и, без зависти осмотрев симпатичную соседку, резко дернула поводок. — Пошли, Маня, пошли, что ты расселась на площадке, словно забыла, где живешь?
— Успехов вам, — бросила через плечо Софья Ивановна.
— И тебе, Софья, всего хорошего.
Машина стояла во дворе. Софья открыла ее, села, прогрела двигатель — так она делала всегда, даже летом. И аккуратно, проклиная соседа с пятого этажа, поставившего свою «хонду» очень неудобно, вырулила со стоянки и медленно покатила по двору. Солнцезащитные очки уже поблескивали на ее лице, отражая яркое синее небо и белые, медленно плывущие облака,
Софья была водителем внимательным. Еще ни разу за всю жизнь она не была оштрафована и дел с московской автоинспекцией не имела.
«Тише едешь, дальше будешь», — любила она повторять, в общем-то, туповатое изречение, неизвестно по какому поводу и кем придуманное.
Ехала она не тихо, но и не быстро — так, как каждый день. От ее дома до галереи при благоприятной ситуации на дороге можно было доехать минут за тридцать пять, а при неблагоприятной — и в час не уложиться. Сейчас основной поток автомобилей уже схлынул, было одиннадцать часов, и на дороге стало просторнее.
«К половине двенадцатого буду на месте, а без двадцати двенадцать войду в свой кабинет. Проверю почту, выпью кофе, зайду к соседям. Выкурю сигарету, немножко посплетничаю и займусь составлением каталога на следующий год», — вот с такими мыслями и ехала Софья на работу.
Когда до галереи оставалось минут двенадцать — пятнадцать езды, Софья почувствовала себя скверно: вдруг как-то быстро застучало сердце, в глазах поплыли круги.
— Господи, что это со мной? — она тряхнула головой, сорвала с лица солнцезащитные очки, швырнула их на соседнее сиденье, крепче вцепилась холодными влажными пальцами в баранку. — Ну, давай же, давай! — произнесла она, обращаясь к машине.
Объезжая застывший на перекрестке грузовик, она подъехала к белой линии и затормозила. Светофор замигал предупредительным желтым.
— Ну, быстрее, быстрее! — вся холодея, шептала женщина и, как маленький ребенок, как школьник, глядя на светофор, вдруг начала повторять считалочку: — Раз, два, три, свет зелененький, гори!
Зеленый вспыхнул. Она зазевалась. Сзади начали нервно сигналить, словно пытались подтолкнуть ее машину.
— Вперед! — сказала Софья.
Изображение в глазах двоилось, а сердце на какое-то мгновение замерло, и Софья перестала его чувствовать. Ее автомобиль рванул с места резко, на очень большой скорости проскочил перекресток. Она попыталась сразу же за перекрестком перестроиться, чтобы затем повернуть направо. Она чувствовала, что ей плохо, нестерпимо плохо, что надо остановиться. Но она не могла.
— Сейчас, сейчас, — говорила она и, уже прицелившись, чтобы подрезать микроавтобус темно-синего цвета с надписью «McDonald's» и мордой клоуна с ярко-красным, как стекло на светофоре, носом. — Раз, два? три, свет зелененький, гори! — глядя на растянутый в улыбке рот клоуна, выкрикнула Софья Ивановна Куприна, поворачивая баранку влево, затем вправо.
Все это она делала на скорости шестьдесят пять километров в час. Стрелку на этой цифре она увидела тогда, когда пыталась проскочить в разрыв между микроавтобусом и троллейбусом, вымытым и сверкающим, словно только сегодня сошедшим с конвейера и буквально полчаса выехавшим на линию. Этот маневр ей не удался, и микроавтобус на всей скорости ударил «тойоту» Софьи Куприной в правое крыло, вдавливая дверь.
Машина по инерции пронеслась несколько метров и попала под троллейбус, смятая сильным ударом микроавтобуса. Последнее, что увидела Софья, — это лицо водителя микроавтобуса и лица пассажиров троллейбуса, застывшие, словно рыбы в аквариуме, за задним стеклом.
Раздался ужасный скрежет рвущегося, раздираемого металла. Посыпалось выбитое стекло. Машину Софьи смяло. Каким-то чудом уцелевшая сирена включилась сама собой. «Тойота» сигналила без остановок почти две минуты.
Когда приехала «Скорая» и милиция, когда сбежалась куча людей, Софья Ивановна Куприна была уже мертва.
— Твою мать, дура! Куда же ты лезла? Твою мать! — потрясая кулаками и размазывая кровь по лицу, кричал водитель микроавтобуса «McDonald's». — Троллейбус же привязанный, он же никуда не увернет! Зачем ты щемилась? Вот дура! Баба за рулем — это смерть на дороге. Если не она кого-нибудь придушит, то ее обязательно задавят, как жабу.
Сотрудники ГИБДД ходили, мерили рулетками, матерились абсолютно беззлобно, составляли протокол. Женщина — водитель троллейбуса смотрела на машину «Скорой помощи», на пульсирующий синим цветом фонарь и плакала. Слезы струились по ее щекам, губы были ярко-красными, как цвет носа клоуна на микроавтобусе.
Гаишник ее пытался успокоить, поглаживал по плечу и говорил:
— Ну что ты, дура, ревешь? Все уже закончилось. Кончай реветь и подпись поставь.
Женщина попыталась поставить подпись, держа шариковую ручку грязной рукавицей.
— Да сними! — сказал сотрудник ГИБДД.
— Что снять?
— Рукавицы, дура, сними! И не реви, подписывай, да смотри, чтобы ни одна капля на протокол не упала!
— Какая капля?
— Слезы твои.
В двенадцать ноль-ноль в галерее «Мост» раздался звонок, и сотрудники узнали, что Софья Ивановна Куприна полчаса тому назад погибла в дорожно-транспортном происшествии и сейчас ее тело везут в морг. Сотрудники галереи были в шоке и тотчас принялись ссориться и спорить, кто должен отыскать Олега Петровича и сообщить ему трагическую новость.
ГЛАВА 18
Фима Лебединский приготовился к встрече московского гостя. В два часа дня он уже ходил вокруг заброшенного двухэтажного дома, стоящего в овраге, кричал и бросался камнями в бродячих собак и котов, которых в овраге водилось великое множество. Водка и пиво стояли в ванне, наполненной водой, и Фима уже один раз слил воду и наполнил ванну свежей.
Он поглядывал на дорогу.
«Только бы не приперлись мои музыканты! Пронюхают, что у меня есть выпить, словно из-под земли выползут. Ну да ладно, пошлю их куда подальше, — рассуждал Фима, засовывая под раздолбанное крыльцо палкой мусор — пакеты из-под молока, коробки уже непонятно из-под чего, консервные банки.
Джип Олега Петровича Чернявского долго колесил по Витебску. Водитель выспрашивал у прохожих, где находится необходимая ему улица.
В конце концов Олегу Петровичу вся эта езда по провинциальному городу надоела, и он позвонил Фиме. Тот был на крыльце, когда затрещал телефон. Фима вбежал, схватил трубку, боясь, что не успеет, но ему повезло. Олег Петрович был настойчив.
— Лебединский слушает, говорите! — громко крикнул в трубку Фима.
— Добрый день, — услышал знакомый голос Фима. Слышимость была настолько отчетливой, что Ефиму даже показалось, человек даже не звонит, а говорит ему прямо в ухо. — Не могу отыскать улицу,
— Овраг знаете? Вы где?
— Мы возле амфитеатра.
— Это совсем рядом. Ладно, будьте там. У вас какая машина?
— Черный джип.
— А номера? — поинтересовался Фима.
— Номера российские, — услышал он в ответ.
— Стойте там, я сейчас сам появлюсь. Семь минут.
— Хорошо.
Олег Петрович сказал, где они будут стоять, у какого входа и с досадой сплюнул себе под ноги:
— Придурок какой-то!
— Когда похороны? — поинтересовался водитель, глядя на мрачное лицо шефа.
— Какие похороны?
— Нашего эксперта.
Чернявский передернул плечами:
— Когда приедем в Москву, я разрулю это дело, а сейчас не знаю.
— Это же надо! Она неплохо водила, — принялся рассуждать шофер Олега Петровича о водительских талантах Софьи Ивановны Куприной.
— Да уж, говорят, водила хорошо, правда, я с ней никогда не ездил.
— Это же надо!
Но тут водитель увидел выражение лица шефа и понял, что лучше на эту тему разговор не продолжать, а смолкнуть.
Через семь минут появился Фима в своем старом черном костюме, в запыленных ботинках. Верхняя пуговица синей тенниски была расстегнута, лицо Фимы было коричнево-красным, на лбу поблескивали капельки пота. Увидев шикарную тачку, Фима чуть дар речи не потерял. Такие машины в Витебске редкость: огромная, хромированная, с тонированными стеклами, величиной с маленький автобус.
«Могучее авто!» — решил Фима, изображая приветливую улыбку и вытирая потные ладони о брюки.
— Здравствуйте! Это вы Олег Петрович? — обратился он к водителю.
— Нет, это не я. Олег Петрович, вас!
Чернявский стоял с другой стороны машины. Дверь была открыта, из салона слышалась негромкая музыка.
— Здравствуйте. Ефим, — обратился Чернявский к Фиме, протягивая руку.
Фима угодливо кивнул, изображая всем своим видом преданность, подобострастие и некоторую отчужденность.
— Ну как это вы не смогли до меня добраться? Вы бы не улицу искали, спросили бы, где живет Ефим Лебединский, и вам здесь каждая собака рассказала бы, как до меня добраться. Меня в Витебске и по области все знают, у меня свой оркестр.
— Хороший оркестр? — спросил Олег Петрович.
— Лучший, мы на прошлом «Славянском базаре» с программой выступали.
— А, — промямлил Олег Петрович, оглядывая Фиму, ощупывая его взглядом. Фима ему не понравился, он вызвал у владельца галереи брезгливое чувство. Ему даже захотелось тщательно вытереть носовым платком руку, которую пожал Фима. Но он не стал этого делать. Покупать и продавать картины было его работой, и он знал, что с потенциальным клиентом надо работать вежливо, ведь это в его интересах.
— По какому вы ко мне делу? — осведомился Фима, склонив голову к правому плечу.
— Да дело у меня вот какое… Может, мы поедем, пообедаем в какой-нибудь ресторан?
— К черту рестораны! Водка и пиво у меня дома всегда стоят. Вы с шофером, можете и выпить.
Естественно, Олегу Петровичу Чернявскому хотелось попасть в дом к Фиме, вполне могло оказаться, что он увидит что-то такое, что его заинтересует.
— А я думал, вы художник, а вы, оказывается, музыкант.
— О да, Ефим Лебединский — музыкант. Если бы жизнь сложилась по-другому, карта легла не так, как легла, я бы был очень известным человеком, хотя и так меня все знают. Без меня ни одного покойника на тот свет не отправят.
«Ефим играет преимущественно на похоронах. Что ж, какая разница, скрипач он, пианист или трубач?» — Чернявскому это было по барабану.
— Хорошо, давайте подъедем к вам, — сказал он, открывая дверцу, предлагая Ефиму сесть в машину.
Фима осмотрелся по сторонам, видит ли его кто-нибудь из знакомых. Ему еще никогда в жизни не доводилось ездить на такой роскошной тачке, даже шестисотый «мерседес» по сравнению с этим джипом мог «отдыхать». Фима забрался в салон, попытался опустить стекло, чтобы его видели, но, естественно, не разобрался, как это делается: не нашел привычной ручки. Водитель со своего места опустил тонированное стекло, и Фима высунулся чуть ли не до пояса.
Чернявский уселся впереди рядом с водителем. В салоне «вкусно» пахло, играла музыка, мягкая и тихая.
— Куда едем? — спросил водитель, обращаясь к гостю, который ему тоже не понравился.
— Сейчас прямо, затем направо, затем налево и вниз по узкой дороге.
— Сюда?
— Да, да, сюда. Поворачиваем, поворачиваем, не задерживайтесь!
Фима Лебединский то и дело высовывался из машины. В конце концов джип подъехал прямо к крыльцу небольшой деревянной хибары. В подобных заведениях Чернявскому доводилось бывать, может быть, лет двадцать или тридцать назад.
— Что это за дом? — спросил Олег Петрович.
— Это дом моих родителей. Мне предлагают квартиру в кирпичном доме в центре, но Фима Лебединский не так глуп, чтобы согласиться на однокомнатную квартиру. У меня-то здесь две комнаты, я сам себе хозяин, ни соседей, никого, могу играть на трубе, когда захочу.
С яростным лаем пронеслась стая псов. Фима, взойдя на крыльцо, схватил палку и швырнул в свору собак, метко угодив облезлому серому псу по задним лапам. Тот жалобно заскулил, закрутился на месте.
— Я тебе покажу, как гадить у меня на крыльце! Никакого спасу от этих псов! Проходите в дом.
— Останься возле машины, — бросил Чернявский своему водителю.
Тот бы и сам остался. Заходить в хибару у водилы не было ни малейшего желания. Еще он боялся, что, отлучись от машины, появятся какие-нибудь бомжи, хулиганы, что-нибудь открутят, искорежат, испишут, поломают. А тачка на самом деле была очень дорогой, эксклюзивной, оборудованной по персональному заказу за океаном. И цвет кузова, и цвет салона, и колонки, и компьютер — все было подобрано по спецзаказу Олега Петровича Чернявского.
— Проходите в дом. Тут у меня не прибрано, черт с ним. Какое у вас ко мне дело? — ставя на стол, застланный белой бумагой, мокрые бутылки, вопросительно взглянул на гостя Ефим Лебединский.
Олег Петрович пробормотал что-то невнятное, шаря взглядом по стенам и углам убогого жилища руководителя духового оркестра. Кроме трех старых фотографий в крашеных рамочках, ни за что взгляд не зацепился. Календарь прошлого года с полуобнаженной, присыпанной песком белозубой красоткой, был засижен мухами. Да и с фотографий уже давным-давно не вытирали пыль.
Брезгливо поджав губы, Олег Петрович Чернявский сел на табурет. Руки у Фимы дрожали, он понимал, надо выпить как можно скорее, иначе разговор с московским гостем не сложится. И он быстро свернул пробку с бутылки.
— Пиво или водочка? С чего начнем? — вопросительно взглянул Фима на Чернявского.
— Как пожелаете, Ефим. Но я лучше выпью пива.
— Вот одноразовая посуда, — Фима поставил на белую бумагу стопку пластиковых стаканчиков. Затем ножом откупорил две бутылки пива, взял скользкую бутылку водки без этикетки, та осталась плавать в ванне под досками. Блестящими от возбуждения, немного выпуклыми лягушечьими глазами он взглянул на Чернявского. Тот отрицательно покачал головой, взял со стола бутылку с пивом.
— Ну смотрите. Мое дело предложить, ваше — отказаться или согласиться, как будет угодно, как понравится. У нас все так говорят: «Делай, как тебе понравится». За встречу, за знакомство.
Стакан дрожал в пальцах музыканта. Чернявский все это видел, ему было не по себе. Он уже пожалел, что притянулся в Витебск.
«Но за десять миллионов можно поехать не только в Витебск, за такие деньги я и в Антарктиду спрыгнул бы с парашютом, на Южный полюс. А этот конченый тип, который жадно пьет водку, еще цветочки по сравнению с отморозками, которых я знаю», — делая глоток прохладного пива, рассуждал Олег Петрович.
— Так какое у вас дело? — рукавом пиджака промокнув губы, спросил Фима, глаза его весело блестели, и, судя по всему, ему стало немного легче.
— Хорошее пиво, — сказал Олег Петрович, поставив на стол бутылку. — Мой приятель у вас, Ефим, картину приобрел, женщина там в белом платье нарисована, — слово «нарисована» он сказал специально, прикидываясь простачком.
— Ага, было дело, — подтвердил Фима, наливая себе еще половину пластикового стаканчика. — Помню, хороший человек, иностранец вроде бы.
— По визитке я вас и отыскал. За сколько он у вас эту картину купил, если, конечно, не коммерческая тайна?
— Да какая к черту тайна, за двести зеленых я ему отдал с легкой душой.
— Вы ее где взяли?
Фима выпил водку, подмигнул Олегу Петровичу:
— Я где взял? У родственничка свое кровное забрал.
— У родственничка?
И Ефим, уже разогретый водкой, принялся рассказывать про свою жизнь, вспоминая дедов: и того, который работал на железной дороге, и про того, который в тридцатые годы учился в витебском художественном техникуме, про их детей, племянников, двоюродных и троюродных братьев, перечисляя, кто и где живет. С особым рвением он говорил о родственниках, выехавших за пределы России и Беларуси, в общем, распинался как мог. Поток слов был настолько обильным, что Олег Петрович Чернявский даже тряхнул головой, словно пытался отогнать назойливую муху.
— Так вы говорите, дядя у вас в Москве живет?
— Конечно, дядя, он доктор, богат, как китайский император. Но хитрющий и скупой до невероятности. Для него сто долларов, как для меня три копейки, он врач-стоматолог. Живет в Москве, квартира шикарная, клиника своя, а жадина такая, что у него и снега зимой не выпросишь. Я к нему приехал и говорю, мол, дайте денег, у меня есть проект. А он мне и говорит: «Фима, какие к черту проекты в твоем возрасте? Ты на себя посмотри». А что на себя смотреть? Фима — не картина, его нечего рассматривать, его надо материально поддержать.
— И что, поддержал вас дядя?
— Да нет, какое там поддержал, будь он здоров сто лет! Я на него разозлился и говорю: ах, так!? И забрал свою картину — дедушкин портрет, снял со стены и забрал.
— А дядя что? — настороженно спросил Олег Петрович,
— Что дядя скажет? Родственничек-то дед больше мой, чем его, вот я и забрал портрет. А у него еще два портрета остались, братом моего деда написанные.
— Погодите, погодите, Ефим, какого деда портрет? На картине женщина нарисована.
— Да обыкновенного деда, самого что ни на есть. Не было до войны хорошей краски. Но это отдельная песня, сейчас я вам все расскажу, — и Фима принялся рассказывать о катаклизме, который случился с ним в дождливую ночь, как он обнаружил картинку под портретом передовика-железнодорожника.
Олег Петрович слушал раскрыв рот.
«Фантастика какая-то! — думал он про себя. — Не может быть! А что, если и два других оставшихся у московского родственника портрета — это запись по подлинникам Шагала? Тогда в моих руках может оказаться сразу три картины!»
Фима брызгал слюной, размахивал руками так бойко, что иногда Чернявскому казалось, Лебединский сметет уже подсохшие бутылки со стола и всю одноразовую посуду.
— Фима, извините, про дядю, пожалуйста, поподробнее.
И тут Ефима Лебединского осенило: как это так?
«Если я расскажу этому человеку про своего родственника, про Якова Наумовича Кучера, то тогда он прекрасно обойдется без меня».
— Стоп, — сказал Фима, выставив кулак перед лицом Олега Петровича. Затем от кулака отделился указательный палец с обгрызенным грязным ногтем. — Так не пойдет, так не договаривались! Про дядю я вам больше ничего не скажу.
— Давайте выпьем, Ефим, — тут же умело перевел разговор в универсальную плоскость Олег Петрович. Он налил Фиме почти полный пластиковый стаканчик, чокнулся с ним для солидности бутылкой с пивом и рассмеялся самым задорным задушевным смехом. — Вы меня неправильно, Ефим, поняли.
Фима, давясь, выпил водку, занюхал рукавом и попросил сигарету.
— Угощайтесь, не вопрос, — предложил сигарету Олег Петрович.
Фима закурил, выпустил голубой дым изо рта и закашлялся:
— Что это у вас за сигареты такие?
— «Мальборо», стандартные, — сказал Олег Петрович. — Не левые, настоящие. Не переживайте.
— Я и не переживаю. Чего мне переживать? Фима всегда себе работу найдет, Фима в Витебске нарасхват. Вот мы сейчас с вами сидим, а кто-то уже и ласты склеил.
— Чего?
— Я говорю, Богу душу отдал. А как без музыки человека на тот свет отправишь? Без музыки путь будет долгим, душа не улетит. А под музыку, под Шопена — самое то. И родственники меньше убиваются, и гроб с покойником плывет, как по волнам качается. Красиво, люблю я это дело.
«Господи, спаси и сохрани, помилуй, — подумал Олег Петрович. — Садист прямо-таки какой-то! Гуинплен, Квазимодо!»
Фима улыбался, показывая желтые зубы.
«Дядя стоматолог, а у него рот в ужасном состоянии», — подумал Олег Петрович и тут же задал вопрос, глядя прямо в глаза Ефиму:
— Так вот, мой друг, француз, приобрел картину за двести баксов, а продать ее мне хотел за триста, а я бы с большим удовольствием купил бы ее за триста у вас, у законного владельца.
— За триста? — Фима принялся заворачивать пальцы. — А за четыреста слабо будет?
— За четыреста дорого. Вот две других я мог бы купить долларов за шестьсот.
— Ого! — не удержавшись, воскликнул Фима и взглянул на почти пустую бутылку, его голова уже клонилась к груди. — Сейчас допью, и потом мы договорим.
Фима взял бутылку. Он еще не напился в усмерть, поэтому не стал запрокидывать бутылку над головой, как трубу, а вылил остатки водки в стаканчик, залпом выпил, занюхал рукавом и принялся раскуривать сигарету. На губах уже висела белая слюна, и от вида Фимы Олега Петровича начало мутить.
«Мерзкий тип! Ужасный тип! Сплошная патология, а не человек.»
— Вот если бы, Ефим, вы смогли у дяди взять две оставшиеся картины с портретами ваших родственничков, то я бы у вас купил их не глядя.
— Не глядя… — хмыкнул Фима и потянулся к пивной бутылке. — Сейчас полирну свою душу, а потом поговорим.
Хлебнув пивка, Фима стал несговорчив, упрям, и Олег Петрович подумал, что в таком состоянии разговаривать с ним дальше не имеет никакого смысла.
— Одну секунду, — Чернявский вышел на улицу, вернулся с бутылкой «Абсолюта», позаимствованной в баре автомобиля.
Фима оживился, пьянел со скоростью света.
— Завтра приходите, я все решу. А если хотите, возьмите меня с собой, завезите в Москву, и я у своего родственничка картины заберу, они мои.
— Кто на них нарисован?
— Кто, кто, мои родственнички, земля им пухом.
— Точно заберете, Ефим?
— Абсолютно точно, — голова Ефима поникла, но рука крепко сжимала бутылку из-под пива.
«Ладно, пора сваливать», — подумал Олег Петрович и вдруг увидел на этажерке у кровати стопку открыток.
Фима дремал, покачивая головой и пуская слюну на свои брюки. Олег Петрович быстро перебрал стопку. Из Москвы было три открытки, на всех один и тот же адрес и подпись: Яков Наумович Кучер.
«Это то, что надо. Ну вот он, твой родственничек! Владелец картин.»
Олег Петрович сунул открытку «С Новым годом!» в карман пиджака. Фима в этот момент что-то промычал, но не открыл глаз.
— Еще по одной? — предложил сонный Фима.
— Да, да, с удовольствием, — присаживаясь к столу, ответил Олег Петрович.
Теперь он знал, у кого еще два холста, возможно с подлинниками Шагала, записанными Фиминым двоюродным дедушкой. Настроение у Чернявского изменилось, он забыл о том, что Софья Куприна погибла, что Фима — идиот. Он уже представлял, что в его сейфе появятся еще два холста и он станет хозяином, владельцем трех шедевров, которые стоят огромных денег, таких больших, какими он никогда не располагал, но при желании может обладать.
Выпив немного водки, Чернявский поднялся:
— Значит, так, Ефим: я уеду по делам, а на неделе вам позвоню обязательно. Оплачу вам дорогу, суточные, в общем, все как положено. Вы приедете в Москву, сходите к своему родственнику, а если хотите, мы пойдем вместе.
— Нет, так не пойдет, — скрюченным пальцем помахал перед носом Чернявского Фима, — я пойду один. Если Фима обещает, то он свои обещания выполняет, запомните это так же хорошо, как первые такты похоронного марша.
— Хорошо, хорошо, Ефим, — пробормотал Чернявский.
Фима хотел подняться, чтобы проводить гостя, но его повело в сторону. И, если бы Олег Петрович не подхватил под локоть Ефима Лебединского, тот наверняка раскроил бы себе голову. Олег Петрович довел пьяного Лебединского до кровати. Ефим рухнул, как срубленное дерево, продолжая бормотать и материться. Он забросил ноги в ботинках на кровать и мгновенно уснул, провалившись в алкогольную бездну.
Олег Петрович покинул хибару. Водитель сидел в машине и меланхолично курил, слушая музыку. Олег Петрович устроился на заднем сиденье.
— Едем.
— Куда? — спросил водитель.
— Домой, в Москву. Только найди ресторан поприличнее, перекусим.
— Понял, — ответил водитель, поворачивая ключ в замке зажигания.
Тяжелый джип, мягко урча могучим мотором, легко выбрался из оврага и, поколесив по городу, остановился у ресторана гостиницы «Эридан».
Ожидая заказ, Олег Петрович вертел в руках новогоднюю открытку и счастливо улыбался. Он был доволен своей находчивостью и чувствовал, что ухватил рыбу за хвост и теперь она от него никуда не уйдет.
***
Смоленский авторитет Хвощ, нанятый Мансуром, московскую братву о своем приезде в столицу не предупреждал. Клинику отыскал быстро, благо на визитке имелся небольшой фрагмент плана города с указанием подъезда и стоянки.
Заложив руки за спину, чтобы не бросались в глаза татуировки, Хвощ приблизился к стойке девушки-администратора:
— Я хотел бы записаться на прием, — Хвощ обнажил в улыбке коричневые от тюремного чифиря зубы.
Девушка полистала журнал и смогла предложить лишь следующий месяц.
— Круто, — произнес Хвощ, — наверное, мне придется поискать что-нибудь попроще.
— Яков Наумович — редкий специалист, к нему ходят на прием и министры, и депутаты, — не преминула сделать рекламу своему боссу девушка.
Времени, проведенного в клинике, Хвощу хватило на то, чтобы оценить обстановку. Сигнализация старая, обезвредить ее он мог бы и сам, не прибегая к помощи специалистов. Компьютеров в клинике не было, шкафчик с картотекой стоял за спиной девушки.
— Прежде чем к доктору идти, может, стоит рентгеновский снимок сделать? У вас есть рентген-кабинет?
Администратор весело рассмеялась:
— У нас тут всего три комнаты, на рентгеновский аппарат специальное разрешение надо. Я вам выпишу направление в клинику по соседству, они вам все мигом сделают, без очереди пропустят, только скажите, что от Якова Наумовича.
Девушка завела на Хвоща карточку, тот назвался Владимиром Ивановым.
— Кому потом снимок отдать?
— Мне.
— А вы его не потеряете?
— Что вы! Видите, в карточке специальный карманчик есть? Туда все снимки и складываются.
Больше Хвощу в клинике делать было нечего, тем более он присмотрелся и к самому Кучеру, тот колдовал над пациентом за открытой дверью кабинета.
Когда Яков Наумович возвращался домой, «Жигули» уже стояли во дворе его дома.
— Код запомни, — зашипел Хвощ на своего подручного с биноклем в руках. Тот, продолжая смотреть в оптику, накарябал тупым карандашом на пачке сигареты цифры кода двери подъезда.
Через пару дней Хвощ уже знал, когда Яков Наумович уходит на работу, когда возвращается. Знал, как выглядит его жена, знал, в какое время закрывается клиника.
— В пятницу вечером, — сказал своим подручным Хвощ.
В этот день Яков Наумович нервничал. Его постоянно отвлекали от работы телефонными звонками. Люди звонили сплошь важные, и отделаться обычной фразой: «Перезвоните попозже, Кучер занят» — девушка-администратор не могла.
Под конец рабочего дня, когда администратор вновь заглянула в кабинет, Яков Наумович застыл, сжимая в руке подрагивающую рукоятку зубного бора:
— Даже если это сам президент, скажи, что я занят.
— Это ваша жена, — ответила девушка.
Яков Наумович вздохнул.
— Это больше чем президент, — он выключил бормашину и, строго сказав пациенту не двигаться, торопливо вышел в коридор. — Что, дорогая?
— Наши соседи по даче звонили.
— Что-нибудь случилось?
— Они едут прямо сейчас, я собираюсь поехать вместе с ними. Ты не хочешь присоединиться?
— Я же завтра занят, — напомнил Кучер.
— Вот так всегда, — обиженно сказала жена стоматолога.
— Мы живем на эти деньги, — напомнил Яков Наумович.
— Я тебе позвоню завтра с дачи.
— Конечно.
— Надеюсь, ты не собираешься работать до самой поздней ночи?
— Извини, у меня пациент.
— Ты когда-нибудь соберешься отдохнуть?
— Все, целую, — Яков Наумович повесил трубку и заспешил в кабинет.
Хвощ с двумя подручными сидел в машине во дворе дома. Увидев, как жена Кучера выносит из подъезда кошку в корзинке, пакеты со снедью, он с облегчением вздохнул. По большому счету, ему не хотелось убивать даже дантиста, к врачам с детства он испытывал уважение. Тем более ему не хотелось убивать его жену, она-то уж точно ни в чем не виновата.
К подъезду подъехала старенькая двадцать четвертая «Волга».
— Помоги бабушке пакеты к машине поднести, заодно и ключи от квартиры прихватишь, — сказал Хвощ одному из подручных.
Тот выбрался из автомобиля.
— Вы, бабушка, кошечку возьмите, — ласково проговорил он, — а я вам сумочки поднесу.
Пока жена дантиста интересовалась у своей кошки, удобно ли ей сидеть в корзинке, вор ловко вытащил связку ключей из ее сумки, благо, и Хвощ, и он видели, как, дожидаясь друзей, жена дантиста дважды проверила, прихватила ли она ключи.
— Спасибо вам, молодой человек.
— Не за что, — ответил бандит, отворачивая лицо. — Есть, — радостно сообщил он Хвощу и продемонстрировал связку ключей.
— Ты уверен, что не прихватил другие, от дачи?
— Я в ключах разбираюсь, такие длинные, наподобие штопора, бывают только от металлических дверей.
— Значит, наша задача стала еще проще. Пошли.
То, что квартира стоматолога не стоит на сигнализации, Хвощ уже знал, он заходил в подъезд днем раньше.
Бандиты расположились в гостиной, Хвощ сидел под двумя картинами, висевшими на стене.
— Потихоньку можете «капусту» паковать и «рыжье» собирайте, — разрешил он своим подручным.
Денег в доме нашлось немало, в ящике письменного стола и в коробке с документами отыскалось двадцать тысяч долларов. Украшения и деньги положили в портфель Якова Наумовича, стоявший на тумбочке в прихожей. Хвощ собственноручно обыскал кабинет, хотел убедиться, что Кучер карточек своих пациентов в квартире не держит, как и рентгеновских снимков.
— Ша! — предупредил своих подручных Хвощ, когда в узкую щель между шторами увидел, как Кучер входит в подъезд.
Бандиты стали у стены в гостиной так, чтобы их не видел вошедший.
«Человек он богатый, — подумал Хвощ, разглядывая два портрета, висевших на стене, — мог бы позволить себе дорогие картины — Айвазовского, Шишкина, — далее фантазия Хвоща не шла. — А висит у него какая-то дрянь. Родственники, наверное.»
Мягко щелкнули замки. Яков Наумович зажег в прихожей свет и неторопливо закрыл за собой дверь. Сбросил ботинки, зашел в гостиную и тут же увидел трех незнакомых мужчин, стоявших у стены. Хвощ широко улыбался, шагнул к хозяину квартиры, шепнул на ухо:
— Извини, старый, но так надо. Длинный острый нож вонзился под левую лопатку дантисту. Бандит, нанесший удар, отступил. Хвощ, зажимая Якову Наумовичу рот рукой, опустил его на пол. Бандиты молча смотрели на то, как жизнь постепенно уходит из тела дантиста.
Хвощ присел, приложил два пальца к сонной артерии старика:
— Готов, — констатировал он. — Нож забери и уходим.
Один из бандитов резко вытащил нож и тут же отступил от лежавшего на полу Якова Наумовича. Кровь залила ковер.
— Смотри-ка, не испачкался.
Бандит вытер лезвие о край скатерти и взял в руку портфель с деньгами и драгоценностями.
Никем не замеченные, они покинули квартиру. Трубку телефона предусмотрительно сняли, и жена Кучера, сколько ни звонила, не могла понять, с кем это так долго беседует ее муж.
В клинику Хвощ и его люди забрались поздней ночью. Вырезали в стекле аккуратное отверстие, не задев при этом датчики сигнализации. Здесь бандиты поживились двумястами граммами чистейшего стоматологического золота. Все карточки пациентов вместе с картотечными ящиками и рентгеновскими снимками они загрузили в машину.
Костер из похищенных документов горел в подмосковном лесу в специально отведенном для туристов месте. Пламя лизало круг, выложенный из валунов, Хвощ сидел за деревянным столиком под навесом и говорил в трубку «мобильника»:
— Все сделано в лучшем виде. Завтра обязательно посмотрите новости.
Уже назавтра с подачи Бартлова Министерство внутренних дел Беларуси подготовило послать российскому министерству запрос насчет идентификации останков Омара шах-Фаруза. Белорусские специалисты утверждали: погиб не сам террорист, а кто-то, похожий на него.
ГЛАВА 19
Зуб во рту генерала ФСБ Федора Филипповича Потапчука перестал болеть, и генерал о нем пару дней даже не вспоминал. Когда боли нет, об этом не думаешь. Но, перевернув листок перекидного календаря, Федор Филиппович увидел запись: «Яков Наумович Кучер. Визит». Генерал улыбнулся: «Сегодня к зубному. Придется потерять пару часов. Поеду сразу же после обеда, как договаривались».
Работы у Потапчука было не так уж и много: два совещания, встреча с генерал-лейтенантом Огурцовым. И, придя от шефа, Потапчук взглянул на часы,
— Пора, — сказал себе и, подойдя к зеркалу, оскалил зубы. — Ну вот, Яков Наумович расскажет пару старых новых анекдотов, поковыряется минут двадцать, и о зубной боли можно будет забыть лет на пять до следующего визита.
Потапчук вызвал по селектору машину. Он шел по коридору быстро, боясь, что кто-нибудь из вышестоящих чинов задержит, и можно статься, надолго, а тогда визит к Якову Наумовичу не состоится. Но все обошлось. Генерал вышел на улицу, глянул на ясное небо, с облегчением вздохнул и забрался на заднее сиденье автомобиля. В портфеле лежала бутылка шикарного армянского коньяка, подаренного генералу пару лет назад во время его командировки в Ереван.
Он назвал адрес и, поглаживая портфель с коньяком, подумал о том, что жизнь, в общем-то, не такая уж скверная штука.
— А ты как думаешь? — обратился он к водителю, словно тот мог прочесть его мысль.
— О чем думаю?
— О жизни что ты думаешь?
— Ничего я о ней не думаю, живу и живу.
И генерал понял, наверное, это и есть самый правильный ответ — не думать о превратностях судьбы, а просто жить, Наслаждаться каждым часом, каждым днем.
Еще не подъехав к месту, Потапчук увидел у клиники Якова Наумовича Кучера милицейские машины и толпу людей. По спине пробежал холодок, подобные картины Федор Филиппович не любил, хотя и привык к ним, они были для него будничными.
— Ну-ка, давай туда, — уже властно обратился генерал к водителю.
Машина заехала на площадку. Тут же выскочил сержант и замахал полосатой палкой, указывая черной «Волге» генерала покинуть это место.
— Поезжай, — зло буркнул Потапчук. Сержант отскочил в сторону и ударил жезлом по капоту.
— Я тебе ударю! — высунулся из кабины водитель. — Так ударю, что мало не покажется!
— Куда прете, не видите, что ли?
Водитель остановил машину. Потапчук вышел и коротким движением сунул свои документы под нос сержанту. У того аж дыхание перехватило, он побледнел.
— Ладно, не расстраивайся, — отодвинув сержанта, произнес Потапчук, — что здесь такое?
— Не знаю, что там, товарищ генерал, — четко по-военному отрапортовал сержант, — мне велено перекрыть движение и никого, кроме служебных, не пускать.
— Понял. Молодец.
Потапчук с портфелем, втянув голову в плечи, быстро двинулся к клинике. На крыльце его опять задержали, но, увидев удостоверение генерала ФСБ, с извинением впустили. То, что узнал Потапчук, его ударило в сердце. Разговаривал с ним подполковник из МУРа, даже его фамилию Федор Филиппович от расстройства не запомнил. Он к нему так и обращался:
— Подполковник, когда это произошло? Где тело? Что вынесли?
Подполковник отчитался. Генерал, в сопровождении полковника, все осмотрел, давая на ходу невнятные пояснения. Генерал покинул клинику и направился вместе с симпатичной плачущей девушкой на квартиру Якова Наумовича.
На лице вдовы Якова Наумовича было странное выражение: брови приподняты, глаза расширены, словно она чему-то невероятно сильно удивилась, и эта маска замерла. Она узнала генерала, поднялась с кожаного дивана, над которым висели две картины в одинаковых рамах.
Потапчук обнял женщину за плечи и зашептал единственное, что пришло в голову:
— Я разберусь, обязательно разберусь, поверьте мне.
— Да, да, да… — отвечала односложно вдова Якова Наумовича. — Хотя что это изменит? Он вчера так радовался, говорил, вы придете в гости, я приготовлю рыбу. Он любит рыбу… — потом вдруг она поправила себя: — Любил. Я, наверное, теперь на нее смотреть не смогу. Боже, какой ужас! Какое горе, как это все темно!
Генерал усадил вдову на диван. Ее тут же обняли за плечи незнакомые мужчина и женщина. Мужчина кивнул генералу, словно был с ним знаком.
Потапчук покинул квартиру, в которой было невероятно тихо, но очень людно. Все двигались бесшумно. Зеркала уже были завешены тканью, и даже экран телевизора тоже покрывала черная шаль.
Из машины генерал позвонил полковнику МУРа и в прокуратуру. Он попросил, чтобы вся информация, которая есть по убийству Якова Наумовича Кучера и по ограблению его клиники, была предоставлена ему незамедлительно.
— Если надо связаться с вашим руководством, сошлитесь на генерала Потапчука и генерал-лейтенанта Огурцова. Он будет в курсе. И вообще, полковник, ссылайтесь хоть на Господа Бога, но это дело надо раскрыть как можно скорее.
Водитель, покрутившись на месте преступления, наслушавшись разговоров, был в курсе событий.
— Федор Филиппович, — глядя в зеркальце заднего вида на удрученное лицо Потапчука, сказал водитель, — а зуб-то вы вылечили?
— Да ну его к черту, какой зуб? Я о нем забыл. Мерзавцы! Ну, подонки! Да езжай ты поскорее, что тянешься, как похоронный катафалк! — буркнул генерал и отшвырнул в сторону портфель с бутылкой армянского коньяка.
***
По возвращении из Витебска заботы и самые разнообразные проблемы обрушились на Олега Петровича Чернявского. Похороны сотрудницы, милиция, встречи с художниками, оформление визы, проблемы с детьми, которые отказывались подчиняться жене, в общем, все это выбило Олега Петровича из колеи напрочь. О Фиме Лебединском он заставил себя на время забыть, как будто его и не было. За пару дней он лишь один раз улучил свободную минуту и, открыв сейф, полюбовался шедевром. Но жизнь, как известно, состоит из светлых и черных полос. Вот черная полоса, как посчитал Олег Петрович, закончилась, и наступила передышка.
Он узнал телефон Якова Наумовича Кучера и, сидя в своем кабинете, набрал номер. Телефон был занят, и пришлось Олегу Петровичу раз двенадцать дублировать свой звонок, пока наконец трубку не сняли. Он услышал мужской голос, утомленный и грустный.
— Здравствуйте, — сказал Олег Петрович. — Я имею честь разговаривать с Яковом Наумовичем Кучером?
— Нет, — услышал в ответ коллекционер-галерейщик.
— А не могли бы вы пригласить Якова Наумовича?
— Нет, — услышал он односложный ответ.
— Его нет в городе?
— Яков Наумович погиб, — шепотом, с придыханием сообщил мужчина.
— Не понял! Я попал к Якову Наумовичу Кучеру? Стоматологу?
— Да, — сказал грустный мужской голос, — вы не ошиблись. Но Яков Наумович погиб, его убили. Похороны состоятся завтра.
— Извините, мои соболезнования, — быстро пробормотал Олег Петрович, отключая телефон.
Он скорчился в кресле, обхватил голову руками, крепко сжал, виски. Первое, что он подумал: своего дальнего родственника замочил Фима Лебединский из-за картин, которые хранились у Якова Наумовича.
— Боже, во что я вляпался! Еще визитку свою Фиме на столе оставил!
Но, поразмыслив полчаса, просчитав всевозможные варианты, коллекционер-галерейщик успокоился. «Никто ничего не знает. В чем моя вина? Доказать никто ничего не сможет, а если что, адвокаты у меня прекрасные, из подобной передряги вытащат. Не зря же я им деньги плачу? Так что можно быть спокойным. Но на всякий случай надо навести справки».
Он принялся звонить своему адвокату, тот позвонил знакомым в МУРе. Вышли на следователя по делу об убийстве Якова Наумовича Кучера, все узнали. К вечеру адвокат позвонил своему клиенту и успокоил его, сказав, что дело на контроле и в прокуратуре, и в МУРе, и шепотом добавил:
— Даже ФСБ в этом деле почему-то заинтересовано. Но там чистое убийство, причем сделанное профессионально.
Чернявскому, конечно же, хотелось дать кое-какую информацию адвокату, но он, слава Богу, сдержался.
«Все свое носи с собой», — подумал Олег Петрович перед сном.
***
Генерал Потапчук сидел у Глеба и нервно курил. Сиверову было жаль пожилого генерала, столько сил потрачено, а в результате одни неприятности.
— Нет, Глеб, ты не можешь представить, в какой заднице я оказался. Мое начальство знает только одно, что я послал своего агента в Витебск ликвидировать Омара, а теперь получается, что Омар жив.
— Я гарантирую вам, что это был он.
— Тебе я верю, — вздохнул Потапчук, — но не могу же я подшить твои слова к делу. Сперва белорусы свинью подложили, а теперь и американцы просят подтвердить, что Омар мертв. Мне еще не говорят это открытым текстом, но завтра скажут, мол, твой агент предупредил шах-Фаруза, что готовится его выдача, и афганец инсценировал собственную гибель, после чего, заметая следы, убрал всех, кто мог его разоблачить: французского журналиста, московского дантиста, — Потапчук обхватил голову руками и закачался.
— Федор Филиппович, кто первым поднял вопрос о том, что погибший — не Омар шах-Фаруз?
— Белорусы. Никак не могу их понять! Зачем им это?
— Я пока что тоже многого не понимаю, — мягко сказал Глеб. — Но вам не кажется странным, что американцев ничего не смутило, а белорусы вместо того, чтобы замять происшествие, принялись копать глубже, чем это от них требуется?
— Глеб, я чувствую, мы идем с тобой по гнилому болоту и вот-вот провалимся.
— Я не могу вам сейчас ответить, в чем подвох, — Глеб задумчиво смотрел в окно, — но кое-что я уже начинаю понимать.
— Скорей бы, — отозвался генерал Потапчук, — а то меня начальство на куски разорвет.
— Меня смущает, что и вы лечились у Якова Наумовича Кучера. Он был, по вашим рассказам, великолепным специалистом,
— Лучшим в столице.
— Жаль, что я не знал его при жизни.
***
Похороны стоматолога, владельца небольшой клиники для избранных, были невероятно пышными. Цветов, венков нанесли неисчислимое количество. Хоронили Якова Наумовича на Ваганьковском кладбище в престижном месте, на центральной аллее. Хлопотать особо не пришлось, заместитель мэра Москвы был постоянным клиентом Якова Наумовича, и он постарался хоть таким способом отблагодарить покойного. Цветы, венки, скорбные лица, грустные надписи на черных лентах.
«От народного артиста…», «От космонавтов…», «От родственников», «От друзей» — в общем, все было как в лучших домах, как в лучшие времена.
Вдова Якова Наумовича держалась прекрасно, не плакала, удивленное выражение с ее лица исчезло, и сейчас она была просто удручена, убита горем. Она двигалась медленно, говорила тихо, преимущественно повторяя одни и те же слова:
— Спасибо. Я рада, что вы пришли. Яков был бы очень рад вас видеть. Спасибо, спасибо…
На похоронах оказалось сразу несколько священников разных конфессий. Все они были клиентами известного стоматолога, мастера своего дела. Вдова, глядя на пришедших отдать последнюю дань памяти покойного, то и дело думала: «Сколько хороших людей! Сколько друзей было у моего Якова! Как же я теперь без него?».
Потапчук тоже выкроил время проводить в последний путь своего доброго знакомого, почти друга. И что удивило генерала, так это то, что на похоронах стоматолога он увидел Глеба Сиверова. Тот стоял в сторонке в черной рубашке, в черных брюках и темно-серой куртке. Глаза прятал за солнцезащитными очками. Они кивнули друг другу, причем, сделали это так, словно обознались. Никто из присутствующих этого движения не заметил, да мало ли с кем может такое произойти при большом стечении народа?
Генерал, садясь в машину, сбросил на пейджер Глебу сообщение о том, что в девять он будет у него.
«Глеб не перезвонил, значит, встрече быть. Понятно, почему я там оказался, но что на похоронах стоматолога делает Глеб?» — для генерала это оставалось загадкой, и он надеялся, что вечером при встрече Глеб ему объяснит.
***
Фима, получив сообщение о смерти родственника вечером, воспринял его спокойно, словно Яков Наумович Кучер был для него человеком чужим. Но, поразмыслив, понял, надо ехать, ведь Яков Наумович богат и, может быть, ему, Фиме Лебединскому, что-то перепадет от тех богатств, которыми владел Яков Наумович. Он быстро собрался и, идя к вокзалу, сообразил: «А денег-то у меня до Москвы быстро доехать нет. Надо срочно у кого-то занять».
Фима остановился посреди улицы как вкопанный, в вечном черном костюме, темно-синей тенниске, с мрачным лицом.
«Да что б тебя! Придумал, когда Богу душу отдать. Хотя смерть всегда неожиданна, приходит тогда, когда ее не ждешь,» — эту истину Фима знал как дважды два, как-никак сам не одну сотню, а может, тысячу людей проводил на тот свет, при этом наслушался всякого.
Лишь к двенадцати вечера он умудрился одолжить денег на билет в один конец, да и это ему удалось путем длительных просьб и унижения. Но на унижение можно наплевать. Фима ехал в Москву ночным поездом, на постель денег у него не осталось, поэтому всю ночь он спал, положив голову на руки. Время от времени, проснувшись, он потягивал из литровой пластиковой бутылки пиво. В Можайске пиво кончилось.
«Ничего, на похоронах поем и выпью.»
На взгляд Фимы, когда он прибыл на место, все устроили не лучшим образом. И оркестра не было, и гроб не того цвета, и вообще, все здесь делается не так, как у людей.
«Ну да ладно, что указывать в чужом городе. В каждом монастыре свой устав, а в каждой синагоге свой раввин».
Фима старался все это время быть поближе к вдове, перевиделся с многочисленными родственниками, которые, глядя на него, участливо кивали головой, выслушивая о злоключениях, с которыми он добирался до Москвы. Фима умудрился, невзирая на трагизм ситуации, одолжить у каждого из близких и далеких родственников деньги на обратный билет: кто же в такой день станет скупиться? И Фима воспользовался ситуацией. Поэтому, он хотя и держал на лице гримасу грусти и печали, в душе был весел, почти хохотал.
Хорошо покушав и выпив в ресторане, Фима с самыми близкими родственниками и знакомыми оказался в квартире. Он улучил момент, когда вдову оставили, подошел к ней, взял за руки и, глядя в глаза, с придыханием и шепотом стал ей сочувствовать, говоря, каким замечательным человеком был Яков Наумович и как ему, Ефиму Лебединскому, не будет сейчас хватать мудрых советов и участия Якова Наумовича. Вдова согласно кивала.
— Фаина Михайловна, — гладя руку вдовы, прошептал Фима, — я, в отличие от других, не претендую ровным счетом ни на что, мне ничего не надо. Но не будете ли вы так любезны, в память о наших с Яковом Наумовичем родственниках, а он мне это обещал, отдать два портрета двух моих предков. Ведь я, Фаина Михайловна, самый близкий их родственник, они мне как родные, — и Фима скосил глаза на два портрета в деревянных рамах.
— Конечно, бери. Мне-то они ни к чему.
— Да-да, зачем они вам? А мне память будет. Я повешу их над своей кроватью. У меня ведь никого из близких не осталось, и буду вспоминать Якова Наумовича и весь наш род.
— Бери, Фимочка, бери.
Еще посидев пару минут и дождавшись, когда к маме подсядет дочь, Фима простился, сославшись на неотложные дела. Подошел к стене, снял портреты, нашел на кухне моток шпагата, перевязал картины, составив их лицом к лицу, и по-английски, ни с кем не прощаясь, двинулся к выходу. Он спускался по лестнице с улыбкой на пухлых губах, он был доволен своей изворотливостью, находчивостью и предприимчивостью. Визитка с телефоном Чернявского лежала у него в кармане. Но внизу, прямо у подъезда, к нему подошел мужчина в черных солнцезащитных очках:
— Здравствуй, Ефим, — твердым голосом произнес мужчина.
Фима насторожился, даже втянул голову в плечи, словно мужчина собирался его ударить и уже занес руку с пальцами, сжатыми в кулак.
— Ну, и что из того? — выдавил из себя Фима. — Вы что, тоже мой родственник?
— К сожалению, нет.
— А если бы был, то что?
— Если бы я, Ефим, был твоим родственником, то я бы у тебя купил эти картины. — Фима вздрогнул. — Один портрет ты продал, а я бы купил у тебя эти два.
— Кому это я портрет продал?
— Моему знакомому другу, Максу Фурье. В Витебске ты его продал на «Славянском базаре». Ты еще стоял рядом с амфитеатром, неподалеку.
— Ну, и что из того?
— Так вот, я у тебя хочу купить эти два портрета.
— Ха, — сказал Фима. — Спокойно, дорогой товарищ, эти картины не продаются, они мне дороги как память.
— О Якове Наумовиче?
— Хотя бы и о нем, — Фима оглядывался по сторонам, словно собирался звать на помощь.
Мужчина преспокойно запустил руку во внутренний карман темно-серой куртки и вытащил портмоне с металлическими уголками. Он развернул его, пальцами быстро пересчитал деньги.
— Четыреста долларов тебя устроит?
Фиму словно водой окатило. Если бы у него при себе денег не было, то он сказал бы «да». Но Фима был еврей, причем чистокровный, и на данный момент деньги у него имелись.
Поэтому он скорчил рожу, неприступную и неподкупную:
— По двести за картину? А дорогу кто мне компенсирует? Я ехал черт знает откуда, черт знает как, и вот так должен безо всякого навара и подъема продать вам эти портреты?
— Ага, — сказал мужчина, вытаскивая из портмоне пачку долларов. — Ладно, что мы разводим церемонии, как на базаре? Пятьсот долларов, — у мужчины в пальцах зашуршали банкноты.
Фима смотрел на купюры как завороженный:
— Мне один человек за них предлагал больше. Я ему сейчас позвоню. Если он от своих слов откажется, то я уступлю их вам за шестьсот, а если нет, то тогда не обессудьте. Торговля есть торговля, товар получает тот, кто платит больше.
— Это ты верно заметил. А звонить кому будешь?
Фима поставил картины между ног, сжал их коленями и принялся рыться во внутреннем кармане черного пиджака.
Наконец он вытащил визитку:
— Вот, телефончик у меня есть. Сейчас вернусь в квартиру, наберу, переговорю с ним. И если нет, то да, а если да, то нет.
— Звони.
Фима не понял. Мужчина подал ему «мобильник».
— Как им пользоваться?
— Называй номер, я наберу, ты поговоришь со своим купцом, и вдруг мы с тобой сможем договориться?
Фима продиктовал номер. Глеб быстро набрал, подал трубку Лебединскому:
— Олег Петрович, это вы? — услышав голос в трубке, радостно и возбужденно закричал Фима, — Тут такое дело… Это я, Лебединский Ефим, помните? Из Москвы звоню. Вы просили позвонить. Так вот, картины у меня. Но тут есть еще один покупатель…
— Какой Ефим Лебединский? К черту картины!
Ефим от этих слов вздрогнул:
— Я что-то не догоняю. Они вам нужны? А если нужны, так давайте встретимся и переговорим. Вы мне бабки, я вам картины, все довольны, все смеются.
— …
— Как уезжать? Вы сами ко мне в Витебск приедете?
— …
— Ага, понял.
— Все, Фима, хорошо, — глядя в глаза Лебединскому и шурша купюрами, сказал Глеб.
Лебединский переминался с ноги на ногу. Он попал в ситуацию, когда и хочется, и колется, и мама не велит.
— Ай, что с вами делать, — сконцентрировав взгляд на деньгах, выдавил Фима. — Деньги хоть хорошие?
— Из банка, — спокойно произнес Глеб.
— Из какого банка?
— Из настоящего, на Тверской.
Ефим мял деньги. Такой суммы он никогда в руках еще не держал. Видеть видел, слышать слышал, но чтобы вот так сразу — этого не было,
— Забирайте, — Фима сложил деньги вдвое, еще раз пересчитал.
Глеб взял картины:
— Подбросить тебя куда-нибудь?
— Э нет, сам доберусь.
Ехать с деньгами с малознакомым человеком Ефиму не хотелось, поэтому он кивнул и быстрой походкой, словно торопился в закрывающуюся аптеку, бросился со двора.
Глеб сел в машину, картины поставил на заднее сиденье. Посмотрел на телефонный номер на своем «мобильнике» и по номеру понял, куда Фима звонил: этот номер ему был уже известен.
«Ну вот, теперь все стало на свои места и уже ничего не сдвинешь, ничего не изменишь.»
Из машины Глеб позвонил Потапчуку и, сославшись на неотложные дела, сообщил, что встреча, если и состоится, то завтра. Генерал переспрашивать не стал, причины они по телефону никогда не выясняли.
***
Озлобленный и расстроенный, Олег Петрович Чернявский возвращался домой.
«Будь он неладен, этот Фима Лебединский, придурок конченый! Ну ничего. Он решил меня обмануть. У него есть покупатель… Какой к черту покупатель? Этого быть не может, потому что не может быть никогда, — в сердцах чертыхался и матерился коллекционер-галерейщик. — Надо будет, тебе голову, придурок, отвертят, оторвут и отфутболят как мяч. И покатится она в овраг, и будут ее бродячие псы грызть. Он меня на испуг брать пробует… Не такой я идиот, чтобы купиться. Меня на мякине не проведешь!»
Он подъехал к дому. Охранник стоянки поднял шлагбаум, кивнул. Но на кивок охранника Олег Петрович не отреагировал. Он сидел за рулем с каменным, непроницаемым лицом.
Портье в подъезде угодливо улыбнулся:
— Вас мужчина спрашивал.
— Ну и что из того?
— Ничего, Олег Петрович, просто он расспрашивал, во сколько вы с работы приедете.
— И что ты ему сказал?
— Сказал, что не знаю.
— Правильно.
За окнами уже была ночь. Чернявский остановился перед дверью квартиры, вошел. Потянулся к выключателю, зажег свет. Затем закрыл дверь на два замка и, на ходу сбрасывая пиджак, развязывая галстук, прошел в холл. Свет он не зажигал, в холле царил полумрак.
— Уроды проклятые! — громко произнес он, прислушиваясь к собственному голосу. — Вонючка! — вспомнив Фиму, галерейщик швырнул галстук на диван.
Он потянулся к выключателю, включил свет. Плотно сдвинул тяжелые шторы на окнах, пошел к сейфу. Он знал, что только картина может вернуть ему спокойствие.
Открыл гардероб, отодвинул стенку и принялся колдовать над сейфом.
— Вот и ты, любимая, родная, — беря холст в руки, прошептал Чернявский, прижимая картину к груди.
Он поставил ее напротив большого светильника, направил на нее свет, взял пепельницу, сигарету и зажигалку. Сел в кресло напротив, щелкнул зажигалкой. Прикурил. Уставившись в полотно, негромко присвистнул, словно подзывал любимого пса, а затем, затянувшись, выпустил дым в сторону — так, чтобы он не мешал созерцать холст.
Еще несколько мгновений Олег Петрович сидел, покачиваясь в кресле, неторопливо куря сигарету, не обращая внимания на столбик пепла, который висел, грозя упасть на брюки.
— Игра стоит свеч, — произнес он довольно громко и внятно, не отводя глаз от полотна.
— Думаешь, стоила? — раздался за спиной Чернявского мужской голос.
Чернявский очень медленно обернулся: у окна, заслонив собой торшер, стоял мужчина в серой куртке, в руках он держал пистолет.
— Ты все хорошо продумал, Олег Петрович, и все у тебя получилось. Плюс невероятное везение.
— Вы кто? — быстро моргая, спросил Чернявский.
— Сиди, не шевелись, а то я нечаянно нажму на курок, и тогда пуля пробьет тебе голову. И холст вновь придется отмывать, на этот раз не от темперы, от твоих мозгов.
— Ты кто?
— А ты как думаешь?
Чернявский пожал плечами, сигарета обожгла пальцы, и он, вздрогнув, принялся медленно давить окурок в пепельнице.
— Давай по порядку, дружок. Рассказывай, как все было, и, может быть, этим ты спасешь свою шкуру.
— Я свою шкуру? А зачем мне ее спасать? Незачем.
— Ты безгрешен, как ангел?
— У тебя ничего на меня нет.
— Ты уверен?
— Абсолютно, — отчетливо произнес Чернявский.
По лицу было заметно, что он не на шутку испугался. Один в пустой квартире, и какой-то человек с пистолетом, и непонятно, какие у него намерения, ведь он в любой момент может выстрелить. Чернявский четко видел палец, лежавший на курке пистолета.
— Мне нечего сказать, — выдавил он из себя. И тут мужчина бросился на него, повалил вместе с креслом на пол, прижал коленом горло, а пистолет воткнул прямо в глаз, сбросив на пол очки.
— Значит, так: ты убил мою подругу, отравил ее! Как ты это сделал? Если расскажешь, я тебя не пристрелю!
— Какую подругу? — выдыхал, выкрикивал сдавленным голосом коллекционер.
— Софью Куприну. Софочку, мою Софочку… Быстро, быстро говори, как ты это сделал?
— Я оставил таблетку, я положил в ее аспирин… меня тогда в городе не было…
— Зачем ты это сделал? Я ее любил…
— Она знала… знала о картине, вот об этой картине. Хочешь, забери ее, она стоит десять миллионов, как минимум… Десять миллионов долларов, слышишь? Они будут твои, только не убивай! — Чернявский чувствовал, как ствол пистолета уперся в скулу, как этот ствол дрожит. И Чернявский понял, вернее, почувствовал, что незнакомый мужчина именно сейчас готов нажать на курок.
— Эта картина стоит десять лимонов? Софья о ней знала?
— Да! Да! Когда придурок Серж привез в галерею этот холст и попросил, чтобы я дал ему документы на вывоз, я показал картину Софье.
— Зачем ты ей показал? — шипел Глеб. — Зачем ты, сволочь, втянул в это дело, ведь я ее так любил?
— Ты ее любил? Извини…
— Ты ее трахал? Трахал? — кричал Глеб, пытаясь всунуть ствол пистолета в рот.
— Да, один раз.
— Она была хороша в постели, она тебя ласкала?
— Да… То есть, нет… получилось само собой…
— Ты к ней приехал специально? Ты знал о таблетках?
— Нет, я ничего не знал, она сама рассказала, что пьет аспирин, чтобы кровь не загустевала…
— Что-что?
— Ну, я не знаю, — Чернявский не пытался дергаться. Он был до такой степени напуган, раздавлен, что был уверен: перестань он говорить, в тот же момент может громыхнуть выстрел, пуля размозжит голову.
— Быстро говори, кто убил Макса Фурье и Максимова?
— Макса Фурье убил Проханов… Слышите меня? Не убивайте… Проханов его застрелил.
— Какой Проханов?
— Капитан спецназа, капитан в отставке. Он бар держит за мои бабки… я могу дать деньги, много денег, у меня есть деньги…
— Деньги, говоришь? Ты урод! Ты хоть это понимаешь, что ты конченый урод? Где сейчас Проханов? Называй телефон, адрес, быстро! Я у него сам спрошу. Это не он убил, это ты, гнусный садист!
— Нет, нет, это не я! Я француза не убивал, это все Проханов, это все он. Он картину принес, я его не просил их убивать, я сказал картину забрать. Слышите? Только не стреляйте!
— Не стрелять, говоришь? Ну-ну, я, пожалуй, не буду стрелять, пусть тебя в тюрьму посадят, урода, там с тобой разберутся.
— У меня дети, жена…
Глеб снял с пояса наручники, подтащил Чернявского к трубе, защелкнул один браслет на запястье правой руки, а другую на трубе. Он быстро обыскал Чернявского, затем подошел к окну, отодвинул штору. В руках Глеба оказался диктофон, красная лампочка светилась. Глеб нажал клавишу, немного отмотал, послушал запись, прижимая диктофон к уху.
— Я надеюсь, ты от своих слов не откажешься. А если откажешься, тебе крышка, я тебя найду везде — в Америке, в Африке, на самом гнусном островке, я тебя найду даже на Северном полюсе и размозжу башку. Ты меня понял?
Из-за дивана Глеб вытянул спортивную сумку, из нее достал скотч — тяжелую, широкую бобину.
— Знаешь, как это называется?
— Скотч.
— Ты прав, это скотч. А то, что сейчас было, называется момент истины. Вот такие дела, — Глеб вытащил кассету, подошел и положил ее возле картины на пол. Затем залепил Олегу Петровичу рот, снял с трубы браслет, перебросил через нее цепочку, защелкнул браслет на левой руке галерейщика. — Вот так ты и будешь здесь сидеть. Я могу тебя оставить на неделю, и ты сдохнешь от голода. Вот такие дела. Я ухожу.
Глеб исчез в спальне. Потянуло сквозняком. Олег Петрович понял, что в спальне открыта дверь на балкон.
Глеб спустился по водосточной трубе ловко и быстро, а через пять минут он уже садился в свой серебристый «БМВ».
Набрал номер Потапчука:
— Федор Филиппович, подъезжай со своими людьми, только лично. Желательно побыстрее, квартира коллекционера Олега Петровича Чернявского, третий этаж, по адресу…
— …
— Он уже все рассказал.
— …
— Да, да, думаю, расскажет еще больше. Там, возле картины, лежит кассета, вы ее послушайте, но больше никому слушать не давайте.
— …
— Какая кассета? Да самая обыкновенная, от диктофона.
— …
— Завтра? Хорошо, давайте завтра, буду ждать.
***
Генерал ФСБ Федор Филиппович Потапчук, усталый, но с улыбкой на лице, появился ровно в девять, будто он был образцовым студеном и пришел на лекцию любимого преподавателя.
Глеб пожал руку генерала. Потапчук улыбался, поглядывая на Сиверова.
— Любишь кино смотреть?
— Я больше аудио люблю, а не видео.
— Это я понимаю, — генерал открыл портфель, в его руках оказалась бутылка коньяка. — Кофе будем пить с коньяком, если не возражаешь, если у тебя нет других планов. Я приехал к тебе, Глеб Петрович, без машины.
— Вот как!-удивился Сиверов.
— А теперь давай бокалы. Протокол допроса уже готов, вчера мои сотрудники раскрутили Чернявского. Он все рассказал.
— Я другого и не ожидал, — без энтузиазма произнес Слепой, ставя на стол два бокала и доставая из маленького холодильника два лимона.
— Ты знал, что я принесу бутылку коньяка?
— Предполагал, — пошутил Сиверов.
— Ну тогда и наливай сам.
— Нет, Федор Филиппович, я буду наливать кофе, а вы — коньяк.
— Хорошо, разделение труда. Мне это даже нравится, я давно не наливал спиртное.
— Рассказывайте.
— Сегодня взяли Проханова в Калининграде, а двух его дружков в Красноярске. Так что дело сделано. Лучше рассказывай ты. Но для начала ответь мне на один вопрос: как ты вышел на Чернявского?
— Это, кстати, не самое сложное.
— Что самое сложное?
— Самое сложное — не обращаясь к вам, Федор Филиппович, получить заключение.
— Какое заключение?
— От медиков. Меня интересовала причина гибели Софьи Куприной.
— Ну и что?
— Я попросил развернутый анализ крови.
— Ты в этом что-нибудь понимаешь?
— Да, немножко, хотя сам не являюсь большим поклонником всяких отравляющих веществ. И еще…
— Давай еще.
— Ваши сотрудники, генерал, даже не удосужились проверить телефонные разговоры и проверить всех, кому звонил Сергей Максимов накануне своей гибели. А звонил он с «мобильника», поэтому я этим делом занялся. Вышел на галерейщика, уточнил, узнал, что Сергей был у них с картиной и ушел от них с картиной. Вот и все.
— Просто у тебя получилось. Замдиректора эта версия устраивает как нельзя лучше, я сегодня ему докладывал.
— И что он?
— Через два дня будет пресс-конференция, на которой он расскажет пишущей и снимающей братии о том, кто, за что и как убил Макса Фурье и Сергея Максимова. Вот такие дела. Все сложилось для нас наилучшим образом — никакой политики, никакой связи с гибелью Омара шах-Фаруза, сплошная уголовщина. А еще что скажешь?
— Что вам еще сказать, Федор Филиппович? Давайте коньяк пить, будем отдыхать. Признаться, я немного устал.
— Я тебя понимаю, ты можешь отдохнуть. Мне же еще предстоит разбираться с убийством стоматолога и пытаться убедить белорусских коллег, а вслед за ними и американцев, что подорванный в лифте гостиницы «Эридан» — покровитель террористов Омар шах-Фаруз, а не человек, похожий на него. Уже и американцы утверждают, будто мы предупредили афганца о готовящейся выдачи, чтобы он смог инсценировать собственное убийство и скрыться. И нет ни одной зацепки. Яков Наумович уже никогда не опознает его по зубам.
— Вас все еще интересует Омар? Что же вы раньше не сказали? — хитро улыбнулся Глеб.
— Ты что-то знаешь и молчишь? — взъярился Потапчук.
— Проявите терпение и пожертвуйте десятью минутами времени.
Сиверов, больше ничего не объясняя, включил компьютер. Вывел на монитор две фотографии.
— Я скопировал их с кассеты, отснятой Максом Фурье на «Славянском базаре». Вы знаете этих людей? Он специально снимал их в толпе крупным планом.
Потапчук, прищурившись, разглядывал лица.
— Мужчина в соломенной шляпе и с усами кажется мне немного знакомым, а второй — в джинсовом костюме — нет.
— Я тоже не сразу узнал, кто они. Понадобилось время. Интернет — полезная штука. — Сиверов вывел на экран увеличенную групповую фотографию. — Встреча военных делегаций России, Беларуси, Ирака. Первый — это военный атташе Ирака в Москве — Мансур, второй — заместитель министра обороны Беларуси Бартлов.
— Точно, — восхитился генерал.
— Вскоре после встречи военных разразился международный скандал. Выяснилось, что в Минскую военную академию приглашены на обучение тридцать иракских офицеров по программе обслуживания и использования ракетного комплекса «Меркурий».
— Помню этот скандал.
— А перед этим промелькнула информация, что в присутствии американских наблюдателей уничтожен такой же комплекс. И два дня назад Бартлов отправлен в отставку, — Глеб проиллюстрировал свои слова выдержками из газетных статей. — Теперь подумаем. Может ли быть подобное совпадение случайностью?
— Ты имеешь в виду частое упоминание комплекса «Меркурий»?
— Не только. Могут случайно оказаться в одном квартале в Витебске в одно и то же время Мансур, Омар и Бартлов?
— Нет, — подтвердил Потапчук, — вдобавок там же оказались ты и Макс Фурье.
— Они собрались в одном месте, чтобы довести до конца сделку по нелегальной продаже Ираку ракетного комплекса, способного сбивать американские самолеты. Минимальная стоимость комплекса сто — сто пятьдесят миллионов. Деньги шли через Омара. Я убрал его в самый неподходящий момент, в разгаре сделки, когда деньги находились в движении, переходили со счета на счет, и часть суммы вышла из-под контроля организаторов. Теперь все участники пытаются выяснить: погиб Омар или дернул вместе с деньгами?
Потапчуку нечего было возразить.
— И что теперь прикажешь делать?
— Это уже большая политика. В нее меня не впутывайте. Не мне решать, кто более ценен России на данном этапе: Америка или Беларусь с Ираком? Желает ли наше правительство, чтобы зенитный комплект сбивал натовские самолеты, или нет? И не вам решать эти вопросы. Доложите начальству все как есть. Оно доложит президенту. Это как в кроссворде.
— В каком еще кроссворде? — спросил Потапчук.
— Картина Шагала была завернута в плакат с кроссвордом. Когда я его увидел, у меня рука зачесалась, кроссворд и до половины не был разгадан. Но не стану же я разгадывать чужой кроссворд в купе поезда?
— Теперь мне стало все понятно. Кстати, Глеб, ты так и не назвал сумму своего гонорара за ликвидацию Омара. Когда начальство разберется, что ошибки не произошло, тебе заплатят.
— Я уже сам выписал себе гонорар и даже получил его, — ответил Сиверов.
— Ерунда, что ты такое говоришь?
— Я с конторой в расчете. И не прогадал. Если хотите, можете вернуть мне шестьсот долларов, это была моя предоплата за получение гонорара.
— Глеб, я уже не понимаю тебя.
— И не надо понимать.
***
Ирина Быстрицкая покидала свой офис на десять минут позже обычного. Она пыталась дозвониться до Глеба, но не получилось, поэтому сбросила информацию на пейджер. Глеб не перезвонил. Она шла к стоянке. Открыла машину: на сиденье лежал букет полевых цветов. Женщина с удивлением посмотрела на цветы, взяла их в руки, поднесла к лицу, вдохнула аромат. Цветы пахли медом, пчелами, жарким летним солнцем. Она оглянулась по сторонам.
Глеб опирался о капот темно-синего «фольксвагена» и улыбался. На глазах поблескивали солнцезащитные очки. Ирина смотрела на него, он — на нее. Так продолжалось почти минуту. Затем Глеб прикоснулся пальцем к своему носу и двинулся к Ирине.
— Куда ты пропал? — воскликнула она.
— Поэт закончил поэму. А вы, красавица, нос испачкали, — Глеб достал из кармана носовой платок.
— К черту носовой платок! Я и тебя сейчас перепачкаю, — Ирина бросилась на шею Глеба, поцеловала в губы сильно, смело, жадно.
— Мне даже стыдно, — сказал с придыханием Глеб, когда Ирина отстранилась. — Теперь и ты испачкана пыльцой.
— Ты немного похож на шмеля, даже на твоих очках пыльца.
— Плевать, — ответил Глеб. — Садись, я поведу машину.
— Почему это ты?
— Ты разволновалась.
Он сел. Ирина устроилась рядом.
— Куда едем?
— Я помню, у нас праздник, маленькое торжество. Я приготовил тебе подарок, хотя немного и опоздал с ним.
Через полчаса они уже были дома. Ирина ахнула: стол был накрыт на две персоны, в центре стояла бутылка французского вина.
— Это еще не все, — беря за руку Ирину, произнес Глеб, — пойдем, покажу подарок, — и он повел ее в спальню.
Торжественно открыл дверь, впустил Ирину, сам остался у нее за спиной. Над кроватью с двух сторон висели картины.
Ирина недоуменно смотрела на них.
— Что можешь сказать?
— Очень красиво, — произнесла она и повернулась к Глебу. Тот улыбался, сверкая солнцезащитными очками.
— Похоже на Шагала.
— Не просто похоже, это и есть Шагал, самый что ни на есть подлинный.
— Не поняла… Это подлинники? — она уже привыкла ничему не удивляться за те годы, что была с Глебом.
— Да, подлинники, восемнадцатый год.
Ирина подошла к картинам, долго смотрела на них, затем покачала головой.
— И по какому же поводу такие подарки мужчина дарит женщине? Ты что, музей ограбил?
— Нет, я не нарушаю криминальный кодекс, во всяком случае, стараюсь. Это от чистого сердца. Это мой гонорар, наверное, самый большой, какой я только умудрился заработать.
— Я ничего не понимаю…
— Я разгадал кроссворд, а картины — премия.
Ирина бросилась на Глеба, и они рухнули на кровать.
Розовая и золотая картины Марка Шагала парили над ними.

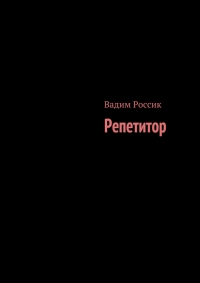



Комментарии к книге «Кроссворд для Слепого», Андрей Воронин
Всего 0 комментариев