Сергей Козлов ПОСЛЕДНИЙ КАРФАГЕН Повесть. Рассказы. Дневники
ПОСЛЕДНИЙ КАРФАГЕН Повесть
Мнение автора может не совпадать
с мнением героев. Совпадение имен
и названий случайно. Главные герои
вообще не имеют имен. До сих пор.
Часть 1
1
ДУША моя не торопилась возвращаться. Она плыла этак нехотя, «прогулочным шагом». Ей было у кого поучиться. К примеру, в детстве я так же нехотя, кружными путями возвращался домой из школы. Блуждал по переулкам и проходным дворам, слонялся по магазинам и пустырям, глазел на прохожих, на происходящее вокруг… Считал ворон — так это называется. Это было в «золотом веке».
Да и зачем торопиться в «хрущевку», переполненную взрослыми, которые обязательно придумают тебе еще более идиотское занятие, нежели неторопливое и с их точки зрения бесполезное созерцание окружающего мира. Им уже тогда было некогда лазить по чердакам предназначенных для сноса домов, листать там старые пожелтевшие журналы и таким образом путешествовать в прошлом. Им вообще редко приходилось оглядываться назад. Они то коммунизм строили, то перевыполняли план на дачных участках, то сопереживали Штирлицу или положению в Никарагуа. Да и зачем оглядываться в «золотом веке», если новый день не сулит очередного светопреставления? Не оглядывались, не оглядывались, да так и остались в одночасье без прошлого. И я вместе с ними. И каждый стал видеть и объяснять прошлое не таким, какое оно было на самом деле, а таким, какое он видел из дня нынешнего или наоборот — не видел и объяснял вслепую. Так, недолго мудрствуя, большинство людей стали называть «золотой век» ржавым.
А я уже тогда не хотел торопиться вместе с ними в эфемерное светлое будущее. Мне и в прошлом света хватало. Поэтому не торопился возвращаться домой, да и вообще не торопился…
Вот и душа моя не спешила вернуться в мое бренное тело. Витала себе, присматривалась к новому для нее миру. Там внизу была все та же суета: вспотевшая бригада врачей реанимации пичкала мое тело инъекциями и электрическими разрядами, не подозревая об отсутствии в нем главной субстанции, составляющей сознание и смысл существования. О, как они заблуждались, эти люди в белых халатах, пытаясь вернуть мою душу обратно! Считая, что спасают меня…
Спасаются совсем по-другому.
Так как душа не могла считать ворон, она считала ангелов. А может, попросту занималась душевным ротозейством. Определить ее состояние, не владея новыми мыслительными категориями, я не мог. Во всяком случае, плохо и тоскливо ей не было. Правда, и не было обещанных в различной, прижизненно прочитанной литературе туннелей и слепящих вспышек. Зато ощущалось присутствие поблизости чего-то огромного, всеобъемлющего, точно оно наблюдало за мной одновременно со стороны и изнутри меня. А душа глазела во все стороны и даже в прошлое. Я же успел удивиться, исходя из своих «потусторонних» знаний, тому, что душа «просматривала фильм» с эпизодами из прожитой жизни. Это ж по рассказам очевидцев происходит во время умирания, а я, судя по всему, возвращался.
А тут на кровавый пейзаж в реанимации накладываются прогулки из детства. Вот только одно меня огорчило: в этих несвязных картинках я понимал, что я — это я, но не более того.
Я не помнил, как это я называется, как не помнил и всех остальных, это я окружающих. Тем более их лица были неуловимы, неразличимы, словно размыты. Поэтому, еще не вернувшись в тело, я успел огорчиться из-за необратимых процессов, происшедших в моем временно умершем мозге. Сколько минут меня не было?
— Восемь минут! — это выдохнул склонившийся над моим телом доктор, стянув с лица марлевую маску. — Еще бы минута, и я бы бросил этим заниматься. Крепкий парень, — он дружески похлопал мое тело по щеке, — можешь улыбаться…
Нет, улыбаться я не хотел, да и не мог, ибо душа моя владела охладевшим телом так же, как и оно могло бы владеть зарытым на двухметровую глубину гробом. Первое, что смогло почувствовать мое тело, называлось сердцем. Оно будто вынырнуло из глубокой, затопленной затхлой водой пропасти. Из омута какого-то. И рвануло с места, брезгливо стряхивая с себя болотную тину. А душа вынуждена была признать свое медицинское поражение.
— Будешь жить в двадцать первом веке, — сообщил все тот же доктор моему обессиленному телу.
— А сейчас какой? — хотел спросить я, ибо полное отсутствие каких бы то ни было координат даже в этом плоском пространстве окончательно сбивало с толку мое просыпающееся сознание.
Спросить у меня, разумеется, не получилось, тем более пожелать своего возвращения не в какой-либо пронумерованный век, а в «золотой». Опять же говорить о «золотом веке» с потерявшими прошлое было бесполезно. Спросить же хотелось о многом, но по мере соединения души с телом на зрение, которым обладала душа в свободном полете, наваливалась, налипала темнота, которая в конце концов стала абсолютной.
Сначала в ней не было ничего, кроме разноцветных клякс, наплывающих одна на другую. И были они так навязчивы, что раздражали даже спящее сознание. Потом стала звучать музыка. Тоже сама по себе. Сначала это была классика в исполнении симфонического оркестра, и, скорее всего, автором ее был мой собственный мозг, который из-за своей невостребованности начал действовать автономно. Но потом к процессу исполнения подключилась память, и звучать стали знакомые пьесы. Причем в каком-то эклектичном жанровом и стилевом разнообразии. То Моцарт, то Бородин, то Pink Floyd, то King Crimson, то Мусоргский, то гимн Союза Советских Социалистических Республик, и тогда казалось: вот-вот по радио начнут передавать новости великих свершений, нужно будет открывать глаза и собираться в школу под уверенный и глубоко убежденный в своей правоте голос диктора. Но по радио темноты ничего не передавали. И чувство этого обманутого ожидания было первым признаком просыпающегося во мне разума.
И я уже тогда пытался найти в нем обрывки хоть каких-то воспоминаний. Мозг исподволь подсказывал мне, что раз я побывал на том свете, значит, мне есть чего бояться, есть о чем сожалеть, может быть, есть кого искать и любить на этом. Но в памяти образовался глубокий, пожалуй, бездонный провал. Настолько глубокий, что я даже не мог переживать об отсутствии «привязок на местности». Напротив, отсутствие ориентиров и каких бы то ни было желаний и переживаний порождало во мне чувство равнодушия и свободы, наплевательского отношения к течению времени, ближайшей координатой которого стал для меня произнесенный доктором двадцать первый век. Да и нужны ли координаты плавающему во мраке сознанию?
Но в каком-то из промежутков времени, заполненном только темнотой и неконтролируемым исполнением музыки, вдруг наступил рассвет. Солнечным лучом, пробившимся в окно палаты, куда я был перемещен из кафельно-непробиваемой реанимации, он коснулся моих почти сросшихся век. И уж не знаю, какие он мог пробудить рецепторы на их поверхности, но осознание наступившего рассвета таким же въедливым лучом пробуравило мой мозг, заставив жмуриться даже с закрытыми глазами.
Придется быть банальным, но иначе охватившее меня состояние не опишешь: наступило утро новой жизни.
2
— Какие параметры?
— Двадцать восемь…
— Что — двадцать восемь?
— А что — какие параметры?!
— Тише, кажется, жмурик проснулся…
Два мужских голоса пробились в мое сознание следом за лучом, и пока при попытке открыть глаза я чуть не ослеп, к ним добавился еще один старческий:
— Уймитесь вы, балаболы, надо сестру позвать, человек с того света возвращается.
Возвращение, надо сказать, было наполнено не только голосами, но и специфическими больничными запахами, которые ничего, кроме раздражения и желания убежать куда глаза глядят, не вызывали. Уж не знаю, каким было мое первое рождение, но второе как-то не особенно меня обрадовало. Куда-то делся разбудивший меня солнечный луч, а постепенно проявляющееся перед глазами пространство стала заполнять пасмурная серость, которая, как оказалось, царила за больничным окном.
Не знаю, какой женщине принесло радость мое первое рождение? Но всю унылую картину моего второго появления на этом свете скрасила именно женщина. Она проявилась, как и все остальное, но только ярче, и запах ее пробился дуновением теплого ветра через все мертворожденные больничные запахи. Копна белых, чуть вьющихся волос бархатом пронеслась по моему лицу, руки поправили подушку под моей головой, а огромные голубые глаза извинились за весь этот неудачный мир.
— Простите, колпак сорвался, — так она объяснила чудесное, целительное явление своих волос на моем лице.
— Не помню, как зовут меня, но очень хочу знать, как зовут вас? — флиртовать у меня не получилось, ибо, по моему мнению, флиртовать хриплым шепотом малопривлекательно.
— О! Не успел ожить, а уже клинья подбивает! — ответил вместо нее один из мужских голосов.
— Рита… Меня зовут Рита… Я сегодня дежурю… Сейчас принесу вам немного воды, может, бульона. Одними капельницами сыт не будешь.
— Рита, — повторил я, начиная учиться говорить, — рядом с Маргаритой должен быть Мастер. Или наоборот… — вспомнил я одну из прожитых жизней.
— Дело там не в Мастере, а в Воланде, — включился слева от меня старческий голос. — Дьявольская книга, а еще сын священника писал.
— Воланд? Мне больше по духу Роланд, — наверное, так я возразил.
Между тем прекрасная девушка по имени Рита удалилась. В палате сразу посерело.
— Роланд? Роланд, Сид, кто там еще? Миф о благородном рыцарстве… Чушь! Им до Александра Невского как мне до стопроцентного зрения! — возмутился чему-то старческий голос.
Я не без труда повернул голову, чтобы увидеть собеседника. Это был старик с реденькой, но довольно длинной бородой. Нос, как говорят, картошкой, лицо в оспинах, глаза в потолок. Он словно с потолком и разговаривал. В полосатой пижаме, укрыт по пояс больничным байковым одеялом. И на этом одеяле чуть подрагивают пожелтевшие от труда и времени руки.
Пока я изучал его, в палату вошла еще одна женщина. И сразу направилась именно к нему. Маленькая сухая старушка с необычайно живыми глазами села на край его кровати. В руках она сжимала сетку, которую принесла из «золотого века». Кажется, тогда их называли авоськами. Смешно смотрелись на ее жиденьких ножках огромные больничные шлепанцы, в которых вместе с едва угадывающимися ногами утопали вязаные шерстяные носки. Вдруг я четко и ясно увидел всю их стариковскую жизнь.
В маленькой двухкомнатной квартирке стоит огромный цветной телевизор, который не работает уже сто лет, и отремонтировать его не на что. В углу напротив, в небольшой кадушке грустит уставший от стариковской заботы фикус. Тут же на полу лежит на коврике черно-белая неторопливая кошка, которую обязательно зовут Маркизой. В центре комнаты стоит видавший веселые компании обеденный стол. А у стены, напротив телевизора — двуспальная железная кровать. Пружины в ней давно уже не скрипят, но едва стонут, а в толстых железных трубах у изголовья хранится любовный шепот. Где-то за перегородкой угадывается маленькая, небогатая, но аккуратная кухонька…
— Ты покормила Маркизу? — неожиданно раздраженно спросил верную супругу старик.
— Ну конечно, Коля. Рыбу в новом коммерческом гастрономе покупала и варила.
— А сама чего ела?
— Так то же самое! Вот и тебе фруктов принесла.
— Я эти бананьи есть не буду! Пусть гориллы в зоопарке их едят! Говорил же тебе, Нина, не носи! Чего опять продала? Небось книги?
— Упаси бог, Коленька, ты же сам их в коробки упаковал и липкой лентой заклеил. Помнишь, когда полки продали? Я с тех пор только газеты бесплатных объявлений читаю…
Мне вдруг стало очень грустно слушать их, я с еще большей яркостью и унылыми подробностями увидел всю их нынешнюю и будущую жизнь. Увидел, как через полгода умрет старик, и бабулька все же распакует коробки с книгами, чтобы продать их хитроватому очкарику, а на полученные деньги более-менее достойно похоронить своего мужа. А еще через полгода некому и не на что будет похоронить ее саму. Даже не пригодится купленная рядом с могилой мужа земля. Где-то за городом есть место, где зарывают всех бездомных и безродных… И я бы помог им хоть чем-то, если бы знал, как это сделать. Но и сам я получался в этом мире странным гостем.
Я отвел от них свой медленный взгляд и посмотрел напротив. Там стояли еще четыре кровати. Две крайние из них пустовали, а на двух других лежали двое крупнотелых мужчин, тихо, но азартно игравших в карты. У обоих были одинаково перебинтованы головы, и оба полушепотом ругали друг друга так, будто всю жизнь были заклятыми врагами. И все же после недолгого наблюдения за их игрой становилось ясно, что это два близких друга, готовые плечом к плечу пройти огонь, воду и отказаться от медных труб на собственных похоронах, если их заменит все тот же одобрительный мат со стороны таких же друзей.
— Чего вылупился, лунатик? — один из них заметил мое любопытство, а я заметил, что он считает себя главным и не только в их компании.
— Простите, я просто пытаюсь осмотреться в этом мире, — извинился я.
— А чего в нем осматриваться?! Наливай да пей! Все сразу ясно станет! — и оба они громко захохотали.
— Ты вообще откуда выпал, в натуре? — спросил второй.
— Трудно сказать, — попытался я честно ответить, — единственное, что я помню, это «золотой век».
— Ну тогда понятно, почему рядом с тобой три килограмма тротила рвануло, — понимающе ухмыльнулся первый и тут же обратился ко второму: — Слышь, Родя, он в золоте купался да на мину нарвался.
Роде положено было в этом месте хохотнуть, и он не замедлил сделать это. Объяснять им отличие «золотого века» от кучи презренного металла было бесполезно, и я в свою очередь не стал больше ничего говорить, пытаясь повернуться к недалекому окну. Очень странным мне показалось другое обстоятельство: если старика и старушку я видел как бы насквозь, то от этих любая попытка проникнуть во внутреннее содержание, любой взгляд отскакивали. Глядя в окно, я понял, что это связано с особым агрессивным настроем, который выступает впереди них и принят ими для более удобного общения с окружающим миром. А это означало, что мир, в котором я проснулся, далеко не дружелюбный. Они продолжали играть, но осадок от моего взгляда, вероятно, не давал им покоя.
— Саня, по-моему, он в обидки ушел, — заметил второй мою задумчивость.
И было непонятно, то ли он хоть на йоту испугался, что они чем-то обидели меня, то ли мне не положено обижаться, так как обидеться в свою очередь могут они. Но именно эта его фраза вдруг нарисовала мне новую картину.
Тот, которого звали Родей и который в их внутриклановых отношениях был, судя по всему, рангом чуть ниже, очень любил младшую сестру. Он забирал ее иногда у родителей-алкоголиков, чтобы погулять с ней по магазинам и покупал ей все, что она попросит. Покупал с жутким остервенением, буквально навязывал ей подарки, прекрасно зная, что если не на следующий день, опасаясь его угроз, то через неделю-две родители все равно пропьют их. Потом он любил подвозить на своем автомобиле сестренку к школе, где она посредственно училась, провожать ее до самых дверей, чтобы все потенциальные обидчики видели, что за нее есть кому заступиться. А в своей собственной компании, состоявшей из гогочущих бритых голов, он почему-то стеснялся своих чувств к младшей сестре.
— Да пусть грузится, — прервал мои видения Саня, — доктор же сказал, что все равно у него чердак поведет. Помнишь в прошлом году Лёнчика? Тот меньше пяти минут на том свете был, а все равно у него кукушка съехала.
— Он теперь в церковь каждый день ходит, — грустно подтвердил Родя.
— Пусть ходит, может, он за братву молится. Теперь уж какой из него боец… Да и работа нынче поизмельчала. Во, блин! Ты меня опять на пять баксов нагрел!
Повторное присутствие Риты сопровождалось запахом жидкого куриного бульона. Она ненамного подняла, подбила мою подушку, но ее волосы, тщательно заправленные под медицинский колпак, уже не скользнули по моему лицу.
Она кормила меня с ложечки, а я смотрел в ее глаза. Какая-то была в них грустная, но одновременно нежная усталость. Прямо-таки извечная какая-то. Будто она родилась с ней или получила по наследству. И несла ее, как и привычную заботу о больных и страждущих, и ничего за это, кроме маленькой зарплаты и признательности своих подопечных, не получала. Прошли через ее мир два мужчины, и за ними она ухаживала, как за детьми малыми, но им было мало тихого семейного уюта, накрахмаленных рубашек и преданной нежности жены. Сначала красота и стройность Риты ослепляли их, но красота эта была скромной, неприметной, напоказ не выставляемой. Не любила она шумных вечеров в богемных компаниях, фуршетов и презентаций. Но умела раскрываться ночью…
Рита смутилась и опустила глаза. Стала выискивать что-то в пиале с жидким куриным бульоном.
Но я все же еще некоторое время продолжал читать ее жизнь, ее боль, через которую стальной нитью тянулось одиночество с нанизанным на нее природным терпением. И где-то в начале этой нити была черная дыра, как во Вселенной, называемая по-другому бездетностью.
А вот я не мог оценить своего одиночества. Не было у меня к тому ни чувств, ни понятий, утраченных где-то в иных мирах. Может быть, поэтому я особенно остро ощущал чужую боль или проблески радости, или душа, побывав обнаженной, теперь могла независимо от моей воли какой-то своей частью покидать мой разум и прикасаться к другим душам, читать их. Или я всегда умел это?
Дома уютно и тихо. Однокомнатная норка в центре города. Что я могу сегодня сделать? То же самое, что и вчера: включить любимый ноктюрн Шопена, включить дурацкий сериал, включить микроволновку и разогреть вчерашний ужин… Включить и выключиться самой. Выключиться из этой тишины, из этой рутины, из этого постоянно наступающего завтра, которое такое же, как сегодня, которое такое же, как вчера, которое никакое…
Этого она не думает специально, это просто рефрен. Это ржавой иглой сто лет назад вбито в подсознание. Если я не разучился на том свете понимать в женщинах, она удивительно красива, но…
Может, позвонить Олегу? Он, конечно, приедет. «Мне иногда хочется твоей тихой нежности». Иногда… Три года вместе, штамп в паспорте, чтобы заслужить иногда. «Ты не стареешь, Рита, я вот со своим деньгозарабатыванием… Кстати, тебе нужны деньги? Ну да! Ты у нас бессребреница. Тебе вообще никогда ничего не было нужно. Ни подарков, ни отдыха на море… Тяжело с тобой, никогда не знаешь, что у тебя на уме. Живи ты проще, и мужики к тебе потянутся».
Потянутся! Только свистни.
«Олег, можно я тебя спрошу?» — «Конечно, милая». «А твоя Инга, она что, все что-нибудь от тебя требует? Каждый день что-нибудь новое?» — «Нет, конечно, но она подвижная, современная такая, пробивная… Да вот и Стасик в нее пошел. Ты почему спрашиваешь? Ах да… Сравниваешь. Понимаешь, ты будто из другого времени, словно где-то в семидесятых застряла, когда десятый класс закончила. Уже столько всего изменилось, а ты каждое утро просыпаешься, смотришь в окно, и по-прежнему видишь павильон „Овощи-фрукты“, хотя там уже лет десять как „Hewlett Packard“ написано неоновыми буквами и мощные стеклянные витрины. Ты проходишь мимо них на работу, но ничего за ними не видишь. Ты не рвешься в магазины моды, тебе не нужно деликатесов…» «А зачем?» — «Вот я и говорю, инопланетянка ты. Таскаешь утки из-под хануриков за три рубля в час. А войди ты в какой-нибудь престижный салон в этакой мини-юбке или пусть в вечернем платье, мужики в обморок попадают. У них же множественный оргазм приключится!» — «Зачем в салон? Зачем такие мужики?..»
— Какие параметры?
— Семьдесят пять долларов, Саня. Извини, ты мне семьдесят пять баксов только что продул.
— Ну ты, Родя…
3
Ходить я начал через неделю, когда Саня проиграл Роде уже тысячу триста долларов. Я так ничего и не вспомнил, хотя убедился, что память у меня не совсем выбелена. Там сохранились все книги, которые я прочитал в прошлой жизни. Определялось это чрезвычайно просто. Рита приносила мне что-нибудь из своей домашней библиотеки, я открывал книгу и сразу представлял себя в образе главного героя. Причем так реально и детально, что от некоторых писательских наворотов, когда они своего любимца из огня да в полымя бросают, у меня холодело в сердце. Сразу становилось понятно, что сами-то инженеры человеческих душ никогда на такие подвиги не решатся.
Рите из-за меня, когда она шла на дежурство, приходилось нести тяжелую сумку, доверху наполненную книгами и какой-нибудь домашней стряпней. Говорить со мной об авторах и названиях было бесполезно, я беспомощно разводил руками. Для того чтобы вспомнить, мне нужно было раскрыть книгу. А вот через ее кулинарное искусство я понял, что являюсь страшным гурманом. Соседи по палате не обижались, что она подкармливает только меня и проявляет обо мне особенную заботу. Не обижались, потому что понимали, что больше обо мне заботиться некому. Этого не понимал только я.
В тихий час я не ложился спать (видимо, выспался в реанимации), а выходил на улицу. Из этого корпуса больницы было два выхода — один (парадный) в больничный парк, другой (черный) в маленький внутренний дворик, где среди чахлых кленов и каких-то болезненных тополей ютилась беседка. Там и сидел я без особого смысла и цели, заучивая наизусть вырезанные перочинными ножами и украденными скальпелями, а то и просто лезвиями автографы. Больные, желающие увековечить себя на облупленном брусе, не скупились на анкетные данные. А может, таким образом они просто убивали время. Были здесь и пожелания, и замечания к докторам, и даже неумелые стихи, принадлежащие чаще всего перу (точнее, ножу) подростков.
Ане из 7 палаты
Мне без тебя будет грустно Даже снова хочу заболеть Чтобы в мире мне не было пусто Чтобы рядом с тобой умеретьИ сразу я видел пятнадцатилетнюю девочку, которая смотрит из окна в этот больничный дворик. Смотрит, как худощавый паренек в спортивной шапочке «увековечивает» ее и себя. Ей перед выпиской он напишет записку с признанием, в ней же попросит прочитать там-то и там-то его стих. Пообещает встретить ее, когда она выпишется. Но не встретит. Да и было-то между ними несколько взглядов в столовой да разговор ни о чем в больничном коридоре. Нет! Было еще! Ночью он прокрался в ее палату. Прокрался босиком, чтобы не шаркать огромными больничными тапками, мимо спящей на посту дежурной сестры, мимо ординаторской, где пил кофе дежурный врач. Тенью скользнул за дверь, не дыша, подошел к ее кровати, и все это ради того, чтобы притулиться на краю. Потом он долго держал ее руку в своей руке, и ему казалось, что это самое главное, самое важное, что вообще может произойти с ним. И, конечно, ему казалось, что она самая лучшая из всех самых лучших. А она сначала делала вид, что не проснулась, но потом все-таки открыла глаза. И они смотрели друг на друга так долго, пока одна из храпящих вокруг теток не проснулась и не задала громко вопрос: «А чего это ты тут, хлопец, делаешь?»
Я видел историю каждой надписи, каждого инициала и с каждым днем все больше понимал, что не имею собственной истории. Это не пугало меня, как темнота не может напугать слепого. Но как слепой, который знает, что за пеленой мрака все равно есть яркая и многогранная жизнь, так и я знал, что глухая стена моего беспамятства заслонила собой целую жизнь. Впрочем, когда выбирать не из чего, то и не стоит об этом думать. Я и не думал. Но, видимо, в этом мире существовали общепринятые, хотя нигде и не записанные правила, которым все и вся подчинялись. А я вынужден был разучивать их заново. И сталкиваясь с ними, приходилось-таки ломать голову над тем, как быть и как жить дальше.
Как-то, проходя мимо ординаторской, я услышал разговор докторов. Говорили, судя по всему, обо мне. Самих докторов я не видел, но голоса…
— Ну что будем делать с нашим безымянным-беспамятным? Мы можем его еще неделю продержать, это будет уже предел нашему состраданию, как ни погано это звучит…
— Мне кажется, им увлеклась наша Ритуля.
— И что? Вы хотите предложить ей забрать его к себе домой? Каким образом вы это сделаете?
— Да нет, Андрей Савич, это я так, от безысходности. Честно говоря, даже не представляю, как быть дальше. На наши объявления по телевидению и радио никто не откликнулся. Мне тоже трудно представить себе, как мы выставим в наступающую осень человека без имени, без памяти…
— Говорят, в кармане у него была немалая по нашим временам сумма денег, — добавился третий, женский голос. — Тысяч, я слышала, шесть или семь. Первое время он может даже в гостинице…
— Удивительно, что его карманы еще в приемном не обчистили.
— Это если б небольшая сумма, обязательно, а большую… Да и сами знаете, с теми, которых взрывают, боятся связываться даже те, которые их взрывают.
— Так или иначе, деньги в сейфе у главного, а он еще может нашему лунатику счет выставить за оказанные услуги…
— Коммерческий мужик…
— А я бы тоже выставила! Этот ваш лунатик небось миллионами при памяти ворочал!
Мужской голос вдруг заговорил на повышенных тонах:
— Валентина Ивановна! Это в первую очередь наш больной! Мы тоже ничего о нем не знаем! Кстати, милиция им вовсе не интересуется. Его лицо у них нигде не проходит. Они появились только раз, когда он был в коме. Задали дюжину вопросов ни о чем.
— Понятно, им зачем висяк! Нераскрытое дело, коих сейчас больше, чем мусорных баков на улицах. В каждом баке по бомбе.
— И все равно: хватит на него церебролизин переводить! — вспыхнул обидой на всех и вся женский голос. — Мы ветеранам и то выделить не можем!
Так я понял, что, не успев толком родиться во второй раз, я уже стал кому-то обузой. И больше всего я вдруг испугался стать обузой для Риты. Я понял также, что у меня есть какие-то деньги, которые могут забрать за то, что напичкали мое тело сначала электричеством, затем медикаментами, а еще кормили и меняли постель… Получалось, что у меня нет ничего, кроме текущего где-то мимо времени.
В тот день я впервые вышел на улицу через парадный выход. За ним открылся просторный парк, где чинно прогуливались выздоравливающие, читали газеты и книги на скамейках, встречались с родственниками. Время от времени подъезжали к приемному отделению «неотложки». Парк был окружен чугунной литой оградой, за которой скользил нескончаемый поток автомобилей и автобусов. Прямо у выхода из парка находилась автобусная остановка, а напротив нее через дорогу ресторан с помпезным названием «Ренессанс». Улица пестрела разнородной рекламой, призывающей со щитов, плакатов, бортов автобусов, транспарантов «попробовать», «поверить», «проверить», «отведать», «взять», «сберечь»… И так уж заботилась о потребителях, что от одного взгляда на подобное многообразие мне стало тошно, голова закружилась, ибо внутри этих вывесок и надписей, ярких фотографий и рисунков была только пустота. Ничего, кроме всепоглощающего мрака. Чьи-нибудь вырезанные на перилах беседки инициалы мне говорили больше. К тому же я не мог извлечь из памяти ничего подобного. Разве что «Народ и партия едины!» или «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!». В чем заключались ум, честь и совесть этой эпохи, я не знал, а откровенно об этом нигде не было написано. Видимо, кто-то наверху стал скромнее, или, во всяком случае, скрытнее.
В палату я вернулся со страшной головной болью и слезами на глазах. Слезы текли и от увиденной пестроты, и от боли. Впервые за долгое время (а дней я не считал и календарем не интересовался) я лег днем в постель и тут же уснул.
Мне снились какие-то жуткие полуживые механизмы. Полуживые в том смысле, что они будто бы обладали человеческим разумом и даже походили на людей, но лишены были души. Именно той, которая сейчас металась в моем неспящем сердце, требуя какого-то определения, равновесия, требуя выхода или входа, и которая сама себя скрутила так, что я проснулся от собственного всхлипа и слез, размочивших сомкнутые недолгим, но глубоким сном веки. И я спрятал лицо в подушку, чтобы не тревожить никого своим горем, которого не мог осознать. Почему-то вспомнились уходящие из палаты Саня и Родя, чинно пожавшие мне руку, оставившие нам с дедом фрукты и несколько банок икры, положившие на тумбочку конверт с деньгами для Риты, и подумалось вдруг, что в них, невзирая на их бросающуюся с первого взгляда агрессивность, человеческого больше, чем во мне. Их за порогом больницы ждали… И там было их время! Я же мог помнить только две вспышки: первую, отделившую от меня жизнь прошлую, и вторую, вернувшую меня в никуда. А за больничной оградой роился мириадами огней совершенно чужой город, и квадриллионы звезд скользили по ночному осеннему небу, как назло, не скрытому в эту ночь тучами. Огромный, давящий своими равнодушными выпуклостями мир, и я — ничтожная крупица его, имеющая временным пристанищем больничную кровать. Уже под утро, свыкаясь с невыносимой, казалось бы, тоской, я назову это состояние осознанием одиночества. Полного и беспросветного. Попытаюсь научиться относиться к этому философски, но это будет всего лишь жалкая потуга оставаться уж если никем, то хотя бы мужчиной. Я просто загоню всю эту слезную массу в глубь самого себя, отвлекаясь придумыванием собственного имени и получая немалое удовольствие от того, что никто не делает этого за меня. Глядя на подобное состояние со стороны, я подберу массу определений, которые никакие взрывы из моей головы не выбили: дозревающий циник, философствующий бомж, обиженный на все герой не нашего времени, идиот перед… Идиот! Наивный идиот! По башке стукнутый! Даже не знающий, сколько ему лет! Иван, не помнящий родства!
Во все примеренные мною модели поведения не укладывалась только Рита.
4
Утром, после традиционного «геркулесового» завтрака, не дождавшись положенных (а может, уже и неположенных) процедур, я направился в кабинет главного врача. В приемной мою застиранную пижаму и торчащую из нее бритую наголо голову с огромным шрамом смерила недовольным взглядом секретарша и, не выясняя целей визита, велела подождать в коридоре, пока кончится планерка. И все же спросила:
— Ваша фамилия, больной?
— Не знаю, — честно ответил я, но она не растерялась.
— Тогда из какой вы палаты?
Главный врач оказался невысоким человеком с довольно приветливым лицом. Голова его, остриженная под ёжик, напоминала глобус. Из-за морей и океанов седины. Усталые серые глаза только скользнули по мне, словно я намозолил их ежедневными появлениями, и вернулись к бумагам, разложенным неровными пачками на столе.
— Знаю я вашу историю и знал, что вы придете. Обживаетесь? Простите, не представляю, как к вам обращаться, — он снова поднял на меня взгляд, — да вы присаживайтесь. Я как раз о вас сегодня вспоминал. К сожалению, мне не удалось ничего и никого не удалось найти, кто мог бы пролить свет на вашу личность. Может, вы вообще не из нашего города? Слава Богу, телевидение и газеты разместили информацию о вас бесплатно. Это им вроде как сенсация. Но тщетно. М-да…
— Мне, наверное, пора выписываться? — спросил я.
— М-да, — задумался он, углубляясь в бумаги, будто там можно было прочитать, что делать со мной дальше. — Вы не переживайте, — он тоже умел читать мысли, — мы не возьмем с вас денег, вам они еще ой как понадобятся! Все, что при вас было, у меня в сейфе. Семь тысяч триста сорок восемь рублей. М-да… У нас средняя зарплата врача тысячу двести.
— Я не против заплатить, если этой суммы хватит.
— Ну что вы! Если б знать, что вы какой-то крупный предприниматель, финансовый магнат или еще кто-нибудь в этом роде, я бы, конечно, даже настаивал. Но в вашем случае… Разберитесь сначала с собой. Ну а если выяснится, что вы такой и есть, то, думаю, вы и сами не откажетесь помочь областной больнице.
— Разумеется, — поторопился заверить я, будто за моей спиной стоял огромный сейф, доверху набитый кредитными билетами.
— Странно, что при вас не было никаких документов. Никаких! Записная книжка, между прочим, в кожаном переплете, дорогая очень, но без единой записи. Вы словно собирались жизнь с нуля начинать. Уж не знаю, принадлежала ли вам машина, которая взорвалась в трех метрах от вас, но ключей от нее в ваших карманах не оказалось. Да они, честно говоря, вряд ли понадобились бы. Там только пятно на асфальте осталось. Вы, кстати, выжили именно благодаря силе этого чудовищного взрыва. Вас швырнуло метров за двадцать. Свидетели рассказали. Так вот, ключей от машины в ваших карманах не было, но вот эта связка… — он открыл квадратный, крашенный серой краской сейфик за своей спиной, в котором, судя по всему, лежали в основном редкие медикаменты. — Два ключа от английских замков, а один — то ли от почтового ящика, то ли от камеры хранения…
На стол передо мной легли три ключа на кольце, записная книжка, красивая импортная ручка, часы, бумажник и какой-то странный браслет — цепочка и бляшка, на которой была выгравирована стрела. Стрела, и больше ничего.
— Браслет бронзовый, — заметил мой взгляд доктор, — был у вас на руке. Может, он что-нибудь и значит, а может, просто так. Вам, похоже, он ничего не сказал. А вот ручка оказалась самым интересным из того, что при вас нашли. Это не просто ручка. Точнее, с одной стороны она действительно шариковая ручка, только вот стержень у нее очень короткий. А вот с другой стороны — это мини-пистолет. Сделано под мелкокалиберный патрон. Ювелирная работа.
Я пожал плечами. Откуда я мог знать, зачем мне нужна была в прошлой жизни такая штуковина.
— Удивительно, что следователи не удосужились внимательно ее осмотреть. Вы уж извините, но патрон, который в ней находился, я изъял. Мало ли что. Хотя… Неизвестно, а точнее, вполне возможно, что вас снова попытаются взорвать или застрелить. Наверное, он вам нужен. — И он достал из ящика стола золотистый патрон с серым навершием пули и вставил его внутрь ручки. — Пружина, как я понял, взводится вот этим плавающим держателем. Спуск производится им же. Достаточно только большим пальцем чуть отвести его в сторону. Да, ювелирная работа.
Я снова пожал плечами. На миг мне показалось, что эта огнестрельная система мне известна. Но только показалось и только на миг.
— Да, кстати, меня зовут Владимир Степанович. Вот, на всякий пожарный, моя визитная карточка. Если я еще чем-либо смогу помочь… Дай Бог, моя профессиональная помощь вам не понадобится.
— Извините, — услышал я за спиной и оглянулся. В дверь заглянула голова, и я тут же узнал ее. Это был врач, который несколько недель назад возвращал меня к жизни. — Владимир Степанович, я по поводу… О! Знакомые лица!
— Мне кажется, я должен поблагодарить вас, доктор, — сказал я.
— Ха-ха! А вам-то откуда знать?! — искренне удивился он. — Вы ведь не при памяти были.
— Оттуда, — я многозначительно показал на потолок.
— Забавно, — признал он, — как-нибудь расскажете, жуть как люблю эти истории о клиническом небытии! Расскажете?
— Расскажу.
— Ваша одежда, сами понимаете, пришла в негодность. Близость взрыва, кровь… — голос главного врача повернул меня в другую сторону. — Рядом с клиникой есть неплохой магазин мужской одежды. Там все импортное. Дорого, но вы пока еще можете себе позволить. Пижама, — он улыбнулся, — делает из вас аспиранта-туберкулезника. Вы можете взять все ваши вещи. Да, и не торопитесь покидать наши пенаты. Не торопитесь. Вам следует осмотреться. Походите по городу, но возвращайтесь в палату. Мы еще понаблюдаем вас некоторое время. В этом есть взаимный резон. Три — пять дней погоды не сделают.
— Я думал, я занимаю чье-то место…
— Мы все занимаем чье-то место. А в этот момент кто-то занимает наше место. Так что не торопитесь.
5
В магазине «Евромода» я обратился к молоденькой продавщице с просьбой помочь мне купить одежду. С сомнением оглядев мой пижамный вид, она спросила:
— Для начала надо знать, какую сумму вы готовы потратить?
— Главврач больницы, — кивнул я за окно, — сказал, что я смогу у вас одеться. И мне понадобится ваша помощь. Мне кажется, я ничего не понимаю в современной моде.
Процедура приобретения достойного вида оказалась не только дорогостоящей (хотя, что я в этом понимал?), но и муторной. Я даже потерял счет времени. Наконец я был одет по ее вкусу.
— Ну вот, из вас получился элегантный новый русский, — подвела итог девушка.
— А что, есть старые русские? — искренне удивился я.
— Есть, но они не позволяют себе тратить столько денег за один раз.
За один раз оказалось — пять тысяч восемьсот тридцать два рубля. Это была стоимость кремовой сорочки, брюк, бежевого пиджака, лаковых коричневых туфель, серебристого галстука и длинного темно-серого плаща. Отбивая чек, я поймал себя на мысли, что пытаюсь вычислить оставшуюся сумму. Около полутора тысяч рублей.
— А цветы где-нибудь поблизости можно купить? — спросил я.
— Через дорогу, у ресторана есть киоск. Там цветы круглосуточно.
Этому обстоятельству я удивился больше всего остального. В «золотом веке» цветы ночью можно было «приобрести» только на газоне близ какого-нибудь административного здания, а рассчитаться штрафом или потревоженной совестью в зависимости от наличия поблизости стражей порядка.
В цветочном киоске, пораженный обилием и свежестью букетов, я потратил еще сто рублей, без всякого сожаления отдав их за три темно-красных розы и несколько веточек зелени. Продавщица — девушка очень похожая на ту, что помогала мне покупать костюм, услужливо завернула мой букет в специальную оберточную бумагу, окончательно поразив мой разум степенью сервиса. Может, подумал я, «золотой век» продолжается, но тут же был наказан за такое отступничество.
На выходе из павильона из-за своей неуместной задумчивости я с ходу налетел на здоровенного парня в кожаном плаще, очень похожего на моих бывших соседей по палате. Разумеется, я вежливо извинился, но он словно и не слышал.
— Ты чё, олень долбанный, шары залил?! — гаркнул он, толкнув меня в грудь со страшной силой, которая вернула меня к прилавку и заставила на него присесть.
Переваривая и осмысливая его замысловатое, по моему мнению, оскорбление, я пролепетал что-то типа: «Извините, но я, кажется, извинился…».
— Да ты в жопу себе забей свои извинения, чё шары-то вылупил, тебя не учили давно?! — и руки его вновь оказались подозрительно близко к моей груди.
Какой-то предохранитель щелкнул в моей раненой голове. Он словно отключил все ненужное, а включил, наоборот, нечто неконтролируемое. Руки мои мгновенно отложили букет в сторону и метнулись навстречу его рукам. В какую-то долю секунды я опасно повернулся к нему спиной, рука его ладонью вверх легла мне на плечо, я вытянул ее вперед до локтя и с силой потянул вниз. Дикий его крик заглушил хруст выворачиваемого локтевого сустава. Последнее, что я запомнил в эти минуты, это испуганное лицо девушки и собственный локоть, ударяющий в горло и без того сломленному противнику. Схватив свой букет, я бросился к выходу, оставив кожаный плащ хватать воздух пухлыми губами и биться бритой, как и у меня, головой об кафельный пол. Только на миг в моем сознании вспыхнуло знание чего-то забытого. Вспыхнуло, заставив больно вздрогнуть сердце. Но тут же погасло, предоставив возникшую внутреннюю пустоту тошнотворному чувству страха.
В больницу я вбежал, распугав и охранников и администраторов, с парадного входа. Быстро переоделся под лестницей в гардеробе. Облачился в больничную пижаму, сложив новую одежду в яркий полиэтиленовый пакет. Наверное, я смотрелся по-идиотски в полосатой пижаме с букетом и пакетом, да и что у меня было на лице? Медсестры, спускавшиеся по лестнице мне навстречу, провожали меня удивленными или сочувствующими взглядами. А мне ничего не оставалось, как вбежать в палату, бросить букет на тумбочку и, сев на кровать, зажмурить глаза, обхватив голову руками. Я не чувствовал ничего, кроме животного страха. Может быть, какой-нибудь психоаналитик назвал бы этот страх мистическим, сродни тому, который испытывает первобытный человек, попав в горнило цивилизации. Мне же о своих ощущениях даже думать было невозможно. Единственное, чего я хотел, это заснуть в позе эмбриона в полной тишине и темноте, чтобы никто меня не трогал. За время этого долгого сна я придумал бы, где мне хочется проснуться. Чуть позже, немного успокоившись, я стал испытывать не только страх, но и стыд. Подумалось: «Я, похоже, не в ладах с этим миром», — хотелось бы знать, как с этим было до второго рождения? Все вокруг было чужим…
Впервые за эти несколько недель я пошел в небольшой холл в конце коридора, где больные и свободный от работы медперсонал смотрели ежедневно некончающийся латиноамериканский фильм. И только несколько пожилых мужчин скрупулезно впитывали новости утром, днем и вечером, вполголоса обсуждая последние события. Черно-белый телевизор, сохранившийся здесь со времен «золотого века», работал исправно, хотя, кажется, его не выключали круглые сутки.
Я сел в свободное кресло и тоже растворился в потоке информации. Два диктора наперебой, но очень четко озвучивали стрельбу из полевых орудий на Кавказе. Я с ужасом увидел, как рушатся от точных попаданий артиллерии и авиации дома, как грузят в вертолеты раненых русских солдат… Но больше, наверное, меня поразило равнодушие дикторов. Они рассказывали об этом так, словно они сами ежедневно палили из пушек по жилым домам, оперировали в полевых госпиталях или пересчитывали «груз 200». И так они устали от повседневной работы, так им это все надоело, что только ежемесячный оклад заставляет их напрягать звенящие пружины своих металлических голосов. Мол, работа такая, фига ли тут поделаешь? Впрочем, такими же голосами минутой позже они рассказывали о присуждении какой-то премии деятелю культуры. И менялся только заученный угол скрытой улыбки.
Из стариковских разговоров я извлек и другую сопутствующую информацию. Оказывается, в наших солдат стрелять можно, а им стрелять нельзя. Им запрещают также и наступать. А еще русских солдат нынче продают в рабство сами командиры… Я переспросил…
— Да не, не все, конечно, но находятся ублюдки. А матери потом деньги собирают, чтобы сыновей выкупить. А то и меняют их на чеченских бандитов…
Нет, видимо, не только у меня был конфликт с этим временем. Мне даже показалось, что я вообще попал в какой-то невообразимый театр абсурда, может, и не существующий в реальности. Много же понаписано беллетристики по поводу блуждания по несуществующим мирам. И так уж они близки к реальным, что ничтоже сумняшеся читатель заглатывает эти модели в свое сознание, и даже если воспринимает не как реальность, то хотя бы как достойное ее отражение. В своем же случае я криво и печально ухмыльнулся: вот он, конфликт главного героя с окружающей действительностью, создавай психологические типы, громозди фабулу и подавай читателю в неостывшем виде.
С притупляющей все остальные мысли яркостью и болью вдруг обозначился один из навязчивых вопросов, мучивших меня с тех пор, как я подслушал разговор в ординаторской: что я делал в этом мире совсем недавно? Как я был к нему приспособлен? Но даже маломальское напряжение памяти в том направлении вызывало у меня невыносимую головную боль. Когда она начиналась, оставалось только зажмурить глаза и ждать. Ждать апогея — обжигающего голову изнутри цунами, ждать, когда оно вновь отступит на необозримую мыслью глубину, затихнет там до поры до времени.
Рита застала меня у окна нашей палаты, в котором я пытался увидеть свое прошлое. Она подошла неслышно и тихо спросила, как дела, я же ответил что-то невразумительное и поторопился вручить ей букет. Получилось как-то скомкано, глуповато. Я будто выполнил наскучившую повседневную обязанность. Все это повергло меня в смущение и растерянность. Она же приняла цветы с благодарностью, что-то хотела сказать, но тоже растерялась. Как это ни странно, но именно полная безответных вопросов ситуация перевела нас на ты.
— Значит, ты собираешься уходить? — спросила она. — Но куда?
— Не знаю, в конце концов я откуда-то пришел.
— Мне будет тебя не хватать…
— У тебя убавится забот… Я не хочу быть обузой. Что-то подсказывает мне, что кроме собственной беспомощности я таскаю за собой объемный багаж всяческих напастей и опасностей.
Некоторое время она молчала и тоже искала за окном что-то давно уже потерянное, забытое. Улыбнулась и взяла меня за руку:
— Давай отпразднуем начало твоей самостоятельной жизни. Вроде как второе совершеннолетие. Я приглашаю тебя на рыбный пирог к себе домой.
— А если придет Олег? — сглупил я.
Рита же, по всей видимости, стала копаться в своей памяти, пытаясь вспомнить, когда она рассказала мне о своем бывшем муже. Не найдя ответа для себя, она нашла вопрос для меня:
— Это серьезно тебя беспокоит?
— Я просто не знаю, беспокоит ли это тебя.
— Я тоже не знаю.
Чего же я ждал от этого вечера? Чего ждала Рита от меня? Мы оба не знали. Нам просто не хотелось расставаться. Слишком простое «просто» для объяснения необъяснимого…
6
Где и когда я читал, что каждое имя несет в себе скрытый код, чуть ли не космическую информацию, предопределяющую судьбу и характер человека? Не зря на Руси добрые люди не отягощали себя ответственностью, выбирая имена младенцам. Они просто заглядывали в святцы, а то и вовсе доверяли выбор имени священнику. Наверное, поэтому игра именами не самое лучшее или, правильнее сказать, не самое безопасное занятие.
Рита играла именами. Она придумывала их для меня, когда мы лежали в сладкой истоме в ее маленькой квартирке на полутораспалке, знававшей еще целомудренную нежность «золотого века». Женщина рядом со мной была прекрасна и беспечна, она жила только этим мгновением, растягивая и смакуя его. Она играла им так же, как играла именами. Ее мало беспокоили наступающее утро и предстоящий нелегкий рабочий день. И я невольно вслед за ней пустился по течению этой безбрежной реки. Мне даже было интересно представлять себя тем или иным человеком, соответственно выбранному Ритой имени. Я с блаженной улыбкой выдумывал себя этаким заматеревшим муженьком, менял голоса, отвечая на ее воркованье, и за какие-то два-три часа сменил полсотни имен: Сергей, Эдик, Иванушка, Василий, Егор (он же Георгий), Тимофей, Стас, Андрей и даже импортный Анри (над ним мы вместе хохотнули)… Уже набрасывая видавший виды пеньюар, который, кстати, не скрывал, а, наоборот, подчеркивал красоту ее тела, она наконец определилась и стала называть меня Алексеем.
— Мне в детстве очень нравилась эта песня: «Стоит над горою Алеша…» Я даже во сне видела этого сероглазого парня в гимнастерке с развевающейся за спиной плащ-палаткой. У него было доброе открытое лицо с правильными чертами. Он смотрел куда-то вдаль. Нет-нет, вовсе не врагов высматривал, он в будущее смотрел. Однажды я нарисовала его. В школе был конкурс. Мы рисовали плакаты. За мир во всем мире боролись. И я нарисовала Алешу. Мой рисунок второе место занял.
— А почему второе?
— Я же подписала рисунок: «Стоит над горою Алеша». А горы-то у меня и не было. Он у меня на холме небольшом стоял. Я все понять не могла: почему он над горой стоит, не на горе, а над горой. И оружие нарисовать забыла. А, может, и не забыла, не укладывалось у меня в голове, как можно за мир бороться и оружие в руках держать.
— А по-другому, как показывает практика, и нельзя. Как увидят, что ты меч в сторону отложил, сразу со всех сторон набегут…
— Знаю-знаю… Почему-то мне меч и хотелось нарисовать. Как символ. Но не хотелось повторять многие памятники и плакаты. Вот и стоял он у меня с пустыми руками на холме и смотрел вдаль. А там только облака до самого горизонта. Вот за них-то мне второе место и дали. Сказали — надо было тучи нарисовать. Сгущающиеся…
— Сгущающиеся?
— Угу.
— И я, по-твоему, похож на этого Алешу?
— Это, конечно, покажется смешным. Но именно у моего Алеши было твое лицо. Я его с твоим лицом представляла. Смешно?
— Нет. Удивительно.
— Удивительно другое: я этот рисунок долго берегла. Грамоты всякие пионерско-комсомольские в коробке хранила, фотографии, и рисунок этот вместе с ними лежал. А когда ушел Олег, я все вещи перебирала, приборку делала, и его там не оказалось. А месяца через два ты появился, словно с рисунка сошел.
— А солдат у тебя такой же стриженый был?
— Такой же. Но он был с именем.
Мы позавтракали гренками и кофе. Я решил проводить Риту на работу, потому как делать мне все равно было нечего. После этого я намеревался побродить по городу, надеясь, что какой-либо пейзаж, улица или еще что-нибудь разбудят мою память.
Город встретил нас сырой серостью. От вчерашней золотой осени осталась только намокшая листва на черном асфальте. Стылый борей обрушивался на улицы, срывая с туч последние капли, что удержались там ночью. Холода и неуюта добавляли в пейзаж даже неопрятные машины и автобусы, сплошь заляпанные липким слоем грязи. Да и у людей на лицах была такая озабоченность, будто через час-полтора начнется светопреставление. Наверное, мы с Ритой не вписывались в эту картину. Своими загадочными улыбками и продолжающейся словесной игрой мы заставили обратить на себя внимание всех, кто находился на остановке. И если бы я был толкователем человеческих взглядов, то прочитал бы их так: неужели в этом мире, в этот пасмурный день возможно так откровенно сиять чувствами?
Несколько снежных хлопьев — авангард зимы — рухнули в отливающие бензиновой радугой лужи. Будто в черные дыры. Но именно исчезнувший в грязной воде снег заставил меня вдруг задуматься о том, что за последние две тысячи лет в этом мире мало что изменилось. Разве что машин и упорядоченного в коробки камня добавилось. Думая так, я имел в виду всю природу, за исключением человеческой. Эта природа, как и моя собственная, оставалась для меня простой детской загадкой, которая тем не менее не имеет рационального, близкого к научному решения.
Зачем-то мне хотелось спросить:
— Рита, а почему ты не пошла в медицинский институт?
— Я два курса окончила… И ушла. Сама ушла. Потом еще в институт культуры поступала и тоже бросила.
— Почему?
— Мне тогда показалось, что высшее образование — это такая система, попадая в которую человек должен постоянно доказывать, что он не дурак. Что у него есть определенные умственные способности. И получается, что он не учится уверенно и размеренно, а ежедневно опасается, что его посчитают непригодным состоять в категории умных людей. И потом с молодым специалистом происходит то же самое. За ним неустанно следят те, кто прошел все это раньше. И он опять вынужден доказывать, что он на что-то способен. Дедовщина какая-то. И никакого творчества.
— А в нынешней твоей работе какое творчество?
— Не знаю. Я просто на своем месте. А вот интересно, у тебя какое образование?
— Пока никакого. Даже житейский опыт отсутствует, — криво ухмыльнулся я.
— Ничего. Ты уже без пяти минут Алексей, — снова повторила она понравившееся ей имя, и в небо унесся какой-то одному ему понятный код. А вернулся оттуда с расшифровкой.
— Алексей Васильевич! — стоявшая поодаль женщина, видимо, только и ждала, когда мне присвоят какое-нибудь имя.
Я не был уверен, что она обращается ко мне, но все же повернулся в ее сторону. На всякий случай.
— Алексей Васильевич, куда же вы пропали? — повторила она, тревожно глядя мне в глаза.
Между тем угловым зрением я уловил, как напряглась при этом Рита. Этим же зрением в долю секунды я прочитал в ней растерянность, смирение с будто бы уже свершившейся потерей случайно приобретенного…
— Вы же обещали заехать ко мне. После вечера в «Интерросе». На следующий день я ждала вас.
Что я мог сказать? Я решил слушать все, что она скажет. Я не узнавал этой женщины. Ничего не мелькнуло в моей стершейся памяти. Она просто грузилась заново.
— Может, я не вовремя? — усомнилась она. — Два месяца прошло…
Я наморщил лоб. Наступило время раскрывать карты, иначе она войдет в подъезжающий автобус и я потеряю ниточку, за которую есть шанс зацепиться.
— Понимаете, — начал я, — со мной произошел несчастный случай — травма, я потерял память. Потерял имя. Потерял, пожалуй, все, кроме внешности. Сейчас я впервые услышал свое имя за довольно долгий промежуток времени. И если для вас не составит труда, я хотел бы услышать все, что вы обо мне знаете.
Я даже не берусь описать то, что происходило в моей душе в эти мгновения. Маленький смерч, который заставил содрогнуться сердце и горячей волной ударил в голову. Она же некоторое время медлила с ответом, будто сомневалась, стоит ли со мной разговаривать вообще.
— Не так уж много… Может, мы отойдем? — чего-то она испугалась, это я почувствовал.
И снова угловым зрением уловил, как прыгнула на подножку подошедшего автобуса Рита. Через несколько секунд двери за ней закрылись, и я за это время не успел даже выбрать: броситься вслед за будущим или выслушивать прошлое. «Во всяком случае, — подумал я, — Риту найти несложно». Но кто стоял передо мной?
Что это с ним? Он и тогда показался мне каким-то подозрительным. Его представил Болотов, сказал, что он поможет, даже если потребуется защита. Саша, если бы ты был жив! Сколько же можно шарахаться из стороны в сторону, от каждой тени… А у этого лицо благородного убийцы. Может, он действительно ничего не помнит? Ну и хорошо. Особенно хорошо, если он потерял адрес. Видок-то болезненный… Пил, небось… И что дальше?
— И что дальше? — повторил я вслед за ее мыслью, и ее передернуло, как от электрического разряда.
— Я тут подумала, что вы вряд ли теперь сможете мне помочь, особенно после своей травмы…
— Вы зря меня опасаетесь. Я если и не безвреден, как младенец, то не менее нуждаюсь в уходе и помощи, нежели новорожденный. Расскажите мне обо мне. Если же вам не хочется делиться своей бедой… Во второй, получается, раз. Я не настаиваю.
Полминуты она читала меня, чтобы подороже продать свое доверие. А я уже знал, что ее мужа Сашу убили из-за каких-то документов. С этого момента прошло более полугода. Но какое отношение ко всему этому имел я?
Болотов как в воду канул. Никто больше не приходит. Дернул меня черт окликнуть этого странного мужика.
— Нас с вами познакомили в компании «Интеррос», она занимается оптовыми поставками товаров из-за рубежа. Верховодит ей некто Мовшензон. Богатая и темная личность. Я была знакома с некоторыми работниками этой компании, мой муж с ними вел какие-то дела. И потом ему в руки попали эти проклятые документы. С этого все и началось. Саша? Якобы несчастный случай, но я точно знаю, что его убили.
— А кто этот Болотов, который нас познакомил? И где он сейчас?
— Он тогда работал в отделе по борьбе с организованной преступностью. Был юбилейный вечер, десятилетие, по-моему, «Интерроса». Он подвел меня к вам и сказал: «Вот, Алексей Васильевич, большой специалист по всяким тайнам. Он может помочь…»
— А что, оперативники нынче ходят на праздники компаний с сомнительной репутацией?
— Сейчас у всех, кто имеет большие деньги, сомнительная репутация, а Болотов, говорят, мог запросто поручкаться с каким-нибудь криминальным авторитетом сегодня, а завтра надеть на него наручники.
— Ничего я в этом мире не понимаю…
— Я тоже…
— И где этот Болотов сейчас?
— Я слышала, он уехал месяца три назад в командировку на Кавказ и до сих пор не вернулся.
— Странно все это…
— Вы действительно ничего не помните?
— Настолько, что даже не помню, как меня взорвали. Говорят, люди помнят какие-то вспышки, а потом темнота. А я, знаете, помню, что было на том свете, а вот на этом будто заново живу.
— И тот свет есть? И Саша мой…
— Есть. И муки совести есть. Я уже в больничной палате читал жития святых и другую духовную литературу, мне приносили. Там есть описания того, как больно и страшно грешникам смотреть на ангелов, на святых. От них исходит такое сияние, что глазам больно. У меня было немножко не так. Свет действительно был, но не яркий, а какой-то абсолютно чистый. Так вот, мне почему-то очень стыдно было поднять на него глаза. Не больно, а именно стыдно. Как будто я самый последний грешник. А может, так оно и есть…
Даже не знаю, зачем я пустился в такие откровенности. Но заметил, что теперь мне принадлежит какое-никакое, но хоть маленькое доверие этой женщины.
Наверное, ей было чуть меньше сорока, но выглядела она старше. Было заметно, что последнее время она следит за собой без всякого старания. Даже помада нанесена неровно. Уголки глаз иссечены мелкими морщинами, а сами глаза выплаканы до белизны. Когда-то были зелеными. Теперь только в глубине сохранился их природный цвет. Из-под берета некрасиво выбилась прядь крашеных волос. Более печально выглядели руки, которые она порой подносила к лицу, чтобы поправить непослушную прядь. На среднем и указательном пальце прижилось желтое никотиновое пятно. Такое бывает только у заядлых курильщиков, да и то от «Примы» или «Дуката» какого-нибудь.
— Меня зовут Ирина… Андреевна… Но теперь это неважно.
— Мне, напротив, важно все. Хотя, если честно, чем больше я знакомлюсь с этим миром, тем меньше мне хочется о нем знать.
— У меня было такое же чувство омерзения ко всему окружающему после смерти Саши, но потом я как-то ранним летним утром, пяти еще не было, вышла на улицу. И душа все равно запела. В раннее небо рванулась. Даже поверилось вдруг, что Саша где-то рядом. Но это, пожалуй, качественно другие ощущения, не похожие на ваши.
— Но очень близкие… А фамилию мою Болотов не называл? Может, еще какие привязки были?
— Нет, фамилию точно не называл. Он еще оговорился, что вы якобы прошли огонь, воду и медные трубы.
— Да уж, до медных труб мне оставалось совсем чуть-чуть. Жутко ненавижу похоронные оркестры. Покойникам и то наверняка тошно.
— Постойте! Я вспомнила вот что: я обратила внимание на ваш странный браслет. Стрелу на нем заметила и спросила о ней у Болотова. Может, в шутку, а может, и всерьез он сказал, что вы относитесь к высокочтимой касте стрелков.
— Стрелков?
— Да, и больше ничего. Разве что наш с вами разговор. Потягивая шампанское у фуршетного стола, вы пообещали зайти ко мне, чтобы ознакомится с тем, что у меня осталось от Саши. Мол, все уладим, и если есть какие-то зацепки, отследим. Это все, — закончила она и показала, что намерена ехать по своим делам на подъезжающем автобусе.
— Спасибо, — что мне еще оставалось?
Уже сделав несколько шагов, она остановилась. Оглянулась, внимательно посмотрела на меня и раскрыла свою сумочку.
— Тогда вам достаточно было взглянуть один раз на этот листок с моим адресом, чтобы его запомнить. Во всяком случае вы сами так сказали. Этот листок с тех пор я ношу с собой. Просто руки не доходили выбросить. Не знаю почему, но я вам поверила. Возьмите. Хуже мне уже не будет.
«Будет», — подумал я, но сам для себя подобный жестокий вывод обосновать не мог. Взял протянутый мне вырванный из блокнота листок с адресом Ирины Андреевны Земсковой и остался стоять на остановке с еще большим количеством вопросов в голове, нежели до встречи с этой несчастной женщиной.
В доказательство тому, что все проходит и в то же время ничего не меняется, крупными хлопьями пошел снег. Стало зябко и одиноко. Подняв воротник, я двинулся куда глаза глядят.
7
Вечером Рита показательно не спрашивала меня, как я провел день. За ужином я рассказал ей весь разговор с Ириной Андреевной, и она заметно успокоилась. Наш дуумвират пришел к выводу, что следом за именем потянется фамилия и все к ней прилагающееся. Хотя мы обоюдно (каждый по-своему) опасались новых данных: она переживала, что вместе с именем вернется и тот, кто хотел взорвать меня, но я почему-то сомневался, что взрыв относился именно ко мне. Мог ведь я оказаться там случайно. Маловероятно, но мог. Я опасался, что знание своего прошлого разлучит меня с Ритой. Появится какая-нибудь тетка, называемая супругой, родственники и прочая, и прочая… И будет долгий и нудный разбор событий и отношений с людьми, которые для меня в настоящем ничего не значили. Наверное, подло было так думать о тех, кто, возможно, не спал ночей, разыскивая меня по моргам и больницам. Но ведь не нашли!
Худшие опасения Риты подтвердила моя «выходка» (как она ее назвала) во время совместного (тихого семейного) просмотра телепередач. Первыми на очереди были новости. После перекачки международной и внутренней напряженки в квартиры и без того затравленных россиян телевидение показало арсенал оружия, обнаруженный доблестными рубоповцами где-то в Екатеринбурге. Камера любовно скользила по лежащим рядком стволам, а я вдруг начал комментировать:
— Пистолет «Тип 64», редкая штука, китайский подарок разведчикам и диверсантам, предназначен для бесшумной и беспламенной стрельбы… О! А вон тот АКМ и не АКМ вовсе. Это дешевка албанская. Минут пять боя и можно выкидывать. Как и китайские. Ха! Конструкция Евгения Драгунова — девятимиллиметровый «Кедр». А вот уже серьезная штука: В-94, с двух километров в бэтээре дырку делает. С такой винтовкой… — и с непонятным самому себе восторгом посмотрел на Риту.
— Так вы, значит, Алексей Васильевич, стрелок, — грустно и задумчиво сказала она, пытаясь заглянуть мне в душу.
Я смутился. Мне и самому было непонятно, откуда у меня подробные знания стрелкового оружия. Таких книг мне Рита не приносила. Как бы она на меня посмотрела, если бы знала, что ко всему сказанному я могу добавить мельчайшие подробности вплоть до начальной скорости пули, конструкторских недоработок и предпочтительных вариантов применения.
— Вот что мы сейчас сделаем, — хитро прищурилась она, — я возьму пару энциклопедий и буду наугад открывать в них страницы и читать начало статьи.
— Зачем?
— Я хочу знать, в чем ты еще дока!
— Может, не стоит искать прошлое, если оно само тебя находит? — вслух подумал я.
— Ага, найдет тебя какой-нибудь тип… Шестьдесят четыре… Бесшумный и беспламенный, — и сняла с полки несколько внушительных томов. — Я думаю, эта твоя внутренняя реакция даст о себе знать.
— И чего мы добьемся?
— По крайней мере мы сможем определить, в каких сферах человеческих знаний ты вращался. Может, и профессия твоя обозначится, — и не оставляя мне возможности возражать, открыла первую книгу, ткнув пальцем наугад, — Ватерлоо!
— Деревушка в Бельгии, — отвечал я, практически не думая, где-то в памяти раскрывалась нужная ячейка, — около нее самодовольный Веллингтон навалял самовлюбленному Наполеону. Ну это у них так заведено. Сначала русские делают всю самую тяжелую работу, а потом прибегают, приплывают, десантируются хитромордые англосаксы и вампирами присасываются к нашей победе. В Арденнах в сорок пятом несколько недоукомплектованных гитлеровских дивизий чуть им шею не свернули. Если бы Сталин не дал команду начать Висло-Одерскую операцию на неделю раньше, тяжко бы им пришлось. А уже через три месяца Черчилль без зазрения совести писал Рузвельту, что надо им поторопиться со взятием Берлина, а то русские посчитают себя главными в общей победе. Да куда уж ихним Веллингтонам до наших Суворовых и Жуковых. Четыре года десятимиллионная армия всяческих союзников внимательно наблюдала, как русские и немцы режут друг друга со страшной силой. А они в Африке бананы сбивали с пальм. Да от Роммеля бегали. А потом, как водится, к разделу пирога поспели…
— Ты что-то имеешь против наших союзников? — наигранно-серьезно спросила Рита.
— У России есть только два союзника — это ее армия и флот. Александр Третий сказал.
— Ну ты даешь! Ну хватит воевать, давай еще что-нибудь попробуем. Во! Совсем из другой оперы: технеций.
— Химический элемент. По-моему, искусственного происхождения и радиоактивный.
— Точно! А ну-ка на этой же странице — терция!
— Музыкальный интервал. Сколько там полутонов и тонов, не помню. Есть еще секунда, кварта, квинта, секста, октава…
— Стоп, стоп, стоп! Все это слишком просто. По крайней мере для тебя, — снова одним движением перелистнула толщу страниц. — Теургия!.. Сама не знаю, что это такое.
— Греческое слово. Если понимать буквально, искусство общения с высшими силами. С Богом. Соловьев и Флоренский считали теургию основой любой человеческой деятельности. Особенно творчества. Иван Ильин тоже считал, что человек творческий как бы прислушивается к тому, что ему нашептывает небо. И все окружающие должны предоставлять такую возможность художнику, чтобы всем миром не прослушать что-нибудь важное для судеб мира. А вот православная церковь этот путь богопознания и богообщения не признает. Оно и верно, что может быть правильнее пути покаяния и молитвы. Это я уже в твоих книгах вычитал. Творчество? Его, если я правильно понял, можно положить на алтарь, а можно бросить в геенну.
— Жуть, — определила свое отношение к моим познаниям Рита, но бросать энциклопедическое гадание не собиралась и открыла англо-русский словарь. — Do you speak English?[1]
— The Motherland ordered me to speak the language of the most probable opponent. However, I don’t know if I do it correct…[2]
— Sorry, я в этом еще хуже понимаю, думала, ты вообще не бельмеса…
— I thought so too. It happened itself. It seems to me that I have read a legend about Robin Hood in the original. And something else… With the large pathos I can tell now: to be or not to be! The baby-son has come to the father and asked: What is good and what is bad?[3]
— Я все равно очень мало поняла.
— Я тоже.
— Может, на немецком попробовать? А еще я латынь чуть-чуть знаю…
— Похоже, что латынь я тоже чуть-чуть знаю. Когда ты о ней упомянула, в моей голове промчалась дюжина крылатых выражений на латыни.
— Будем продолжать обследование?
— Стоит ли, доктор? По-моему, диагноз ясен: полная амнезия, де жа вю и эклектичный набор знаний. Пора принимать микстуры!
— И что вы предпочитаете? — Рита так игриво улыбнулась, что мое сердце подпрыгнуло как на реанимационном столе.
— A little piece of tenderness…[4] — это она поняла без перевода.
8
Несколько дней я пребывал в эйфории общения с Ритой. Самыми счастливыми были утро и вечер.
Наступающий день перестал пугать своей неизвестностью, каждое утро я просыпался рядом с умопомрачительной красоты женщиной, и мне, честно говоря, было абсолютно наплевать на весь окружающий мир со всеми его дурацкими проблемами, которые он сам себе наживал от собственного же идиотизма. Мне было наплевать на этот мир, но он, как выяснилось, вовсе не собирался оставлять в покое меня.
В эти дни мы с Ритой без всяких энциклопедий выяснили, что помимо всего прочего я еще владею некоторыми кулинарными способностями. Дело в том, что я взял себе за обязанность готовить ужин и умудрялся без «пищеварительных» руководств и рецептов создавать экзотические шедевры русско-африканской кухни. Так, во всяком случае, мы решили называть мое кулинарное творчество, обильно сдобренное приправами всех времен и народов, которые я покупал в ближайшем маркете. Там же приобретались продукты, там же окружающий мир вновь напомнил мне обо мне.
Прошло дней пять после нашей встречи с Ириной Андреевной Земсковой. Пять дней, которые «потрясли» мой мир. Тишиной и покоем, взаимной заботой и нежностью. Я понял, что жить стоит хотя бы потому, что в мире случается любовь. Но кроме нее…
Мне нравилось бродить в стеклянном кубе ультрасовременного гастронома, нутро которого было сплошь забито всевозможной снедью, собранной, обработанной и упакованной во всех частях света. Налицо был золотой век торговли и обжорства. Не для всех, конечно. Например, мои деньги в этом магазине растаяли уже на третий день, превратившись в горстку смешной мелочи. Прозорливая Рита отвалила на мои кулинарные способности часть своих сбережений и даже дала пластиковую карточку, предоставленную ей сердобольным Олегом. Вот и получалось, часов до четырех я бродил по магазинам, а к шести вечера уже накрывал на стол.
Как будто заново я перепробовал десятки вин и крепких напитков. И во второй раз мое прошлое положило мне руку на плечо именно у винных рядов, когда я вопрошал к Дионису с просьбой помочь в выборе, пожирая глазами бутылочное изобилие.
— А я думал, ты уехал, на дно лег.
Оглянувшись, я увидел за своей спиной мужчину средних лет в длинном черном плаще и лаковых штиблетах. Лицо у него было как у чекистов из «золотого века». Стертая внешность — так это называется. Неприятный испытующий взгляд пытался высверлить в моих глазах пару отверстий.
— Неужто пить начал? — спросил он.
— А я разве не пил? — вопросом на вопрос ответил я.
— На моей памяти никто из вашего брата не пил.
— Из какого брата? К сожалению, с моей памятью есть проблемы. Я даже не имею представления, с кем имею честь говорить, — теперь я уже был спокоен, встреча с Земсковой натолкнула меня на мысль, что у меня может быть двойное, а может, и тройное прошлое. Нужно просто относиться к нему настороженно.
— Чести тут никакой и ни у кого нет. Давно нет. Я — Двадцать Седьмой, а ты был Тринадцатым…
— Почему был?
Двадцать Седьмой исподлобья глянул на недалекую видеокамеру под потолком:
— Пойдем-ка лучше на улицу, тут неподалеку есть новостройка, народу и лишних глаз поменьше.
Словно загипнотизированный, я двинулся за ним вслед. Он же по дороге к безлюдной стройке ни разу не оглянулся. И так это у него здорово получалось — шагать впереди, что мне самому показалось, что еще минуту назад я вовсе не разговаривал с ним, мы абсолютно посторонние люди. Но кто сказал, что это не так? И уже когда мы стояли на первом этаже какого-то будущего банка, больше похожего сейчас на одну из развалин Сталинграда в сорок третьем году, я снова и снова безуспешно пытался проникнуть за пелену его бесцветных глаз, что-нибудь прочитать в них. Так, как это получалось у меня с другими. С этим Двадцать Седьмым ничего не выходило. Я видел замысловато смешанные формулы, состоящие из цифр, латинских и кириллических букв, непонятных символов и знаков. Все это было очень похоже на инопланетный код, и только изредка он перемежался отдельными словами и междометиями, что, впрочем, абсолютно не придавало ему смысла. И если бы не связная и вполне логичная речь Двадцать Седьмого, я бы принял его за зомби. Но, скорее, код этот был его собственной защитой от таких взломщиков, как я. Кроме того, к своей радости, я заметил, что у него есть какие-никакие эмоции. Во всяком случае черный юмор ему был присущ.
— Ну вот, на этой великой стройке побеждающего капитализма и поговорить можно.
— Так почему же этот Тринадцатый, который я, уже был?
— Вышел в тираж. Подставили. Или сам подставился. Что-то у нас последнее время не то происходит. Удивительно, что тебя еще в больнице не завоздушили.
— Значит, я — Тринадцатый, ты — Двадцать Седьмой, а имена у нас есть?
— Сколько угодно.
— А можно попроще? Можно хоть что-то толком объяснить?
— Понимаешь, дружище, я бы с удовольствием, но, боюсь, я и сам последнее время ни хрена не понимаю. Где-то у нас короткое замыкание произошло. Может, в штабе. Тебя когда рванули, тишина настала, как на кладбище. И даже эпитафий нам не оставили. У меня вот деньги скоро кончатся, а тут ни инструкций, ни команд, вообще ни хрена! Вот я и решил на тебя выйти. Думал, раз ты живой, значит, знаешь что-нибудь. А ты у нас, оказывается, живой труп, и тоже без эпитафии…
— Какой штаб? Чем мы занимались? Мы что — военные?
— Вроде того. Вот ведь, блин, не зря от Тринадцатого номера все шарахались. Не повезло тебе. Но рассказать я тебе ничего не могу. Без команды. Не подумай только, что боюсь, правила такие. Вот что, давай здесь же встречу назначим дня через три? Может, ветер переменится. В это же время. Согласен?
— А что мне остается…
— Черт! Неужели тебе напрочь память отшибло?
— Как чистый лист.
Двадцать Седьмой посмотрел на меня с нескрываемым сочувствием, как на напарника. Именно в этот момент я поверил, что он не живая машина, а обычный или не совсем обычный, но все же человек, которому ничто человеческое не чуждо. Прощаясь, он протянул мне руку, и я увидел выскользнувший из-под белоснежного манжета такой же, как у меня, бронзовый браслет. Но не успел разглядеть гравировку. Там точно была не стрела.
— Тринадцать… Двадцать семь… А сколько вообще? — напоследок спросил я.
— Когда-то было тридцать три. А теперь не знаю. Черномора спрашивать надо.
— Это что? Как в сказке Пушкина?
— Похоже. А ты что, сказки Пушкина помнишь? — в глазах его выстрелило недоверие.
— Помню. Я помню все, что когда-либо читал. Во всяком случае, из художественной литературы.
— Ну будь здоров, читатель, лучше бы ты помнил номера, с которыми ты в последний раз работал, — махнул он рукой и исчез в проеме забора, оставив меня с еще большим количеством вопросов, которые некому было задать.
После его ухода осталось чувство связи с каким-то страшным, спрятанным в самые мрачные подземелья миром. Ваш номер тринадцать, Алексей Васильевич.
…Где-то вздуется бурливо Окиян, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор.Осталось найти царевну-лебедь, или, может, Рита согласится? Ах, Маргарита Ивановна, не соблаговолите ли…
9
По парапету, идущему вокруг казармы, мы крадемся к открытому окну строевой части. Невысоко… Второй этаж… Но мы прижимаемся к стене, лишь бы никто снизу не увидел. С другой стороны здания на плацу звучит оркестр, начинается праздничное построение. Все курсанты и офицеры в парадной форме. Первое мая…
— Никита, я все-таки маленько боюсь…
— Высоты?
— Не-а… То, что мы на праздничное построение не пошли…
— Скажем, что у нас животы прихватило. Съели чего-нибудь не то.
Сколько нам лет? На нас красные погоны с буквами «СВУ». Суворовцы?
Мы подбираемся к окну строевой части, неуклюже переваливаемся внутрь, чуть не перевернув стол прапорщика Каширы. Ночью он готовил списки на благодарность и поощрение к праздничному построению, пил самогон, а значит, как всегда, забыл запереть заветные ящички с личными делами. Ради них мы и крадемся сюда.
Если Никита — это я, то вместе со мной вляпался в эту авантюру мой дружок Ванька Болотов. «Любопытство — это грех», — говорила Ванина бабушка — единственный человек, которого он помнил из своего глубокого детства. Мы крались к этому окну ради того, чтобы заглянуть в папки с собственными личными делами. По училищу прокатился слушок: из сирот будут набирать роту специального назначения да еще отправят в какое-то засекреченное высшее училище, где готовят то ли разведчиков, то ли контрразведчиков, то ли космонавтов. Мы с Ванькой в категорию сирот попадали…
Но даже во сне я никак не мог совместить смутные воспоминания из «золотого века» и свое пребывание в суворовском военном училище. Как я туда попал с печальным статусом «сирота»? Задал я себе этот вопрос во сне, и хотя в том же сне юноша по имени Никита искал ответ на другой вопрос, перебирая документы в ведомстве прапорщика Каширы, он ответил и на мой.
Личные дела, разложенные в алфавитном порядке, хранились в специальном сейфе, из которого выдвигались длинные ящички, плотно забитые папками. Мы с Ваней одновременно потянулись к литере «Б» и быстро нашли интересующее: Бесогонов Никита Васильевич и Болотов Иван Алексеевич. На обеих папках карандашом каллиграфическим почерком была сделана пометка «спецчасть». Вот про эту спецчасть и хотелось нам хоть пару слов вычитать. Но про спецчасть там ничего не было. Зато было другое. И на это другое вместо двух предполагаемых минут мы потратили пятнадцать, а может, и двадцать.
Кроме аттестационных листов с оценками, медицинских справок и заключений, кроме обычных характеристик, мы нашли в этих папках «специальное приложение», отпечатанное на плотной желтой бумаге и вложенное в отдельный конверт с меткой «ДСП». Для служебного пользования, стало быть. Решили одним глазком глянуть, чего еще там про нас написано. А смотреть пришлось во все четыре.
«Болотов Иван Алексеевич 1965 г. р., русский, отец — Болотов Алексей Иванович, майор МВД, погиб при исполнении служебных обязанностей; мать — Болотова (Чистякова) Варвара Васильевна, врач, погибла вместе с мужем; бабушка Болотова Алевтина Сергеевна, умерла в 1975 г.; сестра — Болотова Марина Алексеевна, скончалась от менингококковой инфекции в 1973 г.».
Чуть ниже: «псих, травма: убийство родителей произошло на глазах ребенка. В одного из нападавших он успел кинуть камень. Сам получил ранение…» Так вот о чем Ванька все время отмалчивался!
Получалось, что я читаю в его папке, а он в моей.
«…Рекомендуется использование сложившейся ситуации в сочетании с воспитательным моментом при переводе в специальную часть. Обостренное чувство справедливости, помноженное на скрытое желание мести, несомненно, даст положительный эффект…».
Я только начал читать свое личное дело: «…В момент смерти родителей находился в салоне того же автомобиля. Полковник Бесогонов успел протянуть сыну табельный „ПМ“, из которого тот сделал три выстрела по убегавшим преступникам. Один из нападавших был убит тремя пулями. Проведенное расследование установило…». Я не успел прочитать, что установило проведенное кем-то расследование, потому что мы услышали в коридоре шаги. Не раздумывая, я сунул папку обратно и выскочил за окно на парапет, по которому направился к пожарной лестнице. Почему промедлил Ваня, я так и не узнал, а он, застигнутый врасплох начальником строевой части капитаном Георгиевским, мне об этом ничего не рассказал…
И все. Кроме боли в этом сне ничего больше не оставалось. Я вдруг вспомнил, как мешали мне целиться слезы. Мешали целиться и дышать. Ненависть, страх, боль, слезы, кровь… Волосы матери разметались на переднем сиденье старенькой «Победы»…
— Что случилось? — растолкала меня Рита. — Ты плачешь во сне!
— Ничего… Плохой сон. Прости, если напугал тебя.
— Ты что-то вспомнил?
— Не знаю, мне кажется, я теперь знаю, что мои родители погибли. Был ли еще кто-то в моей семье, не знаю. И, мне кажется, я знаю, кто такой Болотов.
— Сон?
— Вроде сон, а может, это острова памяти проявляются. Наверное, меня все-таки зовут не Алексей, хотя утверждать не берусь.
— Тогда пусть пока будет Алексей. Ты не против?
— Нет…
— У тебя до сих пор слезы в глазах стоят.
— А где им еще быть? Я же не знаю, сентиментальный я или нет? Мой номер тринадцать…
— Зачем прикреплять себя к несчастливому числу?
— Числа в наших судьбах абсолютно ни при чем! От них не зависит сумма удач или полоса невезения. Все зависит от того, что сам человек вкладывает в смысл той или иной цифры. Несомненно, они несут в себе некий код информации, но знаковая часть этого кода определяется отношением самого человека. И если он не суеверный, она просто-напросто может быть нейтральной. Никакой. Равной нулю! Та же цифра тринадцать — чем она тебя, например, пугает? Этакой демонической силой, которую вложило в нее все тоже человечество? А ты посмотри на проблему с другой стороны. Сколько учеников было у Христа?
— Двенадцать?
— А если вместе с Христом — сколько получится?
— Тринад… Действительно! А шестьсот шестьдесят шесть?
— Ну что нам теперь из порядка чисел шестьсот шестьдесят шесть вычеркнуть? Тут еще проще: древние иудеи кодировали цифрами буквы своего алфавита и каббалистические знания. Иоанн Богослов, разумеется, знал всю эту систему. Так что данная цифра может быть именем антихриста, может быть какой-то фразой. Скорее всего — в ней скрыто имя. Но цифра могла быть любой другой. И какой знак будут ставить на челе всем желающим продавать и покупать во время царствования антихриста, не знаю, но уж точно не три откровенных шестерки. Слишком они шокируют человечество. Всех, кроме откровенных сатанистов.
— Еще одна область знаний, к которой ты имеешь отношение?
— Боюсь, самое поверхностное. Давай попробуем уснуть. Прости, мне до сих пор не по себе…
— Приказ для вас — это большая жирная точка! После нее могут следовать только три возможных продолжения: а) исполнение приказа, б) безукоризненное исполнение приказа, в) неисполнение приказа в связи с тем, что вы уже отсутствуете как мыслящая и действующая субстанция на этом свете. Так вот: мы здесь с вами работаем, чтобы свести до минимума возможность пункта «в». — Седой полковник подошел к каждому и каждому заглянул в глаза. И взгляд этот был похож на зонд, опускающийся до самого дна души. — Я хочу, чтобы у вас не было иллюзий о благородной подоплеке нашей работы. Вы не чистильщики. Чтобы убрать всю грязь, потребуется целая армия. А обычная армия для этого не годится. Ее саму недурно было бы прочистить. Вы — удерживающие. Образно это можно выразить следующим образом. Мир висит над пропастью. У нас нет сил и средств, чтобы перестроить всю гору и переместить его на ровную площадку. Это под силу только Господу Богу. Но до определенного времени мы можем подкладывать камни, подсыпать песок или наоборот убирать ненужное, дабы он еще повисел столько, сколько опять же угодно будет Господу Богу. Вы не элитное подразделение, которое гордится своими знаменами и шевронами. Вы — ассенизаторы. Мусорщики. Но главное — вы удерживающие. У каждого из вас зло этого мира отобрало близких, и кому, как не вам, рассчитаться с ним по его же правилам. Помните? «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» И еще хочу, чтобы у вас не было иллюзий по поводу суперсовременной техники. Кое-чем мы, конечно, располагаем, но байки о подглядывающих спутниках, о детекторах, читающих мысли, оставьте фантастам и сочинителям детективов. Ваша главная сила — ваши мозги, ваше тело, помноженные на слаженность работы группы, выполняющей задание. И еще… У вас не должно быть жалости к врагам. Даже если они вырядятся в овечью шкуру. Враг, которого вы не уничтожили, останется врагом — это раз, и обязательно попытается уничтожить вас — это два, и будет делать это уже с учетом того, что он знает о вас — это три. Поэтому с сегодняшнего дня вы расстаетесь с именами, фамилиями, званиями и прочей шелухой… Все эти причиндалы останутся здесь на базе, а там — в миру — у вас будут десятки, сотни имен, профессий и званий. Помните, я рассказывал вам про древних, которые скрывали свои настоящие имена не только от врагов, но и от соседей. Так, на всякий случай. Номера же определит жребий…
10
Через два дня я снова пришел на стройку. Минута в минуту. Двадцать Седьмой был уже там и, увидев меня, заулыбался.
— Я кое-что выяснил для тебя. Тут недалеко есть кафе среднего масштаба, мы там сможем спокойно посидеть, выпить кофе или еще чего-нибудь покрепче.
Не знаю, чем кафе среднего масштаба отличается от кафе большого масштаба, но мы оказались в довольно просторном зале. Сели в углу за пластиковый столик. В полумрачном зале было не людно, под потолком тлели какие-то ультрасовременные лампы, наполнявшие внутреннюю атмосферу туманным розовым светом. Из вмонтированных в стены динамиков звучала ненавязчивая электронная музыка. В центре зала два мужика закусывали водку пиццей и очень оживленно, как это принято в России, дискутировали на политические темы. В противоположном от нас углу миловалась за бутылкой шампанского любовная пара. Равнодушная ко всему на свете официантка приняла наш заказ, и уже через пару минут на нашем столе появился коньяк, салаты и та же пицца с грибами.
— Зови меня Игорь, — предупредил Двадцать Седьмой и, подмигнув, разлил коньяк в одноразовые стаканы.
— А меня покуда Алексеем зовут, — ответно подмигнул я.
— Ну, тогда за знакомство…
Мы выпили и, пока неторопливо пробовали салаты, вынуждены были слушать горячий спор из центра зала.
— Да что твои кислопузые американцы?! Какая, к хренам, у них демократия, если они пукнуть в ее сторону боятся! Знают, ежели пукнут, то весь их сероводородный протест может в газовой камере закончиться! Вот она, демократия! — горячился бородатый мужик внушительных размеров, небрежно расплескивая по стаканам очередную порцию. — Их демократия заключается в том, что мы сейчас с тобой, раздавив полкилограмма на двоих, можем охаивать собственную страну, а какой-нибудь сиэнэнщик услужливо микрофон приставит и ко ртам нашим, и к задницам, чтобы чего-нибудь важного не пропустить из гласа народного. Но скажи мы чего-либо про их Америку, о-о-о-о!.. Давай полыхнем! — быстро выпил и, не закусив, продолжил развивать свою мысль: — Ты тут же станешь врагом этой самой демократии. Ты там, Коля, в своей газетенке совсем протух. Оно и понятно, главный редактор с фамилией Гольдберг может только подпевать всей этой бесовской свистопляске!
— Тише… Тише… Что вокруг подумают?.. — испугался тот, которого звали Колей.
— Хрен там — подумают, разучились уже думать, благодаря твоим Гольдбергам. Демократия?! Дерьмо на лопате! Два жителя Техаса начали собирать подписи о присоединении отвоеванного некогда штата обратно к Мексике. Безобидно так — подписи. Чуешь?
— Ну?
— Гну! Одному пожизненно, другого от электрического стула запитали, чтоб не ерзал задницей, где не положено. Демократия? Ась? Не слышу восторга справедливого правового общества!
— Это правда?
— Такая же, как то, что мы с тобой сейчас еще полкилограмма возьмем. «Столичной»?
— Угу.
— Факт общеизвестный, и твой Гольдберг небось о нем знает, но так как на стул посадили не еврея, а вонючего латиноса, для него этого как бы и не случилось. Не было. Потому как настоящая демократия — она выборочна. Для кого-то есть, а кому-то хрен с перцем! А у нас подписи уже давно с «палашами» собирают, но это называется правом наций на самоопределение. Самооперденение! Блин! Полыхнем?
— Ну, такого сейчас на любом углу наслушаешься, — ухмыльнулся моему вниманию Игорь — Двадцать Седьмой.
— Да нет, дядька откровенно лупит.
— Откровенно — значит, ему терять нечего. Окромя своих цепей, как учил нас незабвенный классик.
— Мне вроде тоже нечего.
— Подожди, Леша. Если б мы были сейчас на нашей подмосковной базе, а не на нефтяных куличках, ты бы, наверное, не так говорил.
— Там что — база отдыха?
— И отдыха тоже. Родной дом. Ну, я тебе сколько смогу, постараюсь подробно рассказать. Похоже, что в этом городе мы с тобой только вдвоем остались. Стало быть, и мне тоже терять нечего.
— А сколько нас было?
— Здесь? Здесь как минимум шестеро. С тобой двое, и со мной… Где-то прошла утечка. Может быть, даже сверху. Сейчас за деньги даже сверхсекретную информашку купить можно. Честь и совесть нельзя, но они, как выяснилось, не у каждого есть. Тебя вот взорвали, а напарников твоих вообще днем с огнем не сыскать. Может, уже закатали где-нибудь в асфальт, в болоте утопили, и никто, кроме нас с тобой, искать не будет!
Чувство опасности резким холодком пронеслось по моей спине. Игорь говорил об этом так спокойно, что неотвратимая жуть кусками льда поселилась в голове и в сердце, не оставляя ни малейшей надежды на возможность противодействия ей.
— А твои напарники?
— Мои погибли в банальной перестрелке. Я сам видел. И тоже, думаю, подставили нас.
— Да что же это за война в мирное время?
— Когда хоть оно мирным-то было? — Игорь протянул мне замусоленную газету «Труд». — Прочитай сначала вот это, — и указал на статью на второй странице, которая называлась «На кого нацелена „Белая стрела“?».
«Мы уже привыкли к стрельбе на улицах. Мы привыкли к криминальным разборкам. До сих пор мы знали, что органы МВД и ФСБ едва успевают фиксировать все эти события и вяло комментировать их в средствах массовой информации. Говорить о каком-то серьезном противодействии разгулу преступности с их стороны в данный момент не приходится. Но вот совершенно недавно в редакции нескольких ведущих журналов и газет поступила анонимная информация, что еще с советских времен существует сформированное на базе КГБ специальное подразделение „Белая стрела“, по сравнению с которым спецподразделение „Альфа“ — это батальон новобранцев. В задачи „Белой стрелы“ входит в буквальном смысле отстрел зарвавшихся авторитетов, коррумпированных чиновников, а также сбор информации по всей стране и за рубежом. Агенты „Белой стрелы“ не только имитируют криминальные разборки, но и сами провоцируют их, подбрасывая соответствующую информацию тому или иному „крестному отцу“. Техническому оснащению „Белой стрелы“ могут позавидовать герои фантастических голливудских боевиков. Кроме того, в информации указывается, что бойцы этого подразделения не имеют имен и фамилий, пользуются неограниченным доверием своего начальства, имеют по нескольку паспортов…»
— Это?..
— Читай, читай. Это, — кивнул Игорь.
«В пресс-службе ФСБ на запрос нашей газеты ответили однозначно: такого подразделения нет и никогда не было.
Вполне может быть, что новых „неуловимых мстителей“ породила народная молва. Наши корреспонденты провели опрос среди населения и выяснили, что большинство граждан (67 %) в целом положительно относятся к идее существования такого подразделения и даже одобрили бы его деятельность. Еще 18 % считают существование „Белой стрелы“ невозможным. И только 15 % выразили опасения по поводу того, что такая боевая организация может служить не только интересам народа и государства, а вполне может выйти из-под контроля, чтобы выполнять „специальные заказы“. Общественное мнение в этом случае отражает надежду на существование хотя бы тайной справедливости. В наше время нетрудно представить себе этаких ушедших в катакомбы бравых парней, карающих распоясавшееся зло. Но остается главный вопрос: на кого нацелена „Белая стрела“?»
На мой немой вопрос Игорь показал мне запястье, на котором болтался такой же, как у меня, браслет. В первый раз я заметил точно: на нем была не стрела, а надпись на латыни: nec nulla nec omnis.
— Не все стрелы мимо? — так я перевел. — Что это значит?
— Стрелу Черномор мог доверить только такому снайперу, как ты. Любил дед почудить. Например, у Тридцать Второго надпись non sufficit una.
— Только одного не хватает. Это опять о тридцати трех?
— Не стоит искать в этом особого значения. Я и такую у одного читал: cuique suum reddit, что-то о том, что каждому возвращается свое. У Первого, например, на старославянском было написано «Мономах».
— А какое отношение к нам имеет Владимир Мономах?
— Никакого, кроме того, что он воин. Мономах — с греческого «единоборец». Я же говорю, чудачил дед.
— А не делают эти бляшки нас приметными?
— Да, но это единственная возможность информации, которую можно снять с трупа…
— Вместо солдатской бляхи?
— Типа того.
— Поэтому я тебе и толкую: не ищи особого значения в символах и словах на этих браслетах. Я, например, технарь, а у меня тут вовсе не «через тернии к звездам» написано. На них еще кодированная информация.
— Это на бронзе-то?
— А что? Надо было каждому дискету в карман сунуть? С секретными файлами? Подобную лабуду сейчас любой хакер как спичечный коробок взломает.
— Что мы делали здесь? — из тысячи вопросов моего «расширенного» знания о себе выплыл почему-то именно этот.
— Про себя-то я знаю. Но правил ты, конечно, не помнишь. Задание одной группы для другой такая же тайна, как для всего остального мира. Но так как обстоятельства чрезвычайные, про себя я тебе немного расскажу. Я тут маячки заядлым нефтяникам ставил. Два братка — рукопашники меня прикрывали. Из наружки ребята. Ну и еще у них работа была. На ней и погорели…
— И часто мы горим?
— Вместе с тобой третий раз за десять лет, — веско ответил Игорь, и я услышал в его голосе гордость за свою работу. Странно, но она передалась и мне.
— Слушай, я тут живу у одной прекрасной женщины, но получается, что последнее время вишу у нее на шее. В финансовом смысле…
— Тьфу! — стукнул себя ладонью по лбу Игорь. — А я сам недодумал! Возьми пару тысяч на первое время. Если в Москву поедем, я тебя еще профинансирую.
— Я потом верну.
Он посмотрел на меня с нескрываемым укором:
— Мы не даем друг другу взаймы, мы просто даем все, что нужно…
— Я не знал, — смутился я.
— Забыл, — поправил он.
Из кафе мы уходили по очереди, словно повстречавшиеся случайно давнишние знакомцы. Игорь взял адрес Риты и пообещал появиться в ближайшее время. Попросил меня пока не высовываться. И ушел, подмигнув мне, как и в начале разговора. А я еще некоторое время мог слушать уже буксующую речь бородатого дядьки.
— У нас теперь не Россия. У нас Хазарский каганат! Нравится тебе это, Коля, или нет, но так оно и есть. Москва — Саркел, Ельцин — дурак! Да не оглядывайся! Не подаст он на нас в суд за оскорбление чести и достоинства, их у него давно уж нет, а может, и отродясь не было! Помяни мое слово, он еще и уйдет красиво! На рельсы-то уж точно не ляжет, но как только найдет гаранта для гаранта конституции, чтобы спокойную маразматическую его старость не беспокоили, так и слиняет. И еще все мы возрыдаем от сочувствия к его мудрому шагу. Но я-то, Коля, о тебе пекусь! Ты-то себе какое место в этом Хазарском каганате определил? Словоблудием принародным заниматься? За тридцать сребреников? Уверяю тебя, это все те же Иудины деньги в рост пошли. С того времени столько накопилось, что теперь эти же деньги нашему правительству в долг дают да таким, как ты, журналюгам зарплату платят, чтоб складнее тявкали: «Распни его! Распни!»
— Ну ты уж загнул, Вася… Жить-то как-то надо…
— Пресмыкаться, а не жить! Жить или не жить — вот в чем вопрос? А для проституток вопрос с кем жить не важен, важно, чтобы платили!
— Пьем-то на мои! — обозлился наконец Коля.
И тут бородатый Вася вдруг повернулся в мою сторону и протрубил:
— Слышь, мужик, ты славянин?! Дай полтинник взаймы, а то от иудиной водки изжога невмочь! Или ты тоже на Хазарский каганат работаешь?
Из оставленных Игорем денег я выделил на нужды дискуссионных возлияний требуемый полтинник, заслужив от Васи: «Спасибо, брат», и вышел на улицу с мыслью о том, кому же я действительно служу? Или служил?
11
Утро… Раз в сезон у каждого человека бывает такое утро. У каждого, кто смотрит не только себе под ноги, но и на небо. Еще вчера покрылись льдом лужи, крупные хлопья снега и редкие градины сбивали с деревьев последнюю листву, и скелеты старых тополей и кленов вмерзали в серый стылый пейзаж, готовый обновиться девственной белизной. Еще вчера промозглый порывистый ветер бросался на прохожих, на непривычные трехцветные флаги над государственными учреждениями, хлопал дверями подъездов и швырял во все стороны горсти дождя и колких снежинок. И было непонятно: то ли это последний вздох лета, бешенство осени или первый удар зимы. Было грустно и неуютно.
И вот наступило это утро. Оно наступило раньше, чем проснулись усталые от пасмурной погоды дворники, оно подкралось к спящему городу и опустилось на него ворохом пушистых звезд, укрыв новорожденной галактикой неприбранность улиц и печальную наготу парков. Невидимый художник на скорую руку на каждом окне сделал наброски сказочных лесов и заснеженных полей. А огромные хлопья падали и падали, нарушая своим нежным маршем установившуюся вдруг непривычную тишину.
Я вышел на балкон, и неописуемый восторг охватил мою душу. Это был первый снег в моей второй жизни. Смешно звучит, так же, как непонятны мне были слезы, которые вдруг сами по себе потекли по моим щекам. И сердце!.. Сердце вдруг наполнилось сладкой болью красоты, да проснулось в нем неугасимое знание чего-то вечного. Вспомнилось что-то далекое и давно забытое, хранящееся в самых закутках памяти, что-то из «золотого века», из такого же заснеженного детства. Наверное, лишь с той разницей, что в детстве такое утро рождает мысли и мечты о большой и полной свершений жизни, а сегодня веяло уединенным покоем и умиротворением.
Еще вчера я был подавлен разговором с Игорем, вечером я отпаивал чаем замерзшую и уставшую Риту, а в программе «Время» вновь говорили о войне на Кавказе, о твердости премьер-министра, о решительности генералов и героизме российских солдат… Где-то за океаном, но в то же время под самым боком брюзжала своим вечным недовольством к России всезнающая Америка. Все это летело в распухающий низкими тучами эфир наступающей ночи. И близость Апокалипсиса была настолько ощутимой, что со спокойным смирением в душе можно было дотронуться сознанием до катастрофического бытия, чтобы услышать гулкие залпы в горах, увидеть, как всплывает вперемешку с минами дохлая рыба в Адриатическом море, самом чистом море планеты, загаженном теперь американскими бомбардировщиками, услышать, как в отместку за взрывы на сербской земле Господь встряхивает землю Турции, посылает ураганы в Европу и на счастливое Атлантическое побережье Западного полушария. Но сегодняшним утром все это осталось в каком-то далеком вчера. Вся наша суета, все наши устремления, все наше масштабное строительство, весь наш пышущий ядовитым зловонием прогресс, — все вдруг стало незначительным и преходящим. Нежное снежное утро вновь напомнило живущим о промысле Божьем, о вечной красоте, о том, что душа может и должна радоваться и рваться в небо, где и полагается ей быть. И кто знает, может, не один я плакал в это утро от непонятного мне осознания собственного бытия, от обычной, казалось бы, радости видеть первый снегопад и волшебное перевоплощение усталого и суетящегося мира.
Но всегда найдется кто-то, кто ничего не знает и не хочет знать о вечности, кто не увидит шедевра природы и развеет вокруг вас легкое облачко мистического созерцания какой-нибудь глупой бытовой потребностью. И если Рита неслышно стояла за моей спиной, и я чувствовал, что ей передается мое настроение, что она дышит в такт со мной, то рука соседки, нажавшая кнопку дверного звонка, внесла в установившуюся гармонию жуткий диссонанс, отозвавшийся испугом безвестности в наших душах.
— Ритуля, там тебя по телефону с работы!.. — и рассверлила меня глазами. С таким любопытством даже на музейные экспонаты не смотрят. Что с нее взять? Она живет этим подглядыванием за чужими мирами, ей будет о чем почесать язык с такими же, как она, утонувшими в обсуждении цен на продукты и тряпье, в утирании слез над высосанными из латиноамериканских пальцев сериалами.
— Я быстро, — Рита прищемила наглый взгляд, хлопнув дверью, а я в это время закрыл балконную, мысленно попрощавшись с чудным утром на долгие времена.
Вернувшись, Рита стала стремительно одеваться.
— Там в реанимации сестра заболела, нужно подменить, — с легкостью рассталась с положенным после дежурства выходным.
Я остался один на один со вчерашними мыслями о своем статусе в Хазарском каганате. Но ненадолго. В дверь снова позвонили.
На пороге стоял Игорь. Прострелив взглядом видимое с порога пространство квартиры, он без приглашения шагнул за порог, приглушенным голосом спросил:
— Ушла?
— Только что.
— Собирайся.
— Куда?
— По пути узнаешь… Поторопись. Воды можно?
Игорь, как оказалось, приехал на довольно потрепанной «тойоте». Но потрепанность ее оказалось чисто внешней. Работала она тихо и летела по городу так, что мне приходилось жмуриться на перекрестках и во время лавирования в потоках. К моему удивлению, проехав по кругу несколько кварталов, мы вернулись в тот же район и остановились возле кафе, где недавно проходила наша встреча.
— Снова сюда? — спросил я.
— Пункт номер один, — он не был расположен к подробным объяснениям, — здесь нас ждет человек, которого мы будем называть связным. Своеобразный агент влияния и просто хороший мужик. Зовут его Василий Иванович, как Чапаева.
Смутное предчувствие охватило меня, и я совсем не удивился, когда мы сели за столик того самого Васи, который митинговал тут за братьев славян с неким журналистом Колей. Смерив меня взглядом, мохнатый бородач небрежно достал из кармана полтинник и положил на стол передо мной:
— Должок. Благодарствуем.
— Да я не за этим, — смутился я.
— Ну точно — русский! — довольно хмыкнул он. — Это только русские легко дают в долг, а потом стесняются получить по счетам. Будто не свое берут. Странный мы все-таки народ. Все кого-то обидеть боимся. Я вот тут намедни размышлял и пришел к такому выводу по поводу эволюции. Эволюция все-таки была! Да-с! Но эволюция божественная, а не естественно-природная или как ее там? Бог, возможно, сначала экспериментировал с обезьянами. Потом уж стал по образу и подобию… Но так как дело для него было новым, он сначала сделал всякие так называемые нами древние народы: шумеров, иудеев, египтян… Ну а те, искушенные врагом рода человеческого, стали строить вавилонские башни, нарушать заветы, обижать друг друга. Поэтому Бог продолжал искать и творить не только по образу и подобию, но и по содержанию. Сотворил всяких там англосаксов, китайцев, индейцев… Неплохие, конечно, люди, но… Однажды у него получились русские. Эти, как появились, так сразу показали, что они и самые смиренные, и самые набожные. Они и родились от века с идеей помочь кому-нибудь, спасти весь мир… Вот с тех пор и помогают всем, спасают — мессианству ют, значит. А все остальные не могут врубиться в их природную доброту и принимают ее за военную хитрость. А если и начинают понимать, то еще больше ненавидят. Это, знаете, братцы, как в школе, двоечники ненавидят отличников. Группируются против отличников и даже бьют их. Те сначала, как люди благородные и воспитанные, терпят, а потом оказывается, что они не только отличники по математике, физике, чистописанию и прочим фундаментальным наукам, но и по боевой подготовке!..
— Во загнул, Василь Ваныч! — не выдержал наконец-то Игорь. — Мы вообще-то по делу.
— А я что, не по делу? — прищурился Василий Иванович.
Я, оказывается, заслушался ресторанного балагура. Уж не знаю, почему, но в его словах я вдруг почувствовал вкус правды. Рассуждать с такой легкостью об актах творения я бы не стал, но отношение к русскому мессианству в мире именно такое. Хотя откуда мне знать? Генетическая память или море начитанного нахлынуло?
— По делу нам надо вот что, — продолжил Игорь, — ты сказал мне, что раньше видел этого парня, — он кивнул на меня.
— Конечно, видел, он же мне полтинник одолжил.
— Я серьезно.
— А я? Он и в прошлый раз мне полтинник занял.
— Где? Когда? У меня полный провал памяти, точнее, ее полное отсутствие, — поторопился объяснить я.
— Знаю, знаю, — отмахнулся от меня Василий Иванович, как от назойливой мухи, — месяца два назад, в этом же кафе. Ты сам назвал пароль, сам подсел, но разговаривал со мной твой напарник. Скорее всего, из какого-нибудь отдела информации или наружки. Он наводил справки об «Интерросе» и о Копченом.
— Про «Интеррос» я уже слышал. Даже, если верить очевидцам, бывал там. А кто такой Копченый?
— Вор в законе, — Василий Иванович сообщил об этом так, будто речь шла о рядовом инженере с ближайшего неработающего завода. — Но я, честно говоря, об их связях ничего не слышал.
— А что, мой напарник нащупывал связь?
— Похоже, так.
— Чем занимается «Интеррос»?
— Чем еще у нас можно заниматься? Сидит на нефтяных и газовых трубах, подмял под себя груду бензоколонок, понастроил кучу престижных магазинов и третьесортных забегаловок, короче, всем, от чего руки в зелени.
— А что этот Мовшензон?
— Ничего. Фамилия сама за себя говорит. Внешне интеллигентный, умный человек. Как полагается, слегка картавит. Играет этакого благородного богатея, любит презентации и интервью, в которых довольно толково, с его точки зрения, рассуждает, как ему обустроить Россию. Короче — полный комплект. В советские времена был обычным проектировщиком нефтегазового научно-исследовательского института. Но во многие московские кабинеты двери ногой открывал. Особенно если за ними сидели люди с аналогичными фамилиями. Содержит четверть депутатов областной Думы и пару придурков в Государственной. Владеет одной из областных газет и рекламным агентством. Собственности за границей, что у меня воздуха карманах. Поэтому, ребятки, лучше вам самим спрашивать, что вас интересует. А то сводка длинной получится. Одной поллитрой не обойдемся.
Неожиданно беседу нашу прервали два чумазых мальца в замызганных, ободранных местами до ватина болоньевых куртках. Лет им было семь — девять.
— Дяденьки, дайте на хлебушек деткам без будущего, — в голос поканючили они, вытянув землистые ладошки.
Василий Иванович смерил их недобрым взглядом:
— Чё ж вы без будущего-то живете? Кто вас такому научил?
— В газете вычитали, — с готовностью сообщил тот, который был по виду старше и несколько наглее.
— Ага, значит, читать умеете?
— Да мы даже в школу ходим, когда попрошайничать не надо, а закурить дадите? — втирался в доверие старший.
— Профукали свое будущее, — сурово, но будто самому себе заметил Василий Иванович.
Мальчишки после такого приговора на всякий случай отступили подальше. Но Василий Иванович, а следом и мы достали мелочь, у кого какая была, и положили на край стола. Мигом она исчезла в кармане старшенького. Снова они отпрыгнули на почтительное расстояние, и старшенький повторил:
— А закурить?
— А по заднице? — нарочито злобно зыркнул на них Василий Иванович, и они затопали к выходу. При этом старшенький недовольно что-то бурчал. Мол, обидели мужика, закурить не дали. Василий Иванович проводил их туманным взглядом и определил: а ведь правда — ни пионерского прошлого, ни буржуазного будущего. Мягче нар вряд ли что попробуют.
— Никак привыкнуть не могу к людям на помойках и к мальцам вот таким с протянутыми ладошками, — признался я. — Вроде как я у них украл чего.
— Не совестись, — успокоил Игорь, — некоторых родители специально в нищенок рядят, чтоб заработать, некоторые так родителям-алкашам на опохмелку собирают. Ты тут при чем?
— Все мы тут при чем, — Василий Иванович ловко скрутил пробку с горлышка «Столичной» и плеснул каждому в стакан. — За тех, кто еще при чем! — объявил он довольно странный тост, но мы возражать не стали, потому как чувствовалась в его словах сердечная справедливость.
Дальше беседа пошла будто бы ни о чем. Василий Иванович, опрокидывая стакан за стаканом, не хмелел, а только суровел лицом, и рассказывал нам о раскладе областных и городских демократических сил. Получалось, что власть в городе принадлежит нескольким даже не кланам, а направлениям: высшим чиновникам областного масштаба, довольно крупной группировке азербайджанцев, захватившей все рынки и оптовые базы, нескольким бизнесменам высокого полета, среди которых Мовшензон относился к заоблачно-московским, паре свежих авторитетов и одному еще доперестроечному вору в законе по кличке Копченый. Прочие силы, партии и движения в зачет не шли, потому как ничего, кроме свободы слова, за собой не имели. Отдельной строкой выделялись ФСБ и УВД, которые, успевая соревновательно поддевать друг друга, занимали выжидательно-подбирательную позицию. То есть знали все и обо всех, но, исходя из новых демократических подходов к следственным органам, активные действия предпринимали только тогда, когда «клиенты» подставлялись настолько, что не взять их в оборот было все равно что подойти к окошечку кассы, где выдают зарплату, выстояв длинную очередь, и вежливо от нее отказаться. Все мало-мальски сильные люди тянулись к нефте- и газопроводам, подкладывали под свои разжиревшие попки системы бензоколонок, скупали недвижимость и отсылали прибыль по отработанным зеленым каналам за бугор. На Севере, где добывали черное и голубое золото, им потихоньку эти трубы перекрывали местные умельцы, но все ниточки так или иначе тянулись в первопрестольную. Там осуществлялся высший принцип демократии: от каждого по ясаку, каждому по потребностям, уровень которых определяет место на крайне разветвленной иерархической лестнице. В этом демократическом ликбезе я начал теряться, как в высшей математике, поэтому задал, пожалуй, самый дурацкий вопрос современности:
— Что такое демократия?
Игорь и Василий Иванович посмотрели на меня, как на блаженного. Но Василий Иванович все же ответил. Коротко и без дальнейших разъяснений:
— Демократия — это свобода… Свобода резать и быть зарезанным.
Более нужный вопрос задал Игорь:
— Как думаешь, Василь Ваныч, чего ребята хотели в этом «Интерросе» разнюхать?
— Думаю, связи с Кавказом.
— А Копченый здесь при чем?
— Они тут повоевали чуть-чуть. Видимо, решили подписать перемирие для ведения более важных и прибыльных дел.
— А что, Василий Иваныч, ты можешь о Маргарите Ивановне Калязиной сказать?
Меня передернуло. Выходит, Игорь копал во всех направлениях.
— Толком ничего сказать не могу. В больнице она работает аж с тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Первые мужья — коммерсанты средней руки. Связи у них мелкие, выше города не прыгают. А вот через ее руки много подстреленных братков прошло. Опять же о прямых контактах у меня никаких данных нет. Баба как баба. Красивая очень. Так что у Алексея губа не дура…
— Ну вы это… — состроил я обиженного, — в нижнем-то белье не копайтесь.
— Извини, — отмахнулся Игорь, — сейчас всякая мелочь важна. Будь ты обычным среднестатистическим гражданином, никому бы и в голову не пришло копаться в твоей кровати. А ты — стрелок. И сидишь ты не в окопе, а на нейтральной полосе, и лупят в тебя со всех калибров с обеих сторон. Так что, извини.
— Наверное, ты прав, — признал я, — просто я не могу привыкнуть…
— Да я тоже…
— Давайте полыхнем, ребята, за тех, кто на нейтральной полосе, — плеснул в стаканы Василий Иванович и хитро улыбнулся в бороду.
Трудно было из-за этой бороды понять, сколько ему лет. Над заросшим его лицом ярко сияли вечно смазанные алкоголем синие глаза. Синие, резкие и с каким-то тайнознанием в ультрамариновой глубине. Стоило ему задержать на мне взгляд, и мне начинало казаться, что я столкнулся глазами с самим Посейдоном этакого древнерусского образца.
— Да, скифы мы, — подмигнул он мне, прочитав мои мысли.
Я же в нем, как и в Игоре, не мог увидеть ничего, кроме суровой погруженности в какую-то изнурительную и напряженную работу, не приносящую никаких дивидендов, кроме седых волос в бороду.
— Надо ехать в Подмосковье, — решил Игорь.
— На базу? — спросил я.
— Да… Хотя на связь мне выйти не удалось.
— У тебя была связь?
— В том-то и дело, что была… А ты, Василий Иванович, пока пригляди здесь. Только в «Интеррос», пожалуйста, без нас со своими неофитами не суйся.
— Что за неофиты? — удивился я.
— Да Василий Иванович решил под старость лет в революционных вождей поиграть. Набрал себе сосунков и муштрует их…
— Эти сосунки, между прочим, и для вас информацию собирали, а если понадобится, они и партизанами станут. — Василий Иванович от обиды выпил без компании. — Вы-то, профессионалы хреновы, приезжаете на все готовенькое, пульнули и в кусты, а мы тут живем.
— Ну не кипятись, Василий Иванович, куда уж тебе без ординарцев-то…
— То-то, — согласился не обижаться Василий Иванович и теперь уже налил всем. Бутылка как раз опорожнилась. Почему-то подумалось, что выпитая им в одиночестве рюмка была точно просчитана, а глаз у него был наметан на разлив подобных жидкостей, как лазерный прицел.
— Ты, Василий Ваныч, справь, пожалуйста, Алексею Васильевичу паспорт за пару дней, а то в самолет не пустят. Сможешь?
— Смогу. Фамилию-то русскую писать?
— Да какая разница, — улыбнулся Игорь, поднимаясь из-за стола.
12
Когда вечером я сказал Рите, что, возможно, мне придется ненадолго уехать, она не удивилась. Только тень озабоченности скользнула по лицу. Но что-то с ней было не так. Посетовала тихо: вроде бы положено собирать вещи, а собирать нечего. Но откопала на антресолях довольно приличный кейс и вручила мне.
— Умывальные принадлежности и полотенце положить хватит, — и села у телевизора.
— Я еще не завтра еду, может, послезавтра, может, позже, — голос у меня дрогнул, — а ты завтра снова на дежурство?
— Нет.
— Выходной?
— Меня уволили.
— То есть как — уволили? Тебя? За что? Этот ваш главврач, Владимир Степанович, вроде неплохой мужик. За что?
— Владимир Степанович — хороший врач и по нынешним временам толковый руководитель. Он как раз тут ни при чем. Он вроде как спасает меня.
— От кого спасает?
— В реанимации умер мужчина с множественными огнестрельными ранениями. Дежурная бригада ничего не могла сделать. Там одна пуля у самого сердца, другая в печени, третья в черепе… Шансов — ноль. Но довезли его еще живым. Значит, врачи виноваты. А он из каких-то суперкрутых.
— Бред… — я действительно не мог понять, почему после смертельного ранения следует увольнять медиков, — тебя одну уволили?
— Нет, всю бригаду.
— Полный бред.
— Нас, может быть, когда все уляжется, еще возьмут обратно. Бандиты уже звонили главному, угрожали, даже счет выставили…
— Теперь врачи за всех убитых бандитов несут ответственность?
— Не знаю, — Рита вдруг заплакала.
Просто по ее лицу потекли слезы. Ни рыданий, ни всхлипов, просто потекли слезы. И от этого я почувствовал себя самым беспомощным мужчиной на свете. Мне даже не пришло в голову театрально сжать кулаки и поиграть желваками. Вот, мол, я какой герой, вот я как переживаю. Наверное, больше часа мы просто сидели молча. Я подумал о том, что можно было бы забрать Риту с собой, подальше от всех этих коматозников с пистолетами. Подальше от затхлых больничных запахов. Но как на это посмотрит Игорь? Я хоть и Тринадцатый, а он всего лишь Двадцать Седьмой, но на данный момент он был для меня Первым.
В конце концов я просто взял ее на руки и унес в постель. Она свернулась калачиком, и оставалось только укрыть ее пледом. Сам же остался сидеть рядом на краю. Мне казалось, о чем-то думаю, но, пожалуй, только казалось. Я опять силился что-то вспомнить. И проблески памяти всплыли все той же волной боли, заставившей меня зажмуриться до полного мрака и сжать челюсти до треска в ушах.
Панкратический прицел, как намагниченный, невидимым взглядом следовал за целью. Я был его продолжением. Невидимый луч взгляда через миллионы нервных окончаний соединялся с указательным пальцем, замершим на курке. Бесшумный «Винторез» давал мне всего пару минут преимущества, если меня засекут. Четыреста метров — это не два километра, если под рукой В-94.
Цель вела себя непринужденно…
Внешне благородный чернявый джентльмен в элегантном костюме и лаковых узконосых туфлях. Цепкие карие глаза над орлиным носом, пышные усы и белозубая улыбка под ними. Рядом два обленившихся от собственной значимости телохранителя — явно родственники. Какие-нибудь внучатые племянники. Мустафа Джафаров собственной персоной. Владелец двух рынков, четырех оптовых баз, многих мини- и супермаркетов. На нем «всего» пять трупов. Убрал славянских конкурентов. Вообще-то таких, как Джафаров, не трогают, потому как убирать их все равно что отмахиваться от гнуса в тайге. Убьешь одного, на его место сядет сотня. Но Мустафа зарвался. Обычный бизнес, игра в маленького хана ему наскучила, и Мустафа решил освоить торговлю живым товаром. Начал с поставки проституток в Турцию, а потом стал продавать детей. Девочек от 10 до 14 лет… Объявления в газетах об исчезновении подростков и горе родителей только забавляли его. Сам же слыл заботливым отцом. Работал чисто. Каждую новую жертву вычислял и отслеживал не меньше месяца, следы заметал мастерски. И даже если б его взяли, вряд ли удалось бы доказать его причастность. Сам он девочек не трогал, хотя и очень ему хотелось. А может, и…
Дыхание — ноль. Указательный поплыл нежно. «Винторез» глухо пукнул, выплюнув смерть. Мустафа, беседуя с каким-то из своих нукеров, как раз поворачивал голову, но до конца повернул только ее половину. Любоваться падением безмозглого тела было некогда, и хотя инструкция строго-настрого запрещала отстрел сопровождающих целей без боевой надобности (которая подразумевала, что стрелка засекли), я всадил в задницу одному из телохранителей такую же специальную пулю и откатился от чердачного окна с полным осознанием того, что когда он сядет, сидеть ему не придется. Каламбур мне этот понравился, и, наверное, я улыбался, как идиот, спускаясь с чердака в подъезд. Страховщик подмигнул моей улыбке, и открыл дверь специально приготовленной для временной базировки квартиры.
Что я испытывал?
Я каждый раз думал об этом. Ничего я не испытывал. Просто делал свою работу. После первого выстрела ощущение «палача» притупилось. Да и бывало, когда Черномор показывал документы на цель, перечисляя ее «заслуги», хотелось выбросить все снайперские винтовки, наплевать на предосторожности и умение быть невидимым и неслышимым, а просто схватить старый добрый АК-47, чтобы косить во все стороны от бедра не только цель, но и всех ее приближенных. Поэтому, после знакомства с документами, Черномор обычно «мариновал» нас в мертвой зоне, заставляя заниматься всякой фигней: играть в теннис, смотреть грустные мелодрамы, заниматься огородничеством… Да чего он только ни придумывал, чтобы голова исполнителя окончательно остыла. Аксиому Дзержинского о холодной голове, горячем сердце и чистых руках он повторял постоянно. С головой и сердцем все у нас было в порядке, а вот руки после работы мы тщательно мыли. Милое дело было сходить в сауну.
Я смог вспомнить только серые внимательные глаза Черномора. И фамилию его — Черноморец. Точно, генерал-майор Черноморец Сергей Андреевич. Больше пока ничего…
Это был не сон, а какая-то болевая форма наваждения. Я уже не сомневался, что в прошлой жизни мне приходилось стрелять в людей. Правильнее, наверное, будет сказать «отстреливать». Как бы это цинично ни звучало. И делал я это спокойно и уверенно. В целях установления высшей справедливости. Но кто позволил мне говорить пулями от имени высшей справедливости? Смог ли бы я сделать это сейчас?
Тихонько я вышел из квартиры и спустился на улицу. Сел на лавочку у подъезда.
Ночь сыпала в свою черноту белые снежные хлопья. Город спал, как психически нездоровый человек, который мечется и кричит во сне: то тут, то там проносились автомобили, доносились сирены милицейских патрулей, пьяные голоса на соседних улицах, гулко разносился стук вагонных колес, словно железная дорога находилась за ближайшим углом, в каждом доме горела дюжина окон, а за одним из них надрывалась от ревности популярная певица… По-моему, в «золотом веке» города спали крепче.
И в то же время ночь по-прежнему окутывала отдельно взятые миры бархатным одиночеством. Время казалось остановленным или, может, неспешно падающим вместе со снегом. А над головой и не пропасть космоса вовсе, а старое ватное одеяло, из которого сыплется… Снег.
— Не, я бы тоже посидел, но Васька велел в ларек сбегать, но, блин, я и пошел. Уходил, никого еще здесь не было! — рядом со мной на скамейку плюхнулся поддатый парень с полиэтиленовым кульком, в котором однозначно позвякивало. Что он хотел сказать? Похоже, он сам не знал. Ему нужна была аудитория. Такая ночь каждого трогает по-своему.
Я ничего не ответил.
— Анька там еще, — продолжил он, будто мне были понятны и важны все его дела и проблемы, все, что сейчас там происходит за одним из неспящих окон, — Васька щас с ней… Но… Блин… А меня послал… В ларек.
Он явно ждал от меня горячего взаимопонимания. Но мне было тошно от его пьяной и навязчивой простоты. Он влез в мое вселенское одиночество, как незваный гость в чистую квартиру, да еще и в грязной обуви.
— А мы с Анькой переглянулись, понимаешь?! — его вопрос прозвучал с угрозой, которая означала, что если я чего-то не понимаю, то автоматически становлюсь его врагом. Я кашлянул, и он, видимо, принял это как понимание и одобрение. — Знаешь, как это у мужика с бабой бывает, переглянулись — и все ясно! А Васька влез, сука. Он, блин, думает, если он при деньгах, ему и поперек никто не станет. Анька-то поддалась, ей деваться некуда.
— А квартира чья? — я сам от себя этого вопроса не ожидал.
— Анькина. Ну ты понимаешь? Мы же с ней переглянулись. Я ж, блин, всю ее бы щас взял!.. Там еще хачик один отрубился в соседней комнате, дружок Васькин. Васька со всякими чурками теперь дружбу водит. На базах у них затоваривается. Он и привел его Аньку подставить. Да тот со второй поллитровки в аут ушел. Так ему, черножопому, и надо. Ну…
— Ну, — согласился я.
— Так, может, накатишь? — он полез в пакет за бутылкой.
— Нет.
— Брезгуешь?
— Нет. Сердце болит.
— Во, блин! А мне туда идти неохота. Васька небось щас Нюрку-то подминает, а тут я с пузырями.
— Так вы же переглянулись?
— Я и говорю…
— Значит, надо идти и забирать свою Аньку, а Ваську попросить отвалить и хачика ему на плечо взвалить, — отрубил я.
— Ты че?! Васька же братан! — он вылупился на меня, как на инопланетянина.
— Тогда какого хрена ты мне жалуешься?! — аналогично вылупился на него я.
— А чё?! — насторожился он.
Новое знание новой жизни подсказало мне, что сейчас этому подпитому молодцу захочется набить морду мне, а не какому-то братану Ваське. Выяснять с ним отношения в мои планы не входило. Точнее, у меня не было планов. Я просто встал и ушел в подъезд. Собеседник мой пробурчал мне вслед что-то матерное, а я всерьез задумался: является ли он типичным россиянином, и если нет, то каков процентный состав подобных людей без будущего, да, пожалуй, и без прошлого. Хотя мне ли его судить? Я и сам вроде как без прошлого. А уж насчет будущего…
Рита разбудила меня нежным поцелуем. За все время нашего совместного бытия это случилось в первый раз. До сих пор внутри меня ровно в шесть утра срабатывал будильник, и я вставал раньше Риты, успевая к ее пробуждению принять душ, разогреть чайник и приготовить бутерброды. Сегодня все произошло наоборот. Удивительно, но, несмотря на вчерашние неприятности, у Риты было светлое и нежное настроение. Это позволило мне сделать вывод о том, что любящая женщина в ней сильнее всего остального.
Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я выходил из ванной.
— Игорь?
— Алексей?
— Ты готов?
— К чему?
— Самолет в одиннадцать тридцать.
— Я лечу не один.
— Рита?
— Да.
— Предупреждать надо. Придется покупать еще один билет. Тебе обязательно нужно втягивать ее в наши дела?
— Другого выхода нет. Потом все объясню.
— Правило номер один: или человек до конца с нами, либо его нет. Мы не на прогулку едем. Извини…
— Еще неизвестно, где она будет в большей безопасности.
— Не нравится мне все это, но чувствую, мое мнение ничего уже не изменит.
— Мое тоже.
— Встречаемся через час в аэропорту.
— Мы куда-то едем? — догадалась Рита, наливая чай.
— Похоже на то.
13
Не знаю, как мне леталось в прошлой жизни, но во время посадки я понял, что оглох. Летать на том свете было сплошным удовольствием. А плюхнуться из-под низких туч в Домодедово оказалось удовольствием сомнительным, особенно если обогатить его скрипом крыльев отслужившего все мыслимые сроки «ТУ-154». Казалось, он вот-вот рассыплется.
Дабы прийти в себя, мне потребовалось больше двух часов, которые мы потратили на то, чтобы, не заезжая в столицу, добраться до базы. Игорь прямо в аэропорту взял со стоянки видавшую виды «Волгу», но движок, как и в «тойоте», оказался на все сто.
Свернув с шоссе, мы углублялись в далеко не дачную зону. Во-первых, ехали по подмороженной грунтовке, ширины которой едва хватало для одной машины, во-вторых, лес вокруг был корявый и больной. Хилые березки и осины торчали во все стороны, словно были слепыми и не знали, где находится небо. Лишенные листвы, они вообще походили на развороченный артобстрелом частокол.
По мере углубления в этот лес из злой или печальной сказки Игорь суровел лицом.
— В чем дело? — спросил я.
— Ни одного заслона, не нравится мне это.
— Здесь что, летом болото? — кивнул я на обочину.
— Ага, — подтвердил Игорь и резко затормозил. — Все, дальше пойдем пешком, очень мне это не нравится. Как минимум три поста должно было быть. Нас же никто не остановил.
— Чем это чревато?
— Не знаю, но, похоже, пока мы прохлаждались в Сибири, здесь произошло что-то из ряда вон выходящее. Я не удивлюсь, если вместо базы мы увидим одну большую воронку или… Или вообще ничего не увидим.
Он обошел машину и стал рыться в багажнике. Затем, как будто так и полагается, из какого-то тайника извлек два пистолета системы Стечкина.
— На всякий случай, — подмигнул мне.
Рита, глядя на его приготовления, молчала, стараясь сделать вид, что ее ничто не удивляет, хоть гаубицу на дорогу выкатывай.
Воронки на месте базового лагеря не оказалось. Первое, что бросилось в глаза, — это полоса препятствий. Казалось, вот-вот прозвучит сигнал, и по ней задорно ринутся бойцы, а чуть в стороне будет самозабвенно щелкать секундомером старшина. Но щелкнул только предохранитель на пистолете Игоря. Я повторил его движение. Тишину над лагерем нарушало поскрипывание неглубокого снега под нашими ногами, да блажил неугомонный ворон, облюбовавший вышку, с которой когда-то бравые спецназовцы слетали вниз по канату. У ворона, похоже, был вмонтирован таймер, и он сипло каркал через каждые 10 секунд, нагнетая в неуютный пейзаж холодной пустоты и вселенского одиночества. С моей точки зрения, на этом поле не хватало только ломаных копий, ржавеющих мечей, конских и человеческих скелетов. И можно снимать фильм. «О, поле, поле, кто тебя усеял?..»
Игорь вел нас краем полосы препятствий на ее противоположную сторону, где человек знающий мог бы увидеть развалины огневого городка. В окопах уснули останки движущихся мишеней, никто не торопился собрать гильзы, за каждую из которых в старые добрые времена надо было отчитываться. А может, просто сдавали их как цветмет?
У самой кромки леса обнаружились два больших холма, в одном из которых обозначился облагороженный бетоном вход. Внутри меня еле уловимым движением царапнулась память. Я точно был здесь раньше. Был здесь довольно долго. Более того, невзирая на нынешнее запустение, я точно знал, что любил здесь быть.
За массивными стальными дверями оказался лифт, который не работал. Понажимав безуспешно какие-то кнопки, Игорь сделал заключение:
— Похоже, даже питание отключили.
— Автономное есть? — спросил я.
— Есть, но мы его сейчас не запустим. Придется воспользоваться аварийной лестницей. — Он открыл люк в полу, под которым обозначился глубокий черный квадрат с лестницей, ведущей до люка следующего уровня.
— Очень похоже на интерьер компьютерной игры, — заметила Рита. — У нас в регистратуре мужики в различные стрелялки резались. Там такие же казематы…
— Здесь совсем не казематы, — возразил Игорь и, зажав в зубах маленький фонарь, начал опускаться вниз. — А вообще женщины здесь только в погонах бывали… — проворчал из темноты.
Я последовал за ним. За мной — Рита. Взяв ее с собой, я вовсе не думал, что мы будем играть в казаки-разбойники.
Мы прошли насквозь два уровня. На третьем подземном этаже Игорь щелкнул рычагом на стене и отодвинул часть стены, оказавшейся дверью, за которой обозначился довольной длинный коридор.
— Может, все же работает? — Игорь отжал один из трех выключателей на стене, и тут же на потолке загорелись светло-фиолетовые продолговатые лампы.
— Автономное? — усомнился я.
— Аккумуляторы, часа на четыре хватит. Надеюсь, нам больше не понадобится.
Коридор представлял собой ряд дверей с обеих сторон, на которых были прикреплены банальные квартирные таблички. «1», «3», «10», «13»… У тринадцатого номера я замер. Я ничего не вспомнил, но просто понял, что это именно моя дверь. За ней находилась когда-то моя настоящая жизнь. Когда-то… Потому что, открыв ее, я увидел в полумраке аварийного освещения только мертвую мебель. Откидную кровать без белья, стол без ящиков, абсолютно пустые антресоли, и только поношенные кроссовки в углу позволяли думать о том, что здесь действительно кто-то когда-то жил… Все остальное заботливо переместилось в область тайн, недомолвок или просто было стерто вместе с моей памятью.
Игорю за своей двадцать седьмой дверью потребовалось значительно меньше времени, чтобы оценить ситуацию. Он тихо появился за моей спиной, отстранив стоявшую в дверном проеме Риту.
— Помчались отсюда, что-то здесь не так. Совсем не так, — он был серьезно озадачен. — Даже тайники пусты. Я надеялся найти хотя бы журнал дежурного, но все вычищено, будто здесь санитарная команда поработала. Поехали отсюда…
— Куда? — сам себя спросил я.
— Здесь неподалеку есть деревня, заедем, я попытаюсь там навести справки.
— Есть у кого?
— Да, свои люди.
Тем же путем мы выбрались наверх. Свежий морозный воздух заставил слезиться глаза. Тишину по-прежнему нарушал заведенный ворон. На душе было тоскливо, как у того солдата, который вернулся на пепелище родного дома.
Деревня оказалась всего в пяти-шести километрах от базы. Три десятка серых невзрачных домиков, та же подмороженная грунтовка, застиранный дождями флаг над сельсоветом, закрытые амбарными замками и треснутыми ставнями магазины с надписями из «золотого века»: «сельмаг» и «промтовары»… Безглазый трактор «Беларусь» со спущенными колесами около руин вероятного коровника и вполне еще живой «уазик»-таблетка у дома напротив. К нему и двинулся Игорь.
— Хороший знак, — буркнул он и постучал в окно дома, рядом с которым дремала машина.
Дернулась цветастая занавеска, и уже через полминуты открылась калитка. В проеме стояла крепкая высокая женщина, которая, увидев Игоря, всплеснула руками:
— Двадцать Седьмой?! Живой!..
— И не один, Варвара Кузьмовна, — подтвердил Игорь.
— Тринадцатый?! — разглядела она меня и чего-то испугалась. — Свят! Свят! Свят! Про него-то точно знаю, что его взорвали! Заходите же быстрее, у меня пироги с картошкой горячие, чай да и водочки, если хотите, налью. Девушка с вами?
— С нами, — подтвердил Игорь и уверенно пошел следом за причитающей Варварой Кузьмовной.
В доме было небогато, но чисто. Особенно сияли свежевыкрашенные полы. С божницы сурово смотрели на гостей иконы…
Когда-то Варенька Верхотурцева работала на ферме. И с ней еще два десятка веселых девчонок. И не мнились им покрытые лоском заморские страны, утыканные небоскребами города, сникерсы, а тем более тампаксы… А хватало для души окружающего простора, теплого молочного тумана июльским утром, когда голышом да с радостным визгом бросались они в воды чистого тихого пруда на околице. Да ходили всем гуртом по грибы и ягоды, судачили о деревенских мужиках и все ждали очередную серию «Хождения по мукам». Во всей деревне полюбился именно этот фильм.
Но потом перестали вдруг выдавать небольшую зарплату, продало начальство потихоньку колхозное стадо, трактора и другая техника разъехалась по дворам подсуетившихся мужиков, а у девчонок не осталось ничего, кроме никчемных в хозяйстве ваучеров и спивающихся от безделья и собственной слабости мужиков. Половина деревенских подалась в город да там и сгинула. И совсем бы беспросветно было жить, если б в один из серых дней не приехали в деревню военные. Позвали Варвару кормить солдатиков. Ее да подругу — Ольгу Ивановну. Чудно, правда, было не называть своих подопечных по именам, а только по номерам. И сколько ж всяких бумаг об этой тайной кухне подписать пришлось… Но любила она этих военных и по номерам и плакала, не скрываясь, если какой-нибудь из номеров не возвращался или задерживался с задания.
Причитая обо всем на свете, Варвара Кузьмовна накрывала на стол. Еще теплые пирожки, самовар, заварник, накрытый по старинке куклой в цветастом сарафане, хрустальные наперстки и бутылка водки. И, конечно, всё, что на огороде растет.
— Что с базой-то? — спросил наконец Игорь.
— В одночасье приказ пришел: базу закрыть, отряд расформировать, половине ребят предложили в Чечню поехать. Новые паспорта всем дали…
— А нам? — не выдержал я.
— Не гони, — одернул Игорь.
— Я сухпай им готовила. Еще удивилась, что Васильич меня не гонит, он как бы не в себе был. Вот я и слышала, когда Черноморец всех оставшихся построил и четко и ясно сказал, мол, жить им спокойно все равно не дадут. Ни при каком режиме, ни при каком строе, кроме того, при котором интересы страны и ее народа будут совпадать с интересами правительства. А сейчас, мол, им живые чистильщики поперек горла. Ведь все ждали, новый президент будет, утрясется все. Не дождались… Короче, за ними машины должны были в среду прийти, а они рано поутру в понедельник снялись. Я ж не спрашивала куда, понимала. Черноморец только напоследок сказал, чтоб я всю утварь и остатки провианта себе забрала, а если спросят, плечами пожимала. «Повоюем еще», — сказал. Но никто ко мне не явился. Правда, цельных три вертолета прилетали. Сама видела. Суетились там вояки в камуфляже, с автоматами суетились…
— Хорошо, что не заминировали, — дошло до меня.
— Не очень, — откликнулся Игорь, — мину-то я бы нашел, а вот мини-камеру… Возможно, срисовали нас, уходить надо. Не дай Бог на голову Кузьмовны грозу вызвать.
— Да чего уж с меня спрашивать? — всплеснула руками Кузьмовна. — Поешьте, милые, а уж потом думайте… Какой с меня спрос, с поварихи-то? Рядовая Верхотурцева! — и засмеялась. — Я ж вас живыми видеть уже не чаяла.
— А Тринадцатый у нас оттуда и вернулся, — Игорь кивнул на потолок.
— Ой-ой! Как же так?
— Взорвать его, Варвара Кузьмовна, как ты и сказала, точно хотели. Память вот теперь отказала.
— Ой, матушки…
— Да не переживай, живой — и то хорошо. А помнить нам лучше поменьше. Для здоровья вредно много помнить.
Женщина понимающе закивала.
Я между тем налегал на пирожки с картошкой. И такой у них был домашний вкус, ни с чем не сравнимый. Размеренность, покой, уют и то самое деревенское утро таяли у меня на языке. Вроде и не было у меня никогда дома, а если и был, то, может, в другой жизни, но возникшее чувство было мне знакомо. Никуда не хотелось уходить из этого нехитрого уюта, где немного пахло сырым деревом и свежевыстиранным бельем. А в окне узнаваемо серел унылый, но вечный деревенский пейзаж. Он действительно был ближе к звездной вечности, чем сияющие неоновой рекламой шумные улицы городов. Почему? Объяснить, наверное, можно, но проще просто чувствовать и знать. Знать без чьих-либо разъяснений с самого рождения.
— Куда? — спросил я у Игоря, когда мы снова оказались в кабине «Волги».
— Честно говоря, теперь уже и я не знаю. Но здесь оставаться нельзя. Да и незачем.
Рита, которая все это время молчала, робко предложила:
— Может, поедем к моей тетке, в Москву?
— В Москву — это сразу в Лефортово, — возразил Игорь. — Чему-чему, а Москве я и в добрые годы не верил. Денег у нас хоть до Сиднея хватит. Мой личный тайничок не нашли…
— Ехать куда-то не проблема, но ради чего ехать? — озадачился я. — Я думал, что смогу найти на базе ответ для этого, — и протянул Игорю связку ключей.
Он осмотрел ее без особого интереса:
— Это может быть что угодно: ключи от явочной квартиры, ключи от квартиры любовницы, вот только маленький, пожалуй, может содержать за своей дверцей нечто интересное. Во всяком случае, у меня подобного ничего не было. Личные ячейки на базе не запирались. Не было такой необходимости. Значит, этот ключик связан только с тобой. Правда, найти дверцу к нему много сложнее, чем открыть китайский ларец без такого ключа.
— Мы едем? — спросила Рита, которую, похоже, затронули легковесные рассуждения Игоря о возможной любовнице и свободном посещении жилья таковой. Тем более что в другом кармане у меня были ключи от квартиры Риты…
— Есть еще один вариант, — наморщил лоб Двадцать Седьмой, — тропический… Поедем к Немому в Сочи, — и врубил зажигание.
— Немой?
— Наш человек.
— У них там что, такое же подразделение имеется?
— У нас оно, судя по всему, имелось, а у них и не было. Мы туда, если была необходимость, ездили. А Немой — человек-амфибия, одиночка-самоучка, неуловимый мститель…
— А какое отношение он имеет к нам?
— Неисповедимы пути Господни. Он вышел на ту же цель, что и наши ребята. Хочешь верь, хочешь нет, у них даже залп одновременный получился. Одного авторитета обнуляли. Ну наши и заинтересовались, что за фирма конкурирующая. Вычислили его, взяли по-тихому, он Двадцать Третьему даже челюсть при задержании свернул, а Двадцать Шестому фингал под глаз успел поставить.
— Крутой дядя…
— Да уж…
— А почему — Немой?
— Он натурально немой, органы речи у него отсутствуют.
— От рождения?
— Ага, от рождения криминального капитализма. Он не только немой, но, как и мы, в списках не числится. В списках живых. Без вести пропавший.
На заднем сиденье от наших разговоров поежилась и забилась в угол Рита. Игорь заметил это в зеркало и недовольно покачал головой: присутствие Риты его беспокоило и даже раздражало. Он закончил разговор ёмко, но так же жестоко:
— У него убили жену и двух детей. На его глазах. А чтобы он при этом не орал, залили ему в рот соляную кислоту. Думали, он и так умрет, а он выжил. Выжил, чтобы до конца жизни мстить. Крепкий мужик оказался. Сначала замочил всех бандитов, которым был должен, а потом вошел во вкус, начал делать всех подряд. А внешне не скажешь — худой, невысокий, взгляд чуть печальный. В свободное «от работы» время растит в своем саду груши, яблоки, огородничает ну и, разумеется, молчит. Соседи его уважают.
— Зачем нам к нему? — спросил я.
— Отсидимся, оглядимся, отдохнем. Наши ребята к нему часто ездят. У него свой дом на Мамайке. В Сочи ему удобно работать, братва там часто всероссийские стрелки забивает. Ну часть из них там и остается. Мы ему не мешаем, а он нам часто оказывает услуги.
— Как Василий Иванович в Тюмени?
Игорь с недоверием посмотрел на отражение Риты в зеркале и довольно прохладно заметил:
— Имена хороших людей вслух не произносят.
— Извини.
— Бог простит. От Сочи опять же до Чечни недалеко. Может, Немой что-нибудь о наших и знает. Черкнет пару строк. Немногословный он. Я у него как-то спросил, сколько ему лет. И знаешь, что он отписал?
— Ну?
— Вторую жизнь живу.
— Да я вроде тоже.
14
В Армавире Рита затосковала и стала робко проситься домой.
— До побережья рукой подать. Там хоть сейчас и не пляжный сезон, но все равно дышится легче, — попытался подбодрить ее Игорь.
— Приедем — позвонишь, узнаешь, может, улеглось все в вашей реанимации. Недельку отдохнешь, и, если не захочешь остаться, мы посадим тебя на самолет.
— А ты? — она виновато смотрела на меня в зеркало. — Неужели тебе нельзя просто жить? Для этого у тебя есть все…
— Даже поддельный паспорт, — вставил Игорь.
— Ты не навоевался? — словно не слышала его слов.
— Не знаю, — смутился я, — точнее, не помню. Но что-то заставляет меня идти дальше.
— В тех, кто стреляет, всегда и обязательно тоже кто-то стреляет, — голос у Риты надломился и поплыл, вот-вот заплачет.
— Мы как раз те, кто стреляет во вторую очередь, — заметил Игорь.
Некоторое время все молчали. Игорь смотрел на дорогу. Почти трое суток он бессменно сидел за рулем. Как выяснилось, водитель я был (или стал) неважнецкий. Рита смотрела в окно. Я тоже.
— Если хотите, я обоих вас в Адлере посажу на самолет. Действительно, стоит ли лезть в свое прошлое, если оттуда пахнет порохом и оно периодически взрывается?.. А будущее гарантирует относительный покой рядом с прекрасной любящей женщиной.
— А чем лучше прошлое, которое может выстрелить без предупреждения? Может ли быть наградой за любовь прекрасной женщине ее присутствие в эпицентре взрыва, даже если она находится в неведении о такой громкой и яркой перспективе? — по-другому я своего выбора объяснить не мог.
— Самое неприятное во всем этом: мы не знаем, кому достались документы из штаба. Вывез ли их Черноморец? Где еще могли находиться наши досье? Как их используют? Может, мы уже объявлены во всероссийский розыск как отъявленные душегубы? — такое резюме сделал Двадцать Седьмой.
— А кто мы, если не ду..? — возразил я вопросом гуманного с некоторых пор человека.
Игорь резко оборвал меня словами Черноморца:
— Мы даже не чистильщики, мы — удерживающие. Были…
Полдня после этого разговора мы молчали. Разговорились только к вечеру. Я живо интересовался позднеосенним субтропическим пейзажем. Игорь рассказал мне, когда и при каких обстоятельствах здесь выпадает снег. О скользких горных дорогах. Об уловителях на обочине. Заговорила и Рита.
— Может, стоит уехать не только отсюда или откуда-то еще? Может, стоит вообще отсюда уехать? Уехать из этой страны? — наверное, это был ее последний козырь.
— Понимаете, Маргарита Ивановна, — просветительским холодным тоном начал отвечать Игорь, — я не помню свою маму, но мне никогда не пришло бы в голову называть ее «эта женщина». Единственное, что я помню и знаю из не очень-то радужного детства, как вы изволили выразиться, «эта страна». Больше у меня ни хрена нет. Ничего, кроме ее чуть печальных, малоухоженных просторов. И ничего в жизни мне не доставляло такого удовольствия, как видеть и любить «эту страну». Может, меня и воспитали так, но я считаю, что я воспитан правильнее, чем безродные, пусть и очень умные ублюдки, которые не способны ни защищать, ни любить, ни понимать «эту страну», потому что не умеют понимать ничего, кроме своей задницы. Да они и женщину по-настоящему любить не способны, а только из собственных эгоистических интересов. Да и защитить они ее тоже не смогут. И родная мать им нужна только как гарант их законного происхождения и безбедного существования до определенного момента развития! Простите…
— А у вас есть женщина? — робко спросила Рита.
— Нет и, наверное, не было. Сразу оговорюсь, наша работа здесь ни при чем. Ребят, которые нашли себе семейное счастье, легко переводили на другую работу, где они были так же полезны. Трудно сосчитать, сколько добрых солдат они вырастили. А вообще-то через два года я должен был пойти на пенсию…
— Неужели?
— Угу, и я бы очень хотел, чтобы у меня был домик, подобный тому, в который мы сейчас едем.
15
Двухэтажный домик был построен из серых крупных блоков, венчала его красная черепичная крыша. Он находился в глубине просторного сада и был малозаметен среди десятков подобных, внешне не очень шикарных домов в этом районе. Где-то в километре ниже по-осеннему бурчало море, а здесь было тихо. Улочки с названиями Анапская или Донская мало привлекали отдыхающих. Сюда они заходили только для того, чтобы купить у хозяев дешевые фрукты и овощи. Но сейчас был уже не сезон. Вынужденный летаргический сон окутал курортную зону. Кое-где в заскучавших, посеревших садах бродили с граблями люди, собирая в кучи мусор и жухлую листву. Удивительно, снегом здесь не пахло, но из-за стылой влажности казалось, что на Черноморском побережье значительно холодней, чем там, где землю уже сковывали первые морозы.
Миновав калитку, мы по выложенной плиткой тропинке подошли к двери. Игорь нажал на кнопку звонка. Довольно долгое время ответом на наше вторжение была тишина. Минуты через три дверь открыл невысокий седой мужчина в клетчатой рубахе и джинсах. Он молча и невыразительно кивнул Игорю, затем мне, чуть прищурился на Риту и жестом пригласил нас войти.
— Привет, Андрей Викторович, — уже в прихожей озвучил приветствие Игорь, и я впервые услышал, как зовут Немого. — Это Тринадцатый, у него память отшибло, — кивнул он на меня.
Немой посмотрел вопросительно: «Где? Когда? Как?».
— На том свете, — пояснил Двадцать Седьмой.
Избавившись от обуви, мы оказались на просторной кухне, где Андрей Викторович в считанные минуты сварганил чай, бутерброды и достал большую бутыль домашнего вина. Когда все разместились за столом, Игорь попросил хозяина:
— Ты бы взял записульку какую, поговорить надо.
Андрей Викторович взял лист бумаги и огрызок карандаша.
Именно этот карандаш заставил в очередной раз вздрогнуть мою память. Особенно то, как держал его в руках Немой. Я вдруг отчетливо вспомнил, что именно так держал подобный огрызок карандаша мой отец, работая с бумагами. Я увидел его, сидящего за столом, погруженного в какие-то одному ему понятные размышления и отчеты, задумчиво покусывающего незаточенный конец карандаша.
Я внимательно посмотрел на хозяина дома, но не смог проникнуть сквозь туманную, чуть печальную пелену взгляда его серых, точнее уже почти бесцветных глаз.
Там не было отчаяния, но там была густая пустота, начинающаяся и кончающаяся в бесконечности. Там уже не было тревожащих этого человека образов, зато на дне этой бесконечной пустоты лежала усталость. В глубине же этой усталости можно было прочитать ожидание. Ожидание того, что кто-то оборвет эту бесконечную нить пустоты. И ожидание было помножено на равнодушие к собственной смерти, а смерть выступала избавлением.
Если отчаяние — смертный грех, то как тогда назвать отчаянного человека? Грешником? Но мы-то понимаем под этим безумие храбрости. И как быть с тем, что данное безумие храбрости направлено на борьбу со злом. Тут, конечно, впору дать слово многочисленным знатокам права, которые основательно докажут, что человек, уничтожающий преступников без суда, сам преступник. Но Андрею Викторовичу на этих защитников прав человека давно было наплевать. Он между тем писал ответ Игорю на один из поставленных вопросов: «Был только Черноморец, пожил неделю, сказал, что делу конец, ушли врассыпную. Куда поедет дальше, не сообщил. Что на базе?»
— Нет больше базы, Немой. Думали, дотянем до нового президента, пригодимся. Хрен там!
Немой понимающе кивнул. Карандаш вывел новый вопрос:
«Что собираетесь делать?»
— Можно мы у тебя перекантуемся несколько дней? Отсидимся. Да и просто отдохнуть не мешает. У тебя у самого-то срочных дел нету? — хитро прищурился Двадцать Седьмой.
«Нет. Сезон закончился. Сад к зиме готовлю. Живите, сколько понадобится. Но меня, по-моему, срисовали».
— Как?
«Люди странные приходили. Прикид, как у банкиров, машины тоже, разговоры с двойным дном. Работу предлагали. В общество какое-то вступить».
— А ты?
«Я ж немой, хрена ли я им скажу. Отмолчался. Вином угостил. Обещали еще раз навестить. Дали время подумать».
— А ты говоришь — не сезон, — задумался Игорь. — Где мог засветиться?
Немой пожал плечами.
— Полагаю, они тебя за киллера приняли. Значит, все же где-то засветился. Может, так же, как и с нашими. Тут и нас срисуют. Надо Риту все же отправить… — Двадцать Седьмой посмотрел на меня с вопросом.
Я в свою очередь посмотрел на Риту.
— А я, наоборот, передумала, — огорошила нас она. — Хотя бы несколько дней я хотела бы побыть с вами. Не думаю, что моя личность будет кому-нибудь интересна. А мне хотелось бы взглянуть на море зимой. Никогда не видела.
Андрей Викторович черкнул еще пару слов:
«Ваши комнаты наверху, девушке — окна в сад, вам — на дорогу. Располагайтесь».
Похоже, он не хотел присутствовать при выяснении отношений и под видом хозяйственной надобности вышел в сад. Но никакого выяснения не произошло, Игорь только вздохнул и махнул рукой: играйте по вашим новым правилам, мне становится все равно.
Комнаты оказались светлыми и просторными. Будто и были приготовлены на случай превращения дома в гостиницу. В каждой комнате — двуспальная кровать, небольшой телевизор, холодильник. Кроме того, на втором этаже оказалось целых две ванные комнаты. Так что при всей внешней невзрачности этого дома, внутри он оказался куда богаче и уютнее. Судя по всему, Немой имел на это средства. Вот только из какой жизни: из прошлой или из нынешней? Естественно, спрашивать его об этом никому бы не пришло на ум.
Сначала Рита захотела поселиться в отдельной комнате, любезно предложенной Андреем Викторовичем, но несколько минут спустя вместе с сумкой появилась в моей.
— Ты знаешь, одна я уже набылась, — интересно выразилась, — можно, я побуду с тобой. Потеснишься?
— Угу, — обрадовано кивнул я.
16
Две машины подъехали к воротам три дня спустя. Два черных лаковых «лексуса», из которых вышли такие же лаковые господа в сопровождении четырех мордоворотов, одетых в лощеные костюмчики, напоминавших в связи с этим банальных ресторанных вышибал. Те и другие держали себя так, будто прибыли на международный симпозиум. Один из телохранителей предупредительно нажал звонок на воротах, но Немой уже и так шел открывать.
Мы втроем наблюдали из окна, как Андрей Викторович открыл дверь и направился к дому, словно за его спиной осталась пустота. Гости, нисколько не смутившись, двинулись за ним вслед. Разместил он их в той же кухне, что и нас в первый день. Двое нукеров остались у входа. Водители в машинах. Двое вошли с хозяевами. Немой налил всем четверым домашнего вина, причем в первую очередь подал бокалы охранникам, поставил на горелку чайник. Телохранители вопросительно посмотрели на хозяев, и, вероятно, получив одобрение, отпили по глотку. Всю эту картину мы наблюдали уже сквозь проем лестничного пролета. Хозяев при этом не было видно.
— У вас, мы слышали, гости? — заговорил въедливый, как зубная бормашина, но от природы язвительно вежливый голос.
Естественно, Немой промолчал. Тогда вопрос задал другой, не менее неприятный голос, но уже баритон, хотя и без ядовито-слащавого оттенка.
— Может быть, они спустятся к нам? Мы же не из прокуратуры и не собираемся вести расследование по поводу их участия в незаконных вооруженных формированиях.
Игорь после этих слов поморщился и прошептал:
— Срисовали…
Между тем баритон продолжал:
— Мы прибыли сюда с Симоном Давидовичем, чтобы сделать вам и вашим друзьям несколько выгодных предложений.
— Нам пора познакомиться с этими джентльменами, пойдем вниз, — позвал Двадцать Седьмой, — в прятки с ними играть бесполезно.
— Послушаем, чего хотят, — согласился я и кивнул Рите. — А ты останься.
Она пожала плечами.
Сидящие в мягких креслах люди оказались не такими уж и лощеными, как показалось, когда мы их рассматривали из окна. Разве что — костюмы и обувь. У щуплого Симона Давидовича на лице были красные пятна, похожие на следы псориаза, волосы прилизаны, но возникало ощущение, что он не мыл голову уже пару недель, отчего на плечах красовались целые сугробы перхоти. Примечательным был его небольшой, совсем не семитский носик, над которым тренированной добротой горели карие глазки. Второй больше походил на легализовавшегося авторитета, который теперь является каким-нибудь начальником финансового отдела областной администрации, регулярно отчисляя за свою спокойную безбедную жизнь определенные суммы братве из государственного или муниципального бюджета. Этот хоть не старался казаться добрым и внимательным. Он привык чувствовать себя хозяином положения и всячески старался продемонстрировать это. Огромная, слегка выступающая вперед челюсть придавала каждому его слову нужный вес. Зато я представил себе движение этих пищедробильных жерновов, когда он нервничал. В такие моменты вместе с увесистыми словами изо рта его должны клочьями лететь слюни. Кроме того, глаза его венчали огромные надбровные дуги, определяющие его недалеких неандертальских предков. Короче, до Аполлона ребятам было чуть меньше, чем Бобу Марли.
Зато разговаривали они так, будто мы пришли на прием к психотерапевтам.
— Уважаемые мои, — нежно обратился к нам Симон Давидович, — мы многое о вас знаем, несмотря на крайнюю засекреченность вашего постсоветского предприятия. И, уравнивая шансы нашей беседы, мы, разумеется, расскажем о себе. Вас, конечно, интересует источник утечки информации, но пусть вас это не беспокоит, потому как дальше нас она не утекла. А поделился с нами государственными тайнами сам президент. Последнее время ему все сложнее держать ситуацию под контролем. Возраст, болезни…
— И маразм… Всенародно избранный… — вставил Игорь.
— Как вам будет угодно. Оставим кремлевского старца. Нам важнее определить наши собственные отношения, чем отношение к нему. — Симон Давидович добыл из золотого портсигара сигарету, к нему тут же подскочил с упредительной зажигалкой охранник.
Андрей Викторович, откровенно поморщившись, достал из серванта пепельницу и поставил ее перед гостем.
— Так вот, — продолжил Симон Давидович после аппетитной затяжки, — мы относимся к категории людей, которые, простите за термин, коллекционируют профессионалов во многих видах деятельности. У нас душа кровью обливается, когда мы видим их не при деле. Сразу опережу ваши вопросы: несколько человек из вашего отряда уже дали согласие на работу с нами. Мы дали им работу и высокие оклады, а они получили покровительство и защиту на самом высоком уровне. А главное — они легализовались. У них появились имена, настоящие дома, и они могут обзавестись семьями. Андрея Викторовича в этом случае мы считаем самородком, этаким любителем, который дорос до вершин мастерства.
— Ну а что у вас придумано на случай нашего отказа? — напрямую спросил я.
— Ничего, — нежно улыбнулся Симон Давидович, — не хотите, не надо. Нет ничего хуже, чем просто купленные, а не идейные слуги. Мы просто оставим вас один на один с этим жестоким миром. Вот, например, Андрею Викторовичу осталось совсем немного, чтобы его вычислили…
— Вот только не знаем, кто будет первым, братва или РУБОП, — едко хохотнул второй, но тут же осекся, обоженный ледяным взглядом Симона Давидовича.
— Не надо, Леня, нельзя так разговаривать с людьми, которым не знакомо чувство страха, это тебе не кислопузые коммерсанты.
На какой-то момент Леня стушевался, я в это время смотрел на него.
Последнее время Леня думал только о девятнадцатилетней Яне, которую увез в свой особняк прямо с подиума. Он не то чтобы отошел от дел, он просто смотрел на все вокруг сквозь легкий туман поздней любви. Стоило ему вспомнить их ночное сумасшествие, доводящее его то до звериной страсти, то до незнакомой с детства отеческой нежности, и у него начинала кружиться голова.
Вот и сейчас, поняв, что встрял невпопад, Леня мысленно отмахнулся от своего заумного партнера и ярко представил себе, как сегодня утром Яна голышом сидела на его груди и, накручивая на пальцы нежные русые локоны, мечтала о том, как они уедут на какой-нибудь островок, подальше от этой умирающей, но вечно ждущей перемен страны. И Леня буквально стоял на краю обрыва, готовый бросить все дела, перестать чувствовать себя вершителем судеб и броситься с этой длинноногой синеглазой феей в свободный полет. И даже не верилось, что нынче ему стукнет сорок пять. Он ощущал себя, как минимум, тридцатилетним. Но игра, в которую он играл последние двадцать лет, была похожа на употребление сильного наркотика. Каждый день он просыпался с мыслью, что пора лечь на дно, всех денег не заработаешь, назначал себе сроки эвакуации на предусмотренные и хорошо обеспеченные запасные аэродромы, но каждым новым утром откладывал этот шаг по принципу: ну еще чуть-чуть.
— Того, что у тебя есть, тебе хватит до конца жизни? — спросила как-то фея.
— На пять, — прокрутив движимое и недвижимое, ответил Леонид Васильевич.
— Чего на пять? — поняла, но не поверила Яна.
— Жизней, — нахмурился он.
— Тогда зачем тебе еще?
— Все берут и я тоже, — сказал и сам понял, каким идиотизмом отдает эта фраза.
— И за какие идеи мы должны стать слугами? — Игорь с легкой иронией смотрел на Симона Давидовича.
— Прозвучит это банально, — посерьезнел Симон Давидович, — но главной для нас является идея свободы. На ней строится все, из нее вытекает все. Свобода личности, свобода предпринимательства, свобода совести…
— Конституция? — опередил Игорь.
— Не совсем, — поморщился Симон Давидович. — Скорее, речь идет о мировом устройстве, нежели об отдельно взятой стране, ну и, разумеется, о каждом отдельно взятом индивидууме. Вот, например, ваш сослуживец — Никита Васильевич Бесогонов…
Тело мое прошила молния. Он утверждал то, в чем я еще сомневался, как в недавно приснившемся.
— Совсем недавно он был абсолютно свободен. У него не было даже имени, хотя вы к этому и привыкшие, но у него не было и памяти, не было никаких заскорузлых обязательств перед этим миром, кроме одного — жить и радоваться. У вас, Игорь Иванович (я посмотрел на Игоря, он незаметно кивнул: да, мол, это тоже мое настоящее имя), сейчас тоже нет никаких обязательств. И вытекает это утверждение из того, что вас просто выбросили, даже не обеспечив пенсионного пособия. Разве достойно такое государство таких верных солдат, как вы? Оно и обычных-то периодически предает.
— Не следует путать государство и правительство, — возразил Игорь.
— Не стоит сопоставлять термины, милейший. История располагает массой примеров, позволяющих утверждать, что любое государство, выражаемое в тот или иной период своего существования тем или иным правительством, рассматривает своих граждан, а тем более солдат, как винтики, которыми легко можно пожертвовать ради общего благосостояния всего механизма. Винтики взаимозаменяемы. Главное, чтобы резьба совпадала. А уж моральная сторона дела легко облекается в рамки необходимости или жертвенности исходя из конкретной ситуации.
— Вы можете предложить что-то лучше?
— Об этом и речь! — оживился Симон Давидович. — Мы за верность платим верностью. При этом наша верность подкрепляется массой гарантий и завидным материальным обеспечением. У нас нет ничего похожего на государство, потому что мы уже давно выше его.
— Насколько давно?
— Чуть меньше, чем существует цивилизация, — глаза Симона Давидовича напряженно сузились, проникая в наше впечатление.
— А нам, соответственно, отводится очередная роль чистильщиков? — в моих глазах он точно ничего не прочитал, кроме этого вопроса.
— Да что вы, — аж взмахнул обеими руками Симон Давидович, — мы, конечно, не брезгуем такими методами, но они являются крайними. Для того чтобы убивать, существуют убийцы, в вашем случае мы говорим о солдатах.
— У вас что, есть армия?
— В самом прямом и полном смысле этого слова.
— Наемники?
— Солдаты, которым в отличие от обычной армии платят. О которых заботятся и которых не выбрасывают на помойку истории.
— И где ваша армия выполняет боевые задачи?
— Везде. Я же сказал, что мы выше государства. При этом роль ее не менее благородна, нежели у тех, которые якобы стоят на страже родины, она защищает идею.
— Сколько мы стоим? — спросил Игорь.
— Три тысячи долларов в месяц каждый, плюс обмундирование, высококалорийное питание и месячный отпуск в любой точке земного шара.
Игорь присвистнул.
— Больше, чем в иностранном легионе.
— А то?! — включился Леня.
— Мы согласны, — вдруг решил за всех Игорь.
— Так сразу? — хитро прищурился Симон Давидович.
— А что, есть альтернатива? — спокойно выдержал его взгляд Двадцать Седьмой.
Нам с Немым ничего не оставалось, как только сохранять каменные выражения на своих лицах.
— Верность за верность, — напомнил Симон Давидович, — за предательство, сами понимаете… Даже больше, чем смерть. Смерти, вы, насколько я имею представление, боитесь меньше, чем все остальные граждане этой усталой страны. Правда, Никита Васильевич? — он попытался мне искренне улыбнуться.
— За то время, пока я Там был, я не успел определить, боюсь я этого или нет. Совсем, знаете ли, другие впечатления, — парировал я.
Какое-то время он не отводил глаз, и мне пришлось выдержать этот всезнающий взгляд. Я не мог прочитать его, а он, надеюсь, не мог прочитать меня.
Он молча протянул каждому из нас визитки, в которых, кроме адреса, было указано заранее назначенное время.
— Только не дурите, братаны, — почти вежливо предупредил Леня.
Когда они удалились за ворота, Игорь ответил на наш незаданный вопрос своим вопросом:
— Что лучше, братцы, танец на минном поле или присутствие во вражеском штабе?
Андрей Викторович снова взялся за карандаш.
«У меня есть такой же тихий домик под Краснодаром», написал он.
— Мы даже до него не доедем, — ответил Двадцать Седьмой.
— Будем играть в разведчиков? — то ли спросил, то ли уже согласился я.
— М-да… В разведчиков, у которых нет базы, нет легенды и которые даже не знают, против кого воюют.
«От них за версту тянет новым мировым порядком», — написал Немой.
— Ты что-то об этом знаешь, Андрей Викторович?
«В прошлой жизни я был историком и даже защитил кандидатскую. Я изучал тайные общества. Похоже, мы имеем дело с ребятами, которые очень серьезно играют именно в эти игры».
— Как же тебя в бизнес-то угораздило?
«Так же, как и всех, кому на хлеб с маслом не хватало».
Сверху между тем спустилась Рита.
— Никита? Никита Васильевич? — внимательно посмотрела она на меня. — Скажи мне, Никита Васильевич, когда в нашей стране закончится первоначальное накопление-ограбление и начнется нормальная мирная жизнь?
«Никогда! — вдруг написал Немой и, немного подумав, добавил: — Эта страна с 1917 года не наша». Спорить с этим утверждением никто не стал. Лишь Игорь, подержав листок в руках, добавил:
— Знаете, Маргарита Ивановна, когда-то давным-давно на северном побережье Африки был процветающий город Карфаген. И был он настолько процветающий, что не давал покоя великому Риму. Один из римских полководцев, выступая на заседании сената, каждую свою речь, какого бы вопроса она ни касалась, заканчивал фразой: «Карфаген должен быть разрушен». И в конце концов он был разрушен в результате нескольких Пунических войн. Его развалины — всемирный исторический памятник… Мне иногда кажется, что наша страна — это и есть последний Карфаген, который с самого начала своего существования не дает покоя всем соседям. Российская империя — единственная, созданная не на крови, народы, населявшие ее необъятные просторы, не притеснялись так, как это было, к примеру, в Римской империи или, возьмем поближе, в Британской. Жаль, нет с нами Василия Ивановича, он бы лучше рассказал. Короче, просто представьте себе, как на заседании генерального штаба НАТО, ЕЭС, МВФ, а может, даже и ООН какой-нибудь дядя в белой сорочке и шикарном фраке, глядя на остатки Российской империи, скрипит зубами и всякий раз с новой интонацией произносит: «Карфаген должен быть разрушен»…
ЧАСТЬ 2
1
НАС разделили. Этого следовало ожидать. Игорь предполагал такой исход еще в тот памятный вечер. Для подобного случая он разработал систему выхода на связь. Единственным связующим звеном оставался адрес Риты. Меня, как он и рассчитывал, отправили обратно, в Сибирь. «В ссылку», — пошутил он. Отправили и будто бы забыли. Кончился ноябрь, затем декабрь, затем аванс, выданный вежливо-предупредительным Симоном Давидовичем, с которым у нас состоялась еще одна встреча в гостинице «Жемчужная». Оделив нас приличными пачками долларов в качестве аванса, он под бурчащий аккомпанемент Лени выдал каждому инструкции, определил место назначения и пожелал от души отдохнуть.
Так мы с Ритой вернулись в заснеженный край. В заснеженный рай. В разнеженный рай.
За два месяца я прочитал гору литературы, включая энциклопедии и справочные издания, восполняя пробелы в памяти. Два месяца я выходил на улицу только ради двухчасовой прогулки и для того, чтобы встретить Риту, когда она возвращалась с работы. Слава Богу, в больнице уже через неделю после нашего отъезда все улеглось. Бандиты даже принесли извинения и выплатили всем пострадавшим работникам компенсацию за нанесенный моральный ущерб. Погорячились, мол. Понятное дело, кто ж их стреляные и резаные дырки латать будет, если после каждого летального случая медиков отстреливать и увольнять. Погорячились…
Два месяца не происходило ничего, кроме нежности и наших тихих разговоров. Мы не ходили в театры и кино, мы вообще закрылись в нашем маленьком мирке, позволяя ненадолго вторгаться в нашу спальню только обезумевшему от населявших его параноиков телевизору. Два месяца не было вестей от Игоря и Немого. Два раза за два эти месяца я в условленные с Игорем даты — 27 ноября и 27 декабря ходил на запасную явку. Но Василий Иванович отрицательно качал головой. К нему я не приближался, дав понять, что живу под колпаком. Он смотрел на меня и сквозь меня понимающе печально, попивая неизменную «Столичную». Точно так Штирлиц смотрел на свою жену в немецком кабаке в одно из мгновений весны. А я выпивал бокал вина и уходил ни с чем.
В последний день года шел мягкий пушистый снег. Он валил с близкого неба огромными хлопьями, сквозь махровую пелену которых едва крались автобусы, троллейбусы и автомобили. Прохожие, точно ожившие снеговики, торопились сделать последние праздничные покупки, торопились домой и в гости, и торопливость эта выглядела смешно. Город населяли снежные люди. Еще смешнее выглядели бродячие собаки. Они даже не пытались отряхнуться от облепившей их снежной массы и немного печальные дежурили у ярких витрин магазинов. Так, почти у каждого магазина появился «памятник четвероногому другу», а то и целой стае. Рядом с ними деловито и преданно, равнодушно и безнадежно взирали на более удачливых граждан нищие, поминутно вытряхивая из своих плошек для мелочи маленькие сугробы. Снегоуборочные машины вкупе с многочисленными самосвалами наглядно демонстрировали окружающим, что такое сизифов труд. Снег валил так, будто в небесной канцелярии решили выдать осадками тринадцатую зарплату за все тысячелетие. А может, там решили отделить белой заснеженной страницей одну главу от другой, разделить эпохи?
Обыватели между тем весело и серьезно спорили у прилавков, можно ли считать двухтысячный год началом нового тысячелетия. По математическим правилам первым годом нового века следовало считать две тысячи первый, но 2000-й был округлее и даже внешне (в написании) выглядел куда привлекательнее. Некоторые ссылались на восточные традиции, где решили считать именно этот год началом нового тысячелетия, прагматики отмахивались и настаивали на своем. Но в интонациях и тех и других чувствовалось ожидание нового времени. Хотя никто из них точно не мог сформулировать, чем и как должна быть выражена эта новизна, никто из них даже не мог определить, чего именно они желают для себя и своих близких. Они словно боялись желать чего-то лучшего или научились не надеяться на обещания завтрашнего дня. Не стало бы хуже, читалось в их глазах.
В моих глазах читался огромный вопрос. Я был далек от общепланетарных проблем, пытаясь решить одну маленькую — купить новогодний подарок для Риты. На улице в глазах мельтешило от снега, в магазинах — от человеческой суеты, обильного выбора и разнобоя цен. По истечении третьего часа поисков чего-нибудь из ряда вон выходящего мои глаза перестали различать даже сами ряды: ювелирные изделия сливались с праздничной мишурой, разновеликие Деды Морозы с улыбающимися драконами, Снегурочки с продавщицами…
Чтобы передохнуть и отвлечься, я остановился у книжного прилавка в одном из супермаркетов. Я и раньше останавливался, с иронией рассматривая яркие обложки, с которых смотрели на меня супермены, благородные бандиты и различные монстры. Все эти серии я соединил для себя в одну, назвав ее «Слепоглухонемой против всех». Если бы все герои этих стремительных романов существовали или были бы хоть чуть-чуть реальны, то на российских улицах давно бы царила показательная для всего мира справедливость, и почти на каждом доме красовались бы бронзовые барельефы удивительных героев. Надписи для них можно без купюр взять из любой аннотации на этих красочных изданиях: «оперуполномоченный имярек вступил в единоборство с мафией… и победил», «бывший спецназовец имярек, участник всех локальных войн, в одиночку отомстил за смерть друга и разгромил бандитские кланы», «прокурор имярек, теряя близких и друзей, выстоял в борьбе с коррупцией…». Бросилась в глаза «Желтая стрела» Пелевина, и в голове пронеслась масса «безобразов» (так я окрестил персонажи постмодернизма). Но чапаевскую пустоту я все же осилил, что-то в ней было, значит, Пелевин не совсем пуст. И вдруг рядом с «Желтой стрелой» более мелким шрифтом всплыла белая. «„Белая стрела“ — личные убийцы Сталина» — так называлась брошюрка, на которой кроме названия была фотография человека в камуфляжной форме и маске с прорезями для глаз. В руках у него почему-то был автомат ППШ. Я открыл первые страницы…
«…Сталин несколько раз пытался покончить с Тито, но даже его сверхсекретное подразделение не справилось с задачей. Заминированная яхта не взорвалась, яд не дошел до адресата…».
Пролистнул еще несколько страниц.
«Потери после операций в Корее, Египте, Вьетнаме, Германии восполнялись за счет рекрутирования курсантов суворовских и военных училищ. Отбор производился тщательно. Предпочтение отдавалось сиротам. С помощью специальных методик под наблюдением психиатров производилось стирание памяти. Особенно для тех, кто не обладал собственной легендой. Для таких подобные легенды легко сочинялись по простому принципу: родители погибли от рук врагов народа, преступников и т. п., затем им предоставлялась возможность якобы при случайном стечении обстоятельств ознакомиться со своим досье, дальше следовало скрупулезное воспитание мстителя, воплощения сверхсправедливости. При подготовке каждой операции огромное значение уделялось моральному аспекту…».
Меня передернуло, это заметила продавщица. Она с усмешкой пальнула по мне своими пустыми, но красивыми глазками, спросила, беру ли я эту книжку, а я вдруг посмотрел на нее как на серьезного собеседника.
— Вранье, — я брезгливо отбросил книгу.
— Не нравится — не покупайте, — скуксилась девица, и я даже почувствовал, как я ей противен. В этот момент она думала, что работать в предновогодний вечер западло, а таких, как я, умников, нужно содержать в дурдомах или заставлять подметать улицы.
— Я могу и улицы подметать, но ваш прилавок заполнен враньем.
На секунду в ее легковесной головке промелькнуло подобие мысли об экстрасенсорных способностях, но оно тут же было вытеснено волной разнокалиберных ругательств, сказала же она совсем другое, заученное до автоматизма: «Я позову охранника».
Я внимательно посмотрел в ее глаза. Без осуждения. Зря, наверное. Искра пренебрежения вдруг сменилась в них непритворным смущением. Так стесняются многословных нахрапистых интеллигентов деревенские девушки. Пролепетала куда-то в пол: «Извините». Добавила еще что-то об усталости, о том, что никак не хотела меня обидеть.
— Я тоже, — и пошел уже совсем без цели.
— С наступающим… — прозвучало вслед.
В сердце вдруг шевельнулся непонятный комок сентиментальности. Аж слезы навернулись. И все оттого, что за пару минут у книжного прилавка я понял, что никогда и ничего не смогу доказать или объяснить этому миру, этим новоиспеченным продавщицам и этим снующим покупателям. Может быть, в формуле «товар — деньги — товар» вся суть, в том, что мир разделился на продавцов и покупателей, в том, что они периодически меняются местами, в том, что жизнь стала растянутым на несколько десятилетий актом приобретения… Надо было вернуться и купить брошюрку, ведь даже на фамилию автора не удосужился взглянуть. Зато представил, как падкие на сенсации обыватели мусолят страницы «правдивой» книжонки, напрочь лишающей ее главных персонажей собственной личности, прошлого, настоящего и, разумеется, будущего. Журналисты, потирающие руки, сделают из «Белой стрелы» ток-шоу или показательный процесс на телевидении, правительство в очередной раз покается… И откажется от своих солдат. Выходит, прав был Симон Давидович?
Ведь нескольких прочитанных строк хватило, чтобы понять — очередное разоблачение выверено детально и точно, у подсудимых нет ни единого шанса, а присяжные в лице похожих на продавщицу девулек и прочих покупателей вынесут утешительный вердикт: служить Родине — западло, и занимаются этим либо безумные маньяки, либо обманутые служаки. В этот момент я понял, что именно остатки взорванной памяти не позволяли мне хотя бы на миг поверить в это. Про меня скажут — продукт психологической обработки…
И никому ничего не доказать, потому что любые доказательства с нашей стороны все равно что инопланетные иероглифы. Мир, похоже, верит только кассовым чекам.
Немного успокоившись и купив букет цветов для Риты, я все же вернулся к книжному прилавку. Но брошюры уже не было. Узнав меня, продавщица поторопилась сообщить:
— А эту книгу уже купили… Вон тот мужчина в полушубке и кроличьей шапке!
Я почему-то не удивился, увидев у соседнего прилавка Василия Ивановича. Он, видимо, давно наблюдал за мной и сразу откликнулся на мой взгляд. Обязательные двести граммов «Столичной» блистали в его глазах предвкушением победы на любом фронте, куда бы ни закинула его судьба. Он едва заметно подмигнул мне: мол, не дрейфь, читали мы всю эту галиматью, а в запасе всегда должен быть «наш ответ Чемберлену».
Стало ясно, что появился он здесь не случайно. Ничего не оставалось, как только воспользоваться ситуацией. Я подошел к нему, чувствуя на себе любопытный взгляд продавщицы.
— Простите, вы только что купили книгу, может, уступите ее мне? Она крайне важна для меня…
Василий Иванович посмотрел на меня лукаво, как на простачка, как, наверное, смотрел деревенский колдун на кузнеца Вакулу, и ответил почти по-гоголевски:
— Зачем тому черта искать, у кого он за плечами?
И пошел, как будто и разговора никакого не было. Но через пару шагов оглянулся:
— А читать вредно, мужик, поумнеть можно. А от ума горе случается…
Во всей этой эзоповщине я услышал главное. Кто-то сидит у меня на хвосте. Чтобы сосредоточиться, я снова подошел к книжному прилавку. Полистал пару бестселлеров в ярких обложках. Наверное, меня когда-то учили определять за собой «хвост» и толково избавляться от него. С другой стороны, сейчас в этом не было необходимости, если за мной шли люди Симона Давидовича, то это само собой разумеющееся. И все же я решил попробовать оторваться, чтоб не повадно было…
Выйдя на улицу, я быстрым шагом направился к автобусной остановке. Вошел в заднюю дверь первого подошедшего автобуса. В салоне было довольно тесно. Поминутно извиняясь и держа букет над головой, я двинулся к двери передней. Между тем желающие уехать трамбовались на обеих площадках. Я едва успел выпрыгнуть в переднюю дверь, прежде чем автобус тронулся с места. Повторить мой трюк никому не удалось. Значит, мой сопровождающий либо проедет одну остановку, либо он вообще не садился в этот автобус.
2
— Знаешь, на кого ты похожа? — спросил я Риту, которая заворачивалась в полотенце, выходя после душа из ванной.
— Ну? — улыбнулась она.
— На Венеру, выходящую из моря… Боттичелли, по-моему… Только ты лучше…
— Неужели?
— Ага. Та несколько, с моей точки зрения, полновата.
— А ты помнишь эту картину?
— Помню. Ты же знаешь, я не помню подробностей только собственной жизни и того, что произошло за последние пятнадцать лет в нашей стране. Но благодаря краткому курсу Игоря и Василия Ивановича кое-что уже знаю.
И в этот момент в дверь позвонили. Рита юркнула обратно в ванную, а я открыл дверь. На пороге стоял невзрачный мужичок в запотевших очках. Он тут же снял их и начал протирать носовым платком.
— Как вы лихо меня!.. — сказал он вместо «здравствуйте».
— Кого, как лихо? — осведомился я.
— Ах да! — передо мной стоял типичный рассеянный интеллигент из разряда «себе на уме». — Я за вами часа три по магазинам болтался, а вы так лихо в автобусе! Сразу видно, что вас этому специально учили.
— Чему? — нахмурился я.
— Да вы не волнуйтесь, я по делу!
— По-моему, волнуетесь вы.
— Ну конечно, волнуюсь. Я в первый раз. Мне такое задание дали. А у вас еще, говорят, какие-то способности есть. Экстрасенсорные.
— Кто говорит? — я уже догадывался, но продолжал играть полное непонимание, тем более что про свои способности я и сам ничего не знал.
— Симон Давидович…
— С этого надо было начинать. Входите. А что, в следующем году нельзя было начать работу?
— Вы ж понимаете, мне сказали — я делаю.
— Понимаю. Чай? Коньяк?
— Не откажусь, и лучше все вместе. Меня зовут Максим Валерьянович.
— Веско… — определил я.
— А вас?
— Тринадцатый, — вдруг резанул я. — Не Людовик, конечно…
— Да-да… Я знаю… Никита Васильевич…
Без поношенного серого пальто Максим Валерьянович казался еще более жалким и смущенным. Прилизанные, давно не мытые волосы, сально отсвечивали, огромные очки в немодной уже роговой оправе и непривычно маленькие карие глазки под ними. Двухдневная щетина на округлом, слегка оплывшем лице. Неказистый пиджачок поверх свитера — последний элемент шикарной некогда «тройки». В общем Максим Валерьянович выглядел довольно неопрятно. К тому же вслед за ним в нашу квартирку просочился кисловатый запах неопрятной холостяцкой жизни.
Рита, как тень, проскочила на кухню.
Максим Валерьянович посчитал нужным в течение пяти минут изложить важнейшие этапы своей жизни, хотя я и так без труда видел все, что произошло с ним за последние два десятка лет. Рита поставила на журнальный столик поднос с коньяком, чаем и бутербродами. Это еще больше подхлестнуло Максима Валерьяновича к разговору на житейские темы. Он говорил о своей работе сначала в хозяйственном отделе райкома партии, затем о том, как успешно он руководил базой облпотребсоюза. Ему хотелось быть значимым. Но с его же слов выходило, что таковым он никогда не был и всегда боялся сделать шаг в сторону от чужой, постоянно довлевшей над ним воли.
— А Симон Давидович меня спас! — прихлебывал Максим Валерьянович. — Я бы сейчас не сидел здесь, и три мои доченьки были бы сиротинками!
Я не считал нужным задавать наводящие вопросы, потому как такие люди и без них выкладывают все неинтересно, затянуто и подробно, а останавливать их бесполезно: перестанут говорить об этом, начнут о чем-то другом.
— Бандиты! Настоящие бандиты! Понимаете? (Приходится кивать.) Все хотели под себя подмять! Угрожали. Даже однажды свозили меня на кладбище, заставили на окраине могилу рыть якобы для себя. Но я не испугался. Точнее, испугался, конечно, но виду не подал. Пытать хотели… А потом приехал Симон Давидович, и одного его слова стало достаточно, чтобы они забились в свои жуткие норы! Я с удовольствием вошел в ассоциацию Симона Давидовича. Там сосредоточены ведущие предприятия всей страны! Ему никто не смеет диктовать. А какой он обходительный человек!..
— В смысле — обходит всех? — не удержался я.
— И в этом тоже, — ничуть не обиделся Максим Валерьянович.
— А зачем вы следили за мной?
— Простите, Никита Васильевич, это личная инициатива. Мне хотелось посмотреть на вас со стороны.
— И что вам удалось разглядеть… Со стороны?
— А у вас, кстати, не очень уверенная походка! — аж обрадовался Максим Валерьянович.
— Согласен, но на то есть веские причины. Я однажды на мину наступил.
— М-да-да!.. — запричитал гость. — Мне немного сказали, что вы участвовали в каких-то войнах, что вы ветеран всего и вся. Афганистан? Чечня?
— Чуть ближе и чуть глубже…
— Понимаю, — будто действительно понял.
Нужно было направить разговор в деловое русло.
— Насколько я понимаю, вы пришли не с пустыми руками? — спросил я.
— Конечно, конечно! — Максим Валерьянович полез во внутренний карман пиджака и с подозрением посмотрел на Риту, которая колдовала на кухне.
— Не беспокойтесь, ей не до нас, — упредил я его конспирацию.
— Понимаю, — опять что-то понял Максим Валерьянович.
В большом конверте, невесть как уместившемся в кармане, оказалось досье. Построено оно было по законам жанра. Снайперу рисовали образ врага. Убедительно и красноречиво… Но что-то у меня в голове по этому поводу не срасталось.
Мовшензон Владимир Яковлевич, 1948 г. р. Место рождения г. Тернополь. Создатель, владелец и генеральный директор холдинга «Интеррос» (1992). В холдинг входят 9 нефтегазодобывающих объединений, три коммерческих банка, пять автотранспортных предприятий, завод две коммерческих радиостанции, туристическое агентство «Мир», газета «Сибирский курьер»…
Максим Валерьянович внимательно отслеживал мою реакцию. Но я читал так, как читал бы аннотацию к какому-нибудь лекарству. Никак не мог найти статью «противопоказания». Зато показания были написаны художественно и даже снабжены фотодокументами.
…присваивая значительную часть общенародного богатства, Владимир Яковлевич не считался с конкурентами и не особенно выбирал способы их устранения…
…Холдингом было создано значительное лобби в областной Думе, налажены связи с криминальными структурами, которые умело использовались для борьбы со всеми, кто стоял на дороге…
…На совести В. Я. Мовшензона убийства как минимум шести крупных коммерсантов, но недостаток улик не позволял завести на фигуранта уголовное дело. Постоянное наблюдение прокуратуры, РУБОПа и ФСБ тоже не дали существенных результатов…
…Устранив А. А. Земскова, директора крупнейшего агентства недвижимости, холдинг освоил и получил возможность…
Почему-то вспомнились прокуренные пальцы и печальный взгляд Ирины Андреевны.
Агенты специального подразделения «Белая стрела» не справились с поставленной задачей и были уничтожены нанятыми холдингом бандитами. Таким образом, В. Я. Мовшензон остался как бы в стороне…
Я, не торопясь, рассматривал сканированные и выведенные на специальный лист фотографии. В основном на них были те, кого, если верить этим бумагам, уничтожил щупленький кудрявый дядя на фотографии с первой страницы. Он смотрел на меня из «золотого века» взглядом советского инженера, гордо несущего на своей груди значок престижного технического вуза. Казалось, только что, перед тем, как сфотографироваться, он выступил с бравурным докладом перед коллегами из НИИ, а фотографию не грех повесить на Доску почета. Правда, на других фотографиях были тоже приличные люди. Тот же Земсков… Молодой, рано поседевший, волевое лицо. Такие перед трудностями не пасуют. Моей фотографии здесь не было. Не было фотографий напарников.
Я понял, что не срасталось у меня в голове.
— Странно, — сказал я Максиму Валерьяновичу, — что-то не верится, что еврей Симон Давидович хочет убрать еврея Владимира Яковлевича.
— Вы что — антисемит?! — не на шутку испугался Максим Валерьянович, даже чашка в руке загуляла.
— Разве может человек, конспектировавший Маркса, быть антисемитом?
— Да-да… — поспешно согласился бывший директор базы.
— Но это действительно не очень-то укладывается в голове.
— Во всяком народе есть хорошие и плохие люди.
— Знакомый штамп. Аксиома для всех межнациональных конфликтов. Значит, Владимир Яковлевич — плохой человек.
— Разве вы не видите? — Максим Валерьянович со значением кивнул на досье.
— Вижу, и, похоже, у меня с ним даже личные счеты имеются.
— Вот аванс, — появился плотный конверт из другого кармана, — а вот — инструкции, работа завтра…
— Что, первого января?!
— Самый удобный случай! В «Интерросе» банкет. Первого января Мовшензону пришла идея создания холдинга.
Видимо, посчитав, что прекрасно справился со своей задачей, Максим Валерьянович торопливо выпил еще одну рюмку коньяка и начал собираться. В глазах у него читалось желание поскорее расстаться с опасным человеком и оказаться в своей тихой квартирке, которую ему выделила от пятикомнатных апартаментов после развода жена. Мне тоже очень хотелось, чтобы он поскорее ушел и унес с собой свой нестираный запах, но также сильно хотелось напоследок испортить ему новогоднее настроение, как только что это проделал он сам.
— Ваша жена сегодня, как вы и предполагаете, будет встречать Новый год с вашим бывшим подчиненным. А он подарит вашим дочерям подарки…
Максим Валерьянович посмотрел на меня сквозь огромные линзы так, будто через минуту испепелит меня своим правдоносным взглядом.
— Зря вы так, Никита Васильевич, смеяться над чужим горем нельзя…
— А разносить под Новый год заказы на убийство порядочно, честно и достойно всякого подражания, — передразнил его я. — Вы не боитесь, что мне может не понравиться то, что вы довольно долго имели честь лицезреть мою непримечательную внешность?
Максим Валерьянович судорожно сглотнул.
— Симон Давидович сказал, что вы немного не в себе, поэтому я не буду обращать внимания на ваши колкости. Он сказал, что вы состоите на службе. Так же, как и я! — подчеркнул он. — Будьте здоровы!..
— Постараюсь. И вам того же…
— Вот и прекрасно, — опять заулыбался и засеменил вниз по лестнице. — Кстати, — раздалось уже этажом ниже, — посмотрите сегодня новогоднее обращение президента, я слышал — будет редкое шоу…
— Он что, научился говорить?
3
Что ни говори, а вечер был испорчен. Запах Максима Валерьяновича не покинул нашу «хрущевку» даже через час после его ухода, и даже духи Риты не могли вытеснить этот прелый телесно-тряпичный дух окончательно.
Пока Рита накрывала на стол, я изучил содержимое обоих конвертов. Аванс составлял пять тысяч долларов, к которым я, кстати, никак не мог привыкнуть. В другом конверте лежала схема с указанием времени. Исходя из полученных инструкций, в 21.00 я должен был оказаться на чердаке напротив конференц-зала холдинга «Интеррос», а в 21.30 произвести выстрел. Господин Мовшензон в этот момент как раз будет зачитывать обращение к своим ближайшим соратникам и сотрудникам. Под нами будет восемь этажей и автобусная остановка в центре города, между нами будет одна из центральных улиц, путь отхода один — черная лестница и задние дворы бывших проектных институтов. Потаек и запасных выходов не предусмотрено. На изучение абсолютно незнакомой мне американской винтовки М-82-А1 отводилось всего полчаса. Закралось подозрение: на хрена винтовка с прицельной дальностью почти два километра, когда работа на сто метров? Ведь работодателям было абсолютно ясно, что в новогоднюю ночь я не пойду осматривать место работы, хотя кто-то именно сейчас или чуть позже принесет туда «орудие производства»… Понадеялись на мой профессионализм? И что я буду делать на чердаке с этой полутораметровой американской бандурой, когда можно было обойтись родным «винторезом»? И главный вопрос: должен ли я стрелять? Что будет, если я не выполню эту работу? Закажут меня или попробуют «воспитать»? Вопросов было больше, а ответ был в единственном числе: Рита…
А на что я рассчитывал? Что мне доверят стоять в почетном карауле на международных симпозиумах? Выполнять задания в джунглях Амазонки или во время очередной бури в стакане? А потом появится лаковая брошюрка с названием «Сталинский киллер на службе транснациональной олигархии». Никогда бы не подумал, что Владимир Яковлевич не вписывается в их понятия о свободе, рыночной экономике и прочих прелестях современной цивилизации. Или, может, он нарушил какие-то внутренние табу? Урвал чуть больше, чем положено? Интересно, какую цель предложили Немому? И что делает Игорь, если он не стрелок?
Вопросы эти никак не вязались со вкусом салата «Нежность», который мы начали есть молча, даже не открыв шампанское. Вспомнив о шипучем вине, я аккуратно, намеренно без праздничных выстрелов извлек из горлышка пробку.
— Ты будешь делать то, что они сказали? — это единственное, о чем спросила Рита после явления Максима Валерьяновича.
— У меня нет выбора.
— Выбор всегда есть. Мы могли бы бросить все и уехать туда, где нас никто не найдет.
— Во-первых, такого места на Земле нет, во-вторых, даже если нам удастся хорошо спрятаться, первые пять лет мы будем жить с оглядкой, потом расслабимся, забудем об опасности, и она даст о себе знать в самый неподходящий момент. Закон жанра. Ну и в-третьих, я стрелок, а не запуганный лавочник. Единственное, чего я боюсь, потерять тебя.
— Я тоже.
— Что-нибудь придумаем. Ты права — выход всегда есть, только убегать через черный ход не всегда лучший вариант. Пожуем — увидим!
— Странно, мне почему-то рядом с тобой нестрашно. Но сейчас мне обидно — ты ничего не сказал о моем вечернем платье.
Потом мы выпили за наше здоровье, за то, чтобы никогда не расставаться, и долго целовались. Телевизор накачивал публику праздничным настроением, захлебывался дурацкими песенками, известные личности сыпали пожеланиями, тоже дурацкими, снег за окном тоже сыпал, но уже скромнее, чем несколько часов назад. Теперь он падал так, будто каждой снежинке выдали отдельный парашют. Из-за этого складывалось впечатление, что не только мы, грешные, прислушиваемся к вехам времени, но и вся природа. Или небо, как огромный отражатель, улавливает наши настроения, и когда они совпадают, когда мы излучаем и чувствуем в унисон, они становятся понятны небу, и оно прислушивается. Вдруг мы решили стать лучше и чище, и не стоит регулярными снегопадами и нерегулярными наводнениями напоминать нам о Всемирном потопе.
Без пяти двенадцать, как заведено было еще в «золотом веке», все глазки телевизора выпучились в главное кремлевское кресло. Важный теледяденька включил записанную несколькими часами ранее кассету.
Литое еще в обкомах КПСС, оплывшее лицо старалось выглядеть значительным, торжественным и печальным. Речь о труднейшем десятилетии демократических реформ изысками не отличалась. Интересно, была ли договоренность с имиджмейкерами о скупой президентской слезе? Простодушные русаки на этом месте должны были зарыдать за праздничными столами, поверить всенародно избранному, что сердце его было с каждым из них. Но как он ни старался причислить себя к страдальцам, на заднем плане его мысли чувствовалось главное: будущий пенсионер российского значения хочет получить индульгенцию не только от своего преемника, но и от всего обманутого и разоренного народа. Видимо, учитывая опыт оттертого им самим предшественника, на охранные грамоты ЦРУ и прочих структур нового мирового порядка президент не очень-то рассчитывал. Да и помнил еще с ВПШ, что такое русский бунт…
— А Путин вроде ничего, — заметила Рита.
— Да, пока ничего, в полном объеме смысла этого слова. И может, он так и останется полным ничего в русской истории. Его ведь этот благословил, — я кивнул на экран, — а такое «благословение» приравнивается к печати проклятия. Долго отмываться придется. По заторможенности речи этот, кстати, уже давно переплюнул Брежнева. Того-то я хорошо помню. Но знаешь, Брежнев не вызывал во мне такого омерзения, разве что ироническую улыбку, да пара анекдотов всегда на память приходила… А от этого злобной пустотой сквозит…
— Да ну их… Зачем ты так близко к сердцу принимаешь? У нас в стране теперь каждый день нештатная ситуация.
— Да уж, теория перманентного стресса для целого народа. Меня другое беспокоит: гость-то наш, Максим Валерьянович, похоже, знал про эту эпохальную речь.
— И что?
— Про такие повороты сюжета только сценаристы и режиссеры знают. Выходит, милейший Симон Давидович если не сам кино снимает, то и не простой статист.
— Никита, куранты уже минут пять как отбили, а мы тут…
— Наливаю! Да!.. В этом платье ты дашь сто очков вперед киношным pretty women.
— А без него?..
— А без него — двести… Нет, миллион…
4
Наверное, это нужно было сделать днем. Прийти на этот бетонный чердак и толком осмотреться. Я же провалялся до полудня в кровати, потом медленно раскачивался, словно ждал команды отбой в последнюю минуту. Но за полтора часа до работы я все же пришел на место. Поднимался девять этажей по запасной пожарной лестнице. Кто-то заблаговременно открыл вход на нее со двора. Пока что все было так, как и обещали инструкции и приложенный к ним план-чертеж. Вентиляционные и вытяжные системы находились в точно определенных местах, два пожарных щита, емкость с водой, какие-то ящики с пожелтевшими папками, несколько окон-бойниц по периметру, мусор и окурки, как полагается…
В ящиках с папками я нашел довольно емкий пластмассовый кофр, в котором дремала М-82, а также сборный станок на двух сошках. Два полных магазина с патронами «Браунинг» и телескопический прицел. Оружие вызывало уважение, но для выполнения подобной задачи больше бы сгодилась бесшумная L-96-A1. Видимо, до таких редких экземпляров у заказчиков руки еще не дошли. Или, наоборот, экземпляр, которого я должен был устранить, не заслуживал большего. Не помню, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, но совершенно непонятно, как умудрились поссориться Симон Давидович с Давидом Самуиловичем. Меня не оставляло чувство, что все, кроме меня, в этой партии играют мечеными картами. Но другого выхода у меня не было. Оставалось традиционно надеяться на русский авось.
Я готовил оружие, как, наверное, художник готовит свои краски, устанавливает мольберт, смешивает все компоненты. Я выбирал позицию для стрельбы, как пейзажист. Только он ждет тучку или лучик солнца для передачи самого сокровенного вздоха природы, а я жду оптимальной траектории полета пули. Я даже несколько раз приноровился, на полувыдохе поглаживая указательным пальцем курок. Между тем в оптике четко вырисовывался зал заседаний, который уверенно заполняли лощеные гости с бокалами и бутербродами в руках. Где-то рядом был фуршетный зал. Люди беседовали, неторопливо рассаживались. На сцене высилась трибуна, оставшаяся в наследство еще с советских времен, на которой сохранился отпечаток венчавшего ее лобную часть герба СССР. Сейчас это место было обильно замазано лаком, но очертания герба упрямо напоминали о себе из-под густого невыразительно блестящего слоя. Нет, не так-то просто отмазаться от «золотого века». Сколько решений партии было озвучено с этой трибуны? Сколько правды и сколько лжи? Лак на ней должен был изойти трещинами от наивных и ложных аплодисментов. Может, в утробе ее до сих пор раздается неслышный человеческому уху шепот: «У царя Мидаса ослиные уши»… М-да, в советские времена в этот зал с бокалом вина и надкусанным бутербродом мог войти только законченный псих. Очень захотелось пострелять именно по этим элегантным бокалам.
За пять минут до означенного времени я загнал патрон в патронник. Зал уже наполнился. Сцена засияла, трибуну выхватил прожектор. Задник сцены поздравлял всех с Новым годом, желая при этом только материального благополучия и процветания. «Не по-русски как-то», — подумал я. Подчиняясь какому-то машинальному желанию, я встал, вытянул руки к небу и глубоко вздохнул. Это было специальное упражнение. Краткий и своеобразный аутотренинг, восстановление дыхания. Так же машинально, уж совсем не знаю зачем, я поплевал на правый указательный палец, как рыбак на червя, и только после этого снова лег «за станок».
В перекрестье прицела обозначился человечек. Очень тщедушным оказался господин Мовшензон: яйцевидная, слегка курчавая головенка торчала из дорогого костюма, на воротнике которого в оптический прицел четко просматривалось жирное пятно. Узел модного галстука едва скрывает несвежий ворот сорочки. Чуть красноватое, с напускным туманом потусторонней отвлеченности лицо раскрывало рот куда-то в сторону от микрофона. Словно говорило само с собой… И этот неряшливый человечек владеет огромным холдингом и астрономическими счетами в различных банках? Чем же он так прогневал Симона Давидовича? И что будет со мной, если сейчас в этой немытой с прошлого года голове не появится лишнее отверстие? Судя по приложенному к заказу досье, он сам заказывал ни в чем неповинных людей. Как, впрочем, скорее всего, и Симон Давидович. Интересный момент: как только я прочитал досье, строчки ровного шрифта растаяли бесследно. Понятно, что произошло это в связи с некой химической реакцией, обусловленной воздействием света. Видимо, Симон Давидович не хотел оставлять никаких следов. М-да… Времени на подобные размышления у меня не было. Вдруг Давид Самуилович решит быть кратким!
Именно в момент нажатия на курок я вместе с хлопком выстрела услышал за спиной окрик:
— Не двигаться! Руки медленно за голову!
Спектакль продолжался.
Может быть, и хорошо, что я не увидел результатов «своей работы».
Было бы наивно думать, что меня наняли полноправным бойцом. Но больше почему-то верилось, что после выполнения одного или нескольких заданий меня тоже возьмут в перекрестье прицела. Арест в голове вообще не укладывался. Только вот голос за спиной показался мне знакомым. Не искушая судьбу, я аккуратно сложил руки замком на затылке. Через секунду кто-то уверенно проверил содержимое моих карманов и одежды.
— Медленно поднимайся на колени, руки опусти за спину, — скомандовал тот же знакомый голос.
Я выполнил приказ, и тут же за моей спиной застегнулись наручники. На душе стало так тошно, как бывает только в минуты отчетливо понимаемой безысходности. Всё! Капец! И даже не хотелось думать, кто меня подставил: Симон Давидович или дурно пахнущий Максим Валерьянович.
— Никита? — мое имя прозвучало так же неуверенно, как я произносил его внутри себя сам, привыкая к нему.
Я поднял глаза на нынешнего владельца моей судьбы, и сердце у меня оторвалось… Передо мной стоял Ваня Болотов. Я узнал его сразу. Даже увидел в нескольких ипостасях. Сиюминутного, в кожаной, не по сезону куртке, в хэбэшке с погонами суворовского училища…
— Ваня? — так же неуверенно сказал я.
За спиной его топтались напарники. Один с пистолетом, другой с АКМСом.
— Ты же погиб? — то ли спросил, то ли утвердил Болотов.
— А ты в Чечне? — продолжил я в том же духе.
— Был, — согласился он.
— И я был, — подтвердил я.
Понимание происходящего включилось у Ивана значительно раньше, чем у меня, движения стали резкими, голос уверенным.
— Дергать отсюда надо! Быстро. Ребята, снимите с него браслеты, потом все объясню. Все в машину. Только очень быстро.
Оперативники хоть и смотрели на происходящее с недоверием, но лишних вопросов не задавали. Ванины приказы исполнялись быстро и четко. Уже через минуту я стирал отпечатки пальцев с винтовки специальным раствором. Но Иван меня остановил:
— Не сейчас, возьми эту пукалку с собой. Знаю, знаю, что это не принято, но сейчас сделаем исключение… Для всего!
5
Мы сидели в видавшей виды «Волге» и пили коньяк. В машине Иван представил мне своих напарников. Оба они были в спортивных шапочках, у обоих были скуластые, не в меру серьезные лица, но на поверку оперативники оказались ребятами веселыми и разговорчивыми. На первый взгляд, друг от друга они отличались только куртками и тем, что один был темнее. Слева от меня на заднем сиденье оказался темный Лёва, а справа — более светлый и более разговорчивый Славик. За рулем был Володя, который ждал нас в обнимку с «Макаровым» на выходе с черной лестницы. Из всей ситуации я быстро сделал вывод, что Болотов в этой бригаде старший, и подчиненные лишних вопросов ему не задают. По крайней мере, пока о главном не заговорил сам Болотов, они довольно весело обсуждали последний футбольный матч, а Славик даже успел вставить пару анекдотов. Все происходящее меньше всего походило на возвращение группы захвата с места преступления. В итоге «Волга» приткнулась в сугроб на берегу реки в промышленном районе, Иван достал из «бардачка» коньяк и пластмассовые стаканы.
— Со свиданьицем, — разлил он.
Только после первой он спросил:
— Как ты туда попал?
Я вопросительно посмотрел на его товарищей, и он утвердительно кивнул.
— Это моя команда, — успокоил, — мы вместе уже пять лет. Я думал, ты Леву помнишь. Он со мной на мовшензоновской презентации был.
— А теперь на похороны сходит, — хохотнул Славик.
— Я тебя вспомнил, когда увидел, — начал я.
Рассказа моего без прилагательных и с необходимыми сокращениями хватило до дна «Белого аиста». Разумеется, говоря об отряде, я просто произносил слово «спецподразделение». Зато свои больничные мытарства описал подробно и даже с прилагательными, причастными и деепричастными оборотами. Оперативники вопросов по ходу рассказа не задавали. Можно было только заметить, что в глазах Левы и Славы появилась тень уважения ко мне. Видимо, из банального киллера в их сознании я все же превратился в солдата… Которого свои оставили на чужой территории, и теперь он не знает, в какую сторону стрелять.
— Я давно говорю, — вставил в конце моего повествования Славик, — мочить их всех надо без суда и следствия. А мы тут версии строим, вещдоки на помойках собираем.
— Ты новости вчера смотрел? — спросил Иван.
— Нет.
— В Подмосковье одному коммерсанту дом подожгли. Так вот, его самого дома не было, жена спаслась, а сгорели две дочки. Обеим пяти лет еще не было…
— Я ж не про всех! Я не поджигать предлагаю, а отстреливать… Когда уже все ясно…
— Все ясно бывает только в морге, — отрезал Болотов.
— А кто навел вас? — задал я наконец свой вопрос.
— В том-то и дело, что ничего определенного мы об этом сказать не можем. Был телефонный звонок, явно измененный голос, за двадцать секунд разговора нам назвали место, время и мишень. Мы просто решили проверить. Выходит, Никита, тебя решили сдать.
— Что теперь?
— Ничего, мы опоздали. Взяли только ствол. По телефону Лёва отвечал.
— Спросят с нас, почему засаду ранее не сделали, — засомневался в версии Болотова Лёва.
— Сколько у нас таких звонков в неделю? — озадачил его Иван. — Если по каждому из них делать засаду или высылать группу захвата, то даже с улиц придется дэпээсников снять. Одно знаю точно, Никиту надо куда-то спрятать. Раз не вышло у них «по закону», они все равно…
— У меня еще Рита, — сказал я.
— И Риту тоже.
Было заметно, что Болотов сам сомневается в этих скороспелых решениях. Уже через пару кварталов он, видимо, взвесил все возможные варианты и выдал окончательный.
— Так, стоп! По-моему, мы начинаем играть по нашим правилам, а играть следует по нотам, которые нам предлагает противник. Иначе вместо веселой песенки или Лунной сонаты будет полная какофония.
— Что еще? — спросил я, уже догадываясь, какой новый расклад появился в голове бывалого опера. — Это элементарно, Ватсон, — ухмыльнулся он, — если тебя сдали, значит, ты должен сидеть в СИЗО, и значит, все идет по их мудреному плану. Если ты нужен, тебя вытаскивают, если не нужен, убирают, но если ты не в СИЗО, значит, ты точно не тот товар, который они хотели купить. Вполне возможно, что ты не только выполнил задание, но и подвергаешься проверке. Ты когда-нибудь бывал в российских следственных изоляторах?
— Нет.
— Предлагаю бесплатную экзотическую экскурсию.
— А Рита? — усомнился я.
— Вот Риту мы постараемся вывести из этой шахматной партии. Дама должна быть в дамках…
— Это уже из шашек, — буркнул Лёва.
— Какая на хрен разница?! Главное, вовремя стукнуть оппонента доской по голове. Володя, притормози… Какие у нас шансы обеспечить безопасность Никиты в СИЗО?
— У меня там два однокашника, вместе учились в школе милиции, — ответил Слава.
— Им можно доверять?
— Абсолютно, один попал в охранники после месячного запоя, второй при задержании преступника несанкционированно применил оружие. Оба законченные психи, но равнодушные к деньгам честные ребята. Если сказать им, что этого солдата предали его генералы, можно считать, что они загрызут за него любого.
— Устраивает, — определил Иван, — плюс твой личный контроль.
— Разумеется, — подмигнул мне Славик.
— Так что, Володя, кати в управление, там мы со Славой и Никитой приступим к заполнению необходимых сопроводительных документов, а ты, Лева, поедешь с Володей за Ритой. Пусть возьмет командировочный набор, и везите ее в Леуши. На нашу дачу.
— Дачу? — удивился я.
— Да, Славику от родителей остался домик в деревне, мы там уик-энды проводим. Рыбачим, грибки собираем, там у нас неофициальный штаб. При случае увидишь.
Я внимательно посмотрел на Славика. За внешней его улыбчивостью скрывалась легко прочитываемая груда бытовых проблем. Вечером он вернется в свою малосемейку, кинет на сковородку очередную банку тушенки, подумает, что надо спуститься вниз к телефону-автомату, чтобы позвонить жене, с которой уже год находится в разводе, но вспомнит, что опять не купил телефонную карту… А главное, сказать ей нечего, потому что ничего за год не изменилось. Генералом он не стал, работу не сменил и менять не думает.
Лёве проще: он живет с родителями, его девушка еще живет тем ожиданием сказочных стран и счастливой семейной жизни, которое сопутствует каждой романтической паре, а пока довольствуется свиданиями два-три раза в неделю. Пока что она боготворит Лёву и тает от его обходительности. А Лёва перед каждым свиданием занимает у родителей деньги на букет роз…
6
— Номер люкс! Роскошь! Для особо важных персон! — раскрыл передо мной дверь камеры широкоплечий низкорослый офицер внутренних войск. — Ужин подадут в апартаменты.
Я кривенько улыбнулся. Он еще некоторое время постоял в дверях, озираясь, все ли в порядке. Наверное, все было в порядке: клозет и умывальник в углу, видавший виды стол, как и больничная беседка, испещренный надписями и рисунками, откидные нары, прикрученная к полу табуретка, которую я по незнанию попытался сдвинуть…
— Я ж говорю, для особо важных персон, — упредил он мой вопрос. — Меня, кстати, Лёха зовут, а про тебя Слава пару слов замолвил, так что не тушуйся, всё будет чики-чики. Уркаганов к тебе не пустим, гулять тоже будешь отдельно, так что отдыхай, снайпер… — Он резанул меня неожиданно уважительным взглядом усталых глаз, сплошь изрезанных красными прожилками, потом, подумав, вытащил из кармана галифе плоскую двухсотграммовую бутылку водки и поставил на стол: — С новосельем! Меня сменит Толян, тоже наш человек.
Похоже, уходить ему не хотелось, или не ладилось задать какой-то вопрос.
— Слышь, парень, стрелять-то часто доводилось?
— Говорят, часто…
— Говорят?..
Пришлось с некоторыми исключениями рассказать ему историю потери памяти. При этом он не удержался, принес стаканы, даже не закрыв за собой дверь камеры. Битая эмалированная кружка чем-то его не устраивала. Из другого кармана галифе он достал кусок черного хлеба и сало, завернутое в салфетку. Всем своим видом он показывал, что ему глубоко наплевать на правила и на вышестоящее начальство, и после первой чекушки в ход смело пошла вторая. Моя история его достаточно впечатлила, чтобы рассказать собственную. Хотя я и так знал ее.
Алексея Лебедева отстранили от оперативной работы за пьянство. В России каждый третий мужик — запойный алкоголик, уверенно утверждал он, а я не возражал. И у каждого есть или бывает свой повод впасть в запой. Был он и у старшего лейтенанта МВД Лебедева.
С тех пор, как разрешили везде и всюду таскать с собой оружие в связи с повсеместным и беспредельным разгулом криминала, Лёха с табельным оружием не расставался. Но пистолет — вовсе не панацея от возможного нападения. И нападения бывают разные. Старшего лейтенанта Лебедева оглушили тяжелым металлическим предметом по голове при входе в подъезд собственного дома. А все потому, считал он, что у горе-реформаторов на проведение всяческих презентаций деньги есть, а вот лампочку в подъезде ввернуть не на что. Он уж сам собирался, да все руки не доходили, а тут вот и ноги не дошли… Даже до первого этажа. Все произошло прямо в предбаннике. Поживой бандитов стали старые наручные часы, бумажник с суммой, которой хватит на две пачки сигарет, служебное удостоверение и табельное оружие. А самого Лёху поместили в нейрохирургию, где он уже на третий день разузнал место хранения спирта служебного назначения, за что и был выдворен с позором: долечиваться в домашние условия. Долечиваться он решил по тому же рецепту. После трех недель усиленного «лечения» Лебедев остался без больничного, зато с взысканием за халатное отношение к хранению и ношению оружия, а затем и с записью в трудовой книжке. Разумеется, он поклялся найти своих обидчиков, сто раз прокручивал в воображении варианты мести с постоянно усугубляющимся сюжетом кровавой расправы. Но город проглотил их безвозвратно, и вполне вероятно, что табельный пистолет старшего лейтенанта Лебедева сейчас совсем в других руках и даже в другом населенном пункте. По оперативным данным, из него еще не стреляли. Во всяком случае, в человека. Но от этого Лебедеву не легче. Спасибо сердобольному начальству, совсем без работы не оставили.
— Может, они, голубчики, как раз ко мне и пожалуют. Я уж тут их встречу, как дорогих гостей. — Но глаза его уже не сверкали мстительной жестокостью, пьяная усталость от всего на свете, и ничего больше в них не было.
Он ушел от меня после второй бутылки, предусмотрительно забрав стаканы и пустые ёмкости.
— Доза и норма, — произнес он какое-то одному ему понятное заклинание. — Утром Толик тебя проведает, я ему скажу…
Оставшись один в камере, я вовсе не был раздавлен одиночеством и ограниченным пространством, наоборот, впервые за долгое время я почувствовал свободу. Свободу от суеты, от необходимости принимать ежеминутные решения, хотя бы временную свободу от мира, который за этими стенами своими громоздкими жерновами перетирал тысячи людских судеб. При этом люди даже не замечали, что, запустив этот огромный механизм, они уже мало могли повлиять на его работу. В какой-то момент человечество не заметило, что он стал самодостаточным и теперь существует отдельно от них. Вместе с ними он существует в том смысле, что у людей сложилась иллюзия, что трубы заводов дымят по их прогрессивному желанию, а законы, в том числе юридические, действуют по их написанию. В действительности же народы летят в этот механизм, как в паровозную топку, а он поглощает отработанный материал двухметровыми ртами где под траурные марши и залпы, а где и в полной тишине… На какой-то лопасти этого механизма лежал сейчас и я, чувствуя его смертельную работу, но не испытывал дикого ужаса, как кролик перед удавом, а только внутреннюю отстраненность и полную апатию. На все воля Божья, решил я, и от этого мне было легче, чем тем, кто пытается барахтаться, будучи в самом жерле беспощадного водоворота.
Некоторое время я думал о том, солдат я или убийца, но так и не пришел ни к какому заключению. Не смог я также определить, где проходит умозрительная линия фронта, и сам для себя поместил ее на небе. Происходящее на земле больше походило не на Армагеддон, а на Содом. Белое перемешалось с черным. При этом на черном местами виднелись белые пятна очагов обороны, то же было и с белым. Кажется, это Борхес определил шкуру ягуара письменами Бога?..
Потом я снова попытался проводить эксперименты с памятью, но закончились они так же печально, как и ранее. Голову чуть не разорвало от боли, а душу от несоответствия внешнего и внутреннего. Боль в конце концов столкнула меня в ту же пропасть, куда провалилась память. Полет сквозь густую тьму назывался коротким, но глубоким сном.
Разбудил меня металлический звук открываемой двери. Я открыл глаза, надеясь лицезреть обещанного Алексеем Лебедевым Толика, но первым вошел в камеру не он. Человека этого я теперь узнал бы и с закрытыми глазами. По запаху.
Максим Валерьянович неуверенно вошел в камеру, осмотрелся. Был он явно с глубокого похмелья: лицо и глаза красные, а опухшие веки делали его похожим на рыбу-телескоп.
— Да-с, Никита Васильевич… — потянул, было, на себя табурет, чтобы присесть, — намертво приделано.
Я ухмыльнулся.
— Вы пока ничего не говорите, — с опаской заговорил он, — пожалуйста, сначала выслушайте меня. Я представляю, что вы сейчас думаете…
А я думал, что Максим Валерьянович в сущности несчастный и мелкий человек. Что ему сейчас страшнее, чем мне. В нем даже прочитать было нечего, кроме груды опасений и перечня заданий. Поэтому я молчал, не скрывая иронической усмешки, которая, по всей видимости, очень его настораживала.
— Уверяю вас, Никита Васильевич, все будет хорошо. Прекрасная работа. Похороны завтра. Вы там оказались случайно! — он сделал многозначительный акцент на последней фразе, перешел на шепот. — На стволе нет никаких отпечатков. Профессионально… К обеду будет лучший адвокат, но, думаю, до этого дело даже не дойдет. В ближайшее время вы сможете выйти, но придется уехать. Возможно, даже из страны. Это вас не пугает?
— У меня здесь никого нет! — в свою очередь подчеркнул я.
— Ну это, знаете, чувство родины, — смутился Максим Валерьянович.
— Оно вам знакомо? — искренне удивился я.
— Это философский вопрос, — совершенно серьезно начал рассуждать бывший завбазой.
Я ждал, что он упомянет в какой-нибудь связи имя Симона Давидовича, но пришлось выслушивать его долгие рассуждения о проблеме маленького человека на этой огромной планете. О пресловутых общечеловеческих ценностях, о том, как трудно чувствовать себя гражданином мира… Если б вновь не появился Толик, мне пришлось бы демонстративно уснуть. Все это время в голове моей вертелся единственный вопрос: насколько искренне он исповедует весь этот идиотизм? Но в камеру вновь вошел Толик. Он слушать всю эту ахинею был не намерен.
— Дяденька, — ехидно обратился он к Максиму Валерьяновичу, — жильцу завтракать пора, вы ж сами цельный пакет снеди притаранили.
— Ах, да-да, — спохватился Максим Валерьянович, — я чуть не забыл, зафилософствовался, знаете ли…
— Знаем, знаем, — буркнул Толик, выкладывая на стол яркую бутылку заморского коньяка, фрукты, мясо в вакуумной оболочке, минеральную воду, еще что-то…
— Это сухпай от мирового правительства? — спросил я.
— Как вам будет угодно, — пожал плечами Максим Валерьянович и показался мне еще более жалким, чем в день первой встречи.
Толик разлил в те же стаканы, которые приносил вчера Лебедев, добавив к ним третий, раскладной из своего кармана.
Я с удивлением посмотрел на этого пластмассового монстра из «золотого века».
— Хорошо, что кружка к столу не прикручена, — попытался пошутить Максим Валерьянович, увидев как бы лишнюю эмалированную емкость, которая абсолютно не вписывалась в экспромт-натюрморт на тюремном столе.
— Хорошо, что небо голубое, а не красное, — хмыкнул Толик, выпив из своего стакана.
— Резонно, — согласился Максим Валерьянович и продолжил уже по делу, — так мы можем рассчитывать, что с нашим человеком все будет в порядке?
— Можете, — заверил Толик.
— Мы очень скоро…
— Придете за ним, — уже раздраженно прищурился охранник на Максима Валерьяновича.
— М-да… — кивнул Максим Валерьянович и как-то быстро оказался у двери. — Если можно, я в следующий раз принесу арестованному сотовый телефон?
— Вообще-то не положено, но если притащишь своевременную абонентскую плату за переговоры, никаких проблем.
— Хорошо, хорошо, — закивал завбазой, закрывая дверь с той стороны.
Когда она закрылась, Толик сменил гнев на милость и посмотрел на меня, улыбаясь:
— От него пахнет дохлой конторской крысой… И еще… Как бы это сказать… Как будто он свою одежду в собственном поту стирает. Сальный какой-то…
— А я всё никак не мог подобрать название для своих ощущений.
— Тогда давай перебьем запах, стрелок, — подмигнул Толик, наливая по второй.
7
От обеда — жидкого перлового супа со сладкой картошкой — я отказался после первой ложки. Да и не горячий он был.
— Знаю, знаю, — ухмыльнулся Толик, — будто не из столовой, а из морга.
От такого сравнения пропало желание не только обеда, но и тюремного ужина. Спасибо Максиму Валерьяновичу, из его полиэтиленового пакета еще можно было достать кое-какую снедь, и ее было вполне достаточно, чтобы обойтись не только без перлового супа, но и без кислой капусты с куском сала, из которого «аппетитно» торчала щетина.
После обеда я вознамерился, было, вздремнуть, тем более что у Толика была и другая работа, кроме как вызнавать у меня, где и в кого я стрелял и что при этом испытывал. Вопросы его не были обусловлены простым и наглым любопытством, потому что ему хотелось примерить мои ощущения на себя. Его же история в отличие от моей читалась легко и понятно…
«Вихри враждебные веют над нами», — напевали в шутку. Количество этих вихрей росло, сбивая с привычного ритма работы. «Вихрь-антитеррор». Где уж там вихрь?! Так, сквозняк. Улов, конечно, бывает, но каждую иномарку все равно не выпотрошишь. Сержантик-салага, нет чтоб автомат на боку держать, за спину закинул. Взял документики и пошел вокруг джипа с умным видом гулять. А надо заставить мордатого мальчика за рулем выйти и немного нараскоряку постоять. В багажник вообще только с напарником заглядывать следует.
— Эй, Оленин! Фига ли стоишь?! Иди досматривай! — совсем расслабились пацаны.
И тут джип взревел всеми своими котлами, дал сначала назад, выворачивая руль, а вперед не успел… Рука, не дожидаясь никаких сигналов от мозга, выдернула «Макаров» из кобуры. Сержантик качнулся в сторону, лицо удивленное, джип-то вокруг него резиной засвистел… Значит, не хотел сбивать?.. Но эта мысль пришла позже, чем палец нажал на курок. Окровавленная голова водителя ткнулась в лобовое стекло, нога, видимо, сыграла на педаль тормоза. Джип качнулся носом и заглох. Только в этот момент сержантик передернул затвор автомата…
«Следовало стрелять по колесам», — скажет начальник РОВД, а за ним повторят все возможные начальники и судья. Пистолет и граната, найденные в салоне под сиденьем, роль аргументов не сыграют. Ладно, хоть сержантик там, на расследовании, не растерялся…
Дверь камеры проскрежетала ту же песню, Толик пустил ко мне нового гостя. Это был седоватый толстяк с аккуратно подстриженной бородкой, цепкими серыми глазами и маленькими холеными ручками, одну из которых он протянул мне:
— Петерс Денис Карлович, адвокат. А вы — Никита Васильевич, — опередил и определил.
По-хозяйски осмотревшись в камере, сел на прикрученную к полу табуретку. Достал из кейса какие-то бумаги и сотовый телефон, который передал мне.
— Абонентская плата внесена вперед. Часа через два вам позвонят, а мы пока открыжим с вами кое-какие формальности. Прямых улик против вас нет, вопрос о залоге почти решен, необходимо, чтобы вы подписали кое-какие бумаги.
— Вы так любого душегуба вызволить можете? — не удержался я, хотя благоразумие подсказывало, что лучше всего мне молчать и делать то, что скажет этот пахнущий дорогим одеколоном, уверенный в себе толстяк.
— Нет, не любого, — без какого-либо смущения ответил Денис Карлович. — И давайте каждый выполнять свою работу, а не заниматься дешевым морализмом, хорошо?
— Согласен.
— Ну и чудненько. Вот я тут открыжил карандашом, распишитесь. Можете, конечно, предварительно прочитать, но уверяю вас, документы — комар носа не подточит. Потом еще дадите подписку о невыезде. Это тоже, знаете ли, формальность. Кстати, оперативники, которые вас незаконно задержали, удивительно добропорядочные и сговорчивые люди…
Мне показалось, по лицу его скользнула тень недоверия. Без сомнения, он съел на подобных делах целую свору собак и мог легко почувствовать даже едва заметную фальшь. Неужели Болотов и его ребята дали Денису Карловичу повод? На всякий случай я решил доигрывать за них.
— И сколько нынче стоит добропорядочность и сговорчивость?
Адвокат театрально поморщился.
— Мы же договорились! Если вам очень хочется делать хорошую мину при плохой игре, когда я вытащу вас отсюда, обратитесь на телевидение. Выступите там с речью о коррупции, продажности милиции и чиновников. Вас с удовольствием послушают. Они, между прочим, уже дали сообщение, что в городе было совершено очередное заказное убийство, а доблестная милиция вместо киллера задержала душевнобольного человека, у которого, к тому же полная амнезия…
— Душевнобольной — это я?..
— А то?.. У нас тут не цивилизованный мир, под залог не выпускают, если ты не знаешь, куда его следует вносить. Так что нравится вам или нет, но придется побыть в некотором смысле сумасшедшим. Этаким тихо помешанным, не представляющим опасности для общества. Общество очень любит сострадать таким, как вы. Опять же все медицинские документы в наличии и в полном порядке. Главный врач областной больницы просил передать вам привет, если вы, конечно, его помните.
— Владимир Степанович?
— Он самый. Кстати, его основной специальностью является психиатрия. Так что, если будут проблемы, всегда пожалуйста.
— Издеваетесь?
— А вы? Со своими наводящими вопросами? С мордоворотами, знаете ли, приятнее работать. Придешь в камеру, а они с порога: «Братан, как я тебя долго ждал!». И такие обходительные, такие вежливые.
— Ну так, — хохотнул я, — им же справку о дебильности не нужно добывать, там и так все ясно.
— Хорошая шутка, — согласился Денис Карлович. — Ну-с, значит, так. До завтра вам еще придется побыть здесь, пока я все подготовлю. У вас теперь есть телефон, вот мой номер, — и протянул мне визитку.
Буквально через несколько минут после его ухода телефонная трубка спела тему из сороковой симфонии Моцарта. Пришлось некоторое время покрутить ее в руках, чтобы сообразить, на какую из кнопок нажимать. Не дождавшись моего «алло», телефон заговорил со мной официальным звонким женским голосом.
— Никита Васильевич, завтра вам следует подойти в наш офис по адресу: Гастелло, двадцать пять. Это на первом этаже. Получите проездные документы…
— Я куда-то еду?
— Вы меня спрашиваете?
— Извините.
— Постарайтесь до семнадцати ноль-ноль зайти.
— Хорошо.
— Спасибо, до свидания.
События начинали раскручиваться в этом замкнутом пространстве не хуже, чем на какой-нибудь фондовой бирже. Следующим гостем оказался Лёва.
Он вошел, приложив указательный палец к губам: мол, не болтай лишнего. Начал задавать какие-то вопросы о том, почему я оказался рядом с местом преступления, и сам же отвечал на них, зачитывая справки об амнезии или историю болезни, из которой выяснялось, что я вследствие посттравматического синдрома вообще не ориентируюсь в пространстве и времени. Затем Лева как бы сменил тематику, началась новая вереница: не видел ли я кого-нибудь, не слышал ли подозрительных хлопков, не столкнулся ли с кем-нибудь, кто спускался бы по черной лестнице проектного института, потому как взяли меня именно там, в то время, когда я справлял малую нужду. Сыпя прямыми и наводящими вопросами, на которые я что-то невразумительное мычал в ответ, Лёва развернул передо мной сложенную вчетверо бумагу. Это была записка от Болотова:
— Никита. Похоже, всё идёт по плану. По их плану. Тебя выцарапают. Тут какая-то огромная машина работает. Знай одно: главное вовремя из нее выпрыгнуть, иначе и тебя перетрет. Ты уж, наверное, и сам понимаешь, что твое дело пешкой ходить. Ума не приложу, что будет дальше. Но если б тебя хотели убрать, то уже убрали бы. Значит, у тебя какая-то еще роль или что-то от тебя зависит. Ломай память, Никита. Что-то еще есть. И прости: вышла одна неувязка — Риту мы не нашли. Ни на работе, ни дома. Выставили наружку, будем ждать. Ты в ней уверен? За этот вопрос тоже прости. Звони мне по домашнему телефону, но только не пользуйся при этом подарком. Если что нужно, черкни и отправь с Лёвой. Держись, Иван.
Лёва положил передо мной ручку, и я торопливо набросал:
— Ваня, найди Риту. До сих пор у меня не было поводов ей не верить. Из всего, что у меня есть, я не знаю только назначения ключей. Один от накладного замка и еще от какого-то типа абонентского ящика. Возьмите их из моих личных вещей, изъятых при досмотре. Попробуйте порыть в этом направлении. Никита.
Лёва сунул записку в карман. Извинился за доставленные неудобства и, подмигнув, вышел из камеры. Сердце у меня стало куда-то проваливаться. Отсутствие Риты наводило на жуткие мысли. Получалось, что, кроме нее, мне не за что было в этом мире цепляться. Во всяком случае, я так думал, я убедил себя в этом. Была, конечно, привязанность к Ивану, к Игорю, даже к Немому. Но когда-то в меня вживили убеждение, что потеря друга в бою — это потеря части самого себя. А себя жалеть нельзя. В случае с Ритой речь шла о тех, кого мы сами делаем своей частью и внутренне несем за них ответственность. Как бы это угловато ни звучало, но такие потери считать боевыми нельзя.
Я не стал метаться по камере. Десятки сомнений в правильности происходящего ринулись терзать мои разум и душу, холодок недоверия ко всем и вся пронесся сквозь ворох невеселых мыслей. И все та же безысходность была всему ответом. Та же, с которой началась моя вторая жизнь в больнице. Может быть, та же, которой закончилась первая. От такой безысходности вопреки представлениям не хочется выть на луну, хочется либо уйти в дальний угол, в темноту одиночества, чтобы не видеть никого, либо стрелять длинными очередями по врагам, которых еще надо найти. Мне вдруг подумалось об американских фильмах, дюжину которых я успел посмотреть благодаря вынужденному отдыху. Почти все они были боевиками. Главные герои в них тоже попадали в чрезвычайно сложные обстоятельства, но все-таки расправлялись с коварными врагами и выходили победителями. Но вот что интересно: правдивость сюжетов подчеркивалась реками крови. Это гибли друзья, сослуживцы и родственники харизматических героев. И я поймал себя на жуткой мысли о том, что их не успеваешь пожалеть. Их не жалко! В погоне за сюжетом, за действиями главного героя абсолютно не придаешь значения тому, что вокруг уже навалены горы трупов, и герой идет по ним к очаровательному хеппи-энду, чтобы стать неуязвимым победителем. А если с Ритой что-нибудь…
Трубка, лежащая на столе, снова пропиликала Моцарта.
— Все в порядке? — это был незабываемый предупредительно-вежливый голос Симона Давидовича. — Только не называйте меня по имени! — предупредил он.
— А я думал, вы ничего не боитесь, — в этот момент я сказал то, что думал.
— Ничего не боятся только сумасшедшие…
— И мертвые, — поторопился добавить я.
— Мертвые боятся забвения, — философски рассудил Симон Давидович.
— Значит, я из тех, кто ничего не боится. Благодаря вам, я уже и сумасшедший, и с забвением у меня тоже все в порядке.
— Именно с этим мы надеемся в ближайшем будущем разобраться. Я думаю, вы не будете возражать, если вашей памятью займутся ведущие врачи мира?
— Я думал, моя память нужна только мне.
— Может быть, и так. Но вы добросовестным трудом заслужили хороший отдых. Возможно, там, где вы будете отдыхать, вам и придется выполнить еще одно задание, но об этом пока говорить не стоит. Главное, выполните инструкции, которые вам сегодня сообщили. Даже если сейчас вас еще терзают какие-либо сомнения на наш счет, очень скоро, Никита Васильевич, вы сможете убедиться, что мы не только слов, но и людей на ветер не бросаем. Вы, кстати, высококвалифицированный специалист…
8
Как-то всё просто получалось. Для кого в этой стране были написаны законы? Кого можно арестовывать, а кого нельзя? За украденный рубль человек мается по зонам несколько лет, укравший миллионы отмахивается от прокуроров, как от комаров. Убийцы свободно разгуливают по улицам городов. В том числе и я… Было похоже, что неписаные законы действовали вернее и надежнее, чем законы писаные. Словно все в одночасье приняли какие-то жесткие правила игры. Кому-то они позволяли сказочно обогащаться, кому-то выживать, кому-то лезть в политику, кому-то спиваться и умирать от наркотиков. Взять каждого в отдельности, и он выскажет ту или иную долю недовольства как писаными, так и неписаными законами, но уже через минуту будет как заговоренный играть по правилам, покрикивая на партнеров, а то и постреливая в их сторону, чтоб не нарушали тех самых правил. Спящее царство. Кому и в какое место его нужно поцеловать, чтобы в одно прекрасное утро все проснулись подобревшими и немного озадаченными: что мы делали все это время?
Денис Карлович появился ранним утром, когда в решетчатое окно камеры резаными лучами прорвалось мороженое январское солнце. Наблюдать за ними было огромным удовольствием. Лишенные ослепительной поддержки снега, они были розовыми, а внутри пучка света происходила какая-то мини-галактическая жизнь, сталкивались и клубились туманы, мириадами миров перемещались звездочки пыли.
— Красиво, — определил мое любованье адвокат, — но у нас нет времени для естественнонаучных наблюдений в условиях СИЗО. Нас ждут великие свершения, как говорил Остап Бендер.
— Полный рот золотых зубов и бассейн кефира, — добавил я.
— Ого, а мне говорили, что у вас полный провал памяти!
— Книги помню, а многие и заново перечитал. В больнице.
В камеру заглянула краснолицая голова Лёхи Лебедева:
— Оп-с, — сказала она, — если вам тут, братва, понравилось, я скажу майору, чтоб не ждал вас на выходе. А вообще-то погодите, на коня нужно принять.
Он пулей метнулся к столу и достал из кармана знакомую плоскую бутылочку. В его руках она напоминала аналог неразменной монеты — этакая невыпиваемая емкость. Денис Карлович откровенно поморщился, но Лебедев, видимо, на него и не рассчитывал. Отпив из горла, он протянул чекушку мне:
— Причастись, братан, может, больше не свидимся.
— Да уж, лучше бы не надо, — улыбнулся я и отпил пару глотков.
Денис Карлович осуждающе покачал головой.
— Пока в этой стране пьют с утра, благополучия ей не видать, — сказал он.
— Главное, детей делать на трезвую голову, а то из них потом адвокаты вырастают, — огрызнулся Лёха.
— Между прочим, — задержался в дверях Денис Карлович, — Ленин был адвокат, Горбачев — юрист.
— Во-во! А я о чем?! — полетело нам вслед.
— Что с них спрашивать, если у них президенты в нетрезвом виде немецкими оркестрами дирижируют, — бурчал адвокат сквозь тюремные коридоры.
— А что, и такое было? — спросил я.
— И не такое было.
Процедура выхода на свет божий не заняла много времени. Я, не глядя, расписался в нескольких бумагах, сгреб в охапку свои вещи, подметив, что среди них нет не только связки ключей, но и документов. Потом мы прошли через довольно просторный двор, через КПП и наконец вышли на свободу. Петерса поджидала за воротами иномарка, но меня он предупредил сразу:
— Простите, Никита Васильевич, у меня дела, подвезти не смогу, — хитро как-то глянул при этом. Мол, моя работа сделана, а ты как знаешь.
Я сухо поблагодарил его, он так же сухо заметил, что за такие деньги всегда пожалуйста. Его безлицый водитель передал ему через открытое стекло плотный конверт. А он вручил его мне.
— Гонорар. Ваш.
На удивление, в конверте оказались не доллары, а другая валюта. Разбираться с ее достоинством и географической принадлежностью было некогда, и я, не глядя, сунул конверт в карман. Адвокат опять недовольно покачал головой и, уже устроившись на переднем сиденье, протянул мне в окно сторублевую купюру:
— Это вам на такси. Здесь полно частников. Справа автобусная остановка. Только руку подымите… — и умчался по своим многочисленным и не очень чистым делам.
Такси действительно долго ловить не пришлось. Я даже не успел вскинуть руку, как у самых ног притормозил потрепанный «жигуленок». Только наклонившись к дверце, я увидел за рулем Болотова.
— Прыгай быстрее, мужик, полтинник — и едем, куда скажешь, — веко у него едва заметно дернулось, как самый банальный намек на конспирацию.
Снова он заговорил, отъехав метров триста:
— Вот теперь и поболтать можно, у этой старушки все жучки вместе с кузовом заржавели, а дальнобойные микрофоны на тебя ставить слишком жирно. Как дела, братан?
— Слушай, Вань, я все никак не могу понять, бандиты братаны, менты братаны, а остальные кто?
— Электорат, — хохотнул Болотов. — Ну так как дела?
— У меня голова кружится от обилия внимания к моей персоне. Кстати, паспорт не вы взяли?
— Нет, только ключи. Значит, готовься в дальние страны.
— В смысле?
— Ну если у освобождаемого под подписку о невыезде некие сверхъестественные силы позаимствовали паспорт, значит, скоро его отправят за бугор поправлять здоровье.
— И деньги… Вот…
— Шиллинги австрийские. Страна — перевалочный пункт.
— Что с Ритой?
— Никита, мы аккуратно проверяли, дома чисто, никаких намеков на хоть какую-то долю насилия. Думаю, твои хозяева готовят тебе сюрприз. Пока не пори горячку…
— А с ключами?
— Роем. Вот только бы знать где… У тебя по этому поводу никаких соображений?
— Тут не соображения, а память требуется. А с нею у меня — сам знаешь.
— Да уж, вредная тетка, профурсетка!
— Куда тебя?
— Сам знаешь.
— Думал, может, новую вводную дали.
— До пяти вечера время еще есть. Вот только боюсь там встретить одного дурно пахнущего человека. Кстати, прощупай его. Зовут Максим Валерьянович, бывший завбазой. Работает на некого Симона Давидовича, который знает слово «сим-сим», и все двери, включая тюремные, по его приказу открываются. Думаю, он и кремлевские кабинеты ногой открывает. Больше ничего добавить не могу. Найти бы еще Двадцать Седьмого… Куда они его отправили? И Немого.
— Что за Немой?
— Достойный стрелок. Чистильщик по призванию. Жил в Сочи, на Мамайке. Проверь… Зовут Андрей Викторович. Но он, как и я, в списках живых не числится.
— Хорошо. Хотя в твоих кроссвордах даже квадратиков для букв не предусмотрено. Полная темнота.
— С Симоном Давидовичем еще Леня приходил. Типичный браток, но, вероятно, из легализовавшихся…
— Ого, ты уже и в этих делах рубишь?!
— Тут хочешь — не хочешь… А еще попробуй узнать что-нибудь о человеке по фамилии Черноморец. Он может находиться где-нибудь в горячей точке в качестве эксперта или командира какого-либо спецподразделения.
— Отоларинголог?
— Что?
— Это те, которые душманские уши, как трофеи, собирают. Вялят и, как ожерелье, носят. Беспредельщики.
— И такие есть?
— Ну кто-то уши, а кто-то головы режет…
— Это даже и не война, это мясорубка какая-то.
— Сейчас на каждой улице мясорубка и мусорница. Ты вот что, Никита, будешь мне звонить, но где бы ты ни находился, звони только с телефона-автомата.
— ?..
— Ты, похоже, под таким колпаком, что и лабораторным крысам не снилось.
— Знаешь, где я чувствовал себя лучше всего за последнее время?
— ?..
— По дороге на тот свет.
— Видимо, Никит, у тебя еще здесь дела имеются.
9
Вопреки моим опасениям в квартире Риты меня не ожидал Максим Валерьянович. Действительно, как и говорил Болотов, там была полная тишина и чистота. Словно хозяйка успела сделать уборку перед праздником. Никаких записок и знаков я не нашел. Зато сердце саднило, и почему-то по-детски хотелось заплакать. От таких ощущений я прикусил себе губу.
В холодильнике нашлось несколько яиц и полпачки масла, мне удалось поджарить яичницу. Сварил себе кофе и с полной апатией к пище и ко всему, что может произойти, начал есть. Следовало хоть как-то обдумать свои дальнейшие действия, но получалось, что мне остается только реагировать на возникающие обстоятельства. А они не заставляли себя ждать. Видимо, где-то в книге судеб чересчур торопливо листали страницы. Не прошло и пяти минут, как в дверь позвонили. Я шел открывать ее с полной уверенностью увидеть на пороге Максима Валерьяновича, но земля оказалась еще круглее, чем я думал. На пороге с ехидными улыбками стояли Саня и Родя.
— Привет, братан, — развязно поздоровался Саня, а Родя немного смущенно кивнул.
— Можно войти?
— Валяйте, — освободил я проход.
С порога они двинулись на кухню, словно бывали здесь уже не раз. По-хозяйски отодвинули сковороду с яичницей, и стали извлекать из пакетов продукты в ярких упаковках, вытащили также пару бутылок водки «Смирнов».
— Ты не менжуйся, братан, — позвал меня Родя, — мы по делу.
— Реально, — подтвердил Саня, — завалить тебя пришли. Вот такое, братан, плановое задание.
Он сказал это так, как будто он убивает людей ежедневно согласно полученной разнарядке, а со мной они сделают это по-дружески. Не больно.
Правда, я давно уже знал, что за напускной жестокостью и внешней атрибутикой прожженных уркаганов скрываются совсем другие люди.
— А это, — кивнул я на стол, — чтобы сразу помянуть?
— Йо-хо-хо! Да ты Петросян! — Саня от души расхохотался. — Да нет, брат, мы, если б хотели, тебя еще в подъезде накрючили, так что дыши глубже…
— Садись, выпьем, — пригласил Родя, который уже похозяйничал, нарезал, налил, открыл банки и даже насадил на три вилки по огурцу.
— У нас что, праздник? — спросил я, усаживаясь.
— Без базара, твой день рождения. По нашим подсчетам, уже третий. — Саня высоко поднял стопку. — Ну, за именинника.
Мы выпили, неторопливо закусили, братки при этом откровенно на меня косились. Только спустя минут пять Саня вновь начал говорить.
— А ты мастер, беспамятный. Мовшензону дырку по циркулю сделал. Он, блин, даже фотогеничным стал. Я у ментов на фотке видел. В газетенке-то нашей городской статья о нем вышла. «Смерть на боевом посту» называется. Во, блин, до чего демократия докатилась. Зато тебя отмазали, будто ты в ООН работаешь, — он налил еще по одной.
Выпили молча, снова долго закусывали, обмениваясь многозначительными взглядами. Все это действо называлось просто: мы хозяева любой обстановки. Саня начал говорить о том, что, судя по всему, за мной очень крутые люди, раз меня не отправили на очную ставку с Мовшензоном, я же решил подыграть им своей ущербностью.
— Я больной человек, — очень печально сказал я.
Они даже жевать перестали. С минуту висела мертвая тишина. Но стоило им переглянуться, как по кухне раскатился гулкий хохот. Аж до кашля.
— В натуре, — с трудом успокаиваясь, продолжил Саня, — больной человек. Замочил клиента и ничего не помнит! — на них снова напал приступ хохота.
Мне же ничего не оставалось, как только ждать истинной сути разговора. К этому моменту я уже не сомневался, что они действительно имели заказ на мою персону.
— Давно работаешь? — спросил уже серьезно Родя.
— Давно, — не стал ломаться я.
— А я думал, ты из тех, у кого моральные соображения и муки совести.
— Не без этого.
— Ну и как ты потом с этим живешь? — прищурился Саня.
— Легко, — в духе братков ответил я, — как в выходной после рабочей недели.
— Круто, — признал Родя.
— Ну вот что, братан, — наконец-то перешел к делу Саня, — ты хоть понимаешь, что важного человека поторопил?
— Мусор убрал. Если б он гайки на заводе тачал, хлеб сеял, я бы ни за какие деньги в такого стрелять не стал. А такого говна не жалко, — какой-то неуправляемый гнев охватил меня. — Испоганили страну! Демократия?! Для них демократия, а для остальных дерьмократия — нищета и рабство.
— Да ты — Маркс! — опять ощерился Саня.
— Не, — возразил Родя, — у него какая-то другая философия.
— Чего? — изумился познаниям товарища Саня.
— Я говорю, он по-другому разводит.
— Короче неважно, — отмахнулся Саня, у которого от умных мыслей начинала болеть голова. — Важно, что… — мысль забуксовала, и он налил всем по рюмке. — Накатим за… Светлое будущее… Во!
Уже отфыркавшись после очередной порции водки, Саня изрядно подобрел и обратился ко мне почти по-семейному:
— Ты пойми, брат, ты нам чем-то приглянулся, а Копченый тебя сделать велел. Ну и сам прикинь, с твоей крышей тоже дела водить не хочется. Тебя ж из СИЗО чуть ли не с оркестром вывели. Короче, палево у нас. Если тебя не завалим, нам кранты от своих, если завалим, вообще хрен знает, чего ждать. Мы в полных непонятках. Тем более что ты нам симпатичен. По-человечьи… Понимаешь? — он с искренней надеждой на понимание заглянул мне в глаза.
— Понимаю, — благодарно ответил я.
— Ну а коли так, то позвони наверх, — он ткнул пальцем в потолок, — пусть там за нас подумают. Нам отпуск нужен! Мы тут с Родей прикинули — штук по двадцать зеленью у нас есть, чтобы на дно лечь. Короче, ты перебазарь, чтобы мы без проблем на пенсию ушли. А то, может, нам и из подъезда выйти не дадут.
— А то и Копченый уже своих санитаров послал, — тихо добавил Родя.
— Телефон у тебя есть? — начал напирать Саня.
— Вот, — я достал из кармана куртки трубку.
— Ну, я ж говорю — крутизна! Это даже не сотовый, это спутниковый! Из любых джунглей в Нью-Йорк позвонить можно.
— Зачем в Нью-Йорк? — не понял я.
— Да хоть в Урюпинск! — занервничал, рассматривая трубку, Саня.
— Тут красивая девушка жила. Уехала куда-то. Ей случайно билеты не Копченый купил? — наступила моя очередь задавать вопросы.
— Нет, братан. Мы бы об этом по любому узнали.
Саня не врал. Значит, оставался только Симон Давидович. Или… Сама Рита.
— Так ты позвонишь?
— Позвоню, только не сейчас. Велено на связь не выходить. Но у меня для вас есть хорошее место. Поедете в Сочи.
— В Сочи?
— Да, там есть очень уютный дом, в нем сейчас никто не живет. Вилла в натуральную величину. Так что отдохнете, оттянетесь. Если вдруг вернется хозяин, скажете — от меня. Но ответа от него не ждите, с расспросами не приставайте, он немой. И зовут его тоже Немой.
— Погонялово?
— Это у урок погонялово, а у него — профессиональное.
— Псевдоним, — вставил Родя, и Саня посмотрел на него с явной тревогой, точно зная, что в нынешней жизни лишний ум доставляет одни неприятности.
— Он что, тоже киллер? — откровенно спросил Саня.
— Вроде того. Но правильнее будет сказать — охотник. Поэтому о своих заслугах лучше не упоминайте.
— Тоже философ? — это уже опять Родя.
— Хуже, практик… Как только я смогу, сам на вас выйду. Без работы не останетесь.
— Да ты уж замолви за нас там.
— Стопудово, — вспомнил я где-то услышанное. — Ствол у вас есть?
— Вот, «Стечкин» и еще «ТТ», оба незамаранные.
— Дайте мне «Стечкин», а «ТТ» спрячьте где-нибудь, дабы никого не нервировать. Уезжайте прямо сейчас, я напишу адрес в Сочи, а вы мне — адрес Копченого.
— Ты не сдурел? Или тебе точно мозги взрывом покурочило?
— Нет, просто у меня до обеда есть свободное время. Да и какое вам дело? Вас курорт ждет.
— Зимой… — ухмыльнулся Саня.
— А можно, я с собой сестру возьму? — спросил вдруг Родя.
В глазах у него при этом появилась безысходная тоска.
— Ей тут все равно не жить… — вздохнул и безнадежно махнул рукой, мол, знаю, что зря прошу.
— Возьми… Только береги ее. Не забудь о школе. Думаю, искать вас никто не будет. По крайней мере, пару месяцев. У них тут свои дела будут.
— Спасибо, брат, — Родя не решился протянуть мне руку, но благодарил от чистого сердца.
— У вас два часа, чтобы исчезнуть из города. Сейчас, как на параде, вывалитесь из подъезда, я подстрахую. Если что, прыгайте в машину и по газам, со всякими, как вы тут плели, санитарами я сам разберусь…
— Ты, главное, не забудь про нас, у тебя ж память-то… — совершенно серьезно попросил Саня уже на выходе.
10
Видимо, Сане и Роде доверяли, никто их не ждал, хвоста за ними тоже не было.
Дав им обещанную фору, я двинулся по указанному Саней адресу. Нужную улицу пришлось искать долго и нудно. Она ухабилась на окраине, в районе, который назывался Шанхаем. Названный дом, разумеется, выделялся среди покосившихся домишек своей добротностью и кирпичностью, но в общем был без особых изысков. В одно из окон был выставлен динамик музыкального центра, из которого надсадно рыдал какой-то певец криминальной романтики. Современную «Мурку» сопровождали плаксивые электрогитары и синтезатор. Вход во двор охраняли массивные железные ворота, выкрашенные в вызывающе ярко-красный цвет. Пробовать открывать калитку я не стал, а сразу вошел в соседний двор, где ее вообще не было. Двухметровая кирпичная стена без колючей проволоки и прочих неприятностей не оказалась серьезным препятствием. Сначала я только заглянул в «веселый» двор, подтянувшись на руках. Танцев там не было, но и охраны тоже. Вероятно, хозяева ни на секунду не допускали возможности появления незваных гостей. Тем более в обнимку со «Стечкиным». Или, может, именно сегодня у них был день всеобщего «расслабона».
Пройдя невзрачный предбанник, закиданный окурками и заставленный пустыми бутылками всех встречающихся на планете форм и объемов, я шагнул в прихожую. Из комнаты впереди по курсу также неслась музыка. Теперь уже пел женский голос, клявший на чем свет стоит позорных ментов и свою долю. На словах «полюбила уркагана» я шагнул в комнату.
Двое полуголых, покрытых татуировками мужчин сидели за журнальным столиком и играли в нарды. На столике, кроме игральной доски, стояла бутылка водки и две стопки, на диване у стены, как маловажная деталь интерьера, валялся АКМС. К нему и дернулся тот, который сидел ко мне спиной. «Стечкин» гулко плюнул ему в затылок и помог ему долететь до дивана, но уже мертвым.
— Оп-па… — без тени испуга сказал второй, — в доме мусор, а вынести некому.
— Не мусор, а мусорщик, — поправил я.
— Какая половая разница? — ухмыльнулся тот, кого весь город называл Копченым.
А называли его так потому, что лицо его, шею и часть торса «украшали» коричневые жутковатые ожоги. Здоровая кожа была густо разрисована диковинными и банальными татуировками. Во взгляде его читалась полнейшая вседозволенность и пренебрежение к любым жизненным обстоятельствам. Кроме этого, в нем угадывалась тупая ненависть ко всему, что перечит его планам. Такого пугать все равно что на стену лаять. Его следовало застрелить без промедления и сразу же уходить, но что-то удерживало мой палец на курке. Он понял, что я тоже не испытываю страха.
— Водки хряпнешь?
— Не думаю, — ответил я и сел напротив.
— Мочить меня пришел?
— Да ты и так по уши мокрый.
— Копченый, — без тени иронии поправил он.
— Кто меня заказал? Мовшензон? — задал я свой вопрос.
— Так это в первый раз было, когда тебе ведро тротила в машину заначили. А сегодня я пацанов послал. Думал, все равно когда-нибудь объявишься, раз Мовшензона пригрел. Выходит, не ошибался. Наводка на тебя с Москвы пришла… Свои, видать, сдали…
— Свои — не сдают.
— И то верно… Так чего ты хочешь? Уберешь меня — уже завтра в этом кресле другой сидеть будет. И, один хер, все будет по-старому. Свято место пусто не бывает.
— К данному месту эта пословица не подходит.
— Умничаешь?
— He-а, родился таким.
— А я думал таких, как ты, в инкубаторе делают. Из пробирок. По специальному плану партии и правительства. Сперму у лучших ментов за премию покупают. И заворачивают после рождения в красное знамя вместо пеленок.
— Разозлить хочешь? Ты-то небось тоже не сразу на тюремной параше родился.
Копченый заметно ерзанул, но сохранил самообладание.
— Ах, бля, мы святые, — театрально изумился он, ерничая под юродивого, — мы в народ стреляем, если только папа прикажет. Вот такие, как ты, в тридцать седьмом народ и валили.
— Не такие, — без эмоций возразил я, — а такие, как ты. Это вы за деньги убиваете.
— А вы, бля, за идею?!
— Мы — на войне. Враг не только снаружи, но и внутри бывает. Ты ж пенициллин пьешь или колешь, если у тебя в организме микробы балуются.
— Да ты, в натуре, грамотный! Но только знай, фраер, мои пацаны тебя не валили! Только на подстраховку ходили. Мовшензон тебя чеченам заказывал. У него основные дела с ними. А тем душманам действительно по фигу, кого валить, лишь бы гонорар ломился. Им хоть мусульманин, хоть папа римский.
— А зачем сегодня людей послал?
— Потому как безопасны только мертвые. Думал, после Мовшензона моя очередь. Пархатый-то неуязвимым считался. Его паханы ой как высоко трутся. Ну что ж, валяй, стреляй… Ствол-то я вижу наш… Выходит, прибрал моих ребят.
— Защищался, — кивнул я и собрался уходить.
Копченый едва заметно напрягся, но у меня уже были совсем иные планы, чем отстреливать смотрящих.
— Никак передумал? — не поверил он.
— Я же на войне. Военнопленных не расстреливают…
Что-то давно забытое, не чуждое ни одному человеку, похожее на скупую тень благодарности мелькнуло в его едких глазах. Уходя, я даже не удосужился разрядить автомат. Я точно знал, что стрелять мне в спину он не станет.
— Слышь, — глухо, откуда-то из самой глубины выдавил Копченый вслед, — можешь считать, что в этом городе у тебя выписана страховка, во всяком случае, пока я жив. Да, и бабу твою мы не трогали, ее на лаковом лимузине увезли… В аэропорт.
Теперь уже я оглянулся и посмотрел на него с максимально возможным в подобной ситуации чувством благодарности. Но Копченый уже снова окаменел в своем прежнем отношении к окружающему миру, словно не было никакого разговора, а у дивана не расплескались мозги его товарища. Этот человек играл свою тяжелую роль, как робот, сбои в программе не допускались. В жестокости его было столько же натурализма, сколько и уверенности в абсолютной правильности выбранного поведения.
Уже через минуту я забыл о нем и даже об индульгенции, которую получил. Следовало порыться в самом себе. Убив человека, кем бы он ни был, я не испытал ни удовольствия, ни отвращения. Совесть даже не шевельнулась. Дорогу перебежала черная кошка, и я вдруг с ужасом понял, что застрелить этот призрак суеверий для меня сложнее. Кошку мне было жалко! Выходит, во мне тоже своя программа. Программа, которая не стерлась вместе с памятью.
На Гастелло двадцать пять, в двухэтажном особняке с чугунными литыми воротами меня встретила смазливая длинноногая девулька — символ офисов, противовес канцелярским теткам «золотого века», сидевшим под вымпелами «ударник коммунистического труда». Вымуштрованная вежливость ее текла на меня негромким щебетанием и объяснениями, где и когда я должен буду сесть на самолет, где смогут продлить визу, как меня встретят, что делать, если не встретят…
— По-немецки что-нибудь знаете?
— Знаю: Гитлер капут…
— Хорошо, — будто это действительно было хорошо и являлось немецким «с добрым утром». — Хотя мне сказали, что вы знаете несколько языков. Вот, кстати, ваш паспорт… Вылетаете завтра, так что Рождество встретите в Вене.
— У них Рождество двадцать пятого декабря, а православные праздники там не в чести.
— Зря вы так думаете, там, рядом с российским посольством, есть православный храм святителя Николая. Очень красивый.
— Вы там были?
— Ой, я много где была. Руководителем группы почти всю Европу объездила, а в Азии Таиланд и Непал посетила.
— Повезло.
— Теперь каждый может в любую страну съездить.
— Вы это бабушкам скажите, которые на углу сигаретами торгуют, чтобы на хлеб заработать.
Девушка смутилась, а мне стало не по себе. Она относилась к типу людей, которые не желают никому ни горя, ни радости, живут по течению, просто подстраиваясь под время. Громоздить для нее политинформацию — все равно что доказывать пигмею, что он росточком не вышел.
— Я не хотел вас обидеть, — пришлось признаться и отступить.
— Я знаю, — на этот раз ее улыбка была настоящей, а не заученно-располагающей. — Счастливо вам отдохнуть.
— Спасибо, постараюсь…
Такси ловить не пришлось. Опять же еще до взмаха руки у моих ног затормозила знакомая «Волга». За рулем, на сей раз, сидел Лева, который не скрывал своего нервного состояния. Похоже, из-за меня у него сорвалось свидание.
— За каким чертом ты, Никита Васильевич, к Копченому в гости ходил? Ты ж нам всю работу с ног на уши поставишь…
— За ним и ходил. Вы что, ведете меня?
— Это ты нас за нос водишь, а мы, как дураки, только мусор убирать успеваем. Шеф велел тебя домой отвезти и просил больше не высовываться. Так ты уж сделай это, родной. А то мне из-за тебя всю ночь у подъезда снежинки считать. Прохладно, а бензина не густо. Замерзну смертью храбрых на боевом посту, а моя невеста замуж за толстого генерала выйдет.
— Езжай на свидание, Лева, я тебе торжественно обещаю, что больше никуда не высунусь. Вот только завези меня в супермаркет, что рядом с Ритиным домом. Я чего-нибудь на ужин куплю.
11
Человек с небольшой карточкой в руках, на которой было написано маркером Besogonov, встретил меня на выходе из зоны таможенного контроля. Я подошел к нему и молча показал свой паспорт, он так же молча взял у меня сумку, кивнул в сторону выхода и двинулся вперед. Я даже не успел рассмотреть огромный аэропорт, изобилующий многочисленными кафе, магазинчиками, автоматами для продажи сигарет, порционной пищи и питья… Обилие языков и рас говорило о созданном здесь искусственном вавилонском столпотворении, за которым очень внимательно следили подчеркнуто серьезные полицейские со смешной, часто моргающей собакой. По пути до машины я начал медленно осознавать, что попал совсем в иной мир. Пятичасовой перелет еще свистел в ушах, но глаза уже поедали новые впечатления и краски, да что-то произошло с обонянием. Готов поспорить хоть с кем: воздух там другой, там по-другому пахнет. Или это у нас другие запахи? Не зря ж помнится: …Здесь русский дух, здесь Русью пахнет… Европа в целом пахла хаотичным шевеленьем всего и вся, обилием, вжатым, вдавленным в прокрустово ложе, а в частности копченым мясом и кофе…
Вена встретила непривычным в январе дождем и реденькой зеленой травкой на ухоженных газонах. Свинцовое и какое-то узкое небо, будто втиснутое в заранее определенные границы. Серая, хоть и ультраевропейская столица почему-то больше всего напомнила Свердловск «золотого века». Из этой аналогии выбивались только архитектурные витиеватости, многочисленные колонны и пилястры, грустные с грязными разводами памятники, среди которых блеснул золоченой каской памятник советскому солдату. В этой связи подумалось о немцах с благодарностью. За памятником ухаживали. Не в пример нашим бывшим союзникам-славянам, которые рушили эти памятники на корню, из кожи вон лезли, чтобы угодить дядюшке Сэму. Видать, нам на роду написано: если интегрироваться сюда, то только на танках. Чтобы оставлять их потом здесь на постаментах в качестве напоминания, а уходить, как всегда, ни с чем.
Из помпезного центра мы вдруг въехали в действительную копию советских промышленных городов-гигантов. Вероятно, я слишком откровенно наморщил лоб, всматриваясь в удивительно знакомые панельные дома. Водитель наконец-то произнес первые слова на чистом русском языке.
— Рабочий район. Никита Хрущев отсюда копировал.
— Неужели даже на это у самого ума не хватило?
— Где уж этому кукурузнику. Он только на сталинских костях танцевать мог да каблуками трибуны околачивать. Не смотри, что здесь серовато. Объемы поменьше, но сервис не хуже. Да и цены тоже…
— Что у нас сегодня получает австрийский пролетарий?
— Две-три штуки зелеными… Если, конечно, он природный немец и работает на заводе, а не подметальщиком в баре.
И снова замолчал, будто разговора и не было. Я тоже не настроен был отвлекаться на разговоры, предпочитая глазеть на городские пейзажи. Но я зря рассчитывал на долгое катание по европейской столице, уже через пару минут мы притормозили у небольшого отеля с абсолютно не немецким названием «Квебек». Водитель предупредительно занес сумку в небольшой холл и, не попрощавшись, исчез. Сияющий дрессированной вежливостью юноша за стойкой администратора чего-то защебетал на немецком. Поэтому пришлось обозначить для него слабые, но возможные лингвистические ориентиры:
— Why your hotel is so identified? Was it built for Canadians only?
— I am not sure. I worked here for last three months. But we have guests from all over the world here.
— I’ll probably stay in «Quebec». My surname is Бесогонов.
— Let me see… Your staying here is paid. A woman expects you in room number two hundred and six. She has already lived there for two days.
— I hope she is that certain woman…
— Can I help you with your luggage, sir?
— Сам дотащу, не барин. Thanks, I will do this itself[5].
На второй этаж я буквально взлетел вслед за выскакивающим из груди сердцем. У дверей 206-го номера ненадолго замер, она была не заперта. Шагнул в маленькую прихожую, и далее взору моему открылась довольно просторная комната с двуспальной кроватью и беззаботно спящей на ней Ритой.
Некоторое время стоял молча и смотрел на нее. На секунду подумал, что я не прочь бы сейчас побывать в ее сне, если, конечно, он ей снится. Но читать чужие мысли было значительно проще, чем сны. По выражению лица спящего можно только догадаться, хороший или плохой сон ему видится. Так или иначе, Рита почувствовала мое присутствие раньше, чем я это понял: не открывая глаз, улыбнулась и тихо спросила:
— Ты приехал?
— Наверное, — ответил я.
— Если не уверен, то раздевайся и прыгай под одеяло, проверим…
12
После обеда в небольшом кафе на Фаворитенштрассе мы двинулись пешком в сторону центра. За два дня Рита научилась неплохо ориентироваться в пересечении многочисленных улиц, трамвайных и автобусных остановках, броских рекламах, обещающих половинные скидки. Через некоторое время я понял, что главными отправными точками ей служили как раз вывески магазинов, при этом она довольно точно «предсказывала», какая из них будет видна через квартал или два. В первый же день она купила себе короткий ультрасовременный красный плащ, великолепно гармонировавший с ее светлыми, чуть вьющимися волосами и топкими голубыми глазами. На ногах ее красовались такие же красные полусапожки. А то, что было между сапожками и подолом плаща, вызывало нескрываемый и даже чуть наглый интерес у видавших виды европейцев. Мы же ни на кого не обращали внимания, дурачились на ходу: мололи всякую чушь, смешивая русские, английские и немецкие слова, придумывая новые, подолгу стояли у витрин, часто заходили в переполненные кафе, чтобы выпить по чашке ароматного венского кофе и погреться. Ноль по Цельсию, если и не холодно, то промозгло и сыровато. Вообще у нас сложилось впечатление, что немцы целыми днями сидят в этих разнокалиберных кафе, неторопливо потягивая кофе или кофе с коньяком, неспешно поедают бисквиты и тешат друг друга ничего не значащими (во всяком случае, для нас) разговорами.
Признаться, уже на подходе к центральной площади Стефанплац с нацеленными в небо темно-серыми шпилями готического собора я вспомнил про телефоны-автоматы. Просто наткнулся на один из них.
— Отсюда можно позвонить в Россию? — оглянулся я на Риту.
— Можно, конечно. Там даже справочники лежат с кодами городов. Просто нужна целая груда мелочи или телефонная карта. Но я сама никому не звонила. Заприметила, как это делают другие. Кстати, русских здесь полно.
— Значит, нужно наменять монет.
Загрузив мелочью ближайший автомат, я набрал номер мобильного телефона Ивана. Соединение произошло за какие-то секунды, а голос его зазвучал так, будто он теснится рядом со мной в будке.
— Не представляйся, — опередил он, — я понял, что это ты. Твой завбазой ведет себя тихо, передвигает суммы, получает товары, все чисто. Об Андрее Викторовиче тишина. А вот Двадцать Седьмого твоего недавно выкупили…
— Да он вроде не продается…
— Его у чехов купили… После какой-то очередной малоудачной операции спецподразделений. Ты только не психуй. Он без ног. Сейчас в госпитале в Ставрополе.
— Успокойся. Мы проведаем. У тебя еще свои дела есть. Причем чем дальше, тем интереснее. Я с ключами к хорошему эксперту из моих бывших подопечных ходил. Очень высокого класса профессионал. Он все на свете открыть может, а на ключи и замки у него феноменальная память — энциклопедия. Так вот, он на квартирные ключи плечами пожал, а вот маленький… Короче, у тебя с деньгами как?
— Да пока хватает.
— Командировку моему Славику оплатишь?
— Куда?
— К тебе. Он ключик привезет. Дверца, к которой этот ключик подходит, у тебя под боком.
— Не понял.
— По телефону не буду. На билеты Славику всем отделом скидываемся, а гостиница и питание с тебя.
— А я думал, у меня медовый месяц.
— Боюсь, ложку дегтя не мы тебе готовим.
— Н-но…
— Давай по телефону не будем. Назови твой отель, Славик тебя сам найдет, рейс говорить по телефону не буду.
— «Квебек», это на…
— Не надо, найдет. Рита с тобой?
— Да, подмигивает, пора, мол, в кафе…
— Ну-ну…
— У тебя что, и на нее что-то есть?
— В том-то и дело, что нет. А этого я больше всего не люблю. Ну, бывай!
— Буду.
Автомат благородно высыпал мне пару оставшихся шиллингов. Европа честно сдавала сдачу. Европа понимала только денежные знаки, Европа измерялась только денежными знаками и уровнем благополучия, Европа понимала только тех, у кого эти знаки были. Чтобы понять это, мне потребовалось полдня.
— Может, снова выпьем кофе, здесь, в центре, так вкусно пахнет, — улыбнулась Рита.
— Я предпочел бы что-нибудь покрепче.
— Плохие новости?
— С тех пор, как я родился второй раз, единственной хорошей новостью была ты. Поэтому пойдем пить их действительно обалденный кофе с их отвратительным шнапсом…
— Тогда лучше коньяк.
— Вот это правильная идея…
Полбутылки коньяка вперемешку с новостями от Болотова заскочили в меня, точно стакан холодной воды в жаркий день. Очаровательная официантка профессиональным угловым зрением усекла мое излишнее для этих мест рвение. Она оказалась полячкой, говорящей на русском языке, и потому вежливо осведомилась:
— Вы не желаете немного закусывать?
— Немного закусывать? — хохотнул я. — Немного закусывать не грех. Ну порежьте там лимончик, можно сыр толстыми ломтиками, какую-нибудь бюргерскую ветчину…
— Може, желаете домашние колбаски? Наше фирменное блюдо. Очень вкусно.
— Давай, милая, и колбаски, да замени мне этот наперсток на нормальный бокал, и давай, на всякий случай, еще одну бутылочку этого коньяка…
— Никита… — это было то ли предупреждение, то ли возражение со стороны Риты.
Я подмигнул ей: мол, не дрейфь, и не по стольку пили… Правда, наверное, в какой-нибудь другой жизни. И когда кончилась первая бутылка коньяка, сам себе я не казался даже мало-мальски пьяным. Зато окружающие стали казаться в зависимости от их внешности либо чрезмерно привлекательными и добродушными, либо омерзительно отталкивающими. С одной стороны за соседним столиком сидела пожилая немецкая пара, обоим лет по семьдесят с гаком, они, как люди, неторопливо убивающие оставшуюся им беспечную вечность, так же беспечно и неторопливо пили свой кофе и, не скрывая любопытства, посматривали в нашу сторону. Обменивались какими-то фразами. Мне они показались добрыми и привлекательными. Совсем другие впечатления вызывал у меня столик с другой стороны, где, порыкивая и шумно гогоча, распивала пиво троица молодых парней в кожаных куртках. Иногда они тоже посматривали в мою сторону с нескрываемой иронией и с таким же интересом на Риту. Вот уж ей-то было явно не по себе. Пришлось сказать что-то в свое оправдание.
— Игорю оторвало ноги… Или оторвали… Или отстрелили… Он в госпитале… — больше я ничего добавить не мог, но добавил. — Не знаю уж, без чего лучше — без памяти или без ног.
— Налей и мне, — устало попросила Рита.
Я не помню, как съел колбаски, но помню, что они действительно оказались вкусными. На половине второй бутылки коньяка инстинкт самосохранения начал включать тормозную систему, я заказал двойной кофе, что было выполнено незамедлительно. Зато стала отказывать другая тормозная система. Милая пожилая пара что-то вежливо посоветовала мне на немецком, а может, просто спросила, откуда я такой взялся, и я, стараясь быть предельно корректным, насколько в таких случаях позволяет плохо управляемый язык, заговорщическим тоном сообщил им, что я приехал из «грейт Рашша», на что они умиленно закивали головами и к моему слову «грейт» добавили зачем-то «биг» и «гросс».
— Come back in USSR! — бессознательно, но весьма браво выпалил я, хотя, наверное, хотел сказать что-нибудь типа «I was born in USSR», дабы еще более подчеркнуть величие моей Родины. Да уж, наша пьяная гордость так же неодолима, как трезвая критика собственной страны на каждом углу и под каждой пальмой.
Если у стариков моя бравада не вызывала ничего, кроме улыбки и даже каких-то одобрительных фраз, что-то они даже пытались сказать про русских солдат, что-то доброе, что помнят, вероятно, с войны, то за соседним столом пивной гогот стал громче, гуще и наглее. Милая польская официантка пыталась помочь мне, меняя салфетки, шептала просительно и жалобно, чтоб я не «обращать внимания» (откуда-то прибалтийский акцент у нее пробился, от волнения, пожалуй, до этого говорила чище) на тот столик, где сидят байкеры. Я вдруг без всяких языковых барьеров прочитал ее, как давно у меня не получалось…
Матка Бозка, этот русский точно станет сегодня мишенью. Хорошо, что это еще не албанцы… Когда же кончатся в старой доброй Вене все эти мафии… Одна другой хуже: русская, китайская, албанская… Байкерам наплевать, кому разбить об голову пустые бутылки… Может, предложить ему вызвать такси… Уносил бы ноги… Надо шепнуть его девушке, что ему могут переломать ребра… Что Вена последние три года совсем не спокойная… Немцы бьют турков и негров… Те бьют немцев… Русским на все наплевать… Албанцы скоро всех отравят наркотиками и снабдят оружием… Жаль, что он не знает, что это не австрийцы, а боши… Может, ему еще налить, он забудется… Хорошо, что он не понимает по-немецки…
— Зато понимаю по-польски…
— Откуда вам знать?! — ее как током дернуло.
— Не переживай, милая, доблестные тевтоны не вломят мне. Кишка тонка.
Тевтоны как раз в очередной раз гоготнули, один из них слюняво наклонился в сторону Риты и что-то стал бурчать ей, кивая в мою сторону с явным сочувствием. На интернациональном языке это могло означать следующее: не желаете, фройлен, заменить своего расплющенного спутника на трех бравых парней, мы вам покажем фигурное катание на мотоциклах, а потом «дас ист фантастиш» по всем правилам немецкой порнографии в обмен на русскую любовь… И что мог им ответить на это расплющенный русский? Ничего, кроме годами проверенного…
— Гитлер капут! — влупил я, глядя в его бычьи глазки.
Следует отметить, что в первое мгновение он явно растерялся. «Гитлер капут» — это у них, как самое страшное заклинание, только каждый вкладывает в него собственное значение. Оно на генетическом уровне впиталось, въелось, впугнулось, пережевалось вместе с бесплатной русской кашей образца 1945 года, поднялось и рассыпалось с берлинской стеной, исказилось с хитроумными планами Маршалла и Даллеса, ничуть не искупилось репарациями, выкрикнулось, выплюнулось и улеглось где-то на самое дно подсознания, чтобы мерцать там жутким напоминанием. Кому-то как инъекция от отравления, кому-то как допинг… В великом русском языке нет сравнимого по мощности значения и символике словосочетания. Оно как молния, и как от разряда электрического тока передернуло всех посетителей ресторанчика, где еще минуту назад витал теплый, ни с чем не сравнимый дух венского кафе, плыли в сигаретном дыму обывательские беседы. Все, без исключения, посмотрели в нашу сторону. Нет, я ничего не имел против этого бравого немецкого парня, одетого в кожаную жилетку, щедро украшенного татуировками, чью голову венчал черный платок, единственным узором на котором были череп и кости… Как у дивизии СС «Мертвая голова». Так и остались эти головы мертвыми на Курской дуге… Точно так же я сказал бы какую-нибудь отрезвляющую гадость и любому русскому моральному уроду, который смеет приставать к моей девушке. Правда, в русском языке есть для этого выражения покрепче.
Натянутая в обладателе «Харлей Дэвидсона» тетива сорвалась. Он потянулся ко мне через стол своей разрисованной рукой, норовя ухватить меня за грудки, чтобы, перетащив через стол, швырнуть куда подальше. А я даже не заметил, каким движением сломал эту руку… Эх, нельзя меня брать в разведчики!
Последнее, что я помню, — летевший на меня справа байкер получил почти смертельный удар ребром ладони в кадык. Он просто сам на него напрашивался, а потому, выпучив глаза не хуже фар собственного мотоцикла, он, как подкошенный, лег под столики, пытаясь дышать. Но третий сделал именно то, о чем мысленно предупреждала меня очаровательная полька. Он еще более замедлил мою реакцию, обрушив мне на голову бутылку мною же недопитого коньяка, а когда я заторможенно пытался объять необъятное происходящее, грозный тевтон завершил бомбардировку, свалив на мою страдальческую голову всю стеклотару с ближайших столов. И недавно забытая боль со всей скопившейся силой вновь выплеснулась в этой самой голове, которая будто бы стала существовать отдельно от остального тела, погасила в ней последние проблески света и сознания. Показалось, что последним лучом этого света мелькнуло страшно испуганное лицо Риты. И я еще даже успел подумать: хорошо бы увидеть ее лицо при третьем рождении. В том, что я в очередной раз умираю, у меня не было никаких сомнений. Во всяком случае, игра была окончена: два — один. Хоть и не в нашу пользу.
Уж не знаю, в каком измерении, но я отчетливо почувствовал, что все это уже было… Если не точно в деталях так, то, по крайней мере, примерно так, и, может быть, именно в этом городе… Или где-то рядом? Может, в каком-нибудь тихом австрийском Бадене? А может, на берегу Женевского озера? Прекрасные ухоженные европейские городки так похожи друг на друга. Разнятся только столицы: своими культурными выкриками в камне, бетоне, мраморе, металле и молодежными граффити на стенах. В немецких землях молодежь на стенах подземных переходов, на заборах и в будках телефонных автоматов настоятельно требовала красными спреями и маркерами «мочить всех черных»… Знакомо.
13
В объявшей со всех сторон темноте еще долго пульсировала та страшная боль, что заставляла меня скручиваться в позе эмбриона в больнице. Она накатывала волнами, причем море этой боли явно штормило. Но все же предел терпения был то ли сломан, то ли просто размыт, все провалилось в никуда. И из этой пустоты, из образовавшегося в ней пролома вдруг поплыли узнаваемые образы. Запертая в искалеченных мозгах и подвалах подсознания память дала течь. Не зря говорят: клин клином вышибают.
Из темного коридора вышел на свет, до боли ярко-желтый свет, седовласый богатырь в генеральских погонах. Кто-то еще стоял рядом, но не было слышно даже дыхания. Я чувствовал этот строй, как звено натянутой цепи. Только грозное сопение генерала… Черноморец был явно не в духе.
— Не густо… — горестно осмотрел строй. — Что-то не то, братцы! Там, — уточнил он, показывая пальцем в обвитый грубой решеткой плафон лампы. — Не подумайте, что у Господа Бога! Чуть ближе…
Некоторое время он ходил вдоль строя, заложив руки за спину. Дышал глубоко и тяжело, как будто это ему помогает решать стратегические и тактические задачи. А попросту это называется: не находил себе места. А значит — и нам.
— Солдаты! Что бы ни случилось, помните — я всегда был с вами! И никакой подлости, никакого предательства с моей стороны никогда не было! Мы делали тяжелую, черную, но нужную работу… Да, мы нередко убивали, но что еще делают на войне. Здесь, ёрш эту медь, нет никакой философии! Никакой! Ни грамма! Философия — говно для мозгов! Есть Родина, есть вера, остальное придумали лентяи и прохиндеи. Все партии — это сброд, подмасонские прихвостни, чтоб дурить народ, чтоб разделить его на части и спокойно грабить. Это должно быть понятно даже идиоту. Вспомните сами: разделяй и Это, бля, сатанизм чистой воды! И если мне вдруг вваливают новые погоны, это значит, что хотят купить или отправить на пенсию. Но я им, бля, еще наслужу по самые помидоры!.. — генерал все больше терял контроль над собой, чего мы никогда не видели. Он никогда не употреблял ругательных слов и мата, от которого остальная армия похожа на разоренный муравейник и громкоговоритель-матюгальник одновременно. Голос его надломился, и казалось, вот-вот из повлажневших: глаз потечет слеза. Нет, не сорвалась соль с глаз. — Помните, как придурок наш всенародно избранный погоны раздавал после расстрела своего народа?! Кому, как не вам, помнить? Снайперами быть отказались? В первый раз отказали «родному», рви его жопу, правительству. Нас сразу не развели по камерам только потому, что боялись. Они до сих пор нас боятся! Я бы всех этих Гавриилов Поповых (ударение сделал на первой гласной), толсторожих Гайдаров, хитромудных Чубайсов… Ох, я бы отвел душу… Ох, недосмотрели мы с вами в доброе время… Короче, парни, верить больше некому! Кроме самих себя. Есть у меня сведения, что нас расформируют… В конторе еще не все продались, сведения точные… У свинорылого скоро финал: хочет уйти в отставку под фанфары: и как человек, потерявший здоровье не от водки, а в борьбе за свободу и величие новой России… Попомните мое слово, русские женщины еще всплакнут вместе с ним от сострадания к великим государственным трудам. А Россия уж девять лет свободна. От самой себя, бля… Прости меня, Господи… А нам нужно держаться всем вместе. Есть у меня план, и в этом строю несогласных с ним быть не может. Если они есть, шаг вперед!
Тишина была ему ответом. Никто не вздохнул, не вздрогнул, не посмотрел на соседа. Никто не хотел предавать отца… Если до этих слов стояли по стойке смирно, то после них — бетонно.
— Я так и знал, сынки… — и не удержал генерал слезу. — Мне некогда произносить пламенные и убедительные речи о что время дерьмовое, а Родину разорвали и продали в очередной раз за последние сто лет. Я сразу к делу, по-военному, — и вдруг прямо-таки спросил, — можно?
— Так точно! — голос всех, как один…
— Расслабьтесь. Главное: у нас свои счета во многих банках, о которых ни один сраный министр не знает. У нас есть достаточно тайников с оружием, у нас есть явочные квартиры, машины на стоянках… Я вовремя все приватизировал в нашу пользу… А вот базу придется сдать. Ничего личного не оставлять… Работа нам еще найдется… Итак. Теперь о том, чего не знали даже вы. У меня в сейфе хранятся списки самых отъявленных негодяев за последние два тысячелетия. Некоторые из них до сих пор здравствуют. И очень, надо сказать, хорошо живут. Кроме имен и фамилий, там краткий перечень заслуг, сами понимаете, каких. Многих из них вы нынче по телевизору видите с нимбами борцов за свободу. Но есть проблема: это не единственный экземпляр. Их как минимум два, если с них не сняли дополнительные копии… И те двое знают, что есть еще один. Они уже начали его искать. Выход вижу такой: по жребию трое из вас доставят этот список… — он осекся и снова прошел вдоль строя, заглянув в глаза каждому, — в самый надежный банк Европы. Оставят его в сейфе. До лучших времен. А сами как будто забудут об этом навсегда! Эти же трое, вернувшись на Родину, как бы из отпуска, выполнят еще одно задание. Сразу признаюсь, не очень чистое. Заказ, простите за выражение, не могу назвать это приказом, исходит от приближенных к нынешним жителям Кремля. Но его нужно выполнить, чтобы отвести подозрение от главного дела. От того, что мы переходим к партизанским действиям. Одного не гарантирую, что там не будет какой-нибудь подлости. Нынешним верить нельзя. Но не мне вас учить осторожности. Итак — для троих работа есть. Остальные делают главный отвлекающий маневр. Я решил вместо расформирования, которое нам грозит со дня на день, напроситься всей командой в командировку на Кавказ. Если успеем, надо оповестить всех, кто сейчас находится на задании. Сами знаете, в горах скопилось много грязи. Немного подчистим, а потом нас все равно выведут на отдых. Там подумаем о дальнейшей работе. Есть запасная база. Браслеты никому не снимать! Свою задачу, как командир, вижу и полагаю в одном: сохранить армию. Помните, как Кутузов? Москва давно уже сдана… Вот только Тарутино нам тут, похоже, не разрешат оставить.
14
Нет, пьяницы в похмельном угаре все преувеличивают. При третьем рождении я рождал себя сам. Через голову. Это было жутко больно. Я посочувствовал в эти мгновения всем роженицам на свете. Тем более что в отличие от меня они рождают невинных младенцев, а я вымучивал побитого пьяницу.
То, что представилось моему не совсем ясному и не очень резкому взору, напомнило какую-нибудь районную больничку. И даже белые решетки на окнах гармонировали с общим пейзажем. Осталось только увидеть Риту в белом халате. Но вместо нее надо мной склонился коротко остриженный очкарик, который весьма благожелательно сказал «гут», а за его спиной был еще кто-то. И когда этот кто-то прояснился, мне захотелось снова уйти в небытие и больше уже оттуда не возвращаться.
Язвительная ухмылка Дениса Карловича окончательно вернула меня к жизни. Он же между тем о чем-то оживленно щебетал с человеком, которого следовало считать тюремным доктором. Заметив, что я пришел в сознание, он пояснил и мне:
— Я как раз рассказываю доктору о вашей болезни, Никита Васильевич. Думаю, мы снова вызволим вас, хотя два ваших оппонента тоже находятся в больнице со значительными травмами. Особенно тот, которому вы, как я знаю, сломали кадык. А вот пить вам, батенька, совсем нельзя… Вы всего двое суток без сознания, а я уже здесь, хотя у меня достаточно работы там.
— Рита? — прохрипел я.
— О, не волнуйтесь. С ней в отличие от вас все в порядке. До сегодняшнего дня она ждала в приемном покое. Я уговорил ее поехать отдохнуть. Особенно после того, как доктор заверил, что с вами все будет в порядке. Надеюсь, что травмы головы, а вам, кстати, пришлось наложить пару швов, не лишили вас последних проблесков памяти.
— Надеюсь… — прошептал я, еще раз промотав в проясняющемся сознании все то, что вернула мне повторно раненная голова.
Может, стоит еще пару раз постучать головой в стену, и все окончательно станет на свои места?
«Этот парень еще не знает, какая предстоит ему работа», — ехидно подумал Денис Карлович, и мысль его, как небольшой электрический разряд, врезалась в мой мозг. Наверное, это ярко отразилось на моем лице, потому как доктор что-то торопливо стал объяснять Денису Карловичу. Жаль, по-немецки я не понимал ни мыслей, ни слов. Только некоторые…
— Вот тут доктор сомневается, что вы сможете сейчас сесть и сделать несколько шагов…
— Пусть дадут воды, а я уж попробую.
— Да уж, попробуйте, батенька, у вас контракт, а не только прогулки по Европе с внеплановыми приключениями.
Доктор сам принес стакан воды. Я приподнялся сначала на локтях, а потом и сел. Вода показалась мне настоящим источником жизни, легкая прохлада ее бальзамом соединилась с горлом. Дальше я стал ждать головокружения, слабости, еще чего-нибудь, но мое состояние можно было назвать относительно паршивым, но никак не беспомощным. Я понял, что смогу встать. И я это сделал.
Чуточку пошатывало. Заботливый немец даже хотел поддержать меня под руку, но я выдавил из себя вежливое «нихт». Он понятливо закивал, заулыбался, а Денис Карлович перевел его слова о том, что с русским упрямством и упорством столкнулся дедушка этого немца, который имел неосторожность попасть на Восточный фронт.
И тут бес снова дернул меня за язык:
— Гитлер капут, — хохотнул я сам над собой.
Но этот немец был явно из демократов. Он торопливо и очень искренне закивал головой, мол, полный капут, и, как перевел Денис Карлович, сообщил, что все они очень переживали, когда у них в Австрии премьер-министром был избран лидер профашистской партии.
— Ужас, — согласился с ним Денис Карлович.
— А наши-то чем лучше? — не выдержал я.
— Вы о ком? — насторожился Денис Карлович.
— Да уж не о баркашовцах и РНЕ, коими запугали всех обывателей. Я о тех, кои сейчас у власти…
— Похоже, вас действительно сильно стукнули.
— А знаете ли вы, Денис Карлович, что Адольф Шикльгрубер-Гитлер в своей книге «Моя борьба» назвал русский народ великим? Правда, это было до того, как Розенберг убедил его в том, что мы недочеловеки.
— Бред…
— Увы, но это так.
— Н-но… Я вот не читал…
— Почитайте на досуге, у нас теперь демократия, и это не зачтется вам как антиконституционное чтиво.
— И много там интересного?
— О! У него еще завещание имелось. От тридцатого апреля 1945 года. Тоже очень интересный документ. Когда его читаешь, возникает такое чувство, будто этот параноик, как нам его рисуют, был еще и пророком. Вот так-то, батенька, — передразнил его я.
— М-да… Очень интересно, обязательно поинтересуюсь… Обязательно…
Больше всего в этом разговоре мне нравилось поведение австрияка. Он старательно кивал и улыбался, будто все понимал.
— Переведите ему, — попросил я Дениса Карловича, — хотя бы основную суть. А то он, бедный, думает, наверное, что мы с вами переживаем за австрийскую демократию.
— Н-но, — попытался возразить адвокат.
— Не в суде, Денис Карлович, слова нас никто не лишал, сделайте милость, мне интересно, как он на это отреагирует…
— Вам мало разбитых об вашу голову бутылок?
— Ну этот не из тех, да и в Штирлица я больше не играю.
Покачав головой, адвокат все же затараторил на немецком и, судя по словам, которые я все же знал, он добросовестно передавал ему всю ткань нашего разговора. Австриец посерьезнел и посмотрел на меня с нескрываемым интересом. После некоторого молчания выдал несколько фраз, которые Денис Карлович перевел старательно и дословно:
— Его дедушка перед смертью успел рассказать ему многое из того, что потом попало под запрет во всех странах. А еще он сказал ему, что русским и немцам не надо было воевать столько раз в угоду банкирам, а нужно было один раз объединиться и навалять всему миру. И тогда во всем мире было бы только одно русско-немецкое государство…
— Хорошая мысль, — согласился я. — Но получается, его дедушка был убежденный нацист?
— Нихт! — открестился доктор.
— Нет! Он был фронтовой фельдшер, но потом пять лет провел в Сибири. Говорит, что люди там ему очень понравились. Они добрее и честнее, чем любые другие. Там никого не бросают в беде. Даже врагов. Именно поэтому его дедушка выжил. И он до конца жизни уважительно относился к русским. Но знаете, — взбунтовался Денис Карлович, — мы тут не на братании, а я не нанимался переводчиком.
— Полноте, Денис Карлович, в кои-то веки русский с немцем по душам говорят, а ты даже не оценил исторического момента, — резковато сфамильярничал я.
Но Денис Карлович проглотил и нежно взял меня под локоток:
— Идти-то сможешь, Никита Васильевич?
Немец еще что-то говорил, и я придержал адвоката, который с явной неохотой перевел, что доктор желает мне скорейшего выздоровления, приятных впечатлений от Вены и даже готов быть моим гидом. От последнего предложения пришлось отказаться, а за все остальное я, как мог, поблагодарил его и от души пожал добрую легкую руку.
— Нас ждет машина, — нервничал Денис Карлович, — а то вы тут сейчас еще спирту дармового на брудершафт намахнете.
— Скажите, а прославленный чекист Петерс вам случайно не родственник? — уж очень мне хотелось его зацепить.
— Родственник, и не случайно. Именно поэтому я адвокат. Искупаю, так сказать, грехи.
— Сейчас этот горе-вояка подумает, что Петерсы одолели его великую страну. Как нравится русским без штанов бегать по миру, крича на всю Вселенную о своей державной избранности, — подумал Денис Карлович.
— Я бы не сказал, что новые русские носятся по миру без штанов, если, конечно, речь не идет о собственной прихоти, — это я не удержался от ответа на поток его мыслей; в моей голове вдруг все встало на свои места, стало ясно и чисто, как зимним утром после ночного снегопада, вылечил, видать, педантичный немец, а вот Денису Карловичу стало не по себе. — Да и чего комедию ломать, милый мой защитник, я, например, зла на вас не держу, будь вы хоть латыш, хоть поляк, хоть еврей, хоть уйгур… Мне другое непонятно: отчего вам стыдно признаться в том, что если б не русский мужик-лапотник, как вы его называете, с его этой самой рабской душой, если б не русское дворянство в лучшем его проявлении, мы бы сейчас говорили с вами совсем на другом языке и в прямом, и переносном смысле. Либо до сих пор под коротышкой Наполеоном маршировали, либо вскидывали руку в слезно-душевном порыве, выкрикивая «Хайль Гитлер!». Или в моих рассуждениях нет твердой исторической логики?..
— Да! Есть! Но после ваших великих побед вы подчинили своей идеологии всю Европу!
— С той разницей, что сами были от нее не вольны, а навязывал нам эту самую идеологию в застенках ЧК ваш прославленный родственник.
— Ну вот, а говорили, что не имеете никаких претензий…
— К вам? Упаси бог! Считать виноватыми в уничтожении державы таких, как вы и ваш родственник, слишком большая роскошь. Вы еще подумаете, что способны крушить державы.
— Это оскорбление?
— Да успокойтесь, Денис Карлович, это констатация факта.
— В вас начинает проявляться великодержавный шовинист!
— О! А в вас, судя по старой терминологии, юный ленинец. Я вас просто спрошу: как бы вы сейчас рассуждали, если б великую державу создала не Россия, а Латвия, Литва или, хм, Эстония?! От моря и до моря, мечтали ведь…
— Не знаю, — сказал Денис Карлович и подумал: — Черт, скоро он вырвется из-под контроля, пора его в работу. Страны, державы, тьфу! Деньги! Вот где собака зарыта…
— Да уж, старая, давно сгнившая собака, вскормленная еще Ротшильдами и Морганами, а то еще и при египетских фараонах, — домыслил за него я.
— Нам еще вроде как работать вместе, — примирительно подмигнул я.
— Впервые сталкиваюсь с киллером, обладающим интеллектом и зачатками совести, — он вытер со лба пот.
— Я солдат. Это немного другое.
— Наемник, — не унимался он, — я вот, например, никого не убил!
— Кто знает? Ваши подопечные выполнили работу самой остервенелой и безжалостной армии и со спокойной совестью взрывают целые жилые кварталы…
— А я бы и Иуду взялся защищать в суде! — обиженно вскинулся адвокат.
— Возможно, именно вам предоставят такую почетную возможность. Но вы, право, зря злитесь.
— Все! Больше никаких разговоров, вон машина — там задание. И, как вы совершенно правильно заметили, Гитлер капут.
— Капут, капут, звездец, кердык, в кадык, шашлык, главное, чтоб орден к подушечке не прикрутили! — откуда я вдруг вспомнил эту дурацкую фразу?
15
В машине мне традиционно вручили конверт, который велено было открыть в гостинице. Большелицый водитель с далеко выступающей вперед тяжелой нижней челюстью всю дорогу внимательно изучал меня в зеркало. Сам он чем-то напоминал сочинского Леню. Может быть, даже был его братом. Адвокат предвзято молчал, переваривая наш разговор на выходе из тюремной больнички. Я же смотрел в окно. На газонах январской Вены хоть и хило, но зеленела трава. Да еще сияло всеми цветами радуги какое-то подобие цветной капусты. Моросил дождь. Я поймал себя на грустной мысли, что европейская серость все-таки опрятнее и уютнее, чем слякоть и грязь наших городов. Единственного, чего здесь не хватало зрению и душе, — ощущения бесконечного простора, который обязательно начинается за околицей любого российского города, где поля сливаются с небом, где сосновые боры и березовые рощи кажутся бесконечным приглашением в древнюю сказку.
— Здесь где-то недалеко венский лес, который вдохновлял Штрауса? — то ли спросил, то ли с сомнением утвердил я.
— Съездите после выполнения задания, — отрезал Денис Карлович, но, подумав, добавил, — лесом, в нашем понимании, его можно назвать с некоторой натяжкой. Жидковат. Ёлочки-недоростки, кустарнички…
— Зато консервные банки не валяются, — пробубнил водитель, и на этом наш разговор закончился.
В маленьком холле отеля «Квебек» я уселся в удобное кресло. Конверт жег руки. Я даже чувствовал в нем очередную пачку купюр и… фотографию. Из-за своей стойки мне наивно улыбался портье. Тот, что недавно впервые принимал меня здесь.
— You have some problems?[6]
— No… — и аккуратно вскрыл конверт.
Я даже не удивился, увидев там фотографию Славика. Просто в душе пронесся какой-то гнилой ветерок. Я опять почувствовал себя под колпаком. Получалось, Славик везет мне ключи, об этом знают, и гонец Болотова в этой игре лишний, а я должен отдать содержимое какого-то близкого врагам сейфа. Если отдам… Потому что если отдам, я тоже стану не нужен. Фигура, которую давно уже проиграли. Да и кому и когда я был нужен?
«Оружие в номере, дальнейшие инструкции по телефону», — гласила записка, венчавшая пачку сотенных, выраженную в этот раз в долларах.
Захотелось срочно позвонить Болотову и прокричать через всю Европу: не присылай сюда Славика и выброси ключи! Телефон-автомат был в двадцати шагах от «Квебека», но перед этим я решил подняться в номер.
Рита, лежа на кровати, смотрела телевизор. Какое-то германское шоу, очень похожее на «Поле чудес».
— Ну как? — тревожно приподнялась она на локтях.
— Нормально, — я вдруг понял, что смотрю на нее с подозрением, и постарался быстро избавиться от этого наваждения. — Где? — спросил я, и она сразу поняла о чем.
— В ящике стола…
В ящике стола лежали новенький пятнадцатизарядный, еще покрытый глянцем нетронутого металла пистолет «Глок» и глушитель, упакованные в полиэтиленовый пакет.
— Он уже был там, когда я вернулась, — словно начала оправдываться Рита.
— У тебя есть мелочь? — спросил я, сунув пистолет в карман плаща, не вынимая его из пакета.
— В сумочке… Ты не хочешь меня поцеловать?
— Прости, чуть позже.
— Я же тебе говорила, давай уедем… Хоть в тайгу непролазную.
— От себя не убежишь.
На улице перестал моросить дождь, и даже пробились из-за отступивших туч ярко-желтые солнечные лучи. Засияли окна трамваев, борта которых были размалеваны аляповатой рекламой. В кафе напротив заулыбались, выглядывая на улицу, австрийские старушки. Милые, прибранные, уверенные в завтрашнем дне, будто суждено им жить вечно, некоторые с сигаретками в морщинистых руках. И чертовски захотелось жить. Просто жить. Наверное, в первый раз во второй жизни. Захотелось просто петлять по этим улицам без цели и смысла, заглядывать в лица прохожих, останавливаться у витрин магазинов, а потом сесть в трамвай и, прижавшись лбом к холодному стеклу, ехать через ночной город, не думая ни о чем…
Номер долго не набирался, а потом ответил длинными безнадежными гудками. Закон подлости: если очень нужно, никогда не получится.
Я вышел из будки и сел на лавочку. Никаких стоящих мыслей, а тем более решений в голове не было. Зато над городом появилось солнце, серая, немного угрюмая Вена, неожиданно по-весеннему засияла. Стекла домов брызнули в ответ солнцу игривые отражения, и вокруг сразу стало больше жизни и какого-то вселенского смысла. Взгляд же мой, лишенный интереса и определенности, утонул в кафе напротив, где щебетали за рюмкой коньяка и чашечкой кофе почтенные австрийские домохозяйки да сновала между столиками сияющая официантка в красном передничке, ежеминутно повторяя подкупающее «битте». В кафе сидел только один мужчина. Он расположился спиной к витрине и неторопливо курил, о чем говорили дымные узоры, поднимавшиеся над его коротко остриженной головой. Чем больше я наблюдал за ним, тем больше казалось, что он знаком мне. Я почти гипнотизировал его, внушая желание повернуться. Казалось, хоть одно маленькое чудо в такой щедро обласканный солнцем день обязательно должно произойти. И оно не замедлило свершиться.
Мужчина наконец обернулся, а у меня буквально выпрыгнуло сердце. По крайней мере, со всей силы долбануло с обратной стороны грудной клетки, как бы требуя: просыпайся, мужик, у тебя еще есть важные дела. В кафе напротив отделенный от меня двумя парами трамвайных рельс сидел Немой. И я не узнавал его до этого только потому, что считал его некурящим. Во всяком случае, полагал, что человек с отрезанным языком не может быть курильщиком. Не вязалось одно с другим. А о том, что делает Андрей Викторович в австрийском кафе на рабочей окраине Вены, у меня было только два соображения: либо его нашел Болотов, либо его послал Симон Давидович. За мной. Я облегченно вздохнул и, поднявшись с удобной скамейки, двинулся в сторону кафе, едва не попав под вывернувший из-за угла трамвай.
Скорее всего, Немой уже давно наблюдал за мной, потому что когда я сел за его столик, у него уже была исписана для меня целая салфетка.
— Привет бойцам невидимого фронта, — тихо, но с иронией сказал я.
«И не слышимого», — с такой же горькой иронией написал он на следующей салфетке, подталкивая мне первую.
Зато мой привет услышала вездесущая официантка и тут же ринулась к новому гостю.
— Привет, — сказала она очень чисто по-русски, — что-нибудь желаете?
— Вы так говорите по-русски…
— Я из Сербии… — дальнейших объяснений как бы не требовалось.
Но я все-таки спросил:
— Подальше от бомб?
Официантка кивнула, но тут же указала на стойку бара, где суетилась другая миловидная девушка.
— А она из Хорватии… Что-нибудь хотите?
Памятуя о коньяке и печальных последствиях, я заказал два кофе и рекомендованные кареглазой сербкой пирожные. Только когда она принесла заказ и оставила нас в покое, сверкнув на прощание удивительно доброй улыбкой, я раскрыл перед собой записку Немого.
«Меня нашел Болотов, он передал со мной ключ. Сказал, что со мной будет надежнее. И еще: меня нашел Симон Давидович, он заказал тебя. Одного. Без Риты??? Я должен отстрелить тебя, когда ты воспользуешься этим ключом. Думаю, что и за мной кого-нибудь послали. Какие будут стратегические и тактические соображения?»
— Я не воспользуюсь этим ключом. Это не моя тайна. Я вспомнил. Понимаешь, Андрей Викторович, я вспомнил. Это ключ от личного сейфа в одном из швейцарских банков. Кроме меня, его может открыть официально указанный мной поручитель. Кто он? Не помню. Да и знать не хочу, чтобы во сне кому-нибудь не выболтать. Банк же ни за какие деньги никому эту информацию не предоставит. Думаю, этот ключ надо положить в другой банк. За этим ключом тайна, которая сейчас нужна только тем, кто боится ее будущего. Хотя мне непонятно, чего бояться каких-то списков, в которых стоят не только сегодняшние имена, но и давно почившие?..
Немой взял новую салфетку.
«Ты же понимаешь, что мы под колпаком? У них длиннющие руки. Знаешь, а новый президент все чаще вспоминает о великой России. Они из-за этого нервничают…»
— Против длинных рук есть длинные ноги. Ты мне лучше скажи, что ты подумал о Рите? — перебил я его скоропись.
«Ничего! Просто Симон Давидович заказал только тебя! Ты же знаешь их правила. А это получается не по правилам. Что за мужики живут в моем доме?»
— Бандиты. Бывшие… Из них при хорошем стечении обстоятельств могут люди получиться, — мысли о Рите становились все навязчивей, и мне показалось, что я нашел достойный выход. — Ты не отдавай мне пока этот ключ. Тут у меня одна неувязка в голове. Если к сейфу имею доступ только я, то зачем было меня взрывать, используя заряд тротила, рассчитанный на роту? Моих напарников убили. Я по счастливой случайности остался жив, но лишился памяти…
«А может, тебя не взрывали? Может, всё это — голливудская имитация, кроме того, что тебя лишили памяти? Современная медицина — ё-моё…»
— Мне непонятен еще один нюанс. После этой контузии или еще чего-то, как ты тут предполагаешь, у меня открылся дар. Я порой легко влезаю в чужие головы. А в моей, как в радиоприемнике, гуляют чужие мысли. Главное — с волны не сбиться. Исключение, как я понял, составляют те, кто не ниже меня или даже выше на каком-то психоинтеллектуальном уровне. Не знаю, как правильно сформулировать. Так вот, от Риты я «не слышал» ничего хоть капельку подозрительного. Более того, я уверен, она меня любит. Я точно это знаю.
«Значит, мы вообще не знаем, какова ее роль в этой игре… Но я бы на твоем месте заглянул в ее загранпаспорт».
— Зачем? Или ты думаешь…
«Вдруг там твоя фамилия, а значит, право наследования».
Меня передернуло. Какое-то время я молчал, ощущая в себе борение дюжины противоречивых мыслей, состояний и чувств. В душу прокрался холод расчетливости и мрак безысходности, а следом за ними, как водится, равнодушие.
— Хорошо, я постараюсь заглянуть в ее документы как-нибудь незаметно. Я смогу сделать это только ночью. В сущности, нас никто и не торопит. Мне пока никаких указаний не было. Вероятно, они не сразу поймут, кто выполняет роль гонца от Болотова. Ведь передо мной стояла задача, получив злополучный ключ, убрать его. Вот, даже фотография…
Немой кивнул: мол, видел, знаю.
— В одном можно оставаться уверенным, пока они не знают, где ключ, охоту на нас они устраивать не будут. В связи с этим меня посетила другая умная мысль: ты, Андрей Викторович, должен положить этот ключ в любой другой банк. Именно ты. Появится еще один ключ. Может, и его придется когда-нибудь куда-нибудь припрятать за другой замок, но принцип прост: чем длиннее цепь, тем больше сил надо потратить на разрыв ее звеньев.
Андрей Викторович отогнул на кулаке большой палец, что следовало понимать: моя идея ему понравилась.
— Не знаю, насколько ценен этот список для будущего… Я заглядывал в него мельком, с разрешения генерала, помню, мне показалось, там были, к примеру, фамилии декабристов. Или сейчас мне уже кажется? Во всяком случае, утверждать берусь только одно: список был составлен не в алфавитном, а в каком-то другом порядке, и русскоязычные фамилии чередовались с иностранными. Морган, например. Банкир, что ли? Одного не знаю, что делать, если твои подозрения на счет Риты оправдаются?
«Сердце подскажет, — написал Немой и посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом. Так смотрят на человека, когда хотят увидеть в нем твердость и решимость. Я невольно опустил взгляд. Стало не по себе. А он снова взялся за ручку и торопливо черкнул: — В любом случае, как и в любой игре, бывают исключения из правил. Иди и смотри… Жду тебя здесь завтра в 9 утра, не опаздывай, кофе остынет».
— Не забудь о ключе, — кивнул я.
16
Рита встретила меня в холле отеля.
— Тебя долго не было, и я решила спуститься. Зачем ты взял с собой пистолет?
— Ничего страшного, просто я нашел очень удобную скамейку неподалеку. Приглашаю тебя проветриться.
— С удовольствием, — она посмотрела на меня с нескрываемой тревогой, будто я стал для нее источником опасности.
На улице по-прежнему сияло солнце. Даже казалось — неделя-другая, и наступит май.
Мы сели на облюбованную мной скамейку напротив кафе и какое-то время молчали. Разговор начала сама Рита:
— Я увидела недоверие в твоих глазах. Ты как бы отстраняешься и отдаляешься. Мне холодно на душе. Наверное, я должна всё тебе рассказать…
— Тебе есть что рассказывать?
— Да. Но сразу хочу предупредить — я не предавала тебя. Просто меня так же хотят использовать…
— С какого времени?
— С того момента, как ты пришел в себя…
— Тогда я должен думать, что наши отношения тоже кем-то заказаны?
— Нет… — безысходное, переполненное обидой.
— Хорошо, давай так: я молчу, ты говоришь все, что считаешь нужным?
— Давай. Сначала кто-то стал звонить на пост, интересоваться твоим состоянием. Этот кто-то не представлялся, а вот когда ты подарил мне букет, он словно тоже решился и предложил мне встретится…
— Этим кем-то оказался неряшливый Максим Валерьянович?! — не выдержал я.
— Точно. Он сразу предупредил, что не имеет к тебе никакого отношения, к делу о твоем взрыве тоже, но выполняет волю высокопоставленных лиц. Сказал, что в этом городе ты в опасности, но есть силы, которые тебя защитят…
— Моими собственными руками, — начал догадываться я.
— Симон Давидович вышел на меня уже после того, что произошло в больнице. Он всячески тебя хвалил, сказал, что мечтал бы командовать армией, состоящей из таких, как ты. Да и мне пел дифирамбы… Я, конечно, понимала, что здесь не все так чисто, что ему нужно что-то от тебя. Но, видимо, он был предельно откровенен. Он сказал, что его интересует ключ от банковского сейфа, где лежат документы, в которых всего-навсего перечислены фамилии, ни для кого не представляющие секрета. Просто ему важно знать, нет ли там каких-либо зашифрованных материалов. Ты оказался в этом городе, чтобы… — Рита смутилась, — короче, чтобы застрелить Мовшензона, который в принципе подчинялся Симону Давидовичу. Мовшензон был предупрежден, но ему строго-настрого запретили трогать тебя. Я так понимаю: большие фигуры решили пожертвовать Мовшензоном ради какой-то еще большей фигуры или игры. Но тот, почувствовав это, заказал тебя чеченам. Якобы он никакого отношения к этому не имеет. Это уже было прямое ослушание, поэтому и решено было его ликвидировать… Твоими руками.
— Он так все тебе это и рассказывал? Так откровенно?
— Да, мотивировал это тем, что ты все равно рано или поздно узнаешь обо всем. Мол, он со своими солдатами втемную не играет…
— Я не его солдат. На худой случай — наемник, но не солдат. И сегодня за деньги мне предложили убить хорошего человека.
— Мне жутко, страшно от всех этих игр. Когда сегодня утром незнакомец принес пистолет в пакете, как будто почтальон свежую газету, да еще и в чужой стране…
— И какова твоя роль?
— В том случае, если все пойдет не по плану Симона Давидовича, я должна уговорить тебя отдать бумаги. При этом мы получим огромную сумму, новые паспорта и визу в любое государство.
— Можешь начинать уговаривать, — горько ухмыльнулся я. — Почему ты раньше мне не рассказала?
— Он сказал, если ты узнаешь об этом не вовремя, то ему придется вывести нас обоих из игры, искать другие возможности. И он пообещал, что обязательно их найдет. Звучало очень убедительно.
— М-да…
— Я же предлагала уехать куда-нибудь…
— А я ответил: от себя не убежишь. Пусть они уезжают. Граждане мира как-никак. А я больше нигде не нужен. Я вообще нигде не нужен, а если и понадоблюсь, то только для того, чтобы держать кого-нибудь на прицеле.
— И что ты намерен делать дальше?
— Я верю тебе, Рита, верю с того самого момента, как родился во второй раз, поэтому скажу, как на духу. Болотов всех переиграл. Вместо Славика, которого я должен был убить, он прислал Немого. Уж не знаю, как он на него вышел следом за Симоном Давидовичем, но Немой здесь. В одном кармане у него послание от Ивана, в другом — заказ на меня. Вот тебе и вся откровенность Симона Давидовича. Пешками жертвуют, а короли отсиживаются в замках.
— Что может быть важного в этих бумагах?
— Толком не знаю, история разберется. Но если Черноморец сказал, что они должны полежать на дне до поры до времени, значит, так и надо.
— Думаешь, Немого прислали одного? И почему именно его? — словно прочитала мои мысли.
— Все просто: нет лучшего способа завербовать или проверить преданность, чем подставить под пулю товарища или друга проверяемого. Это как договор с дьяволом, подписанный кровью. Способ старый, как мир. И ты права: за спиной у Немого тоже ствол и, скорее всего, не один.
— Мне уже даже не страшно, мне просто холодно…
— Когда генералы и маршалы начинают прямо и косвенно предавать своих солдат, рушатся государства, и на предательстве начинает строиться вся жизнь. Ты знаешь, чем мы занимались в другой жизни?
— ?
— Мы были удерживающими… На краю пропасти… Мы сбрасывали в нее предателей и душегубов.
— И при этом сами были по локоть в крови…
— А кто сказал, что с бесами можно воевать по рыцарским правилам? Или, может, следовало грозить им пальчиком?
— Но они все равно победили, а вы похожи на пленных в собственной стране.
— Война еще не окончена, Гитлер до Москвы доходил, а Наполеон ее брал — результат известен. Тут беда в другом: люди были иные. Мало нынче осталось Мининых и Пожарских, зато хватает Мазеп и Власовых. Пойдем лучше прогуляемся, здесь все же красиво… И внешне спокойно.
17
Все, что мы с Ритой не договорили, мы утопили в огромной двухспалке на белоснежных простынях. Мы разбавили это отчаянной нежностью. Такой, какая бывает у влюбленных, когда у них осталась последняя ночь перед долгой разлукой. Мы досказали все нужное сбивчивым дыханием и доверчивой тишиной в перерывах между приливами страсти.
Утром мы рука об руку направились в кафе, где нас должен был ждать Андрей Викторович.
Немой сидел за тем же столиком, неспешно отпивая «биг блэк», рядом уже стояли еще две чашки и пирожные. А лично меня ждала новая записка: «Вычислил хвост. Пока двое. Тусуются в соседнем магазине. Симон Давидович выехал из страны. Из нашей. Какие-то нелады у него с новым президентом. Надолго ли? Сегодня немецкие новости сообщили. Ключ сдал. Как будем рубить хвост?»
— Самый безопасный враг — мертвый, — не сомневаясь, ответил я на его последний вопрос.
Немой согласно кивнул, но тут же дописал на обратной стороне салфетки: «Здешняя полиция приезжает на место происшествия через 2–3 минуты, предлагаю прогуляться за город».
— Я как раз хотел посмотреть венский лес. Сказки венского леса, помнишь?
Андрей Викторович снова кивнул и вопросительно посмотрел на Риту.
— Все на своих местах, — ответил я и на этот немой вопрос. — Ей теперь — только с нами, до самого конца. А вот куда мы потом?
— У меня есть место… Тихое и доброе, — .вмешалась Рита. — Деревня на границе Урала и Сибири. Там тетка жила. Бездетная. Дом мне оставила как единственной наследнице.
— Отсидеться? — задумался я.
— Отдохнуть, — поправила Рита. — Зимой там нас сам черт не найдет. Глухомань.
Немой пожал плечами, мол, как скажете.
— Надо выйти на Черноморца… — задумался я. — Его все равно нужно найти. Это единственная возможность иметь помощь и защиту, а может, и перейти в наступление. А тебе, Рита, сейчас лучше вернуться в гостиницу, нам нужно поиграть с ребятами Симона Давидовича в казаки-разбойники. Вечером или ночью мы приедем за тобой.
— А если нет? — Рита опустила глаза.
— Такое тоже может быть, но не будет.
Немой одобрительно кивнул и даже не поленился написать: «Не будет».
Из кафе мы вышли как три посторонних человека. Рита направилась в гостиницу, я поймал такси, а Немой двинулся к станции метро, в котором уже научился разбираться без подсказок местных жителей. План был прост: разделенный на части противник имеет меньше возможности координировать свои действия, а мы уже договорились.
На этот раз таксистом оказался полный немец. Причем не только с плохим пищеварением, но и отвратительным настроением. Он посмотрел на меня так, как будто я у него не услугу покупаю, а отбираю если не машину, то уйму личного времени, которое он хотел провести с таким же пухлым муттером под щебетанье белобрысых киндеров. Я едва удержался, чтобы снова не ляпнуть «Гитлер капут». Выражение его лица стало совсем кислым, когда он узнал, что «русо туристо» желает прокатиться за город, чтобы увидеть место, где покончил с собой наследник австро-венгерского престола да еще и подобрать там какого-то товарища, с которым он заранее договорился. Видимо, поэтому он попросил у меня в качестве оплаты сумму, которую в рублях можно приравнять к месячной зарплате учителя в средней полосе России. А после того, как я согласился, он, вероятно, уверился в мысли, что везет или нового русского или представителя русской мафии, что, в сущности, для него было неразделимым понятием. Для меня тоже, поэтому я не унывал. Он за всю дорогу только один раз раскрыл рот, чтобы сообщить мне, что русская мафия — это плохо, но албанская хуже. При этом мне удалось понять, что под словом «русская» следует понимать весь бывший советский интернационал. Так, в Европе русскими могли назвать или продолжали называть грузин, армян, чеченов, азербайджанцев и прочая, и прочая. Водитель был неразговорчив, зато его «мерседес» вылетел на автобан из узких улочек, как пробка, и помчался по многополоске, набирая обороты.
Легендарное местечко любовных утех австрийского принца, на мой взгляд, оказалось невзрачным. Ожидал увидеть роскошную виллу, а там в действительности оказался охотничий домик.
Я заплатил таксисту половину оговоренной стоимости и попросил подождать меня около часа. Он тут же откинул сидение и, даже недослушав меня, громогласно захрапел. Как раз в это время подъехали два автобуса с туристами, поэтому я получил счастливую возможность затеряться в их толпе. Приятно было видеть, что мой таксист-толстяк выиграл на своей нелюбви к русским целых две с половиной минуты у своего коллеги. Из приехавшего следом «опеля» торопливо вывалился парень лет двадцати пяти и стал тревожно озираться по сторонам. Прежде чем его взгляд нащупал меня в говорливой толпе, я составил о нем свои первые впечатления. Именно с первого взгляда в нем угадывался хладнокровный эгоист, который ничего не видит, кроме определенной цели, и, двигаясь к ней, готов сметать на своем пути все: одушевленное и неодушевленное. Главным принципом его работы была вседозволенность, умноженная на гонорар. Волосы, зачесанные на прямой пробор, оголяли высокий лоб с небольшим шрамом, из-под которого едко сверлили холодные голубые глаза. Может, он и не русский, а какой-нибудь чистокровный ариец с нордическим, но не очень уравновешенным характером? Определенно можно было утверждать, исходя из его манеры держаться, что о себе он очень высокого мнения. Интересно, сказали ли ему, что я тоже умею стрелять?
Приласкав в кармане плаща «Глок», я прогулочным шагом двинулся в сторону реденького леса. Денис Карлович оказался прав — лесом окружающую местность можно было назвать с довольно большой натяжкой. Больше это походило на парк. Но менять что-либо было уже поздно. Минут через пятнадцать-двадцать появится Андрей Викторович со своим сопровождающим. К этому времени я пообещал нейтрализовать своего спутника.
Спиной я чувствовал, что он минуту-полторы помешкал. То ли в его планы не входила прогулка по зимнему венскому лесу, то ли старательно делал вид, что моя персона его не интересует. В сущности, две удаляющиеся в приземистый ельник фигуры ни у кого не вызывали интереса. Щупленькая гидша картаво тараторила на французском, вероятно, рассказывая, каким великим реформатором мог стать принц Рудольф, и как его не понимал консервативный абсолютист папа. Ну что ж — место, вероятно, располагает не только к самоубийствам, но и к неоговоренным дуэлям. Вот только неудобно прикручивать глушитель одной рукой в кармане, предварительно вытащив его из полиэтиленового пакета, где он соседствовал с пистолетом. Данная операция у меня так и не получилась, поэтому пришлось пойти на элементарную военную хитрость. У ближайшего дерева я остановился как бы по малой нужде.
Стоя к своему спутнику спиной, наворачивая глушитель, я понимал, что он делает то же самое. Только в отличие от меня он действительно справлял малую нужду. Даже слышалось журчание. Похоже, он не знал, что ему делать дальше, кроме того, что был жутко недоволен нашим с Андреем Викторовичем разделением. Значит, указаний на этот счет не поступило, и шансов у него практически не было. Мобильный телефон вряд ли запиликает на таком расстоянии от города. Сами по себе такие умники верхних людей не беспокоят, чтобы по каждой глупости получать инструкцию. И еще один мой расчет оправдался.
Я, не торопясь, передернул затвор и повернулся к мистеру Крутому (как еще таких называть?), он был максимум метрах в тридцати и как раз застегивал ширинку. Если не выстрелю я, то он обязательно, и даже с удовольствием выстрелит в меня. Обязательно и с удовольствием. Поэтому первым выстрелил я: по-ковбойски — с бедра, заодно проверив, умею ли я это делать. Оказалось, умею. Но не очень. Пуля вошла чуть левее точки, где я разместил бы центр его высокого лба. Мистер Крутой даже не успел удивиться, отчаяться, сделать бесстрастное выражение лица и т. п. Он просто уткнулся в ствол дерева, на который минуту назад самозабвенно мочился, а потом завалился на бок. Я в очередной раз поймал себя на мысли, что не испытываю никаких угрызений совести. Хотелось только помыть руки, будто только что вынес мусор из дома… В доме Риты это входило в мою обязанность.
На всякий случай я решил поменяться с усопшим оппонентом оружием, и мое предчувствие оправдалось. В кармане его шикарного кожаного плаща оказался такой же новенький «Глок», из которого еще не было сделано ни одного выстрела. Вероятно, их закупили для таких олухов, как мы, целую партию. Правда, сверить номера я не удосужился. Какая разница? Все равно австрийская полиция спишет этого жмурика на разборки русской мафии. Новый европейский миф сработает на нас.
Обратно я уже поторапливался, но возвращался несколько с другой стороны. И не зря. Немой старательно делал вид, что с интересом изучает окрестности. За его спиной маячил мистер Крутой номер два. Второй номер был пониже ростом, шире в плечах и был брюнетом. На нем был аналогичный кожаный плащ, но, видимо, дабы подчеркнуть индивидуальность, была еще и кожаная кепка, из тех, что в народе с некоторых пор называют «жириновками». В отличие от своего погибшего на производстве товарища он не имел наглого целеустремленного взгляда, а, напротив, всем своим видом излучал простоту и открытость. Другой имидж, так, кажется, сейчас говорят? Он картинно смаковал пиво и любовался окрестностями. Может, это его первая заграничная командировка? И уже не было никаких сомнений, последняя.
Увидев меня в одиночестве, Немой откровенно ухмыльнулся. Больше было незачем играть в кошки-мышки, я подошел к Андрею Викторовичу.
— Как думаешь, он захочет прогуляться с нами по лесу?
Немой пожал плечами: «Поди спроси».
— А куда он денется? — и мы двинулись в том же направлении, куда меня только что проводил номер первый.
У меня вдруг появилось идиотское неуместно-игривое настроение.
— Знаешь, Андрей Викторович, нечестно мы это придумали. Надо, чтобы хоть чуток походило на бой. Про первого могу тебе сказать, что скончался он достойно. Исповедоваться не успел, а в туалет сходил. С одной стороны, я поступил благородно, но с другой — он теперь лишен средств пожаротушения, которые могут пригодиться в аду.
Немой гортанно и сдавленно хохотнул.
— А у тебя тоже «Глок»?
Андрей Викторович утвердительно кивнул.
— И у них тоже… Глоки-глюки… Если мы аккуратно положим номер два рядом с номером первым, метрах в двадцати, поменяв оружие, которое стреляло, на то, которое будет в этот момент в его руке, австрийская полиция задержит в лице двух очаровательных покойников и двух преступников.
Немому моя ирония понравилась, но он притворно неодобрительно покачал головой: циник ты, Никита Васильевич.
— А что делать? Не я такой, жизнь такая, — весело оправдался я. — Ты, конечно, глушитель еще не присобачил?
За спиной у нас подозрительно запищало. Вполоборота головы мне удалось заметить, как номер два извлекает из внутреннего кармана телефон. О таких дальнобойных рациях я не подумал. Вероятно, сейчас мистер Крутой должен был получить свежие и последние инструкции. Лучшего случая представить себе невозможно. Плевок выстрела вряд ли услышит тот, кто раздраженно дает наставления…
И все же услышал…
Через полминуты в моем кармане зазвучала тема из сороковой симфонии Моцарта. Жаль, что пришлось прервать ее чуть скрипящим голосом Симона Давидовича.
— Мне кажется, Никита Васильевич, вы сделали неправильный выбор, — предельно вежливо начал он. — Я сейчас нахожусь в длительной командировке, и мне некогда вести с вами душеспасительные беседы. И все же мое предложение остается в силе. Стоит ли портить себе жизнь из-за трех десятков листов? Кстати, посланным за вами людям была дана инструкция только наблюдать…
— Ага, и подзорная труба калибра девять миллиметров…
— Очень удобная, кстати… Да и что мы могли купить в Австрии лучше «Глока»? Я думал, вы любите хорошее оружие… Вам, если вы заметили, мы приобрели точно такое же. Из одного, можно сказать, ящика. Очень красивый пистолет. Современный дизайн.
— Пластик — штука ненадежная…
— Зато легкая!
— Мы вообще о чем?
— О том, что мы можем всё, а вы — только защищаться.
— Некоторые и этого не могут.
— Ну и продолжите свою мысль, как часто делает это русская интеллигенция: быдло, скот, рабская душа…
— Я таких ярлыков никому и никогда не вешал.
— Но вернемся к нашим бумагам.
— К вашим или к нашим?
— Хороший каламбур… К-хе… Но если вы за нас, то к нашим. А вы, вне всяких сомнений за нас, иначе бы не отправили Маргариту Ивановну одну в гостиницу. Вы же знали, что мы ее будем оберегать?
— Черт… — даже в самом тщательно разработанном плане могут быть погрешности.
— Вы очень умный, Никита Васильевич, но не стоит считать и нас за недоумков. Когда решите, где и как обменять бумаги на обожаемую вами Маргариту Ивановну, позвоните на мой мобильник. Номер сейчас горит на вашем дисплее. И помните: копия меня не устроит, мне нужен именно подлинник. Кстати, я готов даже на приличную доплату. Какое-то продолжительное время я вынужден буду находиться в Соединенных Штатах, но наши люди найдут вас везде, где вы пожелаете. Обещаю вам, что охотиться мы на вас не будем, потому как у нас взаимный коммерческий интерес.
— А после получения бумаг?
— И все же мне хотелось бы иметь такого человека, как вы, лучше другом, нежели врагом. Так что если решите задачу правильно, я буду считать вас именно другом.
Симон Давидович отключился. Немой, как и положено немому, всё понял без слов.
— Что дороже: чья-то тайна или человеческая жизнь? Не думаю, что они дадут мне на раздумья вечность.
Андрей Викторович скорехонько начеркал в блокноте: «Едем в банк, возьмем ключ, потом в Швейцарию, там второй банк. Ты получишь бумаги, снимем копию, а подлинник отдадим. Другого выхода нет, и помощи ждать неоткуда». Точку он поставил жирную, не терпящую возражений. И, наверное, мы никогда не узнаем, что еще есть в подлиннике, кроме перечня фамилий. Тайнопись? Код? Число зверя? Смертоносные заклинания каббалистов? Шифр?.. И кому потом нести повинную голову за невыполненное задание?
18
— Тринадцатый?! — голос пронзил меня насквозь, когда я уже вышел из банка и шел через небольшой парк к лавочке, где скучал Немой.
Я остановился и оглянулся. Генерал Черноморец привычно продул беломорину, сосредоточенно посмотрел на меня исподлобья. Папиросам «Беломорканал» он не изменял никогда, это я вспомнил точно, а вот одет он был неожиданно: кожаная куртка, меховая кепка, джинсы и ультрасовременные боты на шнурках. Этакий моложавый дедок… «Появиться в нужное время и в нужном месте — это иногда важнее, чем со ста шагов в десятку попасть», — говаривал он нам. Сколько же он ходил за нами по пятам, старый лис?
— Сейчас опять полиция пристанет, — показал он мне прикуренную папиросу, — думают, я марихуаной балуюсь. Я одному предложил закурить, он, бедный, чуть легкие не выплюнул, — генерал улыбнулся и обнял меня. — Пошли, сынок, а то Немой уже заждался. Слушай, а из тех двоих, что ты у него дома поселил, могут неплохие ребята получиться. Учить только надо. Ох, и долго мне пришлось тебя искать…
Мы сидели втроем на лавочке, и Черноморец неторопливо рассказывал о том, что и как делали на Кавказе. Получалось, о них не забыли и там. С генерала требовали сдать все схроны и счета. Новый президент собирал новую команду, старых чистильщиков он посчитал скомпрометировавшими себя службой коммунистическим идеалам… Просто побоялся с ними работать.
— Будто сам пионером не был, — горько ухмыльнулся генерал, — и тем более шефом ФСБ.
Выкуривая одну папиросу за другой, Черноморец рассказывал, как подставили Двадцать Седьмого, поручив заминировать дорогу, по которой через пару часов должна была пройти колонна федеральных войск. Когда он узнал об этом, угнал у омоновцев бэтээр, но успел остановить колонну, только сам наехав на собственное творчество. А тут еще с зеленки ударили «чехи»… Когда его привезли в госпиталь, ноги спасать было поздно. Спустя несколько дней в горах попала в засаду вся команда. Из тридцати трех остались Черноморец, которого почему-то держали в штабе, и еще пятеро, которые оказались в плену…
— Симона Давидовича твоего недавно показывали по телевидению, сетовал он из Америки на нового президента, пугал народ тоталитаризмом и диктатом… Я было порадовался, думал, добрые времена наступают, а президент мне по телефону предложил лекции на курсах читать. Мне, боевому генералу! Я ему про команду нашу говорю, а он мне — нет такого подразделения, официально никогда не было. Выходит, он ни нашим, ни вашим. Чьим? Пока не понятно. В этом и есть великая суть демократии: нет курса более верного и вечного, чем обогащение. Рыночная экономика! И что, говоришь, сынок, тебе Симон Давидович за эти бумаги предлагает?
— Мою будущую жену, — что я еще мог ответить?
— Хорошая цена, но мы попросим чуть больше. Знаю я, что вся Чечня у него была повязана, думаю, и сейчас еще его деньги там крутятся. Так что попроси у него, чтоб доставил в безопасное место, которое мы укажем, Второго, Шестого, Семнадцатого, Двадцать Третьего и Двадцать Восьмого, ну и пару сотен тысяч баксов…
— Деньги-то зачем?
— Начинать с чего-то надо? — удивился мне Черноморец. — Не все же семьями обзаводятся, как ты, кому-то и в окопах сидеть придется. Как у тебя с памятью-то?
— Частично, — ухмыльнулся я.
— Я твой номер никому давать не буду, суеверным стал. И еще потому, что нам теперь и там свои люди нужны. Ты от дружбы Симона Давидовича не отказывайся.
— Не понял… — и действительно не понял: обидеться, оскорбиться или снова в разведку?
— Вот с Азефом никто дружить не хотел, зато потом его по всему миру не сыскать было. Даже товарищи по оружию, что отблагодарить его хотели за предательство, не нашли. Они всегда с деньгами на дно уходят. Англичане вон Кромвеля из могилы достали, чтоб повесить. Правда, от этого никому легче не стало, да и сами они не изменились… Мир по-прежнему принадлежит банкирам иудейского происхождения. Идет по крыше воробей, он тоже маленький еврей.
— В группе моего друга Болотова работает простым опером Лев Наумович Шиевский. Хороший парень…
— Есть разница между иудеями и евреями, Тринадцатый. А хороший опер — это никак не иудей, опер вообще не может быть иудеем, точнее, наоборот. Видел я твоего Леву, он меня в аэропорт подвозил, хороший парень. А еще мне Пастернак нравится, да помню с детства голос Левитана. Сводки Совинформбюро… — улыбнулся Черноморец. — Еще неизвестно, что больше миф: антисемитизм или масонский заговор против христианского мира. В истории любого мифа есть один главный вопрос: кто его автор. Вот мы с тобой тоже миф.
— Значит, команды больше не будет?
— Кто сказал? Я этого не говорил. Нас и раньше на бумаге не было. Спецподразделение «Белая стрела» — миф. Очень хороший миф. Вот когда я совсем состарюсь, уйду в монастырь, Немой командовать будет. Правда, Андрей Викторович?
Немой с горькой ухмылкой отрицательно покачал головой.
— Прости, забыл, — смутился генерал. — Ну может, и тебе, Никита, домашние пирожки поперек горла встанут, и ты снова в строй. А?
— Неистощимый у вас оптимизм, товарищ генерал, — заметил я.
— Отчаянье — грех, подполковник, — парировал Черноморец.
— Я — подполковник?
— Ага, новый президент посмертно присвоил, еще и орден новый дал.
— Значит, меня официально тоже нет?
— Да, официально тебя тоже нет. Ты, Никита, тоже миф, миф о Тринадцатом. Как звучит! Кем хочешь официально ожить? В третий раз…
— В смысле?
— В смысле мирной профессии, дипломы и трудовые книжки я с собой с базы вывез.
— Надо подумать… Это ж как снег на голову… Вы все же надеетесь, что мы будем востребованы?..
— Рано или поздно — будем. Знаешь, Никита, я тут пока тебя искал, много специальной литературы изучил. Почти в каждой стране было, есть и будет такое подразделение.
— А мой адвокат нас опричниками назвал.
— А ты знаешь, что означает слово «опричь»?
— Н-нет… Или не помню.
— Опричь — значит кроме. То есть кроме чего-то, что уже есть и что, вероятно, не удовлетворяет требованиям. Поэтому и требуется — опричь. Сравнение, конечно, не самое приятное. И вообще — это не твой адвокат. Твой адвокат у тебя в кармане, и у него всего пятнадцать слов, которые он умеет говорить смертоносной скороговоркой.
— Вы что, тип пистолета и наполненность обоймы по глазам определяете?
— По запаху и весу, — хохотнул Черноморец и добавил уже серьезно. — Ты же прекрасно знаешь, Тринадцатый, суперменов нет и не бывает, но если очень долго заниматься с умом одним и тем же делом, можно стать профессионалом.
— И кем же я могу стать? Какое у меня образование?
— Если память тебя не подведет, то, скажем, фельдшером, учителем истории или английского языка, военруком, тренером сборной России по стрельбе, тренером по рукопашному бою, дворником…
Эпилог
ЕСЛИ бы кто-нибудь мне сказал, что в заснеженных просторах Зауралья есть поселок с таким названием, я бы, наверное, не поверил. Хотя, если под Москвой есть село Париж, то почему за Уралом не может быть Карфагена? Говорят, когда-то это было село Карфагино, но кто-то из начитанных селян в последние годы прошлого века переиначил это название в Карфаген. Где-то я читал, что нельзя пренебрегать значением имен и названий, особенно если в них уже заложен драматический вселенский смысл. Удивительно (или, наоборот, закономерно), но во времена столыпинской реформы Карфаген начал богатеть, его жители понастроили маслобоен, почти у каждого было небольшое стадо, они сеяли и жали, а Карфаген, подобно древнему собрату, богател и торговал. Во время революции Карфаген занял выжидательную позицию, а во время гражданской войны переходил то на одну, то на другую сторону. Из-за этих переходов Карфаген зачислили в политически неблагонадежные и на всякий случай послали туда отряд чоновцев, которые добросовестно поставили к стенке половину мужского населения. И все же в годы нэпа Карфаген снова начал нешуточно процветать, ко всему прочему, там забыли закрыть церковь, но в тридцатые годы половину его жителей (самых дееспособных) отправили на великие стройки в связи с излишками собственности, что в истории получило название эры раскулачивания. Те же, кто после этого от радости или от горя не спился, то есть следующая половина оставшейся половины, сложили голову, защищая Родину от нашествия гитлеровских орд. Из всех оставшихся попытались сделать передовой колхоз, но когда не получился передовой, сделали просто совхоз. В результате в «золотой век» развитого социализма Карфаген вошел малой деревней, которую на заре перестройки благодаря особым стараниям «любителей русской деревни» решено было уничтожить, чтобы не мешалась под ногами крупной социалистической собственности в сельском хозяйстве. Молодежь от такой политики ринулась в город, где великих строек еще хватало, а старики решили, что умрут вместе с Карфагеном. Но разрушить его до конца не успели, потому что разрушить решили страну… И вот тут напрашивается аналогия: страну тоже частенько называли Третьим Римом, и получалось, что процветающий Карфаген не давал покоя Риму, а Рим в свою очередь не давал покоя всем своим соседям. Только потому, что он был. Так же, как и Карфаген.
И в этом самом Карфагене оставила бездетная тетка-учителка Рите в наследство небогатый дом, которому было полтора века от роду.
Ехали в Карфаген только мы с Ритой, Немой удалился в неизвестном направлении вместе с Черноморцем.
Синим морозным дымчатым утром мы свернули на проселочную дорогу, занесенную снегом, на попутном «уазике», прозванном в народе «таблеткой». Взору нашему предстало огромное белоснежное поле, на краю которого начинался лес, и только по идущим в небо дымам угадывалась ушедшая в сугробы жизнь никак не желающей умирать русской деревни. Только с расстояния в два-три километра, кроме вездесущих столбов, стали видны дома. Обычные, кое-где осевшие по самые ставни в заснеженную землю. Половина из них дымила, сохраняя благодаря щедрости русских печей тепло жизни. На окраине, как водится, пугающе торчали скелеты хозяйственных построек и мертвые избы, любая из которых годится для съемочной площадки фильма о привидениях. Пара раскуроченных ржавеющих тракторов и еще каких-то сеялок-веялок… Стоило отсечь взглядом «оставшихся в живых», и начинало казаться, что здесь ушедшей осенью кончилась война. Но именно поэтому верилось, что весной начнется новая мирная жизнь. И так, наверное, верится каждую весну.
Ближе к селу лес начал наступать хилыми заиндевелыми осинами на обочину, в обозримой глубине они чередовались с березами и соснами, за которыми провалом в бело-синем ровном ландшафте угадывалась небольшая река, делающая у села замысловатую петлю, в центре которой кончаются незатейливыми баньками огороды.
Дом Ритиной тетки оказался недалеко от центра села, но представлял собой печальное зрелище. Сугробы навалились на закрытые ставни, забор под напором снега и времени неровным верхом угрожающе наклонился внутрь двора, рядом с большими воротами стояла сорванная с петель и приваленная к ним калитка. Точнее, не стояла, а угадывалась заснеженным выступом. К двери пришлось пробиваться по пояс в снегу, и добрых полчаса вручную мы откапывали из-под крыльца вмерзший в землю ключ от видавшего вида амбарного замка, сердце которого пришлось оттаивать позаимствованными у соседей спичками.
Соседом оказался Ритин друг детства Николай — разговорчивый и неунывающий парень, который года три назад вернулся с остановившегося завода к родителям и, по его словам, снова врос в землю, пытаясь один на один с рыночной экономикой стать российским фермером. Пока он помогал нам открыть замок, потом растопить печь, расчистить тропинки во дворе, неутомимо и бесперебойно рассказывал о местной жизни. Из рассказа его получалось, что день ото дня Карфагену становится хуже (техника дохнет, в магазин забывают в условленные дни привозить хлеб и муку, зато в комке всегда есть паленая водка, недавно похоронили двух мужиков, наверное, ею отравились, в больнице у фельдшера нет лекарств, а до районной больницы аж двенадцать кэмэ…), но сопутствующая этим объяснениям безысходность порождала в нем необъяснимый чужестранцам оптимизм и веру в то, что «завтра мы сделаем…», «по весне распашем», «через годик-два построим», «и заживем»… И потом законное: «А вы надолго?». И после «навсегда» еще один фонтан оптимизма, сопровождаемый стахановскими планами по восстановлению дома и прилегающих хозяйственных построек, а также фамилиями всех селян, что обязательно придут помочь, лишь бы хозяйка стол накрыла…
И вдруг стало спокойно. Тревога перед неизвестностью прошла. Для Николая неизвестности не было, точнее, он знал, как она исчезает, растворяется, как туман, тает, как лёд, рассыпается в пыль, стоит только захотеть жить и приложить к этому желанию немного мозгов и руки. А думать о ней — зря голову грузить. И без подглядок в будущее стало известно, что будет он немного навязчивым, но добрым и заботливым соседом, взявшим под свою опеку изнеженных горожан. Рита пойдет на фельдшерский пункт, а я поищу места либо в основной школе, где работают всего три учителя, либо пойду в артель, что весной начнет восстанавливать храм… «Русскому человеку без храма нельзя, — пояснил Николай, — храм нашу душу бережет, а без души нет ни дела, ни жизни. Я до этого недавно своим умом дотумкал. Историю читал. Получается, где стоял храм, там и город был или селение какое, а как не стало храмов, начались Содом и Гоморра. Без храма — тупик! Ни в небо посмотреть, ни в землю врыться! Я вот с год горькую пил, чуть и жисть и семью не потерял, а вышел однажды утром с похмела на улицу, увидел нашу мертвенькую колокольню без маковки, и так вдруг плакать захотелось, и помолился бы, да ни одной молитвы вспомнить не могу. Так вдруг невыносимо жалко нашу землю стало! Так вдруг больно! Как же Богу, думаю, видеть и слышать нас противно. И до ларька, и до храма мне одинаково идти было… И, думаю, почитай, всей России нынче так…»
И долго еще Николай говорил с надломом в голосе, а сам бойко работал лопатой, расчищая тропку к бане. Слова его то падали в снежную ослепительную белизну, то летели в стылое, немного грустное небо. И мне самому было чуточку грустно начинать в этой глуши третью по счету жизнь, так и не поняв всё до конца в двух предыдущих. Но грусть эта была светлая, дышащая всеобъемлющим покоем, исходящим из самой земли, разбавленная безбрежным чувством простора и веры в то, что всё ещё только начинается. Подумалось вдруг, что ни в каких экзотических, щедро согреваемых солнцем, ни в каких ультрацивилизованных, распираемых от собственного достоинства и достатка странах нельзя испытать эту простую и одновременно такую многомерную грусть, от которой, хоть и грусть она, но сладко, именно сладко щемит сердце, как щемит его, когда чует оно и принимает в себя вечность и бесконечность.
И представилось под этот нехитрый монолог недалекое будущее: подъедут таким же морозным стылым утром три-четыре машины. Из кабин высыплются шумным гуртом ребята в камуфляжной форме под началом нестареющего Черноморца, аккуратно спустится на землю привыкающий к протезам Игорь, Саня закричит: «Топи баню, братан!» и будет перчить свою поумневшую речь трудноискоренимыми жаргонизмами, и все они за общим столом наперебой будут рассказывать о новой службе, а Черноморец станет хитро поглядывать на меня исподлобья, что будет означать: а не соскучился ли ты, сынок, по солдатскому братству? Но всякую ли битву можно выиграть мечом или пулей, особенно если последнее сражение разыграется на небесах? В любом случае сомневающийся стрелок уже не стрелок, но еще и не философ. Есть время, когда стрелки уходят в монахи, и есть время, когда монахи берут в руки оружие. И есть время, когда разбрасывать уже нечего, нет даже камней, остается только оголенная и сомневающаяся душа, жаждущая правды и света, и если мир начинает разбрасываться душами, то найдутся ли те, кто будет их собирать.
И настороженно будет ухаживать за шумными гостями Рита, которая до конца жизни, как и я, не сможет понять, что сильнее в этой жизни: любовь или нескончаемая война. Так или иначе, я выберу первое. Выберу еще и потому, что «Карфаген должен быть разрушен» уже сказано и повторяется бесконечно, и давно пора появиться тем, кто скажет, и будет повторять наперекор всему и вся: Карфаген должен быть построен. Ибо сказано: «В начале было Слово…»
Горноправдинск — Тюмень — Алушта — Вена, 2000–2001 гг.
РАССКАЗЫ
Последний фантастический рассказ
ВСЮ свою жизнь Игорь Дмитриевич не обращал внимания на летающие тарелки. Ну летают себе где-то, так пусть и летают. Увлекаться проблемами НЛО Игорю Дмитриевичу было абсолютно некогда, потому как работал он учителем истории в сельской школе, и была у него очень большая нагрузка — две с половиной ставки да еще общественная. Зеленых человечков Игорь Дмитриевич справедливо считал «новыми бесами». По принципу: если есть новые русские, значит, есть и новые бесы. Были в девятнадцатом веке чертенята с рожками и копытцами (см. Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»), а теперь, стало быть, зеленые человечки. Пару раз попадали ему на глаза газеты с рисунками и даже якобы фотографиями пришельцев из других миров. Глянув на них краем глаза, Игорь Дмитриевич с отвращением отмахивался: «Упаси, Господи!..» Но по ночам, как всякий неутомимый романтик, успевал любоваться звездным небом, особенно когда высыплет из темной глубокой бездны все многообразие существующих миров: и красные гиганты, и белые карлики, и голубые, и еще зеленые какие-то, и близнецы, типа Сириуса, и солнышки желтые… И через всю эту подмигивающую красотищу тянется снежным хвостом Млечный путь. И вот в такие-то минуты представлялись ему неизведанные миры, с таким же, как на Земле, голубым небом, теплыми морями и буйной зеленой растительностью. Теплые миры. Но, по мнению Игоря Дмитриевича, населены они были такими же людьми, только, может быть, чуть более счастливыми, чем земляне. Они не болеют, и природное их добродушие не позволяет витать в чистом ароматном воздухе их планет мыслям не только о войне, но даже об обыденных ссорах.
С годами Игорь Дмитриевич понял, что фантазии его в какой-то мере являются воспоминаниями всего человечества о потерянном рае. А может, и переплетаются с представлениями набожных старушек о том свете. Они ведь как мыслят: «Под небом голубым есть город золотой», там все счастливы и здоровы, и Боженька наделяет всех достойных неисчислимыми благами и радостями, что только и остается райским жителям — восхвалять и петь славу творцу. Сам-то Игорь Дмитриевич понимал рай иначе. Рай — это состояние души, при котором она пребывает в блаженстве. Не мучают ее угрызения совести, тоска, одиночество не гложет… В общем, все чувственные напасти, которые знакомы любому человеку по земному бытию.
В поселке не было храма, об этом позаботились еще в тридцатые годы большевики, превратив церковку в клуб «Красный северянин». Это уж точно: и работники клуба, и его посетители чаще всего выходили из него красными, только не по политическим убеждениям, а от выпитого самогона, в неограниченных количествах изымаемого у заботливых и крепких хозяев. Только вот из красных они очень быстро становились синими, а затем холодными и бледными. Последователи закапывали их на сельском кладбище под неодобрительный ропот все тех же набожных старушек. Вот, мол, и божье наказание, но старушечьему ропоту никто не внимал, и последователи шли справлять поминки, переходящие в какой-нибудь революционный праздник, чокаясь гранеными стаканами с бюстом Карла Маркса. Традиция такая у них была…
После войны клубная работа поутихла. Раз двадцать «наступив на грабли», местные активисты стали обходить «Красный северянин» стороной, а для своих активных дел открыли избу-читальню в доме единственного кулака, который после раскулачивания перебрался в землянку на околице. В застойные годы построили новый клуб, а вот церковка под ветрами и дождями осела и стала осыпаться по кирпичику. И хоть совсем по-другому стал в нынешние времена смотреть народ на небо, не красные дирижабли в нем выискивая, а промысел Божий, а кто и крестился не украдкой, но теперь не хватало на реставрацию церкви денег. Приезжал из округа священник: крестил, отпевал, проводил приходские собрания в квартире старосты, говорили там и о храме, но пока дальше разговоров дело не шло. Так и жили сельчане — вроде верующие, а не воцерковленные, от случая к случаю собираясь на общее богослужение. И Игорь Дмитриевич с ними…
В поселке, следуя моде, были свои экстрасенсы и контактеры, которые любили появляться в общественных местах, создавая вокруг себя этакую ауру тайнознания, не забывая при этом позлословить в отношении своих конкурентов. Некоторые даже показывали удостоверения различных потусторонних академий и практиковали за большие деньги: заговаривали местных коммерсантов от пуль и наездов в городах, примагничивали им прибыль, лечили народ от сглаза и порчи, только непонятно было, откуда эта порча берется, если никто, кроме них, ею не занимался. Старушки, видя их, торопливо крестились, называя «анчихристами», сельские интеллигенты вступали с ними в околонаучные беседы, а Игорь Дмитриевич спокойно считал их шарлатанами, а всех, кто к ним обращается за помощью, дураками. Ему вообще некогда было обращать внимание на параллельные миры и прочую спиритическую лабуду. От шести до десяти уроков в день, факультативы еще, а потом мероприятие какое-нибудь готовить надо. Дома же свои дела: помочь дочкам — Ане уроки сделать, а Насте стихотворение в садик выучить, да и жене Варваре Сергеевне помочь чего-нибудь по быту. Так что времени едва хватало осенью за грибами и на рыбалку сходить, зимой книжки почитать, а летом не грех и к морю вырваться, если начальство путевкой пожалует. Да и за здоровьем смотреть было некогда. Тут последнее время стал одолевать его непривычный сухой кашель, но никак на него не отреагировал Игорь Дмитриевич. Разве что воды выпьет или трав ему Варвара Сергеевна запарит, да еще мысль была — курить бросить. Была, да обдумывать ее некогда, пока обдумываешь, сигарета сама собой во рту окажется. Опомнишься, а уж пять затяжек сделал. Где уж там остановиться. И говорил ведь батюшка, что это фимиам сатане… Но так уж у нас принято: ремонт, здоровье и покаяние на самое последнее, вроде как запасное время откладывать.
Словом, всю свою жизнь Игорь Дмитриевич не обращал внимания на летающие тарелки. И так бы оно и было, но летающие тарелки сами обратили внимание на скромного сельского учителя истории.
Под Новый год поехали они со школьным водителем Егором Андреевичем на бортовом «уазике» за елками. И угораздило ведь под самую полночь поехать. Минут двадцать двенадцатого. Днем-то все не с руки было. Мороз как раз придавил так, что тайга искрилась и трещала сухостоем, а деревья, которые не хвойные, инеем оделись, точно кораллы морские. И звезд на небе было столько, что без телескопа можно было новые открывать. Двинулись зимником за Иртыш. Там, по словам Егора Андреевича, «средние красавицы, а то и пихту мохнатущую можно спилить». Игорь Дмитриевич не спорил, потому как не числился в поселке знатоком природы и местного ландшафта, а только знатоком отечественной и всемирной истории. Выбрали место, где был на зимнике карман для остановки, и подходящий, по мнению Егора Андреевича, подлесок. Остановились. И вот тут-то началось…
Сначала стало необычно светлее. И свет этот был наподобие звездного: голубой и холодный. И более всего походил на искрящуюся, падающую с неба пыль. Игорь Дмитриевич хотел поделиться своими соображениями по этому поводу с водителем, но когда повернул голову в его сторону, увидел, что тот спит. Сон этот был настолько глубоким, что Игорю Дмитриевичу не удалось его растолкать. На все его убеждения и тычки Егор Андреевич отвечал несвязным мычанием, не открывая глаз и не отрывая голову от руля. Мотор между тем сам собой заглох, и Игорю Дмитриевичу ничего не оставалось, как только выйти из кабины на улицу. Он открыл дверцу и шагнул в скрипнувший сугроб. Шагнул и тут же услышал над своей головой металлический, словно у робота, голос: «Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. Мы хотим с вами поговорить о самом главном: о жизни и смерти».
Игорь Дмитриевич вздрогнул и посмотрел вокруг. Позади машины в пяти метрах от земли висела, едва не касаясь верхушек сосен и кедров, самая настоящая летающая тарелка. От нее и струился этот корпускулярный свет, образуя в радиусе метров двадцати светло-голубое облако. Голос раздавался из ее чрева:
— Мы предлагаем вам жизнь, Игорь Дмитриевич. Жизнь без болезней и страхов, без забот и утомительной работы. Вы полетите с нами на нашу планету.
Что-то хотел спросить Игорь Дмитриевич, нисколько не испугавшись, а как-то по-особенному занервничав (мол, вмешиваются тут всякие в процесс отбора елочек), но голос опередил его.
— У вас болезнь, которую вы называете рак. Так вот, Игорь Дмитриевич, для вас рак на горе уже свистнул. Рак легких — это мучительная смерть. Мы знаем, как вас вылечить, и мы приглашаем вас с собой…
Рак? И опять не испугался, а раздосадовался Игорь Дмитриевич. Вот ведь неожиданность! Вот нелепость! Вроде и помирать рано… Стало быть, наказал Бог. И что же теперь — подаваться в чужие теплые края, может, в зоопарке каком место мне определят. А то и самок ко мне в клетку подсадят, чтобы мы размножались в неволе. А инопланетяне будут приходить и смотреть, что мы за звери такие.
— Да кто хоть вы сами-то? — резонно спросил Игорь Дмитриевич.
В ответ на его вопрос в брюхе летающей тарелки открылась дверь, откуда высыпались ступеньки, а по ним спустились на землю три невысоких существа. Яйцеголовые и глазища как маслины. Без всяких там скафандров и других приспособлений. Руки и ноги тонкие. Видать, не приучены к физическому труду. Пальцы вот пересчитать не удалось. Нос, если это нос, едва выделялся, и рот едва заметен: столовую ложку в него не опрокинешь. Но, как выяснилось, ртом они даже для ведения переговоров не пользуются. Голос одного из пришельцев сам по себе металлически звенел в голове Игоря Дмитриевича.
— На нашей планете уже много ваших особей. Вам там не будет скучно, и не придется умирать в холодной районной больнице.
— И как это землячков угораздило к вам попасть? — прищурился Игорь Дмитриевич.
— Они сами согласились. Чтобы не болеть и не умирать. Здесь они считаются без вести пропавшими. Но там им не скучно. Там они делают, что им захочется. Мужчины любят женщин, сколько смогут. Там не надо быть только с одной женщиной. У нас нет таких странных и строгих законов. У нас полная свобода…
— Содом и Гоморра, — сказал себе под нос Игорь Дмитриевич.
Сказать-то сказал, но почему-то полезли в его голову навязчивые фантазии: пляжи с золотым песком, на котором загорают вечно юные и предельно стройные красавицы, каждую из которых можно обнять и потискать, волны теплого моря, лениво накатывающие на берег острова счастья, изысканные напитки и мягкая прохлада по вечерам… И не мог себе соврать Игорь Дмитриевич, что ему туда не хотелось. Да и разве сорок лет — это возраст, чтобы белые тапочки примерять? Пусть и седина в висках, а ведь все равно каждое утро кажется, что жизнь только начинается, и время больших свершений еще впереди. Что ототрет он в очередной раз руки от мела, забудет про напряженное расписание, про брюзжащего завуча… А дальше? Дальше ничего, кроме тех самых пляжей и аккуратной виллы на берегу моря почему-то не грезилось. И вдруг даже услышал томный женский шепот: «Соглашайся, Игорь, соглашайся. Покой и нежность, чистый воздух и вечное тепло… Мы ждем… Надо еще пожить… Жить…». «Искушение», — подумал Игорь Дмитриевич, но так вдруг защемило сердце от обиды: всю жизнь пахал у школьного станка, всю душу в учеников вкладывал, а государственной благодарности едва на хлеб насущный хватало, и вот вроде чуть больше платить стали, коттедж, хоть и деревянный, сладил, а тут, говорят, помирать пора… А дочки? Кто ж им теперь опорой будет? В наше-то время государству по большей части плевать на сиротинок. Только разговоров много, а дел-то ни на грош. Точнее, на грош. А на грош нынче много ли купишь? Ах беда-то! Опять же детдомовским ребятам обещал помочь спортивный зал доделать… Убегу в космос, так и скажут: убежал. И никому больше верить не будут. И так уже мало кому верят. Посмотрели бы вы, господа инопланетяне, в глаза этих ребяток! У кого родители либо повымерли от реформ и прочей шоковой терапии, а у кого и живые, да только живыми их не назовешь, потому как вся их жизнь на дне стакана умещается. За сто граммов на этом самом дне они кровинушек своих отдадут и продадут. Вот ведь незадача: и так помрешь, и так тебя нету.
— А письмо от вас отправить можно? — стал искать соломинку Игорь Дмитриевич.
— Никакой связи с этим миром у вас не останется. Дорогое это удовольствие — за миллион световых лет конверты возить, — ответил металлический голос.
«Ну вот, опять рыночная экономика». И представилось вдруг, как входит он домой, елочку заносит, а у дочурок радостные личики… Аж слеза на ресницах замерзла.
— Да что же делать-то, Господи! — закричал вдруг в самую глубину звездного неба Игорь Дмитриевич.
И после этого крика заметил, что будто передернуло инопланетных спасителей. И все мысли о выборе сразу выморозило из головы, а вместо них появилась жгучая ненависть. Даже пот прошиб.
— Именем Господа нашего Иисуса Христа заклинаю, кто вы такие, нелюди межзвездные?!
А те молча попятились, будто ружье на них наставили. И осенило в этот миг Игоря Дмитриевича, и заголосил он на всю тайгу:
— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его: яко исчезает дым, да исчезнут… — на этих словах дверца в летающей тарелке захлопнулась, и она тут же исчезла, только дым и остался. Голубоватый такой. Да и дым стал рассеиваться, и вместе с ним рассеивались видения солнечных пляжей и таяли, яко воск, загорелые девицы… Правда, пришлось себя ругнуть Игорю Дмитриевичу, потому как шевельнулось где-то на самом дне души сожаление. Это ж какая жизнь ему предлагалась? Да вот только жизнь ли?..
И все… Только сучья потрескивали в чаще. И так холодно стало, до самых костей пробрало. Вдохнул поглубже, грудь внутри холодным огнем обдало, и зашелся сухим безостановочным кашлем. Тем самым и разбудил Егора Андреевича, который выскочил по спине похлопать. Спросонья не понял, думал, подавился напарник.
— А я, никак, заснул, — смущенно удивлялся водитель. — Никогда такого со мной не бывало. Жуть какая-то. И знаешь, что мне, Игорь Дмитриевич, приснилось? Ты уж прости… Приснилось, будто мы тебя всей школой хороним. Дети плачут. Я сам ревмя реву. Аж всю душу наизнанку вывернуло… Но ты не пугайся, это хорошая примета. Кого во сне хоронят, тот долго жить будет.
— Да некогда тут помирать! — обозлился Игорь Дмитриевич. — Я вон пихточку присмотрел, как раз для актового зала подойдет. А вон ту елочку домой возьму. Себе ищи…
— Да не обижайся ты, Дмитрия. Я и сам не ожидал. Смотри, ночь-то какая звездная! Двухтысячный год встречать будем, самое время космическое пространство осваивать и к звездам лететь!
— К звездам? Космическое пространство осваивать? Да некогда, себя бы освоить. Где у тебя ножовки?
— В кузов бросил, там ящик у меня с инструментами. Закуришь?
— Не, не хочу, некогда…
Горноправдинск, 2000 г.
Отвергнутые
Дойдя до школьных ворот, Мишка остановился. Нужно было опять перебарывать себя: несколько шагов до крыльца, открыть дверь, выслушать, в сущности, равнодушное ворчанье завуча: «Опять опоздал, Головин», краем глаза увидеть, как качает головой гардеробщица, подняться на второй этаж и войти в кабинет, извиниться за опоздание и услышать от Ангелины Ивановны: «Ну вот, Безголовин явился!..»
Мишка и сам понимал, что с ним происходит что-то не то. С тех пор, как от них ушел отец, мать с утра до поздней ночи мыла полы в трех организациях, трехлетняя сестренка постоянно болела, старший брат не писал писем из армии, а Мишка?.. Мишка вдруг перестал верить в то, что в этой жизни для него еще может наступить что-то важное и хорошее. Все дни стали беспросветно серыми и одинаковыми. Все люди, кроме матери, если чего-то и хотели от него, так это одно из двух: либо чтобы он не путался под ногами, либо чтобы он был примерным или хотя бы не самым плохим учеником и членом общества. Никто не спрашивал у Мишки, каково ему идти в ставших за лето короткими штанах в школу, легко ли знать, что не видать ему ни мороженого, ни шоколада, потому что все деньги уходят на самые необходимые продукты и лекарства для младшей сестры, больно ли получать подзатыльники за нерасторопность от дяди Олега, приходящего иногда к матери, и почему так спокойно сидеть на берегу, глядя на реку… Ничего не спрашивала и мать, только качала головой, получая сообщения из школы или рассматривая незаполненный Мишкин дневник. Глаза ее время от времени наполнялись слезами, она порывалась что-то сказать, но наружу выходил только грудной всхлип, и, махнув в сердцах рукой, она отворачивалась, уходила в другую комнату. Больно было Мишкиной душе, когда он чувствовал боль матери, хотелось пойти куда глаза глядят, горы свернуть, добыть жар-птицу, чтобы она все желания выполнила — лишь бы не видеть слез матери. С другой стороны, Мишка все же считал мать немного виноватой в том, что отец уехал от них к другой семье. От отца, который работал вахтовым методом, иногда приходили алименты. В такие дни они все вместе шли в магазины покупать продукты и кое-какую одежду для детей. Себе мать на деньги отца никогда ничего не покупала. Отец не писал, отец не звонил, отец не приезжал. Отца не было.
Постояв у ворот, Мишка решительно повернул в другую сторону — к реке. Он знал, что встречающиеся по пути односельчане не преминут рассказать матери, что он снова не пошел на занятия. Поэтому шел, опустив голову и ни с кем не здороваясь. В таких случаях он больше всего опасался встретить пожилую учительницу литературы, у которой не всегда были первые уроки, и она, не торопясь, шла в школу со стороны реки. Как раз с той стороны, куда направлялся Мишка. В отличие от остальных учителей и прочих воспитателей, Анна Николаевна никогда Мишку ни в чем не упрекала, а просто однажды взяла его за руку и привела к себе домой, где поила чайком с печеньем и конфетами и рассказывала свою жизнь. А жизнь у нее получалась не сахар. Муж, который не погиб на войне, вернулся в поселок всего на несколько дней и скоро уехал в город к другой женщине, оставив Анну Николаевну одну с двумя детьми. И тогда ей, как и Мишкиной матери, пришлось много работать, вести уроки в две смены. Пока она занималась чужими детьми, два ее сына остались без присмотра. Часто хулиганили, даже в милицию попадали. А кончилось всё тем, что один поступил в военное училище и теперь служит на Дальнем Востоке, а второй попал в тюрьму, и там его убили в драке. Анна Николаевна, когда рассказывала об этом, не плакала. Мишка понял, почему она не плачет: потому что за долгую свою жизнь она выплакала все слезы, и глаза ее стали к старости бесцветными и очень печальными. Настолько печальными, что смотреть в них, не испытывая стыда и смущения, было невозможно. И Мишке было непонятно, отчего ему стыдно, если он ничего плохого Анне Николаевне не сделал. Она даже уроков в его классе не вела. Он еще не знал, но что-то в душе подсказывало ему, что стыдно может быть не только за себя, но и за весь мир, за всех-всех вокруг. Мишка потом еще несколько раз приходил к Анне Николаевне, колол ей дрова, приносил тяжелые сумки с продуктами из магазина, таскал воду, еще чем-либо помогал. Она всякий раз поила его чаем или кормила, однажды даже пыталась дать денег, но Мишка, обидевшись, убежал. Он понимал, что Анна Николаевна жалеет его, но жалость, как он считал, была ему не нужна.
Ни за кого и ни за что взглядом не зацепившись, Мишка вышел к реке. Здесь, на крутом берегу, в низкорослом жиденьком сосняке он давно соорудил себе дозорный пункт. Из ветвей и досок был сделан добротный шалаш, в котором можно было укрыться от дождя и ветра, а можно было просто выспаться. Сюда же Мишка перетащил свой нехитрый скарб: перочинный нож, старенький атлас мира, несколько тетрадей, в которых вел дневник наблюдений, а то и записывал все, что наболело, или то, что посчитал важным. Из сарая перенес в шалаш старый отцовский спальник, с которым тот ездил на рыбалку. А железный ящик из-под снастей приспособил под НЗ — склад сухарей и консервов. При желании Мишка мог отлеживаться в шалаше несколько суток кряду, но не хотел волновать мать и каждый вечер возвращался домой.
По дороге он, разумеется, сталкивался с учителями, чьи уроки пропустил вчера или пропустит сегодня. Каждый из них считал своим долгом отругать Мишку за прогулы, пригрозить ему спецшколой, «раз уже мать с ним не справляется», а то и чем пострашнее. Когда Мишке обещали найти на него управу, он почему-то всегда представлял дореволюционного полицейского-урядника — краснолицего усатого и круглолицего дядьку в синем камзоле с револьвером в кобуре. Таким он увидел его на рисунке в одной из книг. Но вот никак не мог себе представить, что будет делать этот урядник с Мишкой. Разве что выпорет.
Больше всех «отрывался» на Мишке молодой учитель географии. Высокий, худой, с вечно недовольным лицом, он, как уличный фонарь, зависал над Головиным, чтобы, кривя губы, произнести: «А мы, Головин, с ребятами в поход ходили. Таких, как ты, туда не берут! Понял? Я не понял — ты понял или нет? Ты вообще на что годишься? Ты ни на что не годишься! Короче, Головин, по географии тебе двойка за четверть будет. Как ни крути, все равно двойка!»
Мишка и не крутил, он даже был согласен с тем, что ни на что не годится. Раз взрослые так говорят, значит, так оно и есть. Но и про самого Андрея Андреевича, географа, все в поселке знали, что приехал он сюда работать учителем, чтоб не призвали в армию. Наверное, поэтому Андрей Андреевич с таким превосходством и едва скрываемым пренебрежением относился ко многим ученикам, которых считал неспособными. Ему было обидно, что он, городской умница, вынужден тратить свое драгоценное время на этих олухов. И первым из этих олухов стал в прошлом году Мишка Головин. Андрей Андреевич знал, что Мишка все равно угодит либо в тюрьму, либо в армию, и во втором случае такие, как Мишка, смотрят на таких, как Андрей Андреевич, будто на пустое место. Недомужики, думают они.
До слёз насмотревшись на реку и проходящие баржи, Мишка решил подкрепиться. В школьной столовой как раз сейчас кормили. Он хотел было залезть в шалаш, но отпрянул. Оттуда торчали огромные ботинки. Попятившись, он наступил на сухую ветку, которая выстрелила на весь осенний лес, спугнув ворон на ближних соснах. Большие ноги тут же заелозили по дерну, и в проеме появилась коротко остриженная мужская голова. Глаза у этой головы были заспанные и долго моргали, чтобы привыкнуть к свету. В руке, появившейся следом за головой, блеснул клинок большого ножа. Мишка отошел еще на два-три шага и намеревался уже развернуться и побежать, но голова заговорила с ним хоть и хрипло, прокашливаясь, но достаточно дружелюбно.
— О! Выходит, я тут твои припасы съел?! Ну извини, парень… У тебя тут штаб? Ты меня не бойся, я из тюрьмы сбежал, но…
— Вы кого-то убили? — напрямую задал главный вопрос Мишка.
— Нет, упаси Бог, это меня чуть не убили. Я за драку сел, а в тюрьме снова подрался. Долго в больнице лежал, думал, отдам Богу душу, но все же выкарабкался. Да мне срок добавили. Несправедливо добавили, понимаешь?
— Понимаю, — кивнул Мишка и покосился на нож в руке беглеца.
Тот перехватил его взгляд и улыбнулся:
— Не бойся, этот хлеборез я сам сделал. Хочешь — подарю? Нет, лучше мы с тобой поменяемся на твой складенок? Не веришь? Держи! — и он бросил на землю к Мишкиным ногам свой нож с огромным серебристым лезвием и деревянной, украшенной резьбой ручкой. Не поднять его Мишка не мог, а подняв, долго любовался и даже попробовал потесать им ветку. Беглец с интересом наблюдал за ним.
— Ну что? Меняемся?
— Идет, — согласился Мишка.
— Меня Георгием зовут, в детстве Жоркой звали, Жора-обжора, а сейчас Георгием, как Жукова…
— Какого Жукова?
— Как какого? Главного победителя всех фашистов!
— Фашистов и Гитлера солдаты побеждали!
— Правильно, а Жуков ими командовал.
— А-а…
— Ну а тебя-то как зовут?
— Мишка…
— Михаил, стало быть, как архангела.
— А архангел кто? Тоже генерал? Тоже солдатами командовал?
— И командует, только на небе.
Последнего Мишка не понял, но в подробности вдаваться не стал. Раз в небе — значит, летчик. Летный генерал или маршал. Осознав это, Головин испытал к своему имени настоящее уважение. И решил, что теперь его тоже должны звать Михаилом. Отчество, конечно, пока не обязательно. Да и какое отчество без отца? Но Михаилом — обязательно.
— «Михаил» знаешь, как переводится? Кто как Бог!
— Кто переводится? Откуда переводится? — опять не понял Мишка. — Командующий переводится?
— Ладно, не ломай голову, — махнул рукой Георгий, и только в этот момент Мишка заметил, что рука эта легла ему на плечо. Бояться уже было поздно, но он решил, что будет настороже.
— А ты почему не в школе? — удивился вдруг Георгий, а Мишка в свою очередь удивился, что все взрослые одинаковы, и приготовился к тому, что сейчас его здесь, в лесу, отчитает за прогулы бежавший из тюрьмы человек. При этом он так вздохнул, что Георгий захохотал.
— Ну не хочешь говорить — не надо! Давай лучше твой шалаш прочнее сделаем. Мне тут, пока отлеживался, много мыслей в голову пришло, как его усовершенствовать. У меня в свое время тоже такой штаб был. Во-первых, мы его углубим, у меня еще саперная лопатка есть. Сделаем полуземлянку…
Вдвоем они принялись за работу. Георгий копал, а Мишка стаскивал к шалашу большие еловые лапы, которыми планировалось застелить пол. Работали весело и споро, но в какое-то мгновенье Мишку вдруг тоже посетила мысль. Глядя на то, как старательно выворачивает дерн Георгий, как рубит корни, он подумал, что беглец может остаться здесь навсегда. И следом пришлось думать о том, как они будут вдвоем уживаться.
— Дядя Георгий, а вас не поймают? — спросил Мишка.
— Поймают, — не отрываясь от работы, ответил Георгий. — Я вообще-то сюда по делу прибежал. Понимаешь, я причинил своей матери много горя, и когда меня ранили, я сделал так, чтобы ей сообщили, будто я умер…
— Анна Николаевна! — всплеснул руками Мишка.
— Конечно, ты ее знаешь. Она, наверное, до сих пор в школе работает?
— Да, уроки литературы и русского ведет. Только в старших классах.
— Ну вот. Я ей письмо написал. Из твоей тетрадки листок вырвал и написал. Передашь?
— Передам, а из тюрьмы написать нельзя было?
— Можно, но зона есть зона. А тут посмотри, красота какая!
— Обязательно надо было бежать?
— Ну ты же не хочешь в школу идти?
— Школа — это не тюрьма, мне просто… — и дальше Мишка не нашелся, что сказать. Он вдруг понял, что именно сейчас испытывал Георгий. — Но вас же поймают…
— Поймают, — согласился Георгий, — и тебя все равно заставят в школу ходить. И ты уж мне поверь, лучше тебе ходить в школу. Не знаю, какая беда тебя из колеи вышибла, но ты же мужик! Негоже мужику разнюниваться, правда?
— Наверное…
— Меня поймают, но в тюрьму я не вернусь, понял? — погрустнел Георгий.
— Понял, — ничего Мишка не понял, только каким-то самым далеким, самым задним умом начал догадываться.
— Так, браток, понимаешь, сложилось. Сам я, конечно, во многом виноват. А у нас уж как заведено: виноват — так во всем. Ну и получается, что я как бы отвергнутый. Последний человек, которому я был нужен, моя мать. И ты запомни, пока на свете есть мать, ты кому-то нужен, за тебя кто-то молится. Все остальные отказаться могут. А уж чтобы мать отказалась — это очень большим грешником надо быть.
Где-то над тайгой загудел вертолет. Услышав его, Георгий принялся копать с новой силой.
— Так ты унесешь письмо?
— Унесу… А почему вам самому не пойти?
— А этого я тебе, Михаил, объяснить не смогу. Сам себе не очень-то могу объяснить. По многим причинам. Не знаю, как в глаза ей смотреть буду. Не хочу еще, чтоб у нее на глазах браслеты мне на руки одевали да в спину гнали. Да и… Ох и больно мне, Миша. Не дай Бог никому. А ей-то ведь еще больнее.
Он замолчал, и Мишка заметил, как он вытирает рукавом телогрейки слезу. Редко приходилось видеть, как плачут мужчины, и на всякий случай Мишка наклонился, будто ветки перебирает. Через пару минут Георгий достал из-за пазухи сложенный вчетверо тетрадный листок и протянул его Головину. Мишка бережно взял его и положил во внутренний карман куртки.
За каких-то полчаса разговора с Георгием Мишка вдруг повзрослел до Михаила. Он тоже рассказал Георгию про отца, про мать, про вечно пьяного дядю Олега, про больную сестренку и даже про учителя географии Андрея Андреевича. В первый раз в жизни Мишку внимательно слушал взрослый мужчина.
А когда брел Головин по тропинке к поселку, ему подумалось, что Георгия посадили в тюрьму ни за что. Или, правильнее сказать, не за что-то конкретное, а за всех. За злые поступки всех вокруг, за то, что обстоятельства так стекаются, за то, что иногда просто надо кого-то посадить, чтоб остальным неповадно было. За то самое, за что Мишке стыдно смотреть в глаза Анне Николаевне.
У клуба на Мишку налетел Пашка Векшин, сын начальника поселкового отделения милиции. Налетел и затараторил:
— Ты пока не известно где шатаешься, у нас тут беглых бандитов ловят! Меня отец даже на рыбалку не отпустил. Вертолет слышал?! Спецназовцы прилетели! Лес прочесывать будут. Ты никого подозрительного не видел?
Мишка пожал плечами. Нет, мол. Он был уже намного взрослее Пашки Векшина. Ему даже показался глупым весь этот милицейско-сыскной восторг одноклассника.
— Ты в школу-то опять не ходил? — спросил, будто сам не знал, Пашка. — Не боишься, что на второй год оставят?
— Не оставят, — твердо решил Мишка. — Я завтра приду. Буду теперь каждый день ходить. Учиться надо и матери помогать.
Пашка как-то странно посмотрел на него, точно в первый раз видел. И вдруг сказал:
— А я, Мишка, никогда не верил, что ты дурак. И отцу говорил, что никакой ты не потен… Тьфу! Не потенциальный бандит.
Они очень по-взрослому посмотрели друг на друга.
Мишке очень захотелось рассказать Векшину о встрече с Георгием, но что-то подсказывало ему, что делать этого нельзя. Да и торопился он выполнить настоящую мужскую просьбу. Они пожали друг другу руки и разошлись.
До дома Анны Николаевны оставалось совсем чуть-чуть, когда из проулка вырос своей сутулой худобой Андрей Андреевич.
— О! Опять Головин! Ну кто у нас еще таскается без дела по улицам! Ты же бесполезный человек!..
«Сам ты без дела!» — хотел крикнуть Мишка, но как мужчина проявил выдержку и просто обошел учителя, ринувшись к цели. Оторопев от такой неожиданной молчаливой наглости, Андрей Андреевич пообещал ему вслед еще что-то посмотреть, а там уж… Но Мишка не прислушивался. Не до болтунов, хоть и умных.
Анна Николаевна сидела у окна на кухне и плакала. Плакала беззвучно, но так горько, что Мишка до крови прикусил губу, чтобы вместе с ней не заплакать и в этот момент тоже оставаться мужчиной. А ведь, казалось, уже никогда не увидеть её плачущей. Думалось, всё она уже пережила и просто будет печальной до конца своих дней. Ан нет, и эти беззвучные слёзы, точно такие, как у мамы, безостановочно текут по её лицу. И кухонное полотенце в её руках в пору выжимать. И снова хочется убежать куда-нибудь за тридевять земель, найти молодильное яблочко или еще что, только бы доставить ей хоть минуту счастья и радости.
На какое-то время Мишка задумался, стоит ли отдавать Анне Николаевне письмо. Он уже понял, что ей придется во второй раз похоронить сына. Может ли мать вынести подобное хотя бы раз? Пусть даже это человек, которого отвергли все, кроме нее? В том числе и те, которых она десятки лет учила быть людьми.
Анна Николаевна смотрела на Мишку бесцветными плачущими глазами и ждала. Она знала, что он принес ей письмо.
Ноябрь 1999-го
Назад к свету
…Обделён я, сиротливый,
Силой родины моей
И улыбкою счастливой
Подрастающих детей…
М. Федосеенков1
Когда над дорогой сгущается куриная слепота, этакий сумрак с паволокой, из-за которого все предметы и деревья теряют резкость очертаний, сразу хочется повернуть на ближайший огонек. Даже самое захудалое сельцо кажется в этот миг сказочным царством уюта и тепла. Варварке тоже хочется, но она молчит. И зачем-то каждый раз Олег спрашивает ее:
— Варенька, кушать хочешь?
— Нет пока, — по-взрослому вздыхает она и даже не поворачивает в его сторону голову.
Она и по сторонам смотрит только тогда, когда там можно увидеть действительно что-то из ряда вон выходящее. Снегирем на ветке или оленем, выбежавшим на дорогу, ее не удивишь. Вздох ее означает: «Ну что ты спрашиваешь? Знаю, знаю, что ты обо мне беспокоишься, что любишь меня, но что ты можешь мне предложить, кроме куска хлеба или замызганной карамельки, которую мне же и подарила тетя неделю назад в кафе „За рулем“, где мы последний раз ели борщ».
Точно, горячий суп ели чуть меньше недели назад.
Темнота сгустилась, наддал морозец, и только фары встречных машин раскалывали стынущий мрак длинными слепящими лучами. Судя по указателям, до ближайшего поселка Селияры оставалось чуть больше километра. В заснеженном поле уже виднелись бледные огоньки в окнах, вдоль дороги тянуло дымком. И хотя шли они медленно, догнали одинокую фигуру на обочине. Та вообще шла неспешным прогулочным шагом. Заслышав их, фигура оглянулась, и оказалась девушкой лет двадцати.
— Какого-такого по ночам и морозу с ребенком шляешься? — поприветствовала она, и Варя на всякий случай прижалась к отцу.
— Сама-то куда путь держишь? — ответил Олег.
— Я-то в Селияры. Пришла уж почти. Небось ночевать негде? — догадалась попутчица. — Бичуете?
— Нет, просто идем, — коротко объяснил Олег, зная, что мало найдется людей, которые ему поверят. Да и не верили уже. Он и не пытался оправдываться. Дорога научила его читать людей. Олег с первого взгляда мог определить, чего ждать от человека: помощи и сочувствия, неприкрытого равнодушия или даже ненависти. Первых встречалось все же больше, а последние были такими по жизни в любых обстоятельствах и со всеми, кроме тех, кого боялись. Девушка относилась к первым. Более того, он сразу понял, что у них есть нечто общее. Это общее делало их союзниками по отношению ко всем людям и всему окружающему миру без заключения договоров и оговаривания условий. Вызывающее ее поведение было не чем иным, как формой самозащиты и следствием молодости.
— Ишь чё, — ухмыльнулась девушка, — а меня Элькой зовут. Короче, если ночевать негде, пошли ко мне. Дом пустой. Натопим. Ночь перекантуетесь, а там валите хоть просто, хоть сложно.
Особого выбора у Олега не было, и он вопросительно посмотрел на Варю, та кивнула: куда, мол, еще идти, а тут приглашают. Но на новую спутницу смотрела с тревогой. Олег тоже попытался к ней присмотреться поближе.
Лет двадцать-двадцать пять. Смуглолицая, наверное, с татарской кровью, но глаза голубые, даже ночью, как звездочки, светятся. Черты лица правильные, как у детской куклы, из-под вязаной шапочки выбиваются черные, будто лаковые, кудри, потертая короткая дубленочка, сапожки-ботиночки и длинные стройные ноги в одних колготках, будто и не зима на улице.
— Срисовал? — опять угадала и одарила насмешливым взглядом, точно маломочного какого. — Ну и как?
— Нормально, — смутился Олег.
— Спасибо за комплимент, — хохотнула, — ты не смущайся, я на таких, как ты, насмотрелась. Бродите по дороге, словно на ней найти чего можно. Впервые вот, правда, с ребенком мужика бродящего вижу. Я на дороге работаю…
— Кем?
— Известно кем. Напряжение водилам снимаю, — глаза с жуткой какой-то ненавистью сузила и голубой молнией резанула: попробуй только осуди, выкажи пренебрежение.
— Работы другой нет? — спокойно спросил Олег.
— Вообще ничего нет, — отрезала Элька.
Какое-то время молчали, уже свернув к поселку. Потом еще обменялись ничего не значащими фразами, на том и подошли к дому Эльки, который по самые ставни зарылся в сугробы. Элька дернула за тайную проволочку, открыла ворота и стала снимать навесной замок с двери. Олег с Варей нерешительно топтались у крыльца.
— Толик! У нас гости! — с порога закричала Элька, и Олег замер на входе. Подумал о муже, что на печи целыми днями лежит.
— Пошли-пошли! — будто даже обозлилась она, в очередной раз прочитав его мысли. — Пацан там у меня. Сын. Пять лет ему. Садика у нас нет. Одна баба сельских у себя привечает, а моего не берет. Нравственность у нас тут деревенская, да и молчун Толик. Пять лет, а он еще ни слова не сказал. Ни мама тебе, ни ням-ням. Зато читать умеет.
На голом полу в большой комнате сидел Варин одногодок. Одет он был в штопаные-перештопаные колготки и вязаный свитерок. Вокруг него грудой лежала пачка детских книг, стояла пустая кружка и пачка из-под сладкой кукурузы. Толик внимательно и серьезно посмотрел на гостей, на мать и снова углубился в чтение. То, что он действительно читал, не вызывало никаких сомнений. Глаза его двигались вслед за пальчиком, скользившим по строчкам. Он молчал, и вообще складывалось впечатление, что окружающий мир для него условен.
Олег сбросил в углу рюкзак и сел на край стула у самой двери. Варенька смело подошла к Толику и уселась рядом. Ее он удостоил минутой внимания: посмотрел на нее с интересом, даже, кажется, улыбнулся, и протянул ей одну из своих книг. Варя читать не умела, но книгу взяла. Стала листать страницы в поисках иллюстраций, а Толик снова углубился в чтение.
Элька ушла в другую комнату, где переоделась. Вышла обратно в домашнем халате с распущенными волосами. Волнистая смоль опускалась ниже плеч, а голубые глаза в таком обрамлении оказались еще ярче. Олег невольно залюбовался Элькой, и она снова зацепила его:
— Что, нравлюсь?
— Да, — честно признался он.
— Романтик, — скривилась Элька, — у меня вместо косметики презервативы в сумочке.
— А зачем тебе косметика? — искренне удивился Олег. — Глаза красивые, ресницы длиннющие, губы и без того яркие.
— Ты часом не поэт?
— Нет.
Она снова потеряла к нему интерес, обратившись к Толику:
— Ты ел чего-нибудь?
Толик, не отрываясь от книги, отодвинул от себя пустой пакет из-под кукурузы.
— Слышь, как тебя? — опять повернулась к Олегу.
— Олег.
— Сходи, Олег, к поленнице, дров принеси.
Олег с готовностью вышел на улицу. Набрав охапку, он немного постоял на крыльце, прислушиваясь к наступающей деревенской ночи. Кое-где брехали собаки, вдалеке горланил пьяный голос, и то ли снег сам по себе потрескивал, то ли в глубоком стылом небе шептались звезды. Сколько раз он останавливался на дороге, чтобы, запрокинув голову, подолгу смотреть на звездное небо. Чудилось иногда, что вот-вот прозвучит оттуда ответ на все мучившие его вопросы или прорвется вдруг яркий луч света с далекой звезды, захватит их с Варенькой и унесет куда-нибудь в светлые миры, где живут счастливые люди, не зная горя и боли. Но огромный мир многозначительно молчал, подмигивая своими красными и голубыми гигантами, оранжевыми солнцами, белыми карликами, зияя черными дырами. Что ему до двух путников на бесконечной российской дороге? Чаще откликались миры маленькие. Такие, как Элькин. Но приблизившись вплотную, даже войдя в соприкосновение с миром Олега и Вари, они торопливо отпружинивали на свое место. При всей подвижности этих миров они были еще более константны, чем огромная, зияющая чернотой космоса Вселенная. На Руси же ныне у каждого своих бед хватало. Те же, у кого их не случалось, или те, которые чужих бед не замечали, проходили мимо Олега и Вари так же, как пролетали мимо лакированные иномарки.
В доме Олег умело затопил печь, чем вызвал бурное одобрение хозяйки, зато краем глаза заметил, как съёжилась, глядя на заигравший огонь, Варя.
— И надолго ты так его оставляешь одного? — спросил Олег, кивнув на Толика.
— А что, хочешь в няньки наняться? Было пару раз и надолго. Дальнобойщики не отпускали. Дня два он один тут сидел. Слава богу, вода была, пряники, картошка вареная, хоть и холодная.
Олег больше не спрашивал. Сел рядом с детьми на пол, взял у Толика книгу и начал читать вслух. Оказалось, пятилетний Толик читал «Незнайку на Луне». Элька на миг замерла и с каким-то недоверием посмотрела на неожиданную «семейную» идиллию. Затем снова рванулась, стала накрывать на стол.
— Щас поужинаем, если хотите, я вам баню слажу. Свет тама есть…
2
Олегу и Варе хозяйка постелила на полу. Кинула пару толстых пуховых матрасов, свежее хрустящее белье, такие же огромные подушки. Получился целый остров блаженства посреди волнистого ободранного пола. Толика Элька положила в его кроватку, которая стояла у печи, а сама ушла в другую комнату. Получалось, что и ночью Толик оставался один. Это несколько удивило Олега, но поразмышлять об этом у него не получилось: усталость, баня и огромная перина располагали только ко сну. Сон без сновидений вырвал Олега из бытия, бросил в самую глухую и беззвездную часть Вселенной. Возвращаться оттуда не хотелось, но кто-то хоть и несильно, даже нежно, но очень настойчиво тормошил его за руку. Он нехотя открыл глаза и долго не мог настроить взгляд на нужный лад. Какой-то дрожащий огонек освещал комнату, и Олег не сразу понял, что это свеча. В изголовье стоял Толик и манил его рукой. Оказалось, зовет к столу, на котором и стояла свечка, а рядом лежала открытая книга. «С ума сойти, — дрогнуло сердце Олега, — он и ночами читает. Это же ненормальность какая-то!..».
Сев за стол, Олег долго не мог понять, чего от него хочет Толик. Все тот же «Незнайка на Луне», уже, правда, ближе к концу. Начал читать вслух, но Толик отрицательно закачал головой, листнул страницу обратно. Олег всмотрелся. В книге не хватало десятка страниц. Странно, не было похоже, что они вырваны, книга новая. Потом пришла мысль, что это типографский брак. Таких казусов сейчас в книгоиздании хватает.
— Чем же я тебе помогу? — озадачился вслух.
Толик смотрел на него внимательно. Ждал.
— Я попробую вспомнить, — решил Олег и уже через пару минут начал рассказывать. Толик не побоялся сесть на его колени и получасом позже крепко уснул. Оставалось бережно перенести его в кроватку, и только тогда Олег заметил, что в дверном проеме стоит Элька. В одном нижнем белье. В очень красивом белье. Подумалось вдруг, что, в сущности, это вариант спецодежды. От такой мысли его явно передернуло, и он опустил взгляд. Больше всего Олегу не хотелось бы обидеть эту девушку. Даже взглядом. Он вдруг понял, что она, как и Олег с Варей, каждый день пытается убежать, уехать если и не от беды, то от серой промозглой безысходности, похожей на пасмурную погоду в русской деревеньке, когда с неба льет непрестанно, а под ногами такая грязь, что, шагнув, надо каждый раз ногу выдергивать. Оттого и не шагать надо, а бежать. Бежать босиком! Куда? И при всей Элькиной напускной пошловатости (это как заслонка от внешнего мира), при всей подвижной суровой деловитости, она так же беззащитна перед тем огромным миром, что открывался за порогом ее дома. Несся, гундося и сверкая разнокалиберными фарами, по трассе.
Элька не уходила. Какие-то новые нотки зазвучали в ее голосе. Будто с давним знакомцем или родственником заговорила:
— Он часто по ночам читает. Не может остановиться. Я сама никогда так не читала. Это, по-моему, запоем называется. Как у алкашей. Я вообще мало читала. В школе заставляли. Неинтересно… Все про прошлый век. Дворяне там всякие. Отцы и дети. Туфта. Затянуто все.
— Книг много. Есть и не только о дворянах, — Олег не решался больше поднять взгляд.
Заметив это, Элька опять начала дурачиться:
— Я, кстати, забыла тебе предложить. Может, тебе хочется? Боишься? Да у меня ведро презервативов в спальне…
Олег молчал, опустив голову.
— Небось брезгуешь?
— У меня почти год не было женщины…
— Ого… Так какого-такого вы бродите?
— Мы идем…
— Куда?
— Не знаю. Варя идет, а я с ней.
Элька подошла к нему вплотную, вытянулась и погладила по волосам. От нее пахло деревом, шампунем и самым настоящим вожделением. У Олега зашлось сердце. Он по-прежнему смотрел в пол и видел только ее босые ноги. Элька между тем скинула атласную майку, грудь ее двумя малинками сосков скользнула по его груди, и тело Олега насквозь пробила молния. А после этого он вдруг почувствовал, что у него даже нет сил обнять ее. Элька же потянула его за руку в свою спальню. Он то ли пошел, то ли отчасти полетел сквозь какой-то густой туман, который и не снаружи, а в голове разбух. Успел подумать, что в данный момент себе не принадлежит и просто подчинился обстоятельствам, как поступал уже не раз в своей жизни.
3
Ночью Олега подбросило. Резко сел на кровати, даже голова закружилась. Скользнул взглядом по красивой спящей Эльке и кинулся в другую комнату.
Варя спала поперек перины, разметав вокруг себя одеяла. Он переложил ее, укрыл, а сам примостился с краю.
В следующий раз его разбудил настойчивый стук. Стучали в ставни со стороны улицы. В щель между ними пробивался луч солнца, который от ударов мигал, как сигнальный огонь. Из соседней комнаты вышла, застегивая на ходу халат, Элька.
— Кто это? — спросил Олег.
— Дядька пришёл. Не переживай, ему денег на бутылку надо. Каждое утро приходит.
— Это не он тебя на дорогу отправил? — предположил Олег.
— He-а, ему это не нравится. Ругался даже. Но с него какой спрос. Трактор его сломался, колхоз накрылся, работы нет, а дядька уже седьмой год пьёт. Бутылку утром, бутылку вечером.
— Ого! И не сгорел еще?
— He-а, только краснорожий стал. Седьмой год под бутылку перестройку и реформы с мужиками обсуждают. Нормальные-то люди уже давно фермерские хозяйства завели, еще, чем могут, промышляют, а эти совки… А был заслуженным-перезаслуженным механизатором, аж к награде представить хотели. Да только как Горбачев на Россию приключился…
— СССР тогда был…
— Да какая разница?!
— Дашь ему на бутылку?
— Дам, лишь бы отвязался. Вставай, щас завтракать будем. Дети, если будут еще спать, пусть спят.
Завтракали яичницей, колбасой, чаем и непривычно ароматным хлебом. Такого в городах не бывает. Варя и Толик поднялись, когда Элька разливала чай. Умылись и тоже сели за стол. Оба молчали, при этом у них были такие серьезные лица, как будто сегодня ночью они узнали какую-то важную военную тайну и теперь никому ее не выдадут. Но ели в охотку.
— Пойдете дальше? — скользнула Элька взглядом по рюкзаку Олега.
Олег в свою очередь посмотрел на Варю. Та молча намазывала хлеб маслом.
— Пойдем, — решил Олег.
— Я вам соберу чего-нибудь с собой.
— Да и так уж… — смутился Олег.
— Пойдем погуляем, — вдруг предложила Варя Толику, — ты мне деревню вашу покажешь…
— Не пойдет он, в книжки уткнется, у него еще пара есть из тех, что я ему в последний раз привезла. На улицу его выманить невозможно.
Толик все с той же «военной» серьезностью посмотрел на мать и как-то особенно решительно соскочил с табуретки. Подошел к Варе и взял ее за руку:
— Пойдем…
Элька открыла рот. Олег сначала не понял, что произошло. Элька же кинулась к Толику, повернула его к себе.
— Ты что сказал?!
Но он снова погрузился в какие-то свои мысли и мать словно не замечал.
— Послышалось, — сама себя успокоила Элька и вернулась на место.
Малыши быстро оделись и заскрипели снегом под окнами. Элька неотрывно смотрела на Олега.
— Куда вы идете?
— Куда Варя, туда и я, — честно ответил Олег.
— Но почему?
— Не сказать, что долгая история, но…
— Расскажи. Хоть немного.
— Ну если только вкратце.
— Вкратце, вкратце.
— Да… Ну… Даже не знаю, как начать. Вроде все до сих пор перед глазами стоит, а слова к этому всякий раз подобрать невозможно, потому как нет таких слов, чтобы передать, когда душа наизнанку выворачивается, — Олег закрыл лицо руками.
Элька напряглась, глаза стали тревожными, пожалела, что задела человека за живое. Потянулась, было, прикоснуться к нему, но он вдруг начал говорить резкими короткими предложениями, точно отстрелянные гильзы вылетали:
— Варенька в садике была… Я — на работе… А Таня — дома… Я в музыкальной школе работал да еще в районном Доме культуры подрабатывал… Должен был зайти за Варюшей в садик, и вместе — домой… А мне позвонили: «У тебя дом горит»… Пятистенок был… На две семьи… Соседи, как и твой дядя, с горбачевских времен хлещут… Как Меченый антиалкогольный закон ввел, так и начали, словно с ума сошли… Короче, все наоборот у правительства получилось… Какие там талоны!.. Водка в два часа!.. Реки самогонные потекли… Последние два года они вообще в полном беспамятстве жили… Пару раз у них уже тушили… А у меня откуда деньги на другое жилье? Я же в нищей культуре работал… Вот, осталось от нее! — Олег с какой-то злобой вытащил из рюкзака маленький кофр, дрожащими руками открыл, и Элька впервые в жизни увидела на бордовой бархатной ткани настоящую флейту.
Она инстинктивно протянула к ней руку, но одернула вдруг, будто обожглась. Подумала, не этот ли красивый музыкальный инструмент добавил Олегу горя?
— В общем, баллон газовый взорвался… Таня как раз к ним пошла, чтобы сказать, что газом пахнет… Это я так думаю… Ее там нашли… То, что от нее осталось… — Олег раскачивался на стуле, не отрывая руки от лица. И по ходу рассказа амплитуда раскачивания этого увеличивалась. Элька испугалась, что он вот-вот упадет, вскочила, обежала стол и положила руки ему на плечи.
— Я про Вареньку-то забыл в тот день. Ее уж давно надо было из садика забирать, а я, как пень, сижу на пепелище. Ничего не вижу, ничего не слышу, кроме углей. И такая боль! До сих пор… Слов для такой боли не придумано. Не знаю почему, но вдруг весь мир несправедливым показался. Настолько несправедливым, что дальнейшая жизнь в таком мире — полная бессмыслица. Думал, вот посижу и пойду куда-нибудь в омут с головой. В темноту. В самую глубокую. Да тело меня не слушалось. Словно разум и тело отдельно могут у живого человека существовать. Наверное, это шок какой-то был. Я ни рукой, ни ногой двинуть не мог, глаза отвести — и то… А воспитательница сама Варю привела, ругаться хотела, а как увидела — села рядом и тоже в такой же транс впала…
— А Варя? — Элька плакала, стоя за его спиной, руки ее инстинктивно гладили его плечи, точно это был самый подходящий массаж от душевной боли. Да кто знает?..
— А Варя спрашивала у всех встречных-поперечных, где мама. Ей никто не отвечает, у нее уже истерика началась, а я не слышу. И тут вдруг священник, батюшка из церкви Михаила Архангела, что у самого кладбища, пришел. Взял Вареньку за руку, увел в сторону от дыма этого, что-то шепчет ей. Потом уж я узнал, что он объяснял ей, будто мама Таня ушла туда, где светлее. Мы и переночевали в домике при церкви. Утром просыпаюсь, а Вари нет. Кинулся туда, кинулся сюда — нет! Нашли мы ее с батюшкой на трассе за городом. Слава богу, у батюшки старый «москвичок» на ходу был. Спросили, куда она пошла — молчит… Привезли обратно, а на следующее утро все повторилось. Догнали, снова привезли, а утром — то же самое. Я тогда взял всё, что у нас осталось, батюшка меня подвез, и я пошел рядом. Думал, уговорю вернуться… Километров десять прошли, надеялся, устанет, а она идет и идет. Зато разговорились понемногу. «Я, — говорит, — папа, иду туда, где светлее…» Таню её родители хоронили, мы уже туда не вернулись… Я потом позвонил по междугороднему…
Олег замолчал, пытаясь проглотить подкативший к горлу комок боли. Элька, чуть раскачиваясь, гладила его по плечам, а сама смотрела в одну точку на стене. Она и не чувствовала уже ничего, потому что болевой порог давно был пройден. Просто ныло где-то в сердце. Вспомнилось, что в прошлом году в поселке был подобный случай. Сгорела по пьяни вся семья и двое малышей с ними. Семилетняя дочка вернулась из школы на пепелище. Ее увезли потом куда-то в детдом. А теперь поговаривают, что удочерили девочку сердобольные американцы. У нас, видать, сердобольных не хватает.
— Олег, — заговорила Элька, будто осенило ее, — давай я поговорю с нашим главным сельсоветчиком. Он мужик нормальный, старой закалки. У нас клуб уже лет пять не работает. Будешь клубом заведовать. А? Может, видеозал откроешь, я тут скопила чуть-чуть…
— Эль, я бы тоже остановился… Ты — лапушка… Да и устал уже. Едим нерегулярно, моемся еще реже. Ребенок, ведь. Милиция несколько раз задерживала. Уроды всякие наехать пытались. «Лолиту» набоковскую читала? Да о чем это я?! За кого только нас не принимали! Мне иногда кажется, что я уже ни о чем думать-то не могу, кроме дороги. Иду и смотрю по сторонам. Но где он тот свет, к которому Варенька идет?
— А давай я с ней поговорю!
— Поговори. Я не против, но, боюсь, она никого не послушает.
— А я вот попробую! — и Элька, набросив на плечи куртку, ринулась на улицу, сбив по пути ведро и еще что-то.
Олег остался один. «Как-то просто всё, — подумал он, — а может, так и надо?» Он тоже давно уже перешагнул болевой порог. Точнее, не перешагнул, а перешагал. Или вместе с Варей уходил от него каждый день?
— Олег! — это кричала Элька с улицы.
Он в каком-то полузабытьи вышел на крыльцо. Элька была за воротами.
— Их нет! Они куда-то ушли! Я уже к дядьке постучала, думала, Толик ее туда водил, а их там и не было…
Сначала у Олега опустилось сердце. Даже не в пятки, а куда-то ниже земли. И только невидимые нити соединяли с ним онемевшее тело. Он сделал несколько шагов, чувствуя, как сердце с трудом тянется следом где-то под землей. Как гиря. Да и ноги — словно из намокшей ваты. Мысли судорожно носились, настолько судорожно, что и понять невозможно было, какой в них смысл, толк, прок или еще что. Мысли сами по себе, а Олег сам по себе. Так было до тех пор, пока одна из них не зависла вдруг звонкой нотой в его голове.
— Одевайся потеплее, и побежали, — кивнул он Эльке.
— Что?!
— Я знаю, где они…
— Ты… Ты думаешь?.. — и уже засеменила как-то по-старушечьи в дом.
Им пришлось пробежать полтора километра до трассы и пройти быстрым шагом больше версты по сизому туману, клочками тянувшемуся над шоссе, рвавшемуся под колесами редких машин. И еще с полкилометра они шли следом за малышами, которые бодро вышагивали впереди, взявшись за руки. Все это время они как будто переругивались, пытаясь уговорить друг друга начать новую жизнь.
— Это твоя Варвара его сманила, — бубнила Элька.
— По-моему, последнее слово было за ним, он так и сказал: пойдём.
— Он вообще не умеет говорить, — не совсем уверенно возразила Элька.
— Просто ему с тобой не о чем разговаривать.
Элька замолчала. Олег понял, что она обиделась, и решил как-то загладить свою вину:
— Кто его научил читать?
— Никто. Я сначала подумала, что он просто вид делает, а потом поняла, что он читает… Нам, похоже, теперь придется жить вместе, — Элька сказала это так, будто знала Олега тысячу лет и уж так он ей примелькался, что теперь вроде и деваться от него некуда.
— Не жить, а идти.
— Идти? Куда?
— Назад… К свету… Даже когда мы сидим, стоим или спим, мы идем. Мы двигаемся. Кто-то тянется к свету, а кто-то… — Олега вдруг потянуло пофилософствовать.
— Идти? И по дороге побираться? — оборвала его Элька.
Олегу пришло в голову обидное: «Зато тебе не надо будет на работу ходить». Но не сказал. Сказал другое:
— Прости, Эль, связалась с нами…
— Да чего уж… — и закричала вдруг: — Толик! Толик! Ну стойте! Куда вы?
Малыши остановились. Эльке показалось, что до этого они довольно оживленно и весело беседовали, но теперь Толик смотрел на мать чуть ли не с серьезностью взрослого мужчины.
— Она сказала, что дольше меня не устанет, — сообщил Толик.
— Во как! И долго вы намерены соревноваться?
В ответ Толик пожал плечами.
4
Возвращались они вчетвером затемно. Дети по-прежнему шли впереди, а Олег с Элькой шли под руку. На ночь опять наддал морозец. Селияры мельтешили впереди редкими огоньками. Варя вдруг отпустила руку Толика и подбежала к Олегу:
— Пойдем быстрее, папа, я замерзла, там, видишь, огни.
Там светлее. И Толик замерз. Ты нам перед сном почитаешь?
Сердце опять куда-то провалилось. Варенька не заметила, а Эля протянула Олегу платок. Навернувшиеся слезы норовили застыть у него прямо на ресницах. Он дождался, когда Варя догонит Толика, и только потом промокнул глаза.
— Я даже не был на кладбище…
— Ты думаешь, это самое важное?
— С тех пор, как все это произошло, я не знал ничего важнее, чем Варюша…
— Ничего важнее и быть не может, — согласилась Элька.
Олег вдруг захотел упрекнуть ее за Толика, которого она оставляла одного, но потом понял, что не имеет на это никакого права. Упрекнуть, может, и стоило кого-нибудь, но только не ее. Выкрикнуть в темный морозный воздух этот упрек, чтобы летел до самых кремлевских стен и там лет десять резонировал. Ровно столько, сколько страну лихорадит. А может, и все сто.
— Ничего важнее быть не может, — повторила сама себе Элька.
— И светлее, — добавил Олег.
— Ты ведь больше не пойдешь на дорогу? — спросил Олег, хотя и без того знал ответ, потому что иначе с сегодняшнего дня и быть не могло.
— Если только вместе с вами, — улыбнулась Элька.
«Как-то просто все, незамысловато получается, — подумал Олег, но на душе от этого „просто“ стало светло и легко, камень оторвался и полетел в свою черную бездну, куда-то под землю, — а может, так и должно быть? Что еще нужно? Что-то еще нужно…»
Утром выпадет снег, мир станет светлее, и нужно будет расчищать тропку от крыльца к воротам…
Горноправдинск, 2000 г.
Как мы выбирали президента
МАРТОВСКИЙ день выдался теплым, и я, посовещавшись со своим расположением духа, взял паспорт и решил выполнить свой гражданский долг. Выборы президента хоть и не каждый день, но на фоне других всевозможных избирательных кампаний примелькались. Поэтому путь к избирательной урне по талому почерневшему мартовскому снегу отнюдь не представляет собой радостное шествие благополучных граждан (которых еще и поискать надо), а больше похоже на вялотекущее стечение усталых зомби с единственной мыслью в голове: хоть мой голос ничего и не решит, но пусть ТАМ кто-нибудь будет, раз так нужно. Авось выживем.
На крыльце избирательного участка, блистающего на фоне общей серятины свежесшитыми триколорами, я встретил друзей детства, обитающих в том же дворе, но где-то в другой жизни. Каждый — в своей. Наверное, я стал тем детонатором, который дополнил боекомплект, потому что, поочередно поздоровавшись со мной, они, не сговариваясь, выпалили терзавший каждого по отдельности вопрос: «Ну, за кого?!».
— Ни за кого, как всегда, — разочаровал их я.
— Зря ты так, Сергей, — с укоризной заметил мне Андрей Бобров, инженер одного из умирающих заводов, — нужно определиться! Страна в развале…
— Я вот, например, за Зюганова! — нетерпеливо отрапортовал бандит Игорь Климин.
Бандит ныне — такая же обыкновенная профессия, как, скажем, менеджер или специалист по лизингу и консалтингу. И как во всякой профессии специалист бывает хорошим или плохим. Игорь являлся хорошим бандитом, в том смысле, что простых и добрых людей не обижал, с соседями жил душа в душу, имел кодекс чести Робина Гуда и так же, как большинство бывших советских граждан, даже от новой «профессии» больших барышей не нажил. Но было все-таки удивительно, что он собирается голосовать за Зюганова, обещающего раз и навсегда покончить с криминализацией страны.
Ему попытался возразить наш участковый Миша Болдырев:
— Порядок сможет навести только «Единство», оно же «Медведь»…
— Это потому что там мент, ты за них и голосуешь в добровольно-обязательном порядке!.. Вам не президент, а презимент нужен!..
Климин хотел еще что-то возразить и, наверное, по старой дружбе назвал бы Мишу «мусорком», но я не позволил ситуации выйти из-под контроля:
— Не, мужики, тут без бутылки никак не разобраться.
Минуту в избирательном пространстве висело рожденное нами безмолвие. Это был вынужденный тайм-аут, во время которого каждый взвешивал, может ли он убить день, начав выборы президента с поклонения Бахусу. При этом в расчет бралось все, вплоть до детальной реакции жен и фраз типа: «донавыбирался!». Но отклонить предложение попытался только Андрей Бобров, супруга которого одной фразой вряд ли ограничится.
— А нас в подогретом виде на избирательные участки пустят?
— Еще и бюллетени на блюдечках с голубыми каемочками принесут и специальные розовые очки выдадут, чтобы мимо квадратиков не промахнулись, — успокоил его капитан Болдырев.
Через десять минут мы уже сидели в ближайшем кафе, продолжая предвыборную кампанию в обществе четырех рюмок, двух бутылок «Столичной», нескольких бутербродов и грустно-капустных салатов.
— И все же, мужики, я считаю, — ожил, разливая горячительное, инженер Бобров, — только знающий дело Примаков может навести порядок в нашем общем доме. Ведь не зря же маразмирующий Ельцин снял его с поста премьера в самые напряженные для страны дни.
— У нас с семнадцатого года всё, как в первую брачную ночь, напряженное, — хохотнул Болдырев.
— Фигня, — начал было Игорь Климин.
— За единство! — поднял я тост, чтобы не позволить ситуации накалиться.
— За какое? — спросили все, кроме Болдырева.
— Тьфу, — осознал я свою оплошность, — за наше с вами, конечно. Остальные единства и множества меня не волнуют.
— А-аа… — согласились мужики.
— Сколько же мы не собирались вместе, в натуре? — спросил Игорь.
— Да, пожалуй, с того самого девяносто первого года, когда стране капут пришел, — загрустил Миша.
— Восстановим справедливость? — налил я по второй.
Вторая и третья из-за осознания торжественности момента прошли в полном молчании, под одобрительный хруст капустного салата. Но размоченная водкой жажда справедливости и политического просвещения «темных и одураченных» масс просилась наружу.
— Я уже больше никому, кроме Зюганова, не верю, — разбил тишину Игорь, — уж пусть лучше все будет так, как было десять-пятнадцать лет назад.
— Назад пути уже нет! Так не бывает! Зато посмотрите, как начал операцию в Чечне Путин! — не выдержал Болдырев.
— Начал к началу избирательной кампании, хорошо, если она закончится к началу следующей избирательной кампании. Вот подожди, он еще и Березовскому с Гусинским страшилки покажет, но дальше этого не пойдет, — спрогнозировал Бобров.
После произнесения вслух двух последних фамилий вся наша компания язвительно поморщилась. Пришлось наливать по четвертой, открыв вторую бутылку, чтобы запить оскомину.
— Коммунисты — верняк! — утвердил Климин. — Зюганов хотя бы на серьезного мужика похож. Говорят, он даже докторскую диссертацию сам написал.
— А Примаков ГРУ возглавлял!
— А Путин ФСБ…
— Народ, разделившийся сам в себе, погибнет, — вставил я.
— В смысле?.. — остановились мужики.
— В прямом, это не я сказал, это из священного писания. Разделять и властвовать — дело сатаны. А что сейчас происходит за этим столом? Чем сейчас заняты некогда единые советские граждане, бывшие пионеры и комсомольцы?
— Я комсомольцем никогда не был, — поправил Климин. — Ты-то, Серый, за кого, я никак врубиться не могу. Наливаешь часто, а молчишь?
— Он у нас монархист, — ответил за меня Андрей.
— За царя, что ли?
— Что ли…
— Не, ну ты, Сергеич, поделись соображениями, — Игорь подмигнул барменше, чтобы она подтянула на наш стол еще одну поллитровку, дабы процесс имел достойное продолжение.
— Начну с того, что в 1917 году был нарушен естественный ход истории…
— Ну знаешь, неужто ты будешь утверждать, что восемьдесят лет мы жили неестественно? — перебил Бобров.
— Как извращенцы? — ухмыльнулся Миха.
— Вовсе нет, я в другом смысле…
— Ну вы, в натуре, мужики, не перебивайте, — вступился Климин. — Давай, Серый, про самодержавие. Я со школы помню только про тюрьму народов и кровавый царизм.
— Да все просто, — опять начал я, — каждые четыре года мы теперь обречены выбирать президентов, так?
Все кивнули, опрокидывая по шестой.
— А они обречены рассчитываться за свои предвыборные кампании, да и вообще нормальному человеку не под силу выставить свою кандидатуру, согласны? Получается, избирательное равенство избирательно…
— Ни фига себе, масло масленое, — задумался Климин.
— Более того, каждые четыре года страну будет лихорадить в зависимости от направления политики того или иного кандидата, его человеческих и деловых качеств, а также от подергиваний кукловодов, от которых он так или иначе зависит.
— Кто ему бабки отваливал? — не удержался Игорь.
— И отваливает, — согласился Болдырев.
— В США, например, власть, как мячик, перекидывают две партии номинально, а фактически она остается у одних и тех же людей. Но средним американцам эта игра нравится, потому что им обеспечивается средний по их меркам образ жизни. По нашим же — запредельный… Все потому, что американцы со всего мира тянут на себя одеяло, именно этим занято их государство. Поэтому тамошний безработный может жить лучше, чем наш работяга.
— В натуре…
— Короче, Америка паразитирует на теле планеты. Это аксиома, доказывать ее надо только полным идиотам.
— Но, Серый, тогда почему вся эта ушлая экономика на их баксах держится? — разлил сомнение Игорь. — Значит, они умнее нас…
— Умнее и хитрее — разные понятия. Те же доллары, если их со всего мира собрать в одну кучу и всю эту кучу в одночасье предъявить Соединенным Штатам, то по стоимости это будет всё, что у них над землей есть, да ещё и метровый слой почвы со всего континента снять придется. Вся хитрость в том, что доллар стоит три цента, как полоска бумаги с рисунком. Доллар — это миф, такой же миф, как и вся мировая экономика.
— Ясно, нам от мировой цивилизации, стало быть, не обломится, давай про самодержавие, и выпьем за вас с нами и за хрен с ними, — Болдырев налил по седьмой.
Дальнейший счет вести уже было невозможно.
— Я не буду ничего говорить о тысячелетних традициях монархического управления, сложившихся в России. Не буду сравнивать темпы экономического развития, хотя они будут не в пользу большевиков и нынешних демократов. Не буду говорить об огромной роли православной церкви, хотя надо бы… Просто не хочу всуе…
— В чем?
— За бутылкой об этом не говорят.
— А-аа…
— Я вам, мужики, как детсадовским, на пальцах все объясню, только не обижайтесь.
— Валяй.
— Итак, царь. Рождается наследник престола, он уже наделен властью, регалиями, богатством. То есть ему не надо кому-то чего-то доказывать, дать наворовать команде, он ничего никому не должен. Он получает лучшее в стране воспитание и образование. С детства его воспитывают как будущего отца нации. Отца народа.
— Как Сталин, что ли?
— Вроде того, только нежнее. Ему не придет на ум ставить эксперименты над своими детьми. Ко всей России он относится, как к собственному дому. И всю свою жизнь, прекрасно понимая, что этот дом достанется в наследство его сыну, он улучшает его, делает светлее, расширяет при первой же возможности, рачительно следит за хозяйством…
— А ведь правда!
— И ему даже в голову не придет, что задний дворик этого дома или флигелек можно кому-то отдать, даже если этот кто-то назвал себя младшим братом. Он соседям даже коврик на пороге не уступит. И он так же прекрасно понимает, что о домочадцах надо заботиться и держать их в узде, иначе они от обиды или по пьяному буйству начнут бить окна и друг друга. Его воспитывают так, что он несет ответственность за эту страну перед Господом Богом! Кому-то ныне покажется данное утверждение смешным и малозначимым, но сто лет назад на нем держалась целая страна. Народ видел в царе помазанника Божия, царь видел в нем своих детей.
— Что-то я помню со школы, — озадачился Андрей, — православие, самодержавие, народность…
— Совершенно верно.
— Слушай, Серега, все это, в натуре, как правда. Просто, блин, и понятно. А че им тогда в семнадцатом году не хватало? — Климина разобрало.
— А чего сейчас не хватает? — ответил я вопросом на вопрос.
— Вот этим «не хватает» постоянно пользуются политические проходимцы, — согласился Болдырев.
— Легче пообещать рай на земле, чем сказать откровенно, что путь может быть только долгим и трудным, особенно через наши снега и непролазную грязь, — взгрустнул Андрей.
— Просторы, — добавил я.
— Но ведь на царя сейчас никого не разведешь, даже кулаком не вдолбишь, — сомневался Игорь, — а то были и плохие цари, — пристально посмотрел на меня.
— Тогда назови хоть одного хорошего генерального секретаря или президента. Чтобы при нем все жили более-менее счастливо, люди не гибли на улицах, войн не было… — возразил я.
— А вот если сравнить с царями, то цифры будут в пользу самодержцев. История — не девочка, ей не эмоции нужны, а факты.
— Вот блин, безысходность какая-то! — отчаялся Игорь и заказал следующую бутылку.
Над столом повисла унылая тишина. Каждый думал о чем-то своем. Друзья моего детства прокручивали сомнения по поводу выбранных ими кандидатур и сравнивали их с жидкими школьными знаниями о русских царях. Как-то легко да под пьяную лавочку я разрушил их стройные политические убеждения.
— Как ты это в самом начале сказал? — наморщил лоб участковый.
— Народ, разделившийся сам в себе, погибнет.
— Выходит, мы все полные идиоты, Иваны, не помнящие родства?
— Выходит.
— А я никогда в эти избирательные системы не верил! Так, по инерции ходил голосовать.
— Ты сам-то за кого голосуешь все эти годы? — хитро прищурился на меня инженер.
— Ни за кого, с тех пор как осознал то, что сейчас вкратце изложил вам. Не беру грех на душу. Так и Антихриста можно выбрать.
— О-оо…
— Ё-ёё…
— Сгущаешь ты, Серый, дышать грустно…
— Давайте еще по одной.
— Сыночки, на хлеб не подадите, милые? — к столу подошла старушка-божий одуванчик, коих сейчас тысячи бродит по Руси с сумой и тростью…
Каждый из нас молча достал допустимую для милостыни наличность. Получив ее, старушка перекрестилась, попросив у Господа для нас здоровья, но уходить не торопилась.
— Я вот пирожок в сторонке кушала да вас слушала, — заговорила бабуля, внимательно заглядывая каждому из нас в глаза, — простите меня, старую, но, может, немного и меня послушаете. Я непридуманное скажу.
— Валяй, мать, — великодушно разрешил Игорь, — нам все равно еще чего-то не хватает. Я чего-то голосовать нынче раздумал.
— Я тоже лучше свой голос еще соткой граммов залью, — поддержал Болдырев.
— А мне жена все равно избирательный бюллетень на больничный поменяет, — махнул рукой Бобров, — она, по правде говоря, у меня и за президента, и за премьер-министра, и за все силовые структуры в одном лице…
Мужики улыбнулись, зная проблемы Андрея еще со студенческих времен, когда его жена Лена стала делать из него талантливого инженера, захлопывая двери перед нашими нагловатыми лицами.
— Фигня, Андрюха, этот парламентский кризис у тебя только на пару дней, во вторник подашь апелляцию, и все утрясется. А не утрясется, пригрозишь процедурой импичмента, — подбодрил Болдырев.
— Не путай эмансипацию с инаугурацией, — буркнул Бобров.
Бабуля между тем ласково улыбаясь, терпеливо ждала, когда закончится предварительная вечерняя поверка. Когда все замолчали, посмотрела на всякий случай и на меня, но мне нечего было сказать. Я принадлежал сам себе.
Климин во время вынужденной паузы докупил еще одну бутылку для поисков истины, а также тарелку с верхом наполненную бутербродами, которую поставил поближе к старушке.
— Я разговор ваш слушала, а сама про свою жизнь думала. Прадед у меня из крестьян в заводчики и купцы выбился, а дед уже имел дворянское звание. Было у него два сына, один из них, стало быть, мой отец. Когда гражданская война началась, мой отец за красных пошел, а брат — за белых. Мать рассказывала, что перед самым концом войны они встретились. Где-то в Крыму. Убивать друг друга не стали, но разговор меж ними крепкий состоялся. Белый поручик сказал тогда в сердцах красному командиру, что тот нарушил присягу, предал Родину, а народ обманут горсткой безбожников-сатанистов. Мой-то отец посмеялся над ним, и пожелал ему помирать в полной безвестности на чужбине без того самого народа, а тот и говорит: подожди, мол, посмотрим, как ты помирать будешь. И сказал еще, что в России все равно, если не белый, так красный царь будет, и все вернется на круги своя. Но раз уж научились у нас царей свергать, то так до скончания веков и будет, пока не вернут венец помазаннику Божьему. На том и расстались…
Я-то в двадцать четвертом родилась, а отца в тридцать седьмом арестовали, припомнив и происхождение его, и братца-белогвардейца не забыли. И более мы его с мамой не видели. Вот тогда она мне и передала разговор двух братьев и велела всю жизнь помнить, чтобы узнать, кто из них прав.
Маму арестовали через год после отца. А меня определили в детдом. Тамошний директор быстро поменял мне имя и фамилию, на что я сначала обижалась, но только потом поняла, что благодарить его должна. Приходили на мое имя запросы из НКВД, а с такой фамилией в детдоме никого не числилось. Так и стала я жить с другим именем. Окончила школу, поступила в педагогический институт, тут и война началась. Я тогда вместо института в госпиталь работать пошла. Там до сорок пятого и проработала. Уж после войны кое-как заново в институт поступила, забыла уже все. Зато другое заметила: за время войны Сталин окончательно царем стал, даже погоны в армию вернул, и церковь разрешил… А слово его — закон. Красный монарх, да и только. Оставалось дождаться, когда его свергнут, а имя испоганят. Но при жизни никто не решился, сила в нем была харизматическая, да и треть страны он через лагеря профильтровал, особенно сотоварищей своих по революции. Поделом им… Но после смерти Сталина Никитка власть выгрыз у других крысят, ну а потом начал на тени Сталина топтаться. Потоптался, и самого до срока свергли, а вместо него Леньку в цари назначили, чтоб потом на его имени также топтаться. Потом и Мишка без власти остался, а уж от Борискиного имени даже тех, кто его выбирал, тошнит. Посмотрим, какой толк от Путина будет…
— Так его не выбрали еще! — вздыбился Бобров.
— Это вы еще не выбрали, а там, где надо, уже и выбрали и утвердили…
— Бабуля, а тебя-то что на улицу с сумой толкнуло? — прищурился Болдырев.
— Тут никакого секрета, сынок. Учительская пенсия. Знаешь такую? В репрессированные с новой фамилией меня тоже не зачислили, теперь уж и не доказать ничего.
— А дети? Внуки?! Не помогают? — спросил Климин, готовый в этот момент из-под земли достать нерадивых детей ради справедливого наказания.
— Кабы были, — на глазах у старушки выступили слезы. — Муж у меня военный летчик был. Мы в пятидесятом поженились. В пятьдесят первом у нас сынок родился. А в пятьдесят втором мужа в Азию отправили, по-моему, корейцев на наших самолетах летать учить. Или вместо них на боевые вылеты летать. Там он и пропал без вести. С тех пор и жду его… Сын по его стопам пошел. А то и полетел. Только училище закончил и напросился во Вьетнам. Тогда модно было всем помогать. Уж там вроде и заканчивалось все. До Парижского соглашения считанные дни оставались. А он, как и отец, тоже не вернулся…
— Блин, — горько покачал головой Игорь.
— Так кто прав, бабуля? — Болдырев решил вернуть разговор к началу, не хотел тревожить чужую боль.
— Из двух братьев? — поддержал его Андрей.
— Он, — неожиданно кивнула она на меня.
Из кафе мы выходили уже затемно на нетвердых ногах. Разговаривали уже ни о чем. На крыльце закурили, расходиться не хотелось. Во всяком разговоре четырех пьяных мужиков остается какая-то недосказанность, граничащая с недопитым. Наверное, поэтому мы с сомнением топтались на крыльце, не решаясь разойтись. Об избирательном участке никто уже не вспоминал. И неизвестно, сколько бы еще мы взвешивали опасность продолжения застольной беседы, но благоразумие инженера и правильного мужа все же вытолкнуло Андрея из наших рядов.
— Извините, мужики, но я домой. Там Ленка уже, наверное, морги обзванивает.
— Будь здоров, — без обид кивнули мы.
— Я, пожалуй, тоже пойду, иначе завтра день кувырком, — решил я.
Климин с Болдыревым переглянулись.
— Слушай, Игорек, ты когда у меня последний раз в гостях был? — улыбнулся Болдырев.
— В прошлой жизни, — ответил Климин.
— Ну так пошли?
Участковый и бандит в обнимку ринулись в гастроном, откуда появились уже через минуту с позвякивающим пакетом. Трудно было представить себе двух более близких друзей в этот час на этой улице.
— Серега, мы сделали свой выбор! — помахали они мне звенящим пакетом. Махнули и свободными руками, мол, пойдем с нами, но я отрицательно покачал головой.
До восьми вечера оставались считанные минуты, и я надеялся еще успеть воспользоваться конституционным правом и выполнить гражданский долг: поставить галочку в самом нижнем квадрате избирательного бюллетеня. «Против всех». А может, за всех. За сто не родившихся с 1917 года миллионов россиян…
Тюмень — Горноправдинск, 2000 г.
Самый неизвестный солдат
Имя твое неизвестно,
Подвиг твой бессмертен
Эпитафия на могиле неизвестного солдатаПамять — способность помнить, не забывать прошлого;
свойство души хранить, помнить сознание о былом.
Память относительно прошлого то же, что заключенье,
догадка и воображенье относительно будущего.
Ясновиденье будущего противоположно памяти былого.
В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языкаЯ не придумал эту историю, потому что придумать ее невозможно, и я не услышал ее, потому что рассказать ее целиком было некому. Я собрал ее из частей, рассказанных различными людьми, из догадок, из сотен подобных историй, из воспоминаний детства.
Я видел этого человека. Каждый день с утра до заката он сидел на ящике возле Знаменского кафедрального собора и кормил голубей. Он никогда не смотрел на прохожих, а если и смотрел, то как бы сквозь, и при этом загадочно и немного печально улыбался. Я потом понял, что этой улыбкой он извинялся перед всеми, кого не помнил, перед теми, кто не знал, что он не помнит… На нем всегда был один и тот же видавший виды серый пиджачок, штопаные, сто лет не глаженные брюки, потертые кирзачи, а на груди нелепо грустила одинокая медалька. Такая есть у каждого ветерана.
***
Небо открылось ярко-голубым и таким чистым, что его хотелось выпить. Из-за этой солнечной глубины кружилась голова, и приходилось снова закрывать глаза, чтобы не засосало в небесную воронку. Жажда и тошнота плохо уживались с удивительным и прекрасным миром, который появился перед глазами так неожиданно. Просто взялся ниоткуда. До этого была бухающая в висках темнота, а до темноты не было ничего. Теперь было небо, в которое вострились темно-зеленые травинки.
Звуки нового мира доносились через какую-то вату. Вата шуршала в голове сама по себе, как будто эфир в плохом радиоприемнике, и сквозь этот въедливый шум едва пробивалась нужная волна. Но про радиоприемники он тоже ничего не знал. Вот про небо понял, что это небо, а трава — это трава, и понял, что кружится голова, а не слушаются её руки и ноги. Стоит только попытаться подняться, земля, на которой он вроде бы должен лежать, стремительно отъезжает в сторону. Даже на бок перевернуться невозможно.
И все же он встал. Сначала на четвереньки и увидел, что земля не так прекрасна, как небо. Ее зеленая бархатистая кожа была то тут, то там разорвана глубокими воронками. Беспорядочно и нелепо. Одна из таких кровоточащих черноземом и дробленой песочной костью ям находилась рядом, буквально в двух шагах. На краю его лежала искореженная винтовка. Ее назначение сначала было ему непонятно, хотя неизвестно откуда он знал, что вообще-то из нее положено стрелять. Даже представились фанерные темно-зеленые мишени без рук, но зато с выпиленными силуэтами голов в касках.
Два таких силуэта двигались прямо на него. Сквозь тугие ватные пробки в ушах доносилась незнакомая речь и смех. Мишени веселились, наверное, смеялись над сломанным оружием на краю воронки. У них в отличие от фанерных были руки, в которых отливали смазкой новенькие исправные автоматы. Один из автоматов коротко плюнул горстью свинца, и у его ног брызнули земляные фонтанчики. К этому времени он уже стоял, покачиваясь, на ногах.
— Иван! Поднимайт рук, ходить плен! — смеялись мишени.
Он понял, что Иваном назвали его, и даже понял, что должен поднять руки. Сейчас он был готов на все, лишь бы снова лечь на эту маслянистую землю. И лежать долго-долго, пока не придет вечный сон, лишь бы только не испытывать этой жуткой боли в голове и не пытаться о чем-то думать. Да и мыслить-то получалось только какими-то простыми понятиями и категориями, которые крутились в оглушенном сознании сами по себе, независимо от усилий его воли. Небо голубое… Земля сырая… Винтовка сломанная… И никаких привязок ни к местности, ни к прошлому, ни к будущему. Никаких толчков, кроме тех, которые периодически ударяют в спину. Это два солдата, говорящие на грубом каркающем языке, ведут его куда-то, постоянно поторапливают и смеются.
Его вывели на дорогу. Там на обочине сидели люди в такой же, как у него, одежде. Некоторые были в крови. Они разговаривали между собой приглушенно, но их речь он понимал без труда. Правда, не всегда мог расслышать. Лично к нему никто не обращался. Еще была собака, которая беспрестанно лаяла, и от хриплого её лая пробки в ушах давили внутрь, хотелось зажмуриться, засунуть голову в прохладную землю, где пусть и нет сладковатого майского воздуха, но зато темно и покойно.
***
Уже на третий день в лагере к нему перестали приставать с расспросами, кто он и откуда. Прозвали контуженным, а по имени звали, как и немцы, Иваном. Только один человек, который по ночам лежал рядом, продолжал с ним разговаривать.
— Неужто ты вообще ничего не помнишь?
— Му-у… — мычал Иван.
— Му да му, учиться говорить надо, тоже мне, Герасим.
— Ва, — не соглашался Иван.
— Иван? А может, ты и не Иван?
— Му…
— Ты бы попробовал хотя бы «мама» сказать.
Значение этого слова было Ивану понятно, и при определенном старании ему удалось бы его выговорить, но для него лично оно ничего не значило. Да и разговор с соседом для него ничего не значил. Он уже на следующий день этого разговора не помнил. Да и весь прошедший день не помнил. Только какие-то размытые пятна. Наверное, поэтому он меньше других чувствовал усталость и напряжение ежедневного изнуряющего труда. В сон проваливался как в черную бездну, из которой каждое новое утро рождался все тем же, но совершенно новым человеком. Даже немцы привыкли к тому, что каждый день Ивану нужно было вдалбливать, как и по какому маршруту он должен катить тачку с землей. Его перестали бить, потому как, усвоив задачу, работал он подобно исправному, обильно смазанному механизму, не зная усталости. Часовые только посмеивались:
— Гут, гут, Иван!
— Man mub jedem Russen solche kontusion machen[7].
— Ebenso wie eine Impfung![8]
— Хорошо ему, он даже не понимает, где он и что делает, — говорили иногда те, кто работал рядом с ним.
Но никто по-настоящему ему не завидовал. Только спорили иногда в бараке, вспомнит он когда-нибудь или нет. А вновь прибывшие не верили, думали, придуряется.
— Может, он большой командир? — щурились они. — Так ему проще скрыться…
— Брехня! — возражали старожилы. — Да и какая от того разница? Он теперя даже над своей головой не командир.
— Не болтай! Он все понимает, просто не помнит.
— Точно! Я вот его спрашивал: небо голубое? Он кивает. Я думаю, сейчас с подковыркой спрошу: трава синяя? Он головой качает, нет, мол. Я его спрашиваю: птицы летают? Кивает, соглашается. Я опять испытываю: вода сухая? Так он даже засмеялся. Загукал как-то по-своему… Да так на меня посмотрел, вроде сам ты дурак.
— Может, если выживет, после войны и найдет кого…
— Или врачи чего-нибудь покумекают.
— Победить бы еще. Они-то до Москвы за три месяца дошли, а сколько наши обратно топать будут?
— Да уж, пока мы тут прохлаждаемся…
Через некоторое время, цены которого Иван не знал, всех пленных (кто мог работать и на тот момент не болел) погрузили в товарные вагоны и повезли на запад. Между западом и востоком он тоже не понимал разницы, и каменный барак, сменивший деревянный, легко стал для него новым домом. Он не почувствовал отличия между тачкой с песком и тяжелыми деталями, которые пришлось таскать здесь, он не обратил внимания на то, что людей в полосатом тряпье вокруг стало больше, и все они говорили на разных языках. Но кое-что он уже начал запоминать. Например, он точно знал, что после пробуждения надо работать, что нельзя подходить к забору и к некоторым зданиям, что на руке у него теперь есть номер… За два с половиной года он выучил и научился более менее связно произносить несколько слов: арбайтен, баланда, русский, мама, Ваня, наши летят…
Потом в лагерь пришли солдаты в другой форме. Они тоже говорили на непонятном языке, но даже Иван понял, что язык этот мягче и не такой каркающий. Эти солдаты не заставляли полосатых работать, хотя тоже делили на группы, а если и приказывали что-то, то очень вежливо, как будто у них в руках не было оружия, главного аргумента в общении между людьми в форме и безоружными. По этому поводу Ивану вдруг и очень больно вспомнилась искореженная винтовка на краю воронки и синее небо сорок второго года. Даже голова закружилась до синей боли в глазах. Но другие дни так и не прорезались, и он не смог оценить «подарка» раненой памяти. Более того, стал бояться повторения такой боли.
***
Через несколько дней американцы погрузили всех русских на автомобили и куда-то повезли. Оказалось, в другой лагерь, где бывших военнопленных встречали смершевцы и целый полк НКВД. Все это делалось второпях, в суете, и поэтому рядом с Иваном не случилось никого, кто был с ним в одном бараке. Или оказались, но про него забыли, да и в пору было о себе подумать. И никто не мог объяснить дотошному капитану в очках, что у Ивана смертельно ранена память. А тот почему-то злился, смотрел исподлобья, презрительно, даже злобно.
— Фамилия?
— Му-у…
— Что, язык проглотил? У нас немых на фронт не отправляли, так что кончай ломать комедию, у нас с предателями разговор короткий. Имя?
— Ва-ня…
— Полное имя?!
— Ва-ня…
— Национальность?
— Рус-кий…
— Звание?!
— Му-у…
— Опять мычишь? Как попал в плен?
— Ар-бай-тын…
— Ты мне это брось! Вас тут несколько тысяч, мне некогда с каждым слова разучивать, врачей с нами тоже нет.
— Ha-ши ле-тят…
— Чьи ваши? — прищурился капитан.
— Мама, — вспомнил еще одно слово Иван и горько вздохнул. Он не знал, зачем задает ему все эти вопросы сухощавый капитан с колючим взглядом, и тем более не знал на них ответов. А на следующий день он не помнил и самого капитана. И тем более он никогда не узнал, как просто решилась его судьба.
Дотошный капитан доложил о нем уставшему седому майору, у которого давно уже мельтешило в глазах от списков бывших военнопленных. Единственное, что в последнее время не вызывало у него раздражения и сквернословия, — это образы жены, сына и дома, которых за последние три года он видел только два раза.
— Про этого, со странностями, проверяемые Волохов и Фоменко сообщили, что с тех пор, как его знают, у него абсолютно нет памяти. Только фрагментарная. У него даже фамилии нет, только номер на руке. За все время в лагере выучил несколько слов. Работать может, — капитан выдержал многозначительную паузу, но майор никак не реагировал, с отсутствующим видом рассматривая какие-то бумаги на столе. — Но все это подозрительно. Говорят, он даже прошедшего дня не помнит. Проверять надо. Врачей бы.
— Отправь куда следует, там и проверят.
«Куда следует» было понято как «родной» советский лагерь в Сибири, где изменники Родины и другие предатели валили лес для восстановления народного хозяйства.
***
Проверяли Ваню добросовестным трудом в течение пяти лет. За это время он научился говорить еще несколько слов: кум, сука, зона, зэка, нары, дай, возьми, буду, не буду, понял… И даже дюжину связных фраз. Он кроме того запомнил несколько дней. Правда, без усилий, случайно.
На него быстро перестали обращать внимание и охранники, и зэки. Урки, правда, любили подшучивать над Иваном, но сравнительно безобидно.
— Иван, не помнящий родства!.. — начинал кто-нибудь.
— Да он не только родства, он даже не помнит, ходил ли он до параши…
— Интересно, он и баб не помнит?
— Не, он не помнит, чё с ними делают!
Обычной шуткой было разбудить Ивана за час-два до подъема, когда уже светало, и произнести слово «работать». Он, не обращая внимания на спящую братию, собирался, умывался и шел к воротам, из которых бригады уходили на деляны. Часовые даже не пытались его отгонять, потому что проще его было пристрелить. Он стоял эти два часа, глядя в одну точку на створках ворот, ожидая, когда они откроются. Уркам было смешно, а Ивану все равно, времени для него не было.
Другое дело было перепоручить Ивану свою работу. Он безропотно выполнял свою норму да еще успевал «помочь» двум-трем товарищам, потому как приказы любого человека он выполнял беспрекословно. На него даже делали ставки, сколько он выработает за день. Многие бригады хотели заполучить беспамятного.
Поражало зэков то, что он абсолютно не помнил зла, а вот добрые поступки по отношению к нему вроде как начал запоминать. К примеру, один из зэков вытолкнул его из-под падающего ствола. Иван потом ходил за ним несколько дней, улыбался и готов был выполнять за него любую работу, потому как по-другому отблагодарить не мог. Значит, запомнил. Были и другие случаи…
Лагерное начальство для правильного ведения документации вынуждено было подобрать ему соответствующую фамилию — Непомнящий. Разумеется, никакие проверки ничего не дали, но останавливать запущенную машину правосудия — все равно что самому ложиться под паровоз.
В один из одинаковых лагерных дней Ваню вызвал к себе начальник — подполковник с ярко выраженным чувством справедливости. Ваня долго рассматривал его начищенные до звездного блеска сапоги, сидя на прикрученном к полу табурете, а подполковник между тем чинно выхаживал вокруг него, излагая преамбулу к основному тексту разговора, которая заключалась в тезисном изложении системы ценностей правосудия в государстве победившего пролетариата. Но минут через двадцать разговор пошел о главном:
— Я тебе, Иван, честно скажу, мы ничего не нашли: ни «за», ни «против». Но, сам понимаешь, если понимаешь, в плену-то ты был. А как ты туда попал? Может, сдался? Хотя, конечно, больше похоже, что тебя хорошенько контузило. Вас вот десятки, сотни тысяч, миллионы… А нам — работы. И главное — где твоя красноармейская книжка? Мы даже не можем установить часть, в которой ты служил. У любого следователя возникнет подозрение, что ты выкинул ее перед сдачей в плен. Может, ты даже офицер, коммунист… А за это, сам понимаешь… Но учитывая твой добросовестный труд и примерное поведение, думаю, проблем с освобождением у тебя не будет. А пока что придется пожить здесь…
— Му… — согласился Иван, потому что другой жизни себе и не представлял.
Точно так же, как не было причин «исправлять» Ивана Непомнящего в ГУЛАГе, так и не нашлось причин задерживать его после истечения неизвестно кем отмеренного срока. До ворот группу освобождаемых провожал все тот же подполковник, но сделал он такое исключение только ради Ивана, перед которым почему-то чувствовал себя виноватым. Обычно же он ограничивался кратким назидательным напутствием в своем кабинете, которое заканчивалось выдачей справки об освобождении.
В это утро он прошел бок о бок с Иваном, который замыкал группу, и говорил не на казенном, а на сносном бытовом русском языке:
— Ты езжай со всеми, Иван, езжай по городам, сходи на станциях. Вдруг что-нибудь вспомнишь. А если вспомнишь — напиши. Подполковнику Карнаухову. Ах, ёшкин перец, ты же все равно не запомнишь! Я тебе в каждый карман по справке положил. Там написано, что ты не только отбывал срок, но и воевал, был в немецком лагере. Вас же из Бухенвальда привезли… — вдруг остановил Непомнящего, посмотрел на него внимательно, лицо подполковника озарила догадка. — Справки показывай везде! Куда бы ни пришел! Понял?! Это приказ! Понял?!
— Понял, — пообещал Иван.
— То-то! Там и доктор приписку сделал про амнезию твою. Русские люди сердобольные, по крайне мере, без куска хлеба не останешься.
— Рус-кий… — кивнул Иван, он улыбался подполковнику самой проникновенной улыбкой, на какую только был способен. Казалось, он все понимал и запоминал. По крайней мере, глядя на его улыбку, в это верилось. Так это или не так, но Иван нутром чувствовал, что обычно суровый, въедливый блюститель всех мельчайших буковок законов и всех уставов, переживший на своем посту всех вышестоящих начальников, глянцевой выправки подполковник делает ему добро. А делал он это для такой категории людей не часто.
— Может, и работу найдешь, тебя, вон, не согнуло, а наоборот расправило. После немецкого-то лагеря доходягой был.
— Арбайтын, — вспомнил Иван.
— Ну давай, шагай до станции. Километров семь будет.
И еще долго подполковник, два автоматчика и собака смотрели ему вслед. Он так и шёл замыкающим. В отличие от всех остальных не разговаривал, не крутил головой по сторонам, не размахивал свободной от чемодана рукой (чемодан ему собрали зэки «всех профилей»). Он шел сосредоточенно, выполняя последний приказ последнего своего начальника.
***
Я видел этого человека. Каждый день, с утра до заката он сидел на ящике возле Знаменского кафедрального собора и кормил голубей. Он никогда не смотрел на прохожих, а если и смотрел, то как бы сквозь и при этом загадочно и немного печально улыбался. Я потом понял, что этой улыбкой он извинялся перед всеми, кого не помнил, перед теми, кто не знал, что он не помнит… На нем всегда был одет один и тот же видавший виды серый пиджачок, штопаные, сто лет не глаженные брюки, потертые кирзачи, а на груди нелепо грустила одинокая медалька. Такая есть у каждого ветерана. Только у этой была история особенная.
9 мая 1975-го Иван Непомнящий как обычно сидел у ворот Знаменского собора и смотрел на голубей. В этот день к храму шли не только прихожане, но и многие ветераны. Ваня улыбался им особенно, потому что многие подходили к нему и не только бросали монетки, но и поздравляли, жали руку. Стараниями прихожан об Иване Непомнящем знали многие, знали о справках заботливого подполковника Карнаухова. Одна семейная пара задержалась рядом с ним дольше других. Седой ветеран с целым «иконостасом» на груди внимательно рассматривал искренне улыбающегося Ивана. Женщина, державшая его под локоть, терпеливо ждала, переминаясь с ноги на ногу.
— Саня?! Востриков?! — узнал-спросил он. — Я Олег Ляпунов. Помнишь? Под Харьковом? Май сорок второго? Юго-Западный?..
— Ваня, — поправил его Непомнящий.
— Как Ваня? Один в один — Саня Востриков!
— Ты, наверное, обознался, — потянула Ляпунова за локоть жена.
— Не может быть, такое не забывается. Мы вместе из окружения пробивались. Неудачно тогда с Харьковом получилось. Тимошенко этот… Мы Саню погибшим считали. Я сам видел, как за его спиной мина ухнула…
— Ha-ши летят, — продолжал улыбаться Иван.
— Просто похож человек, он же тебе говорит, что его зовут Иван, — у жены, похоже, кончалось терпение, она почему-то с опаской смотрела по сторонам. Оглядевшись, добавила вполголоса: — Каждый год ты в День Победы ходишь в церковь и не боишься, что тебе по партийной линии замечание сделают. Ладно в районе, а тут в областном центре — вместо банкета в облисполкоме, могли бы и завтра…
— Я старшине Голубцову поклялся! Он на руках моих умер! Каждый год молебен! Плевать мне на все эти линии! — так от души резанул, что жена с лица сошла и потупилась.
Даже Ваня на минуту перестал улыбаться.
— Прости, столько лет уж прошло, ты действительно мог ошибиться, — жена отступила чуть в сторону.
— У этой памяти нет сроков! — отрезал и попал в самую точку Ляпунов и снова стал внимательно смотреть в глаза Ивана Непомнящего. — Ей-богу, глаза-то его. Вроде он с Рязанщины был, чего вот только в Сибири… Побирается… Русский солдат…
— Рус-кий, — согласился Иван и снова заулыбался.
У Ляпунова сама собой навернулась слеза. Единым рывком он снял со своей груди медаль и, подтянув к себе несопротивляющегося Ивана, прицепил награду к лацкану его пиджака.
— Спаси вас Бог, — произнес Иван, слегка поклонившись.
Медаль звякнула. Ляпунов скрипнул зубами:
— Не так, солдат, не так!..
— Слу-жу тру-до-во-му на-ро-ду! — из какого провала памяти всплыл этот довоенный уставной ответ?
Иван продолжал улыбаться, но на глазах у него, как и у Ляпунова, выступили слезы. Ему показалось, он вспомнил что-то самое важное, но никак не мог объять это, объяснить самому себе, потому что всё его ограниченное одним днем памяти сознание переполнилось чувством удивительного братства, которое исходило от человека по фамилии Ляпунов.
— Зачем ты, Олег, может, это все-таки не тот, может, он и не воевал вовсе? — откуда-то из другого мира высказалась жена.
— Ваня-то наш? Ишшо как воевал! И в плену у немчуры был. Настрадался! Не видно разве? — так коротко разъяснила всё маленькая старушка из тех, что ежедневно ходят в церковь и заботливо следят там за чистотой и порядком. — Памяти у него нет. Совсем. Мы уж и к врачам его водили, и молились… Видать, промысел Божий о нем такой. А вы никак признали его?
— Да вот, мужу показалось…
— Моего друга Александр Востриков звали, — не поворачивая головы, сообщил Ляпунов.
— А-а, — поняла старушка, — а у нашего справки есть, Иваном Непомнящим записан. А вот наград у него и нет. Теперь уж, почитай, у каждого, кто и един день на войне был, есть награды, а у нашего Вани нет.
— Есть, — твердо ответил Ляпунов.
— Есть, — улыбнулся сквозь слезы Иван.
— Ты правда ничего не помнишь? — не унимался ветеран.
— Правда-правда, он даже вчерашнего дня не вспомнит, только самую малость.
— Я за тебя помнить буду, — пообещал Ляпунов.
— Дай Бог вам здоровья, — перекрестилась старушка и шепотом добавила, — слез-то его никто и не видел ране.
— Ha-ши летят, — слезящимися глазами Иван Непомнящий следил за поднявшейся над колокольней стаей голубей.
Я видел этого человека много раз, но так ничего и не узнал о нем. Теперь я уже не помню, сколько лет он кормил голубей у ворот храма, вокруг было столько «главного и важного», что в суете устремлений к этим «важностям» я не заметил, когда и куда он исчез. И теперь, спустя несколько лет, я могу вспомнить только одинокую медальку, его улыбку и взгляд. Взгляд, в котором сегодня я разглядел действительно главное. Память.
Тюмень — Горноправдинск, 1995, 2000 гг.
Человек друга
ЭТОГО пса все так и называли — Пёс. Его собачья инвалидность вызывала, с одной стороны, жалость, с другой — отталкивала. Глаз и ухо он потерял благодаря заряду дроби, выпущенному пьяным охотником шутки ради, дабы отогнать любопытного пса от добычи. Половину правой передней лапы он потерял уже из-за своей односторонней слепоты: убегал от разозлившихся мужиков на пилораме и неудачно прыгнул через циркулярку. Теперь он ежедневно побирался у сельмага или у облюбованного подъезда. Его либо жалели, либо гнали. Жалели его в основном дети, приносили что-нибудь съестное из дома, но они же бывали и необычайно жестокими. Однажды они связали ему две задние лапы и долго потешались над тем, как Пёс пытается убежать, выпутаться, но только переваливается с боку на бок, не простояв и секунды, падает, обиженно подвывает и беспомощно скулит. Если б в поселке нашелся хоть кто-нибудь, читавший когда-либо Гюго, то пса непременно назвали бы Квазимодо. Но местные жители большей частью читали только телевизионные программы и объявления на заборах. Вынужденная малоподвижность сделала пса созерцателем и даже философом. Глядя в его единственный печальный глаз, можно было легко увериться, что он не только понимает человеческую речь, но и знает что-то такое, чего никогда не узнает вся ученая человечья братия: от лириков до физиков-ядерщиков. Сновавшему же мимо народу некогда было вглядываться в зеленую глубину собачьего глаза, хорошо хоть находились сердобольные старушки и детишки, которые приносили калеке поесть и изредка, явно превозмогая отвращение к его уродству, несмело ласкали его. Частенько рядом с ним присаживался на корточки местный забулдыга Иван Васильевич и, забыв о пёсьей инвалидности, требовал, чтобы Пёс одарил его собачьим рукопожатием.
— Дай лапу, друг человека! — покачиваясь, требовал он, и непохоже было, чтобы он при этом издевался над трехногим инвалидом. — Сидишь тут, умничаешь, кто ж тебя, горемыку, оставил мучиться на этом свете? Вот ты — друг человека, где же твой человек, мать его наперекосяк?!
Посидев так несколько минут, выкурив сигаретку, он, пошатываясь, уходил, оставляя Псу самому решать вопрос: кто из них больше мучается.
По ночам Пёс устремлял одноглазый взгляд к звездам, разумеется, если небо не было затянуто низкими серыми тучами, или неуклюже хромал в своё логово на теплотрассе, потому что знал: в эту ночь он будет выть и скулить во сне, а значит, в лучшем случае, в него кинут чем-нибудь или огреют палкой, чтобы не мешал спать праведным труженикам. Так он жил, подпирая здоровой лапой двери подъездов, уже, наверное, лет пять, и никто и никогда не узнал бы его умных собачьих мыслей, если б… Если б в один из бесконечных и одинаковых дней, которые отличались только разницей температур и влажностью, от чего обрубок лапы болел либо больше, либо меньше, если б в один из таких вынужденно и грустно проживаемых дней к нему не подошел странный малыш. На вид ему было лет пять, но взгляд его был много умнее, чем у некоторых взрослых. Вместо левой руки из-под клетчатой безрукавки торчала ужасающая своим малиновым окончанием культя. Чуть ниже локтя… Пса даже передернуло, он увидел вдруг боль, которая показалась ему больше собственной. Здоровой рукой мальчик смело погладил Пса, сел с ним рядом и обнял его за шею.
— Знаешь, — сказал малыш, — раньше бы мама мне не разрешила взять тебя, а теперь, я знаю точно, разрешит. Я как из больницы выписался, она мне больше разрешать стала. Я видел, что тебя обижают, я буду тебя защищать…
Пёс робко лизнул мальчика в щеку и осторожно устроил свою одноухую голову на его хрупкие колени. Мальчик гладил пса и рассказывал ему о том, как добрый доктор из скучной больницы научил его, что надо уметь радоваться жизни и никогда не сдаваться. Малыш теперь обещал научить этому своего нового друга. Пёс в ответ тяжело и протяжно вздыхал, как умеют делать только умные собаки.
Потом они, разговаривая, неспешно шли домой к мальчику. Навстречу им попался вечно хмельной Иван Васильевич. Увидев однорукого мальчика с трехногой собакой, он остановился, долго силился что-то сказать и, когда они уже прошли мимо, спросил у пустоты:
— Вот он, значит, какой — человек друга?
Ивану Васильевичу показалось, будто он только что увидел и узнал что-то поразительное и печальное, равное познанию Вселенной. Между тем ничего необычного не произошло: просто Пёс и малыш сегодня ночью будут вместе смотреть на звезды. И что с того, что они видят и знают чуточку больше, чем все остальные? Вряд ли кто-то захочет поменяться с ними местами, вряд ли кто-то так же решительно подберет другого такого Пса. А многие так и не поймут, отчего так мало добра в этой собачьей жизни.
Трансцендентные игры
НЕТ, оживить этот «Москвич» мог только волшебник. Во всяком случае, никак не учитель физкультуры средней российской школы, имеющий самое опосредованное отношение к двигателям внутреннего сгорания, которые к тому же еще при царе Горохе внутренне сгорели. Вадим вышел из гаража, чтобы оценивающим взглядом, издали взглянуть на отцовское наследство: стоит ли костьми за него ложиться? 412-й смотрел на него печальными фарами, разинув капот, где пару лет назад остановилось сердце. Зря разинул, у Вадима Стародубцева денег на толкового реаниматора не было и быть не могло. Даже в обозримом будущем, даже в складчину с женой, которая вроде получала в полтора раза больше, так как прикипела к должности завуча; семейный бюджет Стародубцевых представлял собой во внешнеторговом смысле ежемесячное отрицательное сальдо. Стародубцевы, как и вмиг обнищавшее государство, горбатились на долги. Это теперь называется: не приспособились к новым экономическим условиям. Таких неприспособленных в России было ныне большинство. В связи с этим Вадиму часто приходила мысль о том, что вся нынешняя рыночная экономика со всеми ее подлизингами и менеджментом последние десять лет продолжала держаться на этом самом неприспособленном большинстве. Правда, жить от этого легче не становилось, а «Москвич» — милый дачный спутник — уступил место такому же грустному и неумытому общественному транспорту.
До дачного сезона оставалось еще два месяца, и Вадим, как заговоренный, приходил сюда каждое воскресенье, чтобы совершить ритуал открывания капота, постоять рядом с ним, как, наверное, стоят врачи у постели безнадежно больных «старых русских», которым требуется дорогостоящая операция. Мысленно прокручивал все возможные варианты ее удешевления, но итоговая цифра оставалась по-прежнему неподъемной. Домой возвращался хмурым и усаживался у телевизора, чтобы, насупившись, без каких-либо эмоций, не ощущая вкуса, проглотить любую останкинскую стряпню.
— Вадик, помнишь, ты три года назад прокладки какие-то поменял, и мы все лето без проблем ездили, — пыталась посоветовать завуч и жена по совместительству Екатерина Васильевна. — Может, и сейчас достаточно прокладки сменить?
— Ага, с крылышками поставить, — кривился Вадим в сторону телевизионной рекламы, — и полетим сразу…
А потом извинялся за пошлость, которую Катя на дух не переносила и которой не была достойна. Эх, ее бы в отпуск свозить! Пять лет дальше пригородных садов не бывали. Да и Иришке уже десять лет, а она ничего не видела. Школа, дом, летом дача, в лучшем случае — приезжий цирк… Была у Кати мечта детства — съездить во Францию, постоять на Эйфелевой башне, и когда Вадим делал ей предложение, торжественно поклялся: во Францию поедем, и даже в Монте-Карло! И вот железный занавес пал, а вместе с ним пал рубль… А потом сломался «Москвич». Вместо социализма с человеческим лицом получилась уродливая гримаса бананово-таежной республики. Да что уж теперь! И не такое переживали… Переживем и пережуем. Сняв засаленную робу, Вадим решил, что выстирает ее сам. «Бесполезный труд порождает другой бесполезный труд», — подумалось вдруг. С ухмылкой кинул камуфляж в пакет.
Закрыв гараж, Вадим двинулся на выход из кооператива. За воротами, кроме бетонки, ведущей на трассу, начиналась проторенная автолюбителями тропка, идущая через лесонасаждения к микрорайону. Приходилось вальсировать, чтобы не соскользнуть в талые, почерневшие сугробы, из которых, будто кости на древнем поле брани, торчали пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, окурки и многочисленные обертки от всевозможной цивилизованной снеди. Слева ударил колокол. От неожиданности Вадим все-таки поскользнулся, «изобразил бабочку на посадке» и с треском плюхнулся в кустарник, выросший, по его мнению, не на том месте. К колокольному звону жители микрорайона еще не привыкли. Звонили в маленьком храме на кладбище, что когда-то было на окраине, а теперь все больше поглощалось микрорайоном. Типовые высотки обступили его уже с двух сторон. Между кладбищем и жилыми домами словно шло нелепое соревнование. Могилы «торопились» теперь только в одну сторону, будто стремились вырваться из-за обжитых крепостных стен города. Храм же недавно начали реставрировать. Деньги на реставрацию жертвовали градоначальники, ушлые, но совестливые предприниматели, а в магазинах микрорайона стояли специальные ящики наподобие почтовых, куда могли вносить свою лепту граждане средней и более короткой руки. То самое неприспособившееся большинство. В храме еще велись отделочные работы, но ему уже вернули голос, и время от времени приезжий батюшка вел там службу. Вот и сегодня звонили к вечере.
Вадим не позволил себе чертыхнуться, хотя сильно ушиб копчик. «Наверное, на горлышко бутылки попал или на ветке сижу», — подумал он, с трудом поднимаясь из раскисшего сугроба. Со злобой на источник боли оглянулся. Это был не успевший оттаять угол какого-то чемодана или кейса, вероятно, брошенного или оброненного здесь в ночную метель. Стародубцев не удержался и, пренебрегая болью в крестце, изо всей силы пнул торчащий угол, да так удачно, что кейс вывернуло из наста, он пару раз перевернулся в воздухе и на земле услужливо откинул свою подмокшую крышку. Увидев его нутро и то, что из него частично выпало, Вадим опасливо оглянулся по сторонам. Никого поблизости не было. А перед ним в этом самом неподходящем месте лежал чемоданчик, набитый долларовыми серо-зелеными пачками. Американские президенты, казалось, подмигивали русскому учителю физкультуры, так и зазывали собрать их в дружескую охапку и с одуревшим от привалившего счастья лицом нести к себе домой.
Новый удар колокола вывел Вадима из оцепенения. Он действительно быстро собрал высыпавшиеся пачки, закрыл кейс и на всякий случай обернул его в робу. Сердце хоть и билось непривычно и чувствительно ёмко, но не от шальных денег, а от чувства опасности, которое всегда преследует тех, у кого они водятся. Да может, и фальшивые? Чечены, вон, говорят, вагонами печатают. Настоящие в сугробах просто так не валяются. Если только рядом с трупом. Вадима передернуло. И как ни отгонял эти мысли, они все же до двери дома едким сквознячком прорывались в охмуревшую от новой заботы голову.
Дома почти полчаса они с Катей просто сидели и смотрели на них. Внутренности кейса не выморозила даже суровая русская зима. От денег пахло так, как пахнет только от новых, недавно напечатанных денег. Даже на глаз было видно, что содержимого чемоданчика хватит на квартиру со всей обстановкой, иномарку и… Поездку во Францию по первому разряду. Или на груду гильз и лужу крови.
— Такого не бывает, — сказала наконец-то Катя.
— И не будет, — твердо заверил Вадим, в голове которого еще только начала оформляться первая трезвая мысль с тех пор, как он упал с тропинки.
— Пересчитать все равно надо, — несмело предложила Катя.
— Разумеется…
Считать закончили через час. И то наспех. Просто убедились, что купюр в пачках по сто листов, как и в российских. Сто пятьдесят тысяч долларов показались Вадиму такой же страшной суммой, как еще недавно казались две тысячи рублей, необходимых для минимального ремонта машины. Только страх был иного рода.
— В древности русские князья жертвовали десятую часть своих доходов на строительство храмов. Помнишь, Десятинная церковь Владимира в Киеве? — мысль продолжала оформляться.
— Помню, — тихо ответила Катя.
— Думаю, колокол неспроста зазвонил. На всю жизнь все равно не хватит…
— Но…
— Но мы сделаем все наоборот. Десятую часть оставим себе. Поедем во Францию. В июне…
— Экзамены, — возразила Катя.
— Один раз обойдутся без тебя.
— А остальное?
— Откуда звонили, туда и отнесем, вот только проверим подлинные или фальшивые, — Вадим вытащил из пачки одну купюру, осмотрел ее со всех сторон, даже обнюхал. — Свежак!
Пунктов обмена валюты в микрорайоне было понатыкано как раньше квасных бочек. Но Стародубцев умышленно пошел в дальний. Правда, пришлось возвращаться за забытым паспортом. Но хождения и боль в копчике были вознаграждены быстрыми руками кассирши, которая, просветив бумажку ультрафиолетом, быстро отсчитала Вадиму «деревянный» эквивалент. «Вот и на ремонт», — подумал он, машинально укладывая деньги в паспорт.
До полуночи они обдумывали с Катей, как отнести эти деньги в храм, как при этом сохранить инкогнито, кому их передать. В результате появилась дюжина более менее приемлемых версий. Пару раз серьезно, аж до боли в груди давали отступного: а не оставить ли все себе? Катя даже предлагала открыть, к примеру, свое дело и значительную часть прибыли отдавать на восстановление храмов, жертвовать детдомам. Вадим отмахивался, мол, не приспособленные мы для всей этой коммерции. Да и не встанет хорошее дело на дурных деньгах. А какое дело нынче на честных построено, Маркса читал? Вот потому и живем хреново… Мечтали, загадывали, спорили, строили планы и неимоверным усилием семейной воли вновь и вновь отказывались от шальных денег. Кроме Франции.
— Знаешь, — уже засыпая, шепнула Катя, — мы никогда не будем никому рассказывать об этом не только для того, чтобы не навлечь на себя опасность, но и потому, что нас посчитают дураками, простофилями…
— Бог им судья, — зевнул Вадим и почувствовал огромное желание перекреститься.
— И нам тоже, — согласилась Катя, нежно прижимаясь к мужу.
***
Уже после Парижа и недели в Ницце еще оставалась половина от десятой доли. Ириша и Катя приоделись. Поначалу в кафе и магазинах они скрупулезно считали, переводили доллары и франки в рубли, потом махнули рукой — один раз живем! Да и было бы, что жалеть: это ведь не кровно заработанные. Поэтому и решили из Ниццы ехать в Монако на такси. Отчего не прокатиться вдоль Лазурного берега, если надо потратить семь тысяч долларов и больше такого путешествия до конца жизни не предвидится?
Водитель кое-что знал и немного понимал по-русски. Оказывается, русских туристов на Ривьере хватало. Правда, русскими называли всех граждан бывшего СССР: хоть самих русских, хоть, к примеру, грузин или казахов. Поэтому таксистам приходилось учитывать новую конъюнктуру.
Вадим сидел рядом с водителем, а Катя с Иришей ворковали на заднем сиденье.
— А мы можем еще куда-нибудь съездить? — спросила Катя.
— Конечно, шенгенская виза, — ответил Вадим.
— И в Вену пустят?
— И в аорту, — улыбнулся собственному каламбуру Вадим, — лишь бы доллар в кармане был.
— Доллар? — услышал знакомое слово водитель. — Нови русски?..
— Мы не есть нови русски, — передразнил с вымученным акцентом Стародубцев, — ми есть старые. Оулд. Андестенд?
— Но оулд! — улыбчиво возмутился водитель. — Ян! Хотеть казино? Оулд казино?
— Хотеть, пуркуа па, — хмуро ответил Вадим, заранее предполагая реакцию Кати.
Он, честно говоря, и ехал в княжество красно-белого флага только для того, чтобы увидеть старейшее казино в Европе. Казино в Монте-Карло было построено в 1861 году. У нас крепостное право отменили, а у них казино строили. У кого руки к земле растут, а у кого к деньгам липнут. Для себя Вадим решил строго: если и покрутить рулетку, то максимум на пять сотенных. Ну может, еще на автоматах чуть-чуть… Проиграть с шиком, почувствовать себя этаким независимым мэном, с бокалом красного вина в руках… Сигару бы еще, но к курению физрук относился с врожденной непереносимостью. Вадима передернуло от пренебрежения к самому себе. Он сам не понимал, зачем ему далось это казино… В детстве в лотерею ДОСААФ всегда проигрывал. Даже по рублю не везло.
— А я бы сходила в оперу, — попыталась перебить мужнину блажь Екатерина Васильевна.
— И в оперу тоже сходим, — согласился Вадим, — потом.
— И в Диснейленд, — вставила свое Ира.
— Ну если парижского тебе мало…
Они еще некоторое время перебрасывались ничего не значащими фразами. Водитель услужливо тянул улыбку и тоже вставлял какие-нибудь англо-франко-русские слова и даже смог выразить искреннее сожаление о том, что Наполеон сжег Москву.
— Не переживай, мстить не будем, — заверил Стародубцев и даже стал напевать Марсельезу, что очень понравилось таксисту.
Так, мурлыкая себе под нос французский гимн, Вадим вышел через час из гостиницы и направился в казино. Мурлыкать он перестал, когда понял, что одет совсем не так, как полагается одеваться, посещая подобные заведения. Перепутал с Лас-Вегасом. Там, судя по голливудским фильмам, нравы были более свободные, если не сказать — их там совсем не было. И все же, преодолев внутреннее смущение и скованность, он отоварился фишками и неторопливо подошел к столу…
Первая же маленькая ставка оказалась выигрышной. «Новичкам везет», — подумал он и удвоил ставку.
Катя нашла его там уже далеко заполночь, когда уложила Иру и перещелкала по десять раз всеми кнопками на дистанционном управлении телевизора.
Он сидел за столом, подпирая кулаком подбородок, а вокруг стопками выстроилась груда фишек. Остальные игроки, между прочим, стояли. В руке у него дымилась сигара, не очень-то гармонировавшая ни с его внешним видом, ни с внутренним содержанием. Соседи по столу подбадривали его на разных языках, лощеные джентльмены и блистающие дамы не стеснялись показывать на него пальцами. Учитель физкультуры из России подчеркнуто-меланхоличными движениями ставил стопку фишек на одну из зон стола, чтобы потом также меланхолично складывать в стопки выигранные. За спиной у него с озабоченно-удивленными лицами стояла пара охранников.
— Вадим, пойдем отсюда, — тихо позвала Катя, и в глазах Стародубцева появилось осмысленное выражение.
— Ты представляешь, Катюш, я еще ни разу не проиграл, — глухим, не своим голосом ответил ей муж. — Меня, наверное, тут принимают за шулера… Вот-вот охрана руки заломит.
— Тогда немедленно проиграй все эти кругляшки и пойдем в номер.
— Да, пожалуй. Ты можешь попросить по-английски их поставить все, что у меня есть?.. И выбери цифру сама. Боюсь, опять угадаю.
— Идет, — улыбнулась Катя, которой вдруг тоже очень захотелось сыграть. — А сколько здесь?
— Уже несколько десятков тысяч франков, я не считал…
Катя, услышав, на что играет, сомневалась не больше секунды, что-то прощебетала крупье. Тот посмотрел на нее, как на сумасшедшую, настороженно переглянулся с охранниками, и колесо закрутилось.
После того, как в сторону Вадима вновь отодвинулась гора фишек, игру за этим столом под каким-то благовидным предлогом прекратили. Супругам из России предложили помощь, специальные пакеты для выигранных фишек, сопроводили до расчетного окна. Предложили напитки и отдельную комнату для пересчета выигрыша. Все это время Вадим ждал, что ему вот-вот вывернут руки, отведут в закуток и там потребуют объяснений в таком немыслимом везении. Но ничего этого не произошло. Их сопровождали сдержанные аплодисменты и улыбки. Один из охранников вызвал такси и даже поклонился, получив щедрые чаевые.
Ночью Вадиму приснилось, что он пришел в гараж. Даже во сне он боялся открывать дверь, опасаясь, что за ней стоит «роллс-ройс» или на худой случай «линкольн». Но за дверью оказался все тот же грустный «Москвич». По привычке он откинул капот, а вот там вместо двигателя лежали вперемешку игорные фишки и доллары. Он начал разгребать их, пытаясь найти двигатель, но, кроме сотенных купюр и фишек, там ничего не было. Он стал высыпать их пригоршнями на пол гаража, но их не становилось меньше. И все же ему удалось добраться до того места, где, как он считал, должно находиться дно кузова. Но увидел Вадим не дно, а странную воронку, уходящую своим жерлом куда-то в глубь земли. Он завороженно смотрел в эту глубь, а она, казалось, разрастается, поглощая вокруг себя пространство. Вот-вот сорвешься, соскользнешь в холодный непроницаемый мрак… Перед глазами мелькнула долларовая купюра. Что-то в ней было не так. Ага, вместо Франклина «из нее выглядывало» лицо Горбачева. В глазах этакая серьезная лукавинка. Правда, родимое пятно на его голове почему-то очень напоминало форму североамериканского континента. Нет, не хотелось Вадиму в эту яму. Он усилием воли заставил себя выпрямиться и с силой захлопнул капот.
Где-то рядом ударил колокол. Или показалось. В любом случае Стародубцев был убежден, что разбудил его именно колокол.
— Ты считала? — спросил он Катю.
— Почти в два раза больше, чем было в кейсе, — будто и не спала вовсе.
— Наваждение какое-то…
— С этими деньгами надо поступить так же, как и с теми.
— Конечно, я об этом подумал, еще не начав игру. Кроме десяти процентов.
— И? — насторожилась Катерина.
— Купим новую машину, имеем полное право…
— И? — не успокоилась жена.
— Съездим в Вену, ты, кажется, хотела.
— Сегодня?
— Сегодня. Там рядом есть небольшой городок Баден. Мне в казино сказали, что там тоже отличные игорные дома. А ты в оперу там сходишь. Бельведерский дворец посмотришь.
— А если ты опять выиграешь?
— У нас еще целый месяц отпуска.
— А что еще у нас есть?
— У нас ничего, а у них — Лас-Вегас…
Катя глубоко вздохнула. По опыту совместной жизни знала точно: отговаривать мужа бесполезно. С таким же упрямством он каждое воскресение ходил в гараж оживлять «Москвич». И в конце концов оживил бы, это она тоже знала точно.
Почувствовав настроение Кати, Вадим попытался ее обнять, шепнул на ухо:
— Ты же знаешь, я не из-за денег, — сказал совершенно честно.
— Знаю, — снова вздохнула она, — неприспособленные мы какие-то.
В Вене они первым делом посетили православную церковь святителя Николая, что неподалеку от российского посольства. Молодой батюшка вел службу на немецком, что немного смутило Вадима, но женщина, продававшая свечи, оказалась русской.
— Можно заказать молебен о путешествующих? — спросил он.
— А если не повезет? — уже на улице спросила Катя.
— В воскресенье пойду ремонтировать «Москвич».
Горноправдинск, май 2001 г.
Краткая история искренности
Как это могло прийти в голову? Студенты редко играют на деньги, поэтому играют на желания, на мелкие подлости, на подготовку к семинару, но играть на правду?!
Додумался играть на искренность Вохмин. После первых двух партий он был в выигрыше, и по его желанию Аникин уже сходил в одних семейных трусах к девушкам в соседнюю комнату, чтобы под одобрительное хихиканье прочитать наизусть детское стихотворение, а Онищенко с вахты позвонил жене декана и назначил ей свидание. Семейными трусами уже давно никого не удивишь, соседки привыкли к «проигрышным выступлениям» и видели номера покруче, что могло зависеть от степени опьянения и куража мужской компании. В этом случае сами они отдавали предпочтение трезвой изобретательности, а также подобающей для женской компании изысканности. Телефонные номера тем более не приносили достойного удовлетворения и потехи, поэтому Вохмин даже не пошел проверять Онищенко. За первые два курса они и так проверили друг друга в самых разнообразных жизненных ситуациях, и про Онищенко Вохмин знал, для этого карточный долг — долг чести. Потом был небольшой перерыв на жареную яичницу с кабачковой икрой, бутылку водки и три сигареты.
Две партии состоялись, но скука по-прежнему была сильнее, пресная обыденность висела в комнате вместе с табачным дымом, завтрашний день не обещал ничего выдающегося, кроме ежеминутной лжи, коей наполнена жизнь каждого человека. Об этом думал Вохмин, выпуская клубы табачного дыма в приоткрытое окно, откуда он неминуемо возвращался в комнату вместе с редкими снежинками. Ему, как выигравшему, предстояло выбрать и предложить партнерам условия следующего кона. И это почему-то его раздражало. То ли своей наигранной обязательностью, то ли безысходным пониманием глупости предпочтенного безделья. Да уж! Никто не позовет утром совершенствовать этот мир, никто не спросит его отношения к сложившимся стереотипам и устоям, а если он и скажет, никто не услышит. Ложь, возведенная в степень правды — вот что показалось ему вдруг основой всех общественных отношений. И он решил поставить на карту один день искренности…
— Вы согласны, братья мои, — помпезно начал он, — что человек постоянно лжет, и лжет подчас не только окружающим далеким и близким, но и самому себе. Мы пронизаны ложью как магнитными полями. Ее протуберанцы вырываются из нашего сознания всякими там силлогизмами, в коих и посылки уже изначально ложны… Вы согласны, братья мои, что ложь является неотъемлемой и невымываемой частью человеческого сознания? — для вящей убедительности он разлил по стаканам последние сто граммов и, расстреляв взглядом озадаченных товарищей, изрек: — Кто и когда из вас говорил чистую правду, без малейшей примеси лжи, без оправдательных замутнений, без придуманной специально для подобных случаев объективности, подразумевающей трусливое: «и вашим и нашим» — лишь бы в морду не били? Кто из вас помнит вкус чистой правды?
Опрокинув в себя содержимое стакана, он театрально тряхнул нестриженой шевелюрой, бросил на стол затертую колоду и стал ждать произведенного эффекта.
— Но голая правда часто выглядит как неприкрытый цинизм, — усомнился Аникин.
— Ага, но, собственно, слово цинизм придумано различного рода либералами, чтобы правда выглядела еще непригляднее, чем она есть, — парировал Вохмин.
— Говорить правду не всегда безопасно и уж точно не всегда выгодно. Иной раз лучше просто промолчать, — задумался Онищенко.
— Поэтому я и предлагаю поставить на кон всего один день искренности, — объявил Вохмин. — Всего один! Тот, кто проиграет, обязан будет весь завтрашний день говорить правду. Если же он попытается отмолчаться, то двое других вправе сказать ему: «Что ты об этом думаешь?», и он должен будет говорить искренне. Во всяком случае, это настоящая мужская игра, достойная русской рулетки, а не пошлые развлечения типа кросса без трусов по коридору или поглощения трехлитровой банки воды залпом.
— Ну ты, Олег, придумал. — Аникин задумчиво начал тасовать карты, он уже согласился, хотя в приоткрытое окно зябко потянуло неизвестностью.
— Вася, а ты? — глянул Вохмин на Онищенко.
— А что я, не мужик? Тёма, дай колоду сдвинуть, всё по-честному. А теперь держись, братва, вдарим пиковым тузом по лицемерию и… — не нашелся, чего бы еще ввернуть позабористей.
Во время игры все трое непривычно молчали. На кону незаметно, но очень внушительно стояла правда. Вохмину, который все это придумал, отвратительными стали казаться сами карты: лощеные дамы и валеты, властолюбивые короли и вся эта шваль — от шестерок до десяток. Наверное, еще не поздно было обратить эту партию в шутку, но шевельнувшееся в душе малодушие было сродни только что публично осужденной лжи, и Вохмин решил идти до конца, хотя в то же мгновение понял, что непременно проиграет. Карты не прощают пренебрежительного к ним отношения, а бесконечно везет только киногероям. Да и то не всем.
— И никакого фатализма, — прокомментировал он свой проигрыш и настороженное молчание однокашников.
— Да здравствует искренность! — подтопил Аникин, вытирая со лба капельку пота.
— Обещаю с завтрашнего дня говорить правду и только правду, и ничего, кроме правды, — поклялся, положив руку на пустой стакан, студент третьего курса философского факультета Игорь Вохмин.
Утром, прежде чем сутуло двинуться к учебным корпусам, они втроем всегда курили на крыльце общежития. Вчерашний день, как обычно, успел затереться ночными похождениями к дамам сердец, смесью разнокалиберного спиртного, никотиновой изжогой и пустыми разговорами. Про последнюю игру, казалось бы, забыли, Вохмин был внешне невозмутим и спокоен, только друзья отводили глаза от его взгляда, в котором добавилось какого-то затравленного одиночества. Аникин еще подумал, что взгляд Игоря стал откровенно обвиняющим, будто не он сам предложил вчера игру на искренность. Незаслуженное чувство вины подтолкнуло Аникина на первый дурацкий поступок.
Из подъезда общаги вывалил на свет Божий некто Лёня Медведчиков — пятикурсник с факультета физической культуры, мастер по всем видам спорта, а также неформальный авторитет всей студенческой братии.
— Что, очкарики, здоровье поправляете? — весело пыхнул он, определяясь в уличном пространстве. Подобным образом Медведчиков приветствовал философов каждый день в зависимости от настроения и погоды.
На такое приветствие следовало отвечать: «Да куда нам, Лёня…» или хотя бы подобострастно хохотнуть, оценивая остроумие старшего физически развитого товарища. Но Аникин вдруг спросил у Вохмина:
— А ты, Игорёк, что по этому поводу думаешь?
В глазах Вохмина загорелся темный огонек отрешенности, он вдруг откровенно презрительно посмотрел на Медведчикова и без лишних изысков изложил свое мнение:
— А я думаю, Артём, что очень не хреново, когда к атлетически слаженному телу приложена наполненная смысловым содержанием голова.
У Васи Онищенко незаметно для него самого подпрыгнули брови. Из-за этого, на первый взгляд, незаметного движения, шапка наехала ему на глаза. Медведчиков отреагировал через несколько секунд, потому как для него такая наглость тоже была неожиданностью.
— Это ты меня сейчас так развесисто тупицей назвал? — Лёня ткнул указательным пальцем в вохминскую грудь, от чего Игоря ощутимо шатнуло к перилам крыльца.
— Смысловую нагрузку сказанной мною фразы даже отдаленно нельзя свести к однозначному и лубочному слову «тупица», — ответил по-прежнему невозмутимый Вохмин.
— Так я не понял — ты на меня наехал? — Лёня находился в явном замешательстве.
— В этом-то вся проблема, ты раздумываешь только над тем: сразу свернуть мне челюсть или повременить, — добавил сомнений Игорь, — ты уважаешь только тех, кого не можешь побить?
— Короче, ладно, философ, я повременю с твоей челюстью… До вечера… И если ты будешь также парить мне мозги, то твои я встряхну так, что у тебя пропадет всякое желание умничать с психически нормальными людьми. А сейчас я на пару опаздываю. Бывайте, очкарики, — и он ринулся с лестницы, будто опаздывал в аптеку за противоядием.
Аникин глубоко и облегченно вздохнул, Онищенко наконец-то поправил съехавшую на глаза пыжиковую шапку — подарок родителей-северян. Слов больше не было, зато все трое подумали о том, что за искренность одного вечером придется отвечать всем вместе.
На первой лекции было обыденно скучно. Мстислав Григорьевич, опираясь на свою докторскую степень, полученную еще во времена всепобеждающего диалектического материализма, когда он преподавал научный коммунизм, неторопливо, но очень уверенно пытался одарить неофитов суррогатом из многих философских течений, которые следовало знать в обязательном порядке, исходя из торжества либеральной объективности, понимания глобальной культуры и общечеловеческих ценностей, список которых был утвержден всемирным кагалом где-нибудь на Уолл-Стрит или в Лэнгли.
— Постигая мир через экзистенцию, человек определяет свое место в современном мире и, как следствие, избавляется от расовых, национальных и других предрассудков, от культуртрегерского подхода…
Аникину даже вникать не хотелось в эти нагромождения, за три года обучения он совершенно уверился в том, что философия и как наука наук, и как все прочие науки, призвана обслуживать те или иные идеи вождей, лидеров и новоявленных гностиков, и даже при формально объявленной собственной свободе и отвязанности от всего любомудрие избирательно. Проще говоря, Аникин считал, что если любомудрие исходит не от Бога и не Богу направлено, то оно представляет собой макиавеллизм в том или ином роде, поддерживающий ту или иную форму государственного устройства. С тех пор, как он раскрыл Библию, и Платон, и Сартр, и Бердяев, и Бэкон, и прочие для него равнозначно побледнели. Другое дело Онищенко, которому родители поставили четкую задачу — получение диплома, за что исправно платили, и Вохмин, который, прежде всего, искал в себе, а не в книгах. Вохмин, к примеру, считал, что общечеловеческих ценностей всего две: любовь и добро, но эти вечные категории можно вывернуть наизнанку, если подогнать под какую-либо идею или доктрину, воплощая которые, можно обратить любовь в ненависть и по этакой доброте залить кровью какую-нибудь часть света. В этом понимании «научного подхода» к вечным ценностям они с Аникиным были близки. Онищенко конспектировал, а Вохмин рисовал какие-то геометрические конструкции. Поэтому, когда Мстислав Григорьевич заговорил о современном понимании интернационализма, именно Аникин совершенно без задней мысли шепнул Вохмину:
— Что ты думаешь обо всей этой лабуде?
— Я думаю, — довольно громко заявил Игорь, — что новое толкование интернационализма — это старая песня в современной аранжировке.
В аудитории зависла удивленная тишина. Мстислав Григорьевич предпочел замечанию паузу, дабы вступить с прытким студентом в ожидаемую всеми дискуссию.
— Интернационализм избирателен, — продолжил вдохновленный тишиной Вохмин. — Лет пятнадцать назад Мстислав Григорьевич рассказывал моему старшему брату о марксистском понимании интернационализма, в котором тот имел неосторожность усомниться, приведя пример из жизни университета. Он просто взял статистику поступления в альма матер, и получилось, что для некоторых народов и народностей двери университета открыты значительно шире, чем, скажем, для доминирующей и государственно-образующей нации. Братец мой назвал это интернационализмом за чей-то счет, за что его сначала выгнали из комсомола, а чуть позже — из университета. Сегодня же нас снова учат интернационализму, но уже на основе либеральных ценностей, и снова не находится места для старшего брата…
— Это диалектика, Игорь Викторович, — вежливо начал профессор, — и мир, и сознание человека развивается…
— Это демагогия, Мстислав Григорьевич, — перебил Вохмин.
— И, к сожалению, это политика, — продолжал профессор. — Вашего брата съел комсорг группы, а не я. А вы, как я понимаю, хотите сейчас начать проповедь пресловутого русского мессианства, что и является проявлением культуртрегерского подхода…
— Ничего я не хочу, Мстислав Григорьевич, — вспыхнул Вохмин, — просто мне надоела обоснованная и необоснованная ложь во всех ее проявлениях и на всех уровнях! Может быть, вы даже старательно верите в то, что сейчас пытаетесь изложить нам, но если десять лет назад система не оставляла и единого шанса на прямое возражение, то сегодня нам, наоборот, вешают все подряд, в результате чего сознание дробится и теряет стержень. А в итоге: по городу маршируют то разукрашенные и неуместные кришнаиты, то эпатирующие публику нацболы, то сексуальные меньшинства, то приверженцы идиотских эзотерических обществ, то узколобые скинхеды, то… Да мало ли какие еще, выбравшие собственную струю массового безумия!
— У вас проблема с выбором? Вам не нравится свобода? — хитро прищурился Мстислав Григорьевич. — Почему вы отказываете людям в праве выбора?
— Потому что выбора у них нет! И вы это прекрасно знаете, Мстислав Григорьевич. Как могут выбирать не знающие истины?! Они не выбирают, они просто скатываются в ту или иную сточную канаву, услужливо подготовленную для них делателями массового сознания и массовых психозов, в том числе обремененными научными званиями и государственными наградами. Сейчас на каждом углу сидит Вольтер со своей собственной шарманкой.
— Так, может, вы разъясните нам, что такое истина? — хохотнул Мстислав Григорьевич, но аудитория его не поддержала. Комсорга в ней не было.
— Вы, профессор, искусственно созданный адепт плюрализма…
— По крайней мере, я никому не навязываю свое мнение…
— Потому что у вас его нет!
— А вот это уже оскорбление, я бы поспорил с вами, Игорь Викторович, на основе серьезных знаний, но для вас нет авторитетов, вы отказываете людям в собственном осмыслении истины. Может, у вас генетический тоталитаризм? Я попрошу вас покинуть аудиторию, где учащиеся пытаются постигнуть все многообразие человеческой мысли…
— Многообразие лжи, — подвел итог Вохмин. — А могли бы вы, Мстислав Григорьевич, сказать нам, положа руку на сердце, что та или иная школа лучше другой, без дружеских экивоков на оппонентов, четко и ясно определив: оппоненты и все их умствования фигня?!
— И тем самым погрешил бы против объективности!
— Объективность бывает только в фотоаппарате, потому что для этого там есть объектив, — ухмыльнулся Вохмин, закрывая за собой дверь.
— Для того чтобы иметь заблуждения, знания не нужны, — резюмировал профессор.
— Некоторым знания нужны для того, чтобы обосновывать заблуждения, — послышалось из коридора.
Онищенко и Аникин переглянулись. Такого поворота событий они не ожидали. Было совершенно ясно, что плюрализм Мстислава Григорьевича имеет определенную границу, которая пройдет на ближайшем экзамене, дабы оставить по ту сторону зарвавшегося студента. При этом зачетка, пестрящая оценкой «отлично», будет ставиться не в заслугу, а в упрек. Что поделаешь — диалектика…
— Доигрались, — совершенно точно определил состояние дел Онищенко.
Но на этом день искренности не кончился. Во время перерыва в курилке Вася Онищенко призвал Аникина простить Вохмину карточный долг, а Игорю посоветовал идти к досточтимому профессору с извинениями и рассказом о неуместной игре. На что получил полагающуюся ему порцию правды:
— Представь себе, Васёк, что Пушкину предлагают расцеловаться с Дантесом за минуту до дуэли! С тобой всё ясно, у тебя цель — любым путем получить диплом. Не-ет, ты не обижайся, я тебя не осуждаю, просто ты сам себя приземляешь.
— Спасибо, Игорь, за откровенность… — Онищенко еще решал, обидеться ему всерьез или нет, но в разговор вступил Аникин.
— Вот что, братцы, у меня остались деньги от родительского перевода, предлагаю пойти в кафе и отметить день искренности.
Предложение ни у кого не вызвало возражений, потому как ссориться никому не хотелось. За три года в маленькой комнатке они так надоели друг другу, что уже и не представляли себя вне своей компании.
В облюбованном студентами университета кафе можно было дешево перекусить и еще дешевле выпить, особенно если водку перемешивать с пивом, на чем и остановилась группа правдолюбов. Они произносили какие-то глупые тосты об истине, которую следует искать разве что на дне стакана со спиртным, мололи самую несусветную чушь, когда к их торжеству попыталась присоединиться Ирина Говорова, боевая (в прямом смысле слова) подруга Игоря Вохмина.
— Ну ты, милый, сегодня выдал! С каких это пор ты стал борцом за эфемерную истину?!
— Со вчерашнего вечера… — начал было отвечать Аникин.
— С каких это пор истина стала эфемерной? — зло вылупился на Ирину Вохмин. — Или, если правда неприятна, ее лучше не видеть?
— Бр-р-р… Заболевание серьезное, — угрюмо поставила диагноз Ира, — а что скажет больной по поводу высшего человеческого чувства — любви?
— Биохимические процессы и выброс гормонов, — рубанул Вохмин.
— Похоже, что на меня у тебя гормоны кончились, я, между прочим, поддержать тебя пришла, сбежала с социологии… — обида в голосе Иры была уже нескрываема.
— Культурология, социология — маразмология — понавыдумывали всякого фуфла! Пишут учебники, мол, не зря хлеб едим, — Аникин попытался направить разговор в иное русло.
— Знаешь, Ириш, — очень серьезно посмотрел на подругу Игорь, — я к тебе очень хорошо отношусь, даже лучше чем сам об этом думаю, но я тебя не люблю. У нас были нескучные ночи и веселые деньки… Нет-нет, постой, не уходи, я буду честен до конца. Я совершенно откровенно тебе заявляю, что ты лучше и чище меня… А я все три года косился на твою подругу Лику. Я и зашел к тебе в комнату из-за нее… Тогда… В первый раз… Но она ушла, а мы остались…
Над столом зависла неудобная тишина, и, казалось, сорвавшаяся с Ириной щеки слеза колокольным звоном ударит в опустевшее блюдце на столе.
Лика была местной, а родители Лики были какими-то крупными шишками. Лика была из высшего света и приходила к Ире расслабиться — выпить и покурить, да помыть кости общаговским парням. У Лики был шарм и ухажер на джипе.
У Иры были на глазах слезы. У Вохмина было гадко на душе, и он налил всем водки, а свой стакан протянул Ирине. Она, не задумываясь, выпила, промокнула кружевным платочком глаза и еще дрожащим, немного хриплым голосом сказала:
— Игорь, я тоже хочу сказать тебе комплимент… Этот бык на джипе, который Лику пасёт, он мизинца твоего не стоит… — развернулась и пошла в свою другую и уже новую жизнь.
Вохмин уронил голову на руки. Друзья молчали. Водка стала горче, а пиво кислее. Вкус правды более всего походил на вкус постоянной тревоги и бесконечной безысходности. За окном дымили непонятно какие реформы в непонятно какой стране, никак не приживалась американская мечта, зато русская тоска весело лилась в рюмки и граненые стаканы…
Вечером в гости пришел Медведчиков. Удивительно, но на лице у него не присутствовала обычная маска супермена, готового к разборкам в любое время и на любых условиях.
— Э, умники, я бы все же хотел узнать, вы всех спортсменов тупицами считаете?
— Правда в том, Лёня, — грустно ответствовал за всех Вохмин, — что всех нас никто не позовет в светлое будущее, — и достал из тумбочки припрятанную чекушку.
— Философия, — согласился Медведчиков и тоже достал из-за пазухи прихваченную для умного разговора емкость.
И разговор этот был в самом разгаре, когда дверь открылась, и на пороге появилась Лика. Взглядом с поволокой она прошлась по прокуренной комнате и остановилась на Вохмине.
— Могу я выразить свое восхищение правдолюбцу? — сказала вместо «здравствуйте» и подошла ближе к Игорю.
Вохмин напрягся навстречу, ожидая какого-нибудь придуманного Ириной подвоха. Ясно, что весть о ставках в последней игре за день стала достоянием всего университета. И уж, конечно, Ирина выдала свою порцию правды Лике. Но что делает здесь Лика? Спустилась с небес посмеяться над проигравшим?
— А почему для меня у тебя правды не хватило, Игорь? — грустно поинтересовалась Лика. — Ты никогда не слышал банальную истину о том, что маленькая ложь порождает большую. И откуда тебе знать, что вся правда бывает неприятной. И что делать, если ты сам не захотел ее знать? Так вот, раз уж наступил момент истины, я скажу причитающуюся тебе часть: в тот, упомянутый тобой вечер, я ушла, так как была уверена, что ты пришел к Ире! Глупо, да? Итак, правда бывает горькая, приятная и бывает до обидного глупая. Ты мог тогда догнать меня в коридоре…
— Н-но… — ничего не хотел и не мог сказать Вохмин.
— Но у нас есть немного времени, чтобы разобраться во всем этом наедине. Ира ушла сегодня к подругам, ее комната оставлена нам под охрану. Ты готов заступить на пост номер один? — вроде бы никакой хитрецы в голосе, только напор дамы, которая не знает отказов. — Так ты готов быть искренним до конца?
— До полуночи еще два с половиной часа, — Вохмин вопросительно посмотрел на друзей.
— Что ты об этом думаешь? — кивнул ему Аникин.
— Я думаю, что я люблю эту девушку, но шансов у меня ноль, — честно ответил Игорь.
— Ну тогда мы продляем твой день искренности до завтрашнего утра, — подмигнул Онищенко.
И слова эти проводили Вохмина в удивительную ночь, о которой еще вчера он и мечтать не мог. И плевать ему было на то, что где-то на ночных улицах визжит тормозами джип, а за рулем разъяренный бык сквернословит и гонит на красный свет. И казалось, что всё, что случилось в этот день и свершается сейчас, происходит не с ним, а с каким-то другим человеком, который жил в Вохмине все эти годы и наблюдательно молчал. И у настоящего Вохмина было чувство, что этому человеку теперь досталось самое главное, а сам Вохмин стоит где-то в стороне и наблюдает, как скрытая когда-то правда прорывается наружу безумной нежностью и самыми ласковыми словами. И оба они боялись, что ночь искренности вот-вот кончится.
Лика чередовала свою откровенную, порывистую и безудержную нежность с другим видом искренности: даже в сладкой истоме она твердила, что не обещает Игорю вечной любви, хотя ей никогда в жизни не было так хорошо и вряд ли когда-то будет. Она успевала шептать что-то о банальном строительстве карьеры и обеспеченного будущего, а Вохмин умолял ее об одном — забыть обо всем хотя бы на одну ночь. Он прекрасно понимал, что у него слишком мало шансов стать для этой девушки единственным и незаменимым, он гнал от себя мысли о том, что сейчас изо всех сил цепляется именно за эти шансы, набивает им цену, и в то же время разочарованно стонал — хуже всего обманывать самого себя, особенно в ночь искренности. И всё-таки Лика таяла под его напором, как и он, задыхалась от торжества слияния, проваливалась в небытие и, всплывая ненадолго, шептала уже совсем другое. То, что обычно шепчут женщины тем, без кого не мыслят своего существования. И никто не мог бы измерить или на глаз определить, сколько в этих страстных словах, тирадах, междометиях было правды.
Где-то в другом конце коридора уже не плакала, а сладко спала Ира. Медведчиков грозно храпел на вохминской кровати. Аникин, который отказался пить, на кухне читал Екклезиаста. Бык посадил в машину пару проституток и умчал за город. А народ, забывший за последние сто лет вкус правды, нервно ворочался в кроватях и даже ночью сверял свою жизнь с лживым курсом лживого доллара, что сиял неоновыми цифрами на непотопляемых банках.
Исключенный после сессии Вохмин ушел в армию. После учебки он попал на Кавказ, где воевал честно и молча, потому что правду на той войне говорило только оружие. Уже из госпиталя после ранения он написал Лике письмо, но ответила на это письмо Ирина. Лика вышла замуж за сына президента банка, хотя его не любила. Мстислава Григорьевича пригласили по обмену опытом в Чикагский университет. Аникин ушел из альма-матер сам и поступил в духовную семинарию. Медведчиков, проработав учителем физкультуры два месяца, устроился охранником в именитое агентство недвижимости. Васе Онищенко до честно оплаченного диплома оставался всего один год. Его новые соседи тоже любили играть в карты, но он предпочитал читать оставленную в подарок Аникиным Библию. Народ спал. Все ждали, когда придет кто-то и скажет долгожданную правду.
Горноправдинск, г.
ОБЛАЧНЫЕ ДНЕВНИКИ
Облака Приметы внутреннего сгорания
Я не боюсь умереть. Я боюсь чего-то не успеть, чего-то не узнать и еще чего-то… Это и есть страх смерти.
***
Христианину умирать легче.
***
Раньше литература была заповедником. Словно я смотрел из-за забора, как прогуливаются по саду самолюбующиеся и велемудрые мэтры. Меня туда не пускали.
Теперь литература — это базар. Пестрый и разноголосый, разноязыкий базар, где все, кому не лень, суетятся, ваяют на потребу. Теперь — все писатели. Теперь нет читателей.
Я — читатель.
***
Короб первый. Короб второй. Москва — Третий Рим, четвертому не бывать!
***
Новая этническая общность «советский народ» переродилась во всероссийское общество потребителей.
***
Ни с того ни с сего, но оттуда…
***
Сначала не хватает книг, потом не хватает покоя, затем не хватает вдохновения, в результате не хватит отпущенной Богом жизни.
***
Она меня не любит. Или любит, но уже так, что и любовью-то назвать нельзя. Она мне дает. Я беру. Иногда, как крепость, иногда, как привычную в повседневном обиходе вещь, иногда, как прекрасный неповторимый цветок.
Что я даю ей?
***
Я потерял доступ к струнам ее души. Теперь мы играем друг у друга на нервах. Вот какофония!
***
Мир сходит с ума. Даже в любви сквозит какая-то меркантильность. Если не в буквальном, то хотя бы в переносном смысле: уж если ты мне, то, пожалуй, тогда и я тебе.
***
Вот и начинаешь ощущать себя ископаемым Дон Кихотом. Только без Дульсинеи и верного Санчо.
***
О вкусах не спорят… за обеденным столом. В остальных случаях не спорят те, у кого вкуса нет, либо неаргументированно отстаивают полную безвкусицу, ее право на существование. Мол, это тоже кому-то нужно (внутренне имея в виду себя).
***
А может, они и правы? Серятина должна быть хотя бы потому, что на ее фоне легче примечать что-либо стоящее. Но есть другая опасность — опасность сплошной серятины.
***
Дело не во вкусе, дело в умственной лени, а в результате — в уровне этого самого умственного развития.
***
Говорили с Мишей. Я боюсь окончательно очерстветь и потерять связь с созерцательным и безоблачным детством. Если это произойдет, можно смело ставить крест на творчестве.
Детство Миши в его стихах становится моим. Сходные, одинаковые переживания, наблюдения, открытия. Но главное, пожалуй, — единая боль. И как точно он ее выражает!
***
Я стал похож на черствую корку черного хлеба. Чей голод я могу утолить (особенно если учесть всеобщее пресыщение)? «Страшно, когда наступает озноб души», — так зябла душа Розанова. Значит, это происходило, происходит и будет происходить не только со мной. От этого немного легче.
***
Несколько согревает духовная литература, оживляет творчество. А окрыляет и вдохновляет православная литургия.
***
Моя душа — грязноватая серая льдина? Глыба? Болезнь дочери — молния — разбила ее на куски. Чуть подтаяло. Чего я больше испугался: Дашенькиной болезни или собственного очерствения, которое осознал после этого несчастья? Насколько еще больше может замерзнуть душа?
Нам грозит еще один ледниковый период. Период вымерзания человеческих душ.
***
После общения с женой появляются философские мысли. Плохая примета или плохая жена?
***
Мои проблемы с алкоголем заставили ее взглянуть на любовь и семейные отношения как на список взаимных обязанностей. Подмывает написать потешный устав.
***
Пропить можно все, кроме боли…
***
Ей нравится быть красивой. Это видит любой невооруженным взглядом. Вот и получается: я черствею, она теряет разумную тонкость шарма и целомудренную грациозность.
***
Хреновый я муж, но только потому, что так и не смог перенести ее в свое измерение. В ее измерении я труп.
***
Труднее всего просить у друга. Если просить легко — значит, просишь у человека, который обязан тебе или которому будешь обязан ты.
***
Зафилософствуешь тут! (во время просмотра новостей ОРТ).
***
Марксистская догма о том, что материя и бытие определяют сознание, в нынешнем постсоветском недобуржуазном обществе как никогда находит подтверждение. Суета сует. Абсурд, но наши движения, наши стремления целенаправленно хаотичны. Просто Маркс помнил: в поте лица своего будете добывать хлеб свой. Суета!
***
Элементы покоя: в храме; на природе (если один); за письменным столом (если никто не суетится за спиной).
***
Те, кому нечего делать, всегда мешают тем, кто чем-то занят.
***
Неначитанность нынешней молодежи, незнание собственной истории куда страшнее, чем расширение НАТО на Восток, засилье массовой культуры. Меня, например, их «интеллектуальными» подделками не прошибешь. Я просто знаю и вижу, что это говно. А ребята от 16 и (иногда даже) до 25 хоть и не называют это искусством (может, просто не знают такого слова?), но принимают на веру, принимают именно как искусство. Вот уж действительно нас искушают. Господи, избави Россию и люди ея от этого бесовского наваждения. Дак, ить, сами туда хотят…
***
Трудно быть слепым, но намного труднее притворяться немым.
***
Да, я националист. И потому только еще окончательно не спился, не оскотинился, не оторгашился.
Я знаю «делателей» русской истории и знаю делателей русских революций. Я знаю убийц Пушкина, Лермонтова, Есенина, Талькова, я знаю убийц царской семьи, убийц Столыпина, я знаю убийц русского духа, я знаю убийц Христа!
***
Дай мне, Господи, сил, бороться с самим собой, а уж там поглядим… Еще бы терпения, как у праведного Иова, еще бы праведного гнева, как у преподобного Иосифа Волоцкого, еще бы силы, как у былинного Ильи Муромца.
***
Кто сказал, что Россию продают? Ее не продают, ее разбазаривают!
***
Может быть, я не скажу ничего нового, но я все-таки скажу. Молчание — золото? Да уж, ныне помалкивание многих оплачивается не хуже, чем безудержный бздеж СМИ.
***
Я знаю, что не мне одному хочется дать по роже журналистам с ОРТ. Мужики-работяги если не умом, то нутром чуют — ложь, словоблудие, предательство.
***
Боль вырывается из меня порой слишком эмоционально. Поэтому многие считают меня экстремистом.
***
Неверующие и маловеры часто вопрошают: если Бог есть, почему он не сделает всех счастливыми, а весь мир добрым и справедливым? Как Он попускает такое зло? В писаниях святых отцов можно найти немало достойных ответов. (Кстати, нас уже не раз пытались «осчастливить» — подобные акты история рассудила не иначе, как насилие. Так что получается, вместо свободы просят от Бога насилия.) Но можно рассуждать и исходя из самой человеческой природы. Итак, на время представим себе справедливое общество всеобщего благоденствия, равные возможности для всех, одинаковое питание, имущественный достаток (нечто близкое к пресловутой коммуне, но(!) не монастырское общежитие). Коммунисты утверждали, что воспитают человека нового типа — и именно этого (пожалуй, главного) не смогли добиться. Итак, представили. И кто (найдите хоть одного человека в здравом уме) поручится, что в этом обществе не появятся с первых же минут те, кто захочет жить лучше, чем другие, кто захочет больше, чем всем, кто захочет власти над всеми… Уж если даже существа высшего порядка — ангелы — не выдержали искушения, не отторгли гордость и пали, то что уж тут говорить о человеке?
Перед Богом мы и так все равны. Нам всем дана Высшая свобода — свобода выбирать между светом и тьмой.
***
Бабушка (90 лет, неграмотная, последние 70 лет не бывала в церкви), глядя на образ Сергия Радонежского:
— На прадеда нашего похож…
Приходит мысль: он похож на всех русских прадедов.
***
Лучший «подарок судьбы» для творческого человека — это преданная, беззаветно любящая женщина.
Она — это не «тень гения». Она — это и есть гений, только в другой ипостаси.
Еще большая удача — найти ее с первого раза.
…И огромный труд — сделать ее.
***
Жен по призванию становится все меньше. Зато больше становится эмансипированных дур, лесбиянствующих нимфеток и прочего б…ва.
***
В скором времени число талантливых мужчин будет поддаваться учету. Оно будет прямо пропорционально числу «муз по призванию».
***
Процесс разбазаривания России хаотичен, даже для самих властителей он неконтролируем. Это даже не торг, где стараются продать за хорошую цену, не аукцион, где все идет с молотка и за товар борются конкуренты-покупатели, это больше похоже на торговлю краденным: тихо, быстро, дешево. А уж размах не учесть с помощью всех имеющихся в мировом арсенале ЭВМ. Даже в этом мы по своим глобальным масштабам занимаем первое место в мире.
Ничего, история посчитает.
***
Еще более страшный апокалиптический процесс — разбазаривание русского духа.
Русский дух — это иммунитет. Иммунитет не только индивидуума, но и всей державы.
А больных людей становится все больше и больше.
***
…тошнит, когда жизнь превращается в интенсивный и всеобъемлющий процесс зарабатывания денег.
***
Напиться хочется, когда денег нет, а напиваешься, когда они есть. Хотя совсем не обязательно.
***
Независимость порождается либо достаточным количеством денег, либо полным их отсутствием. Во втором случае — это уже духовная независимость.
И все же прости меня, Господи, неплохо, если она подкреплена материальной.
***
Родные просторы, величественная и в то же время скромная северная природа дарят мне чувство покоя, но стоит населить их современными людьми, как возникает чувство тревоги.
***
Неродившиеся дети. Ненаписанные книги, картины, музыка… Где-то скапливается колоссальная творческая энергия.
***
Облака несут в себе влагу, но не кажутся мокрыми.
***
Восемьдесят лет назад у Временного правительства был кризис. Так как он до сих пор не кончился, можно надеяться, что и нынешнее правительство временное.
***
То-то Ельцин пытается влезть в рамку портрета Петра I.
А надо бы — Гришки Отрепьева. Горбачев — Лжедмитрий I. Ельцин — Лжедмитрий II. Чубайс, Немцов, Лившиц и прочие Бурбулисы — семибоярщина.
***
Столыпин, Косыгин… Созвучно.
***
Демократы, русофобы, нувориши, криминалитеты и просто засранцы хотят превратить мой народ в стадо. В стадо, покорно идущее на заклание «в цивилизованный мир» и дающее на ходу себя стричь. Они не чуют опасности перерождения стада в стаю. В волчью стаю, которую и красной тряпкой-то уже не напугать. Пуганые. А уж представить себе медвежью стаю!
***
Есть народы, которые то ли на генетическом уровне, то ли из исторического хитросплетения усвоили: смысл существования для них — грабить и паразитировать. При этом используют все способы: от явного гоп-стоп до древнего и тонкого: разделяй и властвуй.
И есть русский народ, на который остальные глядят с тревогой, удивлением, испугом, ненавистью просто из-за того, что не понимают. Не понимают: как можно создать империю, не проливая реки крови, как можно с молоком матери впитывать державный дух.
***
О загадочной русской душе сказано много, но главная ее отличительная черта — отсутствие равнодушия. Судя по тому, как множится сейчас равнодушие, можно, но очень не хочется делать вывод.
***
Что-то мы нынче слишком уж медленно запрягаем!..
***
Терпеть ненавижу интеллигентского сюсюканья с человеческими заблуждениями и псевдоистинами. Мне ближе Иосиф Волоцкий.
***
Разобраться в одном человеке гораздо сложнее, чем во многих сразу. Разобраться в ближнем на поверку труднее, чем в постороннем. Да и дать оценку постороннему проще, можно не опасаться, что это вызовет ответную реакцию. Особенно если он этого не слышал.
***
Что страшнее: ненависть или равнодушие?
***
Иногда я рассказываю о том, что произошло со мной так, будто это произошло с другим человеком. И получается более правдиво.
***
Что я тут пишу? Кому? Зачем?
Я бы назвал это калейдоскопом внутреннего сгорания. Я бы назвал это — про себя вслух. Я бы назвал это энциклопедией внутреннего созерцания, но из-за незаконченности, несовершенства, а то и спорности многих суждений я назову это приметами. В конце концов с облаками спорить не будешь. Плывут себе и плывут. В них можно только витать.
***
С некоторых пор я абсолютно перестал быть суеверным. Суеверие от суеты. Более того, от людской мелочности и уж, конечно, от маловерия, а в конечном счете — от глупости. Дурные приметы они потому и дурные.
Лучше пусть будут приметы внутреннего сгорания.
***
С детьми в школе мне значительно проще, чем со взрослыми где бы то ни было. Почти нет меркантильных отношений, дву- и многоличия, псевдонравственной лжи, ханжества, а главное — в подавляющем большинстве из них нет напускной сложности, этакой вымученной взрослой серьезности и пошловатого хитроумия.
***
А еще в них нет усталости жить.
***
Пока нет.
***
В детях есть огромная масса энергии. Избыток ее заполняет школьные коридоры и кабинеты. Она должна бы струиться над школьной крышей, напоминая «плывущий» воздух в знойные дни.
Интересно, почему я выныриваю из этого моря энергии, но мои собственные силы приходят в упадок.
Нынешние медиумы скажут обо мне: это не энергетический вампир.
***
Алкоголизм — это не всегда болезнь, в некоторых случаях это способ выживания, граничащий со способом умирания. Даже онкологическим больным дают постоянно увеличивающиеся дозы наркотиков.
***
Так или иначе — это слабость. Наркоз.
Люди на Севере добрее, открытее, приветливее. Это аксиома. (Отмечена каждым, кто брал в руки перо).
***
Невольно задумался: уж не суровый ли климат научил их ценить человеческое тепло?
***
Люди на Севере хищнее. (Подсказано редактором. Подумал и согласился).
***
Нынешняя цивилизация с ее урбанистическим и масс-культурным напором калечит людские души, прививает и поощряет нормы крайнего индивидуализма. Материально-созидательная, с одной стороны, с другой — она ведет к оскудению духа. Количество концертов, выставок, телепрограмм, выпускаемых книг и проч. вовсе не определяет духовного развития общества, а только широту информационного потока.
***
Русскую Православную Церковь именно сейчас, как никогда ранее, необходимо поддерживать материально. Сколько храмов восстанавливается! И это единственный луч света в нашем темном царстве. Сила церкви и в количестве духовных чад, и в чистоте, но в наше смутное время очередного накопления капитала необходима и финансовая сила. Нужна всегосударственная кампания, направленная на побуждение граждан и организаций к пожертвованиям. В конце концов даже маловеры и государственно мыслящие атеисты не могут не видеть ее державную роль, ее центростремительную силу, не могут не видеть в ней нравственно-воспитательный оплот и единственно верный способ защиты от иноверных, сектантства и разлагающего яда европейского индивидуализма.
***
Но как защитить внутрицерковную иерархию от проникновения туда экуменистических элементов, прикрывающихся бредом об общечеловеческих ценностях, о пользе слияния религий даже в ущерб чистоте православия? Прости меня, Господи, но страшно представить себе по-горбачевски мыслящего патриарха или епископа!
Остается надеяться на внутренний иммунитет церкви, на защиту Божию, на промысел его над Россией.
***
Глубоко убежден: работы митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна должны изучаться в школе.
На истории, на обществоведении…
***
Равнодушные и приспособленцы долго в школе не задерживаются. Но, к сожалению, есть еще одна группа: просто привыкшие там работать + те, кому податься больше некуда.
***
Печально видеть, что многие учителя «отключили» в себе потенциал познания. Есть, мол, какой-то уровень и ладно! Охваченные обывательщиной, взращенные в безверии, уставшие от безденежья и социальных катаклизмов, они выдают на-гора удовлетворительное знание предметов, примеры корысти, зависти, склок в учительской и ханжескую болтовню о нравственности. Русская школа больна, как и все государство. Министерство образования пытается лечить ее «импортными лекарствами».
И все же я кланяюсь в ноги российским учителям. За небывалое терпение, за отсутствие у большинства из них равнодушия, за то, что они еще держат на недосягаемой для «цивилизованного мира» высоте планку нашего среднего образования.
***
Даша (5 лет) посмотрела фильм, где девочка ее возраста спрашивает отца о том, как рождаются дети. Тот по-детски пускается в физиологические и анатомические подробности, пользуясь аллегориями и другими «одетствляющими» приемами, избегая по возможности прямых названий. Объясняя довольно толково…
Через некоторое время Даша обращается с подобным вопросом ко мне. Но задает его по-иному:
— Папа, от чего рождаются дети?
— От любви, — не задумываюсь я.
— Значит, вы с мамой больше друг друга не любите? Я ведь у вас одна…
***
Сначала женщина не слушает мужчину, потом их обоих не слушаются их дети.
***
Плохо быть электрической лампочкой, на свет которой слетаются мотыльки. И ей светить труднее, и они не знают — зачем прилетели? Так и хочется перегореть. Побыть в темноте.
***
Теория относительности Эйнштейна не только относительна, но и, как всякое стратегическое заблуждение, вредна.
Русский ученый из Сибири не оставил от нее камня на камне.
***
Болезнь — лекарство от суеты. Это возможность вспомнить о Боге и быть ближе к нему. Для верующего человека это возможность просветления.
Господь наказывает, Господь исцеляет.
***
По ком плачет русское небо? Небо, похожее этим летом на одну нескончаемую тучу, уныло тянущуюся от горизонта к горизонту.
***
У нас дожди. В Европе наводнения.
***
Они нам нааукают, что им же и откликнется.
***
Как-то пришло в голову объяснить литературный процесс с точки зрения физических величин. Мысль, если принять ее за единицу, имеет соответствующее этой единице количество энергии. Скопление этих единиц ведет, соответственно, к накоплению энергии, которая требует выхода, выхлопа, полета (кому как нравится). Она требует перехода в новое качество, чтобы сохраниться! Ибо по-своему подчиняется закону сохранения энергии. И, разумеется, имеет тот или иной заряд.
И тут уж каждый волен выбирать: сказать или написать. Но промолчать невозможно. Промолчишь одно, скажешь другое. Промолчишь в одном месте — скажешь в другом.
***
Получается, что изданная книга — это своеобразный трансформатор, усиливающий и распространяющий энергию одного на многих.
***
Время собирать камни… Время разбрасывать камни… А когда наступит время строить?
***
Одиночество и холод — если не синонимы, то родственники. От того и от другого знобит. Начинаешь искать тепло.
***
Чисто мужское наблюдение, хотя имеет и свои исключения: что можно одновременно любить и ненавидеть?
Оружие.
***
Я родился в другой стране. В СССР.
Моя душа родилась в Российской империи.
***
Историки-демократы поставили знак равенства между застоем и запоем. По-моему, не было ни того, ни другого. А вот сейчас — налицо.
***
Зависть, как известно, бывает черная и белая. С черной и с тем, на что она толкает людей, все ясно. Белая зависть — это когда радуешься успехам и достижениям других, но и самому тоже хочется. Белая зависть — двигатель прогресса. (Не ново, записано ради следующей мысли).
***
Черная магия появилась, в том числе, и от черной зависти.
***
В Горноправдинске плохая вода. Нужны очистные сооружения.
Не только для воды. Нужно всеобщее очищение…
В Филинском (ныне Горноправдинск) была церковь, построенная купцами Фроловыми в 1903 году. Во время хрущевской атаки на православие церковь передали на хозяйственные нужды. Одно время там торговали водкой (спецмагазин во времена талонной системы), теперь там пекарня. Но хлеб пекут, не помолясь. В Тюмени на берегу Туры в здании храма разливают водку — изощренное кощунство.
В Филинском была церковь. В Горноправдинске есть баптисты, адвентисты, колдуны, ведьмы, экстрасенсы и прочая бесовщина.
Нужны очистные сооружения!
Прости меня, Господи, за такое сравнение.
***
Что ни делается, то к лучшему?
Что к лучшему, то не делается!
***
Чтобы приучиться к порядку, необходимо иметь свой дом.
***
Судя по нынешнему хаосу, «наше» правительство не считает Россию своим домом, невзирая на название собственной партии.
***
Русские самодержцы не могли не считать Россию своим домом.
***
850 лет Москве.
Столицу умыли и вычистили. Так делали и ранее по большим праздникам.
850 лет Москве. Никогда она еще не была так далека от остальной России.
***
Спор о сексуальных меньшинствах. «Гуманная» учительница с запалом:
— Ну что вы, они же больные люди!..
— Раз больные — значит, должны где-нибудь болеть: или на необитаемом острове, или в специализированной лечебнице, а не лезть в правительство и средства массовой информации.
***
Сердце порой останавливается… Я прислушиваюсь к нему, оно прислушивается ко мне.
***
Не жизнь, а сплошной инфаркт. Но зато уж если радость в сердце, то и радость до слез.
***
Влюбиться легко — любить трудно.
Дед, слушая, как мы талдычим о женщинах:
— Что вы все о бабах да о бабах?! Вот мы раньше развлекались, революции делали…
***
Раньше мы с женой могли сказать одну и ту же фразу в одно и то же время, не сговариваясь, совпадая даже в интонации. Теперь с той же «симметрией» можем сказать совершенно противоположное друг другу. Регресс? Парадокс?
Но до сих пор понимаем друг друга с полуслова.
***
Просто иногда делаем вид, что не понимаем.
***
Что же такое любовь?
Это невозможность существования без кого-либо, порождающая способность к самопожертвованию. Любить — это значит иметь в себе (не мною сказано).
***
Я не мыслю своего существования без Бога.
***
Да, я грешник, о моем спасении не мне судить, но любить мне не запретит никто…
***
Кому-то облака, кому-то тучи, кому-то дождь, кому-то слезы, кому-то мысли, кому-то деньги, кому-то речь, кому-то Слово…
Но не всегда — каждому свое.
***
Чистый лист бумаги похож на чистое небо.
***
Чистый лист бумаги похож на отдельно взятое облако.
***
Сейчас модно нагонять тучи.
Предпочитаю облака. Лично мне они дают отдых от слишком яркого света. Кто может оспорить утверждение, что в облаках кроется огромная информация?
***
На небе пишет Бог.
***
На небе написано Слово.
***
Слово, написанное на небе, на русском языке.
***
Слово сказано для всего мира, но написано на русском небе…
1997 г.
Облачный край
Я всегда пишу на одной стороне листа, и поэтому мне часто кажется (думается), что вторая его сторона, оставшаяся чистой, знает нечто большее, чем та, которая говорит моим языком.
***
Наверное, каждый чувствовал притягательную магию чистого листа бумаги. Белую магию.
***
Хочу света — беру Евангелие, хочу жизни — беру книгу, хочу муки — беру чистый лист бумаги…
***
Не все рождается через боль. Не всякая боль приносит страдания. Но уверен: настоящего творчества без боли и глубоких душевных переживаний не бывает.
***
И. А. Ильин, размышляя о творческом человеке, обращался к обществу: дайте им слушать, дайте им созерцать, дайте им «право на свободную творческую молитву», «ибо художник призван созерцать и выговаривать в своей работе — Сверхземное». «А сколь велика радость труда при каждом творческом достижении!» (Путь к очевидности).
***
И сколь сладка порой бывает боль…
***
В «Опавших листьях» В. В. Розанова нет самолюбования, а только изложение себя, всего общества через себя, всей литературы через себя, всей России через себя.
(Спор с учительницей литературы)
***
Здесь, на Севере, как и везде ныне, каждый занят проблемами собственного выживания, но еще по традиции, сами того не осознавая, делают это сообща. Вместе. Как тогда, когда осваивали этот суровый и богатый край; как тогда, когда был в почете коллективный труд…
Пока строили коммунизм, выживать было некогда.
***
Здесь не дают друг другу умереть.
***
Местные женщины стареют быстрее. Кто говорит — от климата, другие — от нелегкой жизни, я говорю — от недостатка любви. К ним.
***
Небо чаще похоже на застиранное, плохо выжатое белье, с которого нет-нет да начнет капать. Отражаясь в глазах, оно придает им суровости и житейской мудрости, даже детям, но не может затенить этакий озорной луч, веселинку.
Нудным, подчеркнуто серьезным, имеющим строгий нрав в облачном краю жить тяжело. Их не понимают и даже жалеют. Жалеют, смеясь.
***
В поведении старожилов наблюдается редкостное сочетание самого безумного авось и сметливого, высокоинтуитивного расчета, помноженного на доскональное знание окружающего мира.
***
Пожилая учительница географии выводит детей на крыльцо школы и кладет компас на бетонные плиты. Раздосадованно сообщает:
— Видите, ребята, компас показывает неправильно, потому что под нами много дурацкого металла.
Дурацкий металл в этом случае называется арматура. А еще, говорят, щебень радиоактивный, фон которого превышает норму.
Вот откуда многочисленные заболевания щитовидной железы.
***
Если бы над тайгой повесить гигантский компас, он тоже показывал бы неправильно. В тайге полно «дурацкого» металла — от гусеничных траков до отработанных ступеней ракет, от отдельно взятого бульдозера до целого автотранспортного предприятия…
***
Дама, борющаяся за нравственность:
— Что это к вам все девушки ходят?
— А что, было бы лучше, если бы ходили мужчины?
***
О величии и красоте северной природы сказано много. Старожилы ревностно защищают поселок и прилегающие к нему территории от любого словесного посягательства и так же легко гадят пустыми бутылками и прочими признаками цивилизации Иртыш.
***
Природа божественна. Бог милостив. Остается надеяться, что она тоже…
***
Сегодня нефть пахнет кровью.
***
Можно на время утолить в человеке жажду и голод, но неудовлетворенность его положением утолить нельзя. Она от сатаны.
Черная бездна.
***
Другое дело — неудовлетворенность собой.
***
Пьянство — это не просто опорожнение емкостей, это прямо пропорциональный этому процесс опустошения души.
***
Он схватил пустую бутылку и вдребезги разбил ее об стену.
От пьяного горя? Вместе с ней он символически разбил свой человеческий образ.
***
Почему пьяных сравнивают с животными? Животные не пьют.
Коты после валерианы, конечно, смешнее, но приличнее.
***
Мужики в России гибнут от водки как на войне. И некому сказать: прощай, оружие!
***
Катастрофы, стихийные бедствия, конвульсии экономики, взбесившееся телевидение… Новый год праздновался пышно, но ни у кого не возникло чувства, что пройдена какая-то важная отметка. Ни веха, ни эпоха… Не было шага в новое. А за праздничными столами не было главного — уютной уверенности в завтрашнем дне.
***
Новый год — семейный праздник. Именно в новогоднюю ночь раньше я чувствовал, сидя за праздничным столом или гуляя по улице, всю нашу огромную державу как единую семью.
В наступившем 1998 году такого чувства не возникло. Напротив, казалось, я задвинут в какой-то дальний угол, в свой мирок, даже блиндаж, из которого вот-вот начну отстреливаться. И хотелось задвинуться еще дальше, еще глубже. На телеэкране бесноватые рожи: сытые, довольные, радостные. Я, конечно, тоже не голоден, и стол неплохо накрыт. Но, глядя на них, я видел праздник где-то там — в Останкино, в мой дом праздник они не несли.
***
Сколько нас таких окопалось?
***
В начале восьмидесятых мне мечталось, что в третьем тысячелетии человечество рванется в необозримые дали Вселенной, а теперь думается, что оно просто рванется.
***
Если Бог попустит.
***
Это не печальный прогноз, это настроение. Ладно бы, если б только мое…
***
Облака все ниже.
***
Проза жизни. Сермяжная правда. Никакой философии.
Опавшие листья запорошит, укроет снегом, и низкое свинцовое небо пронесется от видимого края до видимого края.
***
Оттают, но что-то останется за порогом видимого.
***
Невидимое, но можно почувствовать.
***
Боль и безысходность сестры?
***
Когда самых любимых людей нет рядом, пустота обретает качество боли, и сила ее измеряется ожиданием.
***
Не выношу суеты, но когда их нет рядом, не хватает, в том числе, и этой суеты.
***
Умение скрывать свои чувства, может быть, и хорошее качество. Но как-то нелепо, когда это умение распространяют на любовь (из каких бы побуждений это ни делалось). Жадность к проявлению чувств или холодный расчет?
Неужели внутри таких людей сидит въедливый провизор, который скрупулезно отмеряет: столько-то нежных слов, столько-то теплоты во взгляде, столько-то прикосновений…
А может, ему и отмерять-то нечего?
***
Это как-то связано с открытостью сердца и чистотой помыслов.
***
Ярко выраженное равнодушие к славе — это просто иная форма тщеславия, может, даже более коварная и гипертрофированная, чем тщеславие неприкрытое.
***
Как относиться к славе? А где грань между известностью и славой в каждом отдельно взятом случае?
Наверное, нельзя ни на минуту забывать о том, кто дал тебе эту славу или возможность обретения ее.
Образец достойного отношения к славе — Суворов.
***
А когда меня напрямую спросили об этом, я не нашелся, что ответить. Просто никогда об этом не задумывался. Чужая слава меня не интересует, а от своей карманы не ломятся.
В русской истории достаточно достойных славы и почитания людей, я рассказываю о них на уроках с особым подъемом, даже пафосом.
***
Просто местоимение «я» звучит по-разному: у кого-то с маленькой буквы, у кого-то с большой, у кого-то «я» прописное, у кого-то печатное…
Пожалуй, мое «я» бывает разное.
***
Скользкий вопрос? Ответ на скользкий вопрос не всегда разбитый лоб. Но задают их те, кто хочет, чтобы человек поскользнулся.
***
Труд учителя приравнивается по своей психофизической нагрузке к труду шахтера: равный по количеству дней отпуск и должна быть равная смена — 6 часов в сутки. Ни один учитель в России не работает по разработанной еще в 1957 году ставке (18 часов в неделю). Перегрузка существующего персонала — в 1,5–2,5 раза. Чтобы заработать, чтобы выжить, чтобы заменить тех, кто из школы ушел, и тех, кто в школу не пришел…
Нам, конечно, лучше, чем шахтерам. Мы в шахтах не взрываемся. Не задыхаемся под завалами. Но завалы у нас свои.
Мы взрываемся дома. От перегрузки.
***
Схема жизненного цикла русской учительницы: парта — плита — парта… Иногда эта схема «разнообразится» вкраплением еще одного пункта: больница.
***
Элементы прозрения (ясновидения?), которые со мной случались:
В 13 лет я впервые увидел девочку по имени Лена и в тот же миг осознал, что это моя будущая жена. Уверенность в этом несравнима ни с какой другой уверенностью. Какое место в этом осознании занимала любовь с первого взгляда, я определить не могу.
С бабушкой, когда ей было 80 лет, случился инфаркт. Все были уверены, что она и дня не переживет. Только я точно знал, что она будет жить. Сейчас ей 92 года.
Наверное, были и другие прозрения, но я их либо не помню, либо не хочу о них говорить.
***
Я человек верующий и скептически отношусь к большинству экстрасенсов. Но признаю человеческие способности и Божий дар.
***
А еще есть Божий промысел: элементы человеческого прозрения — это «маленькие откровения» Бога, открывающего часть своего знания с какой-то, одному Ему известной целью.
***
Ослаби, остави, Господи, прегрешения наша…
***
Нерусское название Облачного края — Сугробистан.
***
Гряда сосен на горизонте отделяет Облачный край не только от другого пространства, но и от другого времени.
Гряда сосен на горизонте — это крепостная стена.
***
Разница между поколением учителей и поколением учеников: первые в большинстве своем воспринимают чтение как удовольствие; вторые в большинстве своем воспринимают чтение как работу.
Но исключения есть и в том и в другом случае.
***
Это уже не парадокс, это что-то привычное: смерть состоявшегося поэта (художника, композитора) дает ему больше признания, чем жизнь. И чем больше поэт, тем больше вероятности, что его застрелят, повесят, отравят, затравят…
***
Дантесов больше, они торопятся. Наперегонки.
***
Сначала зашло солнце русской поэзии, потом начался звездопад… Принцип простой: «несветящему тьма не противостоит» (М. Федосеенков, «По ходу солнца»).
***
Дантесы стоят в длинную очередь на прием к Сатане, в ад они попадут без очереди.
***
Почему наши женщины скрупулезно смотрят мыльные оперы? Делятся впечатлениями и подробно пересказывают содержание для тех, кто пропустил очередную серию.
Потому что им даже страдать некогда. А у экрана за двадцать-тридцать минут псевдостраданий вместе с прилизанными героями выполняется дневная норма.
***
Видимо, даже страдать им хочется красиво.
***
Национальная идея, как и идея возрождения русской державности, должна быть подчинена православной церкви, освящена и направляема ею. Иначе, как любая другая идея, направляемая якобы на благо человека, народа, человечества, она потерпит крах, будет изолгана, извращена, обретет амбициозные черты многочисленных политических карьеристов и демагогов. И только церковь способна дать ей истинное животворное начало и, ведя по тернистому историческому пути, спасти от революционного хаоса и партийного оскопления.
***
Любое начинание, в котором нет Бога, — это начало разрушения.
***
Не балаганная Государственная Дума, а Земской Собор — вот что сейчас действительно необходимо для подлинного народовластия.
***
Вдохни в меня, Господи, вдохновение…
***
Нельзя человека любить «за что-то», «за что-то» его можно уважать, ценить и т. п.
***
Настоящая любовь действительно слепа. Или у нее какое-то другое, свое зрение.
***
Пытаться объяснить любовь — это все равно что пытаться объяснить Бога!
***
Любовь — понятие метафизическое.
***
Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух — святая Троица.
Вера, Надежда и Любовь — триединый путь к ней.
***
Если хоть одна составляющая на этом пути исчезает или умаляется, дорога начинает петлять.
***
Когда читаешь духовную литературу, на душе порой становится тягостно и мучительно от осознания собственного несовершенства, своей закоснелой мелкосуетной греховной сущности. Будто смотришь на самого себя со страниц Боговдохновенной книги.
***
Состояние, близкое к брезгливости к самому себе.
***
Хитрое (самообманывающее) оправдание: мне некогда жить праведно.
***
И заповеди кажутся давно известными правилами уличного движения, которые все знают, но, по необходимости и пока ничего не угрожает, норовят нарушить.
***
Хочешь долго жить — философствуй. Хочешь еще дольше жить — не философствуй о политике.
***
Когда начинается «сегодня», я знаю не только, сколько я не успел «вчера», я знаю, сколько не успею сегодня.
***
Я не знаю, сколько я не успел за всю жизнь.
***
Иногда вдохновение бывает сильнее «не успею».
***
Из «не успею» складывается вторая, непрожитая жизнь.
***
Вот тебе и параллельные миры!
***
Зная, что «это» все равно не опубликуют, хочется совершить литературный аборт.
***
Рукописи не горят. Рукописи лежат.
***
Читать самого себя не интересно. Самого себя интересно писать.
***
Хорошие люди иногда получаются!
***
Девушка пытается загадать мне загадку, сыграть в этакую тайну. Я принимаю ее правила игры, и мы разгадываем тайну вместе.
А если бы я сказал ей, что знаю или давно уже знал ответ?
***
Женская тайна — это психологический тип — манера поведения — разгадка эротического символа той или иной степени сложности.
***
Непонимание в семье — одна из главных причин кризисов и депрессий творческого человека.
***
Полновесное вдохновение ничем не вытолкнешь.
***
Любовь нельзя купить, доказать, заслужить, вернуть… Но Бог может испытать ее. Временем и страданиями.
***
Для чего? А чтобы проверить, насколько она достойна своей божественности!
***
Иногда мне кажется, что я эту жизнь сочинил.
***
И сочиняю…
***
Трудно жить с чувством неведомого тебе предназначения.
***
А с чувством ведомого — легче?
***
Сколько раз каждому представлялась возможность совершать добро и проявлять милосердие, но мы, подобно Пилату, малодушно избегаем таких поступков, исходя из причин общественного мнения, обычаев, привычек, несправедливых законов и даже недостатка времени и желания. А потом, если уж не прилюдно, то внутри себя умываем руки.
***
Как будто с рук можно смыть совесть!
***
Счастлив и не утрачен для Бога тот, у кого она есть. Совесть.
***
Стоять между женою и матерью во время их ссоры — все равно что выбирать между повешением и отсечением головы.
***
Хорошо там, где нас нет, потому что там мы еще не успели сделать плохо.
***
Весна наступила какая-то нервная: то мороз, то слякоть, то сияющая голубизна неба, то непроглядная серость, то зарплату задерживают…
***
Неисчерпаемый народный пофигизм — вот основа стабильности нашего полугосударства в смутное время.
***
Хотели срочным порядком сформировать средний класс общества — сформировали банды.
***
На нынешнее заморское свинство нужен новый русский говядарь. Минин.
***
Всю жизнь болтаюсь между адом и раем.
***
«…блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники — они не имеют в себе главного врага — гордости, т. к. им нечем гордиться», — так определил священник Александр Ельчанинов. Далее он совершенно справедливо поясняет для красивых и талантливых: уж коли дал Бог талант, то и положи его на алтарь Богу, на служение Христу. Талант для Бога, а не ты для таланта.
Но видел я людей бездарных, глупых, некрасивых, но, не имея христианского смирения, они несут в себе огромный заряд самолюбования и тупой гордости. Некоторые прямо-таки светятся ею. И далеко не все из них неудачники.
***
Самое смешное, что они не видят своего индюшиного чванства. Идут с ним к людям, как будто так и надо. Их жалеют и из жалости не всегда смеются им в лицо. И все же смеются…
***
Грех смеяться над юродивыми, над обделенными умом с рождения, оставшимися в детстве, но как не смеяться над самовлюбленным дураком, возомнившим себя гением (пусть в определенной одной единственной области) и величайшей фигурой современности.
***
С завидным упорством такие люди пробивают себе и «своим творениям» путь к «общему признанию». Но над головой у них павлиний хвост вместо нимба.
***
Иногда, еще не дописав рассказ, я уже знаю, что он не получился. Я откладываю его в сторону (выбрасывать-то жаль) в надежде вернуться к нему в недалеком или далеком будущем. Но еще ни к одному не вернулся. Душа не лежит. На неудачных вещах словно наложена печать изначальной ущербности и непоправимости. Во всяком случае, для меня. Большинство писателей увидят в этом недостаток. И я с этим соглашусь.
***
И все же хорошо, когда нет недостатка в новых идеях и начинаниях.
***
Иногда мне кажется, что в неудачные вещи в самом начале было заложено неправильное настроение. Или, что называется, сел не вовремя. Сделал усилие над собой, заставил себя, а полета не получилось. Поэтому — доведение до ума безвдохновенного — сизифов труд.
***
«Непонимание жены» понятно каждому пишущему мужику.
***
Но почему графоманам везет с женами?!
***
Дареному коню при всех в зубы не смотрят.
***
В облачном краю, если ветер, то небо в клочья!
***
Совершенно точно подмечено священником Ельчаниновым: гордость не только мать всех грехов, но и родина глупости.
***
Из какой-то малопроглядной пелены ко мне приходят образы. И нужно прислушиваться, всматриваться, чтобы не упустить что-либо важное.
А бывает как при ясной погоде… Это и называется вдохновением.
***
Наступает Светлое Христово Воскресение, а я даже последнюю неделю Великого Поста прожил в суете и бездарной трате времени. Я и все, живущие вокруг меня. Кто из нас вспомнил страдания Христа? Кто из нас остановился хоть ненадолго в проникновенной молитве? Все наши якобы более важные дела — тлен. И на душе от этого смрадно… Нет ни одного оправдания, да и не может быть! Оправдания могут быть только у сумасшедших, только у тех, которые не знают ничего, пребывая в мертвой точке умственного состояния, как мы, пребывающие в мертвой точке состояния душевного.
***
В этом году в нашем поселке еще не будут звонить колокола…
***
И все же! И во веки! Наступающее утро несет невыразимую радость и свет. Его свет! Свет победившего смерть. И как отрадно жить, зная, что жизнь не лишена смысла, как смерть лишена своей власти, низводящей человека до высокоорганизованного животного.
***
Христос Воскресе!..
***
Я люблю свою работу, но количество ее, позволяющее вести мало-мальски безбедное существование, называемое нагрузкой, превращает меня в изнуренного раба. Равнодушного к результатам своего труда. Была бы миска похлебки к ужину…
***
Я не утрирую, я образно излагаю усталость. И не только свою.
***
И я не умею халтурить. Подобное отношение к учительскому труду вызывает у меня презрение.
***
И все же самое страшное в моей работе — это равнодушие в глазах учеников.
Оно бывает не всегда и не у всех, но стоит столкнуться с ним, как в воздухе зависает дилемма: то ли ты никудышный учитель, то ли перед тобой закоснелый в своей лени и расцветающем эгоизме ученик.
***
Бездарных учителей нет, но есть люди, которые ходят на работу в школу. Для массовости их тоже называют учителями. А еще есть чиновники от образования, которые эту работу выдумывают. Ни те, ни другие никогда не были учителями.
***
Нет, бездарные учителя есть. Те, которые считают, что есть абсолютно бездарные ученики!
***
Современные педагогические газеты — большей частью откровенное западническое дерьмо, издаваемое людьми с нерусскими фамилиями.
***
Зимник в период распутицы, когда прорываются последние машины: по болоту приходится плыть, рискуя провалиться в неизведанную бездну; остальная часть пути: умение водителя проскочить колесами между промоинами и сила двигателя, помноженная на запас прочности, чтобы перемалывать всепоглощающую няшу — жидкую грязь, в которую, если ступить, то будет по пояс.
***
А мужики балагурят. Выталкивают машины подручными средствами, вытягивают друг друга, между делом поддают, смачно матерятся и абсолютно уверены — доедем!
***
Именно на майском зимнике (звучит-то как!) я впервые увидел с близкого расстояния журавлей, вышедших подкрепиться на то, что осталось от дороги. Именно вышедших: они грациозно прогуливались, и только когда машина «подплыла» совсем близко, совершили быстрый и красивый разбег и скрылись за верхушками ближайших сосен.
***
Кто-то пожалел, что под рукой не было фотоаппарата, кто-то вспомнил о ружье.
***
Армия, которая придет завоевывать Облачный край, завязнет на этом зимнике, канет в небытие в необъятных болотах, ее просто сожрут комары!..
***
Мы непобедимы! Если сами не сдадимся…
1998 г.
Корпускулы
Первичная материализация мысли происходит на бумаге, причем далее она получает свойство превращаться во все, что угодно. Потому что ее можно взять и использовать.
***
В невысказанной или хотя бы недосказанной мысли есть своя особая прелесть.
***
В детстве, когда в нашей стране не хватало книг, я уходил из библиотеки с тяжелой авоськой, набитой приключенческими, фантастическими и историческими романами. Я брал столько, сколько давали, я нес целую сумку или портфель миров, и на какое-то время они принадлежали только мне. И уж если я поселялся в один из них, вернуть меня оттуда в нашу обыденность было делом непростым.
***
Я тогда завидовал библиотекарям. Ведь они жили и распоряжались по моим понятиям целыми галактиками. Как при виде звездного неба, глаза мои разбегались перед длинными стеллажами, плотно заставленными книгами.
***
Сегодня книги стали доступнее. Если не по цене, то по количеству и своей разноплановости. Если опустить вопрос художественного качества многих произведений, то звезды стали ближе, можно найти нужную или скрупулезно выбирать. Но, похоже, народ решил смотреть только на одну фальшивую, рукотворную звезду — телеэкран.
***
А что же библиотекари? Нет, они не остались без посетителей, романтиков, мечтателей, заядлых читателей, они остались без зарплаты. Государство, почувствовав конъюнктуру, решило, что хранители цивилизации обойдутся самым малым или как-либо подстроятся к рыночным условиям. Но библиотека — не видеопрокат, сюда не прибегут с деньгами, чтобы проглотить свежую голливудскую стряпню, сюда приходят за вечным, а вечное цены не имеет.
***
Когда была опубликована моя первая повесть, я вдруг вспомнил о библиотекарях снова. Потому что теперь в разных уголках страны они будут хранить и мой мир… Я испытал к ним повторное чувство благодарности.
***
Я знаю наверняка — книгу по ее силе никогда не заменят ни телевизор, ни Интернет, ни любая другая суперсовременная информационная система, потому что в книге есть душа, есть разум, наделенный чувствами. Голая и сжатая информация навязывается не только для ускорения, но и для упрощения, а по сути — для оглупления.
И все же я родился в самой читающей стране мира.
***
Когда наступит конец света, главное останется в храмах и библиотеках.
***
Современные технологии могут сжать информацию, но никогда не смогут сжать мысль.
***
Только умирая, люди становятся живыми или мертвыми.
***
Приходилось встречать мертвых живых.
***
Очень боюсь вместо настоящего животворящего вдохновения просто набить руку и выдавать на-гора.
***
Когда уходила ты, я терял все…
***
Когда уходил я, ты поняла, что теряешь больше, чем сможешь приобрести.
***
У нас одна дорога на этом свете, как бы это тебя не раздражало. Свернуть, конечно, можно, но это будет уже не твоя дорога.
***
Нести не свой крест тоже можно, но…
***
Симон Киренеянин нес крест Господа! Но это было в прямом смысле!
***
Многие говорят, что моя любовь к тебе ненормальна, в том смысле, что до безумия сильна. Да ты и сама так считаешь… Вот и дожил наш мир, что нормальная — настоящая любовь считается теперь чем-то неприемлемо-запредельным. Ну что ж, я всегда мыслю и чувствую запредельно.
Если я когда-нибудь удостоюсь того, чтобы обо мне вспомнили, я хочу, чтобы о тебе рядом со мной вспомнили только хорошее, поэтому я сейчас пишу: радость и боль моей любви — твои.
***
Любовь и добро не имеют причины.
***
Если есть причина — значит, есть выгода.
***
Выгода и любовь, выгода и добро — понятия взаимоисключающие.
Лето из жаркого и липкого превратилось в склизкую серятину.
***
А небо только изредка выглядывает в проблески туч: как вы там — не совсем еще отсырели, еще не по пояс в грязи?
***
Люди плачут. Это понятно. Но почему плачет небо?
***
Может, это катарсис за всех тех, кому слезы неизвестны и непонятны?
После смерти у каждого из нас есть свой объем в земле. Я хочу, чтобы у меня был свой объем в небе.
***
Хотя бы после смерти…
***
Сейчас у меня есть все небо. Туда не только проще смотреть, там и жить легче.
***
Небожителям не требуется гражданства и прописки.
***
Но: я русский небожитель.
***
Я родился в самой читающей стране мира. И, пожалуй, в самой пишущей.
***
Часто думаю о том, что большинство супругов в моей стране живут невенчаными, т. е. обладают только документами из загса. Значит — перед Богом их брака нет.
То, чего нет, Бог не защищает…
***
Спорю с другом-учителем и его ученицей.
Она:
— Декабристы были честные и лучшие люди страны. Они боролись за свободу и против царизма.
Он согласно кивает и ставит пять.
— Ты сам так считаешь? — спрашиваю я его.
— Нет. Но так нужно объяснять им.
— Как же так? Это же постоянно увеличивающаяся ложь! То же самое она скажет своим детям!
— У нас же плюрализм мнений…
— Ты же знаешь — кто его придумал! Давай разберемся проще: между Богом и сатаной ты кого выбираешь?!
— Бога!.. — брови испуганно вскинулись.
— А царь — это кто?
— Помазанник Божий!..
***
Нет, все равно не будет он рассказывать им про сатанинские масонские ложи. Во-первых, сложно, во-вторых, опасно…
В-третьих, с точки зрения чиновников от образования, он прав…
А с точки зрения истины и совести?
***
Вовсе не обязательно уподобляться им и звать Русь к топору. Но знать о творцах братоубийственных войн в своем Отечестве они (школьники) должны.
***
Сегодня линия моей жизни прошла где-то в стороне от меня…
Я смотрел на нее из своего кокона, валяющегося где-то на обочине, и ничего не мог с этим поделать.
***
Мне ничего не хотелось с этим делать.
***
В это время мою жизнь брали, что-то с ней делали, что-то ей обещали, пытались ее расшевелить, но не знали, что меня нет рядом.
***
Душа моя находилась в полном несоответствии с происходящим.
***
Так было и вчера… И позавчера… Возможно, так будет завтра.
***
И только мысли напоминали мне самому, что я еще существую.
***
Иногда мне кажется, что в этом мире мне нечего делать, а усталость, порождающая отчаяние, сильнее предназначения. Невольно подумаешь и содрогнешься от собственного кощунственного умствования: сегодня кто-то родился, что будут делать эти кто-то здесь, если здесь нечего делать мне? А посмотреть повнимательнее — и можно найти еще около 500 миллионов таких же «бездельников», а то и больше.
***
Интересна ли та игра, итог которой заранее известен и, несмотря ни на какие вариации, неизменим?
***
Знание истины не всегда дает состояние покоя, а лишь состояние уверенности, покоящееся на этом знании.
***
Истина, хотя и константа, но требует постоянной работы над собой. Иначе душа и разум превращаются в аморфную глыбу льда.
***
Я носил в себе этот айсберг. Но стоило Богу милостиво коснуться моей души, он стремительно таял и покидал меня слезами.
***
Главное — не разучиться чувствовать! Чувствовать глубоко и честно. В противном случае человек становится автоматом для выполнения основных жизненных функций.
***
И ему еще кажется, что у него есть своя индивидуальность.
***
Пожалуй, есть. Она выражается в разнотональной подаче звуковых сигналов, габаритности, в отборе той или иной струи конъюнктурной информации и проч. чисто технических отличиях.
***
Архимеду понадобился рычаг, Ленину — винтовка Мосина и пулемет «максим», Богу — Слово…
***
Мною пользуются.
***
В этом есть свои положительные стороны: ибо, следуя логике, я был бы человеком бесполезным.
***
Я пользуюсь кем-то!
***
Как отвратительно звучит слово «пользуюсь» в этом случае!
Хочется прикрыть его как наготу хоть каким-то сглаживающим пошлость звучания эпитетом.
***
ЛЕНА. А вот к этому я ничего уже не могу добавить.
***
Это не соседняя Вселенная, это Вселенная внутри меня.
***
Корпускула — частица света. Лена — то же самое.
Лена — всякая. Лена — любимая. Лена — единственная.
***
Это не признания, это просто горит.
***
Мы это иногда тушили и чуть не задохнулись от дыма.
***
Это постоянно пытаются потушить другие.
***
Господи, пусть оно горит, потому что я верю…
***
Мы сидели с другом Рауфом и поедали отменно приправленную острым курицу.
— Полезно, — сказал он, — аппетит улучшается.
— Потенция, — добавил я.
— А ты думаешь, почему китайцев больше миллиарда? Думаешь, почему на Кавказе и на юге рождается больше?
Такого кулинарного подхода к демографии я еще не слышал и решил записать это открытие.
***
К учителю английского языка Володе пришел по вызову сантехник. С порога он начал возмущаться:
— Ну вот, дергаете нас по выходным! Кран у них полетел, что — сам отремонтировать не можешь?
Вовик нашелся:
— А что ты своих детей ко мне в школу отправляешь, сам научить не можешь?!
— Ну ты сравнил! — буркнул сантехник, приступая к своей работе.
***
Старожил поселка Бобровский, почетный гражданин Ханты-Мансийского района Анатолий Евстигнеевич Корчагин рассказывал: сразу после войны (1947 голодный год) начались лесозаготовительные работы в Бобровке (так называли и продолжают называть этот поселок). Об условиях немеханизированного труда нетрудно догадаться, а с рассказов можно написать вариант романа «Как закалялась сталь», тем более что фамилия главного героя располагает. А вообще мужики делятся воспоминаниями охотно, но кратко, приправляя свое немногословие сдержанным полуматом.
О Евстигнеиче можно писать трудовую эпопею в несколько томов, да и портрет кондового сибирского мужика тоже. Здоровенный, кряжистый мужик, и голос у него — труба. И вот таким громовым голосом, в этаком мажоре он поделился (кстати, от него мата не услышишь):
— Знаете, че такое легкий труд?
Наши (современные) варианты ответов его не устроили.
— Ни хрена! Вот однажды на лесоповале не успел я прыгнуть в сторону, ствол на меня пошел, и ногу-то мне шибко придавило! Производственная травма получилась. А с такой травмой у нас положено было переводить на легкий труд на три месяца. Чтобы, стало быть, организм восстановить для новых стахановских темпов. Ну и дали мне этот легкий труд. Сделали меня вестовым. Два раза в день я должен был плавать на веслах по Иртышу от Бобровки до Лугофилинска! Раз утром и раз вечером! (В этом месте его рассказа мы уже хохотали, действительно «легкий труд» — 16 верст туда, 16 верст обратно — против самого сильного на равнинных реках течения, да еще два раза в день). Ну я того легкого труда месяц-то выдержал, а потом уж взмолился — пустите обратно на деляну!
Сравниваю его со Шварценеггером и ярко себе представляю боевик с участием Евстигнеича в молодости. Шварценеггеры наседают на него со всех сторон, а Евстигнеич, поплевав на трудовую ладонь, укладывает их штабелями да цепляет к трелевочнику для дальнейшей транспортировки. И никакого ему тхэквондо не надо. После его ударов и так не встанут. Но Евстигнеич мужик добрый, рассказывать и чуть-чуть похвалиться любит, а в кино сниматься не станет. На кой ему, он и так мужиков веслом гонял.
***
Два мужика спорят: трезвый и пьяный. Трезвый укоряет пьяного за алкоголизм, пьяный возражает:
— Ну и что! Это тебе кажется, что тебя все любят, а когда ты умрешь, без тебя будут жить так же, как при тебе. А уж вспомнят тебя худым или добрым словом — тебе уже будет все равно!
Вот она бытовая, безрелигиозная философия.
Трезвый возразил что-то о правильной жизни, заботе о близких.
Через полчаса надо будет заботиться об этом пьянице. А будет ли кому?..
***
Хоть бы одно русское лицо в правительстве!
***
Если и русское, то продажное.
***
Мазепы!
***
Ельцин на рельсы не лег. На рельсы ложатся голодные шахтеры.
***
Разоряется, близок к банкротству завод, который делает лучшие танки в мире! Еще бы, Ельцину они были нужны только в октябре 93-го, чтобы стрелять по Российской Советской Федеративной Социалистической Республике.
***
Американский «Абрамс» против нашего Т-80 — консервная банка с пукалкой. Сербы рассказывают, что с «Абрамсами» прекрасно справлялись снятые с постаментов памятники Второй мировой — Т-34. Так что сколько ни накладывай компьютерных технологий в консервную банку, какие электронные примочки-наводки ни приделывай к пукалке и каких самых умных баранов в нее ни сади, а Т-80 он и в Африке Т-80. Главное, чтобы за его рычагами не оказался баран!
***
Ведь не хватило ума у иракцев толково стрелять нашими ракетами! С другой стороны, хваленый Ф-117 вообще из русской зенитки завалили. И распотрошили!
***
Я тут не дрябнущими мышцами поигрываю. Просто ностальгия по национальной гордости великороссов.
***
Не всему, что написано, можно верить. Даже не всему, что видишь, следует верить. Верить можно самому верному ощущению — боли. Именно так проверяют себя (причинив себе боль), чтобы узнать — во сне или наяву происходит то, что происходит.
***
Ощущение боли, которое испытывают моя Родина и мой народ, — вот лучшее подтверждение моей правоты!
***
Интеллигенты умствуют: у каждого, мол, свое понятие о Боге и богослужении. Каждый человек имеет право на свое понятие и толкование.
Ничего не скажешь: очень демократично и гуманно. Но кто из них задумывался над тем, что, предоставив человеку свободу выбора, Бог, тем не менее, являет собой только одну истину?! И если к ней идти неправильным путем, то как к ней можно дойти?
В поощрении свободомыслия они не увидели сатанинского происка, исходящего из простого и всем известного: разделяй и властвуй!
***
Кто-то может возразить: а почему не может быть несколько дорог к истине?
Я думаю: несколько дорог могут только уводить от истины, как от города, в котором сходятся сотни караванных путей. Но правильно поступает тот, кто остается в этом городе: то есть пребывает в истине!
***
Лютеры, несторианцы, иконоборцы и прочая и прочая — уже ушли. Ушли во мрак ночи по дороге в никуда. Но изобретательный враг рода человеческого подсказывает «ищущим умам» все новые и новые пути.
***
Ищите и обрящете?
***
Дожди… Дожди… Дожди… Солнце только глянуло краем глаза на наш таежный край и задвинуло свои облачные шторки. Ему приятней смотреть на золотые пляжи у теплых морей.
Дожди… Дожди… Дожди… Жди… Жди… Жди, а лето так и не наступит.
***
Зато у нас есть комары, но нет землетрясений и цунами!
***
Когда я больше любил людей: до того, как первый раз ударили меня, или до того, как первый раз ударил я?
***
В раннем детстве я любил людей просто так, ни за что, причем всех. Конечно, любовь к родителям и сестрам была иного свойства. Но потом взрослые стали учить меня видеть зло, дабы я вышел из пределов детской наивности, непосредственности. Меня стали учить тому, что люди могут быть плохими. И я принял это. И исходя из собственных, сформировавшихся во время миропознания убеждений, я теперь мог делить людей на плохих и хороших. И четко помню, как вначале, невзирая на убеждения окружающих, естество мое противилось этому делению, но потом оно въелось в мое сознание, и мне приходится с ним жить. Наверное, для того, чтобы выжить в этом мире, такое знание необходимо, этакий внутренний барометр (хотя кто его настраивал, если у каждого он свой, со своей шкалой деления!). Но для чего тогда Господь одарил меня с детства этой наивной любовью? Не такой ли любовью принимают весь мир в себя святые?
Неужели только для того, чтобы со временем я понял, что в раннем детстве я был ближе к Богу, нежели сейчас?
***
Есть ли это указание какого-то пути и понимания истинной любви к людям?
***
Но Им же сказано: не мир принес Я, но меч!..
***
И взглянул я на людей через «окно» креста, и стараюсь не придираться к их слабостям, коих у самого пруд пруди. Но я никогда не пощажу слуг антихриста и богоборцев! Хотя нынешнее «гумановедение» так и умоляет всех принять все: даже если оно пахнет адовой серой и шепчет ересь, и оправдывает все, что приносит прибыль…
***
Сказано ли об истине все?
***
Можно ли сказать об истине все?
***
Можно ли человеческими языками выговорить истину, если ее не может объять разум?
***
И как необъятная истина легко помещается в сердце праведника?
***
На все эти вопросы есть простой ответ — вера.
***
Когда она больше сомневающегося разума, то и сердце способно вместить большее.
***
Кто посмел назвать ее слепой? Тот сам не видел света!
***
Вера же наделена разумом, и движима Святым Духом.
***
Я более блуждаю, чем утверждаю.
***
Но я мыслю не меньше, чем верю.
***
Однажды для меня блеснул свет истины, Бог коснулся моего сердца — и это оказалось выше и больше, чем все человеческие суждения, чем бред о свободе выбора тысяч надуманных истин, тешащих человеческое самолюбие и гордость.
***
Осталось же самое трудное: презреть свое духовное несовершенство и идти на этот свет.
***
Быть его корпускулой…
***
4 августа 1998 года на 65-м году жизни умер от сердечного приступа мой отец. Козлов Сергей Павлович. Перед смертью он очень хотел побывать на море. На море был я…
***
Умер в день равноапостольной Марии Магдалины. Похоронен на Бориса и Глеба.
***
До конца жизни я теперь буду жить с чувством, что не выполнил свой сыновний долг.
***
В моей жизни добавилась еще одна боль.
***
Мы так и не успели поговорить о чем-то самом главном.
***
Отец был одним из тех многих, кто талантлив и добр, по его книге обучали студентов лесотехнического техникума, он мог бы приносить немало пользы стране, но в новой системе места ему не нашлось. Тогда он целиком посвятил себя внукам и работе на даче.
***
В этой игре, которую называют трудовая деятельность, он не понял и не умел главного — карьеризма и умения показать свою надобность, не умел льстить никому, кроме женщин, и не умел воровать.
***
В моей памяти он останется добрым и светлым человеком, который научил меня любить книги, как любил сам. Кто из нынешних отцов, включая меня, может похвастаться этим? Кто научил своих детей быть сильнее телевизора? Немногие…
***
Мама вживается в свое горе.
***
Они часто ругались, но все же любили друг друга. Особенно отец маму. Его огромное чувство не ушло с ним в могилу, он оставил его маме, и только сейчас она поняла, какими нелепыми и мелкими были их ссоры и взаимные обвинения, поняла, как и многие русские вдовы, что мужчины все же чаще уходят первыми. Печальная российская статистика конца XX века. Неужели только смерть может научить нас беречь друг друга?
***
Женщина, заеденная бытом или, как это водится ныне, заботой о своем имидже (тьфу, словечко), чаще всего не может быть носительницей всепрощающей любви. Чувство трансформируется в ней в состояние и понятие заботы или в привычку иметь кого-то под боком.
***
Мама жила детьми. А теперь еще больше будет жить ими.
***
Большинство современных молодиц предпочитают жить своими проблемами. В них нет ни веры, ни стержня, а значит — не будет нормальной семьи.
***
Многие говорят: «Хорошо, что его смерть была мгновенной, он не мучался» и т. п. Меня коробит. Потому что только тот, кто уже перешел эту грань, знает, что хорошо и что плохо. Хорошо ли в один миг расстаться с этим светом на дачной остановке с тяжелым рюкзаком за плечами вдали от дома? В последний миг, осознав с испугом, что никого из близких нет рядом? Что помощь, скорее всего, не придет… И машины проезжали мимо…
***
А может, кому-то хочется умереть в постели, когда дети и близкие придут попрощаться и простить все. Умереть, покаявшись!
***
Последние десять лет отец нянчился со своей матерью, которой сейчас 92 года! Из четверых ее детей — только он! Остальные самоустранились и только изредка присылали душещипательные открытки, которые он ей читал. Хоть бы раз приехали и помыли ее в ванной, покормили, постирали ее белье! Теперь все это достанется моей матери, хотя она никогда не называла себя ее дочерью. Так вот, если в этом смысле, то конечно — мгновенная смерть отца была избавлением! С ним никому мучиться не пришлось.
***
Долгая, но бессмысленная жизнь — это тоже Божье наказание. Одному Ему и видно — почему все так!
***
Он умер на руках своего друга — соседа по даче Анатолия Ивановича. На заднем сиденье «Волги», водитель которой смог увидеть чужую беду.
***
Отец был крещен, и мы похоронили его по-христиански.
***
Благодарю Бога за то, что он дал нам силы, время и помощь собраться всем хотя бы к могиле отца. Мы с сестрами и его внуками…
***
О ритуальных услугах во времена рыночной экономики говорить не хочу. Как и везде: кое-где люди, а кое-где — и на чужом горе можно заработать.
***
Отца нет… Мы осознаем и привыкаем к этому «нет». Упокой, Господи, душу раба твоего…
***
Спасибо всем, кто в трудную минуту был рядом с моей мамой.
***
Пока в нас есть чувство сострадания, у нас есть еще возможность выжить.
***
И не премину еще раз проклясть правительство, все эти бездумные Думы и президента, благодаря которым большинству людей не то что жить — умереть не на что! Неру си вы продажные! А теперь попробуйте подать на меня в суд за оскорбление чести и достоинства, которых у вас нет! Или, может, скажете, что это слова ослепленного горем человека? Да их ежедневно не по разу в день повторяют 140 миллионов человек!
Как вы еще живете-то? Хорошо живете…
***
Я живу задвинутым в угол.
***
Но есть преимущество: удобно держать весь мир под прицелом.
***
В Сочи цены почти на все такие же, как на Севере.
***
Денег на отдых не жалко. Но не было отдыха и не стало денег.
***
В нашей стране на каждой версте можно сделать райский уголок. И в каждом будет своя индивидуальная красота.
***
«У нас тихий город, ночью можете гулять спокойно», — вещал мне сочинский таксист, который взял с меня втридорога. Утром первого дня (около семи) я слышал и даже видел перестрелку. Да, в Сочи спокойно… Как и во всей стране…
***
Море, дельфины, двухлетний племянник Илюшка — лучшие впечатления.
***
В Сочи не писалось. С завистью смотрел на роскошные особняки, вокруг которых стояли тенистые ивы. Причина зависти — не чужой достаток: там бы писалось. Элемент уединения.
***
24 августа 1998 года в 5 утра умерла мать отца, моя бабушка. Через 20 дней после него, на 92-м году жизни.
***
Она всю жизнь боялась смерти, и хотя была крещеной, не верила, что за этим порогом что-то есть. «Темнота и черви», — говорила она, потому что слова «небытие» не знала.
***
Умирала она тяжело, кричала, чтобы открыли все окна и двери. И бедная моя мама открыла даже чердак в подъезде и, обессиленная, сказала ей: «Ну вот, Ксения Павловна, путь для твоей души есть». А та между тем кричала, чтобы ее положили на пол(?). И пока мать открывала окна и двери, она сама сползла на пол. И только после слов мамы стала затихать…
***
Жуткая смерть, и есть в ней что-то мистическое…
***
А на маму мою легли хлопоты об еще одних похоронах. Слава Богу, в Тюмени у меня есть друзья, и по первому зову приехал Саша Пивоваров…
***
До этого я делился со своими близкими друзьями в основном радостью и успехами.
***
Думая о Сане, я еще больше утверждаюсь в мысли, что талантливые люди благородны и преданны. Дай Бог, чтобы я, в свою очередь, помогал ему только в радости!
***
Смерть, как и жизнь, — явление повседневное и повсеместное.
***
Это как день и ночь.
***
А на нашем небе опять шторм. Оно пенится грязновато-серыми облаками. Становится ниже.
***
Черномырдин — Кириенко — Черномырдин — рокировка премьер-министрами. Посмотрим, меняется ли сумма от перестановки мест слагаемых. И хотя слово это вряд ли уместно при моем отношении к нынешним властям, Черномырдин мне импонирует больше.
***
Доллар с благословения экспертов МВФ снова попер вверх, а рубль невыплаченными тоннами полетел вниз. Основание для этого: установка МВФ.
***
Мне по фиг: у меня ни того, ни другого нет!
***
— Смерть — страшная штука.
— Не страшная, а печальная…
— Но жизнь-то прекрасна?
— И трудна…
***
Ночью мне приснилось, что все книги, которые могут наполнить дух человечества, чему-то научить его, уже написаны! Проснулся с жуткой пустотой и тоской в душе.
***
А может, правда? И теперь следует писать только вагонное чтиво — сально-детективные романчики. Для детей — комиксы?
Но многие содрогнулись, прочитав рассказ Валентина Распутина «В ту же землю».
***
Говорят, писатели — исписались. А что тогда сказать о читателях?
***
Повышенный спрос на литературу для дальнейшего размягчения ума вовсе не определяет состояние самой литературы. А всего лишь состояние издательского дела и читательского декаданса.
***
1 сентября 1998 года наши учителя вышли на работу, так и не получив заработной платы и отпускных. Линейка была торжественной и даже проникновенной. Но усталость и безнадега в лицах людей…
***
На всероссийском еврейском конгрессе подняли вопрос о принятии закона об антисемитизме. Черномырдин был там от русских. Поратовал за обновленный интернационализм. Там были все, о ком читаем во всех обновленных газетах, все, кого видим на экране, все, кто определяет уровень нынешней культуры и финансовой политики.
***
Закон об антисемитизме? А не вам ли придется отвечать за геноцид русского народа?
***
Когда мы оплакиваем наших близких, мы плачем о себе? Когда мы оплакиваем наших близких, мы плачем о себе…
***
Москва уже давно сошла с ума. Что еще она выдаст на окраины, содрогаясь от собственного маразма и своей жадности?
***
Сентябрь обозлился снегом.
***
Стылая слякоть прибавляет этакой безнадеги.
***
Повсюду усталые люди.
***
Снаружи — холод, но внутри они раскалены до предела.
***
Экономический кризис, инсценированный правительством, переходит в нервный.
***
Они ждут, что мы возьмемся за вилы, устроим еще одну «пугачевщину», тогда у них будет повод «защитить демократию». Ввести свою диктатуру.
***
Кто-то сказал: выпал снег, лучше бы выпали деньги.
***
Природа реагирует на вибрации наших душ. Это не требует доказательства. Доказательства на крышах домов не тают.
***
Придумаешь себе свой мир — и жить легче.
***
И умереть?
***
В 1999 году обещают конец света. В 2000 году обещают конец света. И в 2023 году обещают конец света. Дурачье! Он уже давно идет, просто понятие растяжимое.
***
Читали бы Евангелие, где сказано: «О времени же не знает никто…»
***
Да и вообще время придумано нами, для нас самих, чтобы отмечать веховыми столбиками кратенький путь от рождения до последнего столбика на могильном бугорке. И отрезок этот, как плохая русская дорога, размещается на бесконечной прямой (кривой, спирали?) вечности.
***
— Скажите, пожалуйста, сколько времени?
— Нет часов.
А правильнее будет ответить: времени нет!
***
Если небо наполняется болью, оно плачет.
***
Когда вся боль перейдет с дождем в землю, ее припорошит снегом. Завалит сугробами. И боль остынет, заснет.
***
Наступит белое сонное время ожидания.
***
Ожидания новой боли и радости?
***
Но в первый день земля, покрытая снегом, будет чище неба.
***
Как младенец, не успевший согрешить.
***
Между землей и небом — дождь, снег и молния, между людьми — разговор и молчание, между деревьями — лес.
***
Между мной и мной — небо.
***
Но если не выпадет снег, то и ждать-то, собственно, нечего.
***
А если нечего уже ждать, то скоро конец света…
***
Снег — продолжение света.
***
Снег — это кристаллизовавшийся свет.
***
Это символ очищения.
***
Когда я иду по еще не замерзшей грязи, мне жалко не ботинки, мне жалко умирающий в ней первый снег.
***
Видимо, прежде чем наступит очищение, следуют боль и смерть многих и многих.
***
Снежинка — корпускула чистоты.
***
Какая страна самая снежная в мире? Какая страна самая чистая в мире? В каком небе больше боли? В какой земле больше костей? В каком народе…
***
Дни стали короче, темноты — больше. Зато какие белые дни!
***
В газетах подводят к мысли, что спасти нас могут только Березовские, Гусинские, Ходорковские, Смоленские… (интервью Тополя в «АиФ»). Раньше была норманнская теория, теперь Хазарский каганат.
***
Но хотят они того или нет, выпадет снег и придет желанное очищение, «…очисти мя, непотребнаго раба Твоего от всякия скверны плотския и душевныя…» «…от мглы нечистых привидений диавольских, и всякия скверны…» (Василий Великий).
***
Кто-то идет по ходу солнца. Я иду по следам Розанова и Федосеенкова. Где-то — след в след, где-то — чуть в стороне, где-то плутаю, но в одну с ними сторону (пусть простят мне они рефрены и перепевки).
***
Я и они состоим из почти одинаковых корпускул.
***
Или нет: корпускулы, если и одинаковые, мы все равно получаемся разные.
***
Но каждый из нас по-своему расточает корпускулы.
***
Высшее знание дается только тем, кто стремится к нему не ради каких-то сверхчеловеческих целей.
***
Высшее знание дается только тем, кто идет к нему путем внутреннего совершенства, но не для того, чтобы совершенствовать этот мир.
***
Ибо это не в нашей компетенции.
***
В этом мире нужно совершенствовать только людей.
***
Мы — корпускулы.
***
Кто-то — света, кто-то — погас…
***
Кто-то не может загореться.
***
Высшее знание — это любовь?..
***
Иногда мне кажется, что внутри меня спрятано нечто огромное, закодированное, запертое за семью замками и печатями. И я боюсь подходить к этой двери, дабы не впасть в прелесть.
***
Если от меня останется в этом мире хотя бы корпускула, она будет пусть и мельчайшей частицей милой Родины…
1998 г.
Громкая тишина
Тишина… Она множится, мягко набухает и начинает распирать стены и окна. На стенах потрескивают обои, стекла гудят на уровне инфразвука. Тишина в сердце действует по тому же принципу. Она тревожна и в любой миг может обратиться взрывом, эхо которого неровными толчками ударит в голову.
***
Тишина — главный элемент покоя. Тишина — главный элемент тревоги. Она мгновенно завоевывает пространство, но лопается, подобно воздушному шару или даже мыльному пузырю, от первого соприкосновения со звуком.
***
Наверное, во Вселенной тишины больше, чем света…
***
Мечтами можно отравиться. Мой народ отравлен мечтами. Его целенаправленно отравляли в течение последних 100 лет. Сначала светлым и безбедным будущим, потом для каждой пятилетки придумывали новую мечту, то коммунизмом в 1986-м, то квартирой для каждой семьи в 2000-м, то еще каким-нибудь пряником… И постоянно играли на его обостренном чувстве справедливости. Каждый новый хапуга норовил обвинить во всех смертных грехах предыдущего. Казалось бы, уже объелся народ этих черствых мифических пряников, но нет-нет, да опять выходил толпиться на демонстрации и митинги. Сначала все общее, теперь — все частное, сначала одна партия, теперь — у каждого психбольного своя партия, сначала все в кучу, потом все разделили… А народ так и остался ни с чем. Но сформулируй завтра толково и громко новую мечту, и потечет по вычерченному хитрой рукой руслу народная масса.
***
А надо хотя бы чуть-чуть побыть в тишине. Послушать самих себя. Послушать то, что слушали не искушенные в политике предки, которые предназначенье своей страны видели только в одном: утверждении правды Божией на земле.
***
Потрескивание свечей в храме — это эфир тишины.
***
Всеобщее избирательное право рассчитано на дураков. В буквальном смысле. Общеизвестно, что глупцов, ленивых умом значительно больше, и они легко покупаются на красивые обещания, этикетки и проч. Дальше уже дело техники. А учитывая то, что глупость практически неизлечима, процесс одурачивания можно сделать вечным.
***
Зато избирательное право похоже на красивую сказку о народовластии. Сказку про белых, черных, желтых и красных бычков. Про стадо…
***
Раскинувший руки к небу человек… Кому он подражает: Спасителю или птице?
***
Весной птицы полетят на север, осенью — на юг. Человек с рождения тянется к небу, а уйдет в землю.
***
Полетит только душа.
***
Всю жизнь надо растить ей крылья!
***
Меня не хотят видеть. Меня не хотят слышать. Но почему тогда вокруг нет тишины?!
***
Я никого не хочу видеть. Я устал слышать то, что давно уже знаю. Я давно уже не могу услышать тишину…
***
Включите громче тишину!
***
Все летит с огромной скоростью и со страшной силой, но почему такое впечатление, что целая страна топчется на месте?! Мотор ревет на нейтральной передаче… Но мы не движемся вперед, больше похоже, что мы катимся вниз. Соскальзываем?
***
История — это не цепь объективных закономерностей и субъективных случайностей, это арена борьбы добра и зла. Особенно ярко эта борьба просматривается в истории нашей Родины.
***
И не надо лукаво мудрствовать там, где действует промысел Божий.
***
История отличается от эсхатологии тем, что пытается объяснять кару Божию революционными ситуациями и прочей «научной» выдумкой, а в сущности, так же ярко показывает, куда катится этот мир.
***
Прогресс — слово апокалипсическое.
***
Духовное совершенствование — вот что должно сопровождать любой прогресс в прочей человеческой деятельности.
***
Март 2000. Вышла моя первая книга «Ночь перед вечностью». Радость омрачена невиданным количеством ошибок, допущенных при редактуре. Редактура сделана, невзирая на мое требование сохранить авторскую орфографию и пунктуацию, не говоря уже о стилистике! Кто-то посчитал себя крайне умным и грамотным. Ошибки начались с эпиграфа, где правщик по невежеству заменил слово повапленный (см. словарь Даля — вапа, вапить) на слово поваленный, изменив тем самым смысл стихотворения. Дальше — больше. Местами нет разделительных знаков между прямой речью и авторским текстом. Некоторые ошибки, особенно в повестях, привели к изменению смысла некоторых предложений. Например, у меня: одухотворенная печаль, они правят на «одухотворенную печать». Это ж печать какой организации может быть одухотворенной? У меня ночь майская, они делают из нее минскую… Если перечислять все подобные казусы, то потребуется отдельное издание. Приложение к книге — брошюра. Ошибок я насчитал 87! На 478 страницах. Что скажут обо мне критики? Я даже не знаю, что могу сказать я об издательстве «Уральский рабочий», которое стребовало отдельную сумму за подобную редактуру…
Просто привкус горького разочарования на губах…
***
Я нашел 87 ошибок. Надеюсь, более внимательные читатели ничего не добавят к этой цифре.
***
Мне еще далеко до шедевров, хотя я еще дальше от бульварщины, но ошибки не красят любую книгу.
***
За сухими архивными строчками титанический труд советских, российских учителей. Сельских учителей. Для которых жизнь в школе не начинается и не заканчивается, а постоянно продолжается, как само время. И сама школа для них продолжается за собственными пределами, выходя в мир таежных поселков, потому что понятие «учитель» в этом мире много шире и объемнее, хотя сам мир значительно меньше шумного суетливого городского. Городского, в котором можно скрыться за каменными стенами на больших улицах и в маленьких переулках. Сельский учитель на виду от первого звонка и до последнего.
***
В Крыму тишина. Громкая. Прямо никто не возмущается политикой Кучмы, не возмущаются потому, что не считают его хоть сколько-нибудь серьезным политиком. Не возмущаются потому, что каждый занят проблемой выживания собственной семьи. И смеются над солдатами, которые ходят ротами вдоль крымских автострад с трафаретами и ведрами краски, чтобы увековечивать: «Кучма — наш президент».
***
Кучма — растрёпа (пер. с украинского). Когда же Украина причешется?
Непривычно приезжать в Крым «за границу». Когда я сказал об этом вслух, ко мне повернулся крымчанин, который стоял рядом и с легкой грустью возразил:
— Вы же сами нас отдали! А мы еще референдум проводили…
— Это Ельцин отдал, — попытался оправдаться я.
— Крым все равно русский. Здесь все так думают: и русские, и украинцы, и другие…
***
Крымчане почему-то глубоко уверены в том, что Крым отдадут России за газовые долги. И ждут этого.
***
Крым прекрасен, невзирая на процветающую нищету.
***
В Крыму пахнет не только чудными цветами, в Крыму пахнет историей. Русской историей…
***
В Ялте душно. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере превышает норму в 4 раза. Но об этом предпочитают умалчивать, чтобы не отпугнуть единственную возможность заработать в сезон — отдыхающих.
***
Набережная в Ялте по прежнему носит имя вождя «нерусской» революции — В. И. Ленина.
***
Лучшее впечатление от Ялты — храм Александра Невского на улице Садовой, который в 1902 году посещал государь-император. Построен по проекту Платона Константиновича Теренеева.
***
В Алуште воздух чистый и свежий. Алушта экологически благополучнее Ялты. Дыхание моря сталкивается с дыханием гор.
***
В Воронцовском дворце за время самостийности проведена только реставрация табличек с надписями. К надписям на русском добавились надписи на украинском.
***
Героический Черноморский флот умирает во второй раз. Правда, нынче корабли не топят, чтобы закрыть доступ в бухту врагу, они ржавеют на приколе. Многочисленные туристы фотографируют их. Матросов не видно. Но в стороне стоит гордость флота — ракетный крейсер «Москва» (12 ракет с ядерными боеголовками). Действительно, красавец, который в одиночку заставляет нервничать остальные черноморские страны.
***
Город русской славы пылен и насторожен. Он все еще чего-то ждет… Даже стены…
***
Пришлось столкнуться с львовскими националистами. Прогуливались чуть впереди вечером двое по побережью. Из «западянской» скороговорки удалось понять, что они восхищаются тем, что у русских дураков удалось отхватить Крым. «Може, москалям еще чего не треба? Мы заберем…» «Подавитесь», — не удержался я. Оба пьяные. Дошло до легкой рукопашной. 2:0 в мою пользу. «Мы добьемся, щёбы вас сюда не пускали!» «Приедем на танках», — ухмыльнулся я. Не очень, конечно, культурно и дипломатично с моей стороны. Но очень мне не понравились жители древнего русского города Львова, построенного Даниилом Галицким для своего сына…
***
И русские, и украинцы, если разговорить их, если вызвать на откровенность, все желают второго воссоединения России и Малороссии…
***
Но украинское правительство торопится в НАТО. Маршал Кузьмук лобзается с министром обороны Польши, который очень рад, что Украина отодвинет от польских границ «страшного агрессора» Россию. И никого не смущает перспектива братоубийственной войны… На их территории…
***
Пресвятая Матерь Божия, сохрани мир в своем доме, спаси славянское братство!..
***
У каждого человека есть три самых бессмысленных возможности: не знать прошлого, бездействовать в настоящем и не верить в будущее.
***
Погиб атомный подводный крейсер «Курск». Краса и гордость Северного флота. Остатки экипажа погибали в холоде и полной темноте. В полной тишине…
Разве что — скрежет искореженных переборок да безуспешные попытки глубоководных аппаратов… И смертельный шепот прибывающей в отсеках воды…
***
Зато на поверхности стоял грязно-сенсационный вой средств массовой информации. Искали предателей. Начинать им надо было с себя. Это они предали армию на заре перестройки. А сейчас выли: вот, мол, не приняли вовремя иностранную помощь. Вот, мол, ради сохранения военных тайн… А сколько военных, разведчиков и контрразведчиков гибнет ради военных тайн? И что — по мнению журналюг — зря?
***
Офицеров и матросов «Курска» предали еще до их рождения… Как и всех нас.
***
Вечная слава героям. Прими их, архистратиг Михаил, в светлое свое воинство.
***
Больно было всей России. Она задыхалась вместе с матросами «Курска». Задыхалась от собственного бессилия на руинах былого величия. И великие русские женщины — жены, матери и сестры моряков — просили и молили не о себе — они молили о флоте, жизнь которому отдали их мужья, сыновья и братья…
***
В сердце еще долго будут бурлить холодные воды Баренцева моря.
***
А потом загорелась Останкинская башня. Видать, не выдержала скопления адской серы на своей макушке. Полыхнула новой сенсацией про саму себя. На воре и шапка горит!
***
Завтра, а то уже и сегодня, произойдет следующая трагедия: МЧС бросится в атаку, а народ забудет покаяться, как забывает об этом с самого начала века.
***
Такое чувство, что все мы латаем дыры тонущего ковчега.
***
А у нас в поселке умерли одновременно три наркомана. Жалко? Жалко… Молодые, когда-то сильные ребята. Не оставили после себя ничего… Кроме родительской боли.
А родители по-прежнему считают своей главной задачей уберечь своих чадушек от армии. И тогда невольно задумываешься о сравнении: смерть мужчины, смерть героя и издыхание эгоистического существа, имеющего определенные половые признаки.
***
Нынешние обыватели подвели под собственную трусость целую оправдательную философию. Всё та же: моя хата с краю…
***
Телекомментатор Доренко — мразь с красивым мужским голосом и нагловато-честными глазами. Личная мразь Березовского. Комментировать данное утверждение не имеет смысла, для большинства нормальных людей — это аксиома.
***
Лучше бы вместо таких, как Доренко, Сванидзе и т. п., была тишина.
***
В истории, например, есть понятие вольного обращения с фактами. Т. е. факт берется «исследователем» и поворачивается так, что имеет уже совсем другое значение. Как? А вот пример с бытовой вещью: берем стул, переворачиваем, при этом он остается стулом, но сидеть на нем уже невозможно.
***
Но вот и другой вариант: сочинить стул нельзя, факт — можно.
***
Еще что-то взорвалось, упал с моста автобус, вспышка эпидемии… И все это гремит в разбухшем от чернухи эфире… Эфир пучит от бед, сыплющихся на нашу землю…
Надо хотя бы притормозить, оглядеться по сторонам и хоть ненадолго выключить всё на свете. Всё! Послушать тишину… Послушать себя… Послушать опыт веков… Может, не каждому после этой паузы захочется что-либо включать.
Тюмень — Алушта — Горноправдинск, 2000 г.
Вивисекция пустоты и анатомия боли Первый надрез
Молитва, как и музыка, не терпит фальши.
***
Нет ничего страшнее Божьей кары, но на втором месте после нее идет ПУСТОТА.
***
Пустота может быть стихийная, вселенская и рукотворная. Последнюю создают суетящиеся празднословы. На первый взгляд она даже не кажется пустотой. Она заполнена апокалипсическим движением, безудержным многословием и сизифовым трудом. Такая пустота может бурлить, переливаться яркими притягательными красками, звучать слащавыми гармониями под заводной ритм, но при этом она остается самым опасным видом пустоты, способной поглотить и растворить в себе человечество.
***
Иногда я сам вырабатываю такое количество пустоты, что начинаю опасаться того, что она поглотит меня.
***
Самое страшное: жить в темноте вместе со всеми и не иметь сил убедить их возжелать света.
***
У горьковского Данко было горящее сердце. А я иногда смотрю внутрь себя — могу ли я еще хоть что-нибудь вырвать оттуда, светится ли там?
***
Время разбрасывать камни, время собирать камни за пазуху. А что еще делать, если не осталось камня на камне? Может быть, хотя бы один из них окажется философским.
***
Встречают по-прежнему по одежке, а по уму проводить не могут. Могут проводить без одежки.
***
Уже давно всех вывели на чистую воду, а они не тонут. Как и полагается…
Суета убивает поэзию. Точнее, она не оставляет ей возможности родиться.
***
Даже легкое облачко вдохновения перетирается суетой в бесцветную пустоту. Остается труха, отдающая гнильцой повседневности, которой вместо пепла можно посыпать себе голову, но она не годится даже на удобрения. Добрая мысль не вырастет.
***
Суету следует лечить приступами созерцательной лени.
***
Один знакомый художник сказал, что любовь можно выразить цветом. Но, скорее, она и есть цвет как таковой. Вы никогда не замечали, что ее отсутствие делает мир даже не черно-белым, а серым?
***
Отсутствие любви и есть пустота.
***
Нынешнее юношество влюбляется как-то неуверенно и серенько. Вроде и не влюбленность, а только подталкиваемое естественными инстинктами влечение. Слова, которые они находят для объяснения своих чувств, больше годятся для идиотских комиксов. Прежние поколения смотрели на женщину как на тайну. Нынешние смотрят, как на объект возможного удовлетворения похоти и предмет, которым после определенных затрат можно владеть. Они разводятся так же, как меняют одежду. До этого я не знал, что такое пустая любовь.
***
Хандра — национальное достояние русского народа.
***
Пушкин, к примеру, захандрил, а потом глядишь: «Унылая пора, очей очарованье…» Гончаров «нахандрил» «Обломова». Розанов — короб «Опавших листьев». А еще хандрили Глинка, Рахманинов, Чайковский… И т. д.
***
Нынешняя эпоха все меньше оставляет времени для плодотворной хандры.
***
Количество суеты обратно пропорционально количеству хандры. А также обесцениванию металлического эквивалента культуры: золотой век, серебряный век… М-да-с… Что дальше?
***
Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Народ, который не хочет кормить своих поэтов, перестанет быть народом.
***
На базе нашей школы пытаемся внедрить проект «Русская национальная школа». Готовится документальная и программная база. Предусматривается увеличение часов истории и русской литературы. Максимальное приближение к понятию гимназии. Основа нравственного и мировоззренческого воспитания — православие…
И уже слышны первые залпы в нашу сторону: «А почему русская?», «Обидим тех-то и тех-то», «Национализм!» и т. п. Пока еще не звучит тяжелая артиллерия: шовинизм и фашизм…
Сколько же можно, топчась на наших святынях, выплясывая хануки вокруг Кремля, обогащаясь за счет нашего народа, плевать ему в душу?!
В Москве решается вопрос о выведении за рамки базисного плана средней школы (т. е. обязательных к преподаванию предметов) русской истории и русской литературы. Это я уже слышал, видел. Это хотел сделать Гитлер после покорения Советской России. План «Ост»… Так кто после этого фашист?! Если это произойдет, я, например, уйду в партизаны. И буду вести себя как боец на оккупированной территории.
Да уж, в добрые времена было министерство просвещения (!), а теперь министерство образования… Разница звучания этих слов понятна каждому русскому человеку. Можно сеять разумное, доброе, вечное, а можно образовывать соросовские фонды, вальфдорфские школы, международные валютные фонды и прочую пустоту…
***
Я директор учреждения образования… Нас учредили и образовали… Но до сих пор не дали чего-то главного. Веры.
Мне больше нравится сочетание «директор школы». И мне хочется верить, что нашим ученикам мы даем веру…
***
Еще одна версия: духовное пространство народа сначала стерилизуют, чтобы создать пустоту, духовный вакуум, а потом уже заполняют специально обработанной пустотой — подцвеченной общечеловеческими ценностями, сдобренной эклектичным суррогатом философских течений и религиозных воззрений, пропитанной демократической демагогией и увенчанной политическими нагромождениями многопартийности и плюрализма. Эта хитрая пустота создает обманчивое впечатление заполненности, всеобщего движения, но по сути своей является хаосом, из которого проще всего лепить стадо.
***
Когда речь идет об унификации жизни отдельно взятой страны с точки зрения национальных ценностей и традиций, либеральные политики и их шавки-журналисты брызжут слюной, а вот унификация под доллар, под новый мировой порядок не вызывает у них возражений.
***
Какую только фигню ни придумают наверху, чтобы организовать суету внизу.
***
Все просто: суета внизу не позволяет толком посмотреть наверх, чтобы увидеть там… пустоту!
***
Сердце разрывается от боли, душа от пустоты.
***
Программы Познера — тонко продуманная культивация пустоты. У него постоянно умный взгляд. Постоянно умный вид. Он заранее делает возражающего ему человека неправильным, неверным, противостоящим общечеловеческим ценностям и прочей дуристике демократии.
***
Наполненные пустотой люди чрезмерно самолюбивы, амбициозны, изначально злы. Они со страшной силой сопротивляются проникновению в их внутреннее содержание любым начаткам духовности, откровенно брезгуют ими, зато, жутко чавкая, поглощают «произведения» масс-культуры. Если туда и попадает что-то стоящее, то оно либо затирается, либо подминается под неряшливо торчащее ЭГО, либо ложится на дно до востребования, которого никогда не будет.
***
У этих людей нет отраженного «я». Они отражают все, что хоть как-то может поколебать их собственное мнение о себе.
***
Духовный вакуум порождает не только дураков, но и обученных монстров.
***
Хотя интеллократия миру не грозит.
***
В небе нет пустоты. Если в небе нет облаков, туч, звезд, то обязательно есть глубина.
***
И еще: в небе есть тяга…
***
Однажды вечность кончится… И начнется пустота?
***
Мы придумали время для себя. А что, если мы придумали вечность?..
***
Человечность — это вечность, записанная на Челе.
***
Вечность — лекарство от пустоты и прививка от смерти.
***
Пока тебя помнят здесь, ты будешь Там.
***
От того, как тебя помнят здесь, зависит будешь ты Там или там.
***
Изучая историю нашей Родины, можно испытывать два чувства — чувство гордости и чувство боли. И если человек не способен испытать хотя бы одно из этих чувств, значит, он либо не любит свою Родину, либо не знает ее историю…
***
Новая писательская война. Теперь уже не между либералами-демократами и патриотами-почвенниками, а между нашими и нашими. Мне говорят, что кто-то уже не наш. Говорят, не наша «Литературная Россия». Говорят, не наш секретариат Союза писателей России…
***
В этот раз я стою в стороне. Мне больно… Мне больно, потому что когда наши перебьют наших под злобные аплодисменты действительно не наших — останется пустота.
***
Бляха-муха! Ничему не научила история! Пишут огромные труды по русской истории, по истории ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, знают, кем она оплачена, знают, кто заплатил за убийство Столыпина, царской семьи, русского духа, и продолжают стрелять друг в друга.
***
Я не верховный арбитр. Но пусть лучше я останусь в единоличной пустоте, я заполню ее сам.
***
Я не буду воевать за миску гуманитарной баланды. Я даже работать за нее не буду!..
***
В миске все равно — пустота…
***
И еще — я не стреляю в тех, кто подавал мне руку. По крайней мере — не стреляю в спину. А руки мне протягивали и с той, и с другой стороны.
***
И так уже есть две литературных России, одна помещается в Садовом кольце, другая — на бескрайних просторах нашей Родины. Иногда нам из тайги не видно, чего там за Садовым кольцом в действительности происходит.
***
А писатели ведут себя порой хуже базарных баб!
***
А читателям вообще сиренево!
***
Какая разница, «загрызет» ли кого-нибудь Слава Огрызко или смертельно огрызнется Александр Сегень, «величественно» отмолчится Ганичев? В этой битве победят графоманы. Победит серость. Новая переписка Астафьева с Эйдельманом уже не начнется. Не начнется и новый золотой век русской культуры. Потому что из пустоты не начинается ничего, кроме пустоты. Из пустоты умеет создавать только Господь Бог.
***
И та, и другая сторона пользуются услугами именитых бездарностей. И к тем, и к другим присосались бесталанные пиявки. Они-то в любом случае высосут свою долю и получат главные боевые награды. А главные застрельщики после ничего не решающей битвы останутся ни с чем, кроме вороха грязного белья.
***
Это неправда, что победителей не судят. Мой народ пытаются судить с самого 1945 года. А судьи кто?!
***
Наступает новое тысячелетие.
***
На душе пусто…
***
Наша страна до сих пор еще не наша. Истекает лимит времени, данный Путину историей. Русской историей…
***
Идет празднование 70-летия Ханты-Мансийского автономного округа. Региона-кормильца. Мы живем лучше, чем в других областях и республиках, но люди, живущие здесь, заслужили это. Не знаю, как Урга, но Югра — территория любви.
***
В нашем случае слова «праздник» и «гордость» — синонимы.
***
Кто-то злопыхательствует: вот кончится у вас нефть — тогда посмотрим. Посмотрим, потому что кончится она у НАС!
***
Я не знаю другой такой территории, где губернатор пользовался бы таким доверием и уважением. А секрет его популярности прост: он восходит к старой евангельской заповеди «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». И еще: он любит эту землю… По-настоящему. Нет в нем наигранной политиканской фальши и дешевого популизма. Есть реальные дела.
***
Когда абстрагируешься от того, что происходит в мире и в стране, и замыкаешь обзор границами нашего таежно-болотного мира, начинаешь верить, что пустота отступает.
***
Хотя, конечно, и у нас ее хватает. Как там, у Пушкина, про стоящих у трона?
***
Вскрыть пустоту мало, ее нужно заполнить.
2001 г.
Без страха, но с упреком Дневник нового тысячелетия
Теперь я могу петь только внутри себя.
***
Многие пытаются научить меня чему-то, хотя давно уже знают меньше меня. Я же не знаю ничего…
***
Вся история человечества — это история империй, каким политическим режимом они ни были бы начинены.
***
Мы будем жить либо в собственной империи, либо на задворках чужой.
***
Любители поговорить о «тюрьме народов» просто предпочитают одной тюрьме другую. Например, той, где говорят на славянском языке, они предпочитают ту, в которой говорят на немецком, либо на английском, либо на иврите.
***
Всякий государственный муж, говорящий о демократической державе либо лжет всем, либо самому себе, либо и себе и людям. Величайший миф нового времени демократия — основа науки по оболваниванию большинства населения.
***
Покажите мне хотя бы одно мало-мальски оформившееся государство, которое не стремилось бы стать империей.
***
История человечества — это не только история империй, это еще история зависти тех, кому империю создать не удалось, к тем, кто империю создал. И еще — это история зависти всех империй к империи Российской. Невзирая на все ее слабости, недостатки и глиняные ноги…
***
Самые страшные и жестокие кровопролития происходили не при создании, а при распаде империй. Подсчитывать необязательно, заметно на глаз.
***
Век кино. Век телевидения. По-моему, у нас официально хоронят только актеров и тележурналистов… Помнится, даже вскользь теледемократы не упомянули о смерти великого печальника земли русской митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Только Невзоров.
***
Умер Вадим Валерьянович Кожинов. И стало пусто. Там, в небе, добавилось света, а у нас добавилось пугающей пустоты. Никто, кроме него, ее заполнить не сможет. Даже здесь, в тайге, среди болот я ощутил разрыв еще одной нити между Россией и небом. Кто протянет туда другую?..
***
Миллионы русских людей, граждан России находили в его многомерных трудах самих себя, свою боль, свою гордость и надежду. Если спросить меня, что дал лично мне Кожинов, то ответить я не смогу, потому что не смогу взвесить собственное самосознание и умножить его на национальное самосознание русского народа. Я не смогу прибавить к этому огромный пласт русской культуры и глубокое переосмысление русской истории. Смогу точно сказать только одно: он, как и митрополит Иоанн, один из тех, кто помог мне осознать себя русским человеком. Именно с этого осознания я и начался… Когда уходят такие люди, как Вадим Валерьянович, начинаешь оглядываться по сторонам: а кто еще остался в передовом полку на Куликовом поле?..
***
Упокой, Господи, его душу с миром…
***
Человек — это звучит гордо? Человек — это звучит? Хорошо, если человек все же звучит.
***
То, что делается из любви к людям, все равно найдет к ним дорогу. То, что делается из тщеславия, если и вырвется наружу цветастым фонтаном, все равно по ходу истории окажется на свалке.
***
Чем больше в человеке удовлетворения собой, тем меньше творческого начала.
***
Маленькие японцы сочиняют маленькие стихи.
***
Китайцам не обязательно воевать умением, у них есть возможность воевать числом.
Папуасы хоть в чем-то асы.
***
Коренных жителей Америки чуть не вырубили под корень.
***
Евреи предпочитают Европу.
***
А новым русским хорошо и в Старом и в Новом Свете. Плохо им будет на том.
***
«Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…» То ли проскочили, а паровоз шел по кольцевой, то ли нас пустили под откос. А как же иначе? «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка»… Не свеча в храме, не хоругвь…
***
Интересно, как связаны слова «Каин» и «каяться»?
***
Американцы начали охоту на Милошевича. Если сербы его сдадут, можно считать, что Сербия как суверенное православное славянское государство близка к своему исчезновению.
***
Зато албанцы «благодарят» Европу за заступничество. Жители Вены через одного говорили мне, что еще не видели никого хуже албанцев. Что теперь никто не может остановить поток наркотиков и оружия, албанская же мафия становится круче китайской, русской, а коза ностра по сравнению с ней — вообще мальчики из церковного хора.
***
Милая, прилизанная, ухоженная, холеная Европа собственными руками открыла двери осатанелым монстрам, по сути дикарям. Посмотрим, сможет ли она переварить этот цыганский табор.
***
На моей памяти разговор азербайджанца и албанца в Дубровнике еще в 1989 году, свидетелем которого я оказался. Первый предлагал залить дерьмом Россию, второй отвечал ему, что нужно залить кровью великую Сербию. Они очень радовались такому единодушию. Я дал первому в морду. Были еще славяне из Днепропетровска, но это были мазепы. В одиночку мне пришлось туго… Хотя я не проиграл.
***
С тех пор мало что изменилось. Мы до сих пор воюем с ними в одиночку. И на улице, и в масштабе международном. Вам приходилось видеть, как толпа из солнечных краев одолевает на улице славянина, а остальные славяне, которых на улице много больше, как бы не видят? Я плевал на такой интернационализм, меня тошнит от нашей трусости!
***
Один русский — пахарь, двое русских — разговор, трое русских — собутыльники, много русских — либо бунт, либо очередь, либо шовинизм… Так о нас говорят. Поэтому мировая общественность не рекомендует нам собираться больше трех, если только мы не стоим в очередь.
***
Исторический парадокс: чем больше мы прощаем, тем больше потом проливается крови.
***
Некоторые наживаются до такой степени, что им надоедает жить (примеры из жизни миллионеров-самоубийц). И непонятно: они нажūлись или нажилūсь?
***
Гонка за разнообразием и удовольствиями знакома подавляющему большинству. И что делает человек, когда он выдохся?
***
Загнанных лошадей, помнится, пристреливают. Из сострадания.
***
Постоянное (но навязываемое со стороны) разнообразие даже хуже серой тягучей обыденности.
***
Лучше собственное однообразие, чем пестрый, но чужой идиотизм.
***
Мы все-таки затопили свой «Мир». Весь мир с напряжением, а кто-то и с удовольствием наблюдал, как мы ТОПИМ СВОЙ «МИР». Весь мир опасался только одного: как бы наш «Мир» не повредил, сгорая, разлетаясь на части, их мира. Господи! Спаси и сохрани наш мир!
***
Мы наш, мы новый «Мир» построим?
***
Мы умираем как космическая держава?
***
Совершен акт умиротворения…
***
Мы не от мира сего. Но мы миротворцы.
***
У них есть космический челнок. А у нас знаете кого «челноками» называют?
***
Так что МИРУ МИР!
***
Мою маму на улице встретили телевизионщики с очередными рейтинговыми вопросами: «Как вы считаете, какая партия больше всего заботится о народе?». 63-летняя мама ответила мудро: «Никакая, они все заботятся только о себе».
***
Партии, общественные движения и т. п. — инструменты современной демократии, инструменты главного сатанинского принципа: «разделяй и властвуй».
***
А не сыграть ли нам партию в дурака? И ведь играют! Дураки играют в партии, а партии играют дураками!
***
Телевизоры совершенствуются. Экраны становятся всё более плоскими. Телепрограммы едва поспевают за ними.
***
«Поле чудес» традиционно находилось в стране дураков. Люди «с приветом». «Кто хочет стать миллионером» в стране, где пятая часть населения живет за порогом нищеты. Люди в масках (в прямом и переносном смысле) соревнуются в безнравственности. И чтоб лучше всё это пролазило, побольше мыльных опер. Российским домохозяйкам мало своих бед, они охотнее плачут вслед за чужими богатыми, умиленно сопереживают высосанным из пальца страданиям и радостям. Пустоте.
***
Зато если патриотизм — то обязательно квасной. А почему, к примеру, не водочный? Почему не героиновый? Почему не гомосексуальный? Ведь те, кто пустил в оборот словосочетание «квасной патриотизм», стоят на страже именно перечисленных выше свобод. И по-познеровски учат нас любить Россию. Оказывается, любить Родину надо по специальным правилам и со многими оговорками. Кто этих правил не знает, не соблюдает, оговорок не произносит — квасной патриот.
***
А вы попробуйте так обращаться с любимой женщиной. После поцелуя смачно сплевывайте в сторону и брезгливо оттирайте губы. Назвав ее самой прекрасной, не забудьте перечислить все ее недостатки. А после того, как проведете с ней ночь, не забудьте сообщить всем, кто подвернется под руку, какова она в постели, при этом с ноткой пренебрежения вскользь упомяните, что вам приходится ее иметь.
А уж если вы на ней все же женились, то не забудьте каждый день рассказывать ее детям, что их мама плохая домохозяйка, что во многих вопросах она просто дура, а еще она не умеет выглядеть, как смазливые проститутки с плац Пигаль. Да, но говорите это с умным видом, веско аргументируйте, ссылайтесь на общечеловеческие ценности и международное право!
Попробуйте… И она действительно будет дурой, если навсегда не вышвырнет вас из своей жизни. И навсегда не вычеркнет из памяти.
***
— Я не для того растила своего сына, чтобы его убили на войне!
— А для чего растила своего сына Матерь Божья?..
Четыре заповеди
Не распинайте Бога на кресте, Не продавайте Родину врагам, Не убивайте истину в себе, И не давайте власти дуракам!..***
Поклонюсь троекратно. Смиренно войду в светлый храм. Оробев, постою, потуплюсь, помолюсь у порога. Лишь потом дам подняться усталым и грешным глазам, Чтобы встретится взглядом с глазами единого Бога. И стою пред Христом, и прощенья прошу за грехи, И слагаю и мысли и губы молитвой горячей, Пью из взгляда Его, как из чистой бездонной реки, И светлею душой, и о ней неуемной заплачу. Мне по-детски так хочется, чтобы Он снова пришел, Чтоб спустился на нашу дымящую грешную землю, Чтоб пробив облака, Дух Святой самым ярким лучом Озарил нашу тьму, что сгущается, что нас объемлет. Чтоб прозрели слепые, недвижные снова пошли, И прозрели сердцами, не знавшие света и слова, И застывшую душу тепло бескорыстной любви Оживило. И адские пали оковы… Знаю я, и сейчас Он находится здесь, Как единственный свет и единственный путь для спасенья… Оттого-то мне грудь часто жжет этот маленький крест, Что огромным стоял на Голгофе как знак искупленья.2001 г.
Через призму и стекло
Тех руководителей, которых любят подчиненные, чаще всего не любят их начальники.
***
Руководить людьми легко, труднее руководить собой.
***
Самовлюбленный чиновник всегда самодур.
***
Ни один процесс нельзя проконтролировать с помощью бумаги. Потому что она все стерпит.
***
Правда — это не вера. Правду надо слышать, видеть и трогать.
***
Найти правду на бумаге можно, если умеешь отделять зерна от плевел.
***
Количество отчетов не увеличивает количества правды. Истинная картина наоборот легко тонет в целлюлозе. 70 лет административно-командной системы, отчеты по плановым показателям, ежегодная статистическая ложь ничему нас не научили.
Мы кропотливо созидаем макулатуру.
***
В России полно чиновничьего беспредела. С другой стороны, революции, реформы и прочий апокалипсический идиотизм разучил наш народ хоть сколько-нибудь уважать начальников. А ведь: король умер, да здравствует король!
***
С вечера напиться, провести кухонную политинформацию, проклиная правительство, начиная со времен Рюрика, с утра не выйти на работу из-за похмельного синдрома (а если и выйти, то похмеляться на рабочем месте), снова напиться, снова ругать правительство и начальство, которое грозит увольнением за нарушение трудовой дисциплины… Как это узнаваемо: вбить пару гвоздей, да и то криво, и всю жизнь орать на всю округу, что все здоровье потерял, горбатясь на страну. А страна такая неблагодарная… И почему нам не живется лучше? Почему мы не богатеем? Почему не любим покупать товары, которые сами и выпускаем? Ругать дядю проще…
***
Зачем нужны стены, если о них разбиваются умные головы?
***
Работа не волк, она не кусается, но может запросто сожрать человека.
***
Делу — время, а потешаться тоже надо по делу.
***
Битый небитому везет…
***
Быдлом не рождаются. В основе процесса обыдления лежит распущенность и чрезмерное самолюбие. Итог: самодовольная тупость, помноженная на агрессивность. В убогой гордости дьяволу утеха.
***
Не в службу, не в дружбу, а по блату.
***
Сколько волка ни корми, а он все равно тигром не станет.
***
Сколько вору ни воровать, никогда не навороваться.
***
Глаз — алмаз, да ухо с дыркой…
***
Не мерь на свой аршин, вдруг чужой больше.
***
Как аукнется, как откликнется, так и привыкнется.
***
Баба с возу — и ехать никуда не надо.
***
Дурью хлеба не добудешь, а вот ананасы в шампанском — запросто.
***
Скрутить в бараний рог можно, ну а если начнет бодаться?
***
Чем больше человек любит себя, тем быстрее глупеет.
***
Чем больше у человека амбиций, тем меньше сердце.
***
Очевидное настолько может быть невероятным, насколько и обыденное, вероятное может быть невидимым.
***
Упрямцы не жалеют никого, кроме самих себя.
***
Программа Познера «Времена» от 25.06.01. Участники задаются вопросом: если объявить референдум о введении смертной казни для наркоторговцев?.. Но Познер перехватывает инициативу: знаем мы эти референдумы, сейчас, мол, стоит только провести референдум о выселении кавказцев и прочих из России, и большинство проголосует «за». А это, с точки зрения Познера, неприемлемо.
Тогда возникает резонный вопрос: а зачем тогда вообще глас народа? И что понимать под демократией? Результат простейших рассуждений приведет нас к выводу: демократию делают познеры, и они же себя считают ее главным воплощением. Вот и вся ее и их сучность.
***
Смертная казнь за наркоторговлю так и напрашивается… Но вот здесь как раз и есть одно «но»… Она может стать мощным рычагом по устранению неугодных. Купил несколько грамм зелья, подбросил, навел правоохранительные органы, и киллера нанимать не надо.
И все же нужны именно жесткие, очень жесткие меры.
Сюсюкать уже поздно. Совсем поздно.
***
А вот талибы, как мы их ни клянем, взяли и разом сожгли на своей территории все запасы опиумного мака… А в Иране с этой проблемой вообще не знакомы… Страны-изгои, кажется, так их называет президент Буш?
***
Семеро с ложкой, а с сошкой уже никого не видать.
***
Терпение и труд всё перетрут. Перетерли. И нет теперь ни терпения, ни труда.
***
Спор с масоном, вкрадчиво вежливым, подчеркнуто научным и неприкрыто лукавым.
Он: — Церковь должна пойти на сотрудничество с масонством. Это будет шаг к миру во всем мире…
Я: — Христос уже ответил на все вопросы сатаны в пустыне…
Он: — Ну, знаете ли, даже ваш светоч Пушкин был масоном…
Я: — Один день… И, пожалуй, именно это обстоятельство решило его судьбу на дуэли с педерастом Дантесом…
Он: — Вы экстремист! Такие, как вы, убиваете!
Я: — Только не Пушкиных! И не миллионами, как вы, ради «равенства, братства» и прочих масонских мифов.
Он: — Ну, скажем, император Александр I тоже был масоном… И многие другие, уважаемые вами патриоты и государственные деятели России!
Я (в качестве последнего аргумента, потому что про Христа он так и не понял): — Я тоже вступал в октябрята, пионеры, и, наконец, комсомольцы…
Он (зацепляясь): — Ага! Вот видите!..
Я: — Да, теперь вижу, а тогда был слеп.
Он: — Вам открыла глаза свобода!
Я: — Да, свобода, данная Богом…
Он (с усмешкой): — О чем вы?
Я: — Вам — ни о чем? Сегодня даже бисера мало и потому особенно жалко.
Он (вполголоса вслед): — А у вас могла бы быть неплохая карьера…
Я (себе под нос): — В слове «карьера» сильно звучит слово «яма», а я бы хотел копать в небо…
***
В восточных сказках в бутылках прятались джинны. В русской водке — бесы.
***
Пить в меру? Семь раз отмерь… А если еще столько же раз отрезать?
***
У нас если поскальзываешься, все ждут, когда упадешь. А уж если упал, то большинство бросается на помощь. Протягивают руку помощи, но уже сверху вниз…
***
А можно ведь и под локоток поддержать.
***
Если первый ничего не знает о последних, он уже не первый, а эгоист, а может быть, хуже того, просто сволочь.
***
Испытание властью — одно из самых трудных. Но тот, кто его выдерживает, очень редко получает ее больше, чем в момент испытания.
***
Жить стало легче, жить стало веселее. Это все-таки не про нас. Нам даже если жить невыносимо хреново, мы умеем веселиться.
***
Правда, веселимся чаще всего сами над собой.
***
Последнее время мы не грозимся закидать Европу шапками и валенками. Видать, самим уже не хватает.
***
Президент заявил в программе «Время» о православии как духовном стержне нации, подчеркнув его государственно-образующую роль и природную веротерпимость. Вся страна облегченно вздохнула и прислушалась (имеется в виду ее психически здоровая часть): сказал! Что скажет дальше? Что сделает?!
***
Когда на лице (в душе) человека хотят видеть и видят чаще всего только печати зла и порока, то он, даже не являясь настолько падшим, начинает все более и более проявлять их в реальности. Происходит это на трансцендентном уровне. И тут на память приходят две устоявшие в истории фразы: евангельская о соломинке в глазу брата твоего, и грибоедовская «А судьи кто?». Особенно страшно, когда так смотрят на детей. Вот тогда-то и поселяется в сердце такого человека чувство ущербности, а присутствующая в каждом гордость доводит его до уровня «надмирности», собственной исключительности. Вот откуда: тварь я дрожащая или право имею?
***
Абсолютного (прямого, осязаемого как вещественное до прихода антихриста) воплощения зла, скорее всего, в мире нет, его носителями являются люди. И действия его совершаются людьми! Люди, которым от рождения даны две борющиеся в них силы: светлая и темная. И это не пресловутые единство и борьба противоположностей, ибо единство противоположностей равно абсурду. Это путь. Это выбор. Это рост. Это направление.
***
Лучше бы Гитлер был плохим художником, чем плохим воякой. Хотя о качественном значении второго еще можно поспорить. Лучше бы Сталин был священником… Хотя кто бы так аккуратно изнутри начал вытравливать ленинско-троцкистскую бесовщину?
***
Понять промысел, значит, понять ход и закономерности истории.
***
Я не видел ничего смешнее и неприятнее, чем глупость, породнившаяся с гордостью.
***
Когда в человеке не разбужена жажда познания, искания, Богопознания, в нем появляется смешная самоуверенность и спесивость. И тогда действительно одному Господу известно, зачем он коптит небо.
***
Самое страшное, когда такие люди становятся начальниками. Такая власть — уже наказание Божие для подчиненных.
***
В безоблачной юности я наивно полагал, что когда-нибудь для начальников придумают специальный тест на любовь к людям, склонность к мздоимству, хамству и проч. Теперь я знаю, что тесты придумывают наверху, чтобы скрыть именно расписанную указанными выше красками-критериями истинную картину вещей.
***
Существует байка, что однажды Петр Первый хотел отрубить головы всем мздоимцам в своем государстве. Но ближайший «птенец гнезда Петрова» подсказал ему, что тогда «государь останется без подчиненных». Это так, к слову. О масштабах.
***
Когда последний российский император записал в своем дневнике в дни отречения: «Кругом предательство, трусость, обман», он имел в виду не только свое ближайшее окружение. Сегодня это ясно и понятно. Он понимал под этим всю серую обывательскую массу, которую нынешние либералы называют средним классом. Этот средний класс и есть «порождение ехидны», не способное защищать святое, не желающее, боящееся выбирать между черным и белым, уклончиво отвечающее на любые прямые вопросы, дабы случайно не опростоволоситься, не попасть впросак, а то и ненароком не нарушить новых идейных и государственных установок. Эти всегда находят промежуток между «да» и «нет», черным и белым, голубым и розовым. Они способны защищать только личное мещанское благополучие. Они — сама пустота. Они — серое перебродившее в отстойниках революций, реформ, дум, богемных кулуаров тесто, из которого Богу противно лепить!
***
У России слишком много спасителей. Причем каждый понимает это спасение по-своему. И не всегда понятно: это их настоящие заблуждения, или идиотизм, возведенный в качество научного обоснования, или просто обнажающееся зло. И как блекло и тошнотворно звучат их научные и политические регалии, поддерживающие, как гнилой фундамент, их зловонные заблуждения. И каких только путей они нам не сулят…
А путь один и указан Христом, Андреем Первозванным, Сергием Радонежским, митрополитом Алексием, патриархом Иовом, патриархом Тихоном…
Этот список можно продолжать, но путь — один.
Горноправдинск — Алушта — бесконечные просторы России,
январь — сентябрь 2001 г.
Квиетизм и эллипсисы
Нежный мотылек готов сгореть в пламени свечи, чтобы доказать, что это цветок. Тебе же достаточно взять спички…
***
Сбылась русская сказка, живем теперь в тридесятом царстве, тридевятом государстве. По всем показателям.
***
Каждый, кто хочет быть первым, постоянно разочарован. Когда он становится первым, он разочаровывается по-настоящему.
***
Интересно наблюдать за мужиками, которые намереваются выпить где-либо в общественном месте. Если всё это начинается на трезвую голову, то чаще всего у них крайне серьезное выражение лиц: от покупки до пятой рюмки. Серьезность такая, что возникает впечатление, будто за бутылочкой они решают как минимум глобальные проблемы современности в полной уверенности в том, что именно от них и данного разговора решение этих проблем зависит. Вот уж действительно: без бутылки не разберешься.
И совсем другая картина, когда речь идет о второй или третьей ёмкости. Желание казаться правильными и серьезными полностью отсутствует (вместе с тормозами).
Так от чувства невостребованности и собственной значимости русский мужик легко доходит до лихой непредсказуемости.
***
Если на человека долго давить, в нем срабатывает пружина.
***
Даже если дело прочно стоит на ногах, крылья ему не помешают.
***
Поэмы рождаются в том числе и волевым усилием.
***
Материализм по-другому называется вещизм и потребительство.
***
В Отечестве есть пророки, но вокруг очень много глухих.
***
Как нам обустроить Россию? Как нам перестроить? А, может, как нам ее не сломать?
***
Целью нынешнего курса является построение правового государства. Перспектива такая же, как строительство коммунизма. А главное, те, с кого мы пытаемся взять пример, делают всё, чтобы весь мир (за исключением себя) сделать бесправным.
***
От чтения современных газет возникает единственное чувство — чувство близости Апокалипсиса.
***
Известный диссидент Зиновьев покаялся: целили в коммунизм, попали в Россию. Сегодня он целит в капитализм. И с ним нельзя не согласиться (ЛГ, № 7, 2002), но так же он бьет и по православию, напоминая большевистские лозунги об отделении церкви от государства. Логика исчезает. Возникает ощущение, что ему неважно, с чем бороться. Спорить с состоявшимся диссидентом — давать ему пищу. Подсказать — не услышит. Слишком мал я для него. Но подскажу другим: целите в православие — попадёте в душу народа.
***
Первым диссидентом был сатана.
***
Если у народа нет великого прошлого, откуда взяться великому будущему?
***
Под шумок отсутствия благополучного настоящего у России отнимают ее великое прошлое.
***
Нигде не могу найти компакт-диски с музыкой Валерия Гаврилина.
***
Высшее проявление квиетизма — наблюдать за тем, как растет твой сын.
***
Иногда (возможно, небезосновательно) кажется, что в глазах младенца знаний больше, чем в глазах зрелого человека.
***
Не зря же Иисус говорил ученикам, что царство Божие принадлежит детям.
***
В столичных журналах к провинциальным писателям исконно предвзятое отношение. Они пишут и читают себя. У них свой цех. Хотя у нас один язык. Пока еще русский…
***
Книги В. Суворова (Резуна) и И. Бунича надо сжигать, как чуму!
***
Национализм — это форма защиты, а одной из форм защиты является нападение. Но каждый из нас мог в свое время родиться человеком любой национальности, любой расы. Если смотреть на мир через эту призму, то национализм теряет смысл. Правильно смотреть на мир можно только глазами Бога…
***
И все же интересы большого государства должны совпадать с интересами большого народа в сочетании с уважением интересов народов малых. Иначе большого государства не будет, не будет государства вообще. А если не будет государства — то будут только волчьи интересы.
***
Правильно смотрел на этот мир Христос. С непостижимой для нас любовью и беспредельным прощением.
Ирония — это не всегда ум, но очень часто посредственная вычурность.
***
Для здоровой иронии надо иметь здоровье. Хотя бы психическое.
***
Люди, временно находящиеся у власти, могут решать только временные (читай, сиюминутные) проблемы.
***
А вот те, кто находится за спиной временно стоящих у власти, могут обогащаться на долгие годы и века. Они и заказывают музыку «народным избранникам». Самое смешное в этой ситуации то, что «народные избранники» зачастую искренне верят как в свою власть, так и в ее народность.
***
Нет ныне директивы шире: Мочить врагов страны в сортире!***
Откровенность — это эллипсис, который является источником квиетизма.
***
Что бы мы ни делали — продолжение следует…
Начало 2002 г.
Примечания
1
— Ты говоришь по-английски?
(обратно)2
— Родина приказала мне говорить на языке наиболее вероятного противника. Не знаю, правда, как это у меня получается…
(обратно)3
— Я тоже думал. Само собой получилось. Мне кажется, что я когда-то читал легенду о Робин Гуде в подлиннике. И еще что-то… С солидным пафосом я теперь могу сказать: быть или не быть! Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?
(обратно)4
— Немного нежности… (Вольный перевод).
(обратно)5
(Почти английский).
— Почему ваш отель так называется? Он построен специально для канадцев?
— Точно не знаю, я работаю здесь только три месяца. Но у нас бывают гости со всего мира.
— Возможно, и я остановлюсь в «Квебеке». Моя фамилия Бесогонов.
— Я гляну… Ваше пребывание здесь оплачено. Вас ждет женщина в комнате номер 206. Она живет здесь последние два дня.
— Надеюсь, это именно та женщина.
— Могу я помочь вам с багажом?
— Спасибо, не стоит.
(обратно)6
У вас есть какие-то проблемы?
(обратно)7
— Надо каждому русскому такую контузию сделать (нем.).
(обратно)8
— Как прививку (нем.).
(обратно)


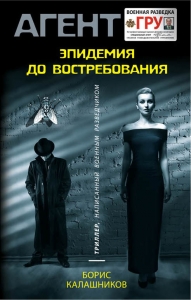

Комментарии к книге «Последний Карфаген», Сергей Сергеевич Козлов
Всего 0 комментариев