Николай Игнатов Голубь мира
Во имя жертв войны,
Всем, кто сражался за Родину, посвящается…
Никифор плюхнулся на койку, довольный и обмякший, и закурил папиросу. Кошачьим хмельным взглядом он провожал выходивших из хаты своих сообщников, стрелков из вспомогательной полиции уезда. Суета закончилась, выстрелы стихли, можно и отдохнуть, можно и подымить. Холодная мартовская ночь безучастно накрывала тишиной и темнотой весь поселок без остатка, всё обширное место преступления.
Керосиновая лампа цинично и даже с некоторой художественной издевкой едва освещала полуобнаженный труп хозяйки хаты, изувеченный и изуродованный. В хате был страшный бардак, Никифор с другими полицаями искали чего ценного, но толком ничего не нашли — все сплошь тряпье да немного дрянной посуды. Потому, наверное, и насиловали полуживую хозяйку с большим остервенением, обозлясь на скудость наживы. Хозяйка была лет сорока, добротная баба. Они сначала ее сильно избивали, выпытывая, где лежат хоть какие-нибудь ценности, а она (вот ведь ведьма!) упрямо твердила, что ничего у нее нет, что живут они сами впроголодь. Потом Федька Лопухов перестарался и саданул бабу прикладом в висок, когда та, услышав на улице визги и крики своих детей, начала сама кричать и вырываться. «Ироды проклятые! Душегубы! Мрази!» — вопила она хрипло, и все в таком духе, а Лешка хрясь её прикладом, она тут же и замолкла, свалившись на пол. Ну тут уж, переглянувшись подумали все разом, сам Бог велел, и молча принялись за любимое и привычное дело. Насиловали все трое, кто были в хате, потом позвали остальных с улицы, которые уже закончили с детьми и стариком, слепым отцом хозяйки. В сознание баба уже так и не пришла, последний из насильников, Лешка Древкин, вонзил ей финку под ребра. Потом и некоторые из остальных, шутки ради, втыкали ножи в мертвое уже тело. Впрочем, всем быстро это наскучило и труп оставили в покое.
Никифор с улыбкой вспоминал, что Федька всегда был такой вспыльчивый, еще когда до войны в деревне жили. Он мог не то что за слово, а даже за взгляд косой в ухо дать. А эта стерва, красная сволочь, мразью ругнула!
«Нет, все-таки дрянная это деревенька, — размышлял в полудреме Никифор. — Мало того, что партизан прячут, так еще и живут как оборванцы последние! Два часа сюда ехали, тряслись по ухабам, а ничего путного ни в одной хате не сыскали. Даже самогонки и той одна бутыль только нашлась. Да и партизаны, волчьё, как чуяли, посбегали в лес как раз перед нами, паскудное племя».
С улицы послышались голоса, кто-то звал Никифора и сообщал, что надо бы уже поджигать дом да выдвигаться назад в уездный центр. Другие голоса, впрочем, возражали. Говорили, мол, нечего уже на ночь глядя никуда ехать, переночевать бы здесь, а уж ранним утром и домой. Под общие одобрительные возгласы последнее предложение было принято. Никифор уже совсем спал и не слышал ни этих голосов с улицы, ни пьяного смеха, когда его сообщники сбрасывали тела обоих детей и старика в колодец. Он спал и видел туманные обрывки сновидений: вот он маленький лезет с отцом на голубятню (у них у одних в деревне была голубятня, еще тогда, в царское время), отец хочет достать ему белого голубя, чтоб он подарил тётке к свадьбе. Поднимаются они, значит, по лесенке, а кругом вихри листву крутят, небо серостью и холодом исходит, вороны жирные гаркают. Поднялись, а там вместо птиц сидят немцы. Натурально, с автоматами на груди, трое ваффенских рядовых и тот самый штурмшарфюрер Шойзаль в черной форме, которого Никифору две недели назад видеть в уезде довелось, из дивизии Райх, что прислали в усиление местным для борьбы с партизанами. «Железные люди, эти эсэсовцы, — подумалось тогда Никифору. — Ишь, какой статный! Такие и вправду легко и гордо смотрят, как с небес в адскую расщелину, на унтерменшей. Таким и точно ведь нет надобности копаться в нутре своем в поисках сострадания к выродкам этого гнусного племени. Да, нам еще далеко, нам еще учиться у них и учиться…»
Немцы сидят, хохочут, и у каждого в руках стакан со шнапсом. Увидели Никифора с отцом, перестали смеяться и штурмшарфюрер Шойзаль, серьезно так, чуть задрав нос, прогнусавил: «Щто, са холупем прищли, братья меньший?». Остальные трое начали было ржать, но эсэсовец остановил их жестом. «Так фот он, фосьми», — сказал он и пнул сапожищем к ногам отца что-то бело-красное, исковерканное, гадкое. Отец бережно поднял изуродованный птичий труп и злобно посмотрел на Никифора. Немцы снова громко засмеялись, на этот раз все вчетвером. Никифор протянул было ручонку к мертвому голубю, но тот внезапно вскочил, встрепенулся, размотав висящие из разорванного брюшка кишки, и быстрым движением клюнул Никифора в плечо, да так больно, что он проснулся.
«Просыпайся, изверг фашистский!» — озверевшим голосом прохрипела Авдотья, втыкая финку во второе плечо Никифора.
Никифор взвизгнул и подскочил было с кровати, одуревшими рыбьими глазами стараясь пронзить темноту, но тут же получил сильный и тяжелый удар в морду чем-то вроде кастета. Он замычал и, сев опять на измятую перину, схватился левой рукой за нос, а правой еле заметно пошарил сбоку на койке. Автомата не было на месте.
«Что, паскуда, шмайссер свой ищешь?!» — сказала зло Авдотья, поправляя кастет на правой руке, — «Теперь он мой. Сиди, тварь, не двигайся, а не то яйца отстрелю».
Никифор затих и не двигался более. Он узнал этот голос и понял, что теперь все для него кончено.
— Что за «шмайссер», Сологуб? Это ты так МП называешь?
Авдотья Сологуб, совсем молоденькая, но уже опытная партизанка из отряда «Смерть фашизму!», сидела в землянке и глядела в пол. Чумазое и обветренное лицо ее было не по годам (ей нет еще восемнадцати) серьёзным, а в глазах читался до ужаса громоздкий и неподъемный для иного восьмидесятилетнего старика жизненный опыт. Точнее опыт выживания и умерщвления. Она очень устала, буквально проваливалась в сон, и сидела сейчас на большой чурке в землянке, не засыпая только благодаря обширной харизме командира, ведущего допрос, и безмерного её к нему уважения. Лейтенант госбезопасности Абаков Егор Иванович, присланный народным комиссариатом двав месяца назад в отряд для замены погибшего командира, повторил вопрос, который, как ему показалось, сонная Авдотья просто не услышала.
— Авдотья, ты спишь что-ли? Я говорю, что за «шмайссер?» Пистолет-пулемет МП-38?
Она подняла голову и кивнула. Абаков закурил папиросу и сел напротив нее на топчан.
— Товарищ Абаков…, — слабо прохрипела она. — Можно я спать пойду. Сутки не спала, сил нет.
— Пойдешь. Скоро пойдешь. Скоро так пойдешь спать, что проснешься не в отряде уже, а…
Авдотья сверкнула на командира ястребиным хищным взглядом.
— Что глазками сверкаешь? — чуть усмехнулся он, видимо уставая уже выглядеть суровым начальником перед этой, в сущности, совсем еще девчонкой.
— Ты что же, Дуня, думаешь, нарушение приказа командира так вот просто с рук сходит? Причем целенаправленное и наглое нарушение.
— Куда ж вы меня теперь, из отряда-то? К немцам что-ли? Дальше фронта не пошлешь, а мы и так уж в тылу у них, так что…
— Что «так что»? — вдруг вскрикнул командир. — Дурёха, ты думаешь, раз мы не в действующей части, так и закон военного времени здесь не работает?
— Ой, товарищ Абаков, делайте что хотите! — устало махнула Авдотья рукой и слезы обиды показались на ее глазах.
— Да как же ты не понимаешь?! А, черт с тобой! Ну скажи, зачем ты убила его? Огрызкин Никифор, он уже в звании поручика у них был, его в начальники шутцманов перевели из полицаев… Он, он столько знал! Он живой был нужен, понимаешь?!
— Черта с два! — закричала, не выдержав Авдотья, вскочила было на ноги, но вдруг зарыдала, закрыв лицо руками.
Абаков повидал всякое за годы службы, а уж тем паче — за время войны. Но видеть рыдающую Авдотью ему почему-то сейчас было совсем невмоготу.
— Ладно, Дунька, брось ты это…рыдать, — он подошел и положил тихонько руку ей на плечо. — Понимаю тебя, я б и сам его, если б он мою мать…как твою. Притащила б его живым, я б все разузнал от него про эсэсовцев, а уж потом тебе на расправу выдал. Знаешь ведь, что нам эсэсовский язык позарез нужен. Ну чего ты, дуреха, а ну прекрати слезы, не позорь отряд.
Авдоться и вправду перестала плакать. Она повернулась к командиру, и он увидел в глазах ее прежнюю колкую злость.
— А я у него и сама все разузнала.
Она рассказала в подробностях весь свой не такой уж длинный разговор с Никифором. Поведала об обстоятельствах его захвата; о том, как ее группе пришлось сначала заманить шутцманов в деревню (что Никифор их возглавит в этом рейде, было также известно); о том, что жители всех трех оставшихся домов в деревне были убиты и стали очередными, хоть и лишними жертвами зверств предателей; о том, наконец, как их группа подобралась, когда стемнело, к дому, где каратели решили заночевать, и как всех их тихонько сняли, а Никифора (в дым пьяного, спящего в хате) оставили Авдотье…
До войны жили они с ним в одном поселке, тут же в Верховском районе. Дунька, как все звали Авдотью, росла спокойной, тихой девчонкой, хорошенькой, впрочем, и неглупой. Она до рассвета поднималась, вместе с матерью шла поить и кормить скотину, приносила воду, помогала приготовить нехитрую трапезу. Потом она шла в контору, где работала машинисткой, благо была грамотная. Вечером снова по хозяйству. Изредка, может раз в неделю, мать отпускала Авдотью на танцы или просто гулять с друзьями-подругами, впрочем, та особо и не рвалась, и не смотря на бурлящую, молодую кровь, глубоко понимала надобность помогать семье и была безропотна. Сводный брат Авдотьи, Василий, жил с отцом в Орле, потому виделась она с ним крайне редко, хотя относилась к нему тепло. Здесь, немного забежав вперед, можно сказать, что после войны брат с сестрой стали близки крайне, потому как других, кроме друг друга, родных у них не осталось.
В общем и целом, Авдотья была простой, скромной, деревенской девкой, потому хищные взгляды многих одурманенных гормонами холостых ловкачей, вроде Никифора или его дружка Федьки Лопухова, она старательно игнорировала, храня целомудрие.
Никифору на ноябрь сорок первого было сорок лет, жил он один в родительском доме, который, сказать к слову, привел в их отсутствие в полное запустение. Числился он слесарем в моторно-тракторной станции. Именно числился, работать толком он там не работал по причине регулярного пьянства и разгильдяйства. По профессии, однако, был он животноводом, но скотину особо не любил и, как сам выражался «брезговал этим дерьмовым ремеслом». Отцовская голубятня, доставшаяся по наследству, в которой предок Никифора души не чаял, обратилась в руины первая в хозяйстве, а птицы передохли или разлетелись.
И отца и мать постигла печальная участь сразу после свертывания НЭПа, мать сослали куда-то (не сообщив никому — куда именно), отца расстреляли за расхищение соц. собственности. Еще до революции отец Никифора, Степан Степанович Огрызкин, имел лавку и мастерскую в поселке, и жили они, конечно, на зависть односельчанам, зажиточно. После революции, не мудрено, все пришло в упадок, но начавшийся вскоре НЭП вселил в Степана Степановича большой оптимизм и он с энтузиазмом восстановил свое дело, и пошло оно чуть не лучше прежнего.
Уже потом, через годы после расстрела отца, Никифору сообщили факты из его дела. Донесли до него, среди прочего, что подворовывал Степан Степанович пшеницу из колхозных амбаров, причем ту, что полагалась к выдаче по налогу, а затем продавал ее в своей же лавке и даже большими партиями по-дешевке; а еще он не стеснялся принимать к реализации краденное имущество и вообще с воровским элементом не только района, но и всей области, якшался как с названными братьями. Никифор, конечно, не верил во все это и называл поклепом на честь семьи, и ненависть к Советской власти его крепла с каждым днём. Он, впрочем, и сам знал о связях отца с жуликами и о многих его темных делах, но твердо был уверен, что расстреляли его не за это, а просто из зависти к его умению обогатиться и хорошо жить даже в условиях, когда вся страна была в разрухе. Они, думал он, нашли только предлог для расправы, ничего, притом не сумев даже доказать. А мать пошла сообщницей, ей дали десять лет, и так она домой больше не вернулась.
Сам Никифор, к слову сказать, успел повоевать в Деникинской армии, участвовал в двух-трех наступлениях, весьма успешных, когда деникинцы всерьез думали захватить Москву. Он даже получил тогда звание фельдфебеля. Но, когда Красные прижали их обескровленный полк к крутым берегам Дона, фельдфебель Огрызкин, недолго думая, резко охладел к идейной составляющей Добровольческой армии и белого движения в целом. Вера в то, что Россию еще можно избавить от этого «жидовского большевизма» умерла в нем в тот холодный ноябрьский вечер, когда он, скинув шинель, и переодевшись в какое-то гражданское тряпье, отобранное им в ближнем хуторе «для нужд Русской армии», ускакал в неизвестном направлении. Позже он вынырнул сначала где-то у Красных, примкнув к беженцам, и достоверно имитируя безнадежного чахоточника, а затем и вовсе оказался в родном селе, весь понурый и вообще искалеченный войной. Чуя звериным чутьем скорый конец сопротивлению большевикам, он, с гримасой несносимой душевной боли и тоски, глаголил всем односельчанам о том, как бился с «белой сволочью» в дивизии Буденного, о том, как был ранен и контужен и как едва смог дотопать до дома.
— Так значит, Дуня, пострелы из дивизии Райх к нам пожаловали… Скверно… — задумчиво, как бы сам себе сказал Абаков, глядя в пустоту и так сильно втягивая в легкие дым папиросы, что казалось, от этого зависело многое в его жизни.
— Егор Иваныч, ну будь ты человеком, отпусти спать, — жалобно просипела Авдотья, наклонив сильно голову.
— Да пойдешь сейчас, — встрепенулся Абаков и потер воспаленные глаза. — Точно не забыла ничего? Все рассказала?
— Да точно, точно.
— Эх, кабы еще знать сколько именно этих гадов прислали. Неужто всю дивизию? Эти суки могут, надоело им с партизанами в тылу вошкаться, когда фронт горит. Ну, раз прислали эсэс, значит, Дунька, дело мы правильно делаем! Значит так свербит у них в заднем месте, что сил нет.
Он хотел было еще сказать что-то, подхваченный волной болезненного воодушевления, возникшего на фоне почти полного отсутствия сна, но осекся, взглянув на Авдотью и заметив, что та спит. Абаков подошел к столу, положил в консервную банку потухший сам собой окурок и повернулся на спящую партизанку. В тусклом мерцании керосиновой лампы ее лицо, пусть чумазое и обветренное, было милым и даже красивым. Абаков на секунду впал в оцепенение, до того далеко завело его затуманенный от усталости ум воображение, разгоревшееся от простого созерцания Дунькиных немытых щек и губ. Придя в себя, он отчетливо сумел распознать из тараканами разбежавшихся мыслей только одну — всеобъемлющая и всепреодолевающая сила волнами исходила от этого юного лица. Было совершенно ясно — этот дух молодости, эту волю к жизни не сломить никому и ничему, ни вермахту, ни предателям, ни эсэсовцам. Сколько бы они ни убили людей, скольких бы ни изувечили, итог будет один — мы победим!
Абаков осторожно взял на руки спящую Авдотью, положил на свой топчан и укрыл рваной своей шинелью. Потом он вышел из землянки, проверил дозорных и вернувшись, лег на пол и сразу же уснул, успев только подумать, что верно наврала ему Дунька про допрос свой Никифора, уж больно мало деталей было в ее рассказе.
* * *
Командир был прав — Авдотья не поведала ему многого из последнего разговора с Огрызкиным. Можно смело сказать, что она ограничилась в скупом монологе своем лишь тем, что было бы интересно услышать товарищу лейтенанту госбезопасности, самое же интересное, соль разговора, так сказать, она, конечно же, утаила. И правильно, зачем очернять себя в глазах командира, у которого ты на хорошем счету. Хотя она и заметила давно, что заглядывается он на нее, потому и позволить себе могла в разговоре то, за что иных могли и сурово наказать.
Дуня не поведала о том, что в своей душевной беседе с Никифором придерживалась больше ностальгических нот. Так, к примеру, она заставила его в подробностях вспоминать некоторые особые для нее факты из их общей биографии. Огрызкин долго мычал сначала, показывая, дескать, что и не помнит толком ничего, но стоило Авдотье один лишь разок выстрелить ему в ногу, с его памятью сделались чудеса. Он вспомнил все, о чем она просила. И как они с Лопуховым и остальной шоблой убили председателя Сельсовета, и всю его семью; и как водрузили потом изувеченные тела председателя и его жены на кресты с табличками, где было написано «Добро пожаловать, освободители!» и выставили эти кресты на дороге еще за полдня до приезда немцев; о том, как они согнали в сарай и сожгли заживо всех партийных и активистов вместе с детьми; о том, как изнасиловали и убили мать Авдотьи, и как изнасиловали ее саму…
Никифор истекал кровью. Он стонал от боли и умолял. Умолял не добить его, избавив от мучений, а помиловать, отпустить. До того сильна была его животная воля к жизни, что даже здесь, в безысходной ситуации, он с мюнхгаузеновским оптимизмом продолжал надеяться на спасение своей жалкой жизни. Авдотья глядела на него с такой злобой, что даже самый фантастический оптимист, увидев ее взгляд, безоговорочно признал бы тщету надежд. Совсем коротко осведомившись о прибывших недавно в уезд эсэсовцах (та, собственно, информация, которую Абаков хотел получить от живого Никифора), она достала из сапога финку и бросила рядом с Никифором на кровать.
— Отрежешь себе причиндалы, отпущу, — сухо объявила она.
Огрызкин на мгновение прекратил стонать, мельком взглянув на огромный нож. Казалось, искра тупой, но светлой надежды мелькнула в его глазах.
Почему-то особо отчетливо в Дуниной памяти на долгие годы запечатлелись отдельные слова Никифора Огрызкина, негодяя и предателя. Она услышала их, в один из тех страшных июньских дней, когда война только началась. Кажется, она тогда возвращалась из Сельсовета, после очередного собрания, на котором слушали официальные заявления и прочие «голоса центра». Никифор с дружками пил, как обычно, рядом со своим дряхлым домом. У них было весело — смех и гармонь громко звучали из-за покосившегося забора. Дуня, проходя мимо, чуть прислушалась — ей было интересно каково это вот так, во время всеобщей тревожности, суровой сплоченности и вообще военного положения, каково это в такое трудное для всех время — пить и веселиться?! И что, никто их не поставит на место?! Неужто и управы на них нет? Она остановилась у забора и прислушалась. Гармонь чуть стихла, и зазвучал громкий (он всегда, когда напивался, говорил крайне громко) голос Никифора, чьи слова, правда частично ускользали от слуха Дуни ввиду шума и расстояния.
«…ничего, братцы, нам бы только потерпеть! Ага, мать их, старую кобылу, ржавой кочергой! Потерпим и придут они, да освободят нас от этого…от этих, этой красной сволочи! Да чего ты ржешь, Федул?! Я вот слышал, у них там…с бабами того, проще намного… Там, ежели сноровка есть, да при деньгах, там такое можно…а бабы же все на деньгу длинную падки…ну и на еще кое-что…». Дальше грянул такой общий хохот, что Авдотья даже смутилась и уже пошла было, но хохотать тут прекратили и она прислушалась снова.
«…когда они придут, ей Богу, братцы, с хлебом-солью встречу! Ей Богу! Слыхали, чего говорят? Мы, говорят, пришли освободить Россию от большевизма! Понял?! О как! Ничего, мы пиво немецкое пить будем, да на Мерседесах ездить, когда эту дрянь красную скинут!».
Дальше Авдотья вспомнить не могла. Выстрелив из револьвера в живот Огрызкину, она вышла из избы, где ее уже заждались товарищи по отряду. Пора было уходить к своим. В общем и целом она была удовлетворена. Она оставила в этой избе не только умирающего в муках врага народа и всего живого, с двумя пулями в теле и без полового органа, который он сам, со страшным криком, себе оттяпал; она оставила там жажду мести, муки воспоминаний, оставила само свое прошлое.
Только одна эта проклятая фраза: «…пиво немецкое пить будем, да на Мерседесах ездить…» преследовала ее всю ее долгую жизнь. И что это за Мерседесы такие и как на них ездят узнала она только после войны.
* * *
— Пиво б сейчас немецкое пили, не то что наше говно, да на меринах бы все катались! А эти козлы столько народу положили, и ради чего?! — Виталий на секунду затих, затем намахнул рюмку и кивнул в сторону окна. — Ради этого что-ли?!
Ненадолго наступило молчание. Большая зала, посреди которой был накрыт большой праздничный стол, посвященный Великому Дню Победы, вместила сегодня представителей целых четырёх поколений.
— Ну, не знаю, — негромко сказал Рома, самый младший из собравшихся, семнадцатилетний первокурсник с истфака, — Я думаю навряд ли мы сейчас вообще за этим столом сидели, если б немцы победили.
— Конечно, — усмехнулся Виталий, гражданский муж Роминой тетки, Светланы, дородный и довольно нахрапистый, вечно небритый, но дорого одетый детина, — Конечно сегодня б не собрались, никакого дня Победы не было б, а был бы… ну какой-нибудь «день Освобождения России». Вот его бы и праздновали.
Виталий с довольным видом продолжил закусывать жаренной курицей, а Рома, нахмурившись, задумался о чем-то. Светлана весь почти вечер сидела в телефоне, просматривая блоги своих «конкурентш» по знанию «бьюти лайф». Ее родители, Анна Васильевна и Андрей Порфирьевич, степенно распологались возле главной виновницы торжества — слепой и совсем старой (и даже, по общему мнению, давно выжившей из ума) бабки Авдотьи. Анна Васильевна была дочерью Василия Юрьевича, брата бабки Авдотьи, того самого, что жил с отцом в Орле. Конечно, все косились на бабку, во время сомнительных реплик Виталия, относительно цены Победы, но особо никто не переживал, что она что-то услышит или поймет услышанное — ни слуха, ни зрения, ни, собственно, памяти почти уже у нее не осталось. Всё сидит, да улыбается, да кивает.
Своих детей у бабки Авдотьи не было, и отношение к Великой Отечественной Войне, хоть и косвенное (ветеран тыла), имела из всех родственников она одна, вот все они и решили собраться сегодня, девятого мая, у нее. Исключение, стоит здесь отметить, составляли только ее оба правнучатых племянника — Рома и Вика, студенты из Москвы, которые уже несколько лет приезжают регулярно к бабе Дуне на День Победы.
Хотя детей она и не имела, о племянниках и о внучатых племянниках в свое время заботилась она много. До войны жили они с братом в разных областях, Авдотья — в Брянской, Василий, вместе с отцом — в Орловской. Василий был на шесть лет младше. Когда отец оставил жену с маленькой Дуней, и уехал в город, девочке было четыре года. Однако, он не забывал их, присылал деньги, подарки, и писал, надо сказать, регулярно. Благодаря этим письмам Авдотья и узнала о брате, и до войны успела даже раза три с ним повидаться, когда мать брала ее с собой в поездки в Орел. После войны же, Авдотья сама нашла отца с братом (их эвакуировали на Урал), переехала к ним в город и стали они жить одной семьей. К тому же, других родственников у неё не оставалось.
Время шло, жили они дружно, Авдотья вышла замуж за фронтовика, героя многих сражений. Василий женился чуть погодя, и уже через год родилась у него дочь, Анна. У Авдотьи же забеременеть так и не получалось, и она с большой радостью тратила все свободное свое время на любимую племянницу, оказывая большую поддержку семье брата.
Время бежало, вскоре, при невыясненных обстоятельствах пропал без вести муж Авдотьи, затем умер от туберкулеза отец. А еще через некоторое время уже Анна повзрослела, вышла замуж и родила сына, Александра. Авдотья пуще прежнего взялась за заботу о малыше, ей так было легче пережить смерть и мужа (что он мертв уже никто не сомневался) и отца, и тоску о том, что не судьба ей родить самой.
Время неслось невероятно, вот и сестра Саши, Светлана, родилась. Авдотье уже шел тогда шестьдесят второй год, но она и тут приняла активнейшее участие в жизни малышки, благо теперь была на пенсии, и времени был вагон. Казалось, время Авдотьи уже на исходе, когда через тринадцать лет после рождения Светы, в семье Александра родилась сначала дочь, Вика, а через два года родился и сын, Рома. Тут Авдотья уж сильно сдала. Зрение резко ухудшилось, слух тоже, а с памятью просто беда приключилась. Но с правнучатыми племянниками она, все же, понянчилась, хотя ей было и тяжело.
Потом время как будто остановилось. По крайней мере так ощущали почти все Авдотьины родственники. Старая, немощная старуха жила одна в огромной сталинской трехкомнатной квартире, оставшейся от отца, была, при этом единственным собственником и не собиралась умирать. Квартирный вопрос не так уж мучил их всех, но на всех давлело невысказанное возмущение — чего это, дескать, ты, бабка, век себе намерила что-ли?! Будь человеком, уйди уже, дай пожить другим. Но бабка Авдотья не уходила.
Неделю назад был у нее приступ, соседи вызывали скорую, врачи которой, впрочем, ограничились выдачей валидола, не обнаружив признаков ни инсульта, ни прочего чего серьезного, и вообще даже подивились крепостью здоровья ветерана тыла, несмотря на ее девяносто три года. Для родственников, однако, это был сигнал. Они приехали, кто на следующий день, кто через два дня (из другого региона), приехали в ожидании скорого и окончательного разрешения вопроса квартиры… А тут как раз и девятое мая, как же не порадовать старушку праздничным ужином в теплой семейной обстановке?!
— Да чё ты мытаришь его, ну не хочет лететь, и пес с ним, — лениво гнусавил Виталий, наблюдая, как Вика в очередной раз отправляет белого голубя в форточку.
Голубь был уже довольно старым и жил у бабки Авдотьи еще с тех времен, когда ее слух и зрение были очень даже в норме. Последние годы птица совсем стала никому не нужна, толком никто и не ухаживал, кормили по случаю, обычно когда Анна Васильевна навещала, а делала она это не чаще двух раз в неделю. В общем, мучилась птица от худой заботы, и сама уже бабка Авдотья (не в конец еще, видать, сбрендила) просила отпустить питомца на волю, хоть и жалко ей было до смерти, ведь прожил он у нее лет пятнадцать и сильно она к нему прикипела. А ведь это был не первый. Да, когда пропал без вести ее муж, завела она своего первого голубя, назвав его в честь пропавшего супруга — Мишка. Прожил Мишка восемнадцать лет, после него появился Жора, протянувший без малого двадцать лет, и вот теперь — Кеша, живой и здоровый, оказался персоной нон-грата в собственном доме.
Рома с Викой уже трижды выпускали его в форточку, но он, облетая сталинку по кругу пару раз, упрямо возвращался. На второй раз решили закрыть форточку, дабы заблокировать вторженцу вход, но бедняга так остервенело начал биться о стекло, что боясь за его жизнь, да и за само стекло, его тут же впустили. После третьего возвращения решено было прекратить на сегодня всякие попытки изгнания голубя, а также было выдвинуто предположение о необходимости выдворения его где-нибудь за городом, чтобы он уж точно не смог вернуться домой. Рома предложил эту идею и сам же пообещал реализовать ее. Вика, в свою очередь, выразила некое сомнение в том, что голубь вообще выживет на воле после стольких лет, прожитых в квартире, и даже уже начали говорить о том, чтобы перевезти его от бабушки к себе. После недолгой дискуссии, брат с сестрой сошлись на том, что решат судьбу птицы завтра.
— И не в облом же вам фигней этой заниматься, — продолжая грызть куриное бедро по третьему заходу, усмехался Виталий.
— Бабушка сама просила отпустить его, — сказала Вика, садясь с краю стола, как можно дальше от Виталия.
— Ха, дык бабка… — Виталий осекся и, взглянув на Авдотью, продолжил. — Бабуля же просто хочет проблему решить, избавиться от квартиранта. Нет у ней возможности содержать его и говно за ним убирать.
Все за столом, кроме бабки Авдотьи, с легкой блаженной улыбкой глядевшей в тарелку, поморщились от неприятной брани Виталия, но никто ничего не сказал.
— Ты, Ромка, — продолжал он меж тем, опять чуть покосившись на старушку, как бы лишний раз убеждаясь, что ни зрение ни слух к ней не вернулись, — Взял бы да открутил ему башку. А ей скажете, что отпустили. А то в натуре вы заморочились по порожняку.
— Фу, мы за столом вообще-то, — не выдержала Вика.
— И вообще, Виталий, это жестоко — убивать птицу просто так ради того, чтоб избавиться от нее.
— Да что ты, родной! — принял вызов Виталий, вытирая руки о низ скатерти, — Жестоко? Ты вот сейчас, когда курицу эту жрал, чё-то не очень о жестокости думал. А ведь её, курицу-то, тоже замочили, причем чисто для того, чтоб ты её потом схавал. Из неё из живой еще кишки на конвеере вытягивали. Ишь гуманист какой нашелся!
— Курицу для того и растили, чтоб убить, — спокойно отвечал Рома, — А голубь не для того столько лет у бабушки прожил, чтоб теперь ему голову откручивать. К тому же она попросила — отпустить, и если убить, а сказать, что отпустили — то вдвойне аморально получится — еще и бабушку обманем.
Слово «бабушку» Рома произнес с легкой дрожью в голосе. Виталий усмехнулся и налил себе водки.
— Так и скажи, что кишка тонка, вот и бубнишь про мораль-шмораль всякую, — сказал Виталий и осушил рюмку.
— А хошь, — продолжил он, занюхав водку колбасой, — я сам ему прям сейчас башку оторву?!
В голосе Виталия прозвучали нотки недоброго озорства и он начал было даже подниматься из-за стола, но торчащее брюхо помешало ему встать с первого раза. Со второго он все же встал, но за столом тут же поднялся гомон: Анна Васильевна и Андрей Порфирьевич в один голос потребовали, чтобы нетрезвый детина оставил неисполненным свой замысел. Виталий засмеялся, втиснулся обратно за стол и продолжил закусывать, долго еще сияя самодовольной миной.
Некоторое время за столом было тихо, младшие — Рома с Викой и старшие — Анна Васильевна и Андрей Порфирьевич по парам чего-то тихонько обсуждали, Светлана сидела в телефоне, Виталий пил и закусывал, бабка Авдотья сидела спокойно, изредка жуя что-то слабыми старыми челюстями, все с тем же блаженным выражением лица. Затем кто-то вспомнил повод, по которому все собрались и подняли тост. После тоста сам собой продолжился разговор о Войне, о ее жертвах, о цене Победы.
— …Да уж, победили, — то ли отвечая кому-то, то ли просто туманно рассуждая, заговорил Андрей Порфирьевич. — Победили. Только кому такая победа нужна? Вот моего отца, к примеру, в сорок втором под Москвой убили, а его отца — в сорок третьем под Тверью. Про смерть отца ничего неизвестно, а про деда сказали, вроде как попали они под авиа налет. Только вот слышал я, что расстрелял деда моего заградотряд, якобы за трусость. Да-да, мол подняли их в атаку, а он толи контуженный был, толи просто не услышал приказа, да так в окопе и остался, когда все побежали. Ну, его энкэвэдэшики и шлёпнули тут же «по законам военного времени», как говорится. Это мне мать ещё рассказала, а ей поведал дедов однополчанин, уже через годы после войны. Под большим секретом рассказал, конечно, потому как официальная версия — убит в бою. Так что такая вот цена была победы-то этой.
— Да чё там базарить! — подключился Виталий, сильно уже хмельной. — Гнали как стадо на пулеметы немецкие, жопами амбразуры закрывать. Заградительные эти, как их… короче, столько своих перемололи, мама не горюй. Вот дед мой… царство старику небесное… сопляком ещё на фронт ушел, но так ничё, живой вернулся. Так он такое потом рассказывал, что… это когда я уже взрослый был. Короче, вот и думай — нахера они вообще бились с немцами, когда надо было заградотряды эти перемочить, да сдаться. Тогда б и жертв таких бы не было. Немчура ж они не варвары какие… Ну скинули бы Сталина, стал бы вместо него Гитлер. Один усатый вместо другого, хер редьки не слаще (тут Виталий чахоточно засмеялся над своим, как ему казалось, ловким каламбуром, и если бы не его заплетающийся язык и вообще пьяный вид, можно было подумать, что он действительно знаток вкусовых отличий первого от второго). Зато, хоть наших криворуких машины бы делать научили. Я ж говорю — катались бы все на меринах да на бэхах и пивас ихний жрали бы… Да и вообще, научили бы нас жить по-людски, нормально, в натуре, а не ныкаться всю жизнь, вон, как бабка, в поисках задницы, куда можно запихать свою огромную пенсию.
Закончив свой сбивчивый монолог, Виталий намахнул еще рюмку и откинулся на спинку дивана. Красное, румяное лицо его выражало полнейшее самодовольство и высшую степень удовлетворения сытостью и магическим действием водки.
— Ну, это вы зря так, — сказал после небольшой паузы Рома. — Люди тогда за родину воевать шли, за мать, за детей. Вон сколько, я читал, добровольцами уходило на фронт, а сами на призывных пунктах себе возраст прибавляли, чтоб только взяли их. Это что же, их тоже только пулеметами в спину можно было воевать заставить?
Рома явно горячился, голос его чуть дрожал. Виталий, криво улыбаясь, с неким даже любопытством глядел на него.
— А что касается заградительных отрядов, — продолжал Рома, — то они создавались в самый критический момент, да и действовали больше в штрафных подразделениях, где «несознательный элемент» по большей части, а для них и Родина-то — пустой звук.
— То есть они, типа, не люди что-ли? — зевая спросил Виталий.
— Люди. Только склонные к предательству.
Виталий тут замотал головой и дотянулся до дальней бутылки на столе.
— Вот как у тебя просто всё, братуха. Да ты в курсе вообще, это чисто так хронику всю развернули, нужным местом, чтоб оприходовать сподручнее было. А так, ну ты сам-то в истории шаришь вроде, прикинь — кто там были: эти, Власовцы, нацисты хохляцкие, прибалтийские. Да они чисто хотели от большевизма избавиться, потому у них с немчурой одна цель была. Вникаешь, чего я базарю?
Рома, весь красный от досады и негодования, молчал, и едва заметил, как его локтем пихала сестра, чтобы он прекратил эту бессмысленную дискуссию с пьяным детиной.
Виталий налил еще рюмку и оглядел сидящих за столом.
— А вы чего не пьёте? Чё я как алкаш, в одну будку бухаю?
Он протянул рюмку в сторону Андрея Порфирьевича и Анны Васильевны.
— Ну, давай выпьем, — сказал Андрей Порфирьевич, который вообще пил мало по причине больного желудка.
Выпили. Андрей Порфирьевич, не большой вообще любитель говорить, все-таки счел необходимым продолжить участие в развитии дискуссии.
— Конечно, многие на советскую власть обижены были. Западную Украину, Молдавию, кого там еще, часть Прибалтики, присоединили ведь перед самой войной насильно. Там у них еще этот был, как бишь его?! Пакт! Вот по этому пакту они и заявили: мол, граждане хорошие, пожили свободно и хватит, теперь у вас общий вождь будет.
— Во-во! Вождь. Сколько эта падла усатая людей перемочила почем зря. А они еще Гитлера злодеем называют. А он, если что, своих не мочил. Ну евреев морщил, ну так и пес с ними. А эти, которых ты, Ромка, в предатели записал, они ведь тоже за Родину бились, только не за эту (Виталий обвел взглядом комнату) красно-жидовскую, а каждый за свою. Многие там, слышь, просто тупо мстили. За мать, там, за отца, которых раскулачили, там, или просто террором своим красным по беспределу заморщили. Так что ты не гони, причины были у всех конкретные. А так, дело прошлое, навешать на всех бирки легко — эти чисто предатели, потому что не хотели жить как быдло под красными, эти — потому что дезертиры, отказались, видите ли, суки, бежать с голой жопой и лопатой наперевес на пулеметы. Да так ведь и было: не встал раком вдоль линии фронта по приказу — все, чисто ссучился, Сталина считай нахер послал, а за такое гасить на месте! А так, чтоб вникнуть в тему, разобраться что кем двигало, так нет! Предатели и все тут.
— Ты серьезно думаешь, что можно оправдать некими причинами предательство? — спросила вдруг Вика.
Виталий чуть исподлобья взглянул на нее.
— Смотри, родная, у бати вашего с Ромкой автосервис есть, так? Ага, ну вот теперь прикинь, что приходят к нему опричники эти из органов и отжимают боксы. Ну, типа, харэ, буржуй, ананасы рябчиками заедать. Типа рейдерский захват и все такое, только по казенному раскладу, вникаешь? Ага. Ну и чё, батя ваш и вон, Ромка, будут после этого за мудил этих воевать, случись что? Вот то-то и оно. И тех раскулаченных и репрессированных понять можно. Да, тех самых, которых ловко в предатели зачислили, для которых новая власть, немцы в смысле, были не захватчики, а конкретные освободители от поганых уродов и быдлятины, дорвавшихся до власти.
— Я бы воевал не за мудил, — мрачно заявил Рома, — а за Родину. За родителей, за сестру, за бабушку…
— Ты, братуха, зеленый еще совсем, — снисходительно сказал Виталий. — Потому я тебе на этом базаре скачуху делаю. Это раньше была какая-то Родина, а ща эта тема устарела. Ща бабосы тебе Родину где хошь организуют. Вон, в курсе, у половины этих козлов из власти родственники за границей живут, в Лондонах да Нью-Йорках разных. Ты думаешь им есть дело до твоей Родины?! Да для них это все чисто поляна, с которой они бабурики стригут, чтоб потом по оффшорам ныкать.
— За них бы я не воевал, я бы за мать с отцом…
— Вот, Ромка, были бы у тебя свои киндеры, ты б по-другому мыслил. — Вступила вдруг в диалог Светлана, у которой подсела батарея на телефоне и она вынуждена была последние минуты воспринимать окружающую действительность. — Был бы у тебя выбор: сдаться, но замутить нормальную жизнь для детей, или там за Родину какую-то погибнуть, вот посмотрела б я на тебя тогда.
— Можно подумать, если я сдамся, враг пощадит моих детей.
— Сейчас в жизни надо иметь понимание, — продолжала Светлана (у которой, кстати, не было детей) свою витиеватую мысль, не заметив Роминой реплики. — Нужно уметь подстроиться под течение. Как это, мнн-н, поток-то бурный, и желающих оттяпать свой кусок от пирога все растет, надо быть шустрее остальных. Детям же все равно, при какой власти они живут, кто их родители — предатели или нет, главное их одеть, обуть, накормить, да обучение оплатить.
— Ты говоришь так, как будто у вас дети есть, — ехидно заметила Вика.
— Ну, знаешь… Мы с Виталькой еще не старые, успеем. Надо сначала на ноги твердо встать, чтоб ребеночек ни в чем нужды не имел. А то, знаешь, как многие — понарожают, а сами бичьё-бичьём, ни хаты, ни денег. Сами мучаются и нищебродов таких же растят.
Светлана закончила реплику с видом мудрого учителя поучающего неразумных учеников. Рома, глядя на нее поморщился, вспоминая ее предыдущее мнение о детях, (она их называла «личинками») высказываемое ей неоднократно и вживую и в своем идиотском блоге о «бьюти лайф». Она всегда твердила, что жить надо одним днем, наслаждаться моментом, а дети, то бишь «личинки» — серьезное для этого наслаждения препятствие. Сегодня она высказала иное мнение, видимо в погоне за трендом беседы.
— Света, а разве в деньгах суть? — нахмурившись, спросила Вика, которую Светлана раздражала не меньше, чем Рому. — Разве не в воспитании главное? Ведь среди богатых встречается столько моральных уродов, мажоров разных.
Светлана с Виталием одновременно поглядели сначала на Вику, затем друг на друга и захохотали. Далее диалог был скомканным, слишком натянутым и скучным, чтобы воспроизводить его. Стоит лишь отметить, что разговоров ни о войне, ни о предателях более не было, а только вполголоса все, кроме студентов, обсуждали квартиру, и как ее разделить и сколько она вообще может стоить. Тут экспертом выступил Виталий, заявивший, что у него есть «нормальные пацаны», которые смогут продать быстро и дорого. Присутствие за столом еще живой хозяйки квартиры уже почти совсем никого не смущало.
Обсудив возможные сделки с недвижимостью, допив всю водку, и доев почти всю еду, гости вскоре начали собираться. Анна Васильевна обещала бабке Авдотье зайти через день-два, осведомиться о здоровье.
Конечно, приступ был, теперь надо только осведомляться да ждать, когда жилплощадь освободиться — это читалось на лицах остальных, собравшихся уходить гостей.
Наконец, ушли.
Стало тихо. Рома и Вика молча убирали со стола, уносили на кухню грязную посуду и прочую утварь. Лица у студентов были мрачные, особенно у Вики. Общение с «родственничками», как называл их Рома, никогда не доставляло особого удовольствия ни ему, ни сестре, а уж сегодня после этого общения хотелось просто вылить на себя ведро спирта для дезинфекции.
— Фу, таким мудаком этот Виталя стал, — вдруг брезгливо сказала Вика брату, когда они были на кухне.
— Да он им и был всегда.
— Нет, Ром, ну все понятно, конечно, что он такой весь из себя крутой и циничный, но при бабушке такое говорить…еще и в такой праздник… Не знаю, по-моему он сегодня перешел на уровень сверх-мудака.
Рома ухмыльнулся краем рта, но брезгливое напряжение все также оставалось на его лице.
— А самое мерзкое ведь даже не то, что они так спокойно и как-то, знаешь, воодушевленно оправдывали предателей…
— Они их не оправдывали, Рома. Они, суки, восхищались ими. Фу, вот ведь родственничков Бог послал! Извини, перебила.
— Я говорю, самое мерзкое сегодня даже не это было, а то, как они все, и даже ведь Анна Васильевна с Андреем Порфирьевичем, обсуждали как будут делить бабушкину квартиру. Хорошо, что хоть она ничего не слышит, да и что услышит — понимает через раз.
— Это все Виталя этот, козел. Все, Рома, больше, хоть убей, не хочу встречаться с ними! Фу, мерзость какая!
— Да уж. Ладно, там на столе ничего, вроде, не осталось. Ты посуду домывай, а я пойду бабуле помогу, да приберусь в комнате.
Сказав это, Рома вышел из кухни и направился в комнату, где за столом по-прежнему оставалась бабка Авдотья, совсем, наверное, и не заметившая, что все гости уж разошлись.
Квартира и впрямь была большая, тут пока от кухни по коридору до комнат дойдешь — устанешь. Рома находил вовсе неудивительным тот факт, что эти коршуны разновозрастные так дружно вдруг собрались отмечать праздник Победы у старой Авдотьи как раз после недавнего ее приступа. «Они ведь навряд ли знают, — злорадствовал про себя Рома, — что у бабушки приступ-то и не приступ был, а так. И что врачи ей еще лет десять напророчили. Только вот памяти да зрения нет, и слух уж совсем не тот…»
Ромины размышления прервались внезапным испугом, когда он только зашел в комнату. Бабки Авдотьи за столом не было. Рома так и встал с раскрытым ртом, до того неестественна была ситуация. Впрочем, он тут же пришел в себя, вспомнив, что, хоть бабуля и слеповата, но как-то ведь проживает одна в своей квартире, как-то умудряется ухаживать за собой. Рома прошел во вторую комнату, там — никого, в третью — и там, как вначале ему показалось, никого не было, но вдруг… Первые секунды его мозг просто отказывался трактовать увиденное как факт, поэтому Рома просто стоял и выпучивал глаза, не в силах ни сказать что-либо, ни сделать.
— Ты, Ромочка, не переживай, шиш без масла они получат, а не хату мою, — сказал чей-то голос, до нельзя бабушкин, но такой уверенный и бодрый, что не верилось.
Бабка Авдотья сидела лицом к огромному зеркалу, что висело на старом шкафу, и сурово разглядывала отражение, как бы ища изъяны в кителе. Да, на ней был коричневый, с синей окантовкой, китель лейтенанта госбезопасности СМЕРШ. Рома сразу конечно не разглядел, но позже увидел на кителе и медаль «За отвагу» и значки, вроде «Наше дело правое!», и медали за боевые заслуги, и, конечно же, орден Отечественной Войны.
— Баба Дуня… — только и сорвалось с застывших Роминых губ.
— Ну, чего застыл как памятник, сестру-то зови, — повернулась к правнуку бабка Авдотья, и в ее ясных глазах он уже не замечал прежней старческой замутненности, — Есть у меня что вам рассказать.
Стоит ли говорить о том чрезмерном изумлении, что произвело на брата с сестрой невероятная метаморфоза, приключившаяся с их любимой, дряхлой и немощной бабулей. Когда шок от неожиданных впечатлений прошел и ребята начали соображать более-менее трезво, их вниманию предстало пусть и простое, но, вместе с тем, с трудом причисляемое к истине, бабкино повествование.
Оказалось, что она вовсе не была тружеником тыла, работницей завода, что всю войну делал снаряды разных калибров, помогая тем самым сковать для армии «меч возмездия», который посрубал-таки все головы фашистской гидре. Также выяснилось (что было наиболее невероятным), что бабуля вовсе не страдает ни слепотой, ни слабостью слуха, да и с головой у нее все в порядке, хотя, конечно, чего говорить, годы свое взяли, и видит и слышит она уж далеко не так, как раньше, да и память порой подводит. А все ее притворство было вызвано тем, что, как она сама выразилась «…Нет сил смотреть на все это гадство, что кругом творится. Уж пусть я лучше для всех слепая да глухая буду, с меня спросу меньше, а на других — сраму…»
Квартиру же свою она давно завещала фонду одной из ветеранских организаций, и отец Ромы и Вики, Александр Андреевич, единственный, кто об этом знал, потому как доверяла бабка из всех взрослых тогда ему одному. Надо сказать, что для этого доверия у нее были причины. Уж очень внучатый племянник походил на своего деда Василия, брата Авдотьи, а он для нее был дороже и ближе всех. И походил-то ведь не только внешне, но и по характеру схож был, и по тому, как видел мир. В общем, для бабки Авдотьи сомнений в Саше Климове быть не могло. Рома с Викой даже переглянулись, чуть улыбаясь, когда услышали про завещание. Им приятно было бы посмотреть на грустные морды родственничков, когда те узнают, что квартирка им не светит.
Впрочем, прошла тут же и грустная нота — бабка сообщила брату с сестрой, что приступ, что случился с ней на днях, был нешуточным и что жить теперь ей точно недолго осталось, это уж она хорошо чует, а что врачи набрехали, так то всё только чтоб не расстраивать.
Но, вернемся к повествованию старухи Авдотьи, которое представлено ниже с ее слов, в том виде, в каком и было ею самой изложено. О многих, следует заметить, фактах из своей биографии, могущих иметь отношение к данному повествованию, она все же умолчала, хотя, возможно, дело здесь было просто в изъянах старческой памяти.
* * *
«…Осень холодная выдалась тогда, дождливая. Немец уж на подходе к нашей деревне был, когда через нас прошли остатки какой-то дивизии. Сначала говорили, что здесь рядом и останутся, оборону организуют, встретят фашистов тумаком по башке. Мы все уж было обрадовались, наконец-то, думаем, драпать перестанут, да вдарят им как следует, а то, что ж это за дело, когда столь земли отродью этому поганому оставили. Но через день-другой, смотрим — засуетились чего-то служивые с утра еще, засобирались, а уж к обеду и ушли все. Что ж вы, родные, делаете, — плакали бабы, — почто нас на поругание иродам этим оставляете? Но командиры только хмуро глядели, да отвечали чего-то непонятное, что, дескать, приказ у них — отступить дальше на северо-восток для соединения там с кем-то и уж тогда-то они вдарят! А сейчас, мол, слабые у них силы. Да уж, вправду сказать, и смотреть-то жалко на них было: солдатики сплошь раненные, да в рваных шинелях, да измученные какие-то. В общем, подзабрали у нас всех почти лошадей, хлебом, картохой да водой запаслись и только мы их видели. А один командир все говорил, чтоб и мы все тоже уходили, да хаты подпалили свои, что через день-два тут уже немец будет. Многие, конечно, с ними и ушли, только домишки палить не стали, пожалели кровное. Ну, а мы остались. Мамка, помню, сказала, что, авось пронесет, да и не станет, поди, фашист в нашу деревеньку заглядывать, что ему сёл побогаче кругом мало?! После решили все же, что сегодня-завтра скарб соберем, да все и уйдем. А куда идти — никто и не знал, да и дело понятное, никто особо драпать и не хотел — хозяйство жалели, с большим трудом нажитое, да обхоженное.
Только красноармейцы ушли, прошел слух, что немец уж совсем тут, что, уж в совхозе соседнем „Краснознаменском“, а это от нас километров двадцать, стало быть, жди его как бы ни до вечера сегодня. Тут же поползла вся наша местная сволота в кучу. Собрались возле хаты одного, самого отъявленного, Никифором его звали. Ох, и смрадной народец то был. Они еще до войны все бухтели на Советскую власть, втихаря, конечно. И все им не так, и все не эдак было. У одного отца раскулачили, у другого артель отняли, у третьего, как у черта лысого ничего не было отродясь, и он просто роптал, потому как роптать легше, чем работать. Все, как один — трусливые щенки, только лакать самогонку, да девок щупать и могли. А уж как напьются — никакая милиция не справится. Посадит участковый в кутузку за драку или еще за что, дня три их морды не видать в деревне, у всех аж на душе радостно, потом глядь — опять гуляют, а через день — сызнова в стельку! Этот Никифор сам уже в годах был, не то что остальная шпана, вот он у них навроде вожака и был, а в хате его они и собирались постоянно пить, да песни орать. Сам он толи трактористом был, не помню уже, толи слесарем по тракторам, чинил бишь их, черт его, проклятого, знает. Только помню, что на собраниях он появлялся в сельсовете, уж не знаю как его туда заносило, наверное приволакивали силой, и там, на собраниях, председатель наш, Максим Демьяныч, частенько ему товарищеские суды и выволочки разные устраивал. Дебошир, мол, тунеядец, пьяница и все в таком духе. А этот-то только морду кривил, да зубами скрипел.
На фронт никто почти из этих не пошел. У Никифора любовница была врачихой в райцентре, так она многим справок нашлепала, что негодны, а иные и сами попрятались от призыва. Путные-то все, кто в деревне был, сами на второй уж день на фронт записались. Вот их всех и забрали, а на деревне одни бабы, старики, дети остались, председатель — калека хромой, да этот сброд.
Ага, собрались, значит все они у Никифора во дворе, как красноармейцы ушли. Не помню, сколько их, подлецов, было, ну наверное, штук восемь, точно. Откуда-то у некоторых появились ружья, видать спёрли, у остальных — топоры да вилы, и пошли они всей ватагой расправы чинить, готовиться к встрече новых властей. Первым делом ворвались они в дом к Демьянычу, председателю. Ой, что натворили, гады! Точно уж не скажу, как и что, только детей их малых обоих в канаве потом нашли, зарезанными, а старшую, Клавкой вроде звали ее, голую и изуверски убитую видели утром на другой день прямо рядом с дорогой. Самого Демьяныча-то и жену его изверги сильно изуродовали перед тем, как убить. Потом сделали они кресты из брёвен и на крестах этих их трупы и привязали, да с приветственными табличками на груди, вроде так. Кресты эти на въезде поставили, чтоб когда немец заезжал в деревню, видал уже, что власть новая и фашистам в ножки кланяется».
Тут Авдотья остановилась и долго молча глядела перед собой, шевеля едва заметно губами. Глаза ее (даром что старуха) на несколько секунд зажглись было огнём, но вскоре погасли. Рома с Викой, завороженные, сидели как под гипнозом и не в силах были ни сказать что-либо, ни даже громко дышать. Бабка вдруг попросила принести ей воды. Рома, очнувшись, пулей смотался на кухню и принес стакан. Отпив немного, Авдотья вновь заговорила тем же спокойным, но твердым голосом.
Она рассказала о прочих злодеяниях новоиспеченной власти во главе с Никифором. О том, как после дома председателя они прошлись и по прочим домам, выбирая больше зажиточные и те, где жили партийные или активисты. О том, как насиловали и убивали всех без разбору женщин и девок, как грабили и поджигали дома. О том, как насытившись и допившись уже до чертиков, все пошли на то место, где поставили кресты, ждать немцев. Немцы прибыли поздно вечером, шумной колонной мотоциклов, грузовиков и танков. Посмеялись, глядя на кресты, похлопали трезвевших уже извергов по плечу, говоря «Zehr gut!» и велели тем показывать в какие хаты квартировать солдат.
Бургомистра выбрали на следующий же день. Немцы потребовали, объяснив, что таков порядок. Как ни просили все члены шайки стать бургомистром Никифора, тот отказался наотрез, сказав, что ни черта не смыслит в этом, но по-правде говоря, ему было просто лень. Новая власть пришла, новая жизнь грядет. Теперь у него оружие, теперь он всем отомстит, а тут штаны протирать новым председателем! Дудки! В общем, выбрали главой нового уезда (так назвали теперь весь находящийся под контролем фашистов район) Анатолия Маслобойника, бывшего инженера с льняной фабрики. Человек полностью отвечал всем требованиям — в партии никогда не состоял, до революции работал на местного помещика, собрания не посещал, и вообще ни в чем таком замечен не был. К тому же, во времена НЭПа, держал свою маленькую льняную артельку, которую, естественно, после экспроприировали большевики. В целом человек он был справедливый и имел склонность и умение руководить. На фронт его не призвали по причине инвалидности — вместо левой руки была у него культяпь. Возражать Маслобойник не стал. На следующий же день переехал в большой дом бывшего председателя (чудом не сожженный) и начал понемногу налаживать дела.
Немцы организовали отряды сначала полицаев, а затем и стрелков, шутцманов, назначив, по ходатайству бургомистра, Никифора над этими отрядами старшим. Они объяснили, что основные задачи полицаев и шутцманов — охрана заведенного порядка в уезде (второстепенная) и беспощадная борьба с партизанами (основная). Партизаны тогда уже заполняли леса Брянщины и Орловщины, их численность росла, и ненависть к врагу множилась с каждым днем, потому, оставаясь для наступающих немецких войск в тылу, представляли они собой серьезную угрозу. Угрозу как для снабжения войск и целостности коммуникаций, так и для морального духа.
Никифор принял новую должность с энтузиазмом. Немцы, правда, запретили пить в рабочее время, но сказали, что сами скоро уйдут дальше на восток, продолжать освобождение России, а в уезде оставят комендатуру и небольшой гарнизон. Так и произошло — через три дня колонна двинулась дальше, у Никифора и его новоиспеченных стрелков руки подразвязались. Первым делом они вспомнили, про нетронутые еще дома.
Авдотью Никифор давно запреметил, задолго до войны. Молоденькая, белая, румяная. Особенно возбуждало его то, как она шарахается от него, когда встретит пьяного на улице. «Вот ведь кобылка какая! Ух бы я её за гриву да под хвост!» — прыгали звенящие мысли в его голове, когда он провожал взглядом ее широкие бедра.
Когда в полночь они втроем ворвались в дом, то были уже пьяны в дым и с трудом стояли на ногах. Мать Авдотьи насиловали в сарае двое, а третий, Никифор занялся ею самой. Огромный, чуть не центнер весом, долговязый, елозил он по трепыхающемуся телу, то и дело прерывая крики Авдотьи ударами по лицу. Елозил, впрочем, недолго. Пьяный угар и чрезмерное возбуждение от молодого и давно желанного тела отключили Никифора. Он захрапел прямо на несчастной, одуревшей от боли и ужаса Авдотье. С большим усилием смогла она вылезти из-под насильника. Ее трясло, даже лихорадило, и все кругом казалось ей как в тумане. Шок был столь сильным, что она даже не до конца понимала — взаправду ли все это творится или она просто во власти кошмарного морока, насланного невесть кем, злобным и бесчеловечным. Она стояла с минуту, не двигаясь, и рыдала, ей было страшно даже ступить шаг. Впрочем, в избе было тихо. Никифор вдруг заворочался и начал как-будто просыпаться. Авдотья тут же встрепенулась, заметив это, её судороги прекратились, а откуда-то из нутра ее по всем членам растеклась жгучая злость. Она резко схватила стул, что валялся неподалеку, и сильно приложила Никифора несколько раз по голове. Удары были столь сильными, что старинный дубовый стул треснул в нескольких местах. Никифор более не ворочался, а Авдотья, прихватив первое что попалось — мамину шаль, выскочила из дому. На её счастье ночь была темна, а остальных полицаев рядом не было, и она в чем была, убежала, не оглядываясь, вон из деревни.
О смерти матери она, конечно, сразу догадалась, но точно узнала позже, уже когда была в отряде партизан «Смерть фашизму!». В ту ночь погибла не только ее мать, вместе с ней умерла и прежняя Дунька, молодая и жизнерадостная девчонка с веснушками на лице и нежной кожей. На месте прежней долго никто не появлялся, и зияла вместо Дуньки глухая и холодная как космос пустота, лишь внешнему наблюдателю казавшаяся молоденькой, чуть хмурой девушкой. Только через несколько дней после побега возникла новая Авдотья. Это было нечто мрачное, глубокое, не сулящее ничего доброго, как впадина на дне океана. Оно обозначило себя безоговорочно на месте прежней личности, и не было на свете сил, способных отвратить его от своего одного единственного, но бесповоротного стремления — мстить. Мстить! Без жалости и без оглядки. Мстить злу злом за зло!
Возможно здесь не обошлось без некоего провидения, но Авдотье невероятно повезло тогда: она незамеченной пробежала через всю деревню в лес, а в лесу, совсем недалеко, как раз чего-то разведывала группа партизан. Если б она партизан этих не встретила, то через час-другой замерзла б насмерть, ведь убежала босиком, в одном исподнем, да материной шали.
* * *
— Вика, внучка, а где голубь-то, где Кешка? Не улетел, паршивец? — вдруг прервала рассказ бабка Авдотья.
— Нет, бабуль, три раза отпускали, возвращался. Вон, в клетке сидит, — отвечала Вика, не отрывая от парадного кителя глаз, которые будто светились блеском орденов и медалей.
— Может и не надо уже отпускать его, а, бабуль?! — вкрадчиво сказал Рома. — Давай мы его к себе заберем, раз тебе уже не с руки за ним ходить.
— Ну, значит, такова судьба его, птичья. Заберете, значит, к себе.
Бабка Авдотья ласково поглядела на правнуков, затем опять повернулась в сторону и продолжила повесть:
«…Ох, как не хотели они меня сначала в отряд к себе брать! Я тогда ерепенилась, не могла понять их, злилась, ревела. Потом уж поняла — молодуху-девку, совсем сопливую с виду, в партизаны брать — я б тоже не взяла. Что проку от нее?! Нутром-то слаба, да и силенок нет, да и мужиков смущать будет. Но и отпускать меня — не отпустишь. Некуда мне идти. Почертыхались, похаяли судьбу, да приняли меня. Ой, какая там жизнь была, да чего только делать не приходилось, говорить уж не стану, да и памяти нет совсем… Скажу только вот что. Когда они нашли меня, они ж не просто по лесу шарились. Разведывали. Командир новый, которого на самолете прислали… ох, не оставил Бог уже совсем памяти, не помню ни имени, ни звания… Помню только что роста невысокого был и плешивый, кажись, да что прислали из НКВД специально для этого отряда. Ага. Так он, значит, дал команду — выведывать, кого ставят бургомистрами, начальниками полицайскими, старостами по деревням захваченным, да всех их истреблять помаленьку.
Меня, как сейчас помню, ажно затрясло, когда я узнала, что готовится рейд на нашу деревню для устранения бургомистра и прочих начальников предательских. Я всего-то недели две тогда в отряде была, и болталась, по большей части, без дела, потому как всерьёз меня еще не воспринимали. Ну уж так запросилась я на этот рейд! Без слез и соплей, а твердо так, как будто своё, только мне полагающееся требовала. Сказала, мол, мать мою душегубы эти убили… Хотя точно, что она мертва, я только после узнала. Еще сказала, что если не пустят меня, сама побегу! Ночью, одна, даже без оружия, с ножиком! Ей Богу, побежала бы! Убьют так убьют! Ну, значит, плюнул плешивый командир наш, да разрешил мне с группой в рейд идти. Да к тому же, одна я со всего отряда тогда была из Коленских, село наше Колено называлось, одна знала хорошо — где какой дом искать лучше.
Вышли мы под самое утро, когда темно было еще, но уж не ночь. Это, говорили, лучшее время для нападения, самый сон у всех, даже ежели кто и не спал ночь, так под утро нет-нет и сморит его. Меньше всего, значит, враг ждет нападения именно под утро. Погоды уже холодные стояли — совсем почти зима, но в то утро было тепло почему-то. Не знаю, может и казалось мне так, может жар пробивал, вот и грел меня, не знаю. Но, помню только, что когда к деревне по лесу пробирались у меня перед глазами только мамино лицо стояло, да иногда картинка такая — где я, ей Богу, не знаю как это чудилось, где я Никифору этому нож в горло с размаху втыкаю. Решено было так — сперва к бывшей хате председателя подойти, где должен теперь бургомистр жить, а потом, коли не заметят, да гладко всё пройдет, и к дому, где начальника полицаев логово было. Уж этот домишко я хорошо помнила.
В деревне все было тихо. Слава Богу, ни месяца на небе, ни звезд. Хаты все такие печальные стояли, хмурные что-ли, темные. Свет нигде не горел, только дым с труб шел. Подошли к дому бургомистра, все чин-чинарем, спокойненько. Пёс, сволочь, залаял, когда через ограду лезли. Тогда один из наших кто-то, Генка Шимаев, что-ли, штыком-то животину бедную и заколол. Смотрим — тускленький такой огонек в окошках замаячил, стало быть лампу керосиновую или свечку зажгли. Притаились все повдоль дома-то, а я, значит, где-то подальше спряталась, чуть за углом, где туалет стоял. Огонек в окошках пропал вдруг, ага, наверное опять спать легли. Тут прямо сбоку, над головой у меня такой скрежет слабенький, скрип и дверь стукнула. Как-будто над самой головой моей возник кто-то. Я поворачиваюсь, голову приподнимаю — стоит, стоит и тупо так глядит на меня Лопухов Димка, младший из двух братьев Лопуховых, что в Никифоровской ватаге кучковались. Из сортира вышел, паразит, и понять ничего не может — чего это я тут под сортиром сижу. Ну, дело-то понятное, тугодум Димка был редкий. Как потом узналось, поставлен был он к бургомистру в охранники. Наши после даже шутку придумали: „просрал Димка бургомистра“. Ну, значит, стоит этот дурень и глазки на меня пучит, а я на него. Наверное, как бы не с минуту так стоял, а потом лоб так задирает и говорит: „О! Дунька, шлюшка, ты чего это здесь?! Меня что-ли ждешь?!“. Да громко так забаталил, паскудник, все наши встрепенулись тут же и его заметили. Тут я, уж не знаю, со страху ли, что всех сейчас этот дурак разбудит, а может и от злобы, вскочила, вдруг, да со всех сил финку ему под ребра вонзила. Он даже испугаться перед смертью не успел, так и повалился на снег. А его винтовку, что за спиной у него и осталась, я тут же себе забрала.
Ну, значит, как Лопухов этот протявкал, когда меня-то узнал, своим скрипучим голоском, в окнах опять свет замелькал. На этот раз уже всерьез проснулись. Дверь в избу раскрылась и мужик какой-то с пистолетом и с керосиновой лампой в одной руке медленно так высовывался из проема. Ничерта он не видел, а его уж наши хорошо разглядели. Однорукий, вместо левой руки — вон, культяпь по локоть. Значит, точно, бургомистр. Двое на него сразу накинулись, как он с крылечка-то спустился, один попытался оружие из руки выбить, но у того, черта, даром что инвалид, хватка-то оказалась цепкая. Началась возня, один из наших двоих, что набросились сразу, поскользнулся, да рухнул, а бургомистр тут же смог как-то руку извернуть, сбросил второго и тут же выстрелил в него. Ох, и не знаю, что было б, если б не подоспел Егорыч, самый старший из наших, его я хорошо и сейчас помню, бородатый такой был, с проседью. Подскочил к бургомистру он сзади, да воткнул ему нож в спину раз несколько. Тот только вскрикнуть успел, да слег. А Егорыч ему еще для верности раза три в грудь ножом ткнул.
Тут засуетились все, выстрел же был, теперь быстро уходить надо, с полицаями потом уж, да раненного нашего тащить с собой, не бросать же. Насилу ушли, благо полицаи тяжелые на подъем еще были, не ученые еще немцем сапогом по заду. Тот набег наш много шуму наделал — самого бургомистра, ставленника фашистского шлепнули! Получили полицаи тогда по загривку за ротозейство, да начали тут лютовать так, что и словами никакими не скажешь. Приказано им было: строго карать не только партизан, но и любого, кто хоть малую помощь им окажет, да и всех, кто просто заподозрен в том будет. Порой эти звери, даже без немцев, сами, в деревню какую приедут, да всех на допрос вызовут — знаем, мы, мол, что вы тут партизан ютили, говорите, сволота, куда те попрятались; люди молчат, потому как партизан-то там может и вправду не было, и тогда полицаи или в сарай всех загонят да жгут заживо, или расстреливают каждого десятого, это уж по настроению».
Бабка Авдотья устала от своего рассказа. Было заметно, даже на старческом лице ее, черноту и горесть, что вылезли смрадной жижей из глубин ветхой памяти. Она попросила воды, Рома тот час же принес ей стакан. Потом она сняла молча китель, спрятала его назад в шкаф и попросив извинить ее, прилегла на диван. Теперь уже не было ни силы в голосе, ни блеска в глазах, только тягостная и печальная в природе своей дремучая старость. Остаток повести договорила бабка Авдотья уже с трудом, слабеющим голосом, то и дело сбиваясь и путаясь. Роме с Викой запомнилось, среди прочего, что провоевала их любимая бабуля до конца войны — с начала в партизанах, а потом, по ходатайству командира Абакова — в рядах СМЕРШ. А последние слова ее повествования будто выгравировались в памяти ребят.
«Знайте, внуки, помните слова старой бабки вашей, — говорила она. — Такие вот „Никифоры“ повсюду среди людей. Они ходят как человеки, да во всем на них похожи, но внутри них нет ничего человеческого. Только и знают они, что о животе своем заботиться, длить век свой во мраке, да похоть тешить. Другие люди для них — что-то навроде комаров жужжащих, да и то комар поди больше уважения в них сыщет. Когда придет враг (бабка сказала с полной уверенностью, что враг непременно снова придет), они тут же к нему переметнутся, потому что нет для них, кроме себя, ничего святого. И никакого дела здесь нет ни в политике, ни в борьбе за свободу, ни в че таком. У них никаких принципов нет, кроме себялюбия. Они будут убивать детей, будут насиловать, истязать и резать… потому как никого другого, после себя за человека не держат. Поверьте уж мне, внучки, со времен войны ничего в них не поменялось, и сами они никуда не подевались, теперь только личины у них другие. Учитесь узнавать их среди людей, бойтесь повернуться к ним спиной, и, когда придет враг, первыми их истребляйте, иначе они истребят вас…».
* * *
Бабка Авдотья умерла через несколько дней после того «праздничного» обеда. Она будто смогла наконец расслабиться и расстаться со своей изношенной плотью. Многие на похоронах даже видели слабую улыбку на устах усопшей. Особенно сильно эта улыбка, неким надменным оскорблением, раздражала «родственничков», узнавших от Ромы с Викой о судьбе бабкиной квартиры. «Вот старая ведьма, — думали они, — мало того, что не дохла чуть не до ста лет, так и еще и хату зажилила!» Конечно, в таком именно виде недовольство оформлялось в лишенных бремени морали головах Виталия и Светланы.
Долгую и очень сложную жизнь прожила Авдотья и ушла из нее с ощущением полноценности и завершенности бытия. Многое, впрочем, из своей биографии унесла она с собой в могилу. Избегая кощунства и принимая во внимание безмерное уважение к памяти о человеке, можно упомянуть лишь об одном факте, что соединился с небытием вместе с бабкой Авдотьей.
После войны, где-то через полгода, уволилась она в запас. Ввиду секретности проводимых СМЕРШем операций, с Авдотьи была взята расписка, согласно которой, пробыла она всю войну в эвакуации и была труженицей тыла. Ну, подумала она, ради Бога! Придет время, когда можно будет, тогда и откроется всем ее правда. Начала жить Авдотья мирной жизнью с того, что уехала на Урал, к брату и отцу, которых успели эвакуировать из Орла за несколько дней до оккупации. Других родственников у нее не осталось, потому ехать-то было ей больше некуда, а одной оставаться совсем не хотелось. Отец и брат были несказанно рады Авдотье, тому даже не столько, что она вдруг явилась, а что вообще жива.
В общем, зажили одной семьей. Устроилась Авдотья работать на завод (хлопотало бывшее начальство) и проработала на нем без малого двадцать лет. За эти годы успела она выйти замуж и овдоветь. А после, как было сказано, начала заводить белых голубей. И вот первого голубя, Мишку, завела она сразу после исчезновения своего мужа. Обстоятельства же этого исчезновения не были известны никому, кроме самой Авдотьи.
Они познакомились на новогоднем вечере в заводском доме культуры. Михаил Конюченко, статный блондин, журналист из местной газеты, фронтовик и человек совершенно серьезного вида, с первых минут знакомства запал Авдотье в душу. Она, казалось, и забыла уже о том, какой пожар в сердце может разжечь страсть, стоит чуть расслабиться. Михаилу тоже очень понравилась эта скромная, маленькая и довольно милого вида девушка, в глазах которой уже почти не виден был тот давешний страшный огонь ненависти, что полыхал зловещим силуэтом долгие годы войны. Лицо самого Михаила, хоть и было сплошь ансамблем правильных черт, порой погружалось в столь глухой мрак, порой излучало, подобно далекому квазару, что-то настолько тяжелое и немыслимое, что было очевидно — война исковеркала его нутро бесповоротно. Забегая вперед скажем, что молчаливость Михаила и периодическое впадение его в мрачную задумчивость имели причиной участие его в событиях на фронте, далеких от защиты Родины.
Свадьба была скромная, и, как казалось многим, немного поспешная. Но Авдотья не думала об этом, она купалась в счастье, она с робкой неуверенностью отдавалась этой нахлынувшей вдруг мирной жизни. Никакой войны, никакого врага, ни боли, ни крови, ни ненависти. Семья, любимый муж, а в скорой перспективе и дети… Впрочем, как было сказано выше, забеременеть Авдотья так и не смогла по причине бесплодия, и впоследствии она в глубине души даже была рада, что не принесла потомства от своего мужа.
Настоящее имя его, кстати было вовсе не Михаил, да и фамилию он тоже себе выдумал после войны. Алексей Яновский — так его звали на самом деле, но немцы называли его Алекс Нож за его пристрастие к применению ножей на допросах. На фронте воевал он не долго, зимой сорок первого при первой возможности сдался и с большой охотой согласился сотрудничать. Дальше была спец школа СС и работа сначала в прифронтовой зоне в Тайной полевой полиции (GFP), а затем в концлагерях в Украине.
Уже перед смертью, Яновский признался, что лично убил не менее ста пятидесяти человек, из них около четверти — детей. Хрипя от боли и заполнившей рот крови, он, будучи в некоей предсмертной эйфории, рассказал, что не испытывал ни малейшей жалости ни к «маленьким жидятам», ни к «москалятам» и убивая, он искренне считал, что очищает землю от «жидо-большевистского ига». Его отца арестовали в тридцатых, только перед войной он узнал, за что именно — за службу в Петлюровской армии. Все имущество конфисковали, а мать Алексея вместе с тремя детьми переселили со Львовщины в Алтайский край.
Авдотье его было не жалко. Ненависть вспыхнула в ней с прежней силой, когда она узнала правду о муже. Она изрезала его ножом, выпытывая все мельчайшие обстоятельства злодеяний, только потом убила и, разрезав труп на части, за несколько заходов вынесла ночью на помойку. Конечно, потом она сообщила, что муж один уехал на рыбалку. Искали его долго, а Авдотья долго лила фальшивые слезы. Огонь ненависти по-немногу гас, но и способность радоваться жизни гасла вместе с ней. Потому стимулом продолжать тягостную бренность послужила для Авдотьи ее деятельность по помощи органам госбезопасности в поиске скрывающихся повсеместно в стране предателей, носящих, как и ее покойный муж маски фронтовиков или даже узников лагерей смерти.
Собственно Михаил Конюченко обратился назад в Алексея Яновского именно благодаря деятельности контрразведки. Он не раз ездил в школы, в институты, облаченный в парадный китель с орденами, рассказывая о несуществующих своих боевых подвигах, о том «как бил фашистского гада…», также нередко выступал вместе с настоящими героями войны перед рабочими на заводах. Трудно сказать точно, где именно прокололся Яновский, может кто-то узнал его в лицо или он проговорился, но контрразведчики, взяв его в оборот, довольно быстро смогли установить настоящую его личность. Имея контакты с Авдотьей, товарищи из органов деликатно сообщили ей о том, за кого она четыре года назад имела неосторожность выйти замуж. Сказали так, по-свойски, дескать, Дуня, ты ж наша коллега, можно сказать, в СМЕРШе служила, ты уж прости за дурные вести, есть сведения, что с предателем ты живешь, с убийцей и извергом. Авдотья долго не могла прийти в себя, хотя не верить товарищам из контрразведки не смела. Ты, Дуня, — сказали они, — только спокойно так, как бы невзначай выведи его на разговор, ну напои что-ли, да убедись, что он — это он, а никакой не Конюченко, а мы его тогда и возьмем, и осудим, и покараем за все.
Авдотья ничего им не обещала. И после всего, что произошло дальше, контрразведчики её не трогали, делая вид, что поверили в загадочное исчезновение несчастного. Придя домой, она взяла нож и начала ждать мужа с работы. Вернулся Яновский довольно поздно и сразу от усталости завалился спать рядом с женой, которая, конечно не спала. Только он захрапел, Авдотья встала над ним и потрясла за плечо. В тусклом свете торшера его чуть помятое румяное лицо вдруг обратилось в мерзкую довольную рожу Никифора. «Отвечай мне, ты не Михаил Конюченко, а Алексей Яновский!? Так?! Говори!». Сонливость и растерянность тут же исчезли с лица лже-Михаила, только он отчетливо расслышал вопрос, произнесенный железным голосом и скользнул взглядом по длинному лезвию финского ножа, что твердо держала правая рука его жены.
По его реакции Авдотья поняла, что все, что слышала о нем от контрразведчиков — правда; ее движения были резки и смертоносны, предатель Яновский был обречен.
Данное произведение является воплощением художественного замысла,
все совпадения в нем являются совпадениями.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
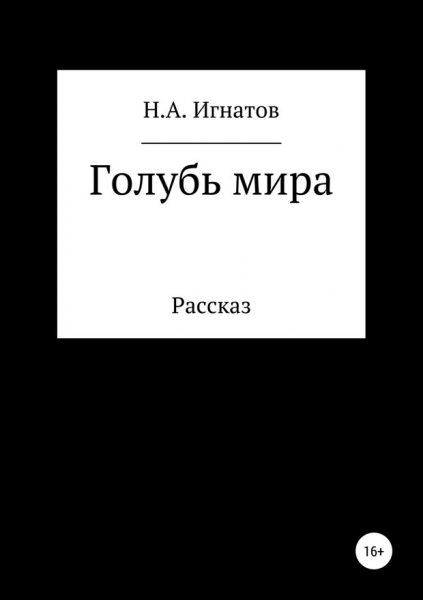



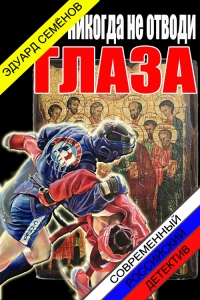

Комментарии к книге «Голубь мира», Николай Александрович Игнатов
Всего 0 комментариев