Наталья Троицкая Cиверсия
Глава 1. Мне дьявол предлагал свою игру…
Лязг металлических запоров привычно полоснул по нервам. В тесной каптерке пахло затхлью вперемешку с квашеной капустой.
– Распишись! – буркнул щупленький седой капитан и ткнул грязным, перемазанным чернилами пальцем в ведомость.
Хабаров тупо смотрел на вещи, лежащие на столе: монеты, крестик на золотой цепочке, две связки ключей, часы, «мертвый» мобильный телефон, бумажник, две кредитные карты, записная книжка, пара свинцовых шариков, перочинный нож – ненужный, чужой хлам.
– Ну, Хабаров, ты – первый случай в моей практике! Двадцать восемь лет на зоне работаю, а первый раз отпускаю реабилитированного подчистую. Так что считай, паря, девять лет у тебя из жизни-то украли!
– У ворот люди, с которыми я не хочу встречаться. Сделай что-нибудь.
Он протянул капитану купюру.
– Не вопрос, – покладисто ответил тот и жестом отверг предложенные деньги. – Сейчас наш газик за продуктами пойдет. Спрячешься.
Служивый почесал затылок, улыбнулся, протянул Хабарову руку.
– Ладно, Саня, бывай! Хороший ты мужик. Удачи тебе!
Здание аэровокзала напоминало шумный людской муравейник.
– Девушка, здравствуйте.
– И вам не хворать! – раздраженно ответила рыжая толстушка в окошечке билетной кассы.
Ее мясистые пунцовые щеки подрагивали в такт словам.
– Дайте мне билет на край света. Можете?
– Как же вы мне, козлы, надоели! Все ходят и ходят! Ходят и ходят! – ее раздражение набирало обороты. – На край света им, видите ли, надо! Люба! Смотри сюда! Еще один от алиментов бегает. Как мой, прямо. «На край света» ему билет подавай! Придурки! Бегают они! Беги. От себя не убежишь! Откуда вы только такие беретесь …
Самолет уносил его в ночь, догоняя время.
Хабаров устало закрыл глаза. Девять долгих, мучительно долгих лет стали теперь его прошлым.
«Я сейчас похож на зверя, которому надо отлежаться и зализать свои раны», – подумал он и вспомнил давний, очень давний разговор.
– Знаешь, мой мальчик, – говорил ему отец, – на севере я слышал поверье. Есть в тундре потрясающей красоты цветок. Он называется сиверсия. Рядом с ним обязательно должен кружить отверженный волчонок. Четыре полных луны мать-волчица прикармливает малыша, а потом бросает одного в морозной заснеженной тундре. Холодная белая луна и полярная сова становятся его небесными матерями и приводят к загадочному месту, где цветут дивные голубые цветы. Там нет зла. Волчонок растет, превращается в матерого зверя. Он не примкнет к стае. Она просто не примет его. Волчонок воспитан добром, а стая – зло. Говорят, что, попав в снежный плен, северяне зовут этого гордого, красивого зверя. Он всегда спасет и выведет к жилью. Все-то в этом красавце хорошо. Но… он лишен любви себе подобных. Вновь и вновь рыщет по тундре отверженный и ищет, ищет среди льда и снега хрустальный цветок. Его сердце, сердце зверя, упрямо стремится туда, где хрупко теплится последняя надежда.
– Н-да-а… – грустно вздохнул он тогда. – Где же он, тот цветок, о котором ты говоришь? Я бы обнял его своими усталыми, избитыми в кровь лапами.
– Искать надо…
Кто-то тряхнул его за плечо и от прикосновения Хабаров вздрогнул.
Светловолосая, похожая на молоденькую учительницу начальных классов стюардесса стояла рядом и настороженно смотрела на него.
«Бог мой, как же она на нее похожа… Наверное, тысяча лет пройдет, а я все равно буду помнить это лицо, эти милые, усталые глаза, глубокие, словно два лесных озера. И улыбку ее, всегда виноватую, буду помнить. Точно все было вчера…»
– С вами все в порядке? Может быть сок, кофе?
– Нет, спасибо.
В его взгляде читался вопрос.
– Вы стонали во сне.
«Черт!» – поежился он и посмотрел в пустую черноту иллюминатора.
Ждать – вот что было для него самой изощренной пыткой.
«Закрой глаза, дурень! Если не сможешь уснуть, считай, сколько раз по жизни ты был идиотом…»
Родился ребенок, и все изменилось.
Он думал: а, ерунда! Но оказалось – нет, не ерунда. Бессонные ночи, пеленки, пеленки, пеленки, денный и нощный плач. Она, растрепанная, с грязными волосами, в мятом халате и с таким же лицом, с застывшими, как у дохлой рыбы, глазами. Нервы, нервы, нервы…Сплошной комок нервов. Ее курсовые и контрольные. Гора немытой посуды. Пыль и паутина в углах. Макароны, макароны, вечные макароны на завтрак, обед и ужин. Его грошовые заработки. Сегодня здесь. Завтра – там. Постоянные разъезды. Ухватить, урвать работы еще. Любой! Лишь бы платили! Без выходных и праздников. Всегда.
Дома ее упреки: «Я не могу так жить. Я не хочу так жить. Я ненавижу твою работу!» И, как последний аргумент: «Ты меня не любишь…»
Его уговоры, обещания. Слабое утешение: трудно первые сто лет…
Еще Набоков заметил, что жизнь оставляет на женщине царапины. Очень быстро она стала желчной, злой. Слезы прекратились, истерики тоже. Вместе с ними не стало макарон, завтраков, обедов и ужинов. Его осторожное: «Я буду поздно сегодня. Ложись спать. Не жди». Ее равнодушное: «Уже давно не жду». Взгляд – тяжелый, холодный, чужой…
Его смятение: «Я все делаю не так! Я измучил тебя. Я чувствую, я тебя теряю. Мне от этого физически больно! Просто болит все тело…» Ее резюме: «Мне это не нужно…»
Он думал, у них была единая душа, свой, на двоих, мир, но все расставило по местам простое и ясное: мне это не нужно.
Настырность у него была в характере. Он не отступил. Наверное, так капля камень точит. Он удержал ее. Но… он больше не чувствовал ее. Она его вымотала. Все стало вдруг слишком сложным.
Теперь ему хотелось жить проще. Коньяк или водка, ни к чему не обязывающий секс, развеселые мужские компании. Он не хотел больше растворяться ни в ком, потому что не чувствовал равноценной эмоциональной отдачи. Играть же в прятки с самим собой он не мог. Да и не хотел.
После очередной устроенной ею сцены он просто ушел.
Четыре месяца она ничем не напоминала о себе. В свой день рождения позвонила: «Я хотела бы увидеть тебя. Я приеду». Он долго молчал, наконец, спросил: «Может, не стоит?» «Хорошо, – покладисто ответила она, – будь счастлив. Всего тебе самого хорошего». Он знал ее. Он знал, чего ей стоили эти слова. Слова не упавшей духом женщины. Он был благодарен ей за то, что она его отпустила.
Чертовски трудно ощущать, как понемножку, украдкой разносит по ветру твою любовь коварная жизнь!
Спустя два года последовало удачное замужество. Она с дочерью переехала во Францию. Промышленник из Лиона подходил ей куда больше, чем нищий русский каскадер.
Хабаров смотрел, как рыжие с синим язычки пламени ловко скользят по глянцу крохотного квадратика фотобумаги. Пламени становилось все больше, бумаги все меньше. Исчезали навсегда ее глаза, улыбка, ее дивные русые волосы… Он наводил порядок в бумажнике.
«Это надо было сделать раньше, – подумал он. – Было бы превосходно, если бы с бумагой огонь пожрал и память. Реликвии… Зачем они нужны? От них только боль. Они напоминают нам о том куске нашей жизни, который стал кладбищем упущенных возможностей и несбывшихся надежд…»
Потом было много женщин, но все они проходили по его судьбе вскользь, как проходит несмелый летний дождь жарким полднем над цветущей равниной. Ни одну из них он, если так можно сказать, не подпускал к душе близко. Больше не было мира одного на двоих. Сердца не стучали в унисон. Не было милого, наивного «мы». К их признаниям он относился с иронией, почти цинично. Женщины его называли жестоким, безжалостным эгоистом. Когда он уходил, были одни и те же слова: «Вернись, я все стерплю!» Привычки возвращаться у него не было.
Он никогда ни к кому не лез ни в друзья, ни в приятели. Но к нему стремились, его дружбу ценили настоящие мужики. Дело и его ребята, его команда – вот ради чего, он считал, стоит жить. «Он спал на шкурах, мясо ел с ножа и злую лошадь мучил стременами…» – сказал однажды поэт, пожалуй, про каждого из них. Друг за друга они были готовы рискнуть жизнью.
Но однажды лучший друг не подал ему руки. Глядя в его глаза прямо и пристально, сказал: «Ты хуже Иуды. Чудовище…» Он и сейчас видел те глаза – сгусток ненависти и боли.
Точка возврата осталась далеко позади. Теперь все, что было, стало нельзя повторить, как дважды нельзя ступить в одну и ту же реку. Он смотрел им вслед собачьими глазами, потому что они уходили, а он не мог от них уйти. Они в него вросли. Хруст пальцев, сжатых в кулаки. Скрежет зубов. Желваки рвут щеки. Холодный озноб. Тяжесть, боль там, где душа. Хочется драть глотку, а потом, с пеной у рта, аорту на разрыв…
Но всем глубоко плевать, что ты чувствуешь.
Теперь время течет иначе. Никто не вдается в подробности – стыд, боль, ни бросить, ни продать – просто схема: от звонка до звонка. Жизнь догорает угольком в золе. Чистый лист. Пишешь набело. Там нет человеческого, но и там есть люди, и каждый сам выбирает для себя, когда превратиться в зверя.
Только бы выйти, а там… Любить – так любить! Гулять – так гулять! По-русски! От сердца! С душой! С размахом! Но выходишь опустошенный. Брось камень внутрь, как барабан зазвенишь. Надо заново учиться жить. Потому что выжила душа.
Он не умел зализывать раны на глазах у всех. Поэтому он взял билет на край света…
Сколько прошло времени, час, два или всего несколько минут, Хабаров не понял. Из полудремы его вывел какой-то шум. Он оглянулся. В хвостовой части салона, в проходе, корчась, постанывая, лежал пилот. Атлетического сложения бритый качок тащил стюардессу за волосы в служебные помещения.
– Ты чё, телка, оборзела? Ты страх потеряла? Тебе мои ноги жить мешают?! – ревел он. – «Ах, уберите. Ах, уберите! Ах, воняют. Ах, воняют!»
– Успокойтесь, пожалуйста. Я не хотела вас обидеть. Не надо так переживать… – беспомощно лепетала та.
– Это ты у меня будешь переживать!
Он толкнул стюардессу, и девушка больно ударилась плечом о панель.
Качок достал нож.
– Он же зарежет ее! Мужчины, что же вы сидите?! – не выдержал кто-то. – Сделайте что-нибудь!
– Граждане, сделайте со мной что-нибудь! Я минет хочу! – хохотнул наглец и разрезал кофточку на груди стюардессы. – Минет мне, б…дь! Быстро!
Хабаров пошел к ним.
– О, это самый смелый! – хохотнул качок. – Ну, иди, иди сюда!
Качок дернулся, стюардесса вскрикнула и в ужасе закрыла лицо руками.
Выпад, действительно, был хорошим, но Хабаров ловко парировал удар. Перехватив руку нападавшего, он крутанул запястье, выбил нож. Мгновение. Молниеносная задняя подножка. Удар локтем в лицо. Атлетически сложенное тело рухнуло как подкошенное на пол и затихло, будто сломанный манекен. Этот хмурый, меланхоличного вида человек управился с ним столь неторопливо, будто все происходило в спортивном зале. Это было почти красиво.
Хабаров подобрал нож, подал его перепуганной бортпроводнице.
– Бросьте в мусор…
Промежуточная посадка была в Хабаровске. Полтора часа свободного времени. Они встретились в кафе аэровокзала.
– Не помешаю? Магаданский рейс никогда не проходит без приключений. Столица Колымского края… – небесная богиня улыбнулась.
Он убрал сигареты и зажигалку с ее половины крохотного круглого столика.
– Я должна поблагодарить вас, – сказала она, присаживаясь напротив.
– Вы ничего не должны, – спокойно глядя в ее красивое, очень светлое лицо, возразил Хабаров. – Я поступил, как поступил бы любой мужик. Это нормально.
Он поспешно поднялся и пошел к самолету.
Владивосток встретил их последним часом бархатной майской ночи. Она, точно мохнатый черный пес, дремала, укрыв собою и город, и порт.
«Куда теперь?» – задал себе резонный вопрос Хабаров.
Ему вдруг до боли захотелось почувствовать, что он свободен и что эта свобода осязаема, что ею можно упиваться, шалеть от того, что она есть и принадлежит ему одному, всецело. Взяв такси, Хабаров поехал на побережье.
Море, прикрытое легкой вуалью тумана, лениво несло к берегу сонные волны. Ни дуновения ветра, ни крика чаек. Мир замер в предрассветной гармонии.
Хабаров сел на валун у самой воды, закурил. Тупо глядя в никуда, не ощущая ни холода, ни времени, он курил сигарету за сигаретой. На виски давила тишина. Та изощренная тишина, когда не слышишь звука человеческого голоса.
«…Даже если он превращается в матерого зверя, никогда не примкнет к стае, – далеким эхом на задворках сознания блуждал голос отца. – Вновь и вновь он рыщет по тундре, отверженный, и ищет, ищет хрустальный цветок. Его сердце, сердце зверя, упрямо стремится туда, где хрупко теплится последняя надежда…
– Где же он, тот цветок, о котором ты говоришь? Я бы обнял его своими усталыми, избитыми в кровь лапами.
– Искать надо…»
Внезапный порыв ветра унес, как эхо, в сопки: «Искать… Искать… Искать надо…»
– Что ж, будем искать.
Из-за горизонта показался луч солнца.
Сосущая пустота, апатия чуть отпустили. Хабаров встал, широко раскинул руки, вдохнул полной грудью и крикнул, перекрывая упрямый плеск волн и гомон проснувшихся чаек:
– Мир! Ты слышишь меня? Я вернулся к тебе!!!
В рыбхозе выдавали зарплату.
Местные мужики ждали ее целых четыре месяца и обнищали до последней крайности. Но, как говорится, наперекор и вопреки, каждый уважающий себя рыбак с раннего утра принял, и теперь весь крохотный рыбачий поселок Отразово пьяно шумел, и алкогольные пары, собираясь и конденсируясь в сизые облачка, могли запросто поспорить с владивостокским смогом.
– Чтоб тебе, паразиту, пусто было! – неслось по дворам. – Глаза твои бесстыжие! Нализался, кормилец. Тьфу! Прости, господи…
– Отвянь! Обрыдла!
Это любящие и нежно любимые супруги провожали свою «вторую половину» на работу.
– Берегись! Я к одиннадцати-то подойду. Попробуй только у конторы валяться! Я те вожжами-то по хребту вытяну!
У местных баб, которые по сути и волокли все хозяйство на своих плечах, существовала негласная договоренность с кассиршей рыбхоза, сероглазой пышечкой Клавдией, что выдает она работягам-кормильцам денег только на две, ну, от силы, на три бутылки водки, остальное им, женам, прямо в руки. Это был единственный способ пополнить семейный бюджет стараниями «кормильца». Мужиков такое положение дел вполне устраивало, не унижало, они были даже довольны, так как в ударе – а в этом благостном состоянии они пребывали довольно часто – мужики могли за день умудриться не только пропить зарплату, но и влезть в долги.
Впрочем, пили здесь охотно и регулярно и в таком состоянии не только работали, но и любили, а потому появление в поселке трезвого мужика произвело неизгладимое впечатление.
Сначала Хабарова стали жалеть. Мол, раз не пьет, значит, врачи не велят. Значит, шажок до могилы остался. Здоровье-то, оно того, с ним шутки плохи.
«Отпил милок свое, – вздыхали сердобольные старухи. – Молодой-то какой, жить бы да жить…»
Мужики предлагали ему стопку и в ответ на отказ с пониманием хлопали по спине: ничего, мол, держись, мол, большей беды не бывает.
Поселковые бабы глядели ему вслед, вздыхали: «Вот ведь, не везет хорошим мужикам. Если и не пьет, то старый или больной, никуда не годный, значит».
Хабаров добрался до Отразова спустя полгода после освобождения с волосами до плеч и густой, начинающей седеть бородой. В необъятной рыбацкой робе он напоминал обычного отразовского мужика, разве что трезвого, которому на вид можно было дать и сорок, и пятьдесят, и больше. Ему даже прозвище придумали – «Старик», за уединенный образ жизни, хмурый вид, апатию ко всему, бороду и суровые глаза мудреца.
Так что женский пол спал спокойно до тех пор, пока кассирша Клавдия не посеяла смуту.
– Ой, бабы, ей-богу не лгу. Что б мне провалиться на этом месте! – крестилась она, сидя в парной поселковой бани. – Мне Лида Денисова говорила. Старик-то с ними рядом живет. Ну, вот, значитца. Пошла она, Лида-то, в баню. Квасу кринку понесла. А ейный мужик, Володя, значитца, и Старик там, в предбаннике, сидят, воздухом дышат, после пару отходят. Она, как водится, постучала. Они отвечают: входи, мол, – Клавдия снова перекрестилась. – Ей-богу, не лгу, бабы. У Лидки спросите. Вошла она, а там спиной к ней Старик, значитца, стоит и что-то Лидкиному мужу рассказывает. Она на него как глянет, и кринка об пол!
– Да что? Что такое? – забеспокоились разомлевшие бабы.
– Ей-богу, не лгу! У Лидки спросите. У Старика-то нашего, больного, доходяги, что даже ради приличия и рюмочку не примет, такое тело, ну, бабы, такое тело, куда там твоему Рембо! Я у Васьки Рябова по «видаку» видела. Налитое, ядреное, мускул к мускулу! Да никакой он, бабы, не старик! Бородищу-то побрить, волосья постричь – и пользуйся! И до того Лидка растерялася, бабы, стоит, кринка у ног… Володя ей говорит что-то, а она как уставилась на Старика, так глазами его и ест. Только от Володькиного мата и очнулася. Володька-то у ней… – она вздохнула. – Ох, не от хорошей жизни Лидка в школьную кочегарку к Низами Рагимовичу бегает. И с этих пор стала она Старика привечать. Как Володьки-то нет или он пьяный спит, она к Старику. Может, говорит, постирать чего, приготовить… Или чай его пить зовет с пирогами. Да только все это пустые хлопоты!
И стали женщины к нему приглядываться и даже дали «зеленый свет». Ну и что, что волосья, как у дьякона. Ну и что, что за бородищей лица не видать. Остальное-то все при нем. А уж как такой-то мужик прижмет, как приласкает!
Но Хабарова их уступчивость интересовала мало. Совсем, если честно, он ее не замечал.
– Нет, ну надо же! – обсуждали местные молодки – «кровь с молоком» – общую беду. – Мужик, который хочет, но не может, понятно – импотент. Как у наших, все пропито. А тот, который может, но не хочет, он кто?
– Сволочь он, бабы! Сволочь!
Мнение было единодушным.
Мужики, и те насторожились: «Не пьет, значит, не уважает!»
У всех свои критерии.
Так что жил Хабаров обособленно, жизнью непонятною и странною, даже себе самому.
По извилистым грязным улочкам он шел в отделение милиции. Нужно было сделать отметку о продлении регистрации по месту пребывания.
– Хабаров! – напутствовал его по приезде в Отразово участковый Петров Глеб. – Если возникнут какие-то проблемы, сразу ко мне! Я во всем помогу. Все улажу. Потому как народ у нас в поселке своеобразный. Пришлых старообрядцев много. Местные с ними постоянный конфликт держат. А это, так сказать, сам понимаешь…
У райотдела милиции толпилось несколько плюгавеньких обтерханных мужиков, с землистого цвета лицами и замшелой душой. Мужики работали вместе с Хабаровым в рыбхозе.
– О, Александр Иванович! – приветствовали они его, и каждый поочередно с уважением пожал протянутую хабаровскую руку.
– Вы по административному надзору? – спросил он мужиков. – Не отмечают еще?
– Не-е… У них какое-то задержание. Угонщиков ловят. С ночи в засаде. Один дежурный сидит. Нас «послал». Стоим вот, ждем участкового. А ты, Иваныч, к кому?
– В паспортный стол я.
В здании районного отдела внутренних дел, больше похожем на длинный полутемный деревянный барак времен прокладки КВЖД[1], пахло так же, как на зоне.
– Простите, – обратился он к дежурному, сонно подпиравшему щеку и ковырявшему кончиком авторучки в ухе, – а почему у вас паспортный стол закрыт? Мне временную регистрацию продлить нужно.
– Все на задержании. Ждите, – безразлично отмахнулся тот.
– Начальник паспортного стола не может входить в состав опергруппы.
– Слушай, умник, – страж порядка побагровел и через стол наклонился к Хабарову, – вали отсюда! Не обостряй!
Пришлось ждать. Хабаров сел к мужикам на грязный выступ фундамента у входа. Закурили.
Минут через пятнадцать пустынные улицы поселка Отразово огласил вой милицейской сирены, без которой здесь никак нельзя было обойтись. Затем донесся звук мотора милицейского «уазика» и, наконец, сам он подлетел к отделу.
– Когой-то поймали. Двоих вроде бы… – прокомментировали происходящее сидевшие рядом с Хабаровым мужики.
Двое хлипких парней вылезли из машины и следом выволокли абсолютно пьяный наряд. Парни взвалили стражей порядка на плечи и понесли в отдел. Впрочем, задержанные запросто сбежали бы, если бы не были предусмотрительно прикованы наручниками к мертвецки пьяным милиционерам. Третьему члену опергруппы участковому Глебу Петрову повезло меньше. Нести его было некому. Но, поскольку чувство долга родилось раньше него, участковый мужественно проделал трудный путь от машины к отделу самостоятельно. Водитель, вероятно, успел уснуть за рулем еще дорогой.
– Чума! – провожая восхищенными взглядами процессию, только и смогли сказать поднадзорные.
– Саня! – сидя в дежурке рядом с Хабаровым, сверкая золотыми зубами, говорил едва пришедший в себя после захвата участковый Глеб Петров. – Вот тебе свидетельство о регистрации с печатью и подписью. Сам заполни. Срок регистрации поставь любой. Все схвачено! Не ходи больше сюда. Время не трать. Живи спокойно. Работай.
– Глеб, ты зачем бланк спёр? Попадет тебе. Глеб, завтра жалеть будешь.
– Я жалеть буду?! – пьяно возмутился тот. – Да я жалею, что в это дерьмо семь лет назад ввалился! С тебя бутылка мне на опохмел.
Участковый клюнул носом, неуклюже сполз со стула и моментально заснул.
– Куда его? – спросил Хабаров дежурного.
Тот кивнул на открытую вглубь «дежурки» дверь.
– В телетайпную отволоки.
– Нас-то отметьте, мил человек, – стонали мужики, пришедшие раньше Хабарова.
– Ваш участковый на выезде. Ждите! – невозмутимо произнес дежурный, со вздохом покосившись на храпевшего в телетайпной Глеба.
На работе царил хаос. Все четыре смены собрались на причале за старым, давным-давно выволоченным на берег дрифтером[2], и пир шел горой.
К Хабарову подошла бригадир – дородная тетка лет шестидесяти девяти, в народе именуемая «Боцман».
– Здорово, парень! Иди сегодня в цехе поработай. У меня на упаковке консервов народу не хватает. Куда с такими в море? – она безнадежно махнула рукой в сторону предусмотрительно притихших за дрифтером мужиков.
Он машинально укладывал консервы в коробки, не сосредоточиваясь на том, что делает, стараясь не думать вообще ни о чем, когда услышал истошный крик Боцмана:
– Фельдшера вызовите! Да скорее! Скорее!!!
– Что случилось-то? – спросил кто-то.
– Вовка Ларин ногу себе распорол. Пьяный на спор полез на дрифтер да с него свалился. Прямо на тару, бракованную!
С Лариным у Хабарова как-то с самого начала не заладилось. Тогда он работал на разделке рыбы на комплексной плавбазе. Мужики пили на спор: кто больше, пока с ног не свалится. Ларин предложил пари Хабарову. Тот отказался. И пошло-поехало: «Да ты чего из себя гнешь! Ты нас не уважаешь, за людей не считаешь…» Чем особенно его заводил Хабаров, так это тем, что он его, Вову Ларина, будто не замечал. Что-то типа Слона и Моськи из небезызвестной басни, только в дальневосточном варианте.
Ларин дошел, что называется, до белого каления и однажды, выпив для куража, взял тесак и пошел к Хабарову выяснять отношения. Что произошло между ними в кубрике, неизвестно, но с тех пор Ларин стал с Хабаровым как-то подозрительно вежлив. Лишь однажды «обшивочку» прожгло. Сходя на берег, Вова Ларин грубо толкнул плечом Хабарова и зло пообещал найти «для разговора» более удобное место и время.
На мотоцикле привезли девушку-фельдшера.
Глянув на рваное мясо на бедре Ларина, она со словами: «Ой, мамочка! Меня сейчас вырвет!» – с трудом пробилась сквозь плотное кольцо беспомощных пьяных зевак. Происшествие внесло хоть какое-то разнообразие в их серые будни, а вид корчащегося от боли, истекающего кровью местного «крутого» парня Вовы Ларина придавал событию особый шик. Так что слюнки текли.
– Ты видишь, человек кровью исходит! Ты помочь должна, – совестила фельдшера бригадирша. – А ты? Эх, молодежь!
– Не могу я. Тут хирург нужен. В город везите.
– Какой город?! – перешла на басы Боцман. – У него кровища хлещет. Сдохнет же! Мне потом не отписаться будет!
– Я не могу, – вымученно ответила фельдшер. – Я не умею!
– Ты только задницей крутить умеешь да по подворотням чалиться!
– Давайте я посмотрю.
Хабаров пробрался сквозь толпу и взял фельдшерский чемоданчик. Бегло осмотрев содержимое, спросил:
– У вас что, шить нечем?
Фельдшер замотала головой.
– Новокаин или лидокаин элементарный у вас есть? Анестезия – любая?
Снова немая сцена.
– Здесь только йод, вата и бинты, – подытожил Хабаров, глядя на Боцмана.
– Ой, посадят меня. Посадят из-за паразита этого! – чуть не плача, голосила Боцман. – Век отжила, под старость хлебну позора!
– Вот что, Мария Николаевна. Принесите мне банку консервную, новую, после тепловой обработки, ножницы по металлу и пассатижи. Пожалуйста, голубушка, побыстрее.
Марией Николаевной ее давно никто не называл, «голубушкой» тем более. Все «Боцман» да Манька. Поэтому до бригадирши не сразу дошло, что Хабаров обращается к ней.
Нарезав из крышки консервной банки прямоугольничков, Хабаров пассатижами аккуратно стягивал ими, точно скобками, лоскуты кожи, постепенно сделав очень ровный и, если так можно сказать, красивый шов.
Обступившие Хабарова мужики не один раз хватались за сердце, видя, как щедро он поливает водкой и спиртом и рану, и «инструменты». Под конец, перебинтовав ногу Ларина, он помог уложить его в рыбхозовский буксир, чтобы отвезти в больницу во Владивосток.
– Я боюсь с ним ехать, – девушка-фельдшер робко тронула Хабарова за рукав. – Вдруг ему будет хуже. Может, лучше поедете вы?
– Ничего с ним не случится, если только стошнит. Он явно перебрал. Кость не задета. Бедренная артерия цела.
– Откуда вы знаете, вы же не врач?
– Живу давно, – усмехнулся он и пошел в цех – поточная линия была перегружена.
В конце смены к нему подошла Боцман. Хлопнув по-свойски по плечу, улыбаясь каким-то своим потаенным мыслям, произнесла:
– Ну, ты спец, Хабаров! Я сейчас в больницу звонила. Хирург сказал, что лучше даже он не сделал бы. Ты, вообще, откуда к нам? Кем был-то?
Хабаров хмуро глянул на нее.
– Человеком был. А может, мне это только казалось…
В нарушение всех своих правил осень подарила миру один погожий день, невероятный в сером, промозглом сезоне дождей. Такой день хочется созерцать, впитывать в себя каждую капельку солнечного света, стараясь забрать с собою в зиму побольше этой застывшей, хрупкой осенней красоты, тепла, надежды.
После работы возвращаться в свой холодный пустой дом не хотелось. Срезав по диагонали лужайку, Хабаров шел вдоль пустынного берега, не спеша, с удовольствием вдыхая хрустальный, уже прохладный воздух. Он любил это время суток, когда дневная суета отступает, начинать новые дела уже поздно, но есть еще время подумать, подвести итог дня или просто сесть на берегу и любоваться отблесками заката, увидеть, в который уже раз, как последние лучи солнца ложатся в сопки, чтобы завтра с новыми силами подарить земле свет и тепло.
Взобравшись на скалистый, нависший над водой утес, Хабаров остановился. У его ног лениво шептался Амурский залив, плавно переходящий в Японское море. Спрятав руки в карманы ветровки, слегка откинув голову назад, Хабаров смотрел на остывающий закат. Краски струились волшебной симфонией. От этого могучего великолепия робко, несмело, непривычно, едва-едва в душе зарождалась музыка. Она нежная, чистая, будто из того времени, когда мечты наши были завернуты в разноцветные фантики, она ласкает душу шелковой варежкой, и пьяно кружится голова: «Теперь все будет хорошо. Все просто обязано быть хорошо. Я верю…»
Белой птицей встрепенулась память.
– …Держись, Саня! Теперь все будет хорошо. Все просто обязано быть хорошо! Я верю!
Пересохшее горло. Скрежет песка на зубах. Свист ветра или спасительный шум лопастей – не понять. Как капельки дождя по стеклу, шелестит песок по броне. Едкий, невыносимый запах гари. Жара. Пекло. Что-то теплое, солоноватое течет от виска по лицу, попадая в приоткрытые корявые губы. Мутный покачивающийся взгляд. Вокруг все плавает и словно не в фокусе. Выжженная пустыня, дым…
– Хреновый рай я себе заработал. Ни цветущих яблонь, ни белых ангелочков с крылышками… Твою мать!
Мысли ленивы и неповоротливы, как бестолковые мулы. Под рукой АКС с пустым магазином: отстрелялся до пружины. В кармане один патрон. Для себя.
– Что же… Где же… Васёк! – крик скорее похож на стон. – Васёк! Мы же двое… Нас же двое… Двое мы… Дв…
Жгучая боль резанула, отняла дыхание.
…А у родного дома черемуха пенится, и клен полощет листвой на ветру. Серый жирный кот дремлет на окне, где пахучая герань в цвету. Тут же глиняный кувшин, полный молока. Жизнь отдал бы, только б напиться…
– Пульс сто ударов. Стабилизируется. Артериальное давление семьдесят на пятьдесят.
– Выкарабкается…
Пустое забытье. Дальше боль. Много боли. Думаешь: «Значит, живой…» Первый раз открываешь глаза. Улыбчивая сестричка спешит с уколом.
– Как мы себя чувствуем?
– Наверное, по-разному. Я – паршиво. Вы, должно быть, много лучше…
Запоздало настигает душная соленая волна…
После госпиталя вдвоем с другом Василием Найденовым они сидели на военном аэродроме, ждали грузовой «борт» для переброски в Афган.
– Сань, закат-то какой! Чисто симфония! Знак: с нами Бог и маленькие боженятки!
Был такой же ликующий закат. Только тогда он не казался щемяще одиноким.
«Васька… Васька…»
Хабаров помнил, как это было. Помнил в деталях, будто все случилось вчера.
…Небо в рваных свинцовых тучах. Ни единого голубого просвета. Кажется, лопасти цепляют серую хмарь. Ветер стонет, рвется, бесится в лабиринтах скал. Выжженное солнцем дно ущелья с высоты, как пятачок, брошенный Господом Богом на усладу страждущему. На пятачке «вертушка». Возле нее копошатся, суетятся люди, с высоты маленькие, неуклюжие.
– «Беркут-1», как понял? Как понял меня? Прием. «Беркут-1», «Беркут-2», на связь! В душу мать… Вы что там, охренели оба?! «Беркут-1», «Беркут-2», на связь!» – рвался в наушники голос с земли.
– Я – «Беркут-1». Понял вас. Сделаем. В лучшем виде!
– Мужики, поторопитесь! – приказал комполка Амвел Гогоберидзе. – Если группе навяжут новый бой, забирать будет некого!
– «Второй», как у тебя? Есть работа. Надо наших ребят из шестнадцатого квадрата забрать. Как понял? Я – «Первый».
– Игорь, мать твою! Ну почему, как такая сложная обстановка, у тебя все летит? Б…! Суки! Могли бы, хоть ради прикола, запчастей первой категории[3] прислать! – донеслось в ответ.
Ребята были в запарке.
– «Второй», «Второй»! Я – «Первый». На связь! – повторил он.
– Слышу тебя, Саня! Еще пара минут, и я – твой.
– Васек, ты уверен? Посиди тут покуда. Вокруг чисто все. Я один «схожу».
– Я те «схожу»! Патриот х…в!
– Мягче. Мягче. Не засоряй эфир. У нас есть еще время. Давай запрошу помощи.
– А ротация на что?! Ладно, умник. У меня тоже земля «на ушах». Ясно сказали: «Поторопитесь». Взлетаю. Б…! Да, приглуши ты ее! – рявкнул кому-то Василий. – И так все хлюпает, как в п…
Хабаров хохотнул.
– «Второй», не заблудись. Планшет на колено положи, – сказал он, провожая пристальным взглядом уверенно набиравший высоту вертолет ведомого.
– Я «положу». Вот домой вернемся, я на них на всех «положу»!
Пара «вертушек» винтами рвала тишину в клочья.
– «Первый»! Вижу! Водохранилище, справа башня… У башни они!
По днищу раздались мелкие сухие шлепки.
– О, чёрт! Прав был Сухов: «Восток – дело тонкое». Похоже, командир, «груз-200».
– Не каркай!
– «Первый», я постреляю маленько. Не тащить же боекомплект назад!
– Отставить! Не с твоей маневренностью. Они тебя враз схавают. Сам покружу. Давай, грузи людей и – на базу! Я следом!
– Ни хрена ты не понял, Саня! Я пострелять могу, с грузом не потяну. У нас там на соплях все!
– Б…! Если бы ты…
Найденов нервно хохотнул, отшутился:
– Не дрейфь, командир! У меня планида до девяносто одного дожить. Цыганка нагадала!
– «Второй», я встал под погрузку. На рожон не лезь. Не с твоими потрохами!
Через секунды они шли обратным курсом. Домой.
– «Второй», «зеленка»! Ловушки, давай.
– У «зеленки» еще двоих вижу. Вроде наши. Точно наши! Сяду.
– Отставить! Следовать на базу!
Но «вертушка» ведомого резво пошла на посадку.
– Черт бы тебя побрал, Васек! – вскипел Хабаров. – Приземлимся, морду тебе набью!
– Расслабься, командир. Подарим мужикам жизнь. Их же дома ждут! – добродушно отозвался Найденов.
Треск, шорох помех. Горный хребет скрыл от него вертолет Найденова. Хабаров заложил крутой вираж, вынырнул в долину, тщательно всматриваясь в просветы «зеленки».
Вспышка, внезапная, слепящая глаза, пронзающая нервы. Потом звук. Его не слышишь, его ощущаешь, впитываешь кожей. Огненный факел, черный едкий дым. И не оторвать глаз…
– Нет! – крик Хабарова заставил экипаж вздрогнуть, выйти из жуткого гипнотического оцепенения.
В кабине трое, за спиной еще двенадцать ребят, уповающих на тебя, как на Бога. Внизу, на камнях, друг и его экипаж. Умом понимаешь: спасать некого. Но как трудно, неимоверно трудно заставить себя бросить их и уйти, бросить того, кто, рискуя жизнью, не раз спасал твою жизнь, с кем еще утром пили по походному стопарю, кто шутил, смеялся, чей голос только что звучал в ушах, кто только что был. Был…
Это в непутевых фильмах да книгах про смерть красиво пишут. На самом деле все много проще, как свечу задуть, как цветок сорвать. И нет продолжения. Новый сюжет…
Ночью он не мог уснуть, просто лежал на земле, у вертолета. Пара пустых бутылок из-под водки валялась рядом. Хмель не шел.
– Так бывает, Саша, что друзья уходят… – Гогоберидзе сжал его плечо. – Есть такая профессия: защищать Родину.
– Чушь! Какую Родину?! Чью?! Амвел, скажи мне, чью?! Этих жаждущих крови выродков? Где ты видишь здесь Родину?!
– Тихо, тихо.
Гогоберидзе протянул ему фляжку.
– Спирт. Выпей. Посентиментальничай часок. Потом спать иди. Утром нас ждет работа.
Комполка знал, что ничем не поможет.
«Первыми уходят самые лучшие, самые преданные, необходимые. Как всегда… – думал Хабаров. – Такие и там нужны. Видимо, жизней на всех у Господа не хватает…»
Хабаров потер ладонями лицо, стирая воспоминание.
– Ничего, Васек, прорвемся. Как ты говорил: «С нами Бог и маленькие боженятки!»
Назад Хабаров возвращался поздним вечером, не по берегу, а по шоссе, чтобы сократить путь.
Еще издали он заметил замершую у обочины иномарку соседа Погодкина. Вероятно, ее хозяин перепробовал все известные ему способы оживить металл и сейчас, сдавшись, ругательски ругаясь, мочился на колесо. Хабаров коротко поздоровался и предложил помощь. От неожиданности сосед даже глазами захлопал, а когда очнулся, то с неменьшим темпераментом принялся «благодарить»:
– Иди ты, сука, ё…аная зэчья мразь! Я на х… вертел твою пи…добольную помощь! Как монтировкой нае…ну по кривому хлебальнику, так на задние ноги и сядешь! Таких мудил отстойных стрелять надо! Клал я и на тебя, козла, и на твою мать!
– Спасибо, что не ударил.
Все было тем же самым. Ничего не изменилось. Вот только музыка смолкла, и внутри внезапно снова открылась зияющая пустота.
Закат догорел. С востока на мир наползали свинцовые, переполненные дождем тучи. Лишь далеко на западе, за поросшими тайгой сопками, теплился бледно-розовый свет – последний аккорд волшебной симфонии.
Настырный стук в дверь. Непрошенный гость. Недовольное «не заперто».
Что тут было запирать? Бревенчатая изба – четыре стены, убогое убранство. Деревянный стол, из тех, что в старину терли песком и скребли скребками, пара самодельных табуретов да скрипучая кровать, с кое-как залатанной проволокой сеткой-матрацем.
Хабаров даже не обернулся к двери, точно тот, кто пришел, был ему абсолютно не интересен. Он ел нечищеную вареную картошку, время от времени приправляя ее куском рыбы, взятым из полупустой консервной банки.
– Здрасьте вам.
Потоптавшись у двери, но так и не дождавшись приглашения, гость подошел к Хабарову.
– Вечеряешь? – приветливо осведомился он.
Хабаров не ответил. Все также безразлично он продолжал жевать.
– Ну-ну. Вечеряй, раз такое дело, – покладисто кивнул гость и сел за стол. – Меня Лёхой звать. Братан я Вовки-то Ларина. Вот… – выдохнул Лёха.
Хабаров мельком глянул на мужика. В свои сорок – сорок пять он был человеком-призраком, как и все неуёмно пьющие люди.
– Я тут покумекал, – заерзал на стуле Лёха, – может, примем по маленькой за то, чтобы Вовка-то поскорее поправился? Уважь.
Хабаров перевел медленный тяжелый взгляд на мужика и безразлично сказал:
– У меня пусто.
– А я принес. Предусмотрел, так сказать! – обрадовался Лёха и, извернувшись ужом, извлек откуда-то из-под пиджака поллитру и полпачки соли.
Здесь, в поселке, это считалось особым шиком – носить пиджак. Пусть и пиджак, и брюки, чаще последние, были вида непотребного и надевались и на вспашку огорода, и на чистку сортира, и на праздник, но традицию свято чтили. Раз мужик, изволь быть в брюках и при пиджаке – и точка.
Соль из пачки Лёха аккуратно пересыпал в бутылку с надписью «Коньяк армянский», заполненную на три четверти какой-то едко-пахучей жидкостью, и несколько раз любовно встряхнул.
– Ща, отстоится, и – тяпнем! – истекая слюнками, вожделенно поглядывая на бутылку, пообещал он. – Политура – высший класс! Это тебе не балованная водка. Тут всё просто: что всплыло, то и пей.
Учуяв, что «процесс пошел», Лёха плеснул зелья в граненые стаканы. Отвратный запах защекотал ноздри.
– Ну, будем! – с замиранием сердца произнес он.
Чокнулись. Леха двумя пальцами зажал нос и профессионально кинул содержимое стакана в рот. Хабаров, не притронувшись, свой стакан отодвинул.
– Чего ты? Пей! – осипшим от крепости напитка голосом произнес гость и влез двумя пальцами, как клешней краба, в хабаровскую консервную банку. – Всё ж по науке. Метод адсорбции, кажись. Коли слово не перепутал.
Хабаров усмехнулся, подвинул консервы Ларину.
– А ты, значитца, тута живешь, да? – задал гость риторический вопрос. – Не густо… – заключил гость, оглядев унылый интерьер. – Главное, телевизору нету. Ну, давай по второй? Чтобы на двух ногах! – он живо налил себе, потянулся к стакану Хабарова, но тот остановил. – Подновить! Хоть капельку, – растаял в улыбке Лёха. – Это ж святое! – и снова выпил.
Хабарова он уже не ждал.
– Хорошо сидим…
Лицо Лёхи раскраснелось. Нос потек. Он то и дело вытирал его рукавом.
– Скучно живешь, Хабаров. Телевизору нету, так хоть бабу заведи. Хотя, разобраться, какая баба к тебе пойдет? Бородища-то – вона, в половину лица. Лица не видать. Волосья, как у нашего попа Прошки. Да и оденься путью. Все в робе да в робе… Пиджак-то у тебя есть? – Лёха попыхтел, удобнее усаживаясь, и продолжил: – Баба, она ведь тоже человек, если разобраться, конечно. Вот моя Нюся. Она меня за что полюбила? Полюбила она меня за пиджак мой синий. Выйду, бывало, пуговицы ясные, на солнце горят, на лацкане комсомольский значок. Ну, чики-чики! Все девки, бывало, мои. Какую в клубе, какую на ферме жарну. А какая и сама домой ведет! Да-а… – заностальгировал Лёха. – Только пиджаком и брал. Ну, а уж когда с Нюськой, тут уж ни-ни. Рука у ней больно тяжелая. Но я Нюсеньку свою люблю. А как без любви-то? Ну?! – толкнул Хабарова в бок словоохотливый Лёха. – Ты чё молчишь-то? Не скучно тебе тут?
Хабаров пожал плечами.
– Устал я от тесной компании. Сейчас мне хорошо одному.
Он закурил первую за этот вечер сигарету. Лёха тут же потянулся к пачке.
– Опробую, – пояснил он. – Дорогие куришь. Я-то к «Приме» привык. А-то и самокруточку могу засобачить.
Затянувшись пару раз, он с недоумением поглядел на сигарету, помял ее в пальцах, понюхал и оторвал фильтр.
– Дрянь, – поморщился он. – Слабая чегой-то. Не продирает. И без фильтра не продирает.
– Извини.
– Вот, смотрю я на тебя и думаю, – попыхивая сигаретой, Лёха сделал многозначительную паузу, – неужели правду говорят, что ты человека убить мог?
– Трёх.
– Чего? – не понял тот.
– Трёх человек, говорю. Но двоих, правда, не доказали.
– О-на!
Лёха присвистнул, с опаской поглядел на Хабарова. Желание убраться из такой компании боролось в нем с желанием опорожнить тару. Все же победили желание выпить и разухабистое «Это мы еще посмотрим – кто кого. Поглядим!»
– Слушай, а правду говорят, что ты собаку соседа, Погодкина, шампунем моешь? Ты чего, дурак? Погодкин, как напьется, солдатским ремнем ее лупит, а ты моешь! Умора!
Лёху забавляла очевидная нелепость. Чтобы проникнуть в суть, он выпил до донышка очередной стакан, зажевал напиток картошкой и надолго затянул «Степь да степь кругом…» В том месте, где поется про замерзающего ямщика, Лёха едва не пустил слезу. Спев, он тупым мутным взглядом уставился на Хабарова.
– Слушай, – наконец сказал он, – смотрю я на тебя, бесполезный ты человек. Сброд! А его у нас в поселке и без тебя хватает. Чего тебе тут надо? Чего ты нам воду мутить приехал? А-а?!
Хабаров не ответил. Очень внимательно он следил, как тонкими извилистыми струйками дым от сигареты тянется к потолку.
– Молчишь, да? – Лёха сердито стукнул кулаком по столу. – Молчишь! Оно конечно. Мы же чего, рабочий класс! Быдло! Чего с нами-то?! Мы все стерпим! Прав был Вовка: все вы, москвичи – чмошники. Неработь! А вот Россия, она ведь на таких, как я, как братан мой, как наши мужики, на таких вот простых русских людях держится. Она, Россия-то, здесь! Да только тебе этого не понять. Мозги у тебя от московской колбасы жиром заплыли. А ты вкуси нашей жизни, прочувствуй! Нечищеную картошку жрешь… В Москве-то не стал бы. Вовка не любил тебя, суку. Не можешь ты, как все, по-простому. Дуешься, как мышь на крупу. Все в две дырки сопишь, сам с собой. А нахрена?! – все громче декламировал Леха. – Я хотел тебе спасибо сказать, мол, Вовку спас. А теперь не буду! – он пьяно прищурился. – Не достоин. Во! – и он сунул под нос Хабарову конфигурацию. – Чтобы я перед тобой унижался?! – и он добавил пару слов без падежей.
– Ты зачем пришел-то?
– Я?! – Лёху удивил вопрос. – Выпить с тобой пришел.
– Выпил?
– Ну.
– Уходи.
– Не могу я. Там слесарь. Отопление чинит. Нюська моя… – замялся Лёха. – Ну, она мне «не мешайся», говорит. Иди, мол… – он прижал руку к сердцу. – Давай еще посидим. Ведь у нас все культурно. Общаемся.
Ларин с надеждой смотрел на Хабарова.
– А пиджак твой синий, с пуговицами, где? – спросил тот.
– Пиджак-то? Так… Нету. Износился … – мужик досадливо развел руками.
– Тогда давай посидим, – Хабаров усмехнулся, – культурно…
Но «культурно» посидеть, как и следовало ожидать, не удалось. Окончательно захмелевший Лёха нес нахальную дребедень, и Хабаров счел за благо проводить его прямо домой, в надежные руки раскрасневшейся от починки отопления Нюськи.
Возвращения Хабарова ждали.
Едва он подошел к крыльцу, из кустов показался рыжий соседский пес, огромный и лохматый, как результат дьявольского кровосмешения, наверное, всех окрестных собак. Важно ступая, степенно помахивая длинным пушистым хвостом, он подошел к Хабарову и деликатно тявкнул.
– Пришел, обормот! – он присел на корточки и погладил собачью морду.
Польщенная таким вниманием псина положила голову ему на колени и от удовольствия закрыла глаза.
– Странное ты существо, – ласково растягивая слова, почесывая за ухом псу, сказал Хабаров. – Плодишь собак, а никого, кроме людей, любить не можешь. Отчего так?
Пес вскинул черные глаза и пристально посмотрел на Хабарова, точно размышлял над столь несуразным положением вещей.
– Сейчас тебе поесть принесу.
Человек ушел в дом, а собака легла у первой ступеньки и, нетерпеливо постукивая хвостом, стала ждать. Он вернулся с банкой консервов, ножом и миской.
– Вот и славно. Вот и молодец… – приговаривал он, с улыбкой наблюдая, как стремительно миска пустеет. – Завтра тебе треску в масле принесу. Ты ведь больше треску любишь. А сегодня, брат, извини. Но это все-таки лучше, чем хозяйские отруби[4]. Как считаешь?
Если с человеком Хабаров едва ли проронил пару фраз, то с безродной, не видавшей ни ласки, ни сытости псиной, он был рад сомнительной возможности поговорить.
Утром в упаковочном цехе, среди гор пустых и затаренных коробок его отыскала бригадир Мария Николаевна. Как всегда бесцеремонная и прямая, Боцман хлопнула Хабарова по спине, сунула под нос красное налитое яблоко.
– Яблочка хочешь? – и, не дожидаясь ответа, положила фрукт в карман его спецовки. – Я тут все гляжу за тобой. Старательный ты мужик! Директорский уазик починил. Я-то думала, ему гнить у забора. Погодкин угробил его до последней крайности. А запчасти, гадец, продал! «Рукастый» больно был! Да, видать, руки не оттэдава растут. Я и говорю, хватит тебе зюзгой[5] шевелить да рыбу шкерить. Пусть алкаши тренируются. Давай водилой к директору. И деньжат побольше, и работы поменьше. Он меня вчера уполномочил. Иди, говорит, предложи, мол. Ну, ты как? – она весело глянула на Хабарова, толкнула мощным задом. – Договорились?
– А Погодкина куда?
– Погодкина вчера директор уволил. Тебя, сказал, возьмет.
Хабаров усмехнулся:
– Тогда понятно. Мне без разницы. Водилой так водилой.
Она не любила этой его усмешки. Уж очень пренебрежительно-надменной она была. Но это пренебрежение, эта надменность адресовались не собеседнику, а скорее себе самому.
– Здравствуйте, граждане-работнички рыбного промысла! Ну, как грохотки[6]? Грохочут?
Из-за груды коробок в узком проходе показался участковый Петров Глеб со своей неизменной золотозубой улыбкой, которая исчезала разве что в тяжком похмельном угаре.
– О! Моя милиция! – расцвела Боцман. – Ты чёй, меня, что ли, заарестовать пришел?!
– Манька, я б с тобой сам, без «подсадки», в одиночке всю жизнь! – он ущипнул ее за толстое бедро.
– Охальник! – она, довольная, толкнула участкового мощным задом, стрельнув вниз по фигуре Глеба похотливыми свиными глазками. – А выдюжишь?
– Да, работа «по низу»[7] – это же самое мое!
– То-то я смотрю, Валька твоя из абортов не вылазит. «По низу»! – заржала Боцман. – Кобель!
– Грубая ты женщина, Марья Николавна.
– Ты, Глеб, дурачка-то не строй. Зачем приперся? Говори сразу! А то с маво цеху поганой метлой попру! Вот те крест! – и она наскоро перекрестилась.
Петров подошел к Хабарову, разложил на коробках содержимое своей замызганной клеенчатой папки и, кашлянув для солидности, начал голосом диктора, произносящего «От Советского Информбюро…»
– В органы поступило заявление гражданина Погодкина. Он пишет, что вчера вечером, то есть в 21.00, на автодороге Владивосток – Отразово гражданин Хабаров напал на него, учинил членовредительство.
– Чего учинил? – переспросила Боцман.
– Членовредительство.
Дикий хохот Боцмана не дал ему продолжить.
– Ой, мужики, не могу! Ой, погибель моя пришла! Ой, погодите, дайте дух переведу! – стонала она. – Чего ты ему, Хабаров, повредил? Ужель то самое?!
Глеб рассердился. Врезав папкой по пружинистому заду Маньки, он что-то сказал ей на ухо, и зашедшаяся в новом приступе смеха Боцман, колыхаясь, пошла прочь. Участковый снова глянул в заявление, но дальше читать не стал.
– На хрена, Саня, тебе это надо было?! – он рубанул ребром ладони воздух. – В Отразове только один шизик – Погодкин! Я же говорил тебе, народ у нас сложный. С московскими замашками своими сиди тихо! Ты обо мне подумал? Ты мне весь показатель портишь! Какая тут профилактика, когда… – он выругался, безнадежно махнул рукой. – Премия псу под хвост. Я же с голоду подохну без премии! А кушать и ментам охота. Чего молчишь? Что там было у вас?
Хабаров пристально посмотрел Петрову в глаза, и тот не выдержал его тяжелого взгляда.
– Значит, не бил. Так-так-так…
– Слушай, Глеб, шел бы ты со своим Погодкиным. Мне работать надо.
– В отдел к пяти вечера подходи. Работничек, твою мать!
Нахально разбрызгивая застоявшиеся лужи, черный, издали похожий на упрямого жука джип, петляя по бесконечному лабиринту пустынных сельских улочек, резво пробирался к центру Отразова.
Поравнявшись с Хабаровым, машина лихо затормозила.
– Эй, дед, стой! В контору рыбхоза правильно еду? – девушка нетерпеливо ждала ответа.
Опущенное до половины темное стекло явило миру точеную, с длинными матовыми ноготочками, руку, небрежно стряхнувшую пепел с сигареты, смуглое, безупречно красивое лицо, мило вздернутый носик, длинные каштановые локоны, едва убранные под черную сетку-шапочку, карие миндалевидные глаза в обрамлении пушистых ресниц. Такие глаза бывают у индийских красавиц, бархатные, томные, влекущие.
Алину Кимовну Тасманову он узнал мгновенно.
– Ты что, глухой или придурок? Я конкретно спросила: рыбхоз – там?
Девушка нервно ткнула пальцем в сторону, откуда шел Хабаров.
Хабаров кивнул.
Взмах, трепет длинных ресниц. Сладкие, чувственные губы. Надменное:
– Ты чего, старая образина, пялишься на меня? Челюсть вставную придержи!
Подарив Хабарову свирепый взгляд, красавица нажала на газ и скрылась из виду.
Он шагнул следом.
«Нет, Хабаров, – остановил он себя. – Не имеешь права…»
– Проходите, присаживайтесь.
Грузный седой подполковник был скорее похож на добряка футбольного тренера какой-нибудь самодеятельной дворовой команды, чем на начальника райотдела милиции.
– Вы прямо с работы. Я вас надолго не задержу, – приветливо начал он. – Я только что ознакомился с заявлением Погодкина – личности небезызвестной. Я сразу скажу, Александр Иванович, я верю тому, что вы участковому инспектору рассказали. Он мне доложил. Очевидно, что заявление вызвано неприязнью. Как установил участковый Глеб Петров, вас назначили на рабочее место Погодкина. Он просто мстит вам. Я и сам не раз был жертвой его гнусных нападок. Тут мы, конечно, отпишемся. Только вы должны нам помочь.
– Алексей Алексеевич, я не на многое гожусь.
Алексей Алексеевич улыбнулся.
– Нет, никто не собирается вас «загонять в корки»[8]. Вы ведь бывший спортсмен. А мои ребята разжирели. Им бы тренировки по самбо – в самый раз. Комплексная проверка скоро. Физподготовку тоже смотреть будут. Тут у нас безнадега. Учить некому. Сами видите, глухомань. Вы же – профессионал. Тем более с вашим-то послужным списком…
– Что?
– Александр Иванович, я же к встрече готовился. Позвонил на зону, где вы провели девять лет. Поинтересовался. Да вы не волнуйтесь! Чудес от вас не требуется. Жирок протрясут, лишнюю стопку не выпьют, может, глядишь, чему и научатся. Я иллюзий, как видите, не питаю. Но если вы откажетесь, – начальник райотдела с безразличной полуулыбкой смотрел на Хабарова, – мы будем вынуждены возбудить уголовное дело по заявлению Погодкина. Побои… Угроза убийством… Два состава, Хабаров, я вам уже нашел. Может быть, наркотики у вас дома хранятся? А может, оружие? Я не знаю. Надо проверять.
Хабаров встал.
– Я на зоне девять лет в добровольно-принудительном порядке преподавал офицерам боевое самбо. Может, хоть после освобождения отстанете?
– Александр Иванович, я уверен, у вас все получится. Мы поладим. Ну, в самом деле, не хотите же вы снова на зону? Назначим время тренировки…
В коридоре райотдела Хабарова ждала Боцман.
– Наконец-то! – обрадовалась она.
– Мария Николаевна, вы зачем здесь?
– Мимо шла.
«Мимо шла… Это через весь поселок-то? Беспокоилась, дуреха. Думала, замели. Выручать прилетела, – Хабаров улыбнулся. – Это дорогого стоит…»
Странное чувство. Забытое. О нем очень давно никто не заботился.
Шедший по коридору мужчина грубо толкнул Хабарова в спину.
– С дороги, быдло! – сквозь зубы процедил он и без стука вошел в кабинет начальника районного отдела милиции.
Боцман тут же потянула Хабарова за рукав к выходу.
– Пойдем, Саня. Не связывайся. Бандюки они и есть бандюки. Босой это. Икорная мафия. Держись от него подальше, коли не хочешь, чтобы утопшим нашли. Да, слушай, корреспондентка к нам из Москвы приехала. Из газеты центральной. Про рыбаков Приморья пишет. Спрашивала, кто лучше всех работает. С «рабочим человеком из глубинки», говорит, побеседовать надо. Так у нас же глубже некуда! Меня директор спросил, а я тебя назвала. Так что, – она подмигнула игриво, – с тебя причитается! Завтра после смены готовься. Только условие: что сидел – молчи. Незачем ей знать это.
– Испортите вы себе репутацию, Мария Николаевна.
– Моя репутация настолько хороша, что ее уже давно пора немного подпортить, – она засмеялась. – Должок это за Вовку-то Ларина. Разобраться, ты меня здорово выручил. И откуда в тебе столько проку?! – и, колыхаясь, она унесла свое тело.
Сообразив, что Алина Тасманова и есть корреспондент, Хабаров задумался, а потом, точно что-то для себя решив, пошел разыскивать участкового.
– Слушай, Глеб, – начал он с порога, – у меня дело к тебе на тысячу баксов. Мне надо уехать на выходные. Во Владик…
В грязном, прокуренном, плохо освещенном кабинете с табличкой на двери «Участковые инспектора» Глеб Петров был один. Он сидел за своим рабочим столом зеленого сукна, времен НКВД, привалившись спиной к облезлой, с остатками древней штукатурки стене и, закрыв глаза, покачиваясь из стороны в сторону, что-то мычал, с абсолютно отсутствующим видом.
– Глеб? – Хабаров застыл в дверях.
– И чё? – чуть приоткрыв масляные глазки, простонал тот.
– Не на чем. Только ваш катер с арестованными идет. Попроси, чтоб меня взяли.
– Ну, ты чего, Глеб?! У меня рот резиновый что ли? – раздался из-под стола недовольный женский голос. – Настройся, в самом деле.
Глеб с размаху опустил кулак под стол, где что-то сдавленно ойкнуло, и тут же над столом возникла растрепанная женская голова и повернулась к Хабарову.
– Вали отсюда, козел! Сказано, уматывай! Ты нам весь кайф ломаешь!
– Саня, замётано! Возьмут. С тебя поллитра на опохмел.
Петров запустил в Хабарова уголовным кодексом, и тот осторожно прикрыл за собой дверь.
Звонкий шлепок, и пухлый почтовый конверт заскользил по глянцу стола прямо в руки начальника районного отдела милиции.
– Чё, курьера нашел?
– Здравствуй, Босой. Присаживайся.
– Кому «Босой», а тебе – Валерий Игоревич.
Визитер с шумом пододвинул стул, сел напротив и бесцеремонно отпихнул бумаги со своего края стола.
– Заявление на твоих братков поступило. Вы что, Валера, берегов не видите? Вы кому угрожать убийством вздумали?! Журналисту из центральной газеты!
Босой склонился к начальнику отдела.
– И, что? Думаешь, 7.62 не возьмет[9]?
Милицейский начальник обхватил голову руками.
– Непостижимо! У вас мозги на ветру усохли, пока осетров потрошили! Только представь, понаедут, начнут проверять, будут всех трясти. Рухнет твой браконьерский бизнес! Валерий Игоревич, ты этого хочешь?
– Я эту московскую сучку все равно шлёпну.
– Тебя китайцы заложили. Я говорил тебе: не лезь к китайцам.
– Их я вообще за кордон вышибу.
– Что мне с ее заявлением делать? Оно официально зарегистрировано.
– В задницу себе запихни!
Начальник райотдела взял со стола конверт, посмотрел внутрь. Денег было много. Больше, чем ожидал. Он выбрал несколько купюр, скрепкой подколол к заявлению журналистки.
– Глебу Петрову отпишу. Пусть разбирается.
Алина Тасманова стояла у окна, сосредоточенно смотрела на расхаживавшую по грязному двору рыбхоза ворону. Ворона была потрепанная жизнью, голодная, искала, чего бы съесть.
Она ждала.
Скрип двери, сдержанное:
– Добрый вечер.
Она обернулась.
– Вы?! – журналистка не пыталась скрыть удивления. – Значит, вы и есть «пример для подражания»? Мужичок, который указал мне дорогу…
С нескрываемым интересом она разглядывала его с ног до головы.
– И как? – безразлично поинтересовался Хабаров.
– На грани фола… Признаться, героя своего репортажа я представляла, мягко говоря, несколько другим. Давайте знакомиться. Кто я, вам уже сообщили. Зовут меня Алина Кимовна Тасманова. Можно Алина. А вы? Мне ваша администрация не назвала того, у кого я буду брать интервью. Сказали, что «порешают». Видимо, опасались, что поговорив с рабочими, я узнаю много интересного о рекомендованном мне передовике труда.
Хабаров шагнул к двери.
– Я пойду.
– Подождите! Простите меня за вчерашнее. Там, на дороге, я вела себя отвратительно. Но я не со зла. Замоталась… Вы знаете, это очень странно, но я отчего-то вспоминала вас. Ваше лицо, как вы смотрели вслед моей машине… Мне было неприятно, что я обидела вас. Я, конечно, удерживать вас не в праве, но если вы уйдете сейчас, у меня останется осадок сожаления.
Он пожал плечами.
– Спрашивайте.
Она улыбнулась, включила диктофон.
– Как вас зовут, и кем вы работаете?
– Смирнов Иван Иванович, рабочий завода.
– Давно на заводе?
– Полгода.
– В чем заключается ваша работа?
– В море на плавбазе хожу. Сейчас на берегу. В цехе.
– А подробнее?
– Упаковка консервов.
– Каких?
– Разных.
– Каких именно?
– Рыба.
– Какая рыба?
– Всякая.
– Нравится работать?
– Да.
– А до завода где работали? Тоже рыба?
– Вроде того.
– Н-да… – Алина выключила диктофон. – Какой-то бред!
Он изучал ее профиль на фоне окна. Она была все так же красива. Но теперь ее восточная красота была нежна, и – странное дело – эта женщина вдруг шевельнула в нем что-то давно забытое, хорошо упакованное за ненадобностью, то, без чего было проще и удобнее жить, не останавливаясь, не оглядываясь, не сожалея.
– Надо же, вечереет. Снег пошел. Первый снег… Он кажется ненастоящим. Еще желтые листья на деревьях, – Алина обернулась к нему, улыбнулась, заглянула в глаза. – Мне почему-то совсем не хочется говорить с вами о рыбе. Мне кажется, она вам осточертела.
Хабаров выдержал ее взгляд. Вдруг ее ресницы дрогнули, взгляд наполнился болью. Она прикрыла глаза ладонью, точно защищаясь от его взгляда.
– Извините… – прошептала она.
В полнейшей тишине стрелка настенных часов отсчитывала минуту за минутой.
– У меня появилась идея на один вечер нарушить размеренный ход вашей жизни, Иван Иванович, – вдруг решительно сказала она. – Может быть, вы мне покажете местные достопримечательности, или мы просто погуляем и поболтаем, нет?
Они выбрались в парк.
– Странно, сегодня снег такой же, как в детстве! Снежинки кружатся мотыльками вокруг нас. Мне кажется, я слышу музыку этой метели!
Она раскинула руки, с восторгом запрокинула голову, подставляя лицо снегу, и белые пушинки одна за другой замирали у нее на ресницах и неприкрытых сеткой-шапочкой дивных волосах, длинных, до пояса, как встарь у красавиц из легенд и преданий.
– Посмотрите, посмотрите, какая красота! – восклицала она. – А небо! Небо темно-свежее!
– Темно-свежее? Не думал, что столь уверенная в себе леди сентиментальна.
Она подарила ему открытую улыбку.
– Еще как сентиментальна! Я часто вспоминаю, как однажды, в детстве, проснулась рано, часов в восемь, и из окна увидела голубое поле. Я смотрела на него изумленными глазами, словно наша дача за одну ночь перекочевала на морской берег. Голубые волны, гонимые ветром… Ничего более красивого я не видела никогда. «Мама! Мама! – кричала я тогда. – Что случилось? Кто покрасил поле в голубой цвет?» «Это лен зацвел», – отвечала она. Потом я каждое утро вставала пораньше, бежала туда, к полю, и ждала, когда оно проснется. Я забиралась на самое высокое дерево и оттуда смотрела на сказочное море и мечтала. Было хорошо-хорошо! Лен отцветал к полудню. А однажды голубой цвет исчез. Поле так и осталось зеленым. Я ждала до вечера. Еще завтра… Так я узнала, что все хорошее на свете кончается. Я повзрослела тогда. От разочарования. А вы помните свое первое разочарование?
– Мне было лет пять. С ребятами мы носились по пустырям, запуская бумажного змея. Мне казалось, что если сделать змея большим…
– …то можно будет летать на нем, держась за веревочку. Ты долго возился. Сделал такого змея. Но он отказывался лететь…
Полными слез глазами она смотрела в его глаза.
– Но ты все-таки стал летать.
– Да. Но прокатиться по небу на бумажном змее так и не пришлось.
– Здравствуй. Здравствуй, Саша Хабаров…
Алина прильнула к нему, замерла.
Хабаров не шевельнулся, не обнял.
– Я был уверен, что ты меня не узнаешь.
Он вдохнул чарующий аромат ее волос, закрыл глаза. Может быть, и не было этих ужасных лет?
Шел слабый снег. Отблескивая желтыми бликами фонарей, тонула в лужах липовая аллея. Редкие запоздалые прохожие, кутаясь в воротники пальто, торопились домой.
– Я писала тебе. Ты не ответил ни на одно мое письмо. Я приезжала к тебе. Но ты не захотел со мною свидания.
Она коснулась его щеки, осторожно провела по густой с проседью бороде, длинным спутанным волосам.
– Ты так изменился…
– Разве? – с наигранным удивлением уточнил он.
– Значит, решил все зачеркнуть и – с чистого листа?
– Было что зачеркивать?
– Чемпион России по боксу среди юниоров. Военное училище. Служба. Афганистан. За четыре месяца сто пятьдесят шесть боевых вылетов. Представление на звание Героя Советского Союза. Плен. Побег. Два долгих года скитаний. Именно потому, что ты остался жив, тебе так и не дали Золотую звезду. Каратэ. Черный пояс. Одним из первых в Москве основал свою фирму. Как каскадер был очень известен в профессиональных кругах. Главные роли в четырех боевиках, ни один из которых не обойден любовью зрителей. Руководитель российского отделения федерации «Годзю-до Каратэ-до», как единственный, на тот момент, законный обладатель восьмого дана. Инструктор школы выживания. Все это ты зачеркнул?!
– Ты меня с кем-то путаешь. Я – бывший зэк. Сейчас обычный работяга на обычном консервном заводе. Пакую в коробки консервы, складываю коробки в штабеля. Так по восемь часов каждый день. У меня даже дома нет. Завод дал заброшенную избушку, где самодельный стол, два табурета и ржавая кровать. Из друзей одна безродная дворняга. Вот тебе интервью! Пиши!
Он отстранился и пошел прочь.
– Саша! – крикнула ему вслед Алина. – А я? Меня ты тоже зачеркнул?!
Хабаров остановился, будто натолкнувшись на невидимое препятствие.
Алина догнала его, взяла за руку, прижала его ладонь к своей холодной, мокрой от слез щеке.
– Прощай, Алина.
Он тоскливо посмотрел в небо. Снег идти перестал. Сказка кончилась.
Весь день Хабаров мотался по спортивным магазинам, приобретая спортивную форму и инвентарь для занятий по самбо.
К обеду, сдав вещи в камеру хранения, усталый, продрогший, он пришел в китайский ресторанчик, ладно примостившийся на пристани.
Посетителей было немного, в зале царила та непринужденная атмосфера, которая позволяет чувствовать себя уединенно и расслабленно. Уютный мирок заведения был приятным контрастом с погодой. А с погодой сегодня не повезло. Штормило. Шел мокрый снег вперемешку с дождем. Глядя в мутное от потоков дождя окно, Хабаров закурил.
«…Я писала тебе, но ты не ответил ни на одно мое письмо. Я приезжала к тебе, но ты не захотел со мною свидания… Разве можно все зачеркнуть? Меня ты тоже зачеркнул?!»
Он вспоминал Алину. Сердце щемило. Он слишком хорошо понимал, что, если бы не сел, все бы у них сложилось. Была бы у него семья, росли бы дети…
«Не для тебя это. Поздно. Всё поздно…» – Хабаров до боли сжал кулаки.
– Девушка! – крикнул он официантке.
Та поспешно подошла.
– Водки принесите. Надо выпить за помин души.
Перехватив его тяжелый, затравленный взгляд, официантка понимающе кивнула и через минуту поставила перед Хабаровым графинчик с водкой, с сочувствием произнесла:
– Пожалуйста, примите мои соб…
– Я понял.
Двери ресторанчика с шумом распахнулись, и в зал гурьбой ввалилась шумная компания. Ребята основательно продрогли и теперь решили согреться и телом и душой.
«Киношники…» – сразу определил Хабаров.
Официантка охотно ответила на его вопросы. По-свойски рассказала, что ребята всегда у них обедают. «Высокий блондин в джинсе» и «розовощекий толстячок в серой ветровке и черных брюках со стрелками» – каскадеры. Остальные – «кто-то из киногруппы». Сегодня «у них» был выбор натуры, а завтра будут снимать на водопаде.
– Говорят, очень интересно будет, – без умолку щебетала словоохотливая официантка. – Каскадеры по отвесной скале полезут. Там метров пятьдесят. Камни от воды мокрые, скользкие. Даже когда солнце, все равно идет дождь – брызги от падающей воды. Жуть! Обязательно посмотрите. Я завтра тоже поеду…
Пронизывающий ветер. Крупные хлопья снега вперемешку с дождем.
Хабаров стоял, опершись о парапет моста в двух шагах от заведения.
«Живут люди…Работают… – хмуро думал он. – Господи, что угодно бы отдал, чтобы туда, назад! И вычеркнуть, и нет девяти лет кошмара…»
Он не поехал в Отразово. Его тянуло к ним. Там была его жизнь.
«Хоть прикоснуться. Хоть издали. Чуть-чуть…»
Старенький экскурсионный «Икарус», натужно урча мотором, петлял по нескончаемому лабиринту дороги, пробираясь между скалистых сопок. Хабаров проклял себя за то, что не взял такси. Добрались до места, когда восхождение уже началось. Толпа зевак стаяла у самых перил смотровой площадки, что на вершине, чуть левее водопада, и, стараясь перекричать шум падающей воды, одобрительно комментировала зрелище. Снимали сразу с трех точек: от подножья, с вершины и сбоку, со смотровой площадки. Работали два каскадера, никакого пограничного альп-отряда, чего ожидал Хабаров, не было и в помине.
Каскадеры, которых Хабаров видел в ресторане вчера, поднимались по отвесным выступам по обеим сторонам водопада. Они были одеты в военную камуфляжную форму, за спиной у каждого был автомат. Впереди, к вершине, тянулись тонкие фалы страховочных тросов.
Первым, правее падающей воды, шел «блондин в джинсе». Его роскошный, пшеничного цвета чуб, выбившийся из-под голубого берета, безжалостно трепал ветер. Он уже добрался до тридцатиметровой отметки, до вершины ему оставалось метров двенадцать. Ниже, метров на пятнадцать, поднимался медлительный крепыш. Наблюдая за его вороватыми движениями, Хабаров невольно усмехнулся: «брюки со стрелками» подошли бы ему куда больше, чем военная форма.
Внезапно шедший первым отчаянно взмахнул левой рукой, из под которой выскользнул, сорвался вниз зелено-серый камень. Его ноги соскочили с выступа мокрых, покрытых слизью камней, и в то же мгновение каскадер повис на страховке. Но спасение было короче мгновения. Едва он успел нащупать удобную ложбинку, страховка оборвалась, и человек повис над пропастью на руках.
Внизу рокотала вода, разбиваясь мириадами брызг о скальную породу.
В замешательстве никто из съемочной группы не мог предпринять ничего толкового. Люди бегали взад-вперед, размахивали руками, кричали: «Сева, держись!» Но ничего путного из беготни и суеты не выходило.
Кто-то предложил:
– Может, ему веревку кинем?
– А ловить ее Гордеев зубами будет? – ехидно откликнулось сразу несколько голосов. – Сорвется!
– Ищите веревку! – орал режиссер. – Веревку!
Все видели, как висящий над пропастью человек попытался найти подходящий выступ для ног, но все его попытки были тщетными, ноги беспомощно скользили по вылизанным ветром и влагой камням. Сколько он продержится так? Минуту? Две? А дальше? Свободное падение… Глухой шелестящий удар…Бесконечно много, вечность времени для сожаления!
Скорее повинуясь сердцу, чем разуму, на ходу стягивая сковывавшую движения теплую куртку, Хабаров рванулся на съемочную площадку.
– Дайте мне трос, шнур, веревку… Что-нибудь! Скорее!
Кто-то тут же убежал и тут же вернулся, держа в руке остатки каскадерского снаряжения. Страховочного пояса не было, и Хабаров обвязался концом альпинистского троса.
– Ты, чума, что делать будешь? Мало мне одного покойника! Отвечай за вас! Не сметь! Отойти от края! – рявкнул угрюмого вида мужчина из съемочной группы.
Он грубо схватил Хабарова за одежду и попытался оттащить.
– Не дергайся, – сквозь зубы процедил Хабаров и сбил его руки. – Ребята, подержите!
Подбежавшие люди дружно взялись за свободный конец троса, и Хабаров шагнул в бездну.
– Двоих-то выдержит? – опасливо осведомился пиротехник.
– Скоро узнаем…
Ловко опираясь ногами о каменистый выступ водопада, обжигая ладони о шелковый глянец троса, Хабаров спускался все ниже, все ближе. Он торопился, каждой клеточкой тела ощущая, каково сейчас тому, кто у черты.
Парень держался из последних сил, его руки заметно дрожали, пальцы побелели. Лбом он уперся о скалу и то ли охал, то ли бормотал что-то. Хабарова он не видел. Поднять голову, посмотреть вверх он уже не мог.
– Не шевелись! – на подходе приказал Хабаров. – Я сам возьму тебя. Виси, не шевелись!
– Не могу! – прохрипел тот. – Больше не могу!
– Можешь!
Он четким, отточенным движением замкнул задний поясной замок карабина каскадерского снаряжения на тросе, крепко обхватил беднягу левой рукой, так, что тот едва ли мог вздохнуть, пронзительно свистнул и крикнул: «Поднимайте!»
Парень вцепился в одежду Хабарова. Наверху, стоя у края водопада, Хабаров помог ему разжать скованные судорогой пальцы. Они обнялись.
– Ангел-спаситель… Я уже «ящик» примерял.
Окружающие аплодировали, обнимали победителей.
Врач суетился вокруг Хабарова, пытаясь наложить повязку на стертые в кровь ладони, обработать ссадины, оставленные опоясывавшим тело тросом.
Действительно, все хорошо, что хорошо кончается!
Событие решили отметить: нужно было расслабиться. Тут же возник импровизированный столик. Оперативно снарядили в город до магазина гонца.
– Давай за жизнь! – Сева Гордеев коснулся краешком бумажного стаканчика стакана Хабарова. – Не умею я говорить красиво, да и не суть. Ты, Саня, поймешь…
Хабаров улыбнулся, кивнул. Теплые лучики-морщинки залегли легкой паутинкой у внешних уголков глаз.
Здесь, в суете бестолкового пикника, среди чужих, едва знакомых ему людей, против обыкновения, Хабаров чувствовал себя комфортно и на удивление легко.
– А у меня дочурка, Катька. Ей двенадцать весной исполнилось. Когда висел… – Сева запнулся. – Короче, слезы так сами и катятся. Представляешь?! Никогда не плакал. Боль любую терпел. Никогда! А тут… Как вспомню ее глаза… Как она без меня будет… Мы же для них живем. Ради них.
Он смущенно глянул на Хабарова, дрожащей рукой потер щетину.
– Нервы… Не обращай внимания. Пройдет. А как твои спиногрызы?
Хабаров не ответил. Сосредоточенно он вертел в пальцах, покусывал сухую травинку. Все, что ему осталось, это воспоминания. Одна и та же, прокрученная тысячи раз картинка: аэровокзал, рвущие душу объятия маленьких ручонок, осторожный, чтобы не слышала мать, шепот на ухо: «Все равно я буду любить только тебя, папочка…» От этого шепота он долго просыпался ночами и уже до утра не мог заснуть. «Анютка, я виноват, виноват, виноват…» – ныло сердце, ударяя тяжело, невпопад, а душа была готова взять низкий старт. Но время лечит.
– Саня? – Гордеев тронул его за плечо.
– Прости, – поймав настороженный взгляд Гордеева, наконец сказал Хабаров. – Задумался… У меня тоже дочка. Анютка. Не видел ее почти пятнадцать лет.
– Извини. Не знал я, – смутился Гордеев.
Повисла неловкая пауза.
– Да ладно тебе! – Хабаров улыбнулся, потрепал Гордеева по пшеничной шевелюре. – Отболело.
«Только себе не лги. Только не лги…» – подумал он.
Разлили по стаканам остатки водки.
– Ты у кого батрачишь-то?
– Да… Есть одна дерьмовая контора. Работы много. Денег мало. Ни страховки, ни гарантий. Выживай, как хочешь. Нет, конечно, шеф на «мерсе» последней модели ездит, особняк у него на Истре, под Москвой, детишки в Англии учатся. Все, как надо…
– Сева, ты москвич что ли? – взгляд Хабарова потеплел.
– У-гу, – кивнул Гордеев. – Мы, каскадеры, тут случайно. Кто ж знал, что на край света закинет? Со студией одной, московской, шеф контракт подписал. Кабала, одним словом. Как крепостные. Сейчас этих студий, – Гордеев сплюнул, – как поганок после дождя… Мать их в душу! Жена говорит: бросай, завязывай. На заводе и то больше получишь. Права. Я тут месяца четыре дома отлеживался. В дом ни копейки. Им-то, бабонькам моим, каково?
– Что за контора у тебя?
– «Витязь». Борткевич Николай Яковлевич заправляет.
– Борткевич? Н-да… – Хабаров усмехнулся, брезгливо, нехорошо, и принялся шампуром ворошить жаркие угли сооруженного на скорую руку костерка.
– Что мы все обо мне-то? – спохватился Гордеев. – Ты-то как? Что, где? Судя по тому, как управляешься со снаряжением, навык есть.
– Мы все учились понемногу…
– Да ладно!..
– Рядышком тут райцентр. Отразово называется. Там рыбу чищу и закатываю в банки на радость населению нашей необъятной Родины.
– И все?
– Почему все? Икра, красная и черная, креветки с кальмарами… В ассортименте.
– А горы?
– Что горы?
Сева Гордеев безнадежно махнул рукой. Он потянулся к гитаре, любовно вынул ее из добротного кожаного чехла и, пробежав по струнам, хриплым простуженным голосом напел:
Полно горе горевать,
Нынче надо рисковать,
Снова надо рисковать своей шкурой.
Под кулак подставить нос
И в машине под откос
С бутафорской в голове пулей-дурой…
– Все же нравится.
– Что нравится? – не понял Гордеев.
– Работа. Иначе бы давно на завод. Не прав?
– Знаешь, Саня, может, только по-настоящему и живу, когда есть работа.
– Давно трюкачишь?
– Лет семь.
– Чаева Виктора знаешь? У него…
– Кто ж не знает! – оживился Сева Гордеев. – Его фирма – предмет грез и вожделений нашего брата. Лет десять назад они здорово гремели. Мощно! Потом у них неприятность какая-то вышла. Я толком не знаю. По слухам, шефа их посадили… А что?
Хабаров безразлично пожал плечами.
– Значит, говоришь, предмет грез и вожделений? Хорошо…
Гордеев посмотрел на Хабарова внимательно, пристально, будто стараясь извлечь что-то из самого укромного уголка памяти.
– Погоди, – он тронул Хабарова за плечо. – А я, глухарь на току, все соображаю – сообразить не могу! – он прищурился и, ткнув указательным пальцем в колено Хабарову, победоносно заявил: – Нам же ролики крутили в школе. В школе каскадеров. Как учебное пособие. Понимаешь? Автотрюки. Класс! – он радостно затряс руку Хабарова. – Воистину, земля круглая. Саня Хабаров! Ну, сучий потрох! Чего ж не сказал?!
– Брось, – отмахнулся Хабаров.
– Чего брось? Чего брось?! Серега, иди сюда! – крикнул он второму каскадеру. – Кто у нас здесь, у костерка-то…
– Остынь. Не егози! – жестко то ли попросил, то ли потребовал Хабаров.
Какое-то время они сидели молча. Хабаров наполнил свой пластиковый стаканчик до краев водкой и, не глядя на Гордеева, выпил.
– Помянул, значит? – искоса поглядывая на Хабарова, спросил тот.
– Значит, так.
– Да тебе же равных до сих пор нет! Мы же все учились у тебя! Саня, ты же…
– Оставь, – Хабаров положил руку Гордееву на плечо и очень спокойно, с улыбкой повторил: – Оставь, ладно? Солнце в зените склоняется к закату, полная луна – убывает, пышный расцвет сменяется жалким увяданием, за радостью всегда идет печаль. Так говорил великий «Старец с берегов Реки»[10]. Все закономерно, все идет своим путем… Все нормально!
Расставались у гостиницы.
– Может, полетим в первопрестольную вместе?
Хабаров улыбнулся.
– Я уже староват для подвигов. Вам, орлам, они в самый раз!
На прощание обнялись и долго хлопали друг друга по спинам.
Назад, в Отразово, Хабаров добирался на рыбхозовском буксире. Всю дорогу он сидел на корме, на пустых рыбных ящиках, тупо глядя на воду, не замечая ни дождя, ни пронизывающего ветра. В жизни он был лишним.
– Среди многих видов самозащиты, практикуемых народами мира, отечественный вид рукопашного боя – самбо – занимает совершенно особое место, – голос Хабарова гулким эхом отдавался в лабиринтах спортивного зала. – Дело не только в огромном многообразии приемов, – а их более десяти тысяч, – а скорее в том, что система самбо возникла в результате объединения наиболее эффективных приемов единоборств целого ряда национальных школ борьбы. Боевой его раздел долгое время был секретным, так как в него входят опасные захваты, броски, удары, воздействия на особо уязвимые точки человеческого тела, болевые приемы на все суставы рук и ног, приемы по использованию подручных средств и окружающей обстановки в условиях боя…
– Короче, Склифосовский! – крикнул опер-верзила, сидевший рядом с начальником райотдела. – Мы сюда не лекции слушать пришли. Или ты кроме как языком молоть, ничего не можешь?
Публика одобрительно зашумела.
– Один из корифеев самбо, Анатолий Аркадьевич Харлампиев, считал, что выдержка – главная черта хорошего борца, – спокойно продолжал Хабаров, непринужденно расхаживая в новеньких борцовках по застеленному матами полу вдоль сидевших в рядок на гимнастических скамейках стражей порядка.
В руках он тискал маленький резиновый мячик. Вдруг, совершенно неожиданно, с разворота, Хабаров с силой швырнул этот мячик прямо в грудь словоохотливому верзиле. Тот растерянно хлопая глазами смотрел на Хабарова, ловко поймавшего отскочивший мяч.
– Внимательность и концентрация на действиях противника – эти качества вы должны вырабатывать в себе. Вместо мяча мог быть нож.
Он взял нож и подозвал того, в кого метнул мяч в начале.
– Возьми нож и нападай.
– Как? – не понял новоиспеченный спарринг-партнер, бывший головы на две выше Хабарова.
– Как угодно. Давай! – подбодрил его Хабаров.
– Не буду я, – отмахнулся тот, глядя на начальника отдела. – А если я зарежу этого бородатого хлюпика, мне что, сидеть? Товарищ подполковник, это ж «финка». Холодное оружие. Надо еще узнать, где он ее взял.
– Поговори у меня, Белобров! Выполнять приказ! – рявкнул начальник отдела.
– Есть, – нехотя ответил тот и вяло, театрально занес нож над головой.
– Смелее! – подбодрил Хабаров. – Этот прием офицеры отрабатывали на мне девять лет. Ты не последний.
Оперативник усмехнулся и робко приблизил нож к груди Хабарова. Хабаров перехватил его руку.
– Я вас просил нанести удар.
– Не могу я! – взмолился оперативник. – На матах муляж лежит. Дайте мне муляж.
Хабаров взял у противника нож, через голову, как бы между прочим, метнул его. Нож воткнулся точно в узенькую деревянную стойку шведской стенки. Противнику он подал муляж: деревянная ручка, резиновое лезвие.
– Это ж другое дело! – повеселел Белобров. – Ну, держись. Сейчас я тебя уделаю! – и со сдавленным хрипом он, как фехтовальщик, сделал выпад в сторону Хабарова.
В следующую секунду Белобров уже был обезоружен и, лежа на матах, изумленно поглядывал по сторонам:
– Во дела! Как это?! Где нож-то?
Хабаров подал ему руку, помог подняться.
– Не ушибся?
– Нормально… – смутился тот.
– Следует помнить, что все виды защиты от вооруженного нападения заканчиваются добивающими ударами либо болевыми приемами. Вы не вправе вести себя с противником так, как ведем себя мы, дружески похлопывая по спинам. Защита выполнена только тогда, когда атакуемый отобрал оружие, перекрыл возможные пути его использования или когда противник по своему физическому состоянию не имеет возможности продолжать атаку. Как сейчас, – и он аккуратно «уложил» на ковер ничего не успевшего понять Белоброва. – Мне нужны четверо. Кто желает?
Движимые интересом, поднялись сразу несколько ребят. Хабаров отобрал самых крепких.
– Возьмите эти деревянные палки. Разойдитесь в стороны, образуя круг диаметром метров в семь. Когда я подам команду, вы будете нападать. Вы можете этими палками нанести мне удар, можете колоть.
– А смысл? – спросил кто-то.
– Смысл в том, что ничего этого я не увижу.
Хабаров, точно фокусник, извлек черный лоскут ткани, предложил его посмотреть на просвет, потом вошел в центр круга и завязал себе глаза.
– Бой!
Это было еще то зрелище! В несколько четких движений он завладел оружием всех четверых нападавших и, сбросив черную повязку, приказал:
– А теперь все четверо. Нападайте одновременно!
Ребята старались. Очень старались. Но вновь, одного за другим, Хабаров уложил их на маты.
Все азартно зашумели.
Начальник отдела довольно улыбался.
– Теперь за работу! Разомнемся, и я покажу несколько «ходовых» приемов.
Они с удовольствием подчинились ему. Вернее, он их подчинил.
Расходились по домам поздно, ближе к полуночи. Особенно любознательным не терпелось узнать тот или иной конкретный прием, и Хабаров показывал, терпеливо объясняя, как сделать правильно, акцентировал внимание на ошибках. Кто-то делился своим боевым опытом, и Хабаров внимательно слушал, одобрительно кивая, просил показать, как это было, с удовольствием играя роль противника.
В жизнь этих усталых, угробленных глубинкой людей вошло, пусть ненадолго, разнообразие. Хабаров смотрел в их просветленные лица, загоревшиеся интересом глаза, и никак не мог заставить себя почувствовать хоть какое-то удовлетворение.
Еще издали Хабаров увидел свет в окнах своего крохотного домика на окраине.
Дверь в дом была открыта настежь. На крыльце в полосе яркого электрического света лежал Амур.
– Амур! – позвал Хабаров.
Собака не шевельнулась.
– О, нет… – со стоном выдохнул он.
Пес лежал в луже крови. Ему выстрелили прямо в пасть.
Хабаров судорожно сглотнул. Ему вдруг стало нечем дышать. Колокольчиками зашелестело ускользающее сознание. Этот звук слился со все нарастающим шумом, похожим на звук бьющихся вдребезги волн морского прибоя. Защипало глаза. Чувствуя, что не может стоять, он опустился перед псом на колени, дрожащими руками закрыл лицо.
– Это я виноват. Виноват! Виноват! Эх, люди…
Торопливый стук в окно. Осторожный, сдержанный вскрик. Скрип двери. Вопрос в темноту:
– Хабаров, ты здесь? Ты живой?
Невнятное бульканье и звон тары в ответ. Осторожное прикосновение. Рука ложится на плечо.
– Убирайся!
Cметаемая резко, сгоряча, посуда летит на пол. Мат, жесткий, мужской.
– Да ты пьян! Хабаров, миленький, соберись. Пожалуйста! Умоляю!
Алина забрала из его рук наполненный до краев стакан водки, вылила.
– Я в такую дрянную историю влипла! – едва сдерживая слезы, сказала она. – У меня фоторепортаж о браконьерской добыче черной икры. Меня, как зайца, по району браконьеры гоняют. Убить грозят. Я сначала этих «мальчиков» послала по известному адресу, в милицию пожаловалась. А теперь… Теперь они с ментами заодно! Им мало просто получить пленку. Ты понимаешь?
Она тряхнула Хабарова за плечо.
– Я боюсь, Саша! Мне надо как-то уехать отсюда живой. Помоги мне!
Хабаров безразлично хмыкнул, за отворот куртки притянул ее к себе, вульгарно рыгнул прямо в лицо.
– Я собаку похоронил. Кровь у крыльца видела? Убили, сволочи. Подонки! Скоты! – он припечатал кулаком по столу. – Она же добрая была. Голодная всегда. Ее же никто не любил. А я любил… Погодкин, сука!
Плавающий свет фар. Резкий скрип тормозов. Уверенное:
– Здесь она, Босой! Мне администраторша из гостиницы точно его описала. Ща голубки отворкуют!
– Саша, нас убьют!
– Опостылело все…
– Бежим. Бежим! У меня машина за оврагом.
Алина схватила Хабарова за руку и потащила к окну, выходившему в сад.
Хабаров вел машину агрессивно, испытывая почти физическое наслаждение. Он проскочил окраину и через секунды уже несся по ночному шоссе. Впереди была утонувшая в ночи дорога. Вершины дальних сопок едва выделялись на фоне черно-звездного неба – их освещали первые робкие лучи восходящего где-то далеко-далеко за океаном солнца.
Он постарался окончательно освободиться от захлестнувшего его совсем недавно чувства апатии и безразличия. Ставкой в этих жестоких взрослых играх, куда он неожиданно, благодаря Алине, влез, была жизнь. Чудес быть не могло. Ему нужно было выиграть, обязательно. Иначе вся затея теряла смысл.
В какой-то момент Хабаров заметил, что позади, на самой окраине поселка, мигнул и пропал свет фар.
– Какого черта я поперся во Владик?! Я – пьяный, а ты, овца, куда смотрела?!
– Найди, куда свернуть!
– Здесь, дорогая, можно найти только приключений на задницу. Берег и сопки. Свернуть некуда.
– Саша, но они же за нами едут! Фары видишь?
– Возможно, впереди нас ждет их кордон.
Хабаров стал тщательно всматриваться вперед, стараясь вовремя заметить, не пропустить какой-нибудь поворот на лесную дорогу, где его шансы потеряться, уйти от погони были бы много выше.
Но уж если мы лишены благосклонности судьбы, то это, чаще всего, всерьез и надолго. Всегда, в любой авантюре (а что их затея – авантюра чистейшей воды, Хабаров нисколько не сомневался), существует такая вещь, которую нам, смертным, предугадать просто не дано. Это удача. На нее можно надеяться, уповать, но улыбнется она нам в этот раз или нет, предугадать нельзя. Хабаров мог поспорить, что сейчас расклад «пятьдесят на пятьдесят», и ни за один исход не поручился бы и сам Господь.
– Отлично! Просто как по заказу! – воскликнул он, заметив, что боковое зеркало надежно поймало и удерживает все приближающийся свет фар, а впереди замаячили габариты неподвижно стоящей на их полосе машины. – Черт бы побрал эти приморские дороги!
Шоссе петляло между сопок, зажатое ими в тиски. Уйти с него не было никакой возможности. Выбора не было. Хабаров вжал в пол педаль газа.
– Возьмем сейчас! Делов-то! – в азарте погони крикнул Босой и передернул затвор пистолета «ТТ».
– Босой, не стрелять! Никому не стрелять! – крикнул Глеб Петров.
– Это ты у себя в кабинете, красноперый, командуй! – возразил Босой. – А здесь я приказы отдавать буду. Не умеете вы, легавые, эмоции при себе держать. Прямо как бабы! Только наличкой шелестеть умеете, на халяву.
– Предъявляешь?!
Босой взял участкового за воротник, резко дернул на себя.
– Еще мявкнешь, я те без предьявы урою. Понял?!
Он отпихнул Петрова, и тот сразу присмирел.
– Дима, кончай эти гонки! Давай, притри его к обочине.
Босой торопливо пробежал по кнопкам мобильного телефона.
– Борисик? Он сейчас у тебя будет. С бабой. Встречай! Я следом.
Белая «шестерка» услужливо подставила свой бок. Автоматная очередь полоснула в лобовое стекло.
– Пригнись! – успел крикнуть Хабаров, рванув Алину вниз, на сиденье.
Таран. Скрип металла о металл. Вираж. Еще. И скорость!
– Перебирайся назад! – потребовал Хабаров, одновременно сбивая кулаком мешавшие обзору остатки стекла. – Сейчас будет поворот. За поворотом приторможу. Прыгай и уходи в лес. В лес! Ты поняла?! У тебя будет несколько секунд. Иначе они тебя заметят.
– А ты?
– Я следом. Я найду тебя. Готова?
Алина приоткрыла дверцу, прижала сумку к себе. Хабаров чуть уменьшил скорость, притер машину к левой обочине.
– Давай!
В зеркале снова замаячил «хвост». Он старательно приближался, сократив расстояние метров до ста.
Хабаров зло усмехнулся.
В предрассветных сумерках он не увидел моста. Глаз зацепил синий с белой надписью указатель «Река Молога».
«Здесь! – сказал он себе и чуть притормозил. – С Богом!»
Точно в замедленной съемке, в мельчайших деталях, преследователи видели, как сорвавшийся с перекрытий недостроенного моста джип летел вниз, освещая фарами неспокойную водную гладь. Следом падали обломки деревянного парапета. Глухой всплеск, шелест опадающих брызг, бурлящий звук затопляемого салона. Немая сцена.
– Ну-ка, фарами посвети. Может, живы, выплывут…
– Ты бы выплыл?
Участковый Петров сплюнул, выругался.
– Что делать будем, господа бандиты? – вместо ответа спросил он.
Словно завороженные, люди смотрели, как все дальше, все глубже машина уходила под воду.
– Джип жалко. Походил бы еще.
Никто из них так и не заметил лежащего под мостом без сознания водителя джипа.
Хабаров лежал на земле на боку, в неудобной позе. Голова безжизненно склонилась к правому плечу. Из-за левого уха пробивался ручеек крови, стекая ему на лицо, опадая на траву крупными частыми каплями. Он открыл глаза. Трава под лицом была ярко-красной. Он приподнял голову. В ушах зашумело, перед глазами поплыли разноцветные круги. Спина и грудь болели так, будто его нещадно били.
«Что-то чувствую. Живой, значит…», – подумал он и усмехнулся.
Несколько минут он оставался неподвижным, словно собираясь с силами, потом сделал над собой усилие и стал медленно садиться, но не сел, земля опрокинулась ему прямо в лицо.
Хабаров очнулся, когда солнце уже успело высоко подняться над горизонтом, и его лучи, растворяясь в золотой осенней листве кленов, наполнили воздух осязаемым чистым светом.
«Точно такие же клены были рядом с моим домом, – вспомнил он. – Мальчишкой я так любил смотреть на них, когда шел дождь. Правда, очень давно это было. И где-то я их видел еще. Но где?»
Он прислушался. Шум машин на шоссе был едва различим. Шум реки был совсем рядом.
«Как же я дошел сюда?» – растерянно спросил он себя.
Хабаров осторожно сел. Было больно, но эту боль можно было терпеть. Голова кружилась, и от этого лес слегка покачивался. Тошнота подступила к горлу, скрутила, вывернула на изнанку.
Держась за ветку, он трудно поднялся, отдышался и, неловко переставляя затекшие от неподвижности ноги, медленно побрел к реке. Ему очень хотелось пить. Он был уверен, что глоток холодной воды приведет его в чувство. Гудящая боль в голове и во всем теле не проходила, не давала думать, и поэтому, наверное, память бессильно кружила неподалеку.
– Саша! Ты куда?
Алина шла к нему, бережно держа в руках наполненный водой бумажный стаканчик. Стаканчик был маленький, наскоро сделанный из листка блокнота. Хабаров обернулся на голос, потерял равновесие и рухнул навзничь в прибрежную траву.
Алина бросилась к нему, приподняла, дала воды.
– Ты… Живая… – безразлично констатировал он, вытирая губы.
– Я боялась, ты умрешь у меня на руках.
– Идти надо.
– Куда?
– В тайгу. Палку поищи мне, чтобы опереться. Помоги встать.
Шли долго. Ей показалось, целую вечность.
Дорогу с трудом можно было назвать дорогой. Скорее это были старые, поросшие мхом и травой колеи вездеходов, время от времени прерываемые громадными, точно лесные озерца, лужами с болотом по краям. То и дело дорогу преграждали сухие, давным-давно поваленные ветром деревья. Их приходилось обходить. Перелезть через их толстые стволы не было никакой возможности.
Алина смотрела на Хабарова с болью в сердце. Весь в засохших потеках крови, с пустым невидящим взглядом зомби, механически переставляющий ноги, тяжело переводящий дыхание, бросающий короткие вымученные фразы, он был вряд ли способен дойти до места назначения.
У ручья Хабаров оступился и без сил рухнул в высокую осоку.
– Все. Не могу больше… – он судорожно выдохнул.
Алина всхлипнула, принялась поднимать его из воды.
– Саша, прости меня! Прости, что втянула тебя во все это.
Морщась от боли, он встал, посмотрел на свои руки, изрезанные осокой в кровь.
– Тебе очень плохо?
– Не бойся. Не умру. Скоро будет распадок. Надо до распадка дойти, пока не стемнело. Там заночуем.
«Скоро» продолжалось четыре с лишком часа. Усеянное крупными и поменьше валунами русло некогда полноводной, а теперь обмелевшей реки, таежники называли распадком. К нему беглецы вышли вечером. Напившись хрустальной, обжигающе холодной воды, оба неподвижно, точно изваяния, сидели на валунах, наслаждаясь долгожданным отдыхом.
– Не отходи далеко от меня, – сказал Хабаров Алине. – Потеряешься. Здесь место гиблое. Аномалия. Но дальше я идти не могу. Нам предстоит провести ночь в тайге у костра. Пойдем собирать хворост.
Найдя подходящую сухую ветку, Хабаров не мог нагнуться и поднять ее. Он медленно, осторожно, держа корпус как можно более прямо, опускался на колени, прихватывал одной рукой ветку за край, а другой опирался на найденную палку и все так же, стараясь держать спину прямо, морщась от боли, поднимался. Шагом улитки он волочил находку к месту ночлега. Так повторялось раз за разом. Он действовал, не думая ни о чем, кроме того, что должен сделать сейчас, сию минуту. Это занятие вымотало его. Голова гудела. Перед глазами плясали радужные круги. Мириады колокольчиков звенели в ушах на разные лады.
– Саш, отдохни. Я сама, – не выдержав, сказала ему Алина.
– Я вырублюсь, если сяду. Надо еще костер развести.
– У меня же в сумке таблетки от головы. Я забыла. Я сейчас!
Приняв таблетки, Хабаров почувствовал, что боль притупилась, стало полегче дышать. Он подбросил в костер хворост и стал сосредоточенно наблюдать, как огонь тонкими желтыми язычками лижет дерево, как искры метеорами тонут в черном осеннем небе.
– Боже мой… Боже мой… Какая же я дура! Черт меня дернул влезть в этот подпольный икорный бизнес! Надо было сразу им пленку отдать.
Они сидели у костра, на сбитом ветром кедровом лапнике, привалившись к толстому, в два обхвата, стволу кедра.
Алина всхлипнула. Хабаров хотел обнять ее, но сдержался.
– Тебе поспать надо.
– Прости меня, Сашенька!
– Не извиняйся. Ты – лучшее, что случилось со мною за последнее время.
– Не утешай. Не так ты представлял свое будущее.
– Будущее… – эхом повторил он. – На настоящее нам плевать. О будущем мы думаем всегда. Мы гонимся за ним, стремимся к нему, к своему будущему. Вот, еще чуть-чуть. Один шаг. Только руку протянуть и тогда… А что такое будущее? Все живем в настоящем. Будущее никто никогда не видел. Все о нем только говорят. Значит, нет его. К черту будущее!
Неожиданно до них донесся приглушенный расстоянием надрывный женский плач, перешедший в душераздирающий вопль. От этого крика смолкли ночные птицы. Даже ветер замер на полудуновении. По тайге разлилась зловещая тишина, такая, как бывает у порога неотвратимого бедствия.
Алина испуганно прильнула к Хабарову.
Крик пронесся над тайгой и исчез где-то в дальних сопках.
– Что это, Саша? – едва слышно пролепетала она.
Ее огромные, полные ужаса глаза тщетно старались отыскать в черноте леса ответ.
Хабаров подтащил поближе к себе самодельный факел: кедровый лапник, привязанный к длинной ветке и обмотанный его рубашкой.
– Это – зверь. Успокойся.
– Это кричала женщина. С нею случилось что-то ужасное!
Он помолчал, потом нехотя стал рассказывать.
– Таежники говорят, что есть в этих местах какая-то тварь. Вроде бы голова у нее, как у человека, ноги тоже человечьи, с голыми коленками. Вместо рук двухметровые крылья, перепончатые, как у летучей мыши. Только шерстью, как и все тело, покрыты. Издает вот такие крики, точно человечьи.
– Шутишь?
– Эта тварь летает.
– Что?!
– Охотники говорят, что встреча с нею опаснее, чем встреча с тигром. Были случаи, когда тварь разрывала жертву когтями. Я думал, что это сказки.
Хабаров замолчал.
В наступившей тишине только ветер шипел, барахтался в пушистых верхушках кедров.
– Я боюсь, – твердо произнесла Алина.
Хабаров усмехнулся.
– Я тоже. Главное, не беги. Просто падай на землю. И вообще, всегда держись рядом. Уфологи всего мира за этой тварью охотятся, – добавил он с деланной бесшабашностью. – Выслеживают ее то у реки Бикин, то у горы Пидан. Никому еще не повезло. А мы с тобою ее за ноги притащим. Ты репортаж сделаешь. Представляешь, какой материал о Южном Приморье?!
– Я хочу быть с уфологами, которым до сих пор не повезло.
– Ты права. Только идиоты идут в тайгу без оружия.
Вымотанная дорогой, она все же уснула. Он не сомкнул глаз всю ночь. К утру, когда почти рассвело, он провалился в хлипкий полусон-полузабытье.
Ему грезилось, будто он куда-то бежит, изо всех сил, задыхаясь, страшно боясь опоздать. Бежит, но как ни старается, не может сдвинуться с места, словно под ногами не земля, а лента тренажера. Он делает рывок, один, другой… Потом он видит себя со стороны, свои тщетные попытки и усилия, не видит только конечной цели. Потому что его бег – это бег по кругу. А за кругом – лес, в дымке берега неизвестной реки, дядька, одетый в грязный ватник, сидит в лодке, ждет, и от его лица веет холодом…
Можжевеловый вечер остывал и таял. Пес в будке устраивался на ночлег. «Цыка-цыка-цыка…» – доносилось откуда-то из покосившегося сарая, и запоздавшая рябая курица, расправив крылья, опрометью неслась через поляну на этот зов.
Охотничья бревенчатая избушка, ладная, добротная. Теплый жар из трубы. Сомнительный уют. Кусок хлеба. Люди.
Хабаров подошел к сараю и крикнул в приоткрытую дверь:
– Митрич! Митрич, гостей принимай!
Старый черный пес для приличия тявкнул и замер, виновато положив морду на тощие костлявые лапы.
Дверь тоненько скрипнула, и из черноты сарая наружу вышел совершенно лысый дед, чем-то неуловимо похожий на свою собаку. Он удивленно уставился на Хабарова. Люди в этих местах были редкостью.
Лицо старика было сморщенным, точно печеное яблоко. Его глаза были раскосыми, как у китайцев, но цвет кожи говорил и о европейских корнях. Сухонькое тело старика было спрятано под самодельной одеждой из шкур.
– О, волк меня съешь! – встрепенулся дед. – Саня!
Они обнялись, хлопая друг друга по спинам, обменялись парой фраз то ли на китайском, то ли еще на каком-то из восточных языков.
– Вот, волк меня съешь, не думал, что увидимся. А судьба-то свела! Ее, заразу, не обманешь! Не проведешь! Ах, волк меня съешь, годов-то сколько прошло! Ей-ей…
– Много. Проводи нас в дом.
– Я, Сань, честно признаться, в сумление впал, – рассуждал дед, держа руку Хабарова своими огрубевшими, скрюченными, как когти птицы, пальцами. – Думаю, лет десять прошло. Тебя нет как нет. В бывалые-то времена на году по два раза на охоту пожалуешь. А тут – ни одного! Уж зарекся ждать. С твоей-то работой! Всякое случиться может… Спокаивал себя. Вишь, все мы в Лету канем. Ну, тем даже лучше, что ты, волк меня съешь, на ногах. Живой… – он спохватился: – В дом, в дом. А это что же, жена твоя? – и, не дожидаясь ответа, повторил: – В дом. В дом…
В избушке было тепло и чисто. Дышала жаром добротная печь, обмазанная снаружи рыжей глиной. Также по левой стене располагался самодельный стол с четырьмя кряжами-табуретами и деревянный сундук. Напротив единственного в избушке окна, на полу, было устроено укрытое ковром возвышение, размерами примерно метр на метр и высотой сантиметров в двадцать. Справа от окна стояла самодельная с сенным матрацем кровать. Над кроватью висела гитара – странный и неестественный здесь предмет цивилизации. По бокам от двери вместо вешалок были прибиты лосиные рога. С потолка, будто гирлянды, свисали бесчисленные пахучие пучки засушенных трав. По стенам были развешаны старенькие полотняные мешочки с травами, то пузатые, то худенькие, то почти пустые. Странное обиталище.
– С утра сороки одолели. Думаю, быть гостю! В обед печь протопил, чугунки задвинул. Тут тебе и щи с зайчатиной, и тушеночка с ней же. Да, еще чаёк! Чаёк-то на травах, волк меня съешь…
Митрич хлопотал у печи.
Хабаров усадил Алину на кровать и стал осматривать ее ноги: и пальцы, и пятки были сплошным кровавым месивом.
– Митрич, у тебя те травки и мазь, которыми ты меня после тигра пользовал, остались?
– Как не остаться? – охотно откликнулся тот. – Больше-то таких бестолковых сюда не захаживало. Я же говорил тебе, волк меня съешь: коли ты идешь по охотничьей тропе, выслеживая тигра, шесть дней, то из них семь он идет следом, выслеживая тебя. Так-то! Ты не верил. Теперь-то поумнел. А травки да сало… Все дам. Я гляжу, вы не для тайги вырядились. Что, мода новая пошла, али как?
– Али как, – передразнил деда Хабаров. – Митрич, позже потолкуем. Ты керосинкой не обзавелся? Воду на костре греешь?
– Как же иначе-то? На костре. На костре…
Взяв чугунный чан, Хабаров ушел.
– А чего это вы без вещей пожаловали? Случилось что? – выяснял словоохотливый старик. – Бывало, два рюкзака Саня припрет! Хлебушка нет, так икру с маслом прямо на колбасу клали! А тут чегой-то, волк меня съешь, налегке…
– Вы давно его знаете? – предоставив объясняться с дедом Хабарову, спросила Алина.
– Как не знать-то…
Митрич закончил расставлять на столе чугунки, глиняные миски и сел на кряж напротив. По его виду не трудно было понять, что к женщине он проникся симпатией.
– Ты не боись, дочка. Травками тебя побалуем, тряпицу привяжем со снадобьем – враз заживет, – глядя на ее окровавленные ноги, пообещал он.
– Надеюсь. А откуда вы знаете Хабарова? Он вам кто?
– Мужик он путевый. А непути сейчас пруд пруди, – ответил дед.
– Саша правда тигра убил?
– Тигра? – Митрич крякнул. – Тама еще былó не понять, кто кого. Сейчас-то уж, волк меня съешь, можно сказать, что и он тигра. Но тогда…
– Хватит байки травить, Митрич, – остановил его вернувшийся Хабаров. – Мы их выслушаем все. Но завтра. Мы валимся с ног и не ели ничего два дня.
– К столу. К столу! – заторопил их Митрич. – Как насчет настоечки на ягодах китайского лимонника?
– Нет.
– А я выпью. Налейте мне, Митрич! – Алина протянула деду свой стакан.
– Понял, – подытожил дед. – Красавице плесну, сам не буду, коли разговор сурьезный меня ждет. Лимонник, он сам-то пользительнее. Настругаешь лиан в чайник, допустим, подзаваришь. Так, лучшего напитка любви не сыскать! И без устали любится, и в усладу.
– Ты нам с собой дать не забудь этой дряни. Что-то с усладой туговато сейчас, – хмуро сказал Хабаров.
– Отчего ж не дать? Дам… Токмо мозги-то он, волк меня съешь, на место не ставит. Вот ежели еще чего… – дед многозначительно крякнул.
– Митрич, мы в тайге чудище слышали. То, что летает… – осушив стакан настойки, призналась Алина.
– Да-а-а… – озадаченно протянул дед. – У каждого свой путь. Его путь, как у птиц в небе, труден для понимания.
Хабаров с интересом взглянул на Алину. Она зябко поежилась.
– От вашего единения с природой я с ума сойду. Налейте мне еще. Напьюсь и усну!
После трапезы Хабаров принес большой алюминиевый таз и вылил в него приготовленный в чане отвар. Из ведра он добавил холодной воды и заставил Алину опустить в эту рыжую муть ноги. Осторожно, стараясь причинять как можно меньше боли, Хабаров стал промывать ей ранки на ногах.
– Что ты, Саша?! Я сама! – смутилась она.
– Нет. Я хочу быть уверен, что все сделано так, как надо.
Постепенно ступни ног и пальцы перестали ныть и саднить. Они онемели, точно их не было совсем.
– Это благун, – пояснил Хабаров, предупредив ее вопрос. – Местная анестезия. Это пройдет.
Он аккуратно срезал рваные клочья кожи на мозолях, обмотал ее ноги вымазанными пахучим снадобьем тряпицами и уложил в постель.
– Завтра будет лучше, – пообещал он и пошел во двор к ожидавшему его Митричу.
Алина долго прислушивалась, привыкая к новым звукам, потом незаметно уснула.
Она проснулась среди ночи от мучительного чувства жажды. На столе тускло мерцала свеча. В избе было тихо и пусто. Сквозь маленькое закопченное окно внутрь пробивались неясные отблески костра. Она прислушалась. Снаружи Хабаров и Митрич о чем-то негромко говорили. Стараясь быть незаметной, Алина выскользнула во двор и спряталась за лежавшей на боку старой телегой.
Митрич и Хабаров сидели у костра. Митрич был к ней спиной, Хабаров вполоборота. Ни один, ни другой не заметили ее присутствия. Загадочные тени плясали на их лицах.
– … иронизируешь над моими умозаключениями, называешь их «схоластикой», а сам живешь по тем же принципам, о которых говорю я. Смотри, в обычной жизни желания влекут нас во всех направлениях. Их действие взаимно нейтрализуется. Нужно «выпрямить» их, сориентировать в одном направлении, тогда они поведут тебя к цели. Философия Прямого Пути, – говорил дед.
«Митрич?!» – слушая его речь, удивленно спросила себя Алина.
Почему-то он напрочь забыл сейчас свое любимое «волк меня съешь».
– К цели? У меня только одна цель: достать сволочь, за которую я сел на девять лет. Тебе надо было оставаться в Тибете. Я помню, как слушал тебя, открыв рот. Когда-то. Ловил каждое твое слово. Когда-то… Прости, Учитель. Здесь не Тибет. Здесь даже ты, Рамагкхумо Саокддакхьяватта, прикидываешься чудаковатым стариком-добряком. Прозвище себе придумал – «Митрич».
– Главное сейчас для тебя – душу содержанием наполнить. Если пустая душа, вокруг тебя – хаос.
Хабаров усмехнулся.
– «Душа»… «Содержание»… «Хаос»… Слова. Экзистенциальные категории.
– Тебя жжет обида. Она плохой советчик. Но жизнь отбирает одно и дает нам взамен другое. Ты этого не видишь. Многие этого не замечают, чем сами обкрадывают себя. Но именно таким образом высший разум обращает наше внимание на вещи значимые для нас. Ведь двух равновеликих событий не разглядеть. Нельзя, глядя на небо, сказать, какая из двух звезд больше.
– Что же я не разглядел? – с улыбкой спросил Хабаров.
– То, что я вижу даже спиною.
Алина вздрогнула и затаила дыхание.
– Тебе не хватает Сокровенной Любви. Сильное чувство все расставляет по местам, строит перспективу.
– Любовь… – усмехнулся Хабаров. – Наслушался я тебя. Сейчас она живет во Франции с мужиком, не отягощенным философией. Двуногие любить не умеют. Лицемерить, лгать – да. А любить… Я расскажу тебе про любовь. Я пацаном был. Мимо дома одного, к лотку, за мороженым, бегал. Как сейчас помню, краска на доме была грязно-синяя, облупившаяся, чешуей дыбом стояла. В доме жил кто-то. Возле все время ковыляла старая облезлая собака. Знаешь, если старость имеет воплощение, это была она. Колченогая, с больными суставами, с трясущейся головой и неверной поступью пьяного моряка. Всякий раз, как подходил к этому дому, я ловил себя на мысли, что боюсь не застать на прежнем месте этого пса, потому что на его морде было написано, что дни сочтены. Но нет! Всякий раз псина была на своем посту. Потом окна дома заколотили досками. Жильцы переехали. Получили квартиру в новостройке. Была зима. Снег искрился. Лед потрескивал от мороза… Редкие случайные снежинки падали на спину лежащей у дверей необитаемого дома собаки. Падали и не таяли… На ее месте я быть не хочу.
Они долго молчали.
– Завтра уходишь? Решил? – спросил Хабаров.
Старик кивнул.
– Наберитесь терпения и ждите.
Он ладонью загреб уголья.
– Саша, как ты там выжил?
– Выжил… – не вдаваясь в подробности, ответил Хабаров. – Тебе этого знать не нужно. Знание умножает скорби. Иди спать.
Оставшись один, Хабаров привалился спиной к старому трухлявому пню и неподвижно застыл, немигающий, невидящий взгляд устремив куда-то поверх костра…
…Тяжелый спертый воздух, духота, полумрак. Заплесневелый каменный мешок три на четыре с половиной метра. Тусклая зарешеченная лампочка в стене над ржавой металлической дверью. Слева от двери вечно воняющая фекалиями уборная – пресловутая «параша». Нары в четыре яруса. Откидной столик на цепях у противоположной от входа стены. Выше – узкая щель окошка. Решетка. Не дотянуться. Сквозь него – кусок неба. Девятнадцать человек. Следственно-арестованные. Бледные лица. В темных ямках-глазницах внимательные настороженные глаза. Строгая иерархия. Свои законы. Нижние шконки у окна для людей авторитетных, второй ярус и шконки первого ближе к «параше» – бизнесменам и чиновникам, третий и четвертый – голодранцам, с которых взять нечего. Начиная со второго яруса спят по двое, валетом или по очереди. На третьем и четвертом – остальные одиннадцать. Есть двое шнырей – молодых педерастов, но они не в счет. Утром встанут, порядок в камере наведут – и под нижние шконки, пока первый и второй ярус не проснулись.
В то первое утро в следственном изоляторе, дождавшись своей очереди, Хабаров спал на определенной ему второй шконке, как вдруг пределы камеры огласило жалобное поскуливание. Застигнутый шнырь, отхаркиваясь кровью, уползал, поскуливая, в «трюм».
– Что это? – приподнявшись на локте, спросил он соседа.
– Шныря застали. Учат, – безразлично пояснил тот. – Привыкай.
Весь день и половину ночи Хабаров провел на допросе. Менялись лица, менялись вопросы. Он-то, наивный, думал – мать родная! – что это только в гестапо да в НКВД, когда-то, у праотцов: свет лампы в лицо, ноги-руки наручниками к табурету, кулаком в зубы, полиэтиленовый пакет на голову… Так – много, очень много часов. Убеждения, разъяснения, угрозы, мат, сила. По кругу. До тошноты. До отупения. До помутнения рассудка.
Такое же утро. Отчаянный визг шныря, того же самого, хилого белобрысого мальчишки, с «цветами» пиодермии на руках, на шее, под одеждой, скорее всего – везде.
Допрос. Нет света лампы в лицо. Не бьют. Нет пакета. С чего бы?
Длинный коридор. Крик цирика[11]: «Стоять! Лицом к стене!»
Лязг запоров. Снова тот же голос: «Построиться по два. Живо!»
Топот ног по рыжему кафельному полу. Шепоток в спину: «Братишка, держись…»
Пустая камера. «Почему?»
Додумать не успеваешь. Ремнем стягивают руки на запястьях, вчетвером подтягивают, крепят ремень на верхних нарах под потолком. Ноги связывают бечевкой и тоже наверх, но к нарам у противоположной стены. Растяжка. Спортивные брюки с трусами спускают до колен, член тоже перевязывают бечевкой. На прощание со смешком: «Созреешь, свистни!» Назад, в камеру, затаскивают под руки…
Снова утро. Жалобное завывание. Плач. Крик:
– Тебя сколько учить? Дерни отсюда, пидор вонючий!
Визг и испуганное: «Не на-а-да-а-а!»
– Что там? – повернуться посмотреть было дороже, от растяжки ныло все тело.
– Шныря Махно опять учит. Парашу вылижет, жить будет. Нет – значит, нет.
– Как?
– Языком, как! – и сосед безразлично уставился в противоположную стену.
Махно, рыжий юркий крепыш, живший на второй шконке напротив, отвечавший за соблюдение порядка в камере, наступив все тому же белобрысому шнырю ногой на щеку, старательно прижимал его лицо к недрам «параши». Щуплый малец выворачивался из-под добротного ботинка Махно и не-то плакал, не-то жалобно скулил.
– Махно, – Хабаров медленно перевернулся на бок, – тебе бы с цириками из одного котла хлебать.
Тот изумленно вскинул брови.
– Объяснись.
– Саня, молчи! Сами разберутся. Молчи! – зашептали с верхних нар. – Не по понятиям.
– Оставь шныря. Пусть ползет под шконку. Он тебе ничего не должен.
– Чё за гнилой базар?! – немигающим взглядом Махно обвел притихший контингент.
Воспользовавшись ситуацией, шнырь молнией метнулся под шконку.
Махно рванул за одежду Хабарова и сбросил на пол.
– Может, ты за него полизать хочешь?
Добротный удар под дых поставил Махно на четвереньки.
– Су-ка! – прохрипел Махно, отдуваясь. – Банщик, перо!
Перекидывая заточку с руки на руку, он пошел на Хабарова.
– Молись, падло батистовое! Ща душонка отлетит. Отмаешься!
Сверкнула заточка.
Удар ногой в низ живота. Звон металла о бетон. Сдавленное рычание рыжего. Слабая потасовка. Спокойный тихий голос со вздохом:
– Устал я от вас. Прекратите, – сказал лежавший на нижних нарах у окна высохший старичок с аристократической фамилией Ягужинский.
Махно тут же отпустил Хабарова и, прихрамывая, пошел к шконке.
– Махно, бездельник, из ничего шуму столько поднял. Я огорчен, – тяжело дыша, все так же тихо произнес владелец привилегированной шконки. – А ты, новенький, зря это. Шнырь заслужил. Его учить надо. Методы, конечно, – он поморщился, – не одобряю. Но по закону Махно прав.
Оттопырив мизинец, украшенный кольцом с крупным камнем, он вытер пот со лба. В этой духоте ему было несладко.
– С тобой теперь что делать будем? Или ты теперь тоже шнырь, или ты отыграешь жизнь этому человеку. Таков закон, – он расстегнул пуговицу, распахнул ворот рубашки. – Мой закон.
Желтыми болезненными глазами Ягужинский глянул на Хабарова. Тот выглядел не лучше. Привалившись всем телом к металлической двери, он едва держался на ногах.
– Как это, «отыграю»?
– В карты. Я большой поклонник игры в бридж.
Чувствовалось, что, поясняя, он делает большое одолжение. Разговор начинал его раздражать.
– Если откажусь?
– У нас будет новый шнырь. Ты же с окровавленной заточкой в кармане церберам будешь сдан, – он снова отер пот. – Но это завтра. Устал я сегодня от ваших споров. Худо мне. Иди, мил человек, отдохни. Напоследок…
Ближе к вечеру Хабаров попросился на допрос.
– Камень с души пошел снять, – схохмил Махно.
– Помолчи, – урезонил его Ягужинский. – Со мной в паре играть будешь. Пробей тему. Карты закажи. Свету побольше. Да заплати пощедрее, чтобы не мешали нам. Вина пусть принесут, хорошего. Мальчик тоже пусть играет. Его жизнь.
– Но, Аполлон Игнатьевич…
– Я так хочу. Перед Богом все равны.
К восьми вечера камера чем-то напоминала казино. Зрители полукругом, на верхних ярусах. Даже «пальму» для удобств натянули – брезент между верхними шконками, где качалась тройка зевак. Внизу ярко освещенный, накрытый зеленым сукном стол. За зеленым сукном четверо. На краю стола, у окна, напитки, фрукты, сладости. Все чинно. Полная тишина.
– Приступим… – выдохнул Ягужинский и сделал большой глоток из пузатой, как шар, рюмки. – Махно, голубчик, не томи, сдавай.
Махно самодовольно хмыкнул, сорвал обертку со свежей колоды, перетасовал карты и начал сдавать.
– Тебе, мил человек, судьба шанс дает, – тихо, будто сам с собой, говорил Ягужинский. – Мы не звери. Мы люди. Мы по закону живем. Ты, Александр Хабаров, не на Махно руку поднял, на закон.
Он по одной собрал свои карты в веер. Во всем, во взгляде, в осанке, в голосе, в каждом движении Ягужинского сквозила уверенность в однозначном исходе игры. Он, точно делал одолжение, выполняя свою обязательную миссию блюстителя «закона». Напротив, Махно такой стойкой уверенности разделить не мог. Это случилось с ним в тот самый момент, когда он наблюдал за тем, как Хабаров тасовал карты. Вроде бы и не было в его движениях ничего особенного, но его гибкие пальцы были так ловки, так уверенны, что Махно не выдержал, выругался и, поерзав на нарах, уселся поудобнее.
Первый роббер остался за Ягужинским и Махно. Их удача не прибавляла уверенности шнырю. Он смотрел перед собой остекленевшими глазами и с трудом понимал, что происходит. В какой-то момент он забылся, слезы ручьями хлынули по его серым прыщавым щекам, но крепкий подзатыльник Хабарова заставил его очнуться.
Играли дальше. Прошел час. Шнырь, видимо, устал бояться и на неосторожной заявке «четыре в пику» дрожащим голосом, словно извиняясь, объявил «контру» против Ягужинского и записал в актив призовые.
«А ведь можешь что-то, – подумал Хабаров, едва заметно одобрительно кивнув шнырю. – Не зря в казино два года подъедался».
Ягужинский был мастер просчитывать расклад. В отместку он заставил Хабарова лишиться двадцати пяти тысяч.
– Печально, что благородные порывы посещают нас порою так неуместно, – сказал Ягужинский. – Ты лишишься кучи денег!
– Мне хватит.
– Аполлон Игнатьевич, может ему язык подрезать? – вспылил Махно.
– Оставь, Махно, дружочек, этому человеку его язык. Играй, – и Ягужинский замахал перед лицом платком, точно веером. – Не видишь разве, он нервничает. Ответственность на нем такая… Будьте милосердны друг к другу.
«Рафинированный ублюдок…» – подумал Хабаров.
От маразма действительности впору было сойти сума.
Хабаров поднял карты. Карты были хуже некуда, и ему ничего не оставалось, кроме как блефовать. Махно не стал поднимать выше «двух без козыря», сыграл заявку, и Хабаров облегченно вздохнул: могло быть и хуже.
Каждый игрок знает, что бывают дни, когда, вопреки всем законам логики, карта решительно «не идет». Наверное, именно в такие дни перестаешь уповать на удачу или глупый безмозглый случай и надеешься только на себя, на свое умение, хладнокровие, интуицию, расчет. У Хабарова сегодня был именно такой день.
Отыграться ему так и не удалось. Карта по-прежнему шла к Ягужинскому и Махно, они завершили гейм.
Не вдохновленный удачей, Махно, набычась, смотрел на Хабарова.
– Тридцать на две следующие раздачи, – заявил Хабаров.
И тут же проиграл обе.
– Ты – бивень[12]! Ты же весь в дыму[13], – презрительно отпустил Махно.
Шепоток пробежал по нарам. Неизменный успех одних и фатальное невезение других стали предметом пересудов. Эти двое, толкающие себя в пропасть с неистовой настойчивостью самоубийц, вызывали сейчас общую жалость. Отчаянные попытки одного и полная апатия другого создавали впечатление наступающей агонии.
Лязгнула створка «кормушки». Безразличный посторонний взгляд, и вновь – тесный мирок, убогий и обреченный.
Воистину, удача благоволит упорным. Впервые на сдаче Ягужинского Хабаров имел на руках твердую игру. Он выжидал. Станет ли тот повышать ставку? Расклад был пятьдесят на пятьдесят.
– Пас, – наконец объявил Ягужинский, едва скрывая досаду в голосе.
– Четыре в пиках, – заявил Хабаров.
– Пас, – отозвался Махно.
– Пас, – повторил вслед за ним шнырь.
Ягужинский подсчитывал убытки, скорбно поджав свои тонкие губы.
Махно взял новую колоду и небрежно бросил ее Хабарову.
– Фарт не катит[14]. Почни.
Хабаров вскрыл упаковку и начал тасовать.
Тишина вокруг стала осязаемой. Все, затаив дыхание, ждали конца поединка.
Хабаров закончил сдавать. Можно было поднять карты.
Изучив свои, Ягужинский недовольно усмехнулся, играя отчаяние, как провинциальный актер.
– Н-да-а, не лучший расклад, – выдавил «законник». – Что-нибудь поставите, дружочек, именно на эту раздачу?
Хабаров был задумчив и отстранен, и свой вопрос Ягужинскому пришлось повторить дважды.
– Все в общак уйдет, – добавил он. – Без разницы, проиграешь ты или выиграешь. Ты, Александр Хабаров, не на деньги играешь. Или забыл?
Ягужинский внимательно посмотрел на шныря. От этих едких желтых глаз шнырь по привычке дернулся, но вспомнив, что под шконку сейчас нельзя, весь съежился, сжался в тугой комок нервов.
– Господи, как пахнет от тебя, Божий человек. Дышать трудно. Ну, да ладно. Не долго уже. Что у тебя? – спросил он Хабарова.
– Семь треф.
Эти два слова заставили шныря кинуться к «параше», нервный спазм тошноты разом скрутил его.
– Пас, – Махно бросил свои карты на стол.
Ягужинский тихонько зашелестел, рассмеялся.
– Будет браткам к веселинам… Контра! – и он торжественно положил карты на стол перед собой. – Благородное дело сегодня вершим. И казну пополним, и человека жить в коллективе научим.
Довольная улыбка блуждала по лицу Ягужинского. Он положил девятку. Хабаров взял ее десяткой и, бегло оценив карты, пошел козырем. Ягужинский лишился туза. Еще заход, и к тузу он присовокупил валета.
Понимая, что земля стремительно уходит из-под ног, а Колесо Фортуны дало сбой и теперь крутится в обратную сторону, Ягужинский лихорадочно соображал, каков расклад у противника. Он тщетно старался выглядеть невозмутимым, когда поймал спокойный, изучающий взгляд Хабарова. Тот протянул веером к носу Ягужинского карты.
– Ты – человек авторитетный. Ты дал слово. Мальчик должен жить!
Хабаров встал из-за стола и полез на свою шконку.
– Ошибся я в тебе. Не просчитал…
Ягужинский с тоской смотрел на карты Хабарова.
– Да он, сука, кинул нас! Все со второй колоды началось. Аполлон Игнатьевич, вспомните! – взорвался Махно. – Я порешу его! Враз порешу! Нас за лохов держит! Подтасовал он ее, век воли не видать!
– Уймись! – урезонил его Ягужинский. – Завтра разберемся. Пусть унесут всё. Будем спать.
Под утро Хабарова разбудил нервный шепот соседа по шконке.
– Саня, шмон утром будет. Гляди, чтоб заточку у тебя не нашли.
На полу у «параши», раскинув руки крестом, лежал тот самый шнырь. Из его приоткрытого рта сочился скупой ручеек крови.
– Что я сделал не так?
– Ничего не попишешь. Шнырь есть шнырь. За одним столом с Аполлошей ему не место.
– Что теперь?
– Молчать, коль не хочешь следом.
– Молчать?!
Тот кивнул.
– Аполлоша тебя и на тюрьме достанет. Как два пальца обоссать.
– Дурак… – выдохнул Хабаров и, закрыв лицо руками, издал вопль досады. – Ну, дурак! – он запустил пальцы в волосы, сжал кулаки, потом заставил себя вновь посмотреть на распластанное тело шныря. – Он бы выжил, не ввяжись я.
Сосед сжал его плечо.
– Мой тебе совет, Саня: поскорей превращайся в зверя…
Краешек красного солнца трепещет у горизонта. То ли раннее утро, то ли поздний вечер. Нет. И то, и другое – ложь. Так зарождается полярный день после черной, в полгода длиною, ночи. Осколок диска прилип к горизонту и висит, цепляясь за край неба все двадцать четыре часа. Ледяная вьюга бросает в него пригоршни сухой колючей поземки, словно стараясь погасить. Вьюга воет, подражая волчьей стае, беснуется, гонит прочь все живое. Кажется, кроме снега и ветра здесь нет ничего. Это заблуждение – к лучшему.
Заваленный по крышу снегом барак. Еще один. И еще… Будки часовых. Колючая проволока. Хриплый, недобрый лай собак. Окрики матерком. Голодные, землистого цвета лица. Серые, куцые телогрейки с белыми, нанесенными краской квадратами: на груди, где сердце, и в центре на спине. Ходячие мишени. Зеки…
Потертая засаленная ушанка. В ней смятые клочки бумаги. Руки тянутся одна за другой. Только бы не вытащить с меткой-крестом!
Сегодня жребий выбрал его…
Потрескивал, метался костер. Вокруг него полутораметровые сугробы. Снег плотный, смерзшийся пластами. Чтобы выкопать могилу, нужно сначала отогреть землю. Иначе кайлом не взять. Мерзлота.
Угрюмый, с осунувшимся серым лицом, заиндевевшими бровями и ресницами Хабаров неподвижно сидел спиной к костру. Нужно было ждать, и он ждал. Он замерз. Нельзя согреться у погребального костра.
Время от времени он поднимался, утопая по колено в снегу, сквозь метель шел к санкам и волоком тащил в ямку, к костру, обрубки полусгнивших шпал, потом бросал их в костер и снова возвращался на прежнее место.
В полумраке рождающегося полярного дня, сквозь метель, полудрему он скорее не увидел, почувствовал этот взгляд.
«Пришел. Все же пришел. Значит, не сказка ты. Быль…»
Занесенный метелью волк был пепельного цвета. Держась от человека на расстоянии прыжка, он пристально и упрямо смотрел прямо в глаза.
Об этом волке на зоне ходила легенда. Говорили, будто вот так приходит он, смотрит жалостливо, в самую душу, а потом за собой уводит. Куда, зачем, не знает никто. Тысячи километров заснеженной тундры – его владения. Несколько зеков так сгинуло.
– Чего глядишь? Не узнаешь? – Хабаров кивнул зверю. – В зеркало смотришь. У нас с тобой только одно отличие: ты свободен, а я…Тебе повезло больше.
Зверь наклонил лобастую морду, словно чтобы лучше слышать.
– А кто из нас зверь – это еще вопрос. Я стал много дичее тебя, дружок. Поверь.
Он бросил зверю краюху хлеба, ногой расшвырял головни и принялся киркой долбить землю, откалывая кусочек за кусочком.
Волк не ушел. Съев хлеб, он лег на брюхо и внимательно стал наблюдать за тем, что делает человек.
Выкопав достаточно глубокую ямку и встретив сопротивление вечной мерзлоты, так что искры летели при ударе киркой, Хабаров отер пот со лба и потянулся к брезенту, в который была завернута коробка из-под сапог и лежавшая в ней собака.
– Похорони поглубже, – напутствовал его начальник зоны, – чтобы звери не выкопали, – и добавил, чем удивил: – Пожалуйста.
Он догадывался, что собака тут не при чем, скорее, это новорожденный ребенок какой-нибудь заблудшей поварихи, но не давал себе об этом думать. Так бы и дальше шло, но судьба, издеваясь, показала ему правду: коробка выпала из брезента и окоченевшее крохотное тельце покатилось к хабаровским ногам. На шее новорожденного синела стронгуляционная борозда – след удушения.
Волк осторожно, на брюхе подполз к самому краю ямы, вырытой Хабаровым, и уже сверху смотрел и на человека, и на мертвого человеческого детеныша.
– Прочь! – Хабаров замахнулся на волка тлевшей головней.
Зверь резво отпрыгнул, побежал.
– Хрен ты его достанешь! – процедил Хабаров. – Сказок про тебя насочиняли, а тебе только и надо – мертвечину жрать!
Он кинул головню волку вслед.
Старательно утрамбовав землю, Хабаров засыпал могильный холмик полутораметровым слоем снега. Теперь определить на глаз, где могила, было нельзя. Окончив работу Хабаров сел на санки передохнуть.
Волк вернулся.
– Я не дам тебе его выкопать. Сдохну, а не дам! Ты должен понять своей серой башкой, что не все двуногие подонки. Слышишь?!
Волк лег на снег и стал ждать.
Так и сидели они друг против друга: зверь и человек.
И душным звоном дребезжали в ушах колокольчики… И уставшие веки наливались свинцом… И убаюкивал теплый ленивый туман… На мягких кошачьих лапах сон крался все ближе, ближе… Хабаров замерзал.
Внезапно, с размаху ножом, сон пронзил резкий отчаянный вой.
Хабаров открыл глаза. Сидя все там же, серый выл, задрав морду к небу.
– Рано радуешься… – или сказал, или подумал Хабаров.
Он, покачиваясь, поднялся. Страшно хотелось есть. Голод прогнал сон. Сколько же он так сидел, глядя в умные волчьи глаза, и зачем? Ком голодной тошноты подкатил к горлу. Вот бы кусок хлеба! Он сделал шаг и упал без памяти на увязшие в снегу санки…
Когда Хабаров вернулся на зону, его закидали вопросами: «Ну, чего? Как? Волка видел?»
– Не было волка, – коротко отвечал он. – Сказки это.
Кто бы поверил, что он не замерз, упав в голодный обморок, только потому, что волк, здоровенный волк, растянулся поверх него, укрыв собою от вьюги и холода.
В том противостоянии «зверь – человек» не было побежденного.
Много позже, уже перед концом срока, легенду о загадочном волке развенчал вновь прибывший сибиряк-охотник. Оказалось, что не волк это вовсе, а собака. И приходит она, как выяснилось, из деревни, что за горкой, дальше за зону. Одним мифом на земле стало меньше.
Был только один человек, не желавший этому верить.
Став свободным, Хабаров нашел ту деревню. А ведь лгут охотники! И самые надежные источники – тоже лгут!
В скрипучем кузове старого бортового газика Хабаров ехал в райцентр. Он не сразу заметил, что за машиной, едва пробиравшейся по ухабистой разбитой дороге, бежит волк.
– Вернулся, бродяга! – крикнул ему Хабаров и помахал рукой. – Теперь я просто не имею права сгинуть. Жить мне долго и счастливо. Встретил я тебя на удачу!
На вершине холма волк отстал. Он картинно сел на дороге и долго, неотрывно смотрел машине вслед. Когда зверь скрылся из виду, над тундрой застыл его протяжный одинокий вой…
На рассвете Хабаров проводил Митрича до Сухой Балки. Возвращаясь, он еще издали увидел Алину. Бледная, заплаканная, в обнимку с ружьем она сидела на крыльце.
– Ты чего?
– Я думала, вы меня бросили.
Он снисходительно улыбнулся, попытался дотронуться до нее, но Алина ударила его по руке.
– Мог бы предупредить! У вас, у мужиков, просто нет сердца!
Хабаров равнодушно пожал плечами, взял чайник с костра и ушел в избу. Спустя какое-то время вошла Алина.
– Там собака ворчит. Почему?
– Зверь рядом.
– Какой зверь? – в ее глазах блеснул испуг.
– Не знаю. Рысь, лисица…
– Куда ушел старик?
– В Китай.
– В Китай? Зачем?
– Тебе же надо вернуться в Москву?
– Не улавливаю связи.
– Те люди, о которых ты говорила, добывали черную икру на чужой территории. Территории китайцев. Он передаст твою пленку, и тебе больше нечего будет бояться.
– Их убьют?
Хабаров недовольно отодвинул жестяную кружку с пахучим коричневым отваром.
– Хватит об этом!
– Я поражаюсь, как ты мог так поступить?! Ты стал другим, Саша. Таким я тебя не знала.
– Ты думаешь, улетишь в Москву, и этим все кончится? Ты что, полная дура? Пойду-ка я за дровами.
С охапкой дров, насвистывая что-то легкомысленное, Хабаров вышел из сарая. Вышел и остолбенел.
Метрах в пяти от него, глядя на человека хитрыми кошачьими глазками, стоял самый настоящий уссурийский тигр, точно такой же, с каким Хабаров встретился десять лет назад.
Человек попятился, но зверюга ощерила пасть, зарычала. Эхом в будке отозвалась, жалобно заскулила собака.
«Старый пень! – в сердцах выругался Хабаров. – Раньше скулить надо было!»
Еще мгновение, и тигр решит припомнить человеку все: и загон по насту, и охоту с вертолетов, и чудовищные гусеницы вездеходов, и плюющие смертью ружья и обрезы. Нужен повод.
Раскаты двух выстрелов в воздух вспороли тишину. Тигр вздрогнул, сиганул через куст дикой смородины и в два прыжка скрылся за баней, в тайге.
– Что, герой, струхнул малость?
Алина стояла на крыльце со старенькой двустволкой Митрича.
Хабаров подошел, взял из ее дрожащих рук ружье, сказал:
– Одного выстрела было бы вполне достаточно.
– Нет, у тебя точно нет сердца!
Ночь укрыла землю чернозвездным куполом. Все застыло вокруг в предвкушении отдыха. Даже ветра не чувствовалось. Лишь издалека, время от времени, ненавязчиво доносилось нечто, похожее на крик ночной птицы.
Хабаров сидел у едва тлеющего костра и отрешенно смотрел на звезды.
– Вот ты где, Хабаров…
Алина подбросила хвороста в костер, села рядом, поудобнее пристроив обмотанные тряпицами ступни ног.
– Я зову тебя, а ты не слышишь. Сидишь здесь один…
– Красиво.
Она кивнула.
– Время осеннего звездопада. Звезды, как листья, отжили свое и, срываясь, летят в никуда. Последнее, что останется в нашей памяти, это их черточка-след. Миг на фоне вечности.
Хабаров усмехнулся.
– Алина, звезды не падают. Они или тухнут, или взрываются, или их съедают «черные дыры». А это – метеоры, космический мусор.
– Очень романтично! – съязвила она. – Ты ловишь кайф, любуясь вселенской помойкой.
Хабаров никак не ответил на эту колкость. Очень тихо, точно самому себе, сказал:
– Таежники говорят: «Там, где упала звезда, надо искать женьшень…» Вообще, трудно поверить, что эту же картину видели те, кто жил за тысячи лет до нас. Представляешь, была такая же глубокая, торжественная тишина, Млечный Путь, уносящий время…
Алина улыбнулась, придвинулась ближе, положила голову ему на плечо и тоже стала смотреть на звезды.
– Оказывается, ты сентиментален, Хабаров. Я не знала.
– Я сам не знал, – он усмехнулся и с легкой иронией добавил: – Это было… как откровение. Зачем ты пришла?
Алина достала принесенную с собой склянку со снадобьем Митрича.
– Давай я намажу твои ссадины. На тебя страшно смотреть.
С шутками, аккуратно и быстро она наносила мазь. Пару раз Хабаров вскрикнул, и Алина, подув на больное место, уговаривала его, как ребенка. Под конец Алина осторожно прикоснулась ладонями к его лицу и поцеловала в краешек губ.
– Это тебе в награду за выдержку, – заключила она.
– Решила сменить гнев на милость?
Она не ответила.
– Даже если это подачка, все равно спасибо.
– Саша, ты сторонишься меня. Мне это не нравится.
– Я сам себе не нравлюсь. Вот ужас-то… – очень тихо, точно рассуждая сам с собой, сказал Хабаров. – Я ощущаю себя соломенной собакой.
– Какой собакой?
– Соломенной собакой. Есть у китайцев такая кукла собаки, сделанная из соломы. Употребляется для жертвоприношений. Когда кончается обряд, ее бросают и топчут ногами. Представляют, что в собаке все их грехи.
– Весело.
– Н-да… По сути.
Алина склонилась, чтобы поцеловать. Хабаров остановил.
– Уже поздно. Пока еще один тигр не объявился, идем спать. Я буду спать на печи, ты на кровати. Или наоборот?
Он поднялся, протянул ей руку.
– Саша, что во мне не так?
Они стояли друг напротив друга. В темноте лица были едва различимы. Но даже сейчас Хабаров чувствовал: ее взгляд метал молнии.
– Я хуже тех, с которыми ты спал?! Или ты все еще не можешь мне простить прошлого?!
Хабаров улыбнулся, потеплее запахнул на Алине куртку.
– Ты не та женщина, с которой я хотел бы провести шальную ночь, и с нее начинать я не стану.
Он заставил Алину посмотреть в глаза, потом медленно склонился и поцеловал ее в губы, нежно и бережно.
Спустя два дня хмурым пасмурным утром Алину разбудил Митрич. Хабарова она догнала уже у опушки.
– Так и уйдешь?
Он растерянно улыбнулся.
– Не хотел будить. Не люблю прощаний.
Они обнялись.
– Даже сейчас?
– Не до такой степени.
Он протянул ей маленькую собаку, искусно сплетенную из очень тонких стебельков-соломинок.
– На память.
– Ты уверен, что нужно идти? – ее голос дрогнул. – Неужели по-другому нельзя?
– Я за тебя поручился. Я должен быть у них.
– Обещай, что с тобой ничего не случится.
Хабаров усмехнулся.
– Сашка! – Алина обвила его шею. – У нас было мало времени…
– Кто-то из мудрецов сказал, что каждый день, который есть у нас, это ровно на один день больше, чем мы заслуживаем.
Теплой огрубевшей ладонью он коснулся ее щеки, там, где извилистый соленый ручеек оканчивался слезинкой.
– Береги себя.
Она смотрела ему вслед, смотрела до тех пор, пока его фигура не растворилась в вязком промозглом тумане.
На Востоке говорят, что люди подобны островам. Они никогда не соприкасаются, как бы близко друг к другу ни находились.
Сейчас Хабаров не хотел в это верить. Впервые за череду лет ему стало страшно думать о будущем. Он вдруг понял: ему есть что терять. Что именно, даже для себя определить словами он не мог. Но теперь он знал, куда возвращаться, как тот загнанный судьбой волчонок из легенды, рассказанной отцом.
Летел над миром протяжный вой. Ростки добра заметала вьюга. Сквозь разрыв облаков одиноко и печально на мир смотрела холодная Полярная звезда. По морозной безжизненной тундре брел, сбивая лапы в кровь, гордый красивый зверь. Он должен был пройти этот путь, потому что там, в конце пути, где земля и небо сливаются воедино, как награда за брошенный вызов судьбе, упрямо пробивалась сквозь снег и лед его хрустальная Сиверсия…
Глава 2. Тени прошлого, или девять лет назад
– А ну-ка, ну-ка, раком ее поставь! Да не здесь. На стол, на стол ее давай! – распаленный алкоголем и похотью, гудел Никита Осадчий.
Белобрысая проститутка, с непристойно пышным бюстом и биогелевыми ягодицами, со счастливой улыбкой, будто, наконец, сбылась ее заветная мечта, полезла на стол. Несколько жадных рук тут же облапали ее грудь и задницу.
– Ды вы чё, мужики! На кой она нам в броне?! – недовольно заметил кто-то.
«Бронёй» назывались крохотные трусики, отнюдь не прикрывавшие женские прелести.
Загородный дом, где сегодня собралась компания, тонул в раскатах шансона. Гостиная, богато отделанная дубом, увешанная охотничьими трофеями, где был накрыт некогда шикарный по всем правилам сервировки стол, сейчас, спустя несколько часов от начала трапезы, напоминала дешевый трактир, где проститутки перемежались с водкой, а объедки затейливым орнаментом лежали и на столе, и на полу, и не только.
– Ну нет, я сейчас точно кончу! – давился от смеха Анатолий Сибирцев, крупный седой мужчина лет полста. – Брюс ее «кормить» будет. Он всегда это делает!
Брюс Вонг, невысокий, стройный, с внешностью вьетнамца, улыбнулся всем и, срезав трусики «ночной бабочке», тоном знатока изрек:
– Ошибается тот, кто говорит, что одна женщина может доставить настоящее удовольствие одновременно только одному или двум мужчинам. Сейчас эта крошка доставит удовольствие всем вам, господа!
Компания зааплодировала.
Из кармана брюк Брюс Вонг достал катушку очень тонкой лески и отхватил от нее ножницами два куска. На одном конце каждого он сделал по петле и накинул эти петли на крупные затвердевшие соски «ночной бабочки», а два других конца привязал к ножкам кресел, в которых по обе стороны стола сидели Сибирцев и Осадчий.
– Ребята, что вы собираетесь делать? – забеспокоилась гостья. – Может, не надо?
Но ее никто не слушал.
Взяв банку красной икры, Брюс Вонг десертной ложечкой стал перекладывать остатки содержимого во влагалище дамы, туда же отправился и кусок лимона.
– Ну, кто хочет попробовать? – поинтересовался он. – Эффект ночи с девственницей гарантирую!
Вызвались сразу несколько любознательных, компания выбрала одного, и польщенный доверием он обнажил свой возбужденный фаллос.
Обещанный «эффект» заключался в том, что икринки от механики лопались и размазывались по «достоинству» красноватыми пятнышками, действительно, очень похожими на капельки крови, а введенный лимон, как мог, создавал ощущение сухости. Остальное дорабатывала пьяная фантазия.
– Ой, не могу! Ой, братва! Сука буду, это стоит попробовать! – теребя проститутку за ягодицы, завывал любознательный.
– Да, оттащите его! Он нам весь кайф испортит! – распорядился Осадчий.
Двое крепких парней тут же исполнили поручение, утащив пытавшегося вырваться «героя» в сортир.
– Что ж, – тоном шеф-повара дорогого ресторана продолжал Брюс, – теперь добавим к икре немного креветок, капельку сливок, зелень и все это основательно перемешаем.
Он обнажился, ловким привычным движением надел презерватив, несколько раз щедро мазнув по его поверхности острым проперченным соусом «Табаско», действительно, лучшим соусом для креветок.
Гул шансона перекрыл душераздирающий женский даже не крик, а вопль. «Ночная бабочка» попыталась было упорхнуть, но леска прочно удерживала пленницу в занятой позиции. Ее крик, плач, брань раззадорили мужчин окончательно и, оставив Брюса Вонга заканчивать начатое, они двинулись наверх, где их ждал, как нельзя вовремя, «покер с минетом».
Эту игру, как было принято считать, они выдумали сами. Но, вероятно, она существует ровно столько, сколько существуют карты, женщины и похотливые мужские компании. Все предельно просто. Игроки садятся за стол, чтобы перекинуться в покер, под столом прячутся девицы и два удовольствия вы получаете одновременно.
Уставшие от возлияний, в прямом и переносном смысле, Сибирцев и Осадчий ушли на открытую веранду. Теплый бархатный вечер расстилался у их ног мягким персидским ковром.
– Хозяин, раки, пожалуйста.
Повар поставил перед ними поднос с вареными раками и с легким поклоном удалился.
Разлив пиво в высокие, тут же запотевшие стаканы, они с удовольствием сделали по глотку. Жирнейший влажный кусок рачатины тут же исчез во рту Никиты Осадчего.
Учуяв запах, с коврика поднялся лабрадор и решительно засеменил к столу. Секунду помедлив, посмотрев на людей, апатично возлежавших в соломенных креслах, пес окончательно обнаглел и, извернувшись, мгновенно смахнул со стола за хвост недоеденного Осадчим рака.
– Вот сука, а?! – изумился Никита и топнул ногой.
– Да успокойся. Пусть хавает.
Но Осадчий уже закипал, как наполненный до краев чайник.
– Тварь! Моли Бога, что ты не моя собака! Я бы тебе, вонючке, устроил жизнь сытую и счастливую! – потрясая кулаком, горлопанил он. – У меня такая же сволочь была. Мы с пацанами шашлык сооружали, а он, гад, так и норовил кусок-другой украсть. Ладно б, голодный был, а то ведь так, издевался. Я его раз шлепнул. Два шлепнул. Он все за свое. Я его, падлу, и кинул в мангал. А там угли такие, закачаешься! Мы уже мясо жарить хотели. Так это дерьмо весь аппетит испортило. Он из мангала как шарахнет, и ну по саду бегать. Шерсть на нем длиннющая была. Вони напустил. Верно говорят: собаке – собачья и смерть… Ненавижу этих тварей! С зоны ненавижу. Бежал. Догнали. Рвали меня… Грызли кости… Мама родная!
– А я собак люблю.
– Да?
– В корейском ресторане.
Оба рассмеялись.
Осадчий блаженно потянулся, хрустнул косточками.
– Хорошо у тебя, Толян. Давно так не отдыхал. На дачку ко мне приезжай. Я на Селигере новую дачку отгрохал. Расслабимся.
Никита звонко коснулся своим стаканом стакана Сибирцева. Этот древний обычай чокаться во все века означал только одно: в моем бокале нет яда. Что ж, хорошие были времена. На зависть!
Желтые языки пламени пожирали остатки крыши. Раздуваемый ветром огонь чудовищным костром охватил здание. Он, точно ненасытное первобытное чудовище, уничтожал все на своем пути, сея смерть и разрушение, ужас и хаос. Черное мохнатое облако дыма, низко нависшее над землей, траурным шлейфом летело по ветру. Треск, жар, плач, причитания. Толпа зевак поодаль. Истошный женский крик: «Пустите меня! Пустите! Там мой муж! Там мой сын!» И отповедь: «Оставь. Им уже ничем не поможешь…»
Вдруг в проемах окон первого этажа появились две человеческие фигурки. Как два живых факела они метнулись вниз, к земле. Пробежав несколько метров к людям, они упали, объятые пламенем, и, корчась от боли, стали кататься по земле, тщетно пытаясь погасить горящую одежду.
Невыносимое зрелище горящей живой плоти на какое-то время парализовало всех. Но вот уже двое мужчин, подхватив порошковые огнетушители, бросились на помощь. Еще мгновение. Рев мегафона: «Стоп! Снято!»
– Мужики, как вы? – Женя Лавриков деятельно помогал каскадерам снять кевларовые костюмы и маски, закрывавшие лица.
– Ты смотри, – довольно шумел Володя Орлов, – рубашка с пиджаком догорели, даже воротника не осталось. Здорово ты меня, Женька, подпалил. Толково!
– Как просил, – ответил Лавриков. – Хабаров, шеф! Ты как? – крикнул он второму каскадеру.
– Нормально. Женя, молоток! Все три раза сработал стильно, прямо как в Голливуде.
– Да, я-то чего, не я же горел…
«Лучше б это был я, – добавил про себя Лавриков. – Переживай тут за вас, «позвонков».
Стопроцентное горение в кино человека входит в набор трюков любой каскадерской команды, но от этого оно не становится менее опасным, при том, что человек вообще может работать этот трюк не более сорока секунд.
– Смотрите, смотрите, мужики, кто пожаловал! – Лавриков расплылся в надменной улыбке. – Борткевич. Конкурирующая фирма. Коля! – раскрыв объятия, пританцовывая на одесский разбитной манер, Лавриков пошел навстречу. – Коля, ты ли это? Ой, осторожно, ботиночки не испачкай! Мы тут горели немножко. Наше тебе, с кисточкой…
– Я тут мимо ехал…
– Ну, и ехал бы. Мимо… – угрюмо сказал Орлов и, не глядя на Борткевича, пошел прочь.
Борткевич секунду колебался, решая, остаться или уйти, но здравый смысл все же одолел эмоции.
– Хабаров! – крикнул он владельцу красивой спортивной фигуры, который, расхаживая среди обгоревшего хлама, разговаривал по мобильному телефону. – Санёк!
Тот обернулся, смерил Борткевича холодным оценивающим взглядом и безразличным тоном произнес:
– Чего тебе?
– У меня дело к тебе.
– Мне до твоего дела дела нет, – и уже снова собеседнику по телефону: – Найди мне стоящего экономиста. Займись этим в первую очередь, – потом он долго слушал и, наконец, рассмеявшись заключил: – Да-да. С Эльбруса и звоню. С самой вершины!
Борткевич, как мальчишка, дернул его за рукав.
– Побазарим?
– После того, что ты выкинул, тебе морду набить – мало.
Борткевича передернуло.
– Санек, мы же цивилизованные люди! Чего злой? Отпуск накрылся?
– Есть маленько.
– Сам горел… Где ж это записать? – Борткевич с любопытством разглядывал перепачканное лицо и одежду Хабарова. – Не царское это дело. У тебя что, «шестерки» кончились?
Брезгливая усмешка бросила тень на спокойное лицо Хабарова.
– Я никогда, ни к кому, и к тебе в том числе, не относился, как … к подмастерью. Извини. Дела.
Борткевич нервно рассмеялся, увязался следом.
– Не кипятись, Санек. Ты слышал, что у французской съемочной группы каскадер погиб?
– Нет.
– Это какой-то совместный с нашими проект. Я толком сам не знаю. Французы своих каскадеров привезли. У них на картине автотрюки, сильно мудреные, с наворотами. Вот и…
Это нечаянно полученное известие было неприятно Хабарову.
– Коля, зачем ты мне это рассказываешь?
– Затем, что французская каскадерская группа в полном составе два дня назад отбыла в Париж. Продюсеры теперь ищут русских м…даков, кто бы им все это отработал.
Борткевич самодовольно хмыкнул и заурчал, как кот, увидевший сметану.
– Тебе предложили?
– Да!
– Славно. Ты что, похвастать пришел?
– Тебе разве не завидно? Это бешеные деньги!
Хабаров равнодушно повел плечами.
– Удачи тебе, – он крепко сжал плечо Борткевича. – Будь осторожен.
«Благородный сукин сын, – глядя вслед удалявшемуся Хабарову, процедил он. – Но талантлив, собака, дай бог. Дай бог!»
Съемочный день был окончен. Пожарные сворачивали шланги. Съемочная группа паковала реквизит. Раздобыв ведро воды, ребята-каскадеры умывали свои чумазые лица. Улица вновь шелестела шинами, по ней наконец-то открыли движение. Сновали прохожие. Старички-доминошники оккупировали скамеечки в сквере. Очевидно, тоже уставшее за день, солнце стремилось на запад. Все шло своим чередом.
– Братцы, как вы? – Олег Скворцов неверной походкой вышел из такси.
Володя Орлов недовольно бросил в него полотенце.
– Ты зачем приехал?! Олежек, у тебя температура – сорок! Тебе лежать надо!
Скворцов тяжело опустился на скамейку, ладонью провел по вспотевшему лбу.
– Плесните водички. Лицо умою. Что-то совсем худо мне, – он перевел дух. – Волновался я. Как вы тут без меня? Вообще, как все прошло?
«Позвонки» снисходительно заулыбались. Такая забота была, конечно, приятной.
– Как видишь, твоими молитвами, – ответил Лавриков. – Горели, как свечки! Мы бы заехали к тебе, доложили. Тебе с твоим воспалением легких лежать надо. Смотри, зеленый весь. Идем, я отвезу тебя домой.
Скворцов вымученно улыбнулся. Ему и правда было нехорошо.
– Я боялся, что работу сорвал. Хотел раньше приехать, но встать не мог, – он виновато смотрел в лица ребят. – Вот, зараза, скрутило. Боком вышло мне то наше плаванье. А кто за меня горел?
– Хабаров за тебя горел. Идем.
Эта новость окончательно выбила Скворцова из колеи.
– Сам шеф? Как?!
– Ну, как… – невозмутимо начал подошедший Хабаров. – Надел твой костюм, тряпья наверх, Женька меня поджег. Тебя технология интересует или мои ощущения?
Скворцов с упреком посмотрел на него.
– Ты, Саня, знаешь, что меня интересует. Ты же сегодня утром должен был лететь. Тебя Эльбрус ждет и две недели рая!
– Что там хорошего, на Эльбрусе? Гора, покрытая снегом, – отшутился он. – Зато у меня теперь есть две недели незапланированного труда. Ох, и отыграюсь я на вас за испорченный отпуск! Ох, отыграюсь!
Позвонки зашумели:
– Олежек, тебя теперь только к стенке.
– Кто против? Воздержался?
– Единогласно!
Решив подменить заболевшего Олега Скворцова, работавшего сразу на двух картинах, Хабаров пообещал себе эти две свободные от деловых встреч и поездок недели использовать с максимальной пользой для себя, доделать то, что давно откладывал за нехваткой времени. Действительно, последние полгода он жил с ощущением жесточайшего цейтнота, оставляя на потом все то, что касалось лично его. Сегодня, этот редкий свободный вечер, он решил посвятить тому, что любил, но на что вечно не хватало времени: скрывшись ото всех, обстоятельно, не торопясь покопаться в машине.
То, как вела себя задняя подвеска, ему не нравилось давно. Видимо, что-то там не так сошлось после памятного полета через трехметровый овраг с легкой руки все того же Глебова, которому в картине ну просто жизненно необходим был этот трюк.
Конечно, можно было просто отогнать машину в автосервис или поручить разобраться, что к чему, своим же механикам, но Хабаров не мог лишить себя удовольствия заняться этим мудреным «конструктором для взрослых», отбросив все заботы и дела, не глядя на часы, нацепив свой любимый старенький комбинезон.
Он подъехал к воротам своей фирмы, когда уже вечерело.
Охранник не спешил открывать, и Хабарову пришлось посигналить. Его несколько удивила такая нерасторопность, потому что, как правило, еще издали завидев его автомобиль, охрана спешила открыть ворота, и он проезжал, даже не притормаживая. Он посигналил еще, настойчиво и требовательно. Наконец, в динамике щелкнуло, прошуршало и раздался голос охранника: «Водитель, опустите стекло, чтобы я вас видел». Из-за тонированных стекол рассмотреть, кто находится в машине, было невозможно.
Хабаров опустил стекло и погрозил кулаком напряженно замершему у витрины-окна охраннику.
Едва он отогнал машину на эстакаду в ангар и заглушил мотор, как тут же услышал торопливое:
– Александр Иванович, простите! Мне же сказали, что вы на две недели на Эльбрус улетели.
– Извини, Зайцев. Эльбрус отменяется.
– Я по инструкции действовал. Вдруг в машине были бы не вы, а кто-то другой? Вдруг ее у вас угнали? А на базе и оружие, и машины, и лошади, и снаряжение. Да мало ли чего!
– Иди, не маячь. Я тут немного в машине покопаюсь.
Но даже «немного» Хабарову заняться ремонтом не довелось. Едва он надел старый, заляпанный маслом комбинезон и спустился в яму, как услышал приближающийся интригующий стук женских каблучков.
«Мираж?» – подумал он, не спеша выдавать свое присутствие.
– Сейчас-сейчас, Мари, мы его найдем! Не беспокойтесь! – пообещал знакомый голос.
«Ну, Зайцев, погоди! Уволю к чертям собачьим!» – в сердцах поклялся Хабаров.
Толстенький, низенького роста режиссер Петр Васильевич Глебов с несвойственной ему проворностью встал на четвереньки и заглянул под машину.
– Привет, Хабаров! – тяжело дыша, отирая с шеи пот, сказал он. – Я к тебе, можно сказать, иностранную делегацию привел, а ты в таком непотребном виде!
Хабаров равнодушно хмыкнул.
– Позвонить ты не мог?
– Мог. Но тогда ты бы слушать меня не стал. А сейчас я тебя застал врасплох.
– Как ты меня нашел? Как тебя вообще сюда пропустили?!
– Не ругайся. Я воспользовался тем, что Зайцев меня знает, и наврал, что ты меня ждешь. Давай, Саша, выбирайся на свет Божий. Тебя тут одна француженка жаждет видеть: Мари Анже. Между прочим, режиссер, – заговорщическим шепотом уточнил он. – В том году в Берлине «Золотого медведя» взяла.[15]
Хабаров затянул гайку. Было понятно, что идея с ремонтом летит в тартарары.
– Вот, Мари, – затараторил Глебов, тыча указательным пальцем в грудь Хабарову, едва тот вылез из-под машины, – именно о нем вам говорили.
– Александр Хабаров? – переспросила француженка и что-то сказала на ухо переводчику.
– Госпожа Анже сомневается, что вы именно тот Хабаров, чье имя как постановщика и исполнителя автотрюков было указано в титрах фильма «Скорость».
– Тот самый. А что вам, собственно, нужно?
Француженка снова обратилась к переводчику.
– Госпожа Анже просит вас уделить ей двадцать минут, – перевел тот и с Глебовым пошел к выходу.
Мари Анже с отсутствующим видом листала технический журнал, когда Хабаров вернулся в кабинет и поставил на стеклянный столик перед нею чашку кофе.
Она попробовала кофе, одобрительно кивнула и медленно, чуть растягивая окончания, по-русски произнесла:
– Если вы будете говорить медленно, я все пойму. Мои родители были русскими эмигрантами.
Хабаров равнодушно кивнул.
– Я – Мари Анже. Здесь, в Москве, мой проект. Мои деньги. Как это? Кто заплатил, тот слушает музыку…
– Кто платит, тот заказывает музыку.
– Да. Мне нужны автомобильные трюки. Мне сказали русские, что вы – лучший! Есть еще господин Борткевич… Но я видела вашу работу в «Скорости».
Хабаров улыбнулся: «А ножки у нее, пожалуй, что надо. Такие б ножки, да на плечи…»
– Я плачу вам тридцать тысяч евро за один-единственный трюк. Вы мне его делаете. Мы довольны!
Хабаров безучастно скрестил руки на груди.
– Интересно, что же вы от меня хотите за такие деньги? Я – не фокусник. Проходить сквозь стены не умею.
– Это не нужно. Вы разгоняетесь на маленькой легковой машине, с трамплина перелетаете через грузовик и едете дальше.
– Все?
– Все.
– Что за грузовик?
– Длинная машина с прицепом. Перевозит много маленьких машин.
– Как этот трюк вы собираетесь снимать?
– О! Нет проблем. Одну камеру мы крепим в кабину. Зритель может видеть все глазами водителя…
– Неплохо.
«И морданчик симпатичный… – снова подумал Хабаров. – Губы припухшие, чувственные…»
– Другая камера будет закреплена на кран. Нужно снять в динамике этот красивый полет. Еще одну…
– Стоп-стоп-стоп! Я не о том. Вы собираетесь этот трюк снять от начала до конца за один прием: разгон, прыжок, полет, приземление? Я правильно понял?
Она мило улыбнулась, согласно кивнула:
– Вы сообразительный!
– Позвольте еще вопрос. У вас кто постановкой этого трюка будет заниматься: вы или все же я, если скажу «да»?
– Что тут ставить? Мне исполнитель нужен, а не второй режиссер на площадке.
Хабарову очень хотелось обругать распоследними словами эту самоуверенную дамочку, но он сдержался.
Все годы, что он работал в трюковом кино, главным Хабаров считал максимально обезопасить трюк и, где необходимо, применять монтаж, компьютерную графику, а то, что делает каскадер, хорошо проснять, и в итоге – поразить зрителя, сделать трюк зрелищным, динамичным. Это почти всегда удавалось. Его работу стали узнавать, что называется, по почерку. И, если на экране творилось что-то смертельно опасное и зритель был уверен, что при исполнении трюка уж точно не обошлось без жертв, можно было не читать титры, было ясно, что работала команда Хабарова. Стиль был его визитной карточкой. Это отнюдь не значило, что они «не забирались черту в пасть», не рисковали здоровьем, а подчас и жизнью. Однако Хабаров никогда не одобрял риск без страховки, «риск в чистом виде», как он любил повторять.
Сейчас дело было вовсе не в ударе по самолюбию. Совсем нет. То, что предлагала француженка, не могло не закончиться трагедией и виделось каскадерам разве что в ночных кошмарах: на бешеной скорости взмывающий по рампе на шестиметровую высоту автомобиль, затем безжизненно и обреченно падающий на асфальт, при ударе мгновенно опрокидывающийся назад, на крышу и дальше смертельным волчком летящий под откос. Так что ни о каком «приземляетесь и спокойно едете дальше» не могло быть и речи. Это при том, что само по себе падение с шести – семиметровой высоты без страховки для человека уже смертельно. А здесь и высота больше, и скорость – не успеешь лоб перекрестить. Так что вызывай плотника…
«Хотел бы я знать, – думал он, – что толкнуло расчетливых французских парней на это самоубийство…»
– Скажите, Мари, а не проще ли оставить салон машины пустым, а машину выстрелить из катапульты?
– Халтура.
– У вас в принципе неверное представление о том, как можно сделать и нужно снять этот трюк. А это рисковый трюк, я вас уверяю. Вероятно, на этом трюке у вас и погиб каскадер.
Француженка недовольно поерзала в кресле.
– Мне кажется, вам за риск платят, господин Хабаров! Я вам предлагаю хорошие деньги. Русские любят деньги. Все! Ваш охранник должен охранять вас, но он взял деньги Глебова и впустил нас сюда. У вас, Хабаров, нет возможности выбирать. Посмотрите на себя. Как вы одеты?! Вы грязный, весь в машинном масле. У вас нет денег на ремонт машины в сервисе. Отработав у меня, вы сможете купить себе приличный костюм, новую машину. Вы сможете поехать отдохнуть, а не пить водку со своими небритыми друзьями-алкоголиками. Я открываю перед вами новую жизнь! Немцам или англичанам я бы, конечно, заплатила больше, но для русских мое предложение очень щедрое. Работаем?
Мари Анже протянула Хабарову руку.
Его рукопожатие было крепким, а потом вдруг он резко дернул ее руку на себя, от чего самоуверенная особа слетела с кресла и упала на пол перед сидевшим Хабаровым, больно ударившись о пол коленками.
– То, о чем ты мне сейчас рассказала, девочка, больше не предлагай никому. Вдруг найдется идиот и согласится! – глядя в ее испуганные глаза, произнес он, с нажимом выделяя каждое слово, словно заботясь о том, чтобы француженка навсегда запомнила то, что он сейчас скажет. – Да, я – русский! Я горбатился шесть лет без сна и отдыха, чтобы сейчас жить так, как хочу. И даже тогда, когда у меня не было ни гроша на кусок хлеба, я подачек не принимал! Мы, русские, можем быть нищими, но мы никогда не станем лизать вам, французам, зад. Ты поняла меня? А теперь убирайся! Деловая встреча окончена.
Хабаров, как нашкодившего котенка, приподнял ее за шиворот и брезгливо толкнул к двери.
От захлестнувших обиды и возмущения Мари Анже потеряла дар речи. Судорожно хватая ртом воздух, пятясь, она суетливо поправляла одежду и то и дело спадавший с плеча ремешок сумочки.
– Вы… вы… русский медведь! – наконец выпалила она. – Алкоголик! И… И… коммунист!
Она пулей вылетела из кабинета.
– Н-да-а… Что-что, братишка, а переговоры ты вести умеешь! – привалясь плечом к дверному косяку, Виктор Чаев с нескрываемым любопытством наблюдал за Хабаровым. – Я преклоняюсь, шеф, перед твоим терпением, тактом, даром дипломата…
– Ты еще на мою голову! Тормози, позвонок. Тормози! – он погрозил Чаеву пальцем. – Витек, не доставай меня. Я злой! Я сейчас и придушить могу!
– Всегда к твоим услугам. Я тут и удавочку припас. Вот, думаю, зайду, вместе и опробуем.
Хабаров недовольно глянул на растаявшего в улыбке друга.
– Шел бы ты действовать на нервы кому-то другому!
Чаев налил себе кофе и грузно плюхнулся в кресло напротив, где только что сидела мадмуазель.
– Сань, лихо она тебя уработала. Я тебя таким злым последние лет сто не видел.
Хабаров подался вперед и очень тихо, доверительно, нисколько не сомневаясь в том, что Чаев разделяет его точку зрения, сказал:
– Витек, я очень старый и много чего в жизни видел. Но иногда – ну, прямо как блондинка! – ничего не понимаю. Приходит кто-то неизвестно откуда, несет заведомый бред, начинает учить меня жить, оскорбляет меня и моих друзей, а потом хочет, чтобы я вместе с ним же работал, шкурой рисковал. Катись ты, провались! Либо этот мир сошел с ума, либо – одно из двух!
Чаев добродушно рассмеялся. Сейчас Хабаров напоминал ему обиженного мальчишку.
– Баба… Что с нее взять? Где-нибудь свернет себе шею. Едем лучше ко мне на дачу. Запечем уток в духовке, в бильярд врежем, наливочки тяпнем. Знатная наливочка! Панацея! По остроте ощущений твой Эльбрус в подметки не годится! Меня соседка по даче снабжает. Знатная наливочка! Вишневая, смородиновая, яблочная – на выбор! Вкус… – Чаев мечтательно возвел глаза к небу, но тут же осекся и очень строго добавил: – «Не пьянки, окаянной, ради, а токмо пользы для!» – как говаривал государь наш Петр Алексеевич. Я как раз сегодня не брит. Так что, по самым высоким французским эстетическим критериям соответствия, должен удовлетворить твоим скромным запросам.
Чаев бодро поднялся.
– Все! Саня, не ведись, не ведись! Уходи от ситуации. Поехали!
Хабаров улыбнулся. На душе потеплело.
«Кажется, я начинаю понимать, за что мужики любят Витьку…»
Уже поздним вечером, в саду на даче Чаева, сытые, пьяные, довольные, с перемазанными молодой печеной картошкой руками и лицами они сидели на траве у весело потрескивавшего костра. Наливочка, так пришедшаяся по вкусу всем, уже самым затейливым образом перемешалась с водочкой, предусмотрительно привезенной с собой Володей Орловым и Женей Лавриковым. И во многом благодаря этой адской смеси, бурлящей сейчас в крови, Хабаров уговорил Чаева взять гитару.
Чаев превосходно играл, почему-то стыдясь музыкальной школы и двух курсов консерватории за плечами. Так, «три аккорда, когда-то подхваченные в подворотне», говорил о своей игре Чаев. Но с этим было трудно согласиться, и ребята на один из дней рождения преподнесли Чаеву настоящую концертную гитару ручной работы прославленного мастера Шуликовского. Этой гитарой Чаев дорожил, брал ее только тогда, когда был искренне расположен к гостям. Сейчас, в неверном свете костра, приятным бархатным голосом он пел, бередя переборами аккордов самые потаенные струны уставшей от суеты души:
Измотали дороги-пути. Я давно не был дома. Помню тихое: «Милый, прости», – В шуме аэродрома, И слезу, побежавшую вслед Виноватой улыбке. «Ты же правильной была столько лет. Время делать ошибки…» Пустота, маета, ты уходишь спеша. Лица… Лица… А в захлопнутой клетке тоскует душа, Точно птица. Вот напасть! Так не в масть Зачеркнул жизнь своею рукою. Ведь к нему у тебя только страсть. Что же делать с тобою? Время – лекарь плохой, и немой, и глухой. Он не лечит. Да, теперь я играю в «орлянку» с судьбой: Чёт и нéчет. Чередой, полосой, точно дождик косой Над равниной, Прохожу по судьбе то одной, то другой – Нелюбимой. Здравствуй, город родной, где у входа в вокзал Куст сирени! Вдруг смешались, опьянили – я не ждал – Свет и тени. И шагнуло мне навстречу – верь не верь! – Мое счастье, Повзрослевшее от боли и потерь В дни ненастья…– Знаешь, Витек, – с чувством начал Хабаров, – сколько раз тебя слушаю, столько поражаюсь. На кой ты горбатишься с нами? У тебя же та-лан-ти-ще! Ты своей гитарой и этим потрясающим голосом такие бы лавры сейчас пожинал!
Позвонки одобрительно закивали, поддакивая.
– Да вы же пропадете без меня, как мамонты! К гадалке не ходить.
– Витька, давай нашу любимую, про каскадеров! – попросил Лавриков.
– Я, если честно, эту песню не люблю, – сказал Хабаров. – Бравады, показухи много.
– Это смотря что показухой называть, – отложив гитару, возразил Чаев. – Вот если горение в машине с сопутствующими взрывами, где, не дай бог, пиротехники заряд перепутают, или, допустим, прыжок с одним парашютом на двоих, тогда это точно показуха. А все остальное… Все остальное, позвонки, это будни!
– Витька прав, мужики. Ну ее к лешему, эту поэзию! Лучше наливочки тяпнем!
Тяпнули.
– Эх! Хорошо сидим! Оказывается, от жизни можно удовольствие получать и без женского пола, – произнес Володя Орлов, блаженно растянувшись на траве.
– Слышала бы тебя сейчас твоя Виктория…
– Мой домашний прокурор? – Орлов плутовато прищурился. – Она мне сегодня устроит допрос с пристрастием, потом сама же вынесет приговор и приведет в исполнение.
– Что за приговор-то? – полюбопытствовал Лавриков, старательно снаряжая горчицей и зеленью покрытый золотистой хрустящей корочкой кусок утки.
– О-о-о, Женька, лучше не знать! – отмахнулся Орлов.
– Да, от тела она его отлучит, – хохотнул Чаев. – Ничего, Володенька, недели две строгого воздержания и можно грешить дальше.
– Живут же люди! – с завистью констатировал Лавриков. – А тут придешь, и никому, кроме автоответчика, до тебя дела нет. Тоска!
– Ах, жук ты майский! – толкнул его локтем в бок Чаев. – А что это за смазливая блондиночка, которую я давеча в половине седьмого утра у тебя застал? Ребята, только представьте: дверь как-то сама собой открывается, а на пороге в женькиной рубахе – она! Ноги прямо от ушей начинаются, фигурка, само собой, дразнит основной инстинкт, и только сообразишь, что «попал», тут же тонешь в омуте бирюзовых глаз!
Лавриков добродушно закивал.
– Все так. Но это сеструха моя была, Ленка.
Раздался дружный хохот. Всем было хорошо известно, что в этом году у Лаврикова эта «сестра» была двадцать восьмой или двадцать девятой по счету.
– Ты, позвонок! До чего дошел: врет и не краснеет!
– История нас рассудит!
Воспользовавшись паузой, Лавриков перехватил инициативу и пошел в наступление.
– Что для вас, проницательные мои, доверчивый, бесхитростный Лавриков? Открытая книга… Я и на смертном одре скажу, что сущность женщины – горизонтальная! Что бы ни говорили поэты и философы и ты, любезный моему сердцу Витька Чаев. Что же мне делать? Как быть? Как жить дальше, я бы сказал?! Обложите меня духмяными пряностями, освежите минералкой со льдом, ибо я изнемогаю от любви!
– Что само по себе и не ново… – философски заключил Чаев и подставился.
– Кстати, Витек, как у тебя с Лорой? Если ты – пас, я к ней подкачу. Богиня!
– Что значит «как»?
– Как – это значит кáк.
– Никак.
– То есть?
– То есть осади, – сильно сжал его руку Орлов, поманив пальцем. – Иди, дружочек, я расскажу тебе притчу о любопытной Варваре.
– Все ясно, – обиделся Лавриков, – меня опять держат за салагу.
– Младшенький ты наш! – подтвердил Орлов и пинком подтолкнул к рубиновому графинчику.
Этот ленивый разговор ни о чем, осторожно касаясь всех, тщательно обтекал Хабарова. Металлическим прутом, с видом отсутствующего здесь человека, он ворошил жаркие уголья костра и думал.
Работа, от которой он отказался, послав Мари Анже ко всем чертям, была стоящей. Очень трудной, опасной, но стоящей. Сделать то, чего до этого не делал никто, сделать то, что сделать было почти невозможно, было заманчиво. И если автотрюки, сами по себе, исполняются, как правило, не на очень большой скорости – сорок километров в час, то здесь, учитывая необходимость дальнего полета и высокого прыжка, и скорость будет за сотню, и высота запредельной и килограммы, килограммы адреналина в кровь…
Он тряхнул головой, точно отгоняя непрошенные мысли, посмотрел на ребят. Вероятно, начало спора он пропустил, так как обе стороны, засучив рукава, уже трудились над изничтожением аргументов друг друга.
– Тише, горячие русские парни! Вы еще подеритесь! – не выдержав перепалки Чаева и Лаврикова, басом пророкотал Володя Орлов. – Женя, что ты предлагаешь?
– Я предлагаю больше не мучиться над этой проблемой, потому что трюк послезавтра. Надо расположить заряд по периметру. Лучшего решения нет.
– Молодец! – не унимался Чаев. – Афера. Чистой воды!
– Оглохнем малость. Первый раз, что ли? – уже с меньшим запалом сказал Лавриков. – Ты чего, Витенька, струхнул?
– Да пошел ты, умник!
Хабаров осторожно доставал из костра новую порцию молодой печеной картошки и это, по всей видимости, интересовало его гораздо больше, чем словесная дуэль.
– Что вы ерунду в проблему вгоняете, – равнодушно заметил он. – Там сваи. Изменить места закладки, и весь заряд под воду пойдет.
Лавриков с изумлением смотрел на него.
– Шеф, что же вы до сих пор молчали?! Здесь уже столько крови пролито. С вашей стороны это по меньшей мере свинство.
– Я же не знал, что вы до сих пор на натуре не были. Слушайте, – Хабаров обвел всех недовольным взглядом, – вы чем занимались-то все это время? У вас трюк не готов, а вы его работать собрались послезавтра!
– Нарвались, умники? Сейчас будет раздолбон для раздолбаев, – объявил Орлов. – Раздолбаям не завидую.
– Сань, – виновато начал Лавриков, – ни минуты свободной. Как бобики! Вот, сейчас обсудили и…
– Короче, самостоятельный ты мой! Еще раз поведешь себя безответственно…
– Шеф, я понял. Понял. Понял…
Чтобы спасти Лаврикова из цепких хабаровских лап, прекрасно зная, что Хабаров халтуры никому не прощал, Чаев вмешался и вызвал огонь на себя.
– Саша, если ты хочешь поговорить о работе, то скажи мне вот что, – он обнял Хабарова за плечи. – Ты француженку-то послал, родимую, по известному адресу, но она интересную вещь предлагала. Сигануть по рампе в небо метров на пять-шесть, через грузовик по его продольной оси, метров двадцать-двадцать пять пролететь по воздуху… Такое не каждый день бывает!
– Я сам все время об этом думаю, – Хабаров усмехнулся. – Защитник! Женька, ради тебя человек старается. Твою шкуру спасает. Ты хоть оцени это, балбес!
– Вы про что это, позвонки? О каком таком полете говорите?
Чаев рассказал.
– Дохлый номер. Лично я в ту машину не сяду.
– Женька, а ты представь, что едешь за тридцатью тысячами евро!
– Хоть за миллионом! Куда они мне на том свете? Ты головой думай, Володенька, а не как Борткевич. Хотя, говоря о деньгах, признаюсь, хочется, чтобы было всегда и много!
– А-а-а! Не переживай, – придавил его плечо своей тяжелой ладонью Володя Орлов, – все равно найдут кого-нибудь.
– Кого? У нас такие вещи никто не делал.
– Без разницы. Борткевич копытами землю роет, как боевой конь. Он ведь у нас не продается. Он только покупается.
– Борткевич? Тогда скидываемся по сотне на венок!
– Саша, ты эмоции оставь. Скажи лучше, мы технически можем этот трюк осилить? Это нам выгодно. Деньги. Престиж.
Хабаров долго молчал, сосредоточенно наблюдая, как только что подброшенные поленья лижут ярко-оранжевые языки пламени. Пламя струилось змейками и постепенно усиливалось и разрасталось.
– Я бы его отработал. В лучшем виде, – наконец сказал он.
Лавриков присвистнул.
– Сань, я думал, у тебя при выборе между жизнью и деньгами побеждает здравый смысл.
– Чушь! Наш шеф сильнее здравого смысла! – пьяно выкрикнул Орлов.
– Только с этой аферисткой я работать не буду.
– Саша, какая мадмуазель аферистка? Ее сроки поджимают. Она верхушек нахваталась. А ты… Ты, где бы убедить – вспылил.
– Мы не в детском саду. Я – не нянька! Она меня с потрохами приобрести хотела. Вроде пушечного мяса! Понимаешь?!
– Что тут нового? К нам, каскадерам, всегда относились как ко второму сорту, в лучшем случае. Саша, у нас самая сильная материальная база, опыта больше, чем у других, мозги, опять же. Да на тебя же пальцем будут показывать! Прости, я не хочу указывать на очевидное, но, по-моему, ты ведешь себя, как последний осёл.
– Плевать!
– Тот же Борткевич раздумывать не будет.
– Коля, конечно, смелый парень, – тоном вынужденного продолжать разговор ответил Хабаров, – только смелый он от глупости. Он или себя угробит, или кого-то из своих ребят. На месте новичка я бы крепко подумал, прежде чем записываться в его команду.
– Черт с ним, с Борткевичем! Я его тоже не люблю. Значит, они, те, кто даст «добро», такие же, как мы, ребята, как Женька, Володька, как я, в конце-концов, будут тыкаться по углам, как слепые котята, а ты знаешь правильное решение и будешь со стороны хладнокровно смотреть, как они себя гробят? Это, Саша, похлеще «русской рулетки» будет. Нервишки-то, шеф, выдюжат? Тихо! – сам себя перебил Чаев. – Мать идет.
Принесшая для пополнения запаса запотевший графинчик и аппетитно возлежащую на громадном подносе среди овощей и зелени дымящуюся фаршированную утку мать Виктора Чаева, Ирина Мироновна, тихонечко присела к костру, молчаливо и уважительно наблюдая за беззаботно балагурившими ребятами, которые во всех подробностях обсуждали последний футбольный матч.
«Господи, – думала она, украдкой смахивая слезу, – хоть бы они каждый день собирались вот так, все вместе, отдохнуть. Пили бы наливочку, пели песни, и были бы молодыми и счастливыми их лица. И не было бы этой удручающей синевы под нижними веками и измученного взгляда, как после месяцев трудной работы…»
Небо яркого солнечного дня бледно-бледно-синее и бездонное. У горизонта его край незаметно переходит в озеро. И небо, и озеро сейчас похожи, точно близнецы-братья. Ни лоскута облачка, ни дуновения ветра. Июльский зной затопил окрестности на сколько хватает взгляда, щедро, с размахом.
Вековые сосны на обрывистом озерном берегу стоят разморенные. По их янтарным пахучим стволам солнечными капельками то там, то здесь сбегает, капает на выжженную солнцем траву смола. От палящего зноя сосны плачут, и воздух напоен смоляным ароматом, терпким, чуть сладковатым, русским, своим.
Селигерский край. Россия…
Пляжный песок дышит жаром, точно добротная печь, и потому лежать на низеньком деревянном лежаке, да еще под палящим солнцем, мучительно неприятно. Он бы сказал точнее: мерзко. «Мерзко» было его любимым словом. Иногда оно заменяло собою целую гамму понятий, ощущений и превосходно характеризовало окружающее.
Никита Осадчий мог позволить себе немногословность. Когда-то немногословность была необходимостью, потом перешла в привычку, а свои привычки он не считал нужным менять, как не считал возможным для себя обращать внимание на такой пустяк, как жара и связанные с ней неудобства.
Четверо крепких парней, одетых, как один, в строгие черные костюмы, стояли здесь же, на пляжном песке, неподалеку, застывшие, как изваяния, терпеливо обливаясь потом. Пятый, щупленький, с лицом вьетнамца, без возраста, нервозно переступал с ноги на ногу, заключенный охраной в своеобразный квадрат.
Чуть слышно, едва-едва, плескались волны, надсадно стрекотали кузнечики, где-то далеко, на самой середине озера, переговаривались, что-то покрикивая друг-другу, одинокие рыбаки. Крохотная деревушка на холме справа. Запах сена. Апатичные пузатые черно-белые коровы на пестром лугу…
После московской суеты Никита Осадчий наслаждался деревенской пасторалью.
– Никита, кончай это представление, – наконец не выдержал, произнес «вьетнамец».
Молниеносный удар под дых и еще один сверху по затылку заставили его замолчать, рухнуть кулем на горячий пляжный песок.
– Очухается, давайте его ко мне, – процедил Никита Осадчий.
Он поднялся с лежака и пошел в дом – белоснежный особняк на берегу.
Очевидно, для того, чтобы привести в чувство, бедолагу просто макнули в озеро, потому что пару минут спустя он предстал перед Осадчим промокшим до нитки.
– Я не спрашиваю, почему ты пришел ко мне в таком непотребном виде, – лениво потягивая морковный сок, произнес Осадчий. – Видимо, ты промок от слез. И я хотел бы думать, что это – слезы раскаяния.
Брюс Вонг молчал. Левой рукой он потирал затылок и дерзко смотрел на Осадчего.
– Осуждаешь?
– Никита, хочешь, чтобы я ответил?
– Триста километров в багажнике, конечно, неприятно. Но напрасно ты пыжишься, Брюс. Вина за тобой.
Брюс простер руки, подался вперед, словно стараясь быть более убедительным, но охранник остановил порыв.
– Никита, мне что, жить надоело?! Да я…
– Остынь! – оборвал его Осадчий. – Я не для того оставил столичные интерьеры, чтобы услышать мерзкую ложь от человека, которого ценил. Заметь, о тебе я говорю в прошедшем времени.
– Да чтобы я упал на хвост?![16] Я не деревянный по пояс![17] – завизжал Брюс. – Я же себе ни одной цифры![18] Понт не навожу.[19] Чтоб мне «крысой» сдохнуть!
– Забожился… – усмехнулся Осадчий.
Он медленно подошел к гостю, и своими короткими крепкими пальцами обстоятельно взялся за левое ухо Брюса Вонга и с силой крутанул. Тот взвыл от боли, слезы заблестели на глазах.
– «Стекляшки» любишь! Я тебе брюхо ими набью. Жрать заставлю! – прошипел Осадчий. – Все до пылинки в «копилку» вернуть!
– Никита, я…
– Говорить будешь, когда я позволю. Я еще не закончил с тобой. Ты же знаешь, что я не люблю, когда мой дом «феней» оскверняют. Совсем русский язык забыли. Мат да «феня». Оскотинились.
Он отпустил ухо и, по-домашнему шаркая шлепанцами, пошел на веранду, с которой открывался замечательный вид на озеро. Опершись о перила, Осадчий какое-то время любовался окрестностями, потом со вздохом сожаления сказал:
– Ай-ай-ай, Брюс, такой ты мне день испортил. Такой день! Я, может, ради таких дней и живу. Чтобы без суеты, без надрыва, без надоевших лиц, один на один с Россией-матушкой. Красота-то кругом какая! Не пошлое Рублевское шоссе. Места нетронутые – царство Берендея, легендами опутаны. Иди сюда. Смотри, остров напротив. Я был там. Удивительно красивое место. Тринадцать внутренних озер. Заметь, Брюс, не двенадцать, не четырнадцать, а тринадцать. Не правда ли, в этой цифре есть какой-то магический смысл…
Брюс Вонг внимательно следил за каждым жестом, малейшей интонацией Осадчего, тщетно силясь понять, куда же он клонит. Лирические отступления были абсолютно не в духе Никиты. Оказалось, и это Брюс отметил про себя, они изматывают еще больше, чем просто выяснение отношений, когда «разбираются по понятиям», потому что не знаешь, чем все может закончиться.
– …и тогда я стал думать, какой? – продолжал Осадчий. – С виду все пристойно. Берега, поросшие камышом и осокой. По водной глади дикие утки плавают. Никакой магии. Разгадку подсказали местные рыбаки. Представляешь, Брюс, утонувший во внутренних озерах никогда не всплывает. Его быстро засасывает в ил. Дно очень рыхлое, илистое. И – Царствие Небесное!
Он мгновенно развернулся и, резко выбросив вперед правую ногу, ударил Брюса в пах.
От удара Брюс засипел, опереточно выпучив глаза, и стал оседать на колени, трогательно прикрываясь шлепанцем Осадчего, почему-то оказавшимся у него в руке. Осадчий поймал его за волосы и очень доверительно сказал:
– Я тебе, дерзкий, сказки за тем рассказываю, чтобы ты выводы сделал. Или – на остров. Выбирай!
Небывалый июльский зной затопил душный город. Жарились крыши. Дома распахнули окна настежь. Изнемогали от жары укрывшиеся в жидкой тени деревьев горожане. Безжалостное солнце многообещающе застыло на полуденной отметке небесного циферблата, готовое расплавить все, до чего могло дотянуться лучами.
Спасаясь от полуденной духоты мегаполиса, Хабаров торопливо собрался: парашют, скайборд, шлем, очки, костюм-комбинезон, еще бросил в спортивную сумку два яблока и бутылку минералки.
Теперь – прочь! Прочь из духоты, из суеты, прочь из, надоевшей до тошноты рутины, туда, где ветер пахнет полынью, где полевые ромашки мотыльками трепещут на ветру, туда, где пронзительно-синее небо величественно и гордо выставляет напоказ вернисаж акварелей легких перистых облаков, туда, где ты будешь свободен он земных оков, как птица, как мечта, как песня.
– С хорошей погодой, позвонки!
Хабаров протянул руку Скворцову, приветливо кивнул Лаврикову, выгружавшему из багажника «девятки» бесконечную вереницу сумок.
Вдруг из-за «девятки» метнулась маленькая тщедушная фигурка и, заняв очень профессиональную стойку, направила на Хабарова внушительных размеров пистолет.
– Руки вверх!
Изобразив ужас на лице, Хабаров подчинился, потом подхватил мальчишку на руки, закружил.
– Ах ты, обормот! Вырос-то как!
Хабаров подбросил Скворцова-младшего, к его неописуемому восторгу, вверх, ловко поймал, чмокнул в щеку и опустил на землю.
– Что, Олежек, решил приобщать? – спросил Хабаров, с улыбкой глядя вслед ребенку, бодро засеменившему к Лаврикову.
– «Приобщать»? Скажешь тоже! Ему же шесть лет. Людка генеральную уборку затеяла. Говорит, бери с собой – и все, совсем сыном не занимаешься. Я ей: «Глупое ты существо, ну, кто за ним смотреть будет, пока я в воздухе». А она, Сань, знаешь чего сказала? Ничего, говорит, тебе, наоборот, все сверху видно будет. Не идиотка после этого? Пришлось взять.
– Да-а, – кивнул Лавриков, – Людка у тебя баба серьезная. ОМОН по сравнению с нею просто детский сад!
– Жень, – довольно поддержал его Скворцов, – ты же ее знаешь. Если она чего сказала, лучше сразу уступить. Из глотки вырвет!
Хабаров рассмеялся, по-дружески обнял Скворцова.
– Ничего, попросим кого-нибудь присмотреть за твоим Денисом, пока тебе будет «сверху видно все». Зато потом Людку месяц сможешь попрекать своим подвигом.
– Или она тебя!
– Да чего вы ржете-то?! – смутился Скворцов. – Вам хорошо. Вы неженатые…
Он еще долго вздыхал и сетовал на судьбу, шагая вслед за Хабаровым и Лавриковым по летному полю. Наконец Хабарову это нытье надоело.
– Олежек! – очень серьезно начал он, – Создатель сотворил тебя по своему образу и подобию. Это Людка твоя – ребро Адама. Кость, безмозглая. А значит, все элементарно! Поцеловал ушко, сказал ласковое слово, потрепал за щечку, подарил цветы, конфеты или зефир в шоколаде, привел, как говорит Женька, в «горизонтальную плоскость», и она уже тает. Она уже твоя. И поймет, и простит, и превознесет до небес.
– Это кто советует, как сохранить семейный очаг? Человек, от которого жена сбежала, кто подружек меняет чаще, чем носки?! – съехидничал Скворцов.
– Кто сам не умеет, тот советует, – добродушно отшутился Хабаров. – А что остается?
– Точно вам говорю, позвонки: сживут нас бабы со свету. Вот ящеры, те давным-давно вымерли. А ящерицы… Ящерицы-то остались!
Так, шутя и препираясь, они дошли до зоны прыжков.
– Сань, с какой высоты прыгать будем?
– Как обычно, с четырех тысяч. Ниже – не интересно, выше – дорого.
– А раскрываемся?
– Ставьте «Pro-track»[20] на 800 метров. Не забудьте, завтра приборы ко мне на компьютер. Мы должны знать, как выглядим со стороны. Съемка – хорошо, но посмотрим графики, все ошибки сразу будут, как на ладони. Спорить не придется.
– Нет, мужики, минута свободного падения – это мало, – мечтательно вздохнул Скворцов. – Мы вечно куда-то бежим, торопимся, живем в режиме «ошпаренной кошки». Если прыгаем, то только, чтобы отработать какие-то спортивные элементы для поддержания формы, или для куска хлеба. Вот собрались бы просто так, ушли в горы, и там, на реальном рельефе…
– … в «Wings-suit»[21]! – аппетитно щелкнул пальцами Лавриков.
– Вот-вот! – с удовольствием поддержал идею Скворцов. – Если еще хотя бы полгодика повкалываем так, как последние три месяца, то у нас не будет ни родных, ни друзей…
– …ни пульса.
– Это точно.
– С Родоса вернемся, у французов отработаем… – начал Хабаров.
– … потом у Бориса Берестова недельку с четырех тысяч посигаем… – перебил его Скворцов.
– …а там еще что-нибудь подвернется, – пообещал Лавриков.
– Прощай, мечты! – заключил Скворцов.
Хабаров недовольно глянул на обоих.
– Телевизионщики прибыли, – сказал он, кивнув в сторону административных зданий. – Сейчас им в жилетки и поплачетесь. Они это любят. Зритель, глядя на вас, тоже будет весь в соплях, – он выпятил губу, как молодой бульдог. – Что до меня, то лучшего признания моих заслуг и быть не может. Ведь моя работа – загрузить работой вас.
– Ты смотри, – Лавриков локтем ткнул Скворцова в бок, – снизошел. Саня, ты ли это? Ты снизошел до объяснений. Не рубишь с плеча, не раздаешь приказы? И это наш суровый…
– Я бы сказал, очень суровый!
– Да! Просто зверь – шеф. Нет, Олежек прав, Саня. Тебе, позвонок, тоже пора сменить обстановку.
– Две недели и – слово даю – отдыхаем! А сейчас я иду к пилотам, ты, Женя, к телевизионщикам. Коротко расскажешь, что мы будем делать и как это лучше снять. Олег, найди кого-нибудь за пацаном приглядеть.
– Дядя Саша! – мальчишка дернул Хабарова за рукав. – Можно, я тоже к пилотам? Я ни разу в вертолете не был.
Тот потрепал его по ежику волос.
– Тебе можно все!
– Сколько прыжков у нас будет? Три?
– Больше не успеем. Много времени на укладку парашютов уйдет. Да, орлы, за парашютами присматривайте. Ну, что, Денис Олегович, идемте?
Увлекшись разговором с пилотами их вертолета и вертолета сопровождения, Хабаров все же то и дело посматривал на мальчишку. Денису в вертолете понравилось, все было интересно и ново, и уходить он не собирался. Заметив это, Хабаров все свое внимание переключил на обсуждение тонкостей предстоящего полета.
Что ж, опасность подстерегает нас чаще всего там, где мы меньше всего ее ожидаем. Проворно выбравшись из вертолета, пользуясь тем, что наконец-то предоставлен сам себе, Денис вприпрыжку направился назад, к оставленным вещам.
Окруженные съемочной группой программы «Золотая шпора», Скворцов и Лавриков что-то увлеченно втолковывали ее ведущему Анатолию Молчанову. На бравый марш шестилетнего Скворцова-младшего никто не обратил внимания.
Устроившись поудобнее среди сумок, одежды и скайбордов, Денис сосредоточенно и увлеченно распаковывал парашют Хабарова.
«Папа говорит, его вещи трогать нельзя, – рассуждал он. – Дядя Саша добрый, он ругать не будет. Я же парашюта никогда не видел! Папа говорил: покажу, покажу… Но он все время занят. У него работа. Я не должен лезть к нему с глупыми детскими вопросами. Я уже большой. Я – мужик. Мужики должны быть самостоятельными. Главное – потом все положить на место. Как было. Тогда точно ругать не будут. Так папа говорит…»
Против этого, конечно, трудно что-либо возразить.
Старательно открыв застежки-липучки отсека для укладки основного парашюта, вытащив вытяжной парашютик – «Медузу», Денис взялся за идущую от него к основному парашюту стропу и, почувствовав сопротивление, изо всех сил дернул ее обеими руками. Шпилька, крепившая стропу, отлетела, и изумленному взгляду мальчишки открылось то, ради чего он затеял все это, – тщательно уложенный, как свежевыглаженное белье, парашют, а перед его ровными, выполненными будто по линейке складками, два аккуратных мотка строп, каждый был перехлестнут петлей и от этого уложенные стропы напоминали два новых мотка бельевого шнура.
Мальчонка вспомнил, как совсем недавно на даче с мамой он долго и нудно распутывал «такие» шнуры, чтобы повесить выстиранное белье.
«Бедный дядя Саша! – вздохнул он. – Сколько же тебе придется с ними возиться!»
Он снял стропу-петлю с одного мотка строп, потом с другого, проверил, нет ли узелков и путаницы и с чувством выполненного долга аккуратно закрыл отсек на застежки-липучки, спрятал «Медузу» в полагающийся ей кармашек, положил ранец на прежнее место.
«Надо дяде Саше сейчас же рассказать, что я ему помог», – думал Денис, распираемый гордостью, семеня назад, к вертолету. Но пока бежал, передумал.
«Папа опять скажет: хвастаешь. Настоящий мужик должен быть сдержанным…»
Он решил ничего не говорить.
…Можно широко раскинуть руки и ноги, прогнуться в спине, опершись на тугой воздушный поток, и падать, падать, падать. И ничего не делать, глядеть по сторонам, наслаждаясь ни с чем не сравнимым чувством свободного полета, переполняясь восторгом от того, что ты если не птица, то метров до двухсот двадцати что-то вроде того.
Можно взять скайборд и скользить, скользить по небу, точно по искристому январскому снегу или по бирюзовым шаловливым волнам морского прибоя, концентрируясь на переключениях и переходах от одной спортивной фигуры к другой, на них самих. Тогда праздная красота и эйфория полета проходят, а вернее, пролетают мимо тебя в красивом затяжном прыжке. Ты один на один с небом, сосредоточен и собран. Ты знаешь, что небо надежное, что на него можно опереться, как знаешь и то, что оно безжалостное и не прощает ошибок. На некоторых элементах спортивных фигур, чаще всего это вращения, если ты что-то неправильно сделал, потерял контроль, у тебя начинают лопаться сосуды на руках, идет кровь, потому что центробежная сила настолько сильна в этот момент. Каждый прыжок – своеобразный трамплин для самоутверждения. И так пьянит ощущение власти над покоренной стихией…
Можно ради собственного удовольствия в компании друзей уйти в горы и там, облачившись в «Wings-suit» – костюм-крыло, шагнуть со скалы в бездну. Фантастические ощущения! Ты висишь над громадным ущельем, что-то в стиле Рериха, висишь и не понимаешь, что происходит. Земля не приближается, а ты мягко и плавно скользишь над нею, ощущая себя маленьким самолетиком, с огромными перепонками между рук и ног. Маневренность потрясающая! Снижаешься едва-едва, постепенно, под углом примерно градусов тридцать, медленно, потому что благодаря большой аэродинамической поверхности костюм-крыло имеет ничтожную вертикальную скорость и очень большую скорость по горизонту. В нем можно лететь параллельно склону, равнине на минимальной высоте, можно остановить скольжение, ощущая себя умной, могучей птицей. Сердце сладко и радостно замирает в груди. Ты реализовал извечную страсть человека к полету. Ты сделал это! Совсем другие ощущения, не те, что от покачивания под крылом парашюта. В небе разлита сладкая патока наслаждения свободой, когда ликует каждая клеточка твоего тела. Парашютизм очень многогранен по ощущениям.
Четыре тысячи метров. Мелко вибрирующий пол вертолета под ногами. Дверца распахнута в голубой простор. Привычный жест: «До встречи на земле!» Прыжок в пожирающий тебя воздушный поток, в эту расплескавшуюся на десятки километров вокруг синеву, и – работа.
Хабаров прыгал последним. Через минуту он был уже на высоте восемьсот метров. Привычно в ухо запищал сигнализатор высоты. Пора открываться. Машинально правой рукой он выдернул «медузу». Взмыв вверх, вытяжной парашютик мгновенно наполнился встречным воздушным потоком, за нею пошел основной парашют. То, что что-то произошло, Хабаров понял сразу…
– Толя! – истерично кричала администратор программы Молчанову. – Толя, он падает! У него парашют не раскрылся! Толя, ты видишь? Ой, мамочки! Боже милостивый!
Все, кто ждал их на земле, замерли в оцепенении. Оператор, который должен был снимать ребят на приземлении, увидев трагическую картину, приближенную объективом кинокамеры, испуганно отпрянул прочь и диким взглядом шарил по напряженным, застывшим лицам съемочной группы. Казалось, время тоже замерло в ожидании развязки.
Тревожно всматриваясь вверх, туда, где был Хабаров, Скворцов до боли сжал зубы: «Ну же, Саня! Запасной давай!» Он даже крикнул это. Но…
– Позвонок… – прошептал Лавриков, и болью обожгло сердце: он-то сам был уже в паре метров от земли.
Извернувшись Хабаров увидел край купола основного парашюта, безобразно перехлестнутый стропами.
«Черт!»
Дальше руки сами сделали то, что должны, мгновенно, автоматически. Правой рукой он рванул подушечку «отцепки». Основной парашют, увлеченный «медузой», стремительно пошел вверх. Левой рукой Хабаров дернул желтое кольцо запасного парашюта. Мгновение. Легкий хлопок. И… Над головой уже привычное крыло.
«Зараза!» – зло бросил он, провожая взглядом безвольно, комком, летящий далеко в стороне свой основной парашют.
Еще несколько секунд и вот она – земля. На высоте около метра Хабаров сбросил скайборд и, пролетев по горизонтали метров пятнадцать, плавно приземлился, одним четким, выверенным движением погасив парашют.
Он еще не успел расстегнуть пряжки подвесной системы, как рядом с ним уже были Скворцов и Лавриков.
– Саня, ты как, цел?
– Цел, – нехотя отозвался он.
– Молодец, позвонок! – оба радостно хлопали Хабарова по плечам. – Можешь еще что-то! Молоток! Молоток…
Их обступили телевизионщики, шумно обсуждая то, чему свидетелями только что были. Каждый считал себя обязанным сказать Хабарову несколько теплых слов.
– Саша, несколько слов сразу после приземления, – прорвавшись сквозь толпу, Молчанов сунул микрофон Хабарову прямо в лицо.
– Не сейчас. Я тебя умоляю, – для убедительности Хабаров прижал руку к сердцу. – Сегодня прыгать больше не буду, так что минут через двадцать я твой. Сейчас, извини…
Втроем они сидели на усыпанном ромашками лугу.
– Я не могу понять, что стряслось! – все больше горячился Хабаров. – Я же сам его укладывал!
– Санек, бывает. У всех бывает, – пытался успокоить его Лавриков.
– Саня, Женька дело говорит, – поддакнул Скворцов.
– «Бывает, бывает…» – передразнил их Хабаров. – Это только у идиотов бывает. И, вообще… Я на запасном единственный раз приземлялся, еще в военном училище.
– Все обошлось. Держи чашку. Чаю выпей. Специально для тебя термос приволок. Ты же кофе не любишь.
Скворцов заботливо сервировал импровизированный столик на раскинутой прямо на лугу клеенчатой скатерти.
Хабаров никак не отреагировал на это предложение. Он лег на траву и рассеянным взглядом стал блуждать по акварели редких перистых облаков, проплывавших высоко-высоко, у самого солнца.
– День с утра не задался… Может, и правда, в отпуск пора?
Хабаров уже повернул ключ в личине, как вдруг с площадки этажом выше услышал какой-то непонятный шум: то ли приглушенные голоса, то ли возню, что именно, понять было трудно. Девятый, последний, этаж занимали две супружеские пары почтенного возраста. Еще две квартиры летом пустовали, их хозяева жили на дачах. Понимая, что в двенадцатом часу ночи ничего хорошего там быть не может, и что, конечно, его, выходящего из лифта, видели и слышали, Хабаров гулко захлопнул дверь в квартиру и на цыпочках двинулся наверх.
Он ожидал чего угодно, только не того, что увидел.
Его сосед Лёлик – лихой парень лет двадцати шести, одетый в шорты-бермуды и заляпанную красками рубаху, гордо именовавший себя «лицом свободной профессии», на деле бывший спившимся художником, увлеченно, со знанием конечной цели, напирал на женщину, бессовестно зажатую им в угол. Одной рукой художник опирался о стену, чтобы не упасть, другую прижимал к сердцу для убедительности.
– Ты пойми, хорошая моя, – пьяно лепетал он, покачиваясь, дыша в лицо даме алкогольным смрадом, – я не что-то там тебе, а даже наоборот! О нас, художниках, говорят, как о непонятых гениях. В любви я – Дали, Рембрандт, Саврасов, если хочешь! Ты в этом убедишься! – Лёлика качнуло, и он навалился на нее всем телом. – Ну, сколько можно-то? Что ты тут стоишь, как не родная, и вообще… – он икнул. – Я тебя уже устал уговаривать. Пойдем ко мне. Сладкая, ты не бойся. Мы оба интеллигентные люди…
«Черт… – проворчал Хабаров и расслабленно привалился спиной к стене. – Как все же тесен мир. Как тесен…»
В женщине он узнал Мари Анже.
– Лёлик! – окрикнул он художника. – Как поживает твоя «Обнаженная в шляпе»?
Тот вздрогнул, покачиваясь, обернулся.
– Александр! Настоящий шедевр всегда рождается в муках. Вот ей, – он развязно уперся ладонью в грудь француженке, – ей я об этом говорил. Она ничего не понимает! – он безнадежно махнул рукой. – Но настоящий художник художника поймет всегда!
С появлением нового человека Лёлик утратил к даме всякий интерес.
Почувствовав свободу, женщина без сил сползла по стенке на пол, трогательно размазывая по щекам слезы.
– Саша, сколько дней и бессонных ночей я угробил зря! Ведь работа – это же наркотик. Чем чище, тем дороже стоит! А вот как чуть-чуть выпью, все. Не могу производить товар! Все ширпотреб выходит. А душе хочется чего-то чистого, большого… Искусства душе хочется. Понимаешь? А искусство рождается либо если ты трезв, либо когда у тебя баланс. Я не сбалансирован. Саш, – обиженно зашептал он, – я у этой бабе денег просил. Полтинник. Мелочь. Для баланса. Она странная. Не дает. Говорит, иди работать. А как работать в таком состоянии?! Саша, помоги мне. Ради искусства! Будь меценатом!
– Ладно, пойдем.
Расставаясь с Хабаровым, Лёлик взял с него слово, что «если что-то там того, то всегда, как к родному», и довольный ушел наводить «баланс».
Умывшись, Мари Анже вошла в кухню, где Хабаров готовил чай.
– Порядок?
Француженка кивнула.
Хабаров оценил ее внешний вид. Без косметики она показалась ему много милее и привлекательнее. Он улыбнулся, вспомнив ее, перепуганную, зажатую Лёликом в угол.
– Почему тебе не интересна причина, зачем я здесь?
– Зачем? – монотонно повторил Хабаров и отвернулся к стенному шкафу, где стояли чашки.
Мари неслышно шагнула к нему, обняла, прижалась щекой к его спине.
– Я ждала тебя. Долго. Было поздно, но у меня была твердая убежденность, что ты придешь. Я должна просить прощения. Я тогда оскорбила тебя. Это нельзя. Это дурно.
Хабаров обернулся. Она не отступила. Его пристальный взгляд ее не смутил.
– Я оценил твои извинения.
– Я не склонна верить тебе, Саша, – сделав ударение на последнем слоге его имени, чуть нараспев проворковала француженка и положила руку ему на плечо.
Глядя в его глаза спокойно и прямо, она другой рукой медленно, словно играя с ним, расстегнула рубашку на его груди. Наконец, проникнув под ткань, прохладной ладонью она коснулась его горячей кожи.
– Я не могу верить тебе, – едва слышно повторила она, приблизив свои губы к его губам. – Вспомни, какими глазами ты смотрел на меня.
Она скользила пальцами по его шее, щеке, едва прикасаясь, ее губы были так близко, что казалось, малейшее неосторожное движение, и они встретятся с его губами в сладком, нескромном поцелуе. Она прильнула к нему всем телом так, что Хабаров чувствовал биение ее сердца, чувствовал, как жжет кожу там, где его груди касается ее упругая грудь. Он чувствовал ее дыхание, запах ее волос, видел ее трепещущие длинные ресницы, затуманенный страстью взгляд и приоткрытый в интриге желания рот.
– А теперь, – продолжала Мари Анже бархатным голосом, едва-едва, будто случайно, касаясь губами его губ, – теперь, когда я так близко, что ты чувствуешь ко мне?
Ее рука скользнула к застежке его джинсов, гибкие пальчики пробежали по тонкой ткани ставших тесными плавок.
– Ты говорил мне, что подачек не принимал. Ты не продержишься и минуты, если я пойду дальше. Ты уже сейчас имеешь готовность принять меня, как подачку. Но сейчас я уйду. Ты останешься. Тебе не будет покоя. Ты будешь думать обо мне, вспоминать шаг за шагом то, что сейчас было. Ты будешь хотеть меня, проклинать меня. Теперь твоя очередь упасть на колени. Мы квиты!
– Все будет не так.
Он рванул кофточку на ее груди, молниеносным движением смахнул со стола посуду, и склонился над француженкой, совсем не возражавшей против такого поворота событий.
– Ты абсолютно дикий русский. Но ты будешь мой! Как у вас говорят, с потрохами…
Шон Лин Тау Цзы – по происхождению китаец, по паспорту гражданин Соединенных Штатов – был человеком уважаемым в деловом мире, но его подлинной биографии не знал никто, и на карте мира невозможно было отыскать местоположения его конторы. Тем не менее, этот человек был превосходным посредником в крупных, не подлежащих огласке сделках. Его благосклонность ценили, за его помощь щедро платили.
Поговаривали, что Шон Лин Тау Цзы, или Шон Цзы, как он любил на европейский манер представляться, мог продать что угодно кому угодно, оставшись при этом в неизменной выгоде. «Что угодно» иногда было оружием, иногда новыми технологиями, иногда золотом, иногда бриллиантами, а иногда живым товаром. «Кто угодно» мог быть действительно кем угодно, от воинствующих политических лидеров до консервативных миллиардеров. Спецслужбы всего мира официально стремились пресечь бурную деятельность Шона Цзы, а на деле сотрудничали с ним, так как не было более удобного неофициального канала для финансирования тем и разработок «с душком». В свою очередь Шон Цзы, помимо неизменного положительного результата, обеспечивал еще и полную конфиденциальность. Так что, всех всё устраивало.
Сейчас этот предприимчивый человек сидел в беседке на берегу озера с деловым партнером Никитой Осадчим и после хорошей, но умеренной трапезы заканчивал чайную церемонию.
Посиделки в беседке напоминали встречу двух старых друзей.
– Каросый тяй, госьподин Никита, – с елейной улыбкой тщательно выговаривая слова, произнес Шон Цзы. – Сьпасибо.
Он предпочитал говорить на языке страны пребывания.
– Я рад. Рад, что вы, пусть ненадолго, почувствовали себя как дома.
Тонкости чайной церемонии были соблюдены. Никита Осадчий жестом приказал очистить стол.
– Ви мнёго ряботаете, Никита.
– Нетипично для русского, не так ли?
Шон Цзы закивал.
– Да, у нас все хотят жить красиво, но при этом, как Емеля из русской сказки, все время лежать на печи с мечтой о той не пойманной щуке, которая будет исполнять каждое желание. Здесь даже пословицы и поговорки специфические в ходу: «Работа не волк, в лес не убежит», «От работы кони дохнут», «Дураков работа любит, а дурак работе рад»… Вот у немцев, например: «Работа прославляет». У евреев: «Кто рано встает, тому Бог идет навстречу»…
– У нась говорят, тьто недосьтойно просьто накорьмить голодного, лутьсэ дать ему удотьку. Есьтё мудьрее дать удотьку и забыть показать, где водиться риба.
Осадчий от души рассмеялся.
– Замечательно… Замечательно, господин Шон! Восток многому меня научил. Труду прежде всего. Именно там я поверил в правдивость истины о том, что дорогу осилит идущий.
– Я увазяю вась, как надезьного парьтьнера. Я помню васи блесьтясие сьдельки есё во времена афганьського вторьзения. Только тогьда товарь биль иной.
– Я иду в ногу со временем. Мировой валютный хаос позволяет широко использовать алмазы как универсальное средство платежа для всякого рода нелегальных операций. На разнице валют при продаже наших алмазов на мировом рынке можно заработать превосходную прибыль. Я убежден, что у алмазного рынка большое будущее. Я торгую уникальным товаром. Алмаз – исключительный технический материал. Его оптические, термические, электрические свойства только начинают использовать военные. Электроника, оптика сделают прорыв в развитии с началом применения алмазов. Запомните мои слова. Сейчас у нас девяносто второй год. Лет через десять вы скажете мне, как же я был прав!
– Дюмаю, ськазю непременнё. Но сейчась деньгами и альмазями ви финаньсирюете войну, тьтобы нефьтянёй бизьнесь сьталь васим.
– Я, как алмаз. Многогранен. Жаль только, риска много. Моё правительство все еще против контрабандного вывоза алмазов за рубеж.
– Усьпех войни изьменит расьтяновьку силь и сьтанет препятьсьтьвием проникьнёвению НАТО в регион. На деле, ви работаете на благо васей сьтряны. Это выгодно васему правительству. Зяметьте мою деликатьнёсьть, Никита. Я не сьпряшиваю, ряботаете ли ви на прявительстьво.
– Шон, вы же знаете, я работаю только на себя.
– Ви дольго готёвили эту сьдельку. Это будет сьделька всей васей зизьни!
Он довольно улыбнулся, похлопал Никиту Осадчего по руке своей сухонькой теплой ладошкой.
– Одьнако, я слисяль, – продолжал Шон Цзы, – тьто нас дрюг Толя Сибирьцев не в восьторьге от бизнеся. Я это приехаль ськазять. Я верю в клан. Я не верю в усьпех, где лебедь, ряк и сюка – парьтьнёри.
– Я буду работать над этим.
– Ряд, тьто ви видите пьробьлему. Рязь тяк, моя миссия исьтерьпана.
Шон Цзы поднялся, церемонно поклонился, водрузил на нос темные очки и пошел к машине.
Оставшись один, Осадчий от души врезал кулаком по столу.
– Откуда?! Откуда эта раскосая обезьяна столько знает?
В опустевшей аудитории кафедры экстремальных видов спорта они сидели вдвоем: Хабаров и Андрей Романцев.
Пепельница на столе была заполнена доверху, кофе выпит, стол завален чертежами и записями с арифметическими выкладками. Все говорило о том, что здесь был долгий, обстоятельный и очень непростой разговор.
Наконец, Романцев рывком снял очки, бросил их поверх бумаг и откинулся на спинку кресла.
– Я подозреваю, Саша, каким местом ты думал, соглашаясь на работу у своей Эммануэль. С этого момента, пожалуйста, думай головой!
Романцев был рассержен и раздосадован одновременно.
– Санек, ты занимаешься рисковыми вещами. Но сейчас… Не усугубляй. Ему, – он направил указательный палец в небо, – Ему может не понравиться.
Хабаров усмехнулся.
– Я сегодня утром в «Московском комсомольце» прочел, что какой-то парень с Тверской ел в постели эклер, подавился и, представляешь, помер.
– Тогда эклеры ешь. Менее затратно.
Хабаров собрал бумаги в объемистую кожаную папку и оставил на столе несколько зеленых купюр.
– Ладно, профессор. Бывай! Спасибо тебе.
Крупные капли холодного дождя монотонно барабанили по стеклам машины.
«Обложило… Черт бы побрал этот дождь! – думал он, направляясь на базу. – То жарило, будто в пекле, а как снимать, так погода ни к черту!»
– Саша, да брось ты свою мадмуазель! – шумел встретивший его, угрюмого, в офисе Виктор Чаев. – Ты на себя не похож. Все хмуришься и думаешь, думаешь и хмуришься. Ты не должен быть следующим! Ты не обязан! Забудь, что я на пьяную голову тебе говорил.
– Виктор, им просто чуть-чуть не повезло.
– Ага! На целую жизнь…
Дома, как и на душе, было неуютно. Хабаров открыл дверь на балкон. Влажный бархатный вечер вполз в комнату. Не желая потакать паршивому настроению, надеясь, что работа его отвлечет, он взял ноутбук и удобно утроился на диване в гостиной. Настойчивый звонок в дверь не дал ему поработать. Хабаров нехотя пошел открывать.
В квартиру, едва не сбив его с ног, влетел Олег Скворцов.
– Саня! – он крепко обнял Хабарова. – Саня, прости меня!
– Олежек, ты чего?!
– Позвонок, прости меня! – он бухнулся на колени и закрыл лицо дрожащими руками.
Хабаров поднял Скворцова и повел в кухню. Полстакана водки Скворцов выпил залпом, перевел дух и заплакал.
– Денис… Он копался в твоем парашюте. Людка его спать укладывала, он ей и…
Состояние Скворцова едва вытягивало на троечку.
– Что? – растерянно выдохнул Хабаров, и противный холодок побежал по спине. – Я же сказал вам: «За парашютами присматривайте!»
Оба молчали.
Скворцов достал сигарету и теперь мял ее дрожащими пальцами.
– Если б Денис и до запасного…
– Хватит, Олег!
На машине Скворцова Хабаров отвез его домой.
– Зайди, – попросил Скворцов. – Денис и Людка ждут. Прощения просить будут.
Хабаров вложил ключи от машины в руку Скворцову.
– Олежек, постарайся, чтобы твоя бурная семейная жизнь не сказывалась на работе. Или мы расстанемся.
Он вел себя абсолютно спокойно и уверенно, и это сразу бросалось в глаза. На его лице не было и тени сожаления, тем более – раскаяния. Его взгляд был холодным и твердым. Никита Осадчий не сомневался ни в чем. Сомнение – признак неуверенности, неуверенность – сестра слабости, а слабость еще хуже, чем тупость.
– Не слишком ли ты круто с ним, Никита? Мы же не уголовники, мы бизнесмены.
– Тут такая хрупкая грань… – улыбнулся тот. – Брюс не потянет нового витка в развитии нашего бизнеса.
Сибирцев оглянулся по сторонам, не слышал ли кто слов Осадчего, но на песчаном озерном берегу на сотни метров не было ни единой души.
– Ты маньяк, Никита! – уверенно сказал он. – Последнее время ты беспокоишь меня. Деньги, причем большие деньги, деньги любой ценой – вот твоя навязчивая идея. Тебя заносит.
– Маньяк… – Осадчий рассмеялся. – Маньяк…
От этого неуместного смеха холодок пробежал по спине Сибирцева.
– Мы почти легально используем труд рабов! Мы заключаем сомнительные сделки, за которые нас вот-вот посадят на полвека! Никита, мы воруем у государства золото и алмазы! Имей в виду, если меня возьмут, я все расскажу. Я – директор алмазодобывающей конторы. Я не хочу умереть на тюремных нарах! Устал я, Никита. Может, старею? Меня воротит от бизнеса с душком. Все же, я человек старой закалки. Я был везучим геологом, хорошим директором прииска… Да! Меня уважали. Потом появился ты… Ты же не ограничишься Брюсом. За Брюсом последую я. Ты – псих! Псих! Чертов псих!
Осадчий выхватил нож и вонзил его по рукоятку в сердце Сибирцева. Тот как подкошенный рухнул на вылизанный волнами песок.
Осадчий уперся ногой в плечо Сибирцева.
– Я же разговаривал с тобой. Я же тебе шанс давал. Зачем ты сказал, что я псих? Не надо было меня провоцировать! Толя, не надо!
Он толкнул ногой тело, оно перекатилось на спину. Широко открытыми застывшими глазами Анатолий Сибирцев смотрел в небо, куда сейчас в муках, хрипя надсадно «Нет! Еще не время!» – отлетала его душа.
Осадчий ощутил, как чувство наслаждения чужой смертью овладевает всем его существом. Это пошло еще с Афгана. Тряханул озноб. Легонько закружилась голова. Он несколько раз жадно сглотнул слюну, словно увидев сочный, порезанный на тоненькие дольки, кислый, невероятно кислый лимон. Сердце сладко защемило. Казалось, разум покладисто снял все запреты и табу. Хотелось убивать, жестоко, беспощадно. Убивать без разбору, без повода, ради наслаждения самим процессом. Не выпуская из рук окровавленного ножа, он сдавил виски. Из его уст вырвался нечеловеческий рык. Желая хоть как-то защитить себя от ненормальных, противоестественных чувств, он с разбега нырнул в озеро.
В мокром костюме Осадчий шел домой. В саду он нашел Ольгу. Жена сидела в инвалидной коляске, покойно сложив руки на коленях, и смотрела на цветы. Увидев его, она улыбнулась, ее тоненькие бледные губы растянулись в неприметную полоску. Никита встал перед нею на колени, уткнулся носом в подол нарядного платья и заплакал.
– Что случилось?
Он не ответил.
– Тебе надо отдохнуть, – Ольга ласково гладила его по голове. – Никита, ты устал. Ты столько работаешь…
– Я так больше не могу, мышонок, – он поднял заплаканное лицо, посмотрел в ее полные сочувствия глаза. – Мерзко всё. Сдохнуть хочу! Ты веришь мне? Веришь?!
– Да, – прошептала она и обняла. – Все будет хорошо. Это минутная слабость. Ты справишься. Все будет хорошо…
Пятьдесят, семьдесят, семьдесят пять, восемьдесят…
Стрелочка спидометра дрожит у отметки восемьдесят пять километров в час.
Пролетающие мимо машины, люди, ажурный парапет Краснохолмского моста сливаются в одну нечеткую, словно размытая фотография, линию. Нога плавно давит в пол педаль газа. Руки цепко держат руль. По виску извилистой змейкой скользит капелька пота. Впереди узкой лентой вздымается, уводит в небо рампа. Еще секунда, и, прилежно заурчав, автомобиль взлетает по ней. Оторвавшись сначала передними, а затем и задними колесами, он легко и свободно парит над крышей грузовика, милицейским кордоном на сумасшедшей семиметровой высоте.
Его глаза, холодные, стальные, излучают сейчас такую уверенность, такую убеждающую силу, что кажется – опасности, смерти Хабаров говорит: «Не возьмешь! Ни хрена не возьмешь!»
Описав крутую дугу – траекторию падения – автомобиль летит все ближе к асфальту. Три, два, метр… Еще миг, и вот он уже плавно касается передними колесами моста, а затем, приземлившись на все четыре колеса, чуть отпружинив и изобразив лихой зигзаг, словно почувствовав родную стихию, рвется вперед и исчезает из виду.
– Чтоб я так жил! На каком это мы свете?! – Чаев восхищенно потирал руки. Эту пленку он смотрел уже двенадцатый раз. – Как? Скажи мне, собака, как ты это сделал?! Это же невозможно! Факт!
Хабаров довольно потянулся, хрустнув косточками.
– Нужно было прежде всего гарантировать мягкое приземление. Поэтому трюк снимался в два приема: раздельно начало и конец. Я взлетел по четырехметровой рампе и приземлился на приход – смягчающую удар подушку из коробок. Потом меня подцепляли краном и тихенько-смирненько опускали на асфальт. Я пил кофе, и мы делали вторую часть трюка.
– Ты же не любишь кофе…
– Ты слушаешь или нет? С такой же рампой, только высотой чуть больше полуметра, на скорости восемьдесят – восемьдесят пять я падал на поверхность моста. Камера, установленная на асфальте, прямо под рампой, этот полет фиксировала. Так что, когда смотришь, как я над нею пролетаю, кажется, что лечу на сумасшедшей высоте. На самом деле там было не больше метра. Короче, как и говорила Мари, все было «без особых проблем». Середину трюка снимали в конце. Просто выстреливали автомобиль из катапульты.
– Как тебе пришла эта схема?
Хабаров скрестил руки на затылке, улыбнулся лукаво.
– Не поверишь. Лежу это я на ней…
Чаев присвистнул.
– Мощная баба! Какие идеи рождает!
– Вообще, Витек, хорошие ребята – французы. С ними оказалось очень приятно работать. Они считают деньги, но для них еще важнее конечный результат. Так что я ходил у них, как мэтр, говорил: сделайте то-то, и это тут же делалось. Трюк снимался очень большим количеством камер, а за счет резкой смены планов, монтажа возникает вот та динамика, которую ты ощущаешь.
– Расцеловал бы того, кто это монтировал. Мощно! Профессионально!
– Не хотел бы тебя огорчать, – Хабаров хитро прищурился, – но целоваться с тобой я не буду. О наших теплых отношениях и так болтают всякие глупости.
– А что, Санек, признайся, когда летишь на высоте в семь-восемь метров там, – он указал на низ живота, – точно покалывает?
Хабаров рассмеялся.
– Вот что значит «эффект присутствия»! Хорошее я тебе кино показал. Хорошее! Кстати, я с ними контракт заключил. Заодно отработаем в Иерусалиме. Ты и я. Эти автотрюки мы сотни раз уже делали. Так что, считай, халява!
Хабаров спохватился, посмотрел на часы и резко поднялся.
– Я же в аэропорт опаздываю! Сижу тут, с тобой, Витек, лавры пожинаю…
– Зачем тебе в аэропорт?
– Мари Анже улетает.
– Слава богу! – Чаев простер руки к небу. – Эта Эммануэль совсем тебе голову заморочила. Опасаюсь, как бы ты, дорогой мой, не пропал совсем.
– Не бойся. Это не страшно.
– Простого «до свидания» ей не достаточно?
– Уподобился сварливой теще?
– Дружище, – мудро рассуждал Чаев, – я вижу эти золотые искорки в обычно холодных, непроницаемых глазах. Что же, иди к ней, спеши! Но тогда не гулять тебе под вишнями, которые только начинают зацветать, не слушать по вечерам музыку Шуберта и не писать при свечах гусиным пером, как булгаковскому Мастеру. Превратишься ты в обывателя, вершиной блаженства которого станет пресловутое домино с алкашами у подъезда.
Хабаров махнул на прощанье рукой:
– Не люблю домино…
Было непристойно, попросту оскорбительно то, как с ним обошелся Никита Осадчий. Сплошное унижение! Такое не забывают, тем более не прощают в приличном обществе. Хорош он был, нечего сказать! Вместо того, чтобы поставить на место этого зарвавшегося божка, он умолял о пощаде. Сказать, что Брюс Вонг был расстроен сейчас – значит не сказать ничего.
«Погоди, Никита! Хорошо смеется тот, кто вообще не смеется…»
В гольф-клубе было немноголюдно. Бирюзовые поля на сотни метров окрест терпеливо ждали своих игроков.
– Тагир, – довольно спокойно начал Брюс. – Я не собираюсь выяснять, каким образом о нашем разговоре тет-а-тет узнал Осадчий, но, прежде чем ехать к нему в следующий раз, я просто пристрелю тебя, ничего не выясняя! Молчи! – приказал он. – Я хочу понять, со мною ты или…
Тагир, вместо ответа, медленно, осторожно достал и протянул Брюсу своего «Стечкина».
– Если тебе нужна моя жизнь, брат, возьми ее. Если оставишь мне ее, скажи, что я могу сделать для тебя.
Брюс и без этих пламенных уверений в преданности не сомневался в том, что Тагир – его человек. Тагиру он доверял. Но кто-то его все же подставил. Как желторотого.
– Тагир, прости, но я тебя предупреждал, не решай дела при жене. Она спит с Одесситом. Этот матерый вор в законе и Осадчий дела вместе мутят.
Брюс Вонг со смаком врезал «большой собакой» по мячу, так, что кусочки дерна разлетелись далеко в стороны.
– Она тупая. Только перед зеркалом крутиться умеет и деньги мои на безделушки тратить. А спит она с каскадером, бывшим своим одноклассником Саней Хабаровым. Документы готовы?
– В Эмираты можем лететь хоть завтра!
– Завтра не надо. Найди человека. Со стороны. Чтобы машину водил прилично. Чтобы мужик был крученый. Скажи, «тачку» надо из Питера в Москву перегнать. Предложи хорошие деньги. Понял?
Подхватив сумки с клюшками, они направились к следующей лунке.
– Послезавтра в Питер приходит очередной транзит из Прибалтики. Четыре контейнера отборных якутских алмазов. Заплати нашим таможенникам в порту. Пусть якобы задержат как контрабанду. По-тихому доставим контейнеры в Москву, через моего человека диппочтой переправим в Дубай. Бывают ситуации, когда надо идти ва-банк, иначе сдохнешь «шестеркой». Годами я делал всю черновую работу за гроши. Источники, связи, сбыт, перевозка, таможня, риск, что накроют, возьмут за жабры – все было мое! Пару раз едва не влетел. Что я получил в итоге?! Кулаком по зубам, ногой по… – он поморщился, вспомнив, как трогательно прикрывался шлепанцем Никиты Осадчего. – Он выбросил меня на дорогу без гроша в кармане, полуживого, с изодранной шкурой и распухшей мордой. Но за те четыре дня, что я, голодный и злой, сёк из кустов за «отдыхом» нашего общего друга, я здорово поумнел. Чтоб никогда тебе, Тагир, не видеть того, что видел я. Так что – в Дубай! Поднимать алмазную отрасль Арабских Эмиратов!
Несмотря на ранний час, работа на съемочной площадке кипела вовсю.
Сегодня предстояло снять конную схватку. Бои на мечах было решено снимать на натуре в Иерусалиме. Поначалу, правда, режиссер фильма Глебов планировал снять там турнир в целом, но тут стал возражать Хабаров, терпеливо втолковывая, что на постановку конных трюков уходят недели, что конь – животное своенравное, и что «их» лошадки при виде несущегося противника просто встанут на дыбы, потом шарахнутся в сторону и пустятся в галоп наутек. Противиться Хабарову было трудно, и Глебов просто сказал:
– Постановкой трюков ты занимаешься. Ты – продюсер. Тебе виднее.
Улучив минутку между дублями, каскадеры потягивали минералку в тени шатра и, посмеиваясь, наблюдали за тем, как мастерски, со знанием дела, Женя Лавриков обхаживал гримершу Лорочку.
– Я слышал, в Венеции благодарные потомки памятник Казанове поставили, – как бы между прочим заметил Игорь Лисицын, за невероятный рост и могучее телосложение прозванный «Малышом». – Оченно, говорят, на нашего Женьку этот памятник похож. Ну, прямо один в один!
«Все по местам. Приготовиться к съемке!» – голосом ассистента режиссера рявкнул мегафон.
– Орлы, заканчивай перекур! – сказал подошедший Хабаров.
На нем был длинный темно-синий плащ с золотым шитьем и кольчуга. Он придирчиво осмотрел каждого.
– Игорек, ну, что ты, ей-богу! У тебя что из-за манжеты торчит?
– Сигарета… – растерянно сказал Лисицын. – Саша, да я ее сейчас оприходую. Без вопросов.
– Посмотрите друг на друга. Проверьте костюм. Володя, – он строго глянул на Орлова, – еще раз попадешь в кадр в солнцезащитных очках…
– Саша, я понял. Понял.
– Женя! Иди сюда! – теперь настала очередь Лаврикова. – Какого черта ты нацепил на шею мобильник?! В одиннадцатом веке мобильная связь была только с Господом. Не хватало из-за нашего разгильдяйства переснимать все. «Кодак» же тратим!
По знаку режиссера всадники, как и сотни лет назад, двинулись навстречу друг другу.
Чтобы приблизиться к противнику на большой скорости, необходимо чувство равновесия, хорошие мускулы, концентрация воли. Конь и всадник сливаются в единое тело. Одна такая масса движется на другую. Поднимаются копья. Удар! Столкновение может оказаться опасным для жизни, если защищающийся выбрал неверный угол наклона. Нападающий тоже подвергается опасности: чуть не рассчитал – и свой собственный удар может выбить из седла. К тому же лошадь, как живое существо, всегда непредсказуема. Риск остается всегда, как бы хорошо трюк не был подготовлен.
– Н-да… Хорош мужик! – Лора кокетливо отвела руку с дымящейся сигаретой. – Позови меня такой, не раздумывая пошла бы.
– А я за Брюса Вонга пошла. От обиды на Хабарова! – не оборачиваясь, пристально наблюдая за всадниками, ответила исполнительница главной женской роли в картине Дарья Вонг.
Лора была школьной подругой Дарьи. Расставшись после выпускного, они впервые встретились здесь, на картине, где Лора работала гримером. Эта изящная длинноногая блондинка с прической а-ля Шарон Стоун, супермодно одетая, была совершенством женской красоты. Ее притягательность и сексапильность не могли оставить равнодушным ни одного мужчину. В киногруппе за Лорой закрепилась противоречивая слава уставшей от побед над мужчинами, но не легко доступной женщины.
– Твой Хабаров меня один раз до дома подвозил. Я напросилась, – откровенничала Лора. – По пути говорю: «Мне в магазин за продуктами надо». Удовольствие хотела растянуть. Он, конечно, как истинный джентльмен, остановил машину, хотя спешил, и еще место, чтобы припарковаться, долго искал. Час пик, все забито. Я шла с ним через громадный проспект и ни разу по сторонам не посмотрела! Шла за ним, как ребенок. Надежность… Защищенность…Что нам, женщинам, еще надо-то? Вы ведь еще в школе дружили. Он в десятом, ты в восьмом. Вас даже дразнили Ромео и Джульетта.
– Столько потом всего случилось… – едва скрывая сожаление, вздохнула Дарья.
– Он с тех пор со столькими переспал…
– Лора, а почему ты одна?
– На постоянной основе я лучше заведу кота. Кот и ест меньше, и не нудит, и с поучениями не лезет. Его легче поставить на место. На него стирать не надо. Ему все равно, как ты одета и что у тебя несколько мужиков.
– Витька Чаев по тебе сохнет. Хороший мужик. Хотя… Что он может тебе дать? От Вована тебе была нужна квартира, и ты ее получила. От Лешки Лаптева – машина. Пожалуйста! Жорик и Славик тебя одевают. С Фархадом ты полмира посмотрела. Это только то, что я знаю.
Лора улыбнулась, с придыханием произнесла:
– А может, это любовь?!
– Вот у нас с Сашкой была любовь! Мой азиат до сих пор меня к Хабарову ревнует. Когда узнал, что вместе работаем, ввалил мне, что даже скорую вызывала. Урод! Достал ревностью своей. Думает, раз вместе с Хабаровым работаем, обязательно вместе спим.
– Разве нет?
– Мне не до шуток. Он Хабарова убить грозится!
– А я сегодня ужинаю с адвокатом. Он меня в дорогущий ресторан пригласил.
– Дарья, вас просят на площадку, – сказала ассистент режиссера.
– Прости, подруга. Позже поболтаем.
В конце съемочного дня к Хабарову подошли Глебов, директор картины Сорокина и какой-то посторонний, не из съемочной группы мужчина.
– Знакомьтесь, – бодро начал Глебов. – Хабаров Александр Иванович – шеф фирмы, о которой я вам говорил. А это Шипулькин Дмитрий Романович, адвокат.
Хабаров с недоумением уставился на адвоката. Его имидж облезлого кота плохо сочетался с теми скромными представлениями об адвокатах, которые имел Хабаров.
– О-очень ра-ад, – адвокат нудно тянул гласные.
– Признаюсь, я не разделяю ваших чувств.
– Ничего, стерпится – слюбится! – сказал Шипулькин и протянул Хабарову руку.
«Где Глебов откопал этого клоуна?» – подумал Хабаров, не двигаясь, не подавая руки.
– Саша, – зашептал ему на ухо Глебов, – это же племянник Алевтины Сорокиной. Будь с ним полюбезнее.
– Я ко всякому обхождению привык. К хамству тоже. Так что я вас прощаю, – великодушно объявил адвокат.
«Странно… – снова рассуждал сам с собою Хабаров. – Как быстро человек может вызвать к себе отвращение…»
– Василич, что тебе надо? Я домой собрался.
– Я попросил с вами познакомить, – пояснил Шипулькин.
– Зачем это?
Хабаров не скрывал недружелюбного тона.
Адвокат отвел глаза, не выдержав пристального, изучающего взгляда Хабарова.
– Ну-у, я ду-умаю, вам надо, именно что, заключить со мною договор на юридическое обслуживание. Я мно-о-огое могу. У меня бо-о-ольшие связи. А у вас, я знаю, своего юриста нет. В работе встречаются трудности, справиться с которыми может только умный человек. Юриспруденция – это вам не кулаками махать! Я видел ваших работничков. Тупое мужичье с лицами неандертальцев! Решайте. Если я захочу, все адвокаты будут вас саботировать. Вы все равно придете ко мне, но будет дороже.
Хабаров положил свою широкую тяжелую ладонь на хлипкое плечо адвоката и с чувством произнес:
– Если бы не такие люди, как вы, Дмитрий Романович, жизнь была бы скучна!
Он обернулся к Лисицыну и Лаврикову.
– Ну-ка, орлы, вышвырните эту шваль со съемочной площадки! Живо!
Под общий хохот и улюлюканье каскадеры просьбу исполнили.
Кажется, он ничего не забыл. Теперь, если что-то пойдет не так, это не его вина. Существует такая вещь, которую невозможно предусмотреть. Нам, смертным, это просто не дано. Это удача.
– Ты сделал то, о чем я тебя просил? – Брюс Вонг был по-деловому собран.
– Отчасти.
– Отчасти? От какой части?!
Тагир поежился от прямого колючего взгляда.
– Я нашел того, кому можно было бы поручить эту работу.
– Так в чем проблема?
– В том, что он хочет больше денег. Говорит, и раньше машины перегонял. Знает цену этой работы.
– Что за чудик?
– Виктор Чаев. Профессиональный автогонщик. Два года подряд чемпион России по автогонкам.
– Жадный – это хорошо. Дай ему сколько просит!
Неожиданно резкий телефонный звонок заставил Брюса вздрогнуть. Звонил сын Анатолия Сибирцева, просил встречи. Голос Сибирцева-младшего был мертвым, без красок, без интонаций. Брюс чувствовал, что от этого голоса у него вспотели ладошки.
Полчаса спустя серебристый «Пежо» припарковался у входа.
– Проходите в дом. Вас ждут. Приказали не обыскивать, – сказал Тагир гостю и проследовал за ним в гостиную.
Сибирцев-младший вошел в дом, и вместе с ним вошла тревога.
Андрею Анатольевичу Сибирцеву было тридцать четыре, хотя независимый и чуть надменный вид делал его старше своих лет. Это ему, как ни странно, шло. Открытое приятное лицо, серые добрые глаза располагали к общению с этим человеком, добавляя чисто мужского шарма в общий портрет. Он был хорошо сложен, хотя по фигуре вряд ли в нем возможно было угадать активного поклонника спорта.
– Брюс, нам надо поговорить. Без свидетелей.
– Это Тагир. Я ему доверяю, как себе.
С того момента, как позвонил Сибирцев, Брюс уже знал, о чем пойдет речь.
– Отец уехал на дачу к Осадчему. Намеревался вернуться вечером того же дня. У него была запланирована деловая встреча. Он ее пропустил. Его до сих пор нигде нет. Телефон молчит. Я обзвонил друзей, проверил больницы, даже морги – все впустую. Не удержался, поехал к Осадчему на дачу. Там только охрана и его жена. Жена мне ничего толком пояснить не смогла. Что скажешь?
Брюс молчал. События последних двух недель, мелькавшие в памяти беспорядочным калейдоскопом, вдруг выстроились в единственно верную, логичную цепь. Все стало совершенно понятно.
– Брюс, я никогда не прощу себе, если с отцом что-то случилось. Я не должен был отпускать его одного! Он настоял. Ты же знаешь, как он это умеет.
– Не вини себя. Так бывает, что лучшие из нас уходят.
Андрей Сибирцев замер.
– Что? – одними губами пролепетал он.
– Прости. Я не знал, как тебе это сказать.
– Сволочь! – Сибирцев с наслаждением врезал кулаком по колонне. – Сволочь! – хрипло выдохнул он и закрыл лицо руками.
Шло время, но никто из троих не проронил ни слова.
– Где Никита? Где его найти? – наконец очень твердо, решительно произнес Сибирцев-младший.
– Зачем он тебе?
– Я убью его!
– Андрей, наймешь киллера или сам нажмешь на курок?
– Если надо, я ему зубами горло перегрызу! Я ему всю кровь по капле высосу! Я ему не прощу отца!
– Остынь!
– Но… – неуверенно начал Тагир. – Мы же должны что-то сделать. Я знал Анатолия Сергеевича. Это был серьезный бизнесмен и порядочный человек.
– Серьезные бизнесмены не едут без охраны только потому, что их, видите ли, приглашает на дачу старый друг. Серьезные бизнесмены не обязательно должны быть идиотами!
– Думай, что говоришь! – урезонил Брюса Сибирцев-младший.
– А ты помолчал бы! – пошел на него Брюс. – Толяна, в отличие от меня, никто насильно к Никите не волок! Ехал он триста верст не в блевоточном багажнике. Умники! С кем воевать собрались?! Главное – вовремя!
Цепким внимательным взглядом Андрей Сибирцев скользил по их лицам.
– Когда можно было под прикрытием отца срубить неплохие бабки, вы не церемонились. Вам не было страшно. А еще, – он ткнул указательным пальцем в грудь Брюсу Вонгу, – тебе было приятно, что отец этого, якобы, не знает. Вспомни, как пару раз твою задницу Никита хотел наказать. Мол, не борзей. Ты удивленно хлопал крыльями, с чего это вдруг гроза миновала?! А сейчас вы о его память ноги вытерли!
– Щенок! – взорвался Брюс.
Тагир насильно оттащил его в дальний угол, заставил сесть.
– Спокойно, братья! Спокойно. Как вы думаете, кто будет самым счастливым человеком в нашем деле, если ты, Брюс, и вы, Андрей, перегрызете друг-другу глотки?
Слова Тагира подействовали немного отрезвляюще.
– У меня на родине говорят: «Прежде чем сделать шаг вперед, подумай, сможешь ли ты вернуться».
– Брюс, у тебя есть план?
Брюс самодовольно хмыкнул:
– Есть одна идея.
Посвящать Сибирцева-младшего в свои планы Брюс не хотел. Но это уже становилось интересным.
«Андрей Сибирцев присмотрит за водилой, и можно быть уверенным на все сто, что это человек не от Никиты, – думал Брюс. – Потом господину Виктору Чаеву – привет горячий. Сибирцев местью насладится, полагая, что убрал исполнителя убийства отца. Никакой утечки информации. Никите сам донесу. Свалю все на Сибирцева. У Сибирцева тоже связи на таможне. Мотив, опять же. Никита мне поверит, подумает, после «урока» прогнуться хочу. Что ж… – Брюс машинально барабанил пальцами по оконному стеклу. – Как же вовремя подвернулся мне под руку младший Сибирцев. Как же мне этого звена недоставало!»
– До-о-обрый вечер!
Адвокат противно тянул «о», занудно-медленно произнося слова.
– Я позволил себе, Лора Алексеевна, зайти пораньше.
Шипулькин неуклюже прошел в прихожую.
– Я у-уже п-почти го-готов-ва… – заикаясь, тщетно стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, выговорила Лора.
Она удивленно разглядывала сногсшибательного адвоката. На нем был все тот же костюм, в котором Лора видела его днем на съемочной площадке, серый в аляповатую клетку, помятый и грязный, песочного цвета рубашка, с засаленным воротом и серыми, тоскующими по стирке манжетами, черные брюки с пузырями-коленками.
Надо отдать должное Лоре, Шипулькина она встретила во всеоружии: изящные туфли на тончайшей шпильке, модные колготки, маленький черный костюмчик от Шанель, элегантно и эротично облегающий ее фигуру, высокая стильная прическа, серебряные колье и сережки ручной работы, скрупулезный макияж.
Она все-таки ждала мужчину, а появилось… «облако в штанах».
– Лора Александровна, у меня сразу же будет три просьбы.
Адвокат с надеждой смотрел на нее.
– Если только вас не смутит, что я Алексеевна.
– Учту. Во-первых, прошу меня простить, что я не успел переодеться. Клиенты, знаете ли…
«Кто в здравом уме клюнет на тебя? Это только я, вечная авантюристка, в поисках приключений…»
Лора спиной прислонилась к стене, чувствуя, что ей сейчас станет дурно.
– Во-вторых, – с невозмутимым видом продолжал перечислять адвокат, – я думаю, Лора Алексеевна не будет возражать, если мы перейдем на «ты»? Я буду Лору Алексеевну называть Лорой, а она, то есть вы, меня будете называть не Дмитрий Романович, а просто Дима. Лора Алексеевна согласна?
Лора очень хотела ответить, она даже глубоко вдохнула и открыла рот, но то, что она хотела сказать, было так откровенно бестактно, невоспитанно, грубо, что она не решилась произнести заготовленную тираду вслух, и Шипулькин воспользовался ее замешательством.
– Вот и славненько! Тем более, что мы – почти коллеги. Я на вашей картине юристом буду работать. Меня Алевтина Сорокина, тетка моя, пристроила.
– А Маришка куда?
Шипулькин склонился к уху Лоры и как бы по секрету сказал:
– Честная слишком. Работать не умеет.
Лора понимающе кивнула.
– Директриса у нас матёрая! Теперь вдвоем хабаровские денежки крутить будете?
– Ну, я не знаю… Как-то не думал об этом. Как скажут… Но я не закончил. Третье предложение у меня.
– Конечно, Дима! Я вся – внимание!
– Думаю, Лора позволит, раз уж теперь мы на «ты», отужинать у нее? Я тут, думаю, все принес.
«Ты бы лучше действительно думал, а не повторял, как попугай: думаю, думаю…» – снова мысленно сказала Лора.
Такой наглости она не встречала никогда и ни в ком. Напрочь игнорируя ее мнение, очевидно полагая, что от сделанного предложения просто невозможно отказаться, адвокат подхватил свою грязную дорожную сумку и решительно направился в кухню. К тому моменту, когда едва пришедшая в себя Лора появилась на пороге, Шипулькин уже выгрузил продукты на стол и почему-то со дна сумки достал…букет цветов.
Это были дешевые, самые, можно сказать, дешевые хризантемы, из тех, что похожи на полевые ромашки. Их было шесть на одном тонком, в нескольких местах сломанном при транспортировке стебельке. Некоторые цветки были сплющены и стыдливо опустили головы, другие осыпались, им не повезло. Необходимо отдать должное адвокату, стоило большого труда среди цветочного изобилия раздобыть эту «благодать».
– Это вам, – адвокат протянул «букет» Лоре. – Немного помялись, заразы. У вас есть вазочка?
– Вы… Вы так внимательны… – пролепетала Лора.
Ей вдруг стало интересно, чем это «чудо» может еще удивить.
Покрутившись озабоченно по кухне, адвокат так и не нашел, куда бы пристроить свой «букет», и положил его на стол, на упаковки продуктов.
– Вы что, ужинать меня уже не приглашаете? Я помню, вы мне ресторан обещали.
– А зачем?! – искренне удивился Шипулькин. – Здесь поедим. Я же все принес.
Возразить было трудно, но Лора нашлась.
– По-вашему, в ресторан только поесть идут?
– Зачем же еще? К тому же это уйму денег стоит.
– Пообщаться, отдохнуть идут. На людей посмотреть идут. Себя показать…
– Ну, тут вы правы. Вернее, ты права. Мы же на «ты». Но я очень хороший собеседник. Вам не придется скучать.
– А вы намного глупее, чем кажетесь на первый взгляд! – вульгарно подмигнув адвокату, промурлыкала Лора.
Когда Шипулькин говорил, что он очень хороший собеседник, он скромничал, потому что за весь долгий, очень долгий вечер Лоре едва ли удалось вставить пару фраз в нескончаемый монолог адвоката.
Он рассказывал Лоре, как работал в школе учителем труда, потом прорабом в ЖЭКе, потом сантехником в коммунальном хозяйстве, потом ушел в частный бизнес и «держал два магазина», потом их продал, потом взял в аренду обувную фабрику, потом и ее бросил, так как дела пошли в гору, потом ушел в юриспруденцию.
– Вы не думайте, Лора, – на «ты» он так и не перешел, – да будет вам известно, у меня все всегда получалось. Вот, было два магазина, значит, срок аренды истек. Мой друг детства, что живет в Нижнем Новгороде и занимается нефтяным бизнесом, мне четыре миллиона просто так, по дружбе, давал. Деньги сумасшедшие! Говорит, вот именно что, выкупи магазины, потом, когда-нибудь, деньги вернешь. Я отказался. Вот именно что, сказал, я не пойду кланяться чиновникам. Знаете, Лора, как, вот именно что, надоели сильные мира сего! Значить, праздник. Новый год. Только благодаря мне, да будет вам известно, эти, с позволения сказать, чинуши могли покушать достойно. Именно что, Дмитрий Романович нагружал машину подарками и вез их в администрацию города, СЭС, налоговую, милицию, вневедомственную охрану и так далее. И никто, вот именно что, не интересовался, сколько все это стоит. А сколько всего этих самых праздников? Отчет в налоговую сдавать – тоже вези подарок. Мой бухгалтер раз поехала без подарка, приезжает и говорит: «Дмитрий Романович, сказали, что, если вы подарка не пришлете, с отчетом лучше не приезжать».
– Может, нужно было сменить бухгалтера? – Лора хотела услышать свой голос, дабы убедиться, что все еще жива.
– Не-е-ет, – протянул снисходительно адвокат, – за-а-ачем… Или вот фабрика. Значит, только благодаря мне уровень производства возрос, только благодаря мне люди стали регулярно получать зарплату. Ну, явно, явно здесь у меня, значит, был успех…
Он хотел сказать что-то еще, но мужество слушателя покинула Лору.
– Сколько лет назад это было?
– Магазины? Магазины были лет пятнадцать назад, а фабрика – лет десять.
– Зачем вы мне все это рассказываете?
– Интересно же, – спокойно ответил Шипулькин, правда, не уточнил, кому.
«Сейчас ему сорок два, – думала Лора. – Если он добрался до тридцати, то мне осталось слушать лет десять. Надо выпить!»
Она достала свою бутылку вина, налила себе большой бокал и сделала несколько крупных глотков.
– Вот именно что, я дисциплину на фабрике железную установил. Мне рабочие говорили: мы тебя убьем. Я отвечал, значит, что нет, ребята, не на того напали. Мне ничего не страшно, будет вам известно!
С этими словами Шипулькин потянулся к Лориной бутылке и налил себе вина в стоявшую на столе чашку. Отпив, как компот, до половины, Шипулькин продолжил.
– У меня была аренда с последующим выкупом. Ну, думаю, значит, зачем покупать, деньги и так есть. Говорю тогда, что, вот именно, забирайте свою фабрику. Я ее в божеский вид привел, мне она, значит, больше не нужна. Все ходил себе особнячок трехэтажный по немецкому проекту на берегу реки присматривал. Денежки в банке лежали. Потом банк обанкротился и, значит, тысяч четыреста моих тю-тю. Вот именно что жалко.
– У вас квартира? – не удержалась, спросила Лора.
– У меня в Москве, да будет вам известно, квартиры нет. Была однокомнатная квартира в Смоленске, в хрущевке. Но, вот именно что, там проживает в настоящее время моя жена. Но квартира моя. Я, вот именно что, и когда бываю, захожу, и Новый год отмечал с друзьями там.
– Вы женаты?
– Не-е-ет, – снова промурлыкал Шипулькин, – за-а-ачем? Мы разведены. Я просто сказал ей: «Квартира моя. Она мне выделена, когда я в ЖЭКе работал. Приведешь мужика в мою квартиру, я тебя вышвырну!» Я всегда говорил: женщина – это звучит глупо.
– Вам жить негде… – сочувственно произнесла Лора и подумала: «Ах ты, гусь лапчатый, ты что же решил, что тебя здесь ждут? Разлегся за моим столом, протираешь задницей мой диван…»
– Почему негде? У меня есть комната в общежитии.
– Где это?
– Там, в Смоленской области. Вот именно, где работаю.
– А-а, – Лора качнула головой, как бы смакуя услышанное. – Да. К сорока пяти годам – это круто!
– Я как-то не думаю о возрасте.
Повисло молчание.
Лора закурила. Выдохнув дым в сторону адвоката, она спросила:
– Простите мне мое любопытство, я-то вам зачем понадобилась?
Адвокат стыдливо опустил глазки. Между ним и Лорой так и лежали нетронутые свертки с продуктами.
– Я мужчина холостой. Вы – незамужняя женщина. Одинокая, значит. Нам надо получше присмотреться друг к другу.
– Зачем?
Лору начинал раздражать и этот разговор, и этот ….
– Может, мы с Лорой Алексеевной понравимся друг другу, будем жить вместе. Вы не думайте, вот именно что, я раз семь за ночь спокойно могу. На меня еще никто не жаловался!
– Как кролик, что ли? – ей хотелось говорить ему гадости.
– Ну, почему… – Шипулькин снова стыдливо опустил глазки и принялся нарезать ломтиками ветчину. – Опять же, я могу обеспечить семью. Так что, на шмотки с рынка вам хватит.
– Вы что?! – у Лоры от этой наглости перехватило дыхание. – Это мой костюм от «Дома Шанель», аксессуары от Гуччи вы называете «рынком»?! Вы – хам!
– Ну, извините, пожалуйста, Лора. Мне, вот именно, что Шинель, что Гути…
– Шанель и Гуччи.
– Мне все едино.
– Ясно. Так! – Лора решительно поднялась. – Я зачем вам нужна? Именно я.
– Вы мне понравились. У моих друзей так принято, что в браке не изменяют. Вы не вертихвостка, как я вижу. В постель сразу меня не тащите. В общем, вы мне подходите.
– Вы мне льстите!
Лора взяла дорожную сумку Шипулькина, сложила в нее все, что принес адвокат: так и не распакованный «букет», как полагается, на дно, наверх продукты и выставила сумку на лестничную площадку.
– Такого вечера у меня еще не было. Спасибо, Дима! – обворожительно улыбаясь заключила Лора. – Хватит жевать! Убирайтесь следом! – пальцем она указала на дверь.
Шипулькин нехотя встал из-за стола.
– У нас еще, вот именно что, бутылка вина осталась, вкусного. Может, допьем?
– Это мое вино! Оно вам не по карману. Но, так и быть, я вам дам его с собой. На вынос! Слушайте, вы что, умственно отсталый?!
– А зачем вы меня, Лора, вот именно что, впустили? Вы, наверное, думали, я приставать к вам стану. Я не такой. Я с первой встречной, да будет вам известно, ни-ни! Вдруг вы меня заразите чем-нибудь?!
Неизвестно, чем бы все это закончилось, зная шустрый темперамент Лоры, вероятно, кровопролития было бы не миновать, но ситуацию спас звонок в дверь. Лора открыла.
– Извините, гражданочка. Это ваша сумка? – у дверей стояли трое сотрудников милиции.
В связи с нашумевшими взрывами жилых домов милиция теперь регулярно проверяла чердаки и подвалы.
Лора страдальчески заломила руки.
– Сам Бог вас послал! Это сумка того мужчины, что сидит у меня на кухне. Я открыла дверь, он вошел, попросил поесть. Я пыталась выставить его за дверь. Все безуспешно. Я не знаю, что делать! Помогите мне. Умоляю вас! Вы видите, я одета для ужина. Меня ждут. Но я не могу уйти. Выведите его!
– Разрешите пройти? – строго спросил сержант.
– Да, конечно.
– Смирнов, останься. Иванцов, за мной!
«Ты меня надолго запомнишь, Дон Жуан щипаный! Повторение Хлестакова! – злорадствовала Лора, ловко вытаскивая из потайного кармана пиджака, оставленного незадачливым адвокатом в прихожей, его документы.
– Да вы что?! Какой я бомж?! Я – адвокат! – доносилось из кухни.
– Предъявите документы! – рявкнул сержант. – Без истерик!
Удерживаемый милицией, Шипулькин прошел в прихожую.
– Вы на него, ребята, посмотрите. Ну какой он адвокат? Вы адвокатов каждый день видите. И по телевизору, и вживую. Ему помыться надо, постираться. Там, глядишь, и вспомнит, кто он на самом деле. Владелец заводов, газет, пароходов…
Не найдя документов в пиджаке, Шипулькин лихорадочно обыскивал сумку, из которой на паркет выпали дольки лимона и ломтики ветчины.
– О-о-о! – довольно произнес сержант. – Объедки собираете, а говорите – адвокат! Не обижайте профессию. Пройдемте, гражданин! А вы, гражданочка, – сержант улыбнулся Лоре, – запирайтесь. Прежде чем открыть, спрашивайте, кто там.
– Да будет вам известно, что я вас всех упрячу! Это незаконно! Именно что, надо сначала разобраться… – доносился до Лоры гнусавый голос Шипулькина. – Вы эту вертихвостку обязаны были забрать! Это она мои документы украла! Я ей, вот именно что, всё припомню! Я, вот именно что, оскорблений никому не прощаю и издеваться над собой не позволю!
– Топай-топай. Разберемся. В «обезьяннике» посидишь.
Выждав, пока процессия покинет подъезд, Лора вышла на площадку, открыла люк мусоропровода и с наслаждением швырнула в недра удостоверение и паспорт адвоката.
– Еще ни одному мужику не удалось одержать надо мною верх!
Через минуту уже из гостиной доносилось ее звонкое щебетание:
– Алло! Дашка? Я тебе сейчас такое расскажу, с ума сойти можно…
Завершив занявшую полдня волокитную процедуру отправки в Иерусалим двух контейнеров с костюмами, каскадерским снаряжением и съемочным оборудованием, Хабаров приехал на кладбище. Вот уже пятый год подряд в этот день, ближе к вечеру, он ехал сюда, к другу, в день его рождения.
Он знал, днем к Генке приходит мать, Мария Андреевна, и родственники. Хабаров не хотел мешать им. Он не любил публично обнажать то, что было очень личным. Тем более, он не мог сердобольно охать и ахать, вторя пустым словам назойливых родственниц Генки: «Ах, какой молодой! Жить да жить…» Словам, которые в подобных случаях говорят все: и близкие, и далекие.
Сюда Хабаров приходил под вечер, один. Он шел медленно, сосредоточенно глядя вдаль, слушая мерный шелест битого красного кирпича под ногами, которым была отсыпана дорожка, идущая влево от главной аллеи. Он не читал табличек на памятниках. Он и так знал, что рядом с Генкой лежат ребята, которым в их рисковом ремесле повезло меньше, чем ему, Хабарову.
Вот и низенькая, сработанная из корабельных цепей ограда. С фотографии на черном гранитном обелиске смотрит улыбающееся лицо. Он, Генка Малышев, действительно, и в жизни был таким – веселым балагуром. Умел радоваться искренне, по-детски, каждому пустяку, даже тому, что порою мы не замечаем: солнечному дню, голубому бездонному небу, инею, искрящемуся на ветках. У него был редкий дар быть преданным другом. Он умел гордиться успехами друзей. Он не был созерцателем, умел работать, реализуя свои самые смелые планы. Его карьера была стремительной, яркой. Окружающих он заражал своей энергией, умением держать удачу за хвост, каждым прожитым днем доказывая эзопову мудрость о том, что жизнь, как басня, ценится не за длину, а за содержание.
Генка погиб пять лет назад, спасая троих тонувших мальчишек, вздумавших путешествовать по хрупкому апрельскому льду. Он нырял, искал их, переправлял к берегу подоспевшим людям. Вытащил всех троих. Последнего оставил на льду, у кромки полыньи. Сил выбраться самому уже не было.
Когда Малышева не стало, никто не хотел в это верить.
Хабаров зашел в ограду, опустился на низенькую скамеечку.
– Здравствуй, – тихо выдохнул он. – Это я …
Коснувшись подбородком сомкнутых рук, он неподвижно смотрел на фотографию: все, как всегда: красивая, открытая улыбка, умный проникновенный взгляд и лучики-морщинки у внешних уголков глаз.
– Лица находятся в соответствии с мыслями, а одежда – с потребностями. Это изрек Гейне, – как-то сказал ему Генка. – Ты у меня, Сашка, великолепен! У тебя лицо гладиатора. Таких больше не делают!
Малышев был на редкость терпимым человеком, умевшим принимать людей такими, каковы они есть. Он не замечал их слабостей, но не из показной воспитанности, а из свойства людей с большим сердцем воспринимать эти слабости, как свои собственные.
Они познакомились на юношеском первенстве Союза по боксу, когда еще оба учились в школе. Решающий бой, бой за первое место, как раз состоялся между ними – Хабаровым и Малышевым. Хабаров помнил, как перед боем он снисходительно разглядывал провинциала – щупленького светловолосого паренька, с неестественно голубыми глазами – и как несколько минут спустя этот «провинциал» легко и технично уложил бравого, самонадеянного, не знавшего поражений москвича Хабарова. Хабаров тяжело переживал поражение. Не потому, что проиграл, а потому, что его завалил какой-то «дохляк», «маменькин сынок», «отличник». Он был зол, раздражен и не сразу заметил, как в раздевалку зашел победитель.
– Здравствуй, меня Геной зовут, – радушно улыбнулся он и протянул руку. – Ты здорово дрался. У тебя техника превосходная, воля железная. Хотел познакомиться с тобой.
Хабаров подумал было: «Вот наглость!» Но, увидев улыбку этого чуть, как казалось – но только казалось, – наивного парня, сдался. Потом они долго сидели в раздевалке, говорили о боксе, о соревнованиях. Хабарову сразу понравилось, что Малышев был самим собой, не изображал того, кем не был, знал себе цену. Он настоял, чтобы Генка объяснил ему его ошибки, и, выбравшись на ринг, они еще часа два провели там.
Вместе они поступили в военное училище, а потом их пути разошлись. Малышев ушел с первого курса и уехал к себе, в Ленинград. Хабаров остался. Потом была служба, Афганистан, плен, побег, долгий путь на Родину, поиск работы, грошовая зарплата сторожа. Именно тогда Хабаров стал параллельно участвовать в нелегальных «боях без правил». Года два такой жизни опустошили Хабарова, и в один прекрасный день он просто исчез. Устроился охранником к уезжавшему в Венесуэлу послом дипломату. К тому времени, как Малышев нашел его, спившийся, медлительный, разжиревший, с потухшим взглядом, Хабаров мало напоминал того Хабарова, который был другом Генки.
Хабаров усмехнулся, вспомнив, как это было тогда…
– Петрович, мне сегодня какой кусок полагается?
Хабаров сосредоточенно обматывал кисти рук.
– Втрое против прошлого раза.
– О-го! С чего? Начальство платит мне столько за то, чтобы я уложил Хлюпика?! Вообще, я против Хлюпика… Вы издеваетесь? Я же из него одним ударом дух вышибу.
Петрович хмуро глянул на Хабарова и очень медленно, делая непомерно долгие паузы между словами, безразличным тоном произнес:
– Начальство платит тебе столько за то, чтобы ты под него лег.
– Ч-то? – не веря тому, что только что слышал, переспросил Хабаров.
– Что ты с лица сменился? – Петрович снова углубился в свои подсчеты сделанных ставок. – Ставки растут. Ты день за днем всех кладешь. Результат всем известен заранее. Все ставят на тебя. Казна нищает. Ты проиграешь Хлюпику, деньги уйдут в клуб. Все ж опять на тебя поставят!
– Но… Это же … нечестно.
– Н-да? – Петрович удивленно вскинул брови. – Ну, извини, пионер!
Хабаров вульгарно сплюнул на пол.
– Ты, паря, не дури. Полгода сможешь в Сочах жариться, брюхом вверх, да сисястых баб по ресторанам водить.
– Вы что, сума все посходили?! Я Громилу с Бимбо уложил, а им равных до сих пор нет, а тут Хлюпик… Не лягу! Так и передай начальству!
Гулко хлопнув дверью, Хабаров ушел в раздевалку.
– О! О! О! Напугал ежа голой задницей…
Кряхтя и ругаясь, Петрович выволок свое грузное тело из-за стола и отправился следом.
– Ты чего концерты устраиваешь, недоумок? Тебе платят – ты работаешь.
Хабаров хищно сощурился.
– Я в цирке не работаю!
– Ты глазищами-то не вращай. Страшно, аж между ног покалывает! Один он, видите ли, чистый и честный, а все кругом… Ты, когда свое колено лечил, не спрашивал, откуда деньги и за что тебе их в простое платят. Брал! И когда «голым» к нам пришел, на «чтоб обжиться» тоже брал. А здесь не профсоюз, между прочим! Кому ты нужен кроме нас, паря? Ладно, не хочешь играть по правилам, уходи. Начальство тебя уважает, живым отпустит. Но когда ты, Саня, получишь гроши на каком-нибудь захудалом заводе или в паршивом спортклубе, назад не ходи. Не возьмем! Как ты проживешь на зарплату? Зарплаты тебе на минералку не хватит. У тебя ж ни дома, ни семьи. Только вот это, – он обвел взглядом спортзал. – Так что разогревайся. Скоро начинаем.
Бои проводились в старом здании спортклуба, лет пять или шесть назад приказавшего долго жить. Снаружи здание выглядело абсолютно ветхим и необитаемым, зато внутри оно было оснащено по последнему слову спортивной техники. На время состязаний большой зал, используемый для тренировок, превращался в спортивную арену, окруженную со всех сторон рядами зрительских кресел.
Третий звонок. Дым. Духота. Жара. Шум.
– Саша, первые минут пять работаешь на зрителя, – наставлял Хабарова Петрович. – Поаккуратнее, прошу тебя! Не забывай, сегодня Хлюпик должен победить. Ты же при первом удобном случае…
– Хватит! Понял я. Б…! Я чувствую себя проституткой!
– Ты, Санек, о деньгах лучше думай. Любопытным мы потом объясним, что ты не в форме, что сказались последствия травмы…
Они сошлись в центре зала, обменялись, как полагается, приветствиями и, едва уловив отрывистую команду «Бой!», принялись за работу.
Хлюпик оправдывал свое прозвище. Он боялся Хабарова и всячески старался избежать работы в «полный контакт». Светловолосый, краснощекий крепыш, Хлюпик порхал по ковру, как бабочка, уйдя в безнадежно глухую оборону, отдавая инициативу Хабарову, безраздельно.
«Тебя что, урода, не предупредили? – горячился Хабаров, изо всех сил стараясь не угробить Хлюпика очередным наивным ударом. – Как же лечь-то под тебя, коли ты сам того и гляди в обморок от страха свалишься?»
Стройный, подтянутый, проворный Хабаров выгодно смотрелся рядом с противником. Вот только лицо его было отрешенно-безразличным сегодня и потухшим взгляд.
Если бы Хлюпик хоть немного постарался, Хабаров ему подыграл бы, подыграл бы вплоть до симуляции последствий болевого шока. Но в том-то и беда, что Хлюпик не старался. Он совершенно не стремился к победе. Наоборот, делал все возможное, чтобы проиграть.
«Не может быть, что тебе не сказали исход боя, – думал Хабаров. – Неужели ты так боишься меня, что тебе даже на уговор, на деньги – плевать? Тебя же, дурашка, достанут. С тобой они церемониться не будут. Они тебя зароют…»
– Ну, давай же! – крикнул ему Хабаров.
Толку не было. Так прошло первых пять минут.
Хабаров остервенело наносил удары, которые на деле были всего лишь хорошей имитацией ударов. Хлюпик плясал вокруг него, то приближаясь, то отскакивая, все его удары приходились в цель, вот только настоящих ударов не было. Зрителям надоел этот любовный танец. Зал недовольно загудел. Несколько горячих голов даже выкрикнуло, сложив руки рупором: «Долой обоих!» «Позор!»
«Я сыт по горло этим дерьмом! – негодовал Хабаров, тщательно примеряя на себя ничтожные, детские шлепки Хлюпика. – На кой тебе это надо, Хаб, ложиться под какого-то урода? Тебе, кого непросто уложить даже хорошим ударом! – заводил себя все больше и больше Хабаров. – «Шестеркой» заделался. От твоих принципов такая вонь идет, даже вокзальному сортиру завидно! Да пошли вы все, с кайфом вашим!» – и в красивом прыжке Хабаров нанес ногой молниеносный захлестывающий удар Хлюпику по голове. Тот рухнул и замер.
До десяти судья ухитрился считать целых полминуты. Впрочем, он мог бы считать и весь остаток вечера. Хлюпик был в нокауте. Не дожидаясь окончания этого фарса, Хабаров ушел в раздевалку, подхватил свою спортивную сумку, бросил в нее кроссовки, спортивный костюм и, ни с кем не попрощавшись, быстрым пружинистым шагом пошел прочь. Навсегда.
Вскоре после «побега» Хабарова нашли бывшие «работодатели», но, убедившись, что он не переметнулся к конкурентам, а вообще бросил спорт, от него отстали.
А потом…
Потом целых полгода, на чужой шикарной даче он просто спивался, ни с кем не общаясь, не имея ни надежды, ни веры в то, что в его жизни будет что-то лучшее, чем недопитая накануне бутылка дешевой водки.
Появление старого друга не вызвало энтузиазма у Хабарова. Небрежно запахнув грязную телогрейку, наотмашь высморкавшись, он пригласил гостя в дом, который сторожил, сразу предупредив:
– В доме холодно, жрать нечего. Если приехал с душеспасительными беседами, вали сразу.
Но Малышев не уехал. Поздно вечером он увез с собой мертвецки пьяного Хабарова. В последнее время такое состояние было обычным для бывшего чемпиона.
Очнувшись солнечным утром в своей грязной телогрейке и таких же штанах в белоснежной постели, Хабаров долго крутил головой, тщетно стараясь припомнить, как он здесь оказался. Он даже щипал себя, готовый поверить в то, что это ему снится. Наконец он поднялся и, чувствуя мучительную жажду от вчерашних возлияний, поддерживая то и дело сползавшие ватные штаны, побрел на кухню.
– Здрась… – прохрипел он, едва ворочая сухим, прилипшим к нёбу языком, худенькой аккуратной пожилой женщине, колдовавшей над кастрюлями.
Вздрогнув, та обернулась и удивленно посмотрела на Хабарова.
– Я это… Тут…Попить бы… – протрубил он в свой сломанный нос.
– Ой, Сашенька, садитесь к столу! – оправившись от шока, пролепетала старушка.
«Где-то я ее видел…» – подумал Хабаров, по-собачьи небрежно почесав двухнедельную щетину на щеках.
Хозяйка проворно поставила на стол банку простокваши и банку огуречного рассола.
«До чертиков допился Хабаров. Поздравляю! – сказал он себе, подозрительно косясь то на банки, то на старушку. – Тебе уже несут профессиональный опохмел. Нет бы кофе предложить или чаю. Я, видите ли, мадам, человек с изящными запросами…»
Осушив литровую банку огуречного рассола, он почувствовал, что оживает.
– Я посплю чуток, – хмуро сказал он. – Потом можете вышвырнуть меня за дверь…
– Иди, Сашенька. Гена все равно придет только к обеду.
«Вот где я ее видел! Это же мать Генки Малышева. Как же ее звали? Мария Андреевна, по-моему. Ну, позвонок, все же уволок меня с собой…» – смущенно топтался у стола Хабаров.
Узнав Марию Андреевну, он сразу сник.
«Господи, что она подумает обо мне? Пьянь, разгильдяй, дармоед, лодырь – вот что она подумает. Правильно! Ты же, Хаб, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения».
– Мария Андреевна, – Хабаров виновато отвел взгляд, – я не в лучшей форме.
– Это видно, – спокойно согласилась та. – Сашенька, Гена привез твои вещи. Я их в шкаф в твоей спальне повесила. Может, ты примешь душ, переоденешься, а я тебя покормлю? Гена говорил, что после обеда вы вместе поедете.
Хабаров смутно помнил, что накануне Генка говорил что-то о кино, о трюках в кино, но что именно, вспомнить было трудно.
Чтобы привести себя в приличное состояние, Хабаров последовал совету. Часа полтора он растягивал на балконе самодельные Генкины эспандеры, работал с гантелями и гирями, выполнял растяжки. После занятий отвыкшие от нагрузок мышцы ныли и, стоя под душем, Хабаров был противен сам себе.
Появившийся, как свежий ветер, Генка наскоро пообедал и увез Хабарова с собой.
– Посмотри, чем мы занимаемся. Понравится – оставайся! Ты мне нужен. Ты многое умеешь. Такому не научишь, – просто сказал он.
Они приехали на пустырь за городом. Едва Генка вышел из машины, к нему подбежали какие-то люди.
– Геннадий Михайлович, мы заждались вас. Все готово. Быстро гримироваться и можно снимать.
Малышев склонился к его приоткрытому окну.
– Давай, выходи, позвонок. Идем работать.
Хабаров растерянно поплелся следом. На них напялили несуразные женские парики. Хабарову почему-то достался длинноволосый белый. Потом одели в женские плащи и удовлетворенно кивнули: «Порядок!»
– Ген, что за маскарад? Я на «голубого» похож? – психанул Хабаров.
– Я тебе потом объясню. Сейчас, Саня, знакомься. Виктор Чаев, Олег Скворцов, Игорь Лисицын. Мои ребята. Это, мужики, Саша Хабаров. Надеюсь, восходящая звезда нашего кордебалета. Позже поплотнее познакомитесь. Как машина?
– Полный порядок. Все проверил, – отозвался Виктор Чаев.
– Саня, садись на пассажирское!
– Ген, а я? – засуетился Олег Скворцов.
– Олежек, на твоей зарплате это не отразится. Отдохни пока! – жестко сказал Малышев и сел за руль.
По команде режиссера машина плавно тронулась с места.
– Объясняю. Снимается кино. Любишь кино? А трюки в кино?
Хабаров иронично хмыкнул.
– Мы и делаем трюки. Я и вот эти ребята. Мы все – бывшие спортсмены, плюс техническое образование. Ладно, об этом потом. Сейчас разгоняемся, переворачиваемся по продольной оси пару раз и едем дальше. Если повезет…Понял?
– Понял, – на всякий случай соврал Хабаров.
– Чудненько! Ну, что, на боевое крещеньице?
Все произошло так быстро, что Хабаров даже не успел понять, как так получилось, что земля и небо завертелись волчком, а потом встали на свое прежнее место.
Остановив машину Малышев крикнул Скворцову:
– Олег! Сядь вместо Хабарова. Саня, ты должен теперь со стороны оценить красоту профессии.
Когда Хабаров увидел летящую вверх колесами в очередном дубле машину, у него похолодело все внутри.
– Во каскадеры дают! Чокнутые! Жить надоело. Горбатятся за копейки, идиоты! – сказал кто-то за спиной Хабарова.
Хабаров обернулся, будто его ударили, и увидел очкарика, пританцовывающего под звуки плеера.
– Не-е, я реально не всосу, зачем им это надо?
Вечером они приехали на старый, заброшенный стадион на окраине города.
– Наши владения! – объявил Малышев. – Здесь со временем сделаем базу – место, удобное для тренировок.
«Владениями» оказалось футбольное поле с несколькими рядами искореженных скамеек по краям и небольшой ангар, где в беспорядке было свалено нехитрое имущество.
– Все это: землю, ангар, мы, наконец, выкупили. Теперь заработаем денег, построим гаражи, а то машины у нас по домам растащены. Конюшни построим. Сейчас ипподром с нас три шкуры дерет за аренду. Автопарк обновим. Тир отстроим. Спортзал. Чтобы это действительно была наша тренировочная база. Лежбище! Планов громадьё, да?
Хабаров усмехнулся, оглядел унылый интерьер ангара. Здесь пахло машинным маслом, сыростью и возможностью начать все с начала.
– У меня идейка одна имеется. Закачаешься! Я хочу то, что мы делаем, сделать профессией. Причем престижной профессией, за которую хорошо платили бы! Хочу своеобразный профсоюз организовать. Мы же сейчас полностью бесправны. Такой профессии, как каскадер, официально вообще не существует. Получаем, как рабочие за погрузку реквизита. Этот профсоюз или ассоциация, как хочешь назови, будет защищать нас, как броня. Будет заработок, страховка, пенсия. Еще я школу свою хочу открыть! Школу каскадеров. Как тебе?! – Малышев испытующе смотрел на Хабарова. – Ты будешь со мной, Саня. Мы вместе это сделаем! В этом я не сомневаюсь!
Большую часть из намеченного Генке осуществить не пришлось, но он, Хабаров, сделал это, хотя, конечно, далеко не все.
«Генка, дружище, мне так не хватает тебя…»
Хабаров смотрел на него, улыбающегося с фотографии, и чувствовал, как ком подкатывает к горлу и предательски щиплет глаза.
Часто, в самом начале, когда было особенно туго, он, растерявший родных, не успевший приобрести друзей, приходил сюда. Друг был рядом. Это помогало. Но, как и сейчас, тяжело было оставаться бесстрастным, глядя в эти умные, усталые глаза на черно-белой, уже начавшей выцветать фотографии. Ведь, по сути, Генке он был обязан всем тем, что имел.
Это сейчас у него было имя. Это сейчас, чтобы заполучить его ребят, в очередь выстраивались даже маститые режиссеры. Это сейчас у его фирмы были контракты с зарубежными кинокомпаниями. Это сейчас он имел роскошную возможность выбирать, что престижнее, выгоднее, интереснее. Тогда было все иначе. Все планы разбивались о непробиваемую стену нищеты, об ироничное недоумение тех, от которых хотя бы что-то зависело.
Как-то утром, приехав на базу, вернее, на старый стадион, которому еще предстояло их базой стать, он увидел сожженную машину Володи Орлова у ангара, взломанные, вернее вдавленные, искореженные от удара машиной ворота ангара, и полуживых, жестоко избитых Орлова и Женю Лаврикова.
– Все! Хана нашему предприятию! – прохрипел Лавриков, тщетно пытаясь подняться. – Сказали, если завтра не заплатим, сожгут здесь все. Работать не дадут.
Хабаров осмотрел лежавшего без сознания Орлова. На его голове было несколько кровоточащих ушибленных ран.
– Убьют нас, Саня, к чертовой матери! Они как звери! Пришли с арматурой, с цепями. Слушать ничего не хотели. Девять их было. Мы, конечно, как могли… Сам понимаешь… Володька уже лежит, а они его… Они его… – Лавриков запнулся, сжал окровавленными пальцами веки.
– Лежи. Я скорую вызову.
Хабаров пошел искать телефон.
Что он мог? Лихие девяностые… От бессилия закипало все внутри.
Он предвидел такой поворот событий. Сначала, как законопослушный гражданин, попробовал искать защиты у милиции, но ему вежливо объяснили, что частный бизнес связан с риском, что «если наедут», милости просим. А профилактика… Это же не семейные ссоры. Тут профилактикой заниматься трудно. Тем же вечером у подъезда дома Хабарова остановили двое спортивных хмурых парней и просто сказали: «Еще раз к ментам сунешься, будешь в раю трюки делать!» Оказалось, что «пацаны», предлагавшие ему уплатить за возможность спокойно работать, неплохо информированы. Когда он это понял, стал искать тех, кто мог бы «одним словом» решить его проблемы. Но связей в криминальных кругах или «знакомых их знакомых» у Хабарова не было, и выйти на что-то стоящее никак не удавалось.
Казалось, был лишь один выход – платить. Но на гонорары от работы на двенадцати последних картинах они только что приобрели стройматериалы и дали предоплату СМУ-34, выполнившему работы почти на три четверти. Хабаров продал квартиру родителей на Арбате и деньги тоже ушли в дело. Еще залезли в долги. Ребята и он сам почти полгода по большому счету не получали ни копейки. Так что взять денег было негде. Такую сумму, которую требовали до вечера, они вряд ли смогли бы собрать за год. Ситуация ничего хорошего не сулила. Это был конец их планам, мечтам, конец тому, чем они хотели заниматься в этой жизни.
Оставив в больнице ребят, Хабаров сел за руль, запустил мотор и, рванув с места, выжимая из машины все, что возможно и невозможно тоже, погнал прочь, проскакивая на красный свет светофоров, опасно лавируя в потоках машин. Тогда еще не было пробок, и он довольно быстро вырвался за город. Он мчал по шоссе, ни о чем не думая, ничего не планируя, испытывая отвратное чувство младенческой беспомощности и пустоту в душе. Постепенно эти чувства снова задавила, скрутила злоба. Он резко затормозил, бросил машину на обочине и ушел в лес.
Тогда была тихая теплая осень. Он шел по осеннему пестрому лесу. Сквозь еще пышную листву, наполненную чистым янтарным светом, пробивались ласковые солнечные лучи. Слабый ветер шалил в ветках берез и кленов, нескромно срывал с деревьев золотые листья. Подхваченные внезапным, едва ощутимым дуновением, они кружились в медленном фокстроте, невесомые и изящные. Листопад придавал лесу ни с чем не сравнимое очарование.
Не думая куда, он брел по осенней мягкой тропинке. Неожиданно лес кончился, и Хабаров вышел на берег реки. После затяжных сентябрьских дождей река вышла из берегов, разлилась по заливным лугам. Неделя теплых погожих дней высушила землю, но не успела справиться с так и не вошедшей в берега рекой.
Хабаров сел на пригорке у самой воды и стал отрешенно смотреть на темную воду. Изредка по воде яркими желтыми пятнами проплывали увлеченные потоком листья, и тогда Хабаров провожал их долгим грустным взглядом.
Вдруг он заметил, что по ухабистой проселочной дороге к реке пробирается черный джип. Машина остановилась метрах в ста от Хабарова. До его слуха донеслись бодрая жизнеутверждающая мелодия и женский смех. Из джипа вышла женщина. Появившийся следом мужчина подхватил ее на руки, закружил, и они оба упали на траву, где на какое-то время замерли, очевидно, в поцелуе. Потом он помог ей подняться и, покопавшись в багажнике, они расстелили на траве плед, поставили рядом корзины со съестным.
«Надо уходить, – недовольно подумал Хабаров. – Мне только интимных сцен не хватало…»
Его внимание привлек шум моторов, доносившийся из перелеска со стороны шоссе. Шум нарастал, приближаясь.
– Паломничество какое-то…
На берегу показались красные «Жигули» и белая «Нива». Машины притормозили рядом с джипом. Из «Жигулей» вышел водитель и с матом, бурно жестикулируя, подбежал к уединившейся парочке. Увидев его, женщина спряталась за сидевшего рядом спутника. Тем временем из машин вышли еще шестеро. Дальше все развивалось быстро и по обычному сценарию: водитель «Жигулей» ударил по лицу женщину, ее спутник вступился за нее, оба сцепились, потом их растащили, потом все семеро кинулись на одного.
Не думая, кто прав, кто виноват, но желая помочь бедняге, Хабаров в несколько секунд оказался рядом. Кого-то он просто оттащил и швырнул в воду, кого-то сбил одним четким молниеносным ударом, остальные бросились к машинам и вооружились кто отверткой, кто баллонным ключом, кто монтировкой.
Хозяин джипа со стоном приподнялся, глянул на дерущегося Хабарова, попытался встать, но не смог. Морщась от боли, он пополз к джипу.
– Валера! Валерочка! У тебя кровь! – кричала сквозь слезы подруга.
Его некогда белоснежная рубашка сейчас была щедро заляпана кровью.
– Лена, уходи. Беги в лес! – прохрипел он.
– Нет! Я не оставлю тебя!
Хабарова взяли в кольцо. Он то ловко уворачивался от ударов, то наносил их сам. Завладев баллонным ключом, он зло оскалился:
– Кранты вам, суки! Хоть душу отведу!
Шальной, дерзкий выпад, следом еще, и сразу двое кубарем покатились в воду. Звук выстрела заставил всех вздрогнуть.
– Вали отсюда, Миша! Или я тебе шкуру испорчу, – опираясь окровавленной рукой о водительскую дверцу джипа, сказал его хозяин.
Пистолет всегда был весомым аргументом. Дважды предложение гостям повторять не пришлось. Через пару минут шум моторов стих, и вновь все вокруг укутала хрустальная осенняя тишина, нарушаемая лишь плеском воды да женскими всхлипываниями.
Отряхнув от грязи и сухой травы одежду, Хабаров подошел к так внезапно ворвавшейся в его жизнь парочке.
– Что с ногой?
Он присел на корточки рядом с незнакомцем, закатал выше колена его широкую штанину и стал ощупывать колено и голень.
– Ногу ломит. Встать не могу.
– Последствия болевого шока, – заключил Хабаров. – По меньшей мере два удара пришлось в коленный сустав и по голени. Это больно, но пройдет.
Мужчина полотенцем вытер окровавленное лицо. Его нижняя губа была рассечена, из раны по подбородку и шее тек обильный ручеек крови. Его спутница насыпала в матерчатую салфетку ледяной крошки, взятой из ведерка с шампанским.
– Валера, нужно кровь остановить. Приложи лед, – попросила она.
Ободряюще улыбнувшись обоим, Хабаров наскоро попрощался и пошел к дороге.
– Эй, спаситель! – крикнул ему вдогонку незнакомец. – Не спеши. Давай выпьем, закусим.
Хабаров обернулся, махнул рукой.
– Не буду мешать.
– Два раза я предлагать не стану.
Женщина догнала Хабарова.
– Пожалуйста, я очень вас прошу, не уходите просто так!
Она взяла его под руку и почти насильно увела назад. Мужчины обменялись рукопожатием.
– Валера.
– Саша.
– Не страшно было? – улыбаясь, спросил Валера, с любопытством разглядывая Хабарова. – Их же много было, ты – один. Ты же не знал, что у меня пистолет.
Валера аккуратно стер с пистолета кровь и спрятал его, засунув сзади за пояс брюк.
– У меня по расписанию подвиг.
Лед нового знакомства был растоплен.
– Давай выпьем, раз ты такой шустрый! – с теплыми искорками в глазах предложил Валера. – Спасибо тебе!
Выпили. Валера приложил лед к ране на губе, сказал:
– Ешь, пей. На меня не смотри. Я буду пировать позже.
Хабаров исподтишка наблюдал за парочкой. Она так трогательно заботилась о нем, он был так к ней внимателен, что невозможно было усомниться в том, что эти люди искренне привязаны друг к другу. Ей было лет тридцать пять, он – много старше. Сухощавый, с манерами потомственного аристократа, Валера был похож на профессора медицины. Его лицо, красивое, с глубокими, умными карими глазами, было изрыто лабиринтом морщин, глубоких и не очень, но от этого лицо только выигрывало, придавая обладателю значительность, солидность, а густая аккуратная седая шевелюра усиливала эти впечатления.
Тек неспешный вежливый разговор ни о чем. Посидев с полчаса в этой компании, Хабаров по чуть приметной холодности разговора понял, что его новые знакомые хотят остаться одни. Будто что-то вспомнив, он резко поднялся, рассыпался в извинениях и стал прощаться.
– Запиши ему телефон, Леночка, – сказал Валера. – Сегодня ты мне здорово помог. Я твой должник, Саша. Будет туго, звони. Спросишь «Седого». Это я, как ты понял. Чтобы я тебя сразу узнал, скажешь, что мы на речке познакомились.
На том и разошлись.
Хабаров заехал в больницу, потом домой, вернее, на квартиру родителей Виктора Чаева, где снимал угол, пока те жили на даче, переоделся, сделал пару звонков и отправился в кафе «Звездное», что в двух кварталах. В кафе он должен был встретиться с оперативником из местного отделения уголовного розыска. Их встречу организовали по просьбе Хабарова третьи лица.
Едва Хабаров подсел к бару, к нему подошел средних лет мужчина.
– Хабаров? – уточнил он и сел рядом. – Рассказывай.
Они заказали по пиву. Хабаров коротко рассказал о том, что произошло ночью.
– Не знаю, что делать, – заключил он. – Не найду «крышу», все полетит к чертям!
Опер усмехнулся.
– Получишь ты «крышу», о которой мечтаешь. Это не значит, что тебя дергать не будут. Там надо «разобраться», тут надо помочь «наехать»… Это для вас тупик.
Хабаров упрямо замотал головой.
– У меня выхода нет!
– Пиши телефон. Передашь привет от меня. Договоришься – помогут. Не договоришься – извини.
Хабаров достал записную книжку, из которой на стойку бара выпал листок с телефоном его утренних знакомых.
– «Седой»? – не скрыл изумления опер и нервно рассмеялся. – И он у меня помощи просит… Умру от смеха! Ты хоть знаешь, чей телефон у тебя?!
– Нет.
– Это – «Седой». Известный «вор в законе». Он только подумает о тебе, даже не скажет, только подумает, с тебя пылинки будут сдувать не только те, кто «наехал», но и бо-о-ольшие люди во власти, и вся эта уголовная сволочь! – он хлопнул Хабарова по плечу. – Считай, тебе повезло! Так, мужик, везет лишь раз в жизни и не каждому. Давай, иди, Богу свечку поставь в благодарность!
– Позвонить?
– Позвони. Оставь свои координаты. Да не тушуйся. Это не прямой номер. Просто номер, используемый для связи. Мы проверяли. Помнишь, как в фильме про Жеглова и Шарапова: «Сидит там старушка – “божий одуванчик”…»
Уже поздно ночью Хабарова, задремавшего у телефона, разбудил звонок.
– Да! – порывисто выдохнул он в трубку.
«Я каждую пятницу начинаю с того, что плачу по счетам», – раздался ровный спокойный голос.
– Ой! – смутился Хабаров, мгновенно узнав «Седого». – Простите, что я…
«Не надо извиняться, – перебил его «Седой». – Ты был прав насчет ноги. Нога в порядке. Даже могу в гости к тебе зайти. Если пригласишь».
– Конечно! – заторопился Хабаров. – Я живу…
«Я знаю».
В трубке раздались короткие гудки, и Хабаров сонно уставился на нее.
Через мгновение раздался звонок в дверь. Он открыл, испытывая смешанное чувство необходимости и страха.
Двое спортивных парней прошли в квартиру, осмотрели ее, заглянули даже в шкаф и на антресоли, потом один ушел, а другой остался в коридоре, у двери. Не заставив себя ждать, появился «Седой».
– Оставайтесь снаружи, – распорядился он и прикрыл за собою дверь.
– Проходите. Я так смущен тем, что…
«Седой» жестом остановил.
– Не обольщайся. Неподалеку дела были. По пути решил к тебе зайти. Что смотришь?
– У вас охрана такая… Как же на речке?
– Женщины… – «Седой» добродушно развел руками и сел в единственное в комнате кресло. – Леночка замужем. Это был ее муж с дружками. Я же не мог позволить себе личную жизнь на виду у всех. Но хватит об этом! – ледяным тоном закончил он.
Улыбка исчезла, лицо стало бесстрастным, взгляд стальным.
– Откуда ты узнал, кто я?
Хабаров такого вопроса не ожидал, как не ожидал и визита «Седого». Он лихорадочно решал, как ответить.
– Говори правду. Иначе я встану и уйду.
Хабаров рассказал о разговоре с оперативником, о том, как нашел Орлова и Лаврикова утром полуживыми в ангаре, о том, что он загнан в тупик. Потом, сам не зная почему, стал говорить о том, как жил, рассказал о друге – Генке Малышеве, о его мечтах, которые стали теперь его, Хабарова, целью, которую он должен воплотить в жизнь, чтобы не носить в себе удушающего чувства вины. Он стал говорить о том, что ему и его ребятам никаких выгод и благ не надо, только бы не мешали работать…
По мере того, как говорил Хабаров, лицо «Седого» подернула поволока грусти, он прикрыл ладонью глаза, и со стороны казалось, что он погружен в размышления, тягостные и, вместе с тем, светлые, хранящие воспоминания давно минувших дней.
– Кто на тебя «наехал», я знаю. Тебя больше не тронут. Твоим ребятам компенсируют моральный вред.
Хабаров растерянно смотрел на «Седого».
– Это все? Вернее, я хотел спросить, неужели так просто можно решить мою проблему?
Лицо «Седого» потеплело.
– Нет у тебя проблемы.
Вдруг на белоснежной манжете рубашки «Седого» Хабаров заметил пятна еще не высохшей чужой крови. Холодок пробежал по спине: «Вероятно, Леночка теперь вдова…»
– Как мы должны платить за услугу? – выдавил он из себя.
«Седой» улыбнулся той загадочной улыбкой, которая располагает людей безоговорочно верить.
– Плата должна быть пропорциональна труду, вложенному мною в решение твоей проблемы, – сказал он. – С тебя, Саша, чашка кофе. Спать очень хочется…
Давно это было.
Только год спустя, на похоронах «Седого», умершего от рака, Хабаров узнал, что «Седой» был родным братом отца Генки Малышева.
Дальше не все было просто и гладко, но «Седой» дал им фору в начале.
Хабаров медленно поднялся, коснулся обелиска рукой.
«Нас, жестких, прагматичных, пробирает лишь то, что остается, что продолжает быть, когда породившее его уже прах. Человек только тогда человек, когда в нем жива память…»
Виктор Чаев остановил машину у подъезда Лоры.
– Зайдешь? Кофе выпьем, – обворожительно улыбнувшись, предложила она и нежно погладила руку Чаева.
– Слишком поздно для кофе, – сдержанно ответил тот.
Лора недовольно фыркнула, поерзала на сиденье. Такой ответ ее не устраивал.
– Что ты за человек, Виктор? Весь вечер ты смотрел на меня глазами брошенной собаки. Сейчас у тебя есть шанс залезть мне под юбку, но ты весь в комплексах.
– Причем тут комплексы?
– Тебя разве не тянет трахнуть меня?
– Я рассчитываю на большее. Ты мне нужна на жизнь, а не на ночь. Понимаешь?
Она обняла его, судорожно вздохнула, по щекам потекли два тонких извилистых ручейка слез.
– Прости…
– Лорка, ты чего?
– Никто никогда мне таких слов не говорил. Я сейчас на свою жизнь оглянулась, и мне так стыдно за нее стало. Все какие-то козлы, кобели попадались. Дрянь, одним словом! И я – дрянь!
Чаев погладил Лору по волосам.
– Успокойся, это меланхолия во хмелю. Тебе надо поспать. Утром снова сможешь смотреть на мир сквозь розовые очки.
Лора отстранилась.
– Виктор, останься. Я никогда никого не просила, но…
– Через два часа у меня поезд. Работенка, непыльная, подвернулась.
Лора проворно выбралась из машины, гулко хлопнула дверцей.
– Вот из-за таких, как ты, Чаев, и появляются морщины!
«Лагуна» была уютным рестораном, где можно было хорошо поесть, послушать цыган, посмотреть их зажигательные пляски, а при желании и самому присоединиться к действу.
Войдя в зал, Хабаров жестом подозвал официанта.
– Скажи-ка, любезный, цыгане поздравляли с днем рождения того великана? – он указал на Лисицына, возвышавшегося во главе стола.
– Нет.
– Его зовут Игорь. Быстренько организуй! – Хабаров положил в карман официанту несколько купюр.
Спустя минуту в зале погас свет, остались включенными только маленькие лампы на столиках. Мощный прожектор выхватил из полумрака заведения столик каскадеров, заныли скрипки, вздрогнули гитары, звонкие чарующие голоса цыган грянули песню-поздравление имениннику. Шелестя юбками, звеня монистами, бубнами, цыгане, пританцовывая, окружили столик. Очаровательная молоденькая цыганка с тонкой талией и красивой грудью, вдохновенно подхватив «С днем рожденья, наш любимый, Игорь Сергеевич, дорогой!» – с поклоном подала на подносе Лисицыну двухсотграммовую рюмку водки. Все зааплодировали.
– Ну, Саня! Ну, позвонок! – шумел Малыш, радостно тиская Хабарова в объятиях. – Уважил. Спасибо!
Тут же цыгане подали по рюмке водки остальным и, залихватски пританцовывая, запели: «Пьем за Игоречка! Пьем за дорогого! Свет еще не видел хорошего такого…»
Еще долго продолжалась эта фольклорная кутерьма, от которой на сердце становилось легко и радостно.
Уже ярче искрился хрусталь бокалов, щедро бросая радужные блики-зайчики в свой серебряный омут, уже громче, раскованнее звучали голоса за столиком, уже выпили за именинника, за здоровье, за родителей, за друзей, и погибших, и тех, что рядом, уже о жизни рассуждать было просто и легко, а любые проблемы казались пустяковыми. Хабаров наслаждался охватившей его безмятежностью. Уже давно он не чувствовал себя так умиротворенно-расслабленно.
– Это для вас, – шепнул ему на ухо официант и поставил на стол хрустальную бутыль водки. – От того господина.
Официант указал на худощавого мужчину за дальним столиком.
Поймав взгляд Хабарова, тот по-приятельски махнул рукой.
Хабаров встал, тронул Лисицына за плечо:
– Игорек, я сейчас. Знакомого встретил.
– Ктой-то к нам идет, как будто пишет?! Саня!
– Костик! Дружище!
Обнялись.
– Присаживайся, Саша. Как говорят в Одессе, я имею что тебе сказать.
Вообще-то нечаянно встреченного здесь давнего знакомого Хабарова звали совсем не Костик, а Владислав Карпенко. Но, еще со времен дворового арбатского детства, к нему прилипло прозвище «Костик Одессит» за манеру говорить на одесский разбитной манер и лихо исполняемую на гитаре песню: «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил…» Свои имя и фамилию Костик не любил. «Это только для милицейского протокола», – не раз повторял он.
– За встречу!
– За встречу!
Хабаров выпил до дна, Костик Одессит едва пригубил.
– Хорошо гуляешь. Кореша твои?
Хабаров кивнул.
– Ты чего один?
– Никто нас не любит, Саня, кроме уголовного розыска. И, говоря по правде, он тоже нас не любит.
Хабаров ненавязчиво, но внимательно рассматривал давнего приятеля, так не чаянно возникшего из ниоткуда.
Костик сильно сдал и выглядел много старше своих сорока двух. Мелкие морщинки, словно легкая паутинка, покрывали его лицо. Глаза были мертвыми, взгляд холодным, стальным, проникающим в самое нутро собеседника, от чего неприятный холодок растекался в груди. Его движения были нервными и резкими. Манера говорить не оставляла шансов для возражений. Его уверенная повадка свидетельствовала о том, что этот человек пережил все то, чего остальные только опасаются и боятся. От него исходило странное ощущение опасности.
Хабаров знал, что Костика – грозу района и гордость уголовников, посадили за что-то лет пятнадцать назад. Тогда нищий и нескладный, сейчас Костик выглядел шикарно: модный дорогой костюм, швейцарские часы, массивный золотой перстень на правом мизинце, золотые запонки и толстый бумажник на столе рядом.
– Видел твою фильму. Что сказать, Саша, ты знаешь о жизни все, что можно о ней знать.
– Спасибо. Сам как?
Костик откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Хабарова. От этого взгляда Хабаров невольно подумал: «Дурак, зачем спросил?»
– Четырнадцать лет назад сел. Год назад вышел. Родители умерли. Баба не дождалась. Так что я один. Совсем один. Видно, фарт мой где-то дал маху…
– Как же тебя угораздило попасть на четырнадцать лет?
– Было семь. Была третья ходка. Была чудесная весна и колония Наур. Это в районе Чернокозовки, в Чечено-Ингушетии. Там-то я и схлопотал еще восемь, а по совокупности четырнадцать. Так что, слушай меня сюда, Саша. Клади себе в уши мои слова. Наур наши называют «Мяурр»: попадешь – и мявкнуть не успеешь. Там поэзия закончилась, началась суровая проза. Я уже не серый[22] и поднатаскался. Обкатать[23] меня было архисложно. Я был битый парень[24] и в черепной коробке имел чем порешать. Когда блатной шарик[25] закатился, я свой фрайерский прикидон на ангаре[26] оставил…
– Погоди, я…
– Извини. Утром смотрю, нет ни костюма, ни ботинок, вместо них лежит ветошь какая-то и рваные сапоги. Появиться в таком одеянии – значит добровольно признать себя «опущенным». Мой вещмешок ночевал в каптерке. В нем были еще один хороший костюм и обувь. Ростовская зона снабдила меня по уму. Перед обедом вижу: «чех»[27] в моем костюме фланирует. Я же не бычара, я дипломатично спросил: «Где ты взял этот костюм?» Он мог выиграть его в карты, например. В ответ услышал: «Пошел ты, Иван!» А на такие слова на зоне, если ты блатной, нужно отвечать конкретными действиями. Короче, «чех» лежал с раздолбанной башкой, в луже крови, вокруг меня суетились контролеры. Увезли в ШИЗО[28], где долго, сильно и равнодушно били ногами и дубинками. Потом было все ништяк: элита зоны, чай, анаша, «братство»… Но «чех», как оказалось, ничего не забыл. Выйдя из «больнички», в рабочей зоне проявил ко мне интерес. Я еще тогда взял за правило, что просто так нож в руки не возьму[29]. За наглость он залетел на свою же пику, а я в тот же день осознал, что срок мне размотают до предела. Так и было. Там, Саня, выживают. Или – или… Вот и у тебя сейчас: или – или.
– Не понял…
– Я объясняю. До меня дошла информация, что ты спишь с женой Брюса Вонга. Это мой человек. Он расстроен. Судя по всему, жить тебе осталось мало.
– Но…
– По мне, спи ты хоть с серым волком из «Ну, погоди!». Только в силу сложившейся иерархии дать отмашку на твою ликвидацию должен я.
Горло перехватил спазм. Хабаров зашелся в приступе кашля.
– Я сегодня пришел сюда против правил, Саша. Узнают – поставят на ножи. Скажу честно, мне бы не хотелось этого делать. Дело не в нашей детской, стертой временем дружбе. Ты – один из немногих, кто всегда относился ко мне по-человечески. Ты научил меня вещам, которые на зоне мне не раз жизнь спасали. Я на добро отвечаю добром. Короче, даю тебе шанс. Воспользоваться им или нет, решай сам.
Костик Одессит встал и пошел к выходу.
Хабаров обернулся вслед Одесситу и увидел удивительно милое, юное создание. Длинные, как у индианок, каштановые волосы, пухлые губки, дерзко вздернутый носик, чайного цвета глаза…Девушка напоминала восточную фею из детской сказки, неземную, недосягаемо-прекрасную. На ней было черное платье, на шее красовалось серебряное колье в виде змеи. Девушка заметила Хабарова и поспешно отвела глаза. Ее спутник пошел к бару.
Хабаров осушил рюмку водки и подошел.
– Тасманова, что ж мне не везет-то так? – он внимательно смотрел в ее глаза, точно был уверен, что она вот-вот ответит ему на столь важный вопрос. – Вроде бы все при мне: и сила, и морда, и тело, и мозги, – он усмехнулся. – Даже деньги есть. А с бабами не везет! Сегодня со мной, а завтра… не со мной.
– Уходи.
– Богатого папика нашла… Тварь ты, Алина!
Он пошел за свой столик, где шумела, праздновала день рожденья Малыша хмельная компания.
Остаток вечера Хабаров был угрюм и задумчив. Разговор с Костиком не шел из головы. Да и Алину Тасманову он встретил некстати.
Они непутево познакомились и непутево расстались. Познакомились в этом же ресторане год назад. Хабаров был с друзьями, основательно перебравший спиртного. Она понравилась ему сразу. Он попросил кого-то под каким-то предлогом отозвать ее спутника на улицу, тут же подошел.
– Леди скучает? Потанцуем? – он протянул ей руку.
– Отвали!
Хабаров неуклюже плюхнулся на свободный стул рядом, обнял ее за плечи.
– Змеюка на шее у тебя красивая. Сестра?
– Тебя послать или сам уйдешь? – осведомилась красавица.
– Господи, почему все красивые бабы – дуры?
Алина удивленно вскинула брови.
– Что-то новенькое! Так со мною еще не знакомились. Как звать тебя?
– Шура. Шура Хабаров. Пойдем к нам. Мы вон там, у сцены, пируем. Брось ты своего удода!
– Удода на удода менять – только время терять! – отчеканила Алина.
– Злючка! – хмыкнул Хабаров. – Береги яд, покусаемся…
Год не внес ничего путного в их отношения. Они то ссорились, то мирились. Она была слишком сложная. Она его утомляла. Он не считался с нею, жил так, будто абсолютно свободен. Она пыталась воспитывать его, переделывать на свой лад. Он чудил назло, напоказ. Она отвечала тем же. Тоже назло. Тоже напоказ. Он психанул. Она не простила…
Хабаров задумчиво крутил пальцами хрустальную рюмку. Он не сразу заметил рядом с собой зазывно танцующую цыганку, ту самую, что очаровала Лисицына, поднеся рюмку водки в начале. Девочка старалась, пытаясь увлечь Хабарова в свой бесшабашный танец.
– Давай-давай, красотуля! Не в кредит танцуешь! Ты грудками, грудками поиграй! Да поближе подойди! Дай же рассмотреть! Не кусаемся! Да приласкай его, выпей с ним на бульдершафт! Саня уже неделю ничего не щупал! – горлопанили позвонки. – Давай, родная, утешь, уважь! Душа ж за него болит, сердце ж рвется! Ай, молодец! Ай, умница! Пропал мужик. Ай, проказница! Живем, мужики, пока такие красотули нас обхаживают!
– Господа офицеры, генерал Гамов ждет! – бодро отчеканил моложавый подполковник и распахнул дверь.
Один за другим, стараясь производить как можно меньше шума, офицеры рассредоточивались за массивным овальным столом генеральского кабинета.
– Что, наворотили дел?! – не скрывая раздражения, произнес Гамов, едва наступила тишина. – Разжирели от кабинетной работы? Звездам на погонах тесно? Эту вашу проблему я одним росчерком пера решу!
Подчиненные поежились под начальственным взглядом.
– Разрешите, товарищ генерал-майор? – начал полковник Добрынин. – Я доложу обстановку.
– Что вы мне доложите? Что прохлопали ушами таможню? – с издевкой уточнил Гамов. – Что вы мне доложите, полковник Добрынин? Что ваш, между прочим, протеже Брюс Вонг вышел из-под контроля?! Что десять лет кропотливейшего труда катятся псу под хвост?! Мы эти связи еще во времена афганского вторжения налаживали. Мы жизни порядочным людям поломали ради идеи. А теперь что, смахнем скупую мужскую слезу?!
– Товарищ гене…
– Что «товарищ генерал»? «Товарищ генерал»…
Гамов встал, обошел свой рабочий стол и сел за стол совещаний рядом с Добрыниным.
– Скажи, Николай Алексеевич, господину Шону известно о том, что алмазы и золото были твоим протеже у Осадчего похищены?
Добрынин кашлянул, его низкий, с хрипотцой голос зазвучал в наступившей тишине строго и весомо.
– Мы работали над этим. Сейчас можно сказать однозначное: «Нет».
– То есть он ждет заключения сделки?
– Именно так.
– Хорошо. Вы нашли машину?
– Да. Она на полпути. В Тверской области.
– Это вы называете «нашли»?! – возмутился генерал. – Это все равно что сказать: «Где-то в Германии»!
– Простите. Они только что миновали Вышний Волочек.
– Водитель, откуда он взялся? Что он из себя представляет? – спросил Гамов.
– Профессионал. Автогонщик. Каскадер. Виктор Чаев. Мы не могли просчитать этот выбор. Он никогда не был в поле нашего зрения, – пояснил подполковник Войтенко.
– Подсвети, – потребовал Гамов.
– Работа. Семья. Вернее, мать. Жена и две дочери-близняшки погибли в автокатастрофе четыре года назад. Чемпион России по автогонкам в командном зачете. В коллективе спортсменов и среди коллег-каскадеров пользуется уважением. Вредных привычек нет. Любит охоту. Прекрасно стреляет, но зверье предпочитает не убивать. Просто выслеживает и стреляет мимо. С ним попутчик. Андрей Сибирцев. Сын начальника Улуйского прииска Анатолия Сибирцева. У Сибирцева-младшего пошивочный кооператив в Москве. Джинсы-варенки, куртки-пуховики… Короче, в духе «перестройки».
– Товарищ генерал-майор, у Осадчего хорошо обученные люди. Это бандитский спецназ. Он найдет машину. Будут трупы. А сделку с Шоном Цзы в свете последних событий он вообще куда угодно может перенести! – сказал полковник Семёнов.
– Правильно! Брать Осадчего надо! На нем организация заказных убийств и передел собственности. У него незаконно действующее вооруженное формирование. Он неуправляем! Долго мы будем закрывать на это глаза?! – горячился Добрынин. – Надо брать Осадчего тепленьким! Я позабочусь, чтобы он на нас отработал. Тогда и Шона возьмем!
Гамов поднял руку, прося тишины.
– На сделке возьмем. С поличным. Раньше брать смысла не вижу. Продолжайте оперативное наблюдение.
– А те двое в машине? – спросил Добрынин.
Гамов медлил с ответом. Было очевидно, что решение дается ему тяжело.
– Есть интересы безопасности государства…
После совещания генерал Гамов позвонил Осадчему.
– Сделку с Шоном переноси на восток. Мои архаровцы на тебе повисли. Брать тебя хотят! Будь осторожен. Удачи!
Серая лента шоссе стрелой пронзает горизонт. Вереницы машин. От этого шоссе кажется живым, похожим на диковинную змею, движущуюся сразу в двух направлениях. Летящие мимо поля, разделенные на островки-клеточки редкими лесополосами. Купол выцветшей синевы. Падающее за горизонт солнце. Скорость.
Несмотря на загруженность трассы, Чаев вел машину со стабильной скоростью сто сорок километров в час, лихо лавируя в потоках.
– Сбавь! – не выдержав очередного опасного виража, потребовал Андрей Сибирцев. – Сбавь, я сказал!
Этот резкий, почти грубый тон не произвел никакого впечатления на Виктора Чаева. Мельком глянув на пассажира, он очень миролюбиво сказал:
– Первые слова твои за дорогу. Я почти поверил, что ко мне глухонемого приставили.
– Сбавь скорость. Влетим!
– Страшно?! Сердце так и бьется! – и Чаев вжал в полик педаль газа. – Ну, чем не «Формула-1»?
– Скотина! – процедил Сибирцев и отвернулся.
– Ты говори, говори! Вдруг я усну за рулем. Чего делать-то будешь? Ладно, – он брезгливо поморщился, – извини.
Но скорости не сбросил.
«Обычная “Ауди”. Даже цвет не ходовой. Мне обещали ее цену. Странно…» – размышлял Чаев.
Он посмотрел в зеркало заднего вида.
– Этот «Форд» висит у нас на хвосте уже километров пятьдесят.
– До этого сотню висел «мерин», – сказал Сибирцев.
– Почему мне не сказал?
– Ты же у нас крутой, мать твою!
Чаев поежился, противный холодок пробежал по спине. Он не спеша, точно выверяя каждое движение, закурил, бросил пачку на панель к лобовому стеклу, вдохнул полной грудью горьковатый табачный дым, дотянулся до магнитолы, увеличил громкость до максимума и какое-то время слушал, как проникновенно, с надрывом известный певец пел о том, что в гости к Богу опозданий не бывает. Песня закончилась, и он разом отрубил звук.
– Если бы у нас «тачка» была с транзитными номерами, я бы понял. «Братки» пасут. С перегонщика мзду хотят взять. Но эти, что едут следом, на «братков» не похожи. Рассказывай! – потребовал он.
– Есть ублюдок. Тот, кто тебя нанял, кинуть его хотел.
– Я что, машину угнал?
– Не то. Виктор, мы с тобой сидим на золоте и алмазах. Понимаешь? Хлопнут нас. Машину заберут.
– Ибо сказано в Писании: одних унесет мор, других поглотит пучина морская, а двое бедолаг погибнут от собственной глупости!
Смеркалось. Солнце утонуло за дальним лесом, и над дорогой сгустился фиолетовый сумрак, разбавленный дрожащим электрическим светом фар. Шоссе плавным виражом спускалось в низину, и временами, то там, то здесь, его заволакивал мутными кляксами серый туман. С ревом, недобрыми исполинами проносились мимо фуры, резко и властно выныривая фарами и огоньками опознавательных сигналов «Автопоезд» из мутной взвеси.
– Хрень какая-то! – все же вспылил Чаев. – Это ваши разборки, мужики! Я-то тут причем?!
– Ну, «соскочи»! Кто тебя держит! – заорал Сибирцев.
У разрыва бетонного разделительного барьера со знаком «Поворот налево запрещен» Чаев рванул машину влево. Под возмущенный визг тормозов и рев клаксонов встречных фур, он пересек два встречных потока, выехал на встречную обочину, и погнал машину вперед.
– Пристегнись, чтобы тело опознать можно было! – крикнул он ошалевшему от такого маневра Сибирцеву.
То держась обочины, то бешено лавируя во встречных потоках, он уходил «за флажки». Земля, дорога, машины – все летело мимо!
– Нам бы до поворота. Поворот сейчас будет! – крикнул Сибирцев. – Черт, если выживем…
Договорить он не успел. Резкий скрип, скрежет. Картинка смазалась, завертелась волчком. Сибирцев зажмурился, накрепко сжал, сдавил покатую ручку дверцы, ожидая неминуемого, страшного, последнего удара. Но удара не последовало. Наоборот, вновь привычной перегрузкой его легонько вдавило в сиденье. Он приоткрыл один глаз, потом другой. Чаев резко посигналил, и с упрямым русским безрассудством, не включая указателя поворота, по крутой дуге свернул налево, на грунтовку, едва не задев растерявшийся от непростительной наглости автобус. Автобус взвизгнул тормозами. В тот же момент ему в зад ударила «буханка» техпомощи. Пытаясь уйти от столкновения с внезапно возникшим на дороге препятствием, затормозили две легковых автомашины, силой инерции их развернуло, и соприкоснувшись боками, они замерли поперек шоссе.
– Чтоб я так жил! – в восторге выкрикнул Сибирцев. – Молодец! Молодец, оторвался! Вот пусть теперь попотеют! Пусть теперь достанут! Побегают! Хрен вам! – и отмерив на руке кое-какое расстояние, он с удовольствием продемонстрировал известный жест.
Грунтовая дорога была сносной, и они без труда миновали деревню, за нею свернули к мосту. За поворотом Чаев рывком поставил машину поперек дороги. Сибирцева прилично приложило о дверцу, которая тут же услужливо распахнулась.
Чаев выскочил из машины и побежал к мосту. Обветшавший деревянный мост, построенный вероятно еще в первую послевоенную пятилетку, был закрыт на реконструкцию. Поперек моста лежали штабелем бревна для ремонта среднего пролета. Сам средний пролет отсутствовал. Из воды торчали тощие сваи. Вялотекущий ремонт грозил окончиться к концу следующего столетия. Речка была узкая и, очевидно, неглубокая, но переправы не было.
– Кабздец! – подытожил подошедший Сибирцев.
Через поле было хорошо видно две пары огоньков, которые друг за другом поползли от шоссе в сторону деревни.
– Теперь – точно кабздец, – отозвался Чаев. – Ну-ка, помоги!
Доски, заготовленные для ремонта моста, они приладили к бревнам так, что получился трамплин.
– Виктор, если ты хочешь сделать то, о чем я думаю…
– Выбора нет!
Чаев побежал к машине, выбросил на дорогу сумку Сибирцева.
– Давай вброд! Если перепрыгну, сядешь!
Включив заднюю передачу, он погнал назад, навстречу преследователям.
Остановив «Ауди» метрах в двухстах от приближавшихся машин, он торопливо перекрестился, погладил баранку и со словами: «Ну, не подведи, старушка!» – рванул с места.
Дорога шла чуть в горку. В дрожащем, неверном свете фар проем моста казался подозрительно узким и близким. Чаев вжал в пол педаль газа, прицелился машиной точно по середине. Шелест дороги на секунду стих. Тишина резанула по ушам.
«Ну!»
Удар о дорогу. Скрежет подвесок. Рывок вперед. Летящий в лобовое стекло знак на деревянной треноге. Скрип трещин, змеями расползающихся по стеклу.
Чаев обернулся.
Две машины замерли у обрыва. Хлопнули одна за другой дверцы. В свете фар замельтешили фигуры бегущих к реке людей.
Чаев повернул ключ в замке зажигания, нервно хохотнул. Двигатель молчал.
– Ну, давай, зараза! – зло бросил он, врезав кулаком по рулевому колесу.
Из темноты вынырнула фигура автоматчика, чьи-то руки грубо схватили, бросили на землю. Властное: «Лежать!» Нога, обутая в ботинок военного образца, больно давит на шею. Чей-то негромкий голос:
– Ничего водилу себе Брюс нашел, да?! Виктор Чаев, господа! Профессиональный автогонщик. Знакомьтесь! Неудивительно, что он так лихо ушел от нас, сделав, как щенков, – искренне восхищался Осадчий.
Сильные руки подняли с земли, поставили на колени. Чаев поднял голову, посмотрел на говорившего.
Это был абсолютно лысый крепкий человек, с запасом жизни лет на сто. Он стоял рядом, на расстоянии вытянутой руки.
– Никита, по обычной схеме? – спросил у Осадчего тот, кто держал Чаева.
«Обычная схема… Значит, в расход…» – удивительно спокойно подумал Чаев.
– Где второй? Вас же двое было, – спросил Осадчий.
– Сбежал, – ответил Чаев. – Увидел, что вы на хвосте, и рванул в ночь.
– Мерзко. Врешь мерзко. Давай кончай его.
На дороге возле Чаева лежал его выпотрошенный бумажник, деньги за работу, водительское удостоверение и фотографии. Из любопытства Осадчий направил на одну из фотографий луч фонарика. На фото Чаев и Хабаров стояли, обнявшись, на фоне старинной мечети.
Исполнитель отступил назад на шаг. Спуск выбрал свободный ход.
– Не стрелять! – излишне эмоционально крикнул Осадчий. – Погоди!
Он поднял фотографию и стал внимательно ее рассматривать, потом неожиданно резко скомандовал:
– Берем контейнеры и к машинам. Бек, ты – замыкающий!
– Никита, а этот? – боевик ткнул пистолетом в Чаева.
– Пусть живет!
Осадчий бросил фотографию под ноги Чаеву.
– Все! Погнали!
Спустя пару минут все стихло, и только возвышавшийся черной стеной по обеим сторонам дороги лес шумел глухо и недобро.
Путь в Иерусалим лежал по дороге, идущей вдоль иорданской границы. Пара новеньких автобусов фирмы «Мерседес» мчала русскую съемочную группу с запрещенной скоростью сто двадцать километров в час. Позвонки прильнули к окнам, дивясь диковинному, странному после подмосковных березок пейзажу: красная пустыня и иорданские горы вдалеке.
Разместившись, отдохнув и решив остаток редкого свободного дня провести с максимальной пользой, позвонки в полном составе направились исследовать окрестности. Собственно, далеко им идти не пришлось. Неизвестно, кто порекомендовал ребятам посетить тир в подвале отеля, но только спустя два часа обеспокоенный и рассерженный Хабаров нашел именно там всю честную компанию.
Надо сказать, что к оружию в Израиле отношение особое. В отличие от «мудрых» россиян, которые горе и радость топят в бутылке, израильтяне, как только у них тяжелеет на сердце, идут в общедоступный тир, где за какие-нибудь полсотни долларов выпускают по мишеням две-три обоймы, и все как рукой снимает! Поэтому не было ничего странного в том, что в подвале обычного отеля отставные спецназовцы открыли тир.
С видом завсегдатаев Чаев и Скворцов углубились в изучение прейскуранта.
– Да-а, – восхищенно качая головой, заключил Чаев. – Вот живут, а?! Чего хочешь! На все вкусы. Нам бы на базу эту коллекцию!
– Чего возьмем? – спросил Скворцов.
Они оба прекрасно разбирались в огнестрельном оружии и превосходно стреляли.
– Дайте нам один «Смит и Вессон», одну «Беретту», – по-русски сказал Чаев. – Ну, а потом, что ли, ваш «Узи».
Услышав названия, израильтянин понимающе закивал.
Выложив на столик снаряженное оружие, этот матерый «спецназовец», про которых говорят «Синай брал!», тоном мэтра заученно наскоро протараторил что-то на иврите, показал, как держать оружие, куда стрелять, таким образом, урок мастерства был преподан. Позвонки, польщенные такой честью, выругались на великом и могучем и разобрали пистолеты.
Да, в таких чисто «домашних» условиях стрелять им не приходилось давно. Чаев и Скворцов довели спеца до исступления, излохматив в один момент «десятки» всех мишеней.
– Во мужики дают! «Генерал», ты это видел?! – обняв спецназовца за плечи, с гордостью говорил ему Лисицын. – Это тебе не какой-нибудь дохлый америкашка. Русский мужик, он такой! – и потрясал здоровенным кулаком у самого носа обалдевшего «генерала».
– Молодцы, ребята! Давай! Врежь! Пусть русских запомнят! – наперебой в азарте выкрикивали позвонки.
– Да чего тут стрелять-то, почти в упор, – снисходительно щурился Чаев. – Детский сад!
К тому времени, как появился Хабаров, им удалось с десяток раз доказать свой профессионализм. Самые горячие головы предлагали немедленно повторить эксперимент, а уже потом делиться впечатлениями. Они действительно сделали бы это, но явно не разделявший общего восторга Хабаров моментально остудил их боевой пыл, резонно уточнив:
– Кто за все это будет платить?
– Саня, старик, – Скворцов обнял Хабарова за плечи. – В баню это оружие! Башка уже гудит. Пошли лучше поедим!
Хабаров и Чаев сидели за столиком, ожидая, когда позвонки, толпившиеся у громадной витрины, сплошь уставленной яствами, сделают заказ.
– Ты ничего не хочешь мне рассказать? После твоего возвращения мы так и не поговорили, – Хабаров смотрел в лицо Чаева спокойно и прямо.
– Не о чем рассказывать, Саня. Попрессовали. Потом их главный, лысый такой, сказал: «Пусть живет!». Остался я один на темной дороге, в темном лесу. Очухаться не успел, подлетают двое, корочки мне в нос и – на Лубянку, – нарочито небрежно произнес Чаев. – А ты? Ты ничего не хочешь мне рассказать?
– По поводу?
– Фотография, где мы у мечети в Дубае. Он как рожу твою увидел, аж затрясся весь!
– Почему мою? Мы же вместе снялись.
– Потому, что при виде моей рожи, вот так, – он рванул Хабарова за грудки, – вот так близко, он мне мозги вышибить хотел! На твою посмотрел, – и все. Сердце оттаяло!
– Успокойся, позвонок. Ты устал. Нервы. Я всё понимаю.
– Катись ты со своим пониманием!
– Давай сменим тему. Ребята идут.
– А других тем у нас с тобой не будет!
– Нам направо.
Хабаров взял за руку Дашу, увлек за собой и легонько втолкнул в свой номер.
– Ты меня похищаешь? – она подарила ему обворожительную улыбку.
– Да!
– Учти, я буду кричать и звать на помощь. Еще я умею больно царапаться и кусаться.
– Прелесть моя!
Хабаров медленно провел рукой по ее волосам, потом властно притянул к себе. Он чувствовал ее дыхание, видел, как пульсирует тонкая, едва заметная жилка на ее шее, руками он скользнул вниз по спине девушки, пока не дошел до уютной ложбинки ниже талии, с восторгом отметив, что под маленьким тонким платьем ничего нет. Он поцеловал ее легко и нежно. Даша подалась вперед, ее губы сначала робко, потом все с большей и большей страстью откликнулись на его ласки.
Резкий стук в дверь заставил их вздрогнуть.
– Ты кого-то ждешь?
– Не обращай внимания. Уйдут.
Но настойчивости позднего визитера можно было позавидовать.
Даша деликатно высвободилась.
– Я подожду в спальне.
На пороге стоял растерянный Женя Лавриков.
– Что случилось?
– Сань, Витька Чаев исчез. Мы с ним в одном номере. Я всех ребят обошел, его нет нигде.
Хабаров глянул на часы. Было начало второго.
– Не морочь мне голову! Никуда он не денется. Вероятно, с Лорой засиделись в каком-нибудь баре. Иди спать!
Хабаров захлопнул дверь перед носом Лаврикова.
Даша ждала его в постели. Тонкая простыня откровенно подчеркивала ее формы.
Хабаров рванул на груди рубашку. Пуговицы разлетелись, ткань раздалась.
– Сашка! – Даша задохнулась восторгом.
«Чем меньше на женщине одежды, тем короче путь к ее сердцу! – развязно подумал он. – Хоть будет за что держать ответ!»
В темном проеме бойницы Восточной башни крепости Старого города уже очень давно застыла одинокая человеческая фигурка. Человек сидел неподвижно, отрешенно глядя с тридцатиметровой высоты на пестрое ночное великолепие – плод цивилизации.
– Что случилось?
Лора коснулась плеча.
Чаев вздрогнул, обернулся.
– Как ты нашла меня?
Она улыбнулась, ласково погладила его по волосам.
Он перехватил ее руку, поцеловал ладонь и спрыгнул на площадку башни. Некоторое время потемневшими от страсти глазами он изучал ее лицо, наконец, словно устав бороться с собою, поцеловал. Лора обвила его шею, еще теснее прижалась к нему.
– Я люблю тебя, – чуть охрипшим голосом произнес он. – Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я даже не хочу это обсуждать. Так должно быть – и все! Мы тратим жизнь на какие-то ничтожные, никому не нужные пустяки. Мы не живем, мы ждем, чтобы начать жить. Так нельзя. Я это понял совсем недавно. Поэтому я не хочу слышать «нет».
Ночное шоссе уносило их в ночь.
Лора сидела, небрежно откинувшись на спинку сиденья, положив красивые стройные ноги на приборную панель открытого джипа. Она сделала маленький глоток воды из бутылки и специально пролила воду на грудь. Тонкая белая ткань тут же стала прозрачной. Томно вздохнув, Лора тряхнула головой, откинула назад волосы, осторожно провела кончиками пальцев по лицу, шее, словно лаская себя. Прикрыв глаза и выгнув спину, она стала ладонями легко, призывно ласкать свою грудь, живот, бедра и не без удовлетворения отметила, как мужчина украдкой облизал ставшие сухими губы.
Он потянулся к ней, коснулся груди, скользнул большим пальцем по ее приоткрытым губам.
– Скоро приедем…
Оставив позади укрытые ночью скалы, машина свернула с шоссе и нырнула в низину, в оазис, в глубине которого у воды стоял дом.
Чаев притормозил у самых дверей, склонился к Лоре, страстно поцеловал.
Луна деликатно спряталась за облако, оставив их наедине друг с другом.
Он проснулся от того, что лунный свет, проникнув сквозь прикрытые ставни, коснулся его лица. Уставшая, измученная им Лора спала, по-детски уткнувшись носом в его плечо. Больше не было никого в этом мире, только он и она да дремавшее у изголовья их будущее, одно на двоих.
К утру в доме стало прохладно. Чаев потянулся за лежавшим на полу одеялом.
– Почему ты не спишь, Витенька?
Он улыбнулся, легонько поцеловал ее в губы и заботливо укрыл легким хлопчатобумажным одеялом.
– Я не хочу спать. Я хочу смотреть на тебя, хочу прикасаться к тебе, ласкать тебя и чувствовать как ты трепещешь под моими ладонями. Хочу целовать твои губы, сладкие, нежные, доверчивые. Я хочу ощущать тебя каждой клеточкой своего тела. Хочу просто быть и знать, что ты рядом. С тех пор, как погибли мои девочки, меня неотступно преследовало отвратное ощущение пустоты в душе. Словно кто-то не в меру старательный выгреб оттуда все: и хорошее, и плохое. Проснувшись этой ночью, ощутив твое дыхание у своих губ, я понял, что в мою жизнь вернулся утраченный смысл.
Лора погладила его по щеке, коснулась лбом его виска и так замерла.
– Помнишь наш первый вечер в Батуми? Темно-свежее небо…
– Море оперного цвета и мотыльки-ромашки на ветру… Я все помню, Лорка. Очень долго это было лучшим, что мне хотелось помнить. Теперь пошел новый отсчет.
Она крепко спала в роскошной, убранной шелком кровати. Солнце игриво заглядывало в окно гостиничного номера и шалило на ее лице и подушках солнечными зайчиками. Время близилось к десяти утра. Солнце было еще ласковым. Беспощадным оно станет только к полудню.
Она могла позволить себе беззаботно нежиться в кровати, не глядя на часы, сегодня был свободный день. Сегодня только каскадеры Хабаров, Чаев, Орлов и Лавриков работали по контракту с французской съемочной группой. Остальным можно было отдыхать до завтра.
Ей снился белоснежный особняк на берегу дивного озера. Вдвоем с Чаевым они стояли, обнявшись, на пороге и смотрели на детей. Дети возвращались с озера, смеялись, что-то кричали им и весело махали руками. Она подняла голову, посмотрела в его глаза, прошептала: «Я так люблю тебя!»
Вдруг адская боль разлилась по всему телу. Из сонной артерии фонтаном брызнула кровь. Лора инстинктивно попыталась зажать рану. В ужасе она открыла глаза.
Свои окровавленные руки и стоящий рядом адвокат Шипулькин с опасной бритвой в руке было последнее, что видела Лора.
– Ты что сделал, придурок?! Убить тебя, суку? Прямо здесь положить?!
Брюс Вонг швырнул Шипулькина на пол.
– Я, вот именно что… Она сама виновата! – едва не плача, выговорил Шипулькин, алой от крови бритвой указывая на Лору. – Зачем она, значит, надо мною издевалась? Зачем унижала?
Брюс подскочил, рванул к себе сидящего на полу Шипулькина, приподнял, тряхнул.
– Что делаешь в номере моей жены? Где Дарья?! Ты и ее тоже? – хищно вращая глазами, Брюс смотрел на вытиравшего нос Шипулькина.
– За-ачем? К вашей жене у меня претензий нет. Вы, вот именно что, не знаете. Они с Лорой, значит, поменялись. Даша хотела, чтобы ее номер был рядом с номером Хабарова. Вы, вот именно что, обманутый муж – рогоносец, значит.
Брюс издал страшный, нечеловеческий рык.
– Р-р-а-а-х-х!
Шипулькин шмыгнул носом, раз, потом другой, всхлипнул.
– Что теперь делать-то? Меня же посадят. Я не хочу в тюрьму из-за этой гадины. Там плохо…
Он заплакал, по-женски всхлипывая.
– Называется: приехал отсидеться и навестить женушку! Твою-то мать! Лучше б мне Осадчий еще раз промеж ног звезданул!
Брюс за шиворот, как нашкодившего кота, поднял Шипулькина и поставил на ноги.
– Прекрати ныть, баба! – Брюс воровато оглянулся, понизил голос до шепота. – Дарья в номере Хабарова?
Шипулькин кивнул.
– Вот именно что, там была.
Брюс вытряхнул из целлофанового пакета купальник Лоры.
– Бритву давай. Только рукоятку протри.
Упакованное орудие убийства он положил в сумку.
– Запомни, придурок, тебя и меня здесь не было. Камера в отеле только на входе. Иди в свой номер, переоденься, помойся. От окровавленной одежды советую избавиться. Подальше от отеля выброси, а лучше сожги. Понял?
Шипулькин кивнул.
– Я только сонную артерию перерезал. Я же не знал, что столько крови будет…
Брюс брезгливо отпихнул его.
– Урод!
– Вот именно что, вы добрый человек. Меня защищаете.
– Да я бы убил тебя собственными руками, гнида! Но уж больно с каскадером поквитаться хочется!
Дарью Брюс действительно застал в номере Хабарова. Найти там ключи от контейнера с каскадерским реквизитом не составило труда.
– Саня, ты нашел золотую жилу! Эти твои французы просто денежные мешки! – радостно шумел Володя Орлов.
– Мы неплохо заработали, позвонки. Почаще бы так! – одобрительно кивал Женя Лавриков. – За каких-то полчаса нарубили бабла на полгода красивой жизни! С нас бутылка. Ты какое предпочитаешь, красное или белое?
– Дайте подумать. Дайте подумать!
– Самогоночки. Она душевней! – хохотнул Володя Орлов.
Шутливо препираясь, они вышли из лифта.
Только Чаев молчал. С той стычки в харчевне они с Хабаровым общались только в связи с работой, по необходимости. Нет, они не ссорились, не выясняли отношений, просто забыть, сделать вид, что ничего не было, ни тот, ни другой не мог.
На этаже позвонки разошлись по номерам. Люкс Хабарова был в конце коридора. Он негромко постучал в дверь. На лице застыла довольная улыбка. Но никто ему открывать не спешил. Он постучал громче. Результат был тем же. Дарьи в номере не было. Чертыхнувшись, Хабаров пошел за ключом к администратору.
Коридор отеля был освещен мягким желтоватым светом.
Размышляя, почему Дарья его не дождалась, он не сразу заметил в холле у лифта Чаева. Закрыв лицо окровавленными руками, согнувшись как от хорошего удара, издавая страшные, похожие на стоны раненого зверя звуки, Виктор Чаев едва держался на ногах.
Хабаров остановился. Обожгло: «Витька!»
– Погоди, Витек. Где болит? Рана-то где? Откуда кровь-то?
Тот простер дрожащие руки по направлению к приоткрытой двери номера и заплакал.
Вместе они бывали в крутых переделках, теряли друзей, терпели боль, но никогда Хабаров не видел, как этот сильный, волевой, имеющий стальные нервы мужчина плакал.
– Ло-ра-а… Та-а-ам… – трудно выговорил Чаев и вновь протянул руки, точно просил о милостыне.
Войдя в номер, Хабаров сразу ощутил тот сладковатый запах, который не спутаешь ни с чем.
В спальне, на огромной кровати, среди шелка белоснежных простыней лежала она. Ее прекрасные белокурые волосы разметались, губы были чуть приоткрыты, казалось, бархат черных длинных ресниц вот-вот дрогнет от пробуждения и откроет миру бирюзовые, бездонные глаза, с эдакой искрящейся чертовщинкой, а сама хозяйка этих глаз лукаво улыбнется, жеманно поведет плечами и скажет: «Господа, не делайте кислых лиц. По-моему, шутка удалась!»
Хабаров заставил себя подойти ближе. На шее девушки зияла открытая рана. Подушка и простыни были обильно пропитаны кровью. Брызги крови были на белоснежном абажуре лампы, стоявшей на тумбочке, на стене, чуть правее кровати, на потолке.
В номер заглянул Чаев. Хабаров поспешил к нему, на ходу прикрыв за собою двери в спальню.
– Не ходи туда, – он обнял друга за плечи, пытаясь увести. – Не надо. Пойдем. Пойдем со мной!
Чаев не двинулся с места. Как завороженный он смотрел на прикрытые Хабаровым двери и повторял одно и то же:
– За что? За что, Саша? За что? За что? За что?
Слова мешались со слезами. Он плакал на плече друга, не стыдясь своих слез.
Хабаров ждал. Ждал молча. Слезы – ерунда. Слезы пройдут. А вот горе будет жить в нем, пока будет жить память.
Он знал, что когда-то у Чаева была семья: красавица-жена и дочки-близняшки. «Мое бабское царство!» – величал он их с гордостью. Утром серого обычного дня ему позвонили из отделения ГАИ, сообщили о ДТП, о том, что их больше нет. От утраты Чаев долго не мог оправиться. Забросил все – работу, дом, друзей. Пытался покончить с собой. Но судьба да еще друзья хранили.
Спустя время в его жизнь вошла Ирина, роскошная блондинка, переводчик из «Интуриста». Их мучительный роман длился два года, столько же – разрыв. Лиза оказалась натурой романтичной, требовала от возлюбленного то луну с неба, то молочную реку с кисельными берегами, то новую шубу из голубого песца под свои новые ночные шлепанцы. Он прощал ей все, потому что лицом она была так поразительно похожа на его жену. Потом он долго был один. И вот Лора…
– Держись, позвонок… – Хабаров крепко сдавил плечи Чаева и почти насильно увел прочь.
– Эти копы просто задницы! – Скворцов растерянно развел руками. – Они уже два часа торчат в номере и «воздерживаются от комментариев»!
– Олег, сядь. Не маячь! – строго сказал Хабаров. – Мужики, вряд ли полиция найдет что-то. Дергать их вопросами бесполезно.
– Саш, успокойся, – Малыш придавил его плечо своей тяжелой рукой. – Они же профессионалы. Им виднее.
Хабаров взъерошил волосы, недовольно поднялся, подошел к окну гостиничного номера и некоторое время задумчиво, молча наблюдал людскую суету улицы часа-пик.
– Если я чего-то в чем-то смыслю, то безмотивных убийств не бывает. Для того, чтобы установить мотив, полиции нужно вникнуть, чем жила Лора последние несколько дней, а может, и недель. Вы полагаете, они станут это делать для заезжей русской киногруппы? Если вы всерьез в это верите, вы наивны.
– Я сам это сделаю. Я вычислю этого гада. А потом, – Чаев с силой опустил кулак на стеклянную поверхность журнального столика так, что стекло в нескольких местах треснуло, – потом я сверну ему шею!
– Лорка совсем безобидной была. Все хи-хи, ха-ха… Да, ее все любили! Черт, поверить не могу! – сказал Володя Орлов.
Хабаров тяжело вздохнул, устало провел рукой по лицу и бесцветным голосом произнес:
– Это сделал кто-то свой. По приезде она не отходила от Витьки. С посторонними вообще не общалась.
Чаев рассмеялся, и всем стало не по себе.
– Она была все время со мною. Меня видели с окровавленными руками. Я – главный подозре…
– Прекрати! – грубо оборвал его Хабаров.
В номер постучали.
Полицейский, видимо бывший соотечественник, на хорошем русском вежливо предложил:
– Александр Хабаров, пожалуйста, проследуйте за нами в отделение.
Сначала ожили звуки, вырвавшись, освободившись из непроницаемого ватного плена. Потом ожили желания, вернее одно – дышать, глубоко, полной грудью. Тут же настигли ощущения: соленый привкус во рту, тупая головная боль.
В крохотное квадратное зарешеченное окно светила луна. Сомнительный источник света в узком каменном мешке.
В голове раз за разом, заезженной пластинкой, недавний допрос.
… – Мы нашли у вас в номере вашу рубашку со следами крови жертвы.
– Я не убивал ее. Я помог дойти до номера другу – Виктору Чаеву. Он обпачкал кровью мою одежду. У него руки были в крови.
– Мы нашли ваши отпечатки на дверных ручках. Вы – последний, кто входил в спальню!
– Я вошел посмотреть, что случилось. Увидев труп, я затворил двери. Мой друг был в таком состоянии, что лучше не надо было ему ее видеть еще раз.
– Ваши друзья отмечают, что вы недолюбливали погибшую за легкомысленность.
– Я не обязан любить всех. Эту женщину любил мой лучший друг.
– Вы ревновали, завидовали?
Хабаров нервно рассмеялся.
– Да вы что?!
– Господин Хабаров, вы убили ее?!
– Вы с ума сошли! Я на момент убийства был далеко, на съемочной площадке. Меня видели десятки людей! Почему я должен указывать на очевидное!
– Откуда вы знаете, когда произошло убийство?
– Да от ваших же сотрудников. За сотню долларов.
– Вы обвиняете представителя полиции в получении взятки и совершении должностного преступления. Вам будут предъявлены два обвинения: в убийстве и в подкупе представителя власти.
– Слушайте, вы достали меня! – не выдержал Хабаров. – Лучше бы убийцу искали!
– Когда вам пришло в голову позаботиться об алиби? Еще в России или уже здесь?
– Я работал! У меня контракт с французами! Я не «заботился об алиби»! – выкрикнул он.
– А чем вы объясните, что в вашем фирменном контейнере с реквизитом мы нашли орудие убийства?
– Что?!!
– Мы уже провели экспертизу.
– Бред!
– На нем кровь погибшей и ваша кровь. Ваша группа и ваш резус-фактор.
– Я что, один в мире с этой группой крови?!
– Ключ от контейнера только у вас. Мы его нашли в вашем номере. Отвечайте, вы убили ее?! Отвечайте! Отвечайте…
Удар, хлесткий, жгучий. Дальше боль. Много боли…
Вспомнив, Хабаров потянулся к пояснице, потер.
– Бить умеют, сволочи. Вникать – пока что нет.
Металлический лязг задвижки глазка камеры. Хабаров вздрогнул. Снова тишина, и льющийся голубоватый лунный свет.
– …Я – гражданин России. Я требую представителя посольства! У меня есть право связаться с моим посольством!
– Вы убийца! У вас есть право понести наказание…
Еще удар, от которого Хабаров очнулся только здесь, в камере.
Он неуклюже поднялся с бетонного пола. Сел.
«Сам я отсюда не выберусь…»
Он судорожно сглотнул. То, что за умышленное убийство полагается пожизненное заключение, ему объяснить успели.
Было зябко. Он решил было, что это нервное, но вспомнил про суточные перепады температуры и отсутствие стекла в окне. Он обхватил руками колени.
«Ничего, до утра доживу…»
Лязг металлической двери. Бесцеремонность. Длинный коридор. Узенькая комнатенка. На отвратительном английском грубое: «Undress![30]». Ледяная струя воды по окоченевшему телу. Комок одежды, прижатой к животу скрюченными от холода пальцами. Долгий, очень долгий коридор. «Своя» камера. Скрюченными от холода пальцами одежду не надеть. Хочется сжаться в комок, забиться в угол, прижаться спиной к стенам, поверх накинуть рубашку и брюки и сидеть так, долго, пока не согреешься, пока не рассветет, пока не разрешится сама собой эта дрянная ситуёвина, пока не закончится весь этот бредовый кошмар или кошмарный бред.
Утром за ним пришли.
– В порядке исключения, по просьбе ваших друзей мы предоставляем вам свидание с вашим юристом, – сказал ему по-русски тот самый полицейский, что накануне предлагал проехать в отделение.
В помещении, отведенном для свиданий, его ожидал адвокат Шипулькин.
– До-о-оброе у-утро! – адвокат противно тянул слова.
– Вы откуда здесь? – вместо приветствия спросил Хабаров.
– Я, вот именно что, юристом на вашей картине работаю, если вы запамятовали. Меня директор Сорокина на работу приняла. Вот именно что, все официально. Можете проверить!
– Мне сейчас только и забот, что проверять… – Хабаров сплюнул, выругался.
Шипулькин поежился.
– Ну, как вам тут? – не очень вразумительно спросил он.
– Зае…ись!
– Я могу вам помочь?
– Ребят попроси в посольство сообщить. Пусть представитель посольства придет, – Хабаров обернулся к охраннику. – Уведите меня!
– Как хоть с вами обращаются здесь?
– Нежно!
Ближе к полудню, когда солнце прочно вошло в зенит, его посетил представитель посольства. Разговор был недолгим.
– Мы считаем, нужно действовать осторожно. Нужно дать возможность правоохранительной системе разобраться в случившемся.
– Я могу выйти под залог. Мои друзья внесут залог.
– Сомневаюсь, что система пойдет на это. Вы – иностранец. У вас нет постоянного места жительства и нет источника существования в этой стране. Кроме того, преступление, в котором вас обвиняют, особо тяжкое…
– Иными словами, вы умываете руки?
– Мы обязаны соблюдать законы этой страны.
– Но я же ни в чем не виноват! Как же права человека? Мне нужен адвокат. Мой московский адвокат Перепелкин Владимир Викторович.
– Невозможно. Вас может защищать только адвокат – гражданин этой страны.
Хабаров пристально посмотрел в глаза представителю посольства.
– Советник, вы мне можете хоть чем-то помочь?
– Прямые улики. Я сожалею…
Спустя пару часов допрос.
Сутки спустя еще.
Не бьют. Не повышают голос. Сдержанно-равнодушны.
«Им все ясно…»
Свидание с местным адвокатом.
«Наконец-то!»
– Советую вам признать свою вину. Только это спасет вас от пожизненного заключения.
– Я не убивал. Как же мое алиби?
– Никто из французской съемочной группы не смог подтвердить под присягой, что вы не отлучались со съемочной площадки. Да, вы были там. Но были ли постоянно? Ваши друзья тоже не смогли подтвердить под присягой, что постоянно видели вас с того момента, как вы прибыли в отель. Они сказали, что вы расстались у лифта и разошлись по номерам.
– Как это не смогли подтвердить?! Как, я тебя спрашиваю?! – заорал Хабаров.
Доверительное:
– Вы же умный человек. Улик более чем достаточно. Только признание спасет вас.
– Сколько это?
– Лет двадцать пять – тридцать. Принимая во внимание, что вред интересам нашей страны не причинен, если ваши власти договорятся о том, чтобы вы отбывали наказание в своей стране, это лет девять-десять. В противном случае пожизненное заключение.
– Нет…
– Не сомневайтесь!
Короткое, формальное судебное заседание. Итог заранее известен.
Месторождение по разработке известняка. Палящее солнце. Рабский труд. От зари до заката. Жажда. Постоянная. Хроническая. Ночью холод и голод. От холода спасаются, сбившись в тесную стайку, честно пропуская тех, кто по краям, в серединку и наоборот. От голода нет спасения. Правда, днем, под палящим солнцем, есть почти не хочется, только тошнит да кружится голова. Дождь как праздник, как дар Господа. Дождю блаженно подставляешь белое от пыли лицо, и дождевая вода мешается с сочащейся из глаз солью…
Десять месяцев двадцать восемь дней. Этап. Услышав родную речь, шалеешь! Русские конвоиры как родные! Еда в самолете – куда там кремлевской кухне! Свои нары – роскошь! Барак – почти «Вилшер»! Дома!
От радости отходишь постепенно. Обида, боль возвращаются. Украдкой смахиваешь скупую мужскую слезу. Не долетая до земли, она превращается в льдинку. Столбик термометра на отметке –44 °C.
«Суки!!!» – злоба, черная, лютая.
Кусок жизни, по сути, украли.
«Где же ты, моя хрустальная Сиверсия? Снишься ты мне, затерянная среди снегов. Увижу ли тебя наяву? Доживу ли?»
В ответ долгий, протяжный, похожий на стон волчий вой…
Глава 3. Предвидеть. По возможности, избегать. При необходимости – действовать.[31]
«Совершил посадку самолет, следующий рейсом Владивосток – Москва. Аttention…»
Голос был строгим и торжественным, точно девушке-диспетчеру до одури хотелось встретить именно этот рейс. Еще чуть-чуть мажора, и ей было бы не избежать праздничного ликования. Но в запасе не было этого «чуть-чуть», потому что прямо сейчас куда-то еще производилась посадка, чей-то вылет по метеоусловиям задерживался, и все это тоже нужно было объявить. Так что ликования не получилось.
Путешествуя налегке, не обремененный ни багажом, ни объятиями долгожданных встреч, Хабаров направился к выходу.
На стеклах дверей и окон-витрин аэровокзала шалили солнечные блики-зайчики, и люди отчаянно щурились, отдавая дань последним проказам ветреной, но все же золотой, вступившей в пору «бабьего лета», багряно-трепетной осени.
Здесь все было другим. И темп жизни, суетный, взахлеб, и лица, как бы на всякий случай холодно-отстраненные, с маской «каждый сам по себе», и чувства – в полдуши, и усталость – в полтела.
Глоток дорожной пыли вперемешку с моторным выхлопом, оглушающий людской водоворот, шум, гам, городская сутолока – новый день закусил удила!
И только апатичные голуби сонно моются в лужах.
– Хабаров? Саня!
Хабаров вздрогнул. Этот голос он узнал бы даже через тысячу лет. Он обернулся. Высокий русоволосый мужчина лет тридцати шести в униформе охранника с радиотелефоном, зажатым в руке, бежал к нему, ловко лавируя в толпе стремящихся в аэровокзал пассажиров.
– Саня! – слету он заключил Хабарова в крепкие объятия. – Позвонок! Как же я рад тебя видеть!
– Женька? Ты как здесь?
– Да я тут в службе охраны аэропорта. Чертяка! – он тряхнул Хабарова за плечи. – Ты куда исчез-то? На письма не отвечал. От свиданий отказывался. Я тебя у КПП в день освобождения до вечера прождал. Потом спросил, сказали, ты в каком-то фургоне уехал… Я так рад тебя видеть! – и Лавриков снова обнял Хабарова. – Я сейчас ребятам отзвоню.
– Погоди, Женя. Не хлопочи, – он отстранил Лаврикова. – Короче, я тоже рад тебя видеть. И… – Хабаров посмотрел в его внимательные умные глаза. – Не говори, что видел меня.
– Как же так…
Лавриков растерянно смотрел ему вслед. Вот Хабаров пересек площадь у аэровокзала, теперь сел в такси, уехал. Только тут он очнулся и торопливо набрал номер.
– В центр, на Ленинградский, – сказал Хабаров.
– К черту на рога! Сразу плати.
Таксист недовольно покосился на пассажира. Его потрепанный внешний вид доверия не внушал.
Хабаров протянул деньги.
– Вас через центр или по кольцевой? – пересчитав деньги и враз подобрев, осведомился таксист.
– По кольцу. Так ближе.
Дорога была долгой. Светофоры, точно сговорившись, никак не желали давать зеленый свет. Но на МКАДе поехали быстрее.
– Да, что ж ты, овца, делаешь? Куда ж ты прешь?! Кто ж вас за руль-то сажает?! А ты куда режешь?! – бубнил таксист. – Ты ж мне с аэропорта кровь портишь!
– Перестройся. Прибавь. Может, отстанет.
– Ага! Отстанет… Мы только за последние полгода троих похоронили.
– Думаешь, твой пугач за пазухой спасет?
– Ха! – таксист нервно хохотнул. – Хоть душу греет, и то ладно!
Он увеличил скорость, то и дело обгоняя островки попутных машин.
– Опять пристраивается! Вот, как день начнется с дураков, дураками и закончится! Утром меня на Ленинградском парочка кинуть хотела. За наркотой к трем вокзалам ехали. Втирали, на поезд, мол, опаздываем. Я гнал. Спина мокрая! Успел. А они мне: «Вот тебе сотня, денег больше нету!» Суки! Пришлось учить. Враз расплатились! – зло добавил он. – Слушай, а может, они это или за них кто? Больше-то некому.
Точно в подтверждение его слов раздался звук, сухой и хлесткий, как удар хлыста. Хабаров крутанул баранку вправо.
– В гробу я видел эту работу!
– Не иди по прямой. Лавируй! Понял? – и не дожидаясь реакции расстроенного водилы, он крутанул баранку влево. – Сейчас пост ДПС будет…
Но договорить он не успел. Пчела пропела возле уха. Тут же заскрипело паутиной трещин лобовое стекло, а на заднем точно по центру образовалась маленькая круглая дырочка с радиальным орнаментом по периферии
– Газу! – рявкнул Хабаров.
Но водитель был точно в ступоре.
– Лезь назад. Ляг на сиденье!
– Что?
– Лезь, если жить хочешь!
Хабаров сел за руль.
Скорость. Скорость! Скорость! Обгон. Еще. Довольно. Стоп! Вот она, эстакада. Ремонт ограждения. Тормоз. Резко. Машину развернуло поперек шоссе. Теперь вправо. И нырок! Откос был как отвесная стена небоскреба. Страшный крик таксиста, падающего на пол между сиденьями: «Чумовой, убьемся!» Пара километров по обочине. Лесопарк. Дорога. Ушли…
– Живой? – Хабаров обернулся к таксисту. – Впредь тебе наука будет. Смотри, кому клюв чистишь.
Тот шевельнулся, застонал, дрожащей рукой нащупал ручку дверцы. Поток прохладного воздуха устремился в салон. Свесив голову к земле, таксист чистил желудок.
Хабаров вытащил свою сумку из-под его ног и, не оборачиваясь, пошел по тропинке. Напрямик здесь было рукой подать.
Странное оно, время. Течет себе своим чередом, пыхтит потихоньку, быть незаметным старается. Вроде бы и нет его совсем. Ан, нет. То лишь наш желаемый самообман. Очнешься от него, когда увидишь будто выставленные специально, напоказ последствия безвозвратно ушедшего времени.
Не сняв потрепанной кожанки, запыленных ботинок, не сняв даже дорожной сумки с плеча, Хабаров неподвижно застыл в прихожей своей квартиры.
Пустота, тишина, холодный нежилой запах, засохшие цветы в горшках на окнах и антресолях и пыль. Пыль, отвратная, мышиного цвета, укутавшая толстым мохнатым ковром и пол, и мебель, и существовавшую здесь некогда жизнь.
«Мой склеп…»
Хабаров тряхнул головой, точно стараясь отогнать наваждение, наконец сбросил с плеча на пол сумку, потянулся к листкам бумаги на тумбочке в прихожей. Бумага пожелтела, но четко сохранила машинописный текст договора подряда десятилетней давности. Он грустно усмехнулся, бросил листки на пол.
«А это что?»
Он развернул исписанный красными чернилами листок.
«Сашенька, сыночек мой! – почерк корявый, неровный, буквы прыгают туда-сюда. – Помирать собралась. Не взыщи. Не дождусь тебя-то. Уж помяни, не забудь старуху. К нотариусу на угол зайди. Я завещание на квартиру тебе у него оставила и ключи… Много дум по тебе передумала. Все слезоньки выплакала. Главное, человеком оставайся. Постарайся простить. И живи, сынок, живи дальше, без злобы, без камня на сердце. А мне к Геночке своему пора. Поди, он заждался. С уважением к тебе, Малышева тётя Маша».
Хабаров сжал листок в кулак, зажмурил глаза. Лицо исказила судорога боли.
«Эх, тетя Маша, тетя Маша… Мы суетимся, бежим, торопимся, клянем судьбу, раздаем и получаем затрещины и тычки, собачимся, норовим сделать друг другу подлость, а в это время… В это время от нас уходят дорогие нам люди. Тихо и незаметно. Достойно. Уходят, думая о непутевых, о нас. И не исправишь. Можно жалеть и сожалеть, но не исправишь. Ничего не исправишь…»
Заливистая трель звонка заставила его вздрогнуть. Хабаров наспех отер ладонями глаза и пошел открывать.
Один за другим они вошли в ставшую тесной прихожую. Вот Володя Орлов, сильно поседевший, но все такой же подтянутый и спортивный. Вот Олег Скворцов, юркий, как мальчишка, с наивным простоватым лицом. Вот Женя Лавриков, все тот же Казанова, которого Хабаров нечаянно встретил в аэропорту. Вот великан Игорь Лисицын, прозванный в шутку «Малышом». Не было только лучшего из них, с кем когда-то душа в душу – Виктора Чаева.
Хабаров отступил на шаг. Когда-то, в той жизни, они были друзьями. Сейчас их разделяла пропасть глубиной почти в десять лет.
Все так же молча, один за другим, каждый протянул Хабарову руку для дружеского рукопожатия. Он обвел их пристальным взглядом, потом вдруг перестал бороться с собой, распахнул объятия, растроганно выдохнул:
– Позвонки…
Они обнялись, как когда-то, и так застыли, плечом к плечу.
Маленькая кухонька едва вместила шумную компанию. Торжественный ужин был почти окончен. Что-то тихонько мурлыкал с холодильника ставший старомодным магнитофон. Искрилась водочка в хрустальных рюмках. Сиреневые сумерки нескромно заглядывали в окна хрущевки.
– Сань, ты рыбкой, рыбкой закуси!
«Малыш» заботливо протягивал Хабарову приправленную лучком дольку селедки.
– Спасибо, Игорек. Я теперь лет триста рыбу есть не буду! Рыбы в моей жизни было достаточно.
– Саня, что дальше делать думаешь? Мысли есть? – спросил Лавриков.
– Мои мысли все прокисли – думал много.
Он потянулся к пачке сигарет и излишне долго стал прикуривать.
– Почему вы ушли с фирмы? – вместо ответа спросил он.
Позвонки притихли. Ответить первым не решался никто. Наконец, решив, что объяснять все же придется, Володя Орлов осторожно произнес:
– Ушли, потому что не могли там больше оставаться.
– Это я понял. Ты поподробнее, как для тупого.
– Виктор… Чаев всем после тебя заправлять стал. Его после смерти Лоры будто подменили. Взрывной, циничный стал. Короче, все прахом пошло. Он даже Борткевича к себе взял! С его фирмой слился. Теперь Коля у него правая рука, а это значит строжайшая экономия, – Орлов бросил содержимое рюмки в рот. – Мужики рассказывают, что стопроцентное горение работают без огнетушителей, ватным одеялом тушатся. Я тоже раз попал. На спине до сих пор безобразные рубцы от ожогов. Да это что… Двое салаг у него убились. Высотный трюк делали. Он им сказал: «Я дармоедов держать не намерен!» Злой стал, ко всему безразличный…
– А вы, корифеи, прижухались и тише воды?! Это же и ваша фирма.
– А что делать? Жрать охота, – сказал Лавриков. – Мы же столько лет с тобой безбедно жили. Как-то привыкли, Сань, да и бросить жалко. Дело вместе с нуля начинали. Столько сил и крови вложено. И потом, мы ведь, Саня, вину свою перед тобой чувствовали. Да и сейчас не притупилось. Фирма-то твоя. Я тó наше время, когда ты, я, ребята – все вместе, как лучшие годы свои вспоминаю. А сейчас… Что сейчас? Вот я алкашей по такси рассаживаю да видимость порядка в зале отлета создаю. Даже чертям тошно в моем тихом омуте!
– Женька прав, мужики! – встрял Володя Орлов. – Я в охране «Вега-Банка» работаю, еще на полставки в ментуре инструктором по рукопашному бою. Олежек тянет лямку охранника обменного пункта, а по ночам овощной сторожит. Ему двоих детей кормить надо. Это чтó мы, от хорошей жизни? У нас дело было. Общее! Я работу и работой-то не считал. Жил ею! Мы работали, мы зарабатывали. Себя уважали! А сейчас… Пропади оно все!
– Головы пеплом посыпьте. Помогает! – глядя в унылые лица ребят, посоветовал Хабаров.
– Саня, мы тут подумали… – осторожно начал Игорь Лисицын. – Ты только сразу не отметай. Я в системе МЧС работаю. Есть такая относительно новая структура. Сейчас, как раз, формируются отряды спасателей. «Центроспас». Слышал о таком? У нас же готовая команда! Мы все умеем! С любой техникой на «ты», спортивные разряды имеем. Допуски к высотным работам обновим. Спецподготовку пройдем. И было бы как в старые добрые времена. Только немножко по-другому.
Позвонки напряженно ждали, что он скажет. Видимо, этот вариант они обмозговывали не раз.
– Это отличная идея, – помолчав, подытожил Хабаров. – Но… она не для меня.
– Саня, тебя же реабилитировали. Судимости нет! – пытался быть убедительным Лавриков.
– Жень, погоди! – перебил его Лисицын. – Саша, у меня человечек есть, оченно мне обязанный. Я его сыночка-наркоманчика летом из горящего «Мерса» спас. В кадровой службе МЧС тот человечек работает. Так что не вижу проблемы!
Хабаров усмехнулся пренебрежительно, холодно.
– Игорек, в этой стране важно только то, что ты был за решеткой. Нюансы никого не интересуют!
Наступившую паузу можно было погладить по колючей спинке.
– Позвонок, – с чувством сожаления произнес Олег Скворцов, – без тебя команды не будет…
Шло время. Снова была трепетно-багряная осень, потом сменившая ее снежная, не в пример предыдущим, зима.
Декабрь стыло хмурился. Колючий, пронизывающий ветер пригоршнями швырял в лица прохожих клочья поземки, клубился во дворах и переходах, брошенным щенком скулил в подворотнях и стучал, ломился в окна, как запоздалый путник.
– Зябко тебе, Мусенька, зябко, милая, – Василиса Семеновна с любовью посмотрела на пушистую белую кошку, свернувшуюся клубком у батареи отопления. – Ей-ей, заморозят нас, треклятые! Вишь, стужа-то какая, а тепла в доме нету.
Кутаясь в старый шерстяной платок, старушка по-хозяйски оглядела накрытый для приема гостей стол.
– Угораздило нашего деда в такую стужу помереть. Помню, вьюга, холодища… Восемь лет уж прошло, а как вчера. Ой! – встрепенулась она. – Что ж я, окаянная, свининки-то с чесночком не поставила? Под водочку первая закусь! Как в войну-то, бывало, свининки хотелось…
Василиса Семеновна поспешила к балкону.
– Мусенька, на диванчик иди. Дверь на балкон открою, холоду напущу, – она подхватила кошку на руки. – Поторопись, рохля! Гости сейчас придут. Разлеглась!
Приговаривая что-то про стужу, про своего помершего деда, про ожидаемых гостей, Василиса Семеновна вышла на балкон.
– О-на, холодища! Матерь Божья!
Она плотно прикрыла за собой балконную дверь.
Пошуровав в коробке из-под телевизора, с заветным свертком в руках Василиса Семеновна направилась назад, к домашнему теплу.
– Ой, господи! Матушки мои! Не зря с утра правый глаз чесался…
Беспомощно суетясь, старушка дергала, крутила дверную ручку-полуавтомат. Ручка поддавалась, вращаясь без усилий, однако никак не действовала на ригель замка.
По квартире разлилась трель дверного звонка. Кошка бодро спрыгнула с дивана и засеменила к двери, но, увидев, что хозяйка к двери не идет, вернулась к балкону, прыгнула на окно и замяукала.
– Ах ты, господи! Стучи, бабка Василиса! Стучи! – подбадривая себя, приговаривала старушка, барабаня пухленьким кулачком в стекло.
Кошка спрыгнула с подоконника, снова засеменила к входной двери и в ответ на очередной звонок жалобно замяукала, царапая обивку-дерматин.
– Горе-то какое… Матерь Божья! Стекло б разбить, да толстая я, все одно, не влезу. Помру тут… Замерзну… – она заплакала, слезы ледяными ручейками лились по щекам.
Прихватило сердце. Василиса Семеновна без сил опустилась на пол у балконной двери, прижимая бесполезный сверток со свининой к груди. Она жадно хватанула ртом воздух.
– Мусенька, лекарство там… Лекарство… – едва слышно прошептала она. – Спаси…
В комнате отдыха районного подразделения «Центроспаса» было тепло и уютно. Орлов и Лавриков играли в шахматы. Олег Скворцов с аппетитом дожевывал приготовленный женой бутерброд.
– Мужики, шеф график уже составлял? Кто в Новый год дежурить будет? – спросил он.
– Так у нас Казанова – самовыдвиженец! – лукаво прищурясь, откликнулся Володя Орлов. – Не далее как вчера на рыбалке божился, что нет счастья в личной жизни, так в работе будет его искать. Вам шах и мат, Евгений! – заключил он.
Лавриков с шумом сгреб шахматные фигурки в деревянный футляр.
– Я вот думаю, почему одним – все, а другим – черствый хлеб с подсолнечным маслом?
– О! Казанову на философию потянуло.
– Это не философия, Олежек. Это жизнь. Вот ты у нас ни дня не можешь прожить без снеди, заботливо приготовленной женской рукой. Людка твоя по этой части, прямо скажу, – никакого ресторана не надо! Но, вероятно, ради социальной справедливости, ибо каждой твари должно быть по паре, есть и другие. А эти «другие» только во сне видят добротный, сытный супер-бутерброд, приготовленный заботливой женой. Как раз один из тех, что ты, Олежек, сейчас так по-свински зажевал. Ужины с обедами, правда, снятся реже. Для таких вот измордованных жизнью бедняг существуют праздничные новогодние столы. Заранее заполучив халявное приглашение, бедняги весь год ждут их, стремятся к ним. Лишить их этого наслаждения все равно, что лишить умирающего от жажды в раскаленной пустыне глотка воды! Олежек, скажи, ты хочешь, чтобы я помер от жажды?
– Я хочу, чтобы ты не захлебнулся в водах той полноводной реки, которую именуют женским вниманием. Ибо сказано в Писании …
Дверь с шумом распахнулась, и возникший на пороге Игорь Лисицын оповестил:
– Хорош трепаться! По коням!
«Четвертая бригада, на выезд! Валюшкин переулок, 14. Заклинило металлическую дверь в квартиру. Двенадцатый этаж, – искаженный динамиком женский голос был резкий, диктующий. – Милиция и скорая на месте».
Дорога заняла минут семь.
– Осточертела эта мелочевка. Ну сколько можно?! – возмутился Володя Орлов.
Он последним из команды боком протискивался в тесные створки лифта «спальной» высотки.
– Сколько нужно, столько и можно, – спокойно ответил Малыш, изо всех сил стараясь уменьшиться в габаритах. – На мой вкус, чем пустяковее вызов, тем лучше!
– Тебе бы, лосю, только спать. И так едва в лифте умещаешься.
– Я бы, Вовчик, тебя попросил! Насчет лося. А в остальном… Балда! Там же люди! Чем меньше пострадавших, чем меньше причиненный им вред, тем им же лучше. Люди ведь, а не абстрактная ситуация!
– Ты смотри, какие слова знает! «Абстрактная ситуация»… – Лавриков ткнул Орлова локтем в бок.
– Он у нас вообще парень начитанный. Его на хромой-то кобыле… Пардон, лошади…
На площадке двенадцатого этажа их ждали соседи, участковый, бригада скорой. Какие-то причитающие люди метнулись навстречу.
– Приветствую! – Малыш пожал руку участковому. – Чего тут у вас?
– Позвольте я. Позвольте мне. Я все расскажу. Вы тут главный?
Худенькая седая дама в черной кроличьей шубке с букетом чайных роз в руках решительно направилась к Игорю Лисицыну.
– Анна Семеновна! – застонал участковый. – Сохраняйте спокойствие. Я сам все объясню!
– Помилуйте, голубчик, ваши способности я уже видела. У меня вся надежда на этих молодых людей.
– Мама, успокойся. Все будет хорошо.
– Ничего не будет хорошо. Оставьте меня! – сердито крикнула Анна Семеновна. – Молодые люди, – обратилась она к спасателям. – Эту дверь нужно взломать. Моя сестра внутри. Сегодня день памяти ее мужа. Она пригласила нас в гости. Мы пришли, – она указала на стоявших за ее спиной людей. – Но нам никто не открывает. Только слышно, как кошка мяукает. Кошка никогда звука не проронит. А тут – кричит! Умоляю вас, ломайте дверь!
– Анна Семеновна, – вновь встрял участковый, – без слез, пожалуйста. Сейчас все будет хорошо. Сейчас дверь откроем, – и, уже спасателям: – Ну, чего встали-то? Где сварка у вас? Давайте режьте!
– Разбежались! – проворчал Лавриков. – Малыш, ломик дай!
– Коробку хочешь выбить?
– Поучаствуешь?
Вдвоем в считанные секунды они покрошили штукатурку по периметру дверной коробки, потом ломиками ловко поддели сам деревянный с металлической обгонкой каркас и вместе с накрепко запертой дверью уложили сооружение на пол лестничной площадки.
– Металлические двери у нас делать научились, а вот прочно их устанавливать, слава богу, пока что нет, – прокомментировал Лавриков.
Стряхнув крошки штукатурки с одежды, он первым вошел в квартиру. За ним последовали Лисицын, Скворцов и Орлов.
– Вот те на! – присвистнул Орлов. – Бабулька-то ваша где? Ничего себе вызов! Она, может, за поллитрой в магазин побежала под такую-то закусь, – Орлов с вожделением оглядел стол. – А мы тут, трах-тарарах устроили. В любом случае, нам здесь больше делать нечего.
Подхватив свой ранец, он направился на лестничную площадку.
– Орлов! – окрикнул его Лавриков. – Команды «Отбой!» я не давал.
– Только не надо мне указывать, что делать! Даже если ты сегодня вместо Хабарова! – Орлов был явно недоволен замечанием, но вернулся. – Дверь мы выломали. Дальше пусть доблестная милиция разбирается! Мы что, теперь старушку будем искать?
Он безрезультатно подергал за ручку дверь на балкон и безучастно развалился в кресле. Лавриков красноречиво глянул на него и кинулся к ранцу.
Визг металла о металл, еще секунда, и язычок ригеля был спилен. Лавриков рванул дверь на себя.
– Врачей сюда! Быстро!
Вдвоем с Лисицыным они внесли в дом Василису Семеновну, бережно уложили на диван. Лавриков проверил ее пульс.
– Жива, – кивнул он. – Все, ребята. Теперь пусть врачи занимаются.
Взволнованные родственники окружили пришедшую в себя Василису Семеновну, возле которой хлопотали врачи. Участковый шумно хвалил мужественную старушку. Кошка ласково терлась о ноги хозяйки и громко мурлыкала.
Уже на лестнице (в лифте решили не ехать) Олег Скворцов произнес:
– Позвонки, это 1587-й.
Тысяча пятьсот восемьдесят седьмой раз им не сказали спасибо.
– Диспетчер, я – «Четвертая». Работу окончил. Валюшкин переулок, четырнадцать. Извлекли бабушку с балкона. Замок-полуавтомат заклинило. Пострадавшая жива. На месте работают врачи скорой. Ждем дальнейших указаний, – передал по рации Лавриков.
Щелчок, шорох помех, напряженное: «Четвертая»! Пострадавший – ребенок. Руку в деревообрабатывающем станке зажало. Езжайте на пилораму на выезде из Рождествено в сторону Путилково. Справа от дороги. Скорая на месте, но они не могут ничего сделать. Вы ближе всех. Поторопитесь! Как поняли? Прием».
– Я – «Четвертая». Принято. Сева, слышал? Давай на Пятницкое! – сказал Лавриков водителю Севе Гордееву. – Ну, что? – он обвел всех внимательным взглядом. – Кому надоела мелочевка и хотелось жизни «с картинками»?
Место происшествия нашли сразу. Люди, завидев микроавтобус с броской надписью на боку «Центроспас», призывно махали руками, указывая путь, а потом что есть мочи бежали следом.
– Скорее! Женька внутри! – юркий пацан лет двенадцати, с бледным лицом и блестящими от испуга глазами выбежал из здания пилорамы навстречу спасателям и тут же снова исчез в полумраке деревянного, продуваемого всеми ветрами сарая.
Народ, собравшийся у входа, торопливо расступился, пропуская спасателей.
Чей-то женский голос надрывно запричитал. Какая-то старуха съязвила:
– Пока вас дождешься, десять раз помереть можно!
Деревообрабатывающий станок – массивное прямоугольное сооружение – возвышался в центре. Возле него топталось человек пять. Взрослые люди, чувствуя свою беспомощность перед страданиями ребенка, были злыми и нервными. Первым к спасателям метнулся молодой восточного типа мужчина с заплаканным покрасневшим лицом.
– Помогите! Скорее! Это сын! Мой сын! Все, что хотите, отдам: дом отдам, деньги отдам, жену отдам! Только помогите! Спасите сына!
Мальчик стоял, склонившись над станком. Его левая рука вместе с окровавленной доской до запястья была зажата между направляющим и прижимным валом. Ребенок был апатичным и усталым. Совсем юная девушка-фельдшер пережимала ему артерию у плеча. Ее пальцы побелели, устали от напряжения и долгой фиксации. Бегло осмотрев ребенка, Лавриков сказал фельдшеру:
– Отпустите. Это бесполезно.
– Но кровопотеря…
– У него спазм сосудов. Сейчас жгут наложу. Отпустите.
Лавриков укутал ребенка в принесенное шерстяное одеяло и в считанные секунды наложил кровоостанавливающий жгут, прикрепив к нему записку с указанием времени и даты наложения, своей фамилии и должности спасателя.
– Сколько времени прошло? – спросил Лавриков у фельдшера скорой.
– Минут тридцать.
– Работаем! – жестко скомандовал он ребятам. – У нас не больше десяти минут!
Каждый из них знал, что дорога каждая секунда. Ребенок был в состоянии травматического шока. Есть у организма такая защитная реакция, когда не ощущается боль, когда, в общем-то, человеку все равно, что будет с ним дальше. Это как реакция на болевое воздействие за пределами болевого порога. И все бы ничего, но в результате травматического шока страдают почки, печень, ткани головного мозга, может остановиться сердце. К этому надо прибавить потерю крови, к которой детский организм приспосабливается много хуже взрослого, и то, что при обширной и длительной кровопотере развивается анемия. Так что с момента травмы и до госпитализации должно пройти не более часа. Иначе…
Спасатели принялись осматривать станок. Нужно было найти способ быстро и безболезненно освободить из тисков металла руку ребенка.
Лавриков улыбнулся мальчишке.
– Тебя как звать-то?
– Женя, – тихо сказал тот и внимательно посмотрел на большого сильного мужчину.
– Тезка, значит! – откликнулся Лавриков. – Не отходи от него, – сказал он фельдшеру и пошел к спасателям.
– Дядя Женя! – окрикнул его ребенок. – Вы мне скорее руку отрежьте, а то мама все время плачет. Я вырываться не буду. Я потерплю.
– Никто тебе руку резать не будет. Я не дам. Успокойся. Мы сейчас ее тихонечко вытащим, доктор ее перебинтует, и домой с мамой и папой поедешь.
Мальчишка кивнул.
– Сева, разжим, двухдисковую пилу по металлу, болторез и свет. Живо!
Гордеев кивнул и побежал к машине.
– Дядя Женя, только не арестовывайте моего отца. Пока папа дома обедал, я ему помочь хотел. Не арестовывайте, пожалуйста!
– Мы же спасатели. Мы только спасаем. «Четвертая», что вы ползаете вокруг этого станка, как сонные черепахи?! Что мы имеем? – повысил голос Лавриков.
При виде зажатой станком руки ребенка саднило все внутри.
– Я мыслю так, – начал Володя Орлов. – Используем гидравлический разжим. Снимаем кожух, снимаем барабан прижимного вала, разжимаем колодки и – порядок.
– Может, сразу барабан отожмем? – неуверенно предложил Олег Скворцов.
– Эта махина крутанется. Не удержим, – убежденно возразил Лавриков.
– Согласен, – поддержал его Игорь Лисицын.
Спустя пару минут, ловко управляясь с шуруповертами, Орлов и Лавриков уже выворачивали шурупы, крепившие защитный кожух станка. Лисицын приводил в рабочее состояние гидравлику. Скворцов ставил диски по металлу на только что вошедшую в спасательский арсенал двухдисковую пилу, резавшую металл без искр и вибрации.
– Не могу справиться. Болторезом давай! – Орлов нервно глянул на Лаврикова.
Тот ловким, плавным движением, точно все было сделано из сливочного масла, срезал ржавый болт, намертво сросшийся с гайкой.
Они сняли металлический кожух. Скворцов, как самый маленький и худенький из всех, юркнул вниз, в образовавшийся лаз, к крепежам стоек барабана прижимного вала.
– Посветите! – попросил он и тут же вскрикнул: – Мать твою! Ампутация кисти! Пакет давайте!
В электрическом свете двух фонарей Скворцов отчетливо видел, что натворила бездушная силища деревообрабатывающего станка с хрупкой детской ручонкой.
Превозмогая тошноту, накатившую при виде отрезанной детской кисти, крови и торчащей из-под прижимного барабана изувеченной плоти, он как можно тщательнее упаковал кисть в полиэтиленовый пакет и подал Лаврикову. Тот вставил этот пакет в другой, на треть наполненный снегом, и передал фельдшеру скорой.
– Гордеев, свяжись с диспетчером. Нам нужен вертолет, – сказал он. – Парню в поселковой больнице нечего делать, а до Москвы не довезем. Пробки.
– Вы только гляньте, что сделали эти местные «кулибины»! – выбираясь на поверхность, сказал Скворцов. – Вал опускается вниз и включается поперечная пила. Автоматизация, мать ее! За это сажать надо!
Скворцов сел на уложенные в штабель доски, дрожащими руками стал стирать с комбинезона кровь.
– Олег, что со стойками?
– Стойки резать надо. Там ржавое все.
Визг пилы по податливому, точно пластилин, металлу.
– Осторожно, осторожно, мужики! Разжим сюда. Малыш, быстрее!
Лисицын приладил губки разжима между колодок.
– Аккуратней, Игорек! Орлов! Володя, помоги ему!
– Сейчас… Почти готово.
Наконец, удалось освободить руку ребенка.
Увидев, что стало с рукой, мальчишка пошатнулся, застонал.
– Быстро в машину его! – приказал Лавриков. – Носилки. Живо!
– Я еще повязку не наложила! – остановила фельдшер.
– В машине. Все в машине! Я сказал бегом! – рявкнул Лавриков.
Спасатели подхватили носилки с ребенком и побежали к скорой.
– Мужики, вертолета не будет, – оповестил Сева Гордеев, только что закончивший переговоры по рации.
– Б…! – выругался Лисицын, глядя вслед удалявшейся машине «03». – Сейчас оттяпают парню полруки в местной больнице.
Но все оказалось намного хуже. В больницу мальчишку просто не приняли.
На выезде из поселка микроавтобус «Центроспаса» едва не столкнулся с серой буханкой скорой, бесшабашно выскочившей на перекресток. Остановились. Лавриков выскочил из автобуса.
– Что?! – крикнул он.
– В город надо. Здесь не берут! – сказал водитель.
– Почему?
– По кочану! – рявкнул водитель. – Специалиста нет! Спасибо, хирурга в сопровождение дали!
– Следуй за нами!
Гордеев включил мигалки и резво тронулся с места. Лавриков связался с диспетчером, доложил ситуацию и еще раз настойчиво потребовал вертолет, так как в противном случае – на это он сделал особый упор – шансов у ребенка мало. Диспетчер ничем их не обнадежила, приказала ждать на связи.
– Сева, переключи меня на милицейскую частоту. Будем просить помощи у ДПС.
– Черт-те что! – сплюнул Скворцов, безуспешно пытавшийся оттереть кровь с комбинезона. – Как я люблю наш бардак, самый лучший бардак в мире!
– Внимание! Водителям всех машин освободить крайнюю левую полосу. Везем тяжелораненого ребенка! – голосом Севы Гордеева вещали внешние динамики. – Водителям всех машин немедленно освободить крайнюю левую полосу! Пропустить автомобиль «Центроспаса» и идущую следом скорую!
Но, как и следовало ожидать, водители уступать дорогу не хотели, и Сева лавировал, как мог, то и дело включая «ревун» и оттирая несговорчивых в средний ряд.
«Уступите дорогу! Везем тяжелораненого ребенка! Водители, освободите крайний левый ряд!»
– Да, что ж, вы, м…даки, оглохли, что-ли?! – в сердцах сказал Володя Орлов. – Мы так год до города добираться будем!
Переговоры с милицией заняли минут пять. Лаврикова внимательно выслушали, обещали помощь, но отослали к вышестоящему начальству, с которым долго соединяли, после чего Лавриков объяснял все снова. Ему обещали «порешать» в ближайшее время. А у них, вернее у мальчонки, что везли следом в скорой, этого времени не было. Под конец Лавриков не выдержал и, наорав на милицейского чинушу, пообещал устроить ему неприятности по службе за безразличие к людскому горю и нежелание выполнять служебный долг.
– Ну-ка, Сева, перестройся. Тормози у поста!
Микроавтобус «Центроспаса» и скорая взвизгнули тормозами у поста ДПС.
Переговоры с инспектором были короткими. Лаврикова он выслушал, но в сопровождении отказал.
– Я один на посту. Пост оставить не имею права, – пояснил старший лейтенант, плотный крепыш лет тридцати. – Сейчас напарник подъедет. Он до «Макдоналдса» метнулся. Подождите минут десять.
– Да нет у него этих десяти минут! Нету! Понимаешь?! – заорал Лавриков. – Идем. Иди сюда, говорю!
За рукав он подтащил ДПСника к скорой и распахнул дверцу.
– Смотри, вот это – контейнер с отрезанной кистью, а вот это истекающий кровью ребенок. Видишь?! – он с шумом захлопнул дверцу скорой, схватил милиционера за грудки, тряхнул и охрипшим от напряжения голосом сказал: – Старлей, у тебя дети есть? Чего мы с тобой стоим, если помочь им не можем? А может, не хотим?! Зачем тогда вся эта мишура: твои погоны, автомат, мои спасатели?
– Руки! – жестко глядя в глаза Лаврикову, произнес инспектор ДПС. – Самое большое, что я могу для тебя сделать, это не уложить тебя мордой в снег за нападение на сотрудника. Ты понял, придурок? Проваливай!
Лавриков отпихнул ДПСника.
– Ну вы и суки!
Поехали дальше.
– Сейчас пробки начнутся, – сказал Гордеев.
Лавриков глянул на часы.
– Диспетчер, это «четвертая»! Что с вертолетом? У нас ребенок умирает.
– «Четвертая», я – диспетчер. Доставляйте в ближайшую клинику. Вертолета не будет. Женя, ну что я сделаю?! – нервно выкрикнула диспетчер Валя. – Вертолет на Рублёвке! Эвакуирует пострадавших после ДТП».
Это был приговор. Спасатели переглянулись.
– Опять Рублёвка…
– Ага! Как в прошлый раз. Полетят царапины зеленкой мазать.
– Свяжись со скорой, – приказал Лавриков.
В динамике щелкнуло, прошуршало, и нервный, почти грубый голос врача известил: «Теряет сознание. Нужна кровь!»
– Какая группа?
«Вторая, отрицательный. Она очень редкая».
– Сева, тормози. Свяжи меня с первой бригадой.
Лавриков пошел к скорой.
– Куда это он? – Гордеев обернулся к притихшим ребятам.
– Вторая у него. Резус отрицательный. Поехали, – хмуро ответил Орлов.
Места, чтобы прилечь, в скорой не было, и Лавриков примостился прямо на холодном полу, полусидя, полулежа, пристроив руку на узеньком сиденье рядом. Скоро начала легонько кружиться голова, стало подташнивать. Он закрыл глаза.
– Гребаная нищета! – не выдержал, выругался врач. – Не могут районную больницу оснастить, так хотя бы вертолет на подхвате бы держали. Чиновники в казино за ночь просаживают аккурат цену вертолета! Их бы из хоромов, белоснежных, сюда, на ледяной пол буханки…
Щелкнула, прошуршала прикрепленная к нагрудному карману куртки рация:
– Женя, «Первая» на связи.
Лавриков взял рацию, поднес поближе к губам.
– Четвертая бригада. Женя Лавриков. Кто на связи?
Снова шорох помех и искаженный эфиром голос:
– Андрей Маховиков. Женя, что случилось?
– Андрей, вы на Рублевке работаете. Мы у Волоколамки. Везем ребенка. Травматическая ампутация кисти. Нужен вертолет. Вертолет у вас.
«Женя у нас, как всегда. Сам понимаешь! С самого верху на мозги давят!»
– Андрюха, мальчонка не дотянет. Сплошные пробки. Просили помощи у ДПСников, но нам отказали.
Возникла пауза.
«Жень, отымеют меня…» – сказал Маховиков.
– Андрей…
Лавриков хотел сказать что-то еще, но вдруг перед глазами все стало ослепительно белым, в ушах зашелестели колокольчики, тело заскользило в бездонную блестящую пропасть.
«Четвертая»! Женя! Прием! Женя, ты где? На связь!» – доносилось из рации.
Врач сунул под нос Лаврикову нашатырь и взял рацию в руки.
– Что вы орете?! Сознание потерял ваш коллега! Мы у него крови взяли для ребенка недопустимо много. Вот если бы все вы такими были, как этот мужик…
Вертолет приземлился в поле у дороги. Вертолетные площадки были пока только в проекте. Утопая по колено в снегу, Володя Орлов и Игорь Лисицын отнесли ребенка в вертолет.
Вернувшись в отряд, они пили горячий чай с бутербродами.
– Какой же бардак у нас в стране! – излишне эмоционально сказал Скворцов.
– Мужики, анекдот. По радио передают сигналы точного времени: «В Москве двенадцать часов, в Волгограде – тринадцать, в Томске – четырнадцать…» Ну и бардак в стране!
Лисицын прыснул от смеха.
– Малыш, тихо ты! Женьку разбудишь.
Лавриков спал на своем лежаке, привалившись спиной к батарее. От госпитализации он отказался, а приехав «домой», съел прикупленный в соседней харчевне шашлык, запил его красным вином и уснул.
Дежурство подходило к концу. Близилось утро.
– «Четвертая», на выезд! – неожиданно громко объявил динамик. – Необходимо извлечь из канализационного люка собаку. Рядом, в двух кварталах. Перекресток Охотничьего и Коломенского переулков.
Орлов потянулся, зевнул.
– Что ж им не спится-то? Только прилечь хотел…
– Валь, ветслужба уже не справляется? – крикнул Олег Скворцов диспетчеру. – Обязательно нас дергать?
Он с видимой неохотой залезал в испачканный на предыдущем выезде комбинезон.
– А у них там жуткий клинический случай! – хохотнул великан Игорь Лисицын.
– Шевелитесь! Норматив соблюдайте… – с упоением зевая и потирая ладонями глаза, произнес Лавриков.
– О! Позвонки, гляньте! Женечка воскрес.
Лавриков поежился от холодного озноба, застегнул комбинезон.
– Ну-ка, худой, начисли мне кофейку граммов сто пятьдесят.
Лисицын послушно подал ему кофе. Лавриков сел, отхлебнул ароматной жидкости и обвел всех усталым, сонным взглядом.
– Спал бы ты, позвонок, – сказал ему Орлов. – Мы и без тебя собачку вытащим.
– Это вряд ли! – усмехнулся тот.
Сделав еще глоток, Лавриков отставил чашку и резко поднялся. Он подхватил куртку и направился к машине.
Морозный спрессованный воздух штурмом ворвался в легкие. Лавриков остановился, пошатнулся. Скворцов подхватил его под руку.
– Женька, иди ляг. Без тебя управимся!
– Нормально все. Сейчас пройдет.
– Сколько из тебя крови-то высосали?
– Не знаю. Не спросил.
Лавриков с видимым усилием забрался в кабину. Бравый маневр заставил его вспотеть. Он с удовольствием откинулся на мягкую спинку сиденья, небрежно махнул рукой.
– Погнали!
На перекрестке Охотничьего и Коломенского переулков, у открытого люка, мерзла девушка. Она нетерпеливо притопывала стройными ножками. Короткий полушубок ее вряд ли согревал. Увидев спасателей, она опустилась на колени у люка и что-то бойко стала говорить в темень колодца.
– Хорошенькая… – констатировал Сева Гордеев, аккуратно паркуясь у обочины.
– Мадам, что же вам не спится-то в столь ранний час? – осведомился Орлов.
Он присел на корточки рядом с девушкой, фонариком посветил внутрь колодца.
На дне блеснули два бирюзовых огонька. Орлов не сразу понял, что это собачьи глаза. Лишь присмотревшись, он разглядел щенка черного королевского пуделя. Щенок сидел на трубах, возвышавшихся сантиметров на двадцать над водой.
– Достаньте его, пожалуйста, – обратилась девушка к Орлову. – Вот, возьмите.
Она протянула ему две стодолларовые банкноты.
– Мадам, откуда в вас столько пошлости? – произнес Орлов, но деньги взял.
Скворцов подал Орлову аркан.
– Зачем это? – живо спросила хозяйка собаки, с подозрением разглядывая петлеобразную снасть.
– Сейчас на голову ему накинем и вытащим, – объяснил Орлов, спуская приспособление в канализационный колодец.
– Стойте! Вы искалечите его! – закричала хозяйка пуделя. – Просто спуститесь вниз и вытащите!
– Может, вы, мадам, поучите меня? – съязвил Орлов, не оставляя затеи.
Девушка вырвала из его рук аркан, отбросила, поднялась с колен, спросила:
– Кто у вас главный?
Спасатели переглянулись, едва сдерживая улыбки.
– Я задала вопрос! – сердито повторила «мадам».
– Ну, я главный, – донесся из кабины безразличный голос Лаврикова.
Все это время он безучастно дремал в кабине.
– Заставьте, наконец, работать ваших людей! – девушка направилась к нему. – Пусть спустятся и достанут несчастное животное, или я буду жаловаться на вас! – она повысила голос. – Я налоги на ваше содержание плачу и могу рассчитывать на помощь! А когда три бестолковых идиота полчаса толкутся возле люка и еще двое сидят в машине, не изволив поднять задницы, я чувствую себя просто… – она запнулась. – Женя?!
Лавриков повернулся. Она стояла рядом, высокая, бледная, с иконописным лицом и большими, настороженно распахнутыми глазами.
– Здравствуй, Тома.
– Здравствуй…
Какое-то время они молча смотрели друг на друга.
– Володя, Игорь, опустите в люк Олега Скворцова. Да и поедем.
– Опять я! Что ж за наказание такое! – простонал Скворцов.
– Ты у нас самый маленький. Терпи. Не Малышу же лезть… – приговаривал Орлов, пристегивая карабин страховочного троса к поясу Скворцова. – А то для спасения нашего Малыша придется вызывать еще бригаду спасателей.
Убедившись, что Скворцов спускается в люк, Лавриков сказал:
– Пара минут. Потерпи.
– Спасибо! – она потупилась, излишне тщательно поправила шарф. – Как ты?
– Нормально.
– Женат?
– Позвонки, что вы возитесь, как три беременных бегемота?! – крикнул он ребятам.
Тут же над чернотой колодца возникла голова Скворцова, потом он сам.
– Девушка, получите и распишитесь!
Скворцов отпустил на снег перепуганную суматохой псину.
Щенок мгновение повертелся возле спасателей, а потом засеменил к хозяйке.
– Ты мой хороший! – Тома подхватила его на руки. – Ты мой бесценный!
– Делов-то… – подытожил Лавриков.
По рации он доложил:
– Диспетчер, я – «Четвертая». Работу закончил.
Искаженный помехами голос диспетчера произнес:
– Следуйте домой.
– Значит, ты теперь в «Центроспасе» работаешь… – то ли спросила, то ли констатировала Тома, бережно прижимая псину к груди.
– Орлы, чего копаемся? – крикнул он укладывавшим снаряжение позвонкам.
– Злишься на меня?
– Жень, можно ехать! – крикнул Лисицын.
– За собачкой присматривайте, дамочка. И вообще, будьте осторожны… – Лавриков хлопнул дверью. – Давай, Сева, трогай. Трогай, родной!
Микроавтобус лениво покатил на базу. Через семнадцать минут их дежурство заканчивалось.
– Жень, а кто это была, с собачкой? – спросил Скворцов по дороге домой.
– Не знаю… – нехотя произнес тот.
– То есть?
– Раньше знал. Был просто уверен, что знаю. А сейчас… Разве что легкий неприятный привкус.
Микроавтобус увозил их в умытое первыми солнечными лучами утро. Заснеженная субботняя Москва едва просыпалась. Первые прохожие спешили за покупками к наступающим новогодним праздникам, до которых оставалось два воробьиных шажка.
– Люда, как можно! При детях…
Олег Скворцов в голубой майке и семейных трусах сидел за столом и без всякого аппетита ковырял ложкой овсянку.
– «При детях»! – передразнила его жена. – Отец!
В стареньком ситцевом халате, с ярко-оранжевыми бигуди в волосах Людмила металась по кухне.
– Ты всю жизнь за моей широкой спиной сидишь. Я и баба, и мужик в доме! Гвоздь забить – Людмила! Кран починить – Людмила! В кооператив вступить – Людмила! Гараж выбить – Людмила! Дочку в школу пристроить – Людмила! Ремонт – Людмила! Родителей твоих в больнице навещать – Людмила! В каждую дырку, в каждую щелку, в каждую бочку затычка твоя Людмила! Ты без меня шагу ступить не можешь. У него, видите ли, работа! Работа вчера, позавчера, десять лет назад. Работа завтра, послезавтра. Каждый день! У тебя работа всегда, когда ты нужен дома, когда ты нужен семье. Нет, вы только подумайте! На собственного племянника ему наплевать! У тебя у самого сын растет!
– Люда, перестань!
– Что?! «Перестань»? А ты телевизор смотрел? Ты видел, что в Чечне делается? Олег, ты хочешь, чтобы сын моей сестры вот там, в этой Чечне, сгинул?! Ты гроб оттуда хочешь получить?
Людмила не выдержала, всхлипнула, потом еще и еще.
– Бессердечный ты, Олеженька. Без души. Племянника, единственного, от армии отмазать не можешь. Ты вообще ничего не можешь! Только кровь из меня сосать можешь! Всю выпил уже… Одна белая осталась…
– Мамочка, не плачь, – дочь обняла ее за плечи. – Папа что-нибудь придумает.
– Ага, придумает он…
Людмила громко высморкалась в висевший на ручке газовой плиты фартук, размазала ладошкой слезы по щекам.
– Придумает он. Как же! Ведь и не надо ничего больше: сходи к бывшему дружку своему Виктору Чаеву и попроси. Они же с военкомом нашим соседи. Вместе и на рыбалку, и на охоту, и в баню, и по бабам… Сколько ты Чаева выручал, сколько работали вместе… Гордый он! Брать у моей сестры деньги, когда без работы сидел, мы можем, а сына ее от армии отмазать – не можем! Через гордость свою, поганую, мы переступить не можем!
– Люда! Люда, что ты говоришь?! Ты послушай себя! – Скворцов решительно отодвинул тарелку. – Не хочу я этой гадости. Просил же, мне овсянку не вари. Не люблю я ее.
– Ты только себя любишь! – опять зарыдала Людмила. – Я сама к Чаеву пойду. Я не гордая. Я попрошу…
– Ну, что ты говоришь?! Ты соображаешь, что ты говоришь? Я запрещаю тебе даже думать об этом! Поняла?
– Он мне запрещает! – Людмила всплеснула руками. – Да я на коленях стоять буду! Я ему руки целовать буду! Ты слышишь? Только бы он помог! У меня опыт есть. Я помню, как на коленях перед сестрой стояла, денег просила, когда мы с голоду подыхали, когда ты от Чаева ушел.
– Ну, вот что, предки! Вы орите тут, а я пошел, – Скворцов-младший рывком поднялся из-за стола.
– Иди-иди… – крикнула ему вслед Людмила. – Второй папочка!
– Утро начинается…
– Денис, в институт опоздаешь!
– Нам ко второй паре.
– Устал я от твоего визга, Людка. Тоже пойду. Дежурство сегодня тяжелое было. Разбуди меня часа в два. Ты помнишь, что мы к пяти на дачу к Женьке Лаврикову приглашены?
– Нет, ты не уйдешь! – Людмила преградила ему дорогу. – Пообещай мне, что…
– Нет! Хватит об этом.
Он отстранил Людмилу, дошел до двери, обернулся.
– Узнаю, что ты ходила, жить пойдешь к сестре. Ясно?
Шлепая стоптанными тапочками по стертым плешинам линолеума, Скворцов пошел в спальню. Вдруг он вернулся, с минуту постоял посреди кухни, точно вспоминая, зачем возвращался, внимательно посмотрел на жену и очень тихо, будто себе самому, сказал:
– Куда все делось, Люда? Ведь любовь была. Всего четверть века прошло… Куда за двадцать пять лет все делось-то?
Уже в темноте электричка подъехала к засыпанным снегом соснам Перетрясова. С минуту она постояла у перрона, а потом бодро ринулась в ночь, оставив на белом снегу кутающихся в воротники шуб и пальто людей, тоже заспешивших, но домой, к уютному дачному теплу.
К вечеру становилось метельнее. Ветер бросал клочья колючей поземки прямо в лицо, нападал одновременно со всех сторон, и не было никакой возможности от него защититься. Тропинку замело, от нее осталась едва различимая ложбинка, идти приходилось, утопая почти по колено.
– Одно утешает, на машине не поехали, – сказал Скворцов. – Ей-ей увязли бы еще на повороте с шоссе…
Свет на даче Лаврикова горел во всех окнах. Это был просторный двухэтажный деревянный дом, со множеством комнат, построенный в духе дачных домов интеллигентов-шестидесятников: скромненько, но со вкусом.
В комнатах было еще прохладно, и хозяин суетился у двух изразцовых печей.
– Женька! Гостей принимай! – с порога крикнул Скворцов.
Лавриков заспешил к ним.
– Рад вас видеть, ребята! Проходите. Людочка, все хорошеешь!
Он помог Скворцовой снять шубу и шапку и тщательно стряхнул с них снег.
– Обожаю твой парфюм, Женечка! – Людмила с удовольствием втянула носом запах и обняла Лаврикова. – Ну, здравствуй, дорогой. Давно не видела тебя.
– Как у вас все запущено… – усмехнулся Скворцов и, безразлично махнув рукой, исчез на кухне.
На плите аппетитно булькали кастрюли, по просторной кухне ползли соблазнительные мясные запахи. На столе блестели фольгой горлышки бутылок шампанского, искрился хрусталь бокалов, мерцала глубиной бриллиантов налитая в графин водочка, ее оттеняли спокойным чайным цветом коньяк и бренди. Стол-тумба у окна был завален разноцветными упаковками, свертками, зеленью. Поверх всего этого лежала огромная круглая шапка из чернобурки, отороченная тремя роскошными лисьими хвостами.
– Жень, сегодня подстрелил?
Скворцов, с бутылкой коньяка в одной руке и наполненной до краев рюмкой в другой, в лисьей шапке Лаврикова вышел в гостиную.
– Ой! Прелесть какая! – захлопала в ладоши Людмила.
– Мне идет? Держи, – Скворцов подал жене рюмку коньяка. – Выпей, согреешься. Жень, это ты один успеваешь? – он кивнул в сторону кухни. – Четыре индейки в духовке, четыре кастрюльки на плите…
Лавриков улыбнулся загадочно и принялся шевелить дрова в печи.
– Ты хитрую морду-то не делай, – посоветовал Скворцов.
– Ребята, – он виновато улыбнулся, – кажется, я пропал!
Он оглянулся на лестницу, что вела на второй этаж, и перешел на шепот.
– Сейчас я вас кое с кем познакомлю.
– Я так и понял, – безапелляционно подытожил Скворцов. – Казанова – он и в Африке – Казанова!
Людмила счастливо, точно это она «пропала», воскликнула:
– Ой, Женечка! Я так за тебя рада! Ты прямо весь светишься!
– Тьфу-тьфу-тьфу! Не сглазить! – Лавриков сплюнул и постучал по березовым поленьям.
– По голове себе постучи! – посоветовал Скворцов. – Когда ты их менять успеваешь?
Лавриков сердито погрозил ему кулаком.
– Женечка, это он от зависти.
– Ничуть! – отрезал Скворцов. – Я, Людка, с тобой почему жил? Потому что у меня шапки, такой распрекрасной, не было. Но теперь жизнь налаживается!
Людмила поиграла лисьими хвостами.
– Жень, а хвосты зачем?
– Один к одной щечке, другой к другой. Так и перезимуем.
– А третий?
– А это чтоб ты спрашивала! – хохотнул Скворцов.
– Добрый вечер! – стройная красавица грациозно, походкой королевы, спускалась по лестнице из покоев второго этажа.
Смуглое открытое лицо, чуть вздернутый носик, черные, бархатные глаза в обрамлении пушистых ресниц, длинные каштановые волосы, убранные в косу, уложенную улиткой на затылке, белая тонкой вязки кофточка, черные вельветовые облегающие брюки, минимум косметики, максимум обаяния…
– Знакомьтесь. Это Алина. А это – мои друзья: Олег, Людмила.
Красавица приветливо улыбнулась.
– Что ж, я свой вклад в общее дело внесла…
– И немалый! – подчеркнул Лавриков.
– Теперь ваша очередь…
– Тогда мы с Людмилой на кухню. Олег, ты, как единственный в шапке, отправляйся в сарай, принеси дров.
Оказавшись на кухне с Лавриковым, Людмила всплеснула руками:
– Женечка! Мы тебя теряем!
Промерзшая за три месяца дача прогревалась медленно. Печи были раскалены, местами кафель даже потрескивал, но настоящего тепла пока не было.
Скворцов подбросил поленьев в топки печей на обоих этажах и, дипломатично миновав «королеву», вернулся на кухню.
– Позвонков все нет. Ей-ей, блудят… Мы от электрички еле дошли. Тропинки совсем не видно. Замерзнут…
– Не маленькие. Найдут.
– А шеф?
Лавриков поморщился.
– Не знаю. Наш шеф теперь не тот. Работа – дом, дом – работа. По нему Валька-диспетчерша сохнет. Девочка что надо! Я ему как-то говорю, пригласи девочку куда-нибудь. А он: «Чтоб с глазами она васильковыми только мне – не кому-нибудь – и словами и чувствами новыми успокоила сердце и грудь»[32]? А потом оборачивается к Севе Гордееву и спокойно так говорит: «Сева, в выходные под землю махнем?»
– Диггеры[33] хреновы!
Мужчины воровато оглянулись на Людмилу, у открытой духовки поливавшую индеек их же жиром, и торопливо разлили по рюмкам коньяк.
– Ну, за шефа давай!
– Шли бы вы лучше стол накрывать, – рассудительно заметила Людмила. – Сейчас прибывает электричка, последняя.
Она вручила мужчинам скатерть, тарелки, вилки с ложками, приказала нести в гостиную на стол бутылки, бокалы, нарезать хлеб, овощи, вымыть зелень.
– Поторопитесь! – грозно добавила она. – Все уже почти готово.
Едва стол был накрыт, как во дворе раздались голоса, пронзительный женский смех, входная дверь хлопнула и на дачу ворвалась суматошная компания.
– Позвонки! Как так можно?! Целый час только вас ждем. С голоду помереть не долго. Одним коньячком и живы! – Лавриков, радушно раскинув руки, шел навстречу гостям.
Стряхивая снег с полушубков и шапок, галантно помогая дамам, Володя Орлов и Сева Гордеев наперебой, смеясь, рассказывали, как заблудились: сначала вышли из электрички на остановку раньше и дрогли на перроне, ожидая следующей, потом заблудились в самом Перетрясове. Плутая по колено в снегу, забрели на чью-то дачу, где их облаяла сначала пара овчарок, потом хозяин.
– Ай, позвонки! Ай, обормоты! – качал головой Лавриков. – Олежек, ты видел таких? Живо к столу!
– Елкой как здорово пахнет! Братцы, даже не верится, что вот-вот Новый год! – возбужденно, стараясь перекричать музыкальный центр, говорила Дина Гордеева.
– А давайте Новый год досрочно встретим! – предложил Володя Орлов.
– А старый – проводим! – поддержал идею Сева Гордеев.
– Нет, нет и нет. Рано! – возразил Женя Лавриков. – Наш первый тост будет не о том. Господа и дамы! Мы сегодня собрались не просто так, а по поводу. Выпьем за нас, за спасателей!
Компания одобрительно загудела.
– Ходят упорные слухи, что некоторые из здесь сидящих забыли, что указом Президента от двадцать шестого ноября тысяча девятьсот девяносто пятого года номер тысяча триста шесть установлен «День спасателя Российской Федерации» именно сегодня – двадцать седьмого декабря! Службе исполнилось семь лет. Я всех нас поздравляю! Дай нам бог работы поменьше, денег побольше и отсутствия поводов для героизма! Да простят меня дамы, выпьем за нас, мужики!
– Ура! Ура нашим мужчинам! – дамы поддержали, зааплодировали.
Потом выпили еще, закусили и еще…
– Мы сегодня отдыхаем! – пытаясь перекричать компанию, заявила Людмила Скворцова. – Женька, включи музыку погромче. Будем танцевать!
Лавриков увеличил громкость. Дом утонул в ритмах блюза. Верхний свет убрали. Гостиная загадочно погрузилась в мерцание огоньков на роскошной елке. У елки кружились пары, беззаботные, опьяненные праздником.
– Почему я вас раньше не встречал? – шептал на ухо Алине Володя Орлов. – Вы принадлежите к тому редкому типу женщин, которых, однажды увидев, не забудешь никогда.
Алина улыбнулась лукаво, интригующе, обняла Орлова за шею и склонила голову ему на плечо.
Тот страдальчески возвел глаза к небу.
– Мы будем танцевать так всю ночь… – заговорщически прошептал он.
Но «всю ночь» не вышло. Лавриков нахально забрал у Орлова даму и в серии изящных медленных па увлек в дальний угол безбрежной гостиной.
– Люда, ты не знаешь, кто это? Женька от нее просто не отходит, – внимательно следя за Лавриковым и Алиной, спросила Виктория Орлова.
– Вроде бы одноклассница его. Женя сказал, за одной партой сидели.
– Давно они вместе?
– Вика, я не знаю. Он молчит как партизан.
– Что это у вас за сепаратные переговоры?
Раскрасневшийся от выпитого, Олег Скворцов обнял женщин за плечи.
– Олежек, где Хабаров? Он приедет? – вместо ответа спросила Орлова.
– Не знаю, ваше прокурорское высочество. Никто не знает. Мобильный молчит.
– Я как-то в суде его видела. У него был такой взгляд… Как после тяжелой болезни, – Орлова выдержала паузу, закурила. – Вас всех пришибить, к чертовой матери, за веселье ваше! Друзья называется! И вообще… – Орлова обвела всех кокетливым взглядом. – Я, может, только из-за Саши сюда и приехала!
– Смотрите, смотрите, что делается! – Людмила Скворцова указала на Лаврикова и Алину.
– По-моему, у Казановы проблемы, – констатировал Скворцов, не без интереса наблюдая за тем, как Алина ловко ускользнула от поцелуя.
– А не выпить ли нам под горячее? – Лавриков сделал музыку потише и усадил Алину за стол. – Впереди ночь большая. И натанцуетесь, и напляшетесь. Дичь, господа! – объявил Лавриков. – Мужики, наливайте!
Веселье длилось. Из-за стола переместились на второй этаж, как точно подметил Сева Гордеев, в «музыкальную гостиную». Под аккомпанемент рояля пели песни. Лаврикова за игру хвалили, единодушно отмечая, что скрытых талантов у него куда больше и те таланты куда значительнее. Потом Володя Орлов взял на гитаре «три аккорда», пробежался по струнам. Гитару у него дружно отобрали, посетовав, что после Виктора Чаева, когда-то завсегдатая таких посиделок, видеть в чьих-то руках гитару просто оскорбительно.
Скворцов, изрядно захмелевший и раскрепощенный алкоголем, откровенно клеился к жене Гордеева. А Гордеев с Орловым подбили всех на «старинную русскую игру» под названием «бутылочка». Очень хотелось похохотать.
Посреди бесшабашного веселья Алина тихонько исчезла. Она спустилась на первый этаж, надела полушубок и вышла на крыльцо, осторожно прикрыв за собою дверь.
Ночь была морозной. Небо сверкало крупными празднично начищенными бриллиантами звезд.
«Ночь, звезды и млечный путь, уносящий время… Все, как тогда…» – Алина судорожно вздохнула, силясь не заплакать.
Дом утонул в бархате голоса Фрэнка Синатры. С застывшей печальной улыбкой Алина слушала историю о двух усталых путниках, случайно встретившихся на жизненном пути.
– Прости меня, Хаб… – она тряхнула головой, вытерла слезы. – Моя усталая соломенная собака… Где теперь ты?
Скрипнула входная дверь.
– Алина! Едва нашел тебя.
Лавриков запахнул на ней полушубок. Попытался поцеловать в щеку, но она уклонилась.
– Ты чего ушла?
– Я побуду здесь немного. Голова от выпитого кружится, – соврала она для убедительности.
– Ты устала. Весь день крутилась на кухне.
– Я сейчас… Иди в дом.
Она отстранила его, отвернулась. Ей не хотелось делить с ним эту ночь, эти звезды, этот млечный путь.
Где-то вдалеке, в лесу, урчала машина, очевидно, увязнув в снегу.
Алина оглянулась. Сквозь застекленные двери была хорошо видна ярко освещенная гостиная. Народ пристраивался к столу для очередных возлияний. Володя Орлов что-то шумно рассказывал, чем приводил в неописуемый восторг барышень. Время от времени они визжали и хлопали в ладоши.
«Зачем я здесь? – вдруг подумалось ей. – Я, как тот человек, что застрял с машиной в лесу. Вроде бы и люди рядом, а один. И никому до него нет никакого дела…»
Сама не зная зачем, повинуясь скорее порыву, чем разуму, Алина сбежала с крыльца, торопливо надела перчатки и, утопая в глубоком снегу по колено, пошла прочь от дома.
Она не чувствовала холода.
«Скорее! Скорее! Чтобы не догнал никто! Чтобы не вернули!»
Она шагала так быстро, как только могла.
Дачные домики кончились. Начался лес, темный и недобрый. На опушке Алина остановилась. Она оглянулась назад, отдышалась, потом упрямо двинулась по дороге вглубь леса.
В лесу снега было поменьше. Попадались совсем свободные от снега островки, где дорога была укатанной, твердой. Но больше все-таки было переметов – языков снега шириной метров пять и глубиной в метр или полтора. Такие снежные «крепости» приходилось брать штурмом.
Шум мотора становился все громче. Наконец между деревьев показался яркий свет фар. Теперь Алина шла на этот свет, как на свет маяка.
Проложенная по следам пьяного ямщика дорога петляла между деревьями.
Преодолев очередной глубокий сугроб, Алина остановилась и привалилась спиной к сосне. Нужно было отдышаться. Ее щеки горели, волосы растрепал ветер.
«Все равно дойду! Доползу! Мне бы только на шоссе…»
Хотелось пить. Она зачерпнула пригоршню снега и двинулась дальше. Сейчас Алина отчетливо видела, как внедорожник медленно, но упорно пробирается сквозь снежные заносы.
Когда между ними было метров пятнадцать, машина остановилась, хлопнула дверца, и в свете фар возникла мужская фигура. Несколько мгновений мужчина стоял неподвижно, точно свыкаясь с тем, что видит, потом пошел навстречу.
– Какого черта вы здесь бродите? – крикнул он хрипло.
Алина с трудом перевела зашедшееся дыхание. В бьющем в глаза электрическом свете рассмотреть незнакомца не было никакой возможности. Она стояла посреди занесенной снегом дороги, утонув по колено в снегу, и ждала, когда он подойдет.
Он шел к ней неправдоподобно долго.
В какой-то момент мужчина остановился, что-то пробормотал и кинулся к ней, точно одержимый.
– Ты почему здесь?! Что случилось? – его голос полоснул по сердцу.
– Соломенная собака… – она не нашлась сказать ничего больше.
Хабаров крепко обнял ее. Алина обессиленно ткнулась носом в его плечо.
Не замечая ни времени, ни дикой метели, они стояли обнявшись на заснеженной лесной дороге, среди засыпанных снегом сосен, под куполом черно-звездного неба.
Может, глупость говорят, что люди подобны островам?
Потом Хабаров отогревал ее в машине, укутав в овчинный полушубок, включив «климат-контроль» до предельного тепла. Он осторожно растирал ее зашедшиеся от мороза пальцы и заставлял пить горячий чай с коньяком.
Алина все время плакала. Никакие уговоры на нее не действовали совсем.
– Это я от счастья… – улыбалась она. – Я, наверное, еще долго буду плакать. Пока привыкну. Саша, я чуть не умерла, когда, вернувшись в Отразово, узнала, что ты уехал, а куда – никто не знает. Ты понимаешь?
Он растроганно смотрел на нее, гладил по волосам и говорил очень непривычные для него, нежные, сентиментальные слова.
– Почему ты не разыскал меня? Больше года прошло. Ты же знал, в какой газете я работаю!
Хабаров ответил не сразу.
– Не был уверен, что это хорошая мысль.
Она едва заметно вздрогнула, на мгновение затаила дыхание. Слезы вновь заструились по ее щекам. Теперь она неотрывно смотрела на него и плакала.
– Прости. Я ужасно несдержанная! – виновато сказала она. – Это просто день такой…
На даче был переполох.
Очевидно, ближние окрестности были уже осмотрены, и теперь наставала очередь дальних. На джип Хабарова поначалу и внимания не обратили.
– Вы, черти, тут совсем перепились? – гулко хлопнув дверцей, отнюдь не любезно осведомился он.
– Здорово, Саня! – приветствовал его Лавриков. – У нас тут человек пропал.
– Какой человек? – уточнил Хабаров, не сразу сообразив, что речь идет об Алине.
– Девушка. Минут сорок или час назад.
– Охренеть! И это говоришь мне ты!
Не обращая более никакого внимания на собравшихся и даже не поздоровавшись с ними, Хабаров поднялся на крыльцо дачи. У двери он обернулся, ожидая Алину.
Она вышла из машины, все еще зябко кутаясь в хабаровскую дубленку.
– Любимая, я чуть сума не сошел! – Лавриков попытался ее обнять.
Алина отстранилась.
– Позже, голуби! Позже будете выяснять отношения! – плохо скрывая раздражение, сказал Хабаров. – Нужно девушку водкой или спиртом растереть, иначе воспаление легких ей обеспечено. Ну, что, спасатель, надеюсь, спиртное в этом доме еще осталось?
Лавриков кивнул и увязался было следом, но Хабаров очень жестко посоветовал ему уйти.
– Или я выброшу тебя, как обделавшегося кота! – пообещал он.
Обескураженный Лавриков, чтобы не спорить, удалился.
Был третий час ночи. Продрогшие на морозе гости разошлись по комнатам спать. Только Лавриков, уже основательно нагрузившись водочкой, сидел за столом. Он ждал.
Хабаров спустился в гостиную довольно скоро. Он сел за стол и пододвинул себе поднос с остатками индейки.
– Наливай, чего сидишь, как просватанный?
Лавриков не шевельнулся.
Склонившись над столом, он смотрел на Хабарова с вызовом, исподлобья, едва сдерживая то, что клокотало внутри.
Хабаров дотянулся до бутылки коньяка, налил себе и другу, коснулся краешком рюмки нетронутой рюмки Лаврикова, выпил.
– Еле добрался до вас. Снежище! На выезде из Москвы пробки. Дорогу не чистят. Мелочь в сугробах вязнет… Шикарно пировали без меня! – заметил он, оглядывая все еще богатый стол.
– Не подходи к ней, Саня, – тихо, но твердо произнес Лавриков. – Слышишь? Не подходи!
Хабаров внимательно посмотрел на друга, вздохнул.
– Тебе башку отвернуть мало за то, что свою любимую в ночь, в мороз, одну отпустил.
– Не отпускал я! Воздухом, говорит, подышать хочу, голова кружится… Саня, это не то, что ты думаешь. Я не смогу без нее.
– Сами разбирайтесь.
Хабаров взял стакан, вылил в него остатки коньяка, залпом выпил и наскоро закусил куском мяса.
– Невесело у тебя, хозяин. Поеду я.
Он нехотя поднялся из-за стола.
– Спасибо тебе за гостеприимство.
Мороз свирепел. Он старательно выжимал сорок. Мог бы выжать и больше, но столбик ртути, отчасти из любопытства, отчасти из лени, отказывался падать в недра колбы градусника.
– Мать твою за ногу! Да цепляй ее, цепляй, говорю! – орал Володя Орлов, буйно размахивая руками. – Трос давай! Да жесткую сцепку-то ты зачем мне тащишь? Да б…! Кто ж тебя делал-то, умелец ты мой? Ну, подгоняй, подгоняй машину-то, поживей. Сам я сделаю. Мы что, до второго пришествия здесь копошиться будем?
Колеса МАЗа взвизгнули, закрутились по льду раз, потом еще и еще…
Орлов не выдержал.
– Стой! Хорош, говорю!
Водитель высунулся в приоткрытую дверцу.
– Чего?
– Что ты на газ давишь, тундра?! Лезь вон.
– Чего?
– Вылезай, говорю!
Орлов сел за руль и, продвинув машину чуть вперед, затем плавно подал ее назад, прямо к хвосту фуры.
Это был пятый вызов за смену. Опять работать приходилось на морозе и вырезать из металлического месива изуродованные ДТП человеческие тела. Предновогоднее настроение, алкогольные застолья и русская бесшабашность – авось пронесет – подкидывали работы. Ее всегда было особенно много в канун праздников. Сегодня на их долю пришлось четыре ДТП, с двумя погибшими и двенадцатью ранеными.
Эта – пятая – авария произошла с час назад. Видимо, водитель просто уснул за рулем, и неуправляемый грузовик, выскочив на разделительную полосу, протаранил в лоб металлическую стойку новенького пешеходного моста. Встав по диагонали, фура с прицепом перекрыла движение на въезд в город.
Спасатели заканчивали резать искореженный металл, освобождая из его тисков изувеченное тело водителя. По сути, спасать было некого.
Проводив рассеянным взглядом скорую, силясь перекричать шум моторов, вой сирены, прерывистый визг болгарки и перебранку Орлова с недотепой-водителем, Хабаров связался с постом ДПС.
– 017-й, мы закончили! Сейчас фуру цепляем! Оттащим на обочину! Перекрой пятачок!
Он обернулся к спасателям. Орлов, Гордеев, Лисицын ждали только его команды. Все трое основательно продрогли. Местность была открытая, ледяной ветер пробирал до костей. Хабаров зябко передернул плечами, поискал взглядом по цилиндрическому пластиковому телу переходного моста Лаврикова и Скворцова.
– Женя, что там у вас? Только вас ждем.
Тут же из рации донесся искаженный помехами голос Лаврикова:
«Основной пакет крепежей в порядке! Люфта нет. Радиальных трещин по платформе не вижу. Характерного скрипа не слышу. Небольшой люфт у вертикальных стоек, что держат купол. Но это пусть мостовики разбираются. Короче, эта конструкция выдержит ракетный удар!»
– Понял. Убираем фуру. Оставайтесь на связи.
Орлов аккуратно отбуксировал фуру на стоянку за постом ДПС, ювелирно притер между занесенной снегом «Волгой» и груженым лесом КамАЗом. Явно довольный собой, он по-свойски хлопнул по плечу водителя МАЗа:
– Не дрейфь, пехота! К пенсии будешь и ты виртуозом!
Едва они освободились, поступил новый вызов.
«Мужчина тридцати четырех лет упал с двухъярусной кровати. Складной конструкцией повреждена нога, – монотонно говорила диспетчер. – Это рядом с вами. Девятиэтажка на 2-й улице Строителей…»
– Я – «Четвертая». Вас понял! – отозвался Хабаров. – Сева, на светофоре направо.
Пострадавший изо всех сил старался сохранить самообладание.
– Картинку вешать полез, – объяснял он копошившимся рядом спасателям. – Сынишка уже неделю напоминает: повесь, повесь… Вот…
Он поморщился, отвернулся, не желая видеть, как спасатели будут резать металлический штырь, на две трети ушедший в бедренную мышцу.
– Я наверх залез, вся эта конструкция подо мною и поехала. Я, естественно, вниз. Руками держусь. Обе стойки подогнулись, как циркуль. Вылезти хотел, а ногу, смотрю, не пускает. Мне ж не видно из-за матраца, что там. А жена входит и – в крик… – он перевел дух. – Что-то голова у меня кружится…
Хабаров дал ему вату, смоченную нашатырным спиртом.
– Вдохните глубже. Запах чувствуете?
Мужчина мотнул головой.
– Нюхайте, нюхайте! Волноваться не надо. Крови вы немного потеряли. Через неделю и не вспомните о своем приключении. Сейчас в больничку поедем. Женя, что копаемся?
Как только Лавриков срезал злополучный крепежный штырь и отделил вертикальную стойку конструкции детской кроватки от ноги пострадавшего, Хабаров с Лисицыным осторожно вытащили мужчину из-под обломков и уложили на носилки.
– Скорую ждать не будем. Олег, бинтуй потуже.
В приемном покое осматривавший вновь поступившего пациента дежурный хирург хмуро заметил:
– Молодцы, что штырь трогать не стали. Все же учат вас чему-то. Не все безголовые…
По дороге в отряд Сева Гордеев спросил сидевшего рядом Хабарова:
– Сань, а почему док про штырь сказал?
– Просто такие штучки, Сева, всегда имеют острые рваные края, – встрял Лавриков, сидевший в салоне «Рафика» у открытого в кабину окошка. – Там вена рядом была. Так этот штырь ее бы как ножом…
Хабаров обернулся, устало глянул на Лаврикова, потом на ребят. Все сидели притихшие, чуть осовевшие от щедрого тепла. Они устали.
Микроавтобус мягко притормозил у служебного корпуса.
– Держу пари, поспать не удастся, – зевнул Олег Скворцов.
– Особенно противно, когда вызов под самое утро. Самый сон… – сказал Володя Орлов.
– Пошустрей шагайте-то! Холодно! – поторопил их шедший следом Лисицын.
– Игорек, ты же говорил, что тебя, как медведя белого, мороз не берет! – схохмили позвонки.
– Это почему же?
– Имеющиеся у вас жировые запасы столь велики и их роль столь значительна… – очень серьезно начал Лавриков.
– Только слово еще, обормоты! – пророкотал Лисицын.
Пока Хабаров в диспетчерской писал установленной формы отчет о выездах, ребята успели наскоро перекусить и, удобно устроившись на лежаках, уснуть. В уютном тепле после стольких часов на морозе сон шел быстро. Когда вернулся Хабаров, не спал только Лавриков.
– Чай будешь? – едва завидев Хабарова, предложил он.
– Давай.
Хабаров бросил куртку на свободный стул, сел напротив.
– Итак… – внимательно и спокойно он смотрел в глаза Лаврикову.
Тот смутился. Не так ему представлялось начало этого разговора, мысленно проигранного десятки раз.
– Знаешь, в глупых фильмах видел не раз, как друг уводит девушку у друга. Думал, не про меня, – наконец, сказал Лавриков.
Глаза Хабарова блеснули холодно и недобро. Но это было лишь короткое мгновение. Он тут же овладел собой, потянулся к чаю, не торопясь сделал пару больших глотков и аккуратно поставил чашку на маленькое с васильковыми цветами блюдечко. По его лицу ничего не читалось.
– Саня, что ты молчишь?
– У тебя фильм с субтитрами.
Служебный «Рафик», развозивший спасателей по домам после дежурства, едва не увяз в тесном, заваленном снегом дворике.
– Саня, в следующий раз на проспект выходи. Во двор не поеду. У вас не чистят совсем. А то засядем всей честной компанией до масленицы.
Хабаров наскоро попрощался и по узенькой тропинке, протоптанной ранними прохожими, напрямик, через детскую площадку, пошел к подьезду.
После щедрого утреннего морозца спертый, вонючий воздух подъезда неприятно вполз в ноздри. Лифт не работал. Из шахты был слышен неуверенный металлический скрежет и добротный уверенный мат.
«Дармоеды! Одиннадцатый раз за месяц … – раздраженно подумал Хабаров. – Если бы мы так работали…»
На лестнице между первым и вторым этажами чья-то собачка сделала свои нехитрые дела. На площадке второго этажа у люка мусоропровода валялся разорванный полиэтиленовый пакет и вывалившийся из него мусор.
«Россия и помойка. Даже страшно от объединяющих ассоциаций…»
На площадке третьего этажа, свернувшись калачиком, на подоконнике спал мальчик. Босые ноги были едва прикрыты полой засаленной осенней куртки на рыбьем меху.
– Антоха, вставай! Простудишься.
Хабаров потрепал мальчишку по волосам.
В ответ тот промычал что-то бессвязное, отмахнулся, а потом вдруг вскочил, так резво, что Хабаров едва успел подхватить маленькое тщедушное тельце, падающее на пол с подоконника.
– Тихо-тихо! Забыл, брат, что «диванчик» узковат.
– Ой, это вы, дядя Саша. Я думал, менты… Вы с дежурства?
Хабаров присел перед Антоном на корточки.
– С дежурства. Ты всю ночь здесь?
Ребенок вздохнул, отвернулся.
– Привыкаю к самостоятельной жизни.
– Твои опять гуляют? Двор, надо думать, два дня не чистили.
Антон кивнул.
– Слушай, а чего мы здесь-то? Пойдем завтракать!
Хабаров подал мальчонке руку.
– Дядя Саша, вы опять будете со мною возиться, как с маленьким. В свои двенадцать мне это неудобно.
Хабаров нахмурился.
– Давай по-взрослому. Я готовлю завтрак. Ты моешь посуду.
Антону нравилось бывать у Хабарова. Нравилось за столом на кухне вести взрослые разговоры «о жизни». Нравилось разглядывать необычные фотографии на стенах, где Хабаров и какие-то незнакомые Антону, но приятные улыбающиеся люди были запечатлены то в красивых костюмах парашютистов у вертолета, то за рулем, то сражающимися на мечах, то на татами в спортивном зале, то верхом на лошадях или просто сидящими у костра на лесной опушке. Ему нравилось лежать на громадном мягком диване в гостиной и подолгу разглядывать картинки в красочных толстых журналах о кино. Ему нравилось под чутким присмотром Хабарова одолевать китайскую азбуку хабаровского ноутбука. Нравилось «резаться на шоколадки» в «стрелялки» и «ходилки» игровой приставки «Сега». Причем в конце серии игр, при любом исходе, все шоколадки доставались все равно Антону. Ему нравилось смотреть кино на громадном плоском телеэкране. Нравилось просто сидеть в уголке и ощущать уютное тепло и заботу, надежное – в этом он не сомневался – мужское плечо.
– Скажите, дядя Саша, а вас когда-нибудь обманывали?
Хабаров внимательно посмотрел на мальчишку, который с аппетитом жевал сардельку, приправленную сладким соусом.
– Было такое, – честно ответил Хабаров.
– Неужели все люди обманывают?
– Знаешь, бывает ведь разный обман. Обман ради обмана, низкий и отвратительный. Есть обман во спасение.
– Неужели это обязательно – врать?
– Иногда без этого не обойтись.
– И вы тоже обманывали?
– Было дело, – Хабаров улыбнулся, глядя, как на лице Антона нарисовалось разочарование. – У меня заболел друг. Очень сильно. Врач сказал мне, что ему не помочь. Я знал, что говорить ему про это нельзя. Знаешь, у человека всегда должна оставаться надежда.
Мальчишка нахмурился.
– Это другое, дядя Саша. Мои родители врут друг другу постоянно. Не из-за чего-то там. Они просто так живут. И нет у них никакой надежды. И у меня тоже нет… – вздохнув, добавил он.
Хабаров погладил его по коротко стриженым волосам, улыбнулся.
– У тебя все только начинается. Тренируй характер. В жизни, брат, оставаться человеком очень трудно. Подчас это самое трудное на свете. Ты не поверишь, но ты в более выигрышном положении по сравнению со своими лакированными сверстниками. Ты раньше узнаешь жизнь. Ты научишься бороться.
– Ничего я не умею, – возразил Антоха, но было видно, что слова Хабарова его приятно задели. – Спать на подоконнике – это не достижение.
– Вот что…
Хабаров встал, что-то поискал на кухонном шкафу и протянул мальчишке ключ.
– Держи! Можешь приходить, когда захочешь. И ночевать тоже.
Антон растерянно замотал головой.
– Нет-нет, дядя Саша, я не возьму!
– Почему?
Мальчонка потупился.
– Почему? – повторил свой вопрос Хабаров.
– Моя классная руководительница говорит, что я из неблагополучной семьи, что доверять мне нельзя, что гены все равно возьмут свое.
– Да-а?! – искренне удивился Хабаров. – Дура, брат, твоя руководительница. Ой, дура!
Он решительно вложил ключ в руку ребенку, потом не удержался, прижал его носом к груди, чмокнул в макушку.
Антоха обнял ручонками Хабарова и заплакал.
– Ну-ну… Раскис. Ты же мужик! Вытри нос. Вытри…
Он был рад, что мальчишка сейчас не видит его лица. Нужно было скрыть навернувшиеся слезы.
Лавриков почти достиг поставленной цели.
– Не переусердствуешь? – с подозрением покосившись на него, спросил Виктор Чаев. – Тут есть над чем подумать.
– Я по утрам не думаю. Я по утрам действую!
Лавриков опрокинул в рот очередную рюмку бренди.
– Эй, человек! – Чаев поманил пальцем бармена. – В темпе вальса сделай нам чайку покрепче.
– Пойло для слабаков! Я еще не созрел.
– Осторожно!
Чаев вовремя подхватил его, падающего, и усадил на стул.
Они странно смотрелись рядом: ухоженный, модный, с легкой сединой и хорошими манерами преуспевающий бизнесмен Виктор Чаев и суетливый, в вытянутом, видавшем виды свитере и стареньких джинсах «пацан» Женька Лавриков.
Они встретились случайно. Проезжая мимо, Чаев заметил Лаврикова, в стельку пьяного, едва держащегося на ногах, шагающего по метельной улице без шапки в куртке нараспашку, то и дело натыкающегося на прохожих.
– Виктор, я так люблю ее, что жениться на ней хочу. Понимаешь?
– Предположим, ты женился.
– Да!
– От большой любви.
– Да!
– Женщине что нужно?
– Что?
– Дети ей нужны. Это пеленки, распашонки, каши, прививки, а также ор, денный и нощный, еще теща и – что менее опасно – тесть. Все со своими поучениями лезут. Сделай то. Принеси это. Поди туда. Слушай сюда. Это – не любовь. Это что?
– Что?
– Быт. Это, Женечка, трудные будни. Ты хочешь трудные будни?
Лавриков пьяно мотнул головой.
– Нет!
– Женщины тоже по природе своей терпеть не могут трудные будни. Они от этого делаются сварливыми и стареют.
Чаев взъерошил короткостриженые, начавшие рано седеть волосы, вздохнул.
– В жизни, Женечка, у нее то ребенок не кормлен, то голова болит, то стирка затеяна, то жрать готовить надо, то замоталась – спать хочется, а то, вообще, один твой «кризис среднего возраста» в голове. Для любви места нету. Брак, мой дорогой, как «трёшка» в центре с евроремонтом, на которую копил всю жизнь. С одной стороны долгожданная крыша над головой, а с другой… Никогда не будешь жить на берегу океана.
Лавриков поморщился, отмахнулся.
– Что ты пристал ко мне?
– Кушай свой бренди. Завтра протрезвеешь и будешь как новенький. А женщины… От них не трезвеют. Эта зараза сидит в нас, точит изнутри. И нет лекарства. Я-то знаю…
Уснувшего Лаврикова Чаев осторожно взвалил на плечо и понес в машину.
Проснувшись поздним вечером на чужом кожаном диване, укрытый старомодным колючим клетчатым пледом, Женя Лавриков никак не мог понять, где он.
Он долго рассматривал укутанную вечерним полумраком гостиную, выдержанную в модных бежевых тонах, роскошный ковер на полу, безукоризненно, очевидно профессиональным дизайнером, подобранную мебель, статую в углу и касавшиеся стекол новенького стеклопакета заснеженные ветки березы.
К кому он угодил? Ни в одной из знакомых ему квартир не было такой обстановки, которая даже на первый взгляд стоила денег, причем денег немалых.
Превозмогая надрывную головную боль, Лавриков сел. Пробубнив что-то бессвязное, он поскреб щетину, небрежно скинул на пол плед и, шлепая босыми ногами по скользкому паркету, пошел на узенькую полоску электрического света, пробивавшуюся из-под неплотно прикрытой двери.
– Очухался? – глянув на возникшего в дверях Лаврикова, cпросил Чаев.
– А-а, это ты… – без энтузиазма констатировал Лавриков.
Он сунул руки в карманы и прислонился к дверному косяку.
– Садись, чаю на травах выпей. Похмелье как рукой…
Чаев снял пестрый матерчатый колпак с чайника и аккуратно наполнил зеленоватой жидкостью две предусмотрительно приготовленные чашки.
– Садись. Чего стоишь?
Но Лавриков не двинулся с места. Рассеянно, без интереса он оглядел новенькую, вылизанную до блеска кухню.
– Значит, так ты устроился… – то ли сказал, то ли спросил он.
– Хороший дом, не так ли?
– Не так.
Он сел напротив, с вызовом сказал:
– А у меня нет ничего, кроме добродетели!
– Конфеты? Печенье?
– Живешь, Виктор, как на выставке современного дизайна. «Пройдемте в павильон “Гостиная”. Пройдемте в павильон “Кухня”. Дальше павильон “Бильярдная”…» Старая дача теплой была, уютной, какой-то душевной, родной. Там бывать хотелось. Там домом пахло. А здесь… Холодно. Жизни нет. Все вычурно, напоказ. Тебе самому вся эта хрень нужна разве? Тебя самого здесь нет. Деньги твои есть, а самого – нет. Как тебе мои впечатления?
Чаев вымученно улыбнулся.
– Мама на старой даче уют создавала. Ее не стало, и уюта не стало. Там слишком много воспоминаний осталось. Жена, дочурки, мама, друзья… Их дух там витает. Мне было тяжело туда приезжать…
Лавриков усмехнулся.
– Не прошу прощения!
Молчание. Только секундная стрелка часов на стене мерно отщелкивает удар за ударом.
– Как он? – осторожно спросил Чаев.
– Нормально.
– А подробнее?
– Живет…
– Его долю на его счет в банке я регулярно перечислял все это время.
– Что ж ты все деньгами-то меряешь?
– Больше нечем.
Чаев взял сигарету, закурил и, не глядя на Лаврикова, сказал:
– Увидеть его хотел. Поговорить. К дому вечером подъеду, смотрю на окна и не могу заставить себя страх преодолеть. Сижу, коньяк пью… – Чаев смущенно потер глаза, усмехнулся. – Черт бы побрал эту жизнь совсем!
– Коньяк он пьет! Ты вспомни лучше, как в лицо Сане проклятия орал, как ни минуты не сомневался, что суд прав. Вспомни и заглохни с соплями своими!
Лавриков бесцеремонно распахнул холодильник, вытащил бутылку пива, приложился к горлышку и одним махом выпил. Рукавом отер губы.
– Другое дело! С этого надо было начинать. Пойду я.
Он встал и пошел к выходу.
– Женя!
– Чего тебе? Теперь-то чего тебе надо?! Помнишь, как у вас с Саней куртка кожаная была – одна на двоих? Помнишь, как жевательную резинку меняли на пачку заморского «Кэмэла»? Как он тебя из машины горящей вытаскивал, помнишь? Все орали: беги, мол, сейчас рванет… Хабаров тебя не бросил. Что ж ты его?! В тебе же его кровь. Вспомни, как в Кубинке на автогонках накрылся. Забыл?! А то, что он по навету, по подставе дешевой девять лет, как девять кругов ада… Он же другом твоим был. Не год. Не два. Жизнь целую! Один ты. Плохо тебе. Меня ты подобрал потому, что вину свою чувствуешь. Вот и решил пожалеть себя. Потому что все лучшее в жизни у тебя там осталось. Сидишь в своем идеальном мавзолее, паркет полируешь. Витька, я ж тебя другим помню!
Лавриков рывком поднял воротник меховой куртки и не оглянувшись пошел в метель.
Настенные часы в холле прошелестели восемь. Мелодичный звук десятка колокольчиков пробежал по опустевшему редакционному коридору, нырнул в приоткрытую дверь кабинета и затаился, замер где-то в дальнем углу, под столом, у старенького системного блока компьютера.
Алина сосредоточенно смотрела на экран монитора с незавершенной статьей. То обстоятельство, что короткий предновогодний рабочий день закончился два часа назад, ее, похоже, не заботило. Время от времени Алина шевелила компьютерной мышкой, убирая то и дело появляющуюся заставку с плавающими в аквариуме рыбами, но к клавиатуре не притрагивалась. Работа не шла.
Она хандрила. Хандрила с тех самых пор, как, проснувшись рано утром на даче Лаврикова, обнаружила, что Хабаров исчез, не оставив ни записки, ни обещания позвонить. Хотя в то же утро у поднятого по тревоге Лаврикова Алина узнала и адрес, и телефон, к Хабарову она не поехала и звонить не стала.
От воспоминаний ныло сердце:
«– …Ну почему, почему ты не разыскал меня, Саша?!
– Не был уверен, что это хорошая мысль…»
«Интересно, что тяжелее – ждать и не дождаться или иметь и потерять?» – подумала она.
– Ты как окно в вагоне электрички с надписью «Закрыто на зиму»… – вслух сказала она и вытерла слезы.
– Выбрасываешь белый флаг?
Алина вздрогнула, обернулась.
Хабаров стоял в дверях.
Словно боясь, что он исчезнет, растворится, подобно миражу, она кинулась к нему и крепко обняла.
– Лин, что же мы мучаем друг друга?
– Это ты меня мучаешь…
Электрический свет фар выхватил из темноты припорошенную снегом дорожку к дому, засыпанные снегом кусты жасмина и одинокую человеческую фигуру у крыльца.
– Поздно возвращаешься, – с упреком произнес порядком продрогший Лавриков. – Сообрази поесть чего-нибудь. Я поставлю машину.
Алина растерялась.
– Женя?! Откуда ты здесь?
– От верблюда… – буркнул тот и юркнул за руль.
Прошелестев шинами, «Мазда» исчезла в чреве гаража.
Джип Хабарова въехал во двор и остановился у дверей дома.
– Однако… – философски изрек вышедший из джипа Хабаров. – Ты специально притащила меня сюда?
Алина смутилась.
– Перестань, Саша!
– Еще не начинал. Скажи, неужели это обязательная процедура: битва за бабу? Ты не можешь нас от этого избавить?
– О! Салют конкуренту! – Лавриков протянул Хабарову руку.
– Здравствуй, Женя.
Рукопожатие было крепким.
– Ребята, я прошу вас, только не ссорьтесь! – Алина взяла мужчин за руки.
– Кто ссорится?! Мы ссоримся?! – изумился Лавриков. – Давай, любимая, дерзай! Я сегодня не в тонусе. Я ведь случайно зашел. Думал, чаю…
Махнув на прощанье рукой, быстрым пружинистым шагом Лавриков пошел прочь, туда, где в рыжих электрических сумерках бесилась метель.
Они неотрывно смотрели ему вслед. Первой очнулась Алина.
– Холодно…
– Это ты постаралась.
Кончиками пальцев Хабаров коснулся ее щеки. В его глазах застыли боль и сожаление. Поймав его взгляд, Алина прошептала:
– Не уходи…
Пальцами он коснулся ее губ, не дал продолжить.
Ей стало страшно. Она закрыла глаза.
Скрип снега под колесами. Шум мотора. Сперва отчетливо, потом все тише. Шальной порыв ветра. Горсть поземки в лицо. Жалобный скрежет ветки яблони по стеклу. Скрип тормозов. Хлопок дверцы. Опять звук мотора, но уже дальше, тише, пока не исчез совсем.
Одиночество. Холод. Метель.
– Где резерв?! – орал в рацию Звягин. – Я спрашиваю, сколько времени тебе еще надо?! – он не дослушал ответ. – Бобков, это словоблудие! Я с тебя за каждую секунду сверх норматива спрошу. Пожар в жилой зоне! Два детских дома, дом престарелых, детские сады, школы, жилые дома… Под боком войсковая часть, склады боеприпасов! У тебя оцепление из двух ДПСников. Под суд отдам за халатность! Ты не на учениях, твою мать! Десять минут на все! Доложить!
Звягин сунул рацию в левый нагрудный карман, сделал знак подчиненным.
– Иван Лукич, это все, что есть.
Жандаров торопливо раскатывал на откидном столике «Соболя» рулоны чертежей. Чертежи были старые, с истрепанными краями, с выгоревшей и местами стертой синькой.
– План завода…
Молоденький запыхавшийся старший лейтенант, стараясь сохранить сомнительное тепло салона, торопливо захлопнул за собой дверцу. Его лицо было чумазым от копоти, глаза возбужденно блестели. Защитного цвета роба пожарника местами промокла, смерзлась и стояла колоколом.
– Демочкин, докладывай.
– Значит, так, – начал тот без лишних предисловий. – Одиннадцать пожарных гидрантов вышли из строя из-за мороза. На улице тридцать семь. Вода смерзается в лед минут за пятнадцать-двадцать работы. Это первая проблема, о которой часть пожарных расчетов руководителю тушения пожара, то есть вам, не докладывает из-за опасений получить соответствующую оценку. Отогревают своими силами, но… – Демочкин присел на корточки, перевел дух, стащил рукавицы и, потирая зашедшиеся от мороза пальцы, стал докладывать дальше. – Расчеты внутрь периметра войти пока не могут, рвутся емкости с лакокраской.
– Понятно, – Звягин глянул на часы. – Время. Послушаем огнеборцев.
Он стал принимать доклады руководителей расчетов о ходе тушения пожара. Напряженно слушал, кивал, давал короткие, четкие указания.
Члены оперативного штаба в это время, склонившись над чертежами объекта, о чем-то тихонько спорили, то и дело скользя по чертежам перемазанными об их синьку пальцами.
Этот пожар был обнаружен жильцами соседней хрущевки около пяти часов утра. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в семь минут шестого. Через девять минут к месту пожара прибыли первые пять расчетов местного подразделения. Практически сразу стало ясно, что этими силами не обойтись. В сухую, морозную погоду пожар развивается так же интенсивно, как и в жаркую. Спустя полчаса на место прибыли еще пятнадцать расчетов. Приступившему в это же время к руководству тушением пожара полковнику Звягину доложили предварительные данные.
Выходило, что пожар возник в производственном цехе завода полиграфических красок «Луч». Произошедший взрыв свел к нулю все попытки справиться с огнем своими силами, без огласки. Огонь перекинулся на расположенное впритык трехэтажное здание административного корпуса. «Отсечь» административное здание не смогли. В расположенном на первом этаже магазине в результате температурного удара произошло два взрыва, вероятно, баллонов с пропаном. Эти взрывы добавили огню сил, в считанные минуты он охватил все здание. С этого момента возникла реальная опасность распространения огня на склады готовой продукции и газопровод высокого давления, идущий к котельной завода. А это – море огня в жилой зоне. В шесть девятнадцать пожару была присвоена высшая категория сложности.
– Наш ближайший резерв – в/ч 6641. Предлагаю бросить военных на дальний – северный – периметр с целью отсечь распространение огня сюда и сюда, – Звягин ткнул пальцем в склады на чертеже. – Если расположить стволы здесь и здесь, можно будет локализовать этот очаг. Проверьте на месте возможную дислокацию. Восточный сектор контролируем. Основной удар на северо-востоке. Вот здесь. Не дать огню подойти к газопроводу. С юга – худо. Горит кровля. Внутри рвутся емкости с краской. Прибудут соседи, направим их туда. С запада тушение в обычном режиме. За периметр не идем. Учитываем опасность взрыва. Сейчас подвезут тепловые пушки, надо наладить систематическое отогревание выходящих из строя гидрантов. Демочкин, за это лично отвечаешь.
– Есть! Разрешите исполнять?
– Действуй! Какие будут предложения?
– Взрыв снес полкорпуса цеха, завалил выход. По планировке этого корпуса, смотрите, вот здесь, – с военной точностью указал на чертеже майор Михайлов, – обозначены рабочие подвальные помещения.
– Смена восемнадцать человек. В этих «мешках» остались люди… – сказал Сомов.
Звягин потер затылок, поморщился.
– Умеешь ты, Андрей Сергеевич, «радовать». Главное, вовремя это у тебя получается!
– Прости, Иван Лукич, работа у меня такая – людей спасать.
– Твои спасатели хорошо поработали. Людей из прилегающих домов и седьмого цеха завода эвакуировали. Спасибо. Сколько на морозе они еще продержаться смогут? Менять их будешь?
– Вызвал резерв. Мои люди устали, промокли, замерзли, – сказал Сомов. – Второй этап спасательной операции начнем, как только встречусь с Морозовым, нашим «богом» подземного тепло-канализационного хозяйства. Его уже подняли и везут на работу с дачи. Надо выяснить, что за норы есть у завода, куда ведут. Возможно, пока твои огнеборцы орудуют, мы подберемся с другого боку. Если на подземных этажах кто-то из рабочих уцелел, мы обязаны их спасти!
Сомов знал: нужно торопиться. Если рабочие живы, у них, без сомнения, есть комбинированные поражения. Это и отравление продуктами горения пластика, и ожоги кожи и дыхательных путей, и термотравмы легких. Сомов понимал, что если найдет рабочих в ближайшие часы, они будут жить. Поэтому он был вынужден спешить.
– Вместо себя я оставляю Юдина. Он опросит рабочих, уточнит, сколько человек было в смене, были ли посторонние на объекте.
Звягин и Сомов пожали другдругу руки.
– Держи меня в курсе, спасатель.
Выслушав доклады расчетов, Звягин вновь склонился над испещренными разноцветными пометками чертежами.
– Снимаем по три расчета с фасада и северной стены склада готовой продукции. Перебрасываем их на цех. Вот сюда, – он указал место на чертеже. – Возьмем его в плотное кольцо. К рассвету здесь не должно остаться ни клочка открытого огня!
Резкий, настойчивый звонок в дверь заставил Хабарова вздрогнуть и открыть глаза.
Он сидел в кресле напротив работавшего телевизора, в руке была недопитая бутылка водки. Видимо, основательно нагрузившись, он уснул прямо в кресле. От долгого сидения заныла спина.
Звонок не унимался.
– Елочки зеленые! – с досадой произнес он и поплелся открывать.
Перед дверью стояла цыганка. Маленькие, лет пяти-семи цыганята поочередно звонили в соседские двери.
– Дай рублик деткам на пропитание! – сходу начала она. – Вижу, человек ты хороший. Всю правду тебе скажу. Не совру. Что б глазам моим дороги не видеть! Будет у тебя любовь. Будет у тебя болезнь. Будет у тебя…
– Я все про себя знаю, – перебил ее Хабаров. – Иди отсюда!
Он попытался захлопнуть дверь, но бойкий цыганенок, вынырнув из-за мамкиной юбки, просунул в притвор ногу и фальшиво заскулил.
– Что с дитем делаешь?! – завопила цыганка. – Мутная твоя душа! Холодное твое сердце! Всюду холод с собой носишь. Дай душе оттаять. Дай дитятке денежку! Дай щедро. Щедрость твоя к тебе вернется.
– Дам, только отстань, – вымученно произнес Хабаров.
Он откровенно жалел, что открыл дверь.
В бумажнике он нашел рублей восемьсот, отдал цыганке.
– Работать иди, – недружелюбно сказал он. – Дети грязные, голодные.
– Э-э-э, бубновый! Где ты видел, чтобы цыган работал?! – враз повеселев, ответствовала цыганка. – На себя посмотри! Душу запустил. Грязная она у тебя и голодная, как мои дети!
Хабаров захлопнул дверь, посмотрел на часы и пошел умываться. Он долго стоял под душем, подставив тело горячим струям воды, и пытался ни о чем не думать, но неожиданная гостья не шла из головы.
«Душу запустил… Грязная и голодная душа у тебя, как мои дети…»
Отпившись огуречным рассолом, он засобирался уходить. Пустая квартира давила.
«Поеду, куда газа глядят. Упьюсь. Может, даст Бог, убьюсь… Надо же как-то отметить последний день уходящего года…» – с издевкой думал он.
Он открыл дверь. На лестничной площадке у окна стояла Алина. Дыханием она пыталась согреть озябшие руки.
– Мерзнешь зачем?
Хабаров нетерпеливо втолкнул ее в квартиру, запер дверь. Ладонями он коснулся ее лица, осторожно пальцами провел по припухшим векам.
Сердце сжалось.
«Плакала…»
– Прости меня, – вдруг охрипшим голосом произнес он. – Я измучил тебя, и сам измучился. Я больше не отпущу тебя. Жизнь без тебя теряет смысл…
…Бывает, что сердце вдруг замирает в блаженном восторге, подобно птице, красиво парящей в свободном полете, и ты уже не чувствуешь себя заброшенным обледеневшим островом в самый непутевый месяц Арктики – июль. Звенят ручьи. Стремительно тает снег. Небо светлеет. А на пригорках, упрямо преодолевая холодную толщу снега, появляются бутоны дивных голубых цветов Хрустальной Сиверсии – цветка любви, цветка надежды. Цветы еще не расцвели. Но ты веришь, что еще чуть-чуть времени, чуть-чуть тепла, и не заметить их, не разыскать будет попросту невозможно!
Вибрирующий звук пейджера был и неожиданным, и неуместным.
Хабаров судорожно выдохнул, зажмурил глаза и еще крепче прижал Алину к себе.
На кухне зашелестел телефон. Он звонил непрерывно.
– Никому тебя не отдам, – нежно и властно целуя Алину, шептал Хабаров. – Никогда… Никому… Ты слышишь меня?
Поцелуи стали неистовыми, страстными.
Настырный стук в дверь грубо вернул их в реальность.
На площадке стоял недовольный Володя Орлов.
– Чего не дозвониться до тебя? Собирайся, командир. Всех по тревоге поднимают. Машина внизу.
Затравленным взглядом Хабаров шарил по комнате.
– Прости, Лина. Сука-жизнь все-таки настаивает на равновесии…
Утренний мороз бесцеремонно проникал под одежду, заставляя то и дело поеживаться, потирать руки, притопывать застывшими ногами. Сомов порядком продрог, ожидая возле конторы «бога отопительно-канализационных сетей». Печка «Волги» с холодом не справлялась.
Первые лучи обманчивого зимнего солнца инеем искрились на замерзших стеклах машины, слепили глаза, но не грели. Последнее утро уходящего года принесло еще спящей Москве минус тридцать семь.
Резво подкативший джип проскрипел шинами по хрусткому снегу и замер.
– Батька, ты только без сердца! – едва скрывая улыбку, крикнул вдогонку Чаев.
– Юр, и трехэтажным их. Сразу. В лоб! – заржал рыжий краснолицый крепыш.
Об умении Юрия Михайловича Морозова солоно выражаться ходили легенды.
– Идите на х… оба!
Он трудно выволок свое грузное тело с заднего сиденья на свободу.
– Приветствую, Юрий Михайлович! – Сомов протянул руку Морозову. – Извини, что выдернули тебя.
– Шли бы вы к …, в душу…, в сердце мать…! В Новый год дое…сь! – Морозов коротко пожал протянутую Сомовым руку. – Мы, б…, вечером х… знает когда с охоты вернулись. Побраконьерили, … в глаз ту белку! Само собой, … … в хлам. В три лег. В четыре ты, …, будишь. Что ж вы, …, без батьки справиться не можете?! Ну, пойдем, Сергеич, в … контору, там, … …нам должны были … бумаги подыскать. Я, …, как ты позвонил, …, своих-то… сразу поднял. – Он махнул спутникам, сидевшим в джипе. – Со мной, …, пошли, а то … посинеют ждавши.
Сонный охранник долго ковырялся в замках. Потерявший терпение Морозов, долго восхищался его нерасторопностью, выдавая на свет божий такие перлы, что замешкавшиеся в утреннем небе звезды окончательно померкли.
– Знакомься, Сергеич! Охотники мои. Виктор Чаев – бизнесмен, денег до …! – говорил Морозов, поднимаясь по крутой мраморной лестнице к своему кабинету. – А этот рыжий … – Заречнев Игорь. Военком местный. Хапуга и взяточник.
– Сам такой! – беззлобно огрызнулся военком.
– Вот, что, … охотники, вы … пока коньяку,…, а мы с Сергеичем, …, делом займемся.
В кабинете Морозова их ждали. Двое уставших от ночного бдения замов мирно спали среди груды разложенных по громадному столу чертежей.
– Мать вашу за ногу! Батькин кабинет, …, в спальню превратили! – заорал Морозов.
Сонные замы вскочили, поправляя очки и галстуки.
– Все готово, Юрий Михайлович! Все нашли, – отрапортовал один из них.
– Вот, – усаживаясь за стол и приглашая сесть рядом Сомова, начал Морозов, – в старом архиве все найдешь. Это в новом член сломать можно. Раньше, …, как было, бумажка, …, к бумажке. Разрешение с мотивировочкой, планчик, …, тут же. Это теперь … звонят, подпиши, Юрий Михайлович! Мол, с «самим» согласовано. Чего… копают, где … копают, ни … не понятно.
– Юра, ты про коньяк-то пошутил? – усевшись в рабочее кресло Морозова, спросил рыжий военком.
– Михалыч, харчуй. За язык не тянули! – поддакнул Чаев.
– Вот, …, хряки! Полночи пили. Еще, …, подавай! Да, в шкафу,…, возьмите. Там же … лимон, шоколад. И глохните. Что б вас, …, не слышал!
Морозов полистал чертежи, выбрал один, внимательно изучил, отложил в сторону. Бумага была очень старой, желтой, но черная тушь, которой был выполнен чертеж, от времени ничуть не сдала, наоборот, чертеж казался теперь выполненным не в меру старательным проектировщиком.
– Вот это посмотрите, Юрий Михайлович.
Молоденький худосочный зам положил перед Морозовым разноцветную схему. Бумага хранилась свернутая гармошкой. Теперь, когда ее расправили, полотнище заняло весь стол.
– Да-да-да! Молодец Чучвадзе. Вот что тебе нужно, Андрей Сергеевич. Смотри, завод расположен в очень интересном месте. С ним рядом Тарасовские пещеры.
Красным карандашом Морозов быстро скользил по бумаге.
– Мне это ни о чем не говорит. Ну, слышал краем… – сказал Сомов.
Морозов положил перед ним отложенный заранее чертеж, стал показывать.
– Это завод. Здесь цех, о котором ты говоришь. Вот это, пунктиром, минус первый этаж. Здесь … какая площадь! Аркадий, сколько?
– Если верить техническому паспорту, четыреста шестьдесят два квадратных метра, – без запинки ответил Чучвадзе.
– А у вас есть данные о том, как она используется? – спросил Сомов.
Чучвадзе пожал плечами.
– … ее знает, как она используется! – ответил за него Морозов. – Это вы у … руководства … завода выясняйте.
– Пытаемся найти. Директор с замом за границей. Остальные кто где. Отдел кадров сгорел. Мы выяснить не можем, сколько рабочих было в цехах, а ты говоришь…
– Н-да-а, …! Это… российский бардак! Эти подземные четыреста шестьдесят два квадратных метра подсоединены к коммуникациям. Синим, видишь, … водопровод. Красным электричество. Желтым тепло. Этот … завод строили в семидесятых. Теплотрасса, канализация выходят в городскую магистраль. Это сейчас… моду приняли, что… теплосети не имеют проходов от магистрали на разветвления, а …трубы уходят в … глухую стену. Магистральные коммуникации освещены 36-вольтовыми лампами, снабжены вентиляторами, продувающими тоннели в … автоматическом режиме. Мы регулярно выполняем их обход с контролем датчиков метана. Аркадий, – обратился он к Чучвадзе, – принеси Андрею Сергеичу … журнал, пусть посмотрит время … обхода. Да, еще … чертеж скопируй.
– Ты прямо ясновидящий!
– …! – улыбнулся Морозов. – Просто тебя давно знаю.
– Смотри … схему. Вот, …, галерея теплоэлектроцентрали. Галерея так называется потому, что раньше строили как … подземный коридор, для удобства … обслуживания.
– Там пройти можно?
– …, нужно! Здесь, – он нарисовал на схеме круг, – подземные коммуникации завода вливаются в… городские.
– Значит, если мы проникнем в городские коммуникации, оттуда к заводу…
– Х…! Не все, …, так просто! Ходы могут быть заложены … кирпичной кладкой, могут быть, …, зарешечены. Замуровку, положим, раздолбишь. А вот … решетка с … контактными датчиками или … заблокированный и поставленный под …охрану люк? Тут от вневедомственной охраны, …, огрести можно …! Они, …, разбираться не будут. Вломят, как дотошным диггерам, которые им, …, как кость в горле! Х…знает, что там может быть еще!
– Наряды на ремонтные работы там были? – спросил Сомов.
– Я проверил, – подал голос до этого молчавший пожилой мужчина. – Не было аварий на тех линиях. Следовательно, мы не выезжали и не работали там.
– Учись, Сергеич! Вот, …, замы у меня! …! Ночью, …, за ногу дерни, тут же отрапортуют, где, что, когда! Может, коньяку?
– Наливай. Замерз. Честное слово!
Пока Морозов разливал коньяк и беззлобно пререкался с друзьями-охотниками, Сомов позвонил Юдину. Тот докладывал обстановку четко и обстоятельно. Выходило, что пожар локализован. Тушение производственного цеха близится к завершению. Время от времени там рвутся аэрозольные баллончики. Открытого горения не наблюдается. Распространение пожара на склад готовой продукции и газопровод пресечено. Подача газа прервана. Юдин также сообщал, что удалось установить, что смена состояла из двадцати трех человек. Семеро из них успели спастись. Несколько рабочих видели, что в момент взрыва на месте взрыва находились двое с огнетушителями. Судьба остальных четырнадцати неизвестна.
– Готовьте снаряжение, – распорядился Сомов. – Прибудет пятерка Хабарова, пусть облачаются и готовятся к спуску под землю. Я буду через десять минут.
– Ну, что? За дружбу, взаимопонимание и, чтобы … у нас не возникала необходимость в твоей, Андрей Сергеевич, помощи!
Коньяк был, действительно, очень хорошим и очень старым. Приятным теплом он растекался по каждой жилочке.
– Мне пора. Спасибо за помощь, Юрий Михайлович! Извини, что отдых тебе испортили.
Морозов по-свойски махнул рукой.
– … с ним! На том свете отдохнем!
Сырой спертый воздух неприятным привкусом плесени оседал в ноздрях. Кирпичная крошка фальцетом скрипела под ногами. Вороватый свет фонариков клоками выхватывал из темноты рыжие кирпичные стены и сводчатый потолок. Проход был узким, чуть больше метра, высотой со средний человеческий рост. По левой его стене толстой змеей тянулись трубы и кабели подземных коммуникаций, выступая сантиметров на сорок. Так что свободного пространства было кот наплакал.
Идти приходилось чуть пригнувшись, то и дело избегая кирпичных выступов свода, где давным-давно, может быть, во времена масштабных ремонтных работ после войны крепились электрические светильники. Теперь от них остались ржавые крючья да обрывки провода.
Временами темная подземная галерея пересекалась еще с одной такой же, а иногда и с двумя, уходящими вилками в подземную черноту. Тогда они останавливались, Хабаров доставал карту, по которой в дрожащем свете фонариков сверяли маршрут.
– Мужики, не могу больше! Настал мой предел. Давайте пару минут передохнем! – взмолился Володя Орлов.
Тяжело дыша, он опустился на корточки, боком привалился к стене и замер, закрыв глаза.
– Еще чуть-чуть и, клянусь предстоящей зарплатой, нас самих спасать придется, – попытался шутить Сева Гордеев.
– Не каркай!
Они, будто по команде, опустились на землю. Тяжелое дыхание людей осипшим эхом отдавалось в мрачной тишине.
– Сначала решетка, потом кладка…
– За кладкой еще кладка. Пока это все разломаешь… – сказал Скворцов, смахивая пот со лба.
– Да-а… Хорошо, что наш народ все еще ворует. Если бы цемент не утащили, копаться бы нам в десятке метров от входа! – сказал Лавриков. – Саня, далеко еще?
Хабаров ответил не сразу. Он сосредоточенно изучал разложенную на коленях карту – тот самый план подземных коммуникаций, что на рассвете тридцать первого декабря Сомов позаимствовал у Морозова.
– Странно… – самому себе сказал он и повторил: – Странно… Судя по ориентирам и пройденному расстоянию, завод метрах в ста. Не больше. Вы чувствуете?
Хабаров обвел всех вопросительным взглядом.
– Что?
Он несколько раз шумно втянул носом воздух.
– Запаха дыма нет.
Спасатели подозрительно принюхались.
– Точно! – первым откликнулся Орлов.
Все настороженно переглянулись.
– Погодите, погодите, ребята! Это нормально. Мы метров на восемнадцать ниже пожара. Были же случаи, что люди от пожара прятались в подвале дома и выживали. Дым наверх идет, – попытался объяснить Лавриков.
– Может, впереди завод капитально замуровал галерею, – предположил Гордеев.
– Может, – кивнул Хабаров. – Только я не припомню, чтобы дым не нашел себе дырочку. Мы или ушли с маршрута, что маловероятно, или мне совсем не понятна эта чертовщина. Потому каждого прошу быть предельно внимательным.
– С маршрута мы не ушли. Отвечаю. Я по таким норам ходил. Опыт имеется! – сказал Гордеев.
– Сдается мне, что впереди нас ждут бо-о-ольшие сюрпризы, по сравнению с которыми пресловутый «черный диггер» покажется бабушкиной сказкой! – недовольно сказал Орлов.
– Володя, с чего ты взял?
– Х… его знает! Предчувствие.
– И тебя с Новым Годом! – сказал Лавриков.
Хабаров тяжело поднялся, размял нывшую спину, сказал:
– Если мы хотим попасть за праздничный стол, отрываем от земли свои задницы, пока не примерзли, и почапали!
Друг за другом, держась на расстоянии вытянутой руки, спасатели зашагали дальше, в настороженную черноту подземелья.
– Никита, пойми, не мог я оставить людей сгореть заживо! – в очередной раз повторил Брюс Вонг.
Осадчий брезгливо поморщился и с деланным сочувствием произнес:
– У тебя, Брюс, мерзкий дар создавать проблемы. Тебя оправдывает лишь то, что эта страна создана для проблем.
– Ага! Еще для кариеса, «критических» дней и перхоти! – хохотнул Емельянов – лысый крепыш, уголовник, приставленный к Осадчему недавно коронованным вором в законе Костиком Одесситом.
– Не терплю тупых дополнений. Тебя не учили, что мерзко меня дополнять?!
– Прости, босс! От глупости брякнул.
Никита Осадчий обвел всех пристальным взглядом, совершенно не оставляющим сомнений в том, что непонятливым сейчас объяснят дополнительно, тщательно и популярно. Под взглядом Осадчего Брюс Вонг сполз на пол, встал на колени и, обхватив голову руками, заплакал.
Наступившая пауза давила.
Осадчий ладонью прикрыл глаза, словно свет в кабинете подземелья, спрятанного на глубине восемнадцати метров, сделался вдруг нестерпимо ярким.
– Устал я от тебя, Брюс… – едва слышно произнес он. – Одиннадцатый год ты в кредит живешь. Зря я тебя за тот трюк с таможней не шлепнул. Одессит за тебя вступился, а мне с ворами ссориться не было резона. Все на Сибирцева списали…
– Никита, не мог я…
– Попробую поверить. Ты не мог. А тупого исполнителя Андрюху Сибирцева со всей его семьей отдать шакалам мог? А бабу из Раменской прокуратуры, что под тебя копала, мог в порту на арматуру насадить? Ты даже женушку свою, что за тебя перед Одесситом просила, забил до смерти только за то, что тебе показалось, что рога новые режутся! Что смотришь? Я – не следователь. В напавших на твою жену у дома хулиганов не верю. Я верю материалам твоего досье, с фотодокументами, что собирал на тебя.
– А-а-а-ай! А-а-а-ай! – обливаясь слезами, выл Брюс Вонг. – Я не хочу умирать! Никита, я не хочу умирать!
– Пожалеть тебя?
– Да! Да! – в его глазах блеснула надежда.
– Так же, как ты «пожалел» каскадера того, безвинного, в Иерусалиме? Из ревности помог его упаковать. Орудие убийства у придурочного Шипулькина забрал и в каскадерский контейнер подбросил. На пожизненное человека отправил! Ты же так и со мной, и с Тагиром, и с Емельяновым, и с любым из наших поступить можешь! Жаль, что этот факт твоей биографии узнал я поздно. Я могу перечислять твои подвиги до прихода СОБРа. Что ж ты сегодня жалобишь меня?
– Мы взрывы услышали. Потом люди в дверь колотить стали. А она, эта дверь, уже горячая…
– На кой черт ты вообще эту дверь трогал?! – рявкнул Осадчий.
Брюс не ответил. Обхватив голову руками, он монотонно раскачивался из стороны в сторону на манер китайского болванчика.
– Это он для неверу[34], – поигрывая «Стечкиным», сказал Тагир.
Бывший подручный Брюса Вонга Тагир был теперь, как говорят, кум королю.
Подтянутый, темноволосый, с легкой проседью, в дорогом костюме и с вечными янтарными четками в руках, Тагир уже ничем не напоминал того мальчишку на побегушках, которого когда-то пригрел Брюс Вонг. Его взгляд был уверенным и спокойным, как у бойцовой собаки, привыкшей побеждать. Глаза не бегали смущенно, как когда-то, а буравили окружающих, бесцеремонно, насквозь. Его жесты были мягкими, полными достоинства. Может, кто-то и помнил, как Тагир «мельтешил», но помнил про себя, тайно, ни словом, ни мыслью стараясь не выдать свою хорошую память.
– Братва, эту падаль надо медленно убивать, чтобы прочувствовал, какой он нам головняк создал! – сказал Емельянов.
В дверь кабинета постучали.
– Извиняюсь. Там шум какой-то, – доложил вошедший охранник.
– Что за шум?
– Не знаю, – охранник с руки на руку перекинул автомат. – Может, глюк. Кажется, что из тупиковой галереи разбирают нашу кирпичную кладку, преграждающую проход.
– Та-а-ак!
Осадчий отбил пальцами залихватский мотивчик.
– Ты, недостойный потомок Чингисхана! Ты кладку с решеткой сделал или без?
– Никита, зачем решетка? Там же тупик! Я сам проверял. Нет там входа!
– Значит, есть!
Осадчий молниеносным движением выхватил пистолет и всадил пулю в лоб Брюсу Вонгу.
Охранник от неожиданности попятился.
Емельянов вскочил, засуетился:
– Босс, сами-то зачем? Мы бы по-тихому. Скромненько. Под несчастный случай…
– Сядь! – властно выдавил Осадчий.
Ногой он уперся в тело Брюса Вонга и слегка толкнул. Тело упало навзничь, безвольное и покорное под его ногой. Осадчий вновь ощутил, как чувство наслаждения чужой смертью овладевает им, накатывая сладкой, душной волной, заполняя все внутри, без остатка. Он жадно сглотнул слюну. Сердце дало сбой, затрепетало. Захотелось убивать, жестоко, без разбору, без повода.
Он изобразил на лице улыбку, больше напоминавшую нервный оскал.
– Пойдем, посмотрим, кто к нам в гости пожаловал!
В помещении, похожем на пещеру, в тусклом свете дежурного освещения лица были едва различимы.
– Вы кто такие? – спросил Тагир.
– Морозы мы, деды. Е-моё! Глаза-то разуй! – огрызнулся Володя Орлов. – На куртках видишь надпись? «Центроспас».
Он, Хабаров, Лавриков и Скворцов стояли лицом к стене с поднятыми руками. Тыча в спасателей автоматами, охрана производила обыск.
– Кто старший?
– Я старший, – ответил Хабаров.
– Вашу бабусю! – выругался Володя Орлов. – Спасай людей после этого!
– Замолчи! – потребовал Хабаров. – Я старший! – громче произнес он. – Нам поручено в связи с пожаром на заводе проверить, остались ли люди в подземных коммуникациях.
Емельянов рассмеялся.
– Тоже мне, чипы с дейлами!
– Если у вас все в порядке, мы возвращаемся, – сказал Хабаров.
Тагир обернулся к Осадчему, стоявшему поодаль.
Осадчий тяжело дышал, его лицо было мокрым от пота, исподлобья, с вызовом он смотрел на людей. Казалось, еще мгновение и он пустит в ход пистолет, зажатый в опущенной руке.
– В расход? – Тагир был уверен в положительном ответе.
– В подсобку, к остальным!
Развалившись в кресле, водрузив ноги на стол, Емельянов изучал содержимое бумажников. Время от времени он подхихикивал и корчил рожицы ложного умиления, разглядывая семейные фотографии.
– Никогда не понимал тех, кто таскает за собой мамочку, папочку, сыночка, дочку! Смотри, Тагир, живут же люди! Размножаются… А тут ничего, кроме проблем с уголовным кодексом!
Деньги, что находил, вплоть до монет, Емельянов прятал в свой карман.
– Не боишься брать вещи покойников?
Вошел Осадчий. Быстрым, стремительным шагом он пересек комнату, сел во главе стола.
– Так! Мы в полном порядке. У нас все хорошо. Нам нечем занять себя, кроме как разглядывать и воровать чужие вещи! Нам не надо пускать в расход тринадцать человек. Перед нами нет мерзкой опасности уличения в незаконном бизнесе, как нет и мерзкой перспективы потери миллионов и собственных шкур!
Емельянов удивленно уставился на Осадчего.
– Босс, это аутотренинг такой?
Осадчий врезал кулаком по столу.
Емельянов тут же убрал ноги со стола, сгреб бумажники, пододвинул их Осадчему. Из кармана выгреб деньги и высыпал поверх бумажников.
– Тагир, упакуй сырье и товар. Пусть власти ищут. Пусть сюда лезут. Здесь ничего нет. И не было. Никогда…
Тагир кивнул, сказал:
– Уходить верхом нет возможности. «Наружка» докладывает, на выходе какая-то непонятная канитель. Тоннелем опасно. Не знаем мы подземелья.
– Не беспокойся, Тагир. Есть тот, кто нас выведет без риска.
– Ты о спасателях?
– Нам все не нужны. Одного вполне хватит. Их главного. Давайте его ко мне!
– А рабочие?
– Что рабочие?
– Никита, может быть, правильнее будет сначала ликвидировать рабочих?
– Босс, я готов! – вскочил Емельянов. – Прикажите!
Осадчий усмехнулся.
– Я что, тебя с Емельяновым за огранку посажу или сам за огранку сяду? Тагир, никто не будет вдаваться в причины задержки поставок. Нам просто продырявят черепа.
– Босс, я – как вы скажете! – поторопился поддакнуть Емельянов.
– Цех заминируем. Этого будет более чем достаточно.
– Никита, рискуешь, – настаивал Тагир.
– Каждого, кто будет обсуждать мои решения, я банально шлепну!
В тесной подсобке было душно, смрадно и абсолютно темно. Зацепившись ногами за что-то мягкое, живое, они упали внутрь. В ответ послышалась недовольная брань. Чьи-то руки помогли сесть.
Олег Скворцов щелкнул кнопкой фонарика. Плавающий электрический луч резанул по привыкшим к темноте глазам, заставил зажмуриться.
На пространстве в пятнадцать квадратных метров девять человек, сидящих на ледяном бетонном полу. Изможденные чумазые лица, настороженный блеск в глазах, грязная обгоревшая одежда. Среди грубых мужских тел голые женские коленки, сбитые в кровь, и рука, трогательно одергивающая коротенький, бывший когда-то белым халатик.
– Спокойно, братцы. Мы – свои! – сказал Женя Лавриков.
– Вот что, «свои». Слева от двери, в углу, не наступите. Мы рубахами прикрыли. Нас в туалет не выводят.
– Кто вы? – спросили сразу несколько голосов.
Хабаров фонариком осветил форму.
– Спасатели. Вас ищем.
– Считай, нашел… – подытожил насмешливый голос.
По интонации было ясно, что говоривший утратил интерес к вновь прибывшим.
– Потрепало нас маленько, сынок, – сказал сидевший возле Хабарова дед. – У кого руки обожжены, у кого лицо. У Тихона рана на спине, его балкой зацепило. У Маришки лоб разодран. Даст бог, выживет. Нам бы домой. Ты бы поговорил. Ты же власть!
– Ой, Сан Саныч, умолкай. Умолкай совсем! – едва сдерживаясь, произнес сосед деда. – Что они могут? Нас вместе с этими твоими спасателями похоронят! Сиди и не бухти! Без тебя тошно.
Другой голос убежденно и резко сказал:
– Я говорил вам, надо эту дверь ломать! Говорил?! Нас же много. Мы их голыми руками передушим! Братцы, неужели же мы так и будем сидеть, словно телки на пляже?! Иван Николаевич, бригадир, ты чего молчишь?!
– Отстань, Овсянкин! – сказал бригадир Иван Николаевич Чащохин. – Я не буду портить с ними отношения. У них автоматы. Я жить хочу. Мы должны тихо сидеть. Будем тихо сидеть, никто нас не тронет.
– Шкура ты, чащохинская!
– Я сейчас от жажды сдохну. Во рту все пересохло, – пробубнил плотный мужик, сидевший в дальнем левом углу. – Овсянкин правильно говорит. Надо ломать, к чертовой матери! Все ломать и крушить!
– Правильно, Тихон! Пусть трусы тут подыхают. Мы вдвоем пойдем! Мы их по одному вылавливать будем! И голыми руками… Голыми руками… – Овсянкин растопырил дрожащие пальцы, потом с хрустом сжал их в кулаки.
– Правильно!
– Правильно, мужики!
– Мы с вами пойдем!
Полгода назад, работая на ликвидации последствий землетрясения на Сахалине, спасатели слишком хорошо, не понаслышке, узнали, что такое состояние острого психоэмоционального шока.
Эта стадия психоэмоциональной травмы, как правило, длится у пострадавших от трех до пяти часов, сопровождается психическим напряжением, обостренным восприятием событий, склонностью к панике или, наоборот, проявлением безрассудной смелости при одновременном снижении критической оценки ситуации. В таком сложном состоянии люди могли, что называется, наворотить дел.
Поэтому сейчас было необходимо дать почувствовать людям, что контролировать ситуацию и направлять их поведение будут не случайные лидеры, а только спасатели.
Хабаров по опыту знал, что для работы спасателей эти первые три-пять часов самые тяжелые. Потом будет легче. Пострадавшие не будут проявлять активности. У них появится чувство истощения, когда даже самые активные могут впасть в состояние, близкое к ступору. «Стадия психофизиологической демобилизации» – называют ее психологи. Но это будет потом.
Именно поэтому их общение началось так, а не иначе.
– А ну сели, уличная шантрапа! – рявкнул Хабаров. – Первому, кто встанет, я сломаю челюсть! Даю слово! Вы выживете все, если будете мне подчиняться. Если не будете, я сам вас кончу, чтобы спасти своих ребят! Это говорю вам я – командир взвода спасателей сорок седьмого спасательного центра МЧС Александр Хабаров! В обязанности вверенного мне отделения спасателей входит оказание вам медицинской помощи до прибытия спецслужб. Потому задача каждого из вас оказывать нам максимальное содействие. Вас, Овсянкин, я предупреждаю персонально! Если еще раз от вас услышу идеи безрассудной смелости, порожденные острым психоэмоциональным шоком с явлениями сверхмобилизации на фоне патологического снижения критической оценки ситуации, вы познакомитесь с моим кулаком! Бью я резко. Прямо в зубы! Гарантирую потерю сознания минут на сорок! А потом я окажу вам медицинскую помощь. Это касается всех! – он остановился, смягчил интонации. – Вас потрепал пожар. Сейчас мы всех осмотрим, введем каждому необходимые препараты. Это стандартная и очень эффективная противоожоговая терапия. Дышать будет полегче. Каждый из вас будет помогать моим сотрудникам обрабатывать и бинтовать раны соседа. Потом каждый обстоятельно доложит мне, что сделал. Задача ясна? Спасатели, приступайте к своим обязанностям. Немедленно!
Хабаров видел, как воспрянули духом его ребята, как деятельно стали надевать резиновые перчатки, разбирать из чемоданчика необходимый для осмотра медицинский инвентарь, как Володя Орлов четкими, профессиональными движениями готовил пробы перфторана[35].
– Умно сказал, – Сан Саныч покряхтел, разгибая затекшие в коленках ноги. – Нам бы еще водички…
Хабаров отдал свою флягу.
– Я и притухнуть могу. Для пользы, – сказал Овсянкин, протягивая для осмотра Жене Лаврикову обожженную руку. – Только не отпустят они нас. Им свидетели не нужны.
Жадно ожидая своей очереди пить, он грязным рукавом спецовки отер пот со лба.
– Когда все загорелось и взрываться стало, нам бежать было можно только вниз, – рассказывал бригадир Чащохин. – У завода раньше под землей сырье хранилось, склады были. Мы по лестнице вниз, а там – дверь. Дверь новая, железная, с вентилем, как на подводной лодке. Мы и попались. Вверху огонь. Внизу жара, адская, и эта дверь. Думали, заживо зажаримся. Уже легкие рвало. Мы давай в дверь стучать. И знаем, что за дверью нет никого, но все равно стучим и молим Бога о чуде. Вдруг дверь открылась. Мы внутрь. Стоим посреди зала, где люди в белом за длинными столами сидят. Мы подумали, на тот свет попали! Потом лысые, с автоматами, подбежали, нас повели сюда. Ну, слава богу, думаем. Пока живые! Идем, а на столах сплошь камни драгоценные. Как в сказке…
Лавриков склонился к Хабарову, обрабатывавшему Чащохину ожог.
– Саня, это конец, понимаешь? Нас расстреляют вместе с этими девятью несчастными, если только мы не напряжем мозги и не придумаем, как выбраться!
Хабаров не ответил. Перспектива была очевидной.
Он смотрел на своих ребят. В неверном свете карманного фонарика угрюмые лица, разом постаревшие на десяток лет. Обычно всегда внимательный, Олег Скворцов что-то быстро писал в блокнот, рассеянно, раз за разом, переспрашивая имя пострадавшего. По свирепому лицу Володи Орлова недвусмысленно читалось, что сложившуюся ситуацию он успел обматерить многократно, добротно и от души. Женя Лавриков бодрился, но получалось это на хлипкую троечку.
«Хреново дело…» – вздохнул он.
По мере того, как они осматривали людей, убеждались все больше и больше, что Сомов был прав насчет термотравм. Признаки гипоксии в той или иной степени были практически у всех пострадавших.[36]
«Бедолаги… Им бы в больницу срочно. Не выживут ведь», – то и дело думали спасатели.
Что они могли? Обработать ожоги да сделать по дозе перфторана.
Но больница пока отменялась.
– Сань, ты девушку смотрел? – спросил Скворцов.
– Ожоги на ногах и рваная рана на лбу. Она, молодец, кофту сняла и через нее дышала. Тихону, что с ожогом лица и раной на спине, сделай максимальную дозу перфторана. Очень мне этот ожог и эта рана не нравятся. Надо за Тихоном присматривать. И еще, Олег, дай ему, пока он в сознании, две таблетки аспирина и одну димедрола.
– Сейчас сделаю. Сань, девушку посмотри. Рана на лбу сильно кровит.
Стараясь не наступить на чьи-нибудь ноги, Хабаров осторожно пробрался к Скворцову.
– Олег, посвети.
Фонариком Скворцов осветил и рану, и лицо девушки.
– Как вас зовут? – спросил Хабаров.
– Марина Шипулькина.
«Что-то знакомое…» – подумал Хабаров.
– Аллергии на новокаин нет?
– У меня на людей с автоматами аллергия.
– Делай анестезию, Олег. Немного потерпите, Мариночка. Больно не будет.
– Сань, может Лавриков? – Скворцов в дрожащей руке держал подготовленный шприц. – Женька по части уколов просто виртуоз.
Хабаров кивнул, сменил перчатки на стерильные.
Лавриков ловко и аккуратно ввел обезболивающее, обколов рану по периферии.
– Голова не кружится?
– Немного. Это от страха.
– Все будет хорошо.
Она вымученно улыбнулась.
– Женя, фонарем не дрожи!
Хабаров удалил рваную по краям кожу, тщательно повторно обработал рану.
– Вы-то как здесь оказались, Мариночка? – спросил он, стараясь придать голосу спокойствие и доброжелательность.
– Я же дежурный лаборант-технолог. Лаборатория в глубине производственных помещений. Чтобы в нее попасть, надо два цеха пройти. Двери все были закрыты: и в цех, и в помещение лаборатории, и в лаборантскую, где я была. Когда я запах дыма почувствовала, бежать было некуда. А окна с решетками…
Аккуратными выверенными движениями, ловко управляясь с пинцетом и иглодержателем, Хабаров ушивал рану. Лавриков не без интереса наблюдал за ним.
– Сань, – не выдержал он, – нас же этому не учили.
– Вас не учили. Как там у Маяковского? «Мы диалектику учили не по Гегелю, Бряцанием боев она врывалась в стих…» Все девять лет врывалась… Фонарем не дрожи!
Лязг запоров. Тоненький, противный металлический скрип. Не в меру яркое электрическое освещение.
– Ты! – охранник ткнул автоматом в сторону Хабарова. – Выходи!
– Рану ушью и пойдем. Два стежка. Полминуты.
Ни одно его движение не выдало волнения, только взгляд стал более сосредоточенным и в уголках рта залегли, став вдруг заметными, две глубокие морщинки.
– Я тебе повторять должен? На выход!
Дальше мат и лязг затвора.
Хабаров резко обернулся. Их глаза встретились. Так, наверное, волки смотрят друг на друга, когда голоден год, а добыча скудна и случайна и может насытить лишь одного.
– Даже на зоне «больничку» не трогают, – с укором сказал Хабаров и отвернулся к Марине.
Еще стежок, и работа была окончена.
– Женя, наложи стерильную повязку. Останешься старшим! Я надеюсь, Сева Гордеев уже наверху и рассказал, что здесь происходит.
Лавриков встал в дверях.
– Саня, ты об Алине подумал? Я пойду вместо тебя.
– Куда ты лезешь, щенок? – по тону было ясно, что Хабаров устал быть сдержанным и дипломатичным. – Хочешь мне всю жизнь виной за твою смерть испоганить?! – он отстранился, пристально посмотрел в глаза Лаврикову. – Благородство, достойное палача…
Никита Осадчий сидел за столом в массивном кожаном кресле.
– Присаживайся!
Хабаров не двинулся с места.
Осадчий бросил на стол перед Хабаровым его бумажник. Хабаров взял его, открыл. Деньги и документы были на месте.
– В этом районе есть неэксплуатируемая станция метро «Дмитрогорская». Диггеры ее называют «станция-призрак». Знаешь?
– Знаю.
– По подземельям раньше ходил?
– Ходил.
– Отсюда до нее подземельями провести сможешь?
– Это невозможно. Нет карты.
– Есть карта! Будешь проводником. Ты нас выводишь, я оставляю жизнь твоим ребятам и рабочим и тебе, естественно.
– Я похож на идиота?
Осадчий усмехнулся, потер затылок.
– Времени мало. Давай быстро выясним, на кого ты похож.
В дверях появился автоматчик.
– Веди бабу сюда!
Сколько прошло времени? Минута? Три? Пять? Или все десять? Они молча смотрели друг на друга. Хабаров с удивлением спрашивал себя, почему у него нет ни страха, ни ненависти к сидевшему напротив бандиту. Спрашивал и не находил ответа. Что-то было не так. Их энергетика сошлась, точно пазлы в детской мозаике-головоломке.
«Видимо, те девять лет для меня не прошли даром…» – почти с сожалением подумал Хабаров.
Охранник втолкнул в кабинет Марину и взял под прицел Хабарова. Девушка упала на ковер, где еще не успела высохнуть кровь Брюса Вонга. Увидев кровь, она издала судорожный крик, вскочила и так застыла, не зная, что делать дальше.
Осадчий, между тем, подошел к Марине, схватил ее за волосы и приставил пистолет к виску.
– Так похож ты на идиота, спасатель?
Осадчий смотрел ему прямо в глаза.
В этом взгляде, как ни странно, не было ни превосходства, ни угрозы. Это был взгляд уставшего человека, взгляд безысходности и сожаления.
Теряя сознание, Марина стала медленно оседать.
– С кого-то надо начинать. Почему не с нее? После нее приведут другого, – бесцветным голосом произнес Осадчий. – Считаю до трех. Три!
– Я вас выведу.
В полумраке пещеры у пробитой спасателями замуровки топтались Тагир и Емельянов. Рядом стояли шесть объемистых саквояжей.
Увидев Хабарова, несшего на руках бывшую без сознания Марину, Емельянов нервно присвистнул:
– С бабой-то куда?
– Вдруг наш проводник передумает, – сказал шедший следом Осадчий. – Он ведь из той породы людей, которые чужую жизнь ценят выше собственной. Следовательно, угрожая ему персонально, мы не достигнем желаемого.
– Гениально, босс! – воскликнул Емельянов.
– Пройдите в тоннель. Заминирую дверь, – сказал Осадчий.
– С «секреточкой», как обычно? – спросил Емельянов.
Осадчий кивнул.
– Чтоб испугаться не успели.
В тоннеле Хабаров опустился на колени и положил Марину на землю.
Несколько раз он легонько ударил девушку по щекам.
– Марина, ты слышишь меня?
– Мужик, давай я ее автоматом по уху звездану, враз очухается! – заржал Емельянов.
Девушка судорожно вдохнула и открыла глаза.
Хабаров снял теплую форменную куртку, приподнял Марину и помог ей эту куртку надеть. Грязный, местами обгоревший халатик, коротенькая юбка и тонкая шелковая блузка в сыром холодном подземелье ее вряд ли согревали.
– С-сп-па-асибо… – запинаясь, произнесла она.
Он помог ей сесть, вскользь коснулся щекой ее щеки, удовлетворенно кивнул: температуры не было. Значит, ушивая рану, свою работу он сделал чисто и правильно.
– Все хорошо, девочка. Сейчас домой пойдем. Идти можешь?
Она кивнула, всхлипнула, дрожащими руками вцепилась в комбинезон Хабарова и зашептала:
– Вы только им меня не отдавайте!
Ладошкой он вытер ей слезы.
– У меня бинты в кармане остались. Давай-ка я тебе ноги перебинтую. Будет что-то вроде рейтуз. В подземельях холодно. Градусов до 15 мороза бывает. Не надо меня стесняться. Замерзнешь с голыми ногами.
– Я, знаете, всегда жалела, что жизнь моя скучная и однообразная. Глупо, правда?
В тоннеле показался Осадчий. Он был хмур и сосредоточен.
– Емельянов, вперед. Дама следом. Потом спасатель. За ним ты, Тагир. Я замыкаю. В дороге ни звука. Саквояжи не ронять. Привал по моей команде. Пошли!
Хабаров помог Марине подняться. Она честно сделала несколько шагов, а потом рухнула, точно подкошенная, содрав об острые камни коленки в кровь.
– Я ног не чувствую, – в ужасе прошептала она. – Совсем…
– Босс, проблему надо решать!
Тагир снял пистолет с предохранителя.
– Не надо ничего решать. Это нервное у нее. Это скоро пройдет.
Хабаров подхватил Марину на руки. Внезапная резкая боль резанула по спине, отняла дыхание. В глазах потемнело. Он отпрянул к стене, уперся плечом в каменный выступ, сжал зубы. В ушах зазвенело, стало жарко.
«Что это? Поясница? Нет. Тогда что? – он сделал глубокий вдох, боль не повторялась. – Нервы ни к черту…»
Он прижал Марину к себе.
– Я понесу ее.
– Босс? – Тагир ждал ответа.
– Пусть несет. Пошли!
Холодный сырой воздух перехватывал дыхание. Под ногами скрипела крошка красного кирпича, которым когда-то, очень давно, была выложена подземная галерея. То тут, то там попадались заиндевевшие островки. Отражаясь от них, лучи фонариков били прямо в глаза, вышибая слезы.
Поворот ключа. Скрип входной двери. Знакомый с детства шорох еловых лапок по обоям. Радостное: «Слава богу! Хабаров, ты дома!»
С плошкой в руках, взбивая венчиком соус, Алина выглянула из кухни и замерла от неожиданности и удивления.
Мальчишка лет двенадцати, старательно пыхтя, тащил в прихожую здоровенную елку. Елка была раза в два больше него, тяжелая, разлапистая.
– Простите, вы к кому?
Мальчишка от неожиданности вздрогнул, резво повернулся в ее сторону. На секунду он растерялся, но потом внимательно оглядел Алину с ног до головы и очень буднично сказал:
– С Новым годом!
Он прислонил елку к стене, запер дверь, по-хозяйски заглянул в комнату.
– А отца что, нет?
– Ко-го? – все более изумляясь, по слогам выговорила Алина.
Не обращая внимания на вопрос, мальчишка прошел мимо Алины в кухню, взял со стола кусочки нарезанного горкой сладкого перца и отправил их в рот.
– Нормально постаралась! – сказал он, по-хозяйски оглядев стол, сплошь уставленный плошками с салатами. – А мясо где? Он мясо любит. Ты мясо сделала?
– Н-нет… – запнувшись, ответила Алина.
– Что и требовалось доказать! – подытожил пацан, звонко припечатав ладошкой по настенному шкафу.
Открыв дверцу, он пошуровал в шкафу, нашел рулон фольги.
– Горе ты мое, держи! Мясо в холодильнике. Исправляйся и запомни: домработницы, которые не готовят мясо, никому не нужны! А без тебя опять будем сидеть на сосисках с сардельками. Никакого полета. Ну, ладно, – мальчишка деликатно отстранил застывшую в дверях Алину. – Заговорился я с тобой. Ты работай. Я елку пойду ставить.
Он деловито надел рукавицы и потащил елку в комнату.
– Послушай, мальчик, а ты вообще кто? Тебя как зовут?
– Антон. Я – сын Александра Ивановича. Еще вопросы есть?
В дверь позвонили.
– Это ко мне!
Антон прошмыгнул мимо Алины к дверям.
Сильно подвыпивший мужичок, одетый в грязную телогрейку, валенки с галошами, пыхтя и чертыхаясь, внес в квартиру ведро песка.
– Опять у вас лифт не работает. Чуть не помер на лестнице. Хоть бросай!
– Сюда! В комнату неси, Борисыч.
– Куда прикажешь, Антоха. О-на! Хоромы какие! – мужичок присвистнул, поставил ведро с песком на паркет. – Сам-то елку поставишь? Уж елка больно велика для тебя.
– Я справлюсь. Если что, у меня помощница есть.
Антон протянул мужичку двадцать рублей. Тот растаял от умиления.
– Спасибо. Уважил.
– Ты иди, иди, Борисыч. Там кочегарка твоя без присмотра. За песок спасибо.
– С Новым годом, барышня! – Борисыч отвесил поклон безмолвно наблюдавшей за ними Алине.
– Иди уже! Не до тебя, – поторопил его Антон.
Когда Антон запер дверь, Алина спросила:
– До прихода этого «деда Мороза» с песком ты сказал, что ты – Антон, сын Александра Ивановича. Какого Александра Ивановича?
– Есть варианты? Хабарова Александра Ивановича. Хозяина этой квартиры. Для домработницы ты слишком любопытна!
Все было прежним, только вопросов стало больше, чем ответов.
Она шпиговала мясо чесноком, натирала его пряностями, заворачивала в фольгу, ставила в духовку, делала все это машинально, а думала о другом. Недоумение и обида овладели ею. Как он мог обманывать, скрывать? В какой-то момент у нее даже появилось желание бросить все и уйти. Но подумав, Алина решила, что предоставит Хабарову возможность объясниться.
Грохот падающего табурета вернул ее из раздумий в реальность.
– Антон?
Алина метнулась в комнату.
Елка лежала на боку, ведро с табуретом тоже. Песок рассыпался по паркету. Рядом сидел насупившейся Антон.
– Я же говорила, давай помогу. Не ушибся? Болит где-нибудь?
– Нормально.
– Покажи руки.
Алина взяла руку мальчишки, попыталась приподнять рукав пуловера. Он отдернул руку.
– Я же сказал, нормально!
– Я только посмотрю.
– Нечего смотреть! Сам все испортил, сам исправлю!
– Даже очень сильные люди иногда нуждаются в помощи. Принять помощь – это значит проявить разумность и осмотрительность. Я уверена, даже твой отец, человек очень сильный, иногда позволяет себе помочь. Разве ты его от этого считаешь слабым?
Антон посмотрел на Алину с интересом, внимательно.
Она улыбнулась в ответ.
– Ладно…
Антон засучил рукав. Обе руки мальчишки были в мелких царапинах.
– Я немножко не рассчитал. Лампочки вешать полез, и прямо на нее… – Антон кивнул на елку. – Хорошо, не сломал, а то бы весь праздник псу под хвост!
Алина смазала царапины йодом. Антон морщился, но терпел. Она дула на ранки, чтобы йод не щипал, хвалила парнишку за мужество, а в завершение процедуры чмокнула в макушку.
– Вы это бросьте! – возмутился Антон. – Я не маленький!
Алина погладила его по волосам.
– Я знаю.
Вдвоем они сидели возле упавшей елки и разглядывали друг друга. Алина силилась в мальчишке найти черты Хабарова и не находила. «Наверное, на маму похож», – решила она.
– Ты красивая, – сказал Антон.
– Что? Прости, я задумалась.
– Елку, говорю, поднять надо.
– Я помогу.
На установку елки ушло минут десять.
– Слушай, а с тобой здорово! Ты толковая, – хвалил Алину Антон. – Давай теперь лампочки вешать.
Встав на табурет, Алина принялась украшать гирляндой из лампочек верхушку елки, в то время как Антон крепил к еловым лапам гирлянду внизу.
– Скажи, а ты с кем живешь? – вдруг спросил он.
– Одна.
– А почему ты домработницей работаешь? Ты в школе плохо училась?
Она не скрыла улыбки.
– В школе я хорошо училась. Но у меня много знакомых, которые в школе учились плохо, двоечниками были и заядлыми хулиганами, а в итоге стали очень хорошими, умными и успешными людьми. Учеба не показатель.
– А у тебя дети есть?
– Нет.
– Почему ты замуж не выходишь?
– Слушай, маленький философ, а игрушки на елку где?
Антон растерянно пожал плечами.
– Надо поискать.
– Вы раньше с отцом наряжали елку?
Антон замотал головой.
– Я хотел сюрприз…
– Что же будем делать? Домой ехать далеко. Магазины уже закрыты. А твой отец вот-вот будет дома.
– Тогда к соседям! – твердо сказал Антон.
Едва Алина успела проверить мясо в духовке, Антон вернулся.
– Я принес! – радостно закричал он с порога. – Тетя Поля, с первого этажа, дала. У нее много! Новенькие совсем и старые… Я разные взял.
Елку нарядили к девяти. Рядом накрыли стол. Оставалось три часа до Нового года.
От праздничного мерцания огоньков на елке, запаха хвои и ароматов ужина комната стала совсем уютной, а не пустой и холодной, как после его ухода.
– Ну, вот. Все сделали, – подытожил Антон. – Тебе, наверное, идти нужно? Ты и так со мной много времени потеряла. Если честно, – Антон взял Алину за руку, – я не хочу, чтобы ты уходила. Ты – «свой парень»!
– Скажи, сколько обычно длится дежурство у твоего отца?
Антон пожал плечами.
– По-разному.
– Как ему позвонить? Я очень волнуюсь.
– Не знаю.
– А мама знает? Пожалуйста, позвони маме.
– Не знает она!
Антон отвернулся и пальцем стал ковырять щель в паркете. Алина тронула его за плечо.
– Я наврал! – вдруг выпалил он. – У меня отец – алкоголик. Мать – алкоголичка! Дерутся, бьют меня и друг друга. А дядя Саша возится со мной, как с сыном, даже ключи от квартиры дал. Сказал, что могу приходить, когда захочу. Вот я и решил, пока он на работе, сюрприз ему сделать. В праздник человеку плохо одному. Тут ты права. А дядя Саша всегда один. У него глаза грустные. Я тоже всегда один. Мои с обеда пьяные спят. Паленой водки где-то по дешевке купили… Деньги, последние, что я на елках за неделю заработал, пропили…
Кулаком небрежно он стер брызнувшие слезы.
Алина погладила его по голове. Он вырвался.
– Я тоже должна признаться тебе. Я не домработница. Я тоже хотела сделать сюрприз Александру Ивановичу. Два сюрприза – это же здорово!
Алина протянула ему руку.
– Мир?
– Ты правда не обиделась?
– Что ты…
Алина обняла мальчишку.
– Ты хорошая.
– Я уверена, будь у Александра Ивановича сын, он не смог бы относиться к нему лучше, чем к тебе. Слушай, Антоша, а давай-ка перекусим!
– Я голодный. Я с утра на елочном базаре работал. Елки продавал. Сурену, хозяину, сказал, что сегодня работать буду не за деньги, а за вот эту елку. Представляешь, вот эту красавицу заработал! Мужики мне говорят: «Глупый, бери лучше деньги!» Но я же деньги дяде Саше на Новый год не подарю…
– Ты что, целый день был на морозе?!
– Мы с мужиками подменяли друг друга. По полчаса в котельной, у Борисыча, отогревались.
Алина с удовольствием кормила Антона, радовалась, глядя, как он уплетает кушанья за обе щеки. Сама же к еде не притронулась. На сердце было неспокойно и муторно.
После ужина Алина настояла, чтобы зазевавший Антон немного поспал, и обещала разбудить его сразу, как придет Хабаров. Антон отказался от предложенной спальни и устроился прямо в зале, возле елки, на громадном кожаном диване. Она укрыла ребенка мягким пледом и ушла на кухню.
Было почти десять вечера. От соседей доносились звуки праздничных застолий, двор тонул в канонаде фейерверка. Люди жили праздником.
«Сделать, что ли, фруктовый салат на десерт? От тупого ожидания я просто сойду с ума…» – подумала она.
Алина вымыла фрукты, словно вспомнив о празднике, тихонько включила телевизор.
Мимо пожарных машин и машин «Центроспаса» туда-сюда сновали люди в камуфляже и суетились штатские.
«Что происходит?» – Алина прибавила звук.
Пятый канал давал прямой репортаж с площади Советских Космонавтов. Репортаж вел однокурсник Алины по журфаку МГУ Сергей Ведищев.
– … в операции по освобождению заложников будет задействован СОБР. Напомню, что именно СОБР принимал участие в спасении детей, захваченных террористами в Ростове-на-Дону. Потом Минеральные воды и освобождение заложников в Махачкале, регулярные командировки в Чечню. Безусловно, к операции по спасению заложников подключено высокопрофессиональное подразделение, имеющее большой боевой опыт…
Алина взяла телефон, набрала номер своей редакции.
– Толик, как дежурство? – формально поинтересовалась она и, не дожидаясь ответа, спросила: – Что происходит? Кого на этот раз взяли в заложники?
Услышанное сильно подействовало на нее. Мысли крутились заевшей пластинкой: «Бригада спасателей пропала… Вероятный захват заложников… Бригада спасателей пропала… Вероятный захват заложников… Бригада спасателей пропала… Вероятный захват заложников…»
– Господи, только не это!
Оставив на кухонном столе записку Антону, она поехала на встречу с Сергеем Ведищевым – специальным корреспондентом рейтингового пятого канала.
Небо то там, то здесь расцветало букетами фейерверков. Метель приостановила свою карусель, ожидая от наступающего года команды «Старт!»
Светофоры дружно давали мигающий желтый.
Красная «Мазда» мчалась по непривычно пустым улицам Москвы на площадь Советских Космонавтов.
Беда пришла – не спросила, уселась хозяйкой, ехидно оскалилась:
– Вы, захлестнутые петлей серых будней, всуе давшие зарок жить долго и счастливо, чего притихли?
Каждому стало ясно: теперь все торги и уступки, все сделки с судьбой отменяются.
Теперь просто жаль. До слез. До рези в горле. Так, что сердце рвет на куски.
Вроде бы знаешь уже, нащупал, как надо. Вроде бы стыдно уже, что жил, подражая тем, с кем жил. Вроде бы уже решил не собирать себе сокровищ на земле[37] и не служить двум господам[38]…
Но… слишком уж долго было пусто твое «свято место»…
– Жень, – Скворцов ткнул локтем в бок Лаврикова. – Как думаешь, там есть что-нибудь?
Лавриков обернулся на голос. В темноте рассмотреть лицо лежавшего на полу Скворцова было невозможно.
– Там, как говорят, родственники нас встречают… – продолжал со вздохом Скворцов. – Я ж детдомовский. Страшно…
– Ничего, позвонок. Я отцу скажу. Он тебя как родного встретит. Отец меня очень любил. У нас с ним тайн друг от друга никогда не было. Всему, что в жизни умею, он меня научил. Ты знаешь, Олежек, он такой дельный мужик был! Все крутился, вертелся. На пенсию ушел, казалось, сиди и радуйся, а он – нет. Взялся учиться шить. Через пару месяцев уже дубленки шил. Потом к сапожникам ушел в ученики. Как же это я, говорит, столько живу, а обувь ремонтировать не умею. Так мы с мамой жили – горя не знали. Он всю обувь в доме в порядок привел, соседи к нему зачастили с починкой, потом вся округа… Вот и ходил я, балбес, при повальном дефиците обшит и подкован. Мама, бывало, кричать на него начнет, мол, пожалей себя, ляг, полежи лишний час, а отец обнимет ее за плечи и тихонько так шепнет: «Зоюшка, время придет – отдохнем». Трудяга был. Он с моей курткой в руках так и помер. Подкладку новую на карманы ставил. Вдруг матери говорит: «Что-то худо мне, лягу». Лег, вроде отпустило. Он лежа дошивать стал. Потом, прямо с курткой моей в руках, уснул. Во сне, куртку мою к себе прижимая, и умер. – Лавриков судорожно выдохнул. – Олежек! Нашел же ты тему…
Скворцов грустно усмехнулся.
– А я после детдома поболтался, маленько. Никто никуда не берет. Жрать нечего. Вот я и пошел служить. В Афган заявление подал. Как узнали, что родных нет – зеленый свет. После «учебки», на пересылке, мы впервые «груз-200» увидели. Да не так, как по телеку показывают – в цинковых гробах, а просто человеческое мясо. Его брали из бочки и прямо из самолета, как попало, раскидывали по этим цинковым гробам: куда ногу, куда кусок туловища. Помню, ведрами из бочки черпали куски тел наших ребят и по гробам разливали. Пацаны тогда мочу желтушников пили, чтобы заболеть и «за речку» не попасть. А я желтухой болел… Ну, само собой, из-за прыти своей уже дней через семь был под Джелалабадом. Помню, мы караван с провизией сопровождали. Стрелять толком не умеем. Желторотые все. Рвануло рядом, откинуло, оглушило. Очухался в воронке. Рядом водила без ног догорает. А потом бой. Точно во сне… Точно не со мной… Так страшно было! Нас, троих, духи окружили и десять минут на сдачу в плен дали. Они за каменным уступом ржут, песни поют, а у нас на троих один патрон… Пашка Удалов тогда умом тронулся. Был нормальный парень, а тут…
– Как же вы выбрались?
– Наши «вертушки» стали зачистку делать. Конечно, не разбирали, кто свой, а кто… Мне повезло. Мне и еще сержанту из второго взвода. Женя, скажи мне, – Скворцов привстал, склонился к Лаврикову, – зачем я выжил? Чтобы эти суки за бабки свои, грёбаные, меня, как кота помоешного, задавили?! Зачем?!
– Тихо! Тихо, позвонок. Люди спят! – Лавриков больно сжал его руку. – Все будет хорошо, Олежек. Сева Гордеев уже наверху. Нас очень скоро отсюда вызволят. Сева парень не промах. В подземельях как у себя дома.
Скворцов отстранился, лег.
– Как думаешь, они Саню с девчонкой уже?
– Не знаю. Не думай об этом. Поспи, Олежек. Уже сутки на ногах. Устал ты. Да и я вздремну.
– Хотел бы уснуть. Не могу. Женька, я ничего не могу…
– Алёнушка, через полтора часа ты и увидишь, и обнимешь меня. Обещаю! Ну, перестань! Как не совестно… – полковник Звягин прикрыл трубку рукой, отошел подальше от «Соболя», на целые сутки ставшего ему и домом и рабочим кабинетом. – Люблю тебя. Слышишь?
– Товарищ полковник, «восьмой» на связи. Еще по телевизору про наш пожар говорят.
Демочкин протянул полковнику рацию.
– Сейчас иду! – рявкнул Звягин. – Иди в машину! – и уже совсем по-другому, тихо и нежно в телефон: – Аленка, мы уже сворачиваемся здесь. Я? Конечно, соскучился! – он улыбнулся. – Я всегда голодный. Ты же знаешь.
Он обернулся на шум взревевших моторов.
– Сейчас колонна пойдет. Не могу говорить. Еще чуть-чуть поруковожу и обниму мою строгую жену…
Шум приближающейся колонны нарастал. Отработав, пожарные возвращались назад, в часть. Звягин спрятал телефон в карман, закурил, с удовольствием затянулся, поежился от мороза, глянул на часы: 3.20.
– С Новым годом, Иван Лукич! – поздравил он сам себя. – Как говорится, как встретишь…
Он запрокинул голову и посмотрел на звезды.
«Хорошо, что ветер восточный. Дым не в город…» – невольно отметил он.
Звягин устало закрыл глаза и так замер. Его лицо было словно вырубленным из глыбы мрамора умелым скульптором: резкие, крупные черты лица, строгие, мужские.
– Товарищ полковник, «восьмой» же на связи! – из «Соболя» опять высунулся Демочкин.
– Давай! Дверцу закрой, замерзнете.
Звягин взял рацию, но в машину не сел. После суток беготни и нервотрепки от тепла в салоне клонило в сон.
– Звягин на связи, – и, через паузу. – Слушай, Андрей Сергеевич, это что, шутка про ФСБ-шников? Если они мне пожар едут помогать тушить, так опоздали! – Потом он долго слушал, его лицо становилось все более серьезным. – Я понял. Понял тебя. Конец связи.
Звягин сплюнул с досады.
– Не человек я, что ли?! Водки, селедки и горячей картошки хочу! – Он открыл дверцу в салон «Соболя».
– Жандаров! Михайлов! Демочкин! Подъем! Срочно привести в порядок отчет о тушении пожара. Жандаров, вызывай назад наряды. Готовность номер один. Вероятность подземного взрыва.
– Товарищ полковник, это что, шутка? – Жандаров сонно таращил глаза.
– Шутка, майор, будет позже. Сейчас «клоуны» из ФСБ подъедут, обхохочемся!
Вот уже третий час ничем не примечательная площадь Советских Космонавтов была центром внимания средств массовой информации.
Несмотря на новогоднюю ночь, в близлежащем парке вырос целый городок из спецмашин ТV и палаток-студий с выставленным светом. Журналисты сновали вокруг оцепления, пытаясь раздобыть хоть какую-то информацию, и даже с крупицами новостей выходили в прямой эфир.
– Товарищи журналисты, проявите терпение! Мы предоставим вам полную информацию сразу по завершении операции. В настоящее время наше нежелание общаться с вами обусловлено только интересами дела. Возможно, это создает трудности в вашей работе, но это наше окончательное решение и, боюсь, мы не сможем его изменить, – Андрей Сергеевич Сомов был максимально дипломатичен.
Сквозь плотное кольцо журналистов ему с трудом удалось пробраться назад, за милицейское оцепление.
– Откуда пронюхали? Черт! – выругался Сомов.
– Что, досталось?
Худощавый высокий брюнет в штатском, плохо скрывавшем его военную выправку, протянул руку.
– Полковник Хрыпов.
– Здравия желаю. Меня предупредили. Я в вашем распоряжении. Хотя, говоря по правде, даже не знаю, чем могу помочь.
Сомов зачерпнул горсть снега с крыши машины «Центроспаса», отер лицо.
– Говенная работа у нас, полковник. Не смогу простить себе этот риск, эту прыть свою! Честное слово!
– Сможешь, – Хрыпов спокойно и холодно смотрел на него. – Ты вот что, Андрей Сергеевич, дай нам спасателя своего, ну, того, что назад добрался.
– Гордеева?
– Он, говорят, эти подземелья хорошо знает.
Сомов с готовностью кивнул.
– Конечно, берите. Только живым верните.
– Снимайтесь отсюда! Милицейский пост оставим, чтобы журналисты не борзели, и все. Тем путем, каким ушли твои спасатели, – Хрыпов топнул по крышке канализационного люка, – они уже не вернутся.
– Вот задница! Мозгопутало хреново! – ругался Сергей Ведищев, выбираясь из толпы журналистов.
Он торопливо сматывал шнур микрофона, то и дело поеживаясь от стужи.
– Миш, не расслабляйся. Я тут еще порыскаю! – крикнул он оператору.
Ведищев спрятал микрофон за пазуху, надел капюшон теплой куртки и, стянув перчатки, потер защипавшие на морозе уши. Потом он достал из накладного кармана на рукаве пачку сигарет и зажигалку, сунул сигарету в рот, попытался прикурить.
– Да ё ты моё!
Ведищев потряс зажигалку, вхолостую пощелкал и в сердцах бросил ее в снег. Схватив за рукав пробегавшего мимо паренька, он прикурил от его сигареты. Он курил и размышлял, что предпримет дальше, когда увидел ту, которую давно и безуспешно пытался забыть. Он смотрел на нее жадно, словно видел в последний раз, а она что-то всё говорила, говорила…
– Я думал, помню твое лицо… – не в тему сказал Ведищев. – А ты… Ты совсем другая.
– Что? Сергей, ты не слушаешь меня!
Ведищев отвернулся, поискал взглядом оператора, потом холодно и безразлично произнес:
– У меня работа. Зачем я тебе?
– Может быть, ты знаешь, кого именно взяли в заложники? Я нигде не могу добиться фамилий!
Ведищев склонился к ней, саркастически хмыкнул.
– Статейку хочешь тиснуть? Бог в помощь! Ведищев тут при чем?
– У тебя источники в спецслужбах.
– Мои источники – это мои источники! – с нажимом произнес он.
– Поверь, твоему первенству на информационном поле ничто не угрожает.
– Тогда каким местом это тебя касается?
Она не ответила, отвернулась, глубоко вдохнула и затаила дыхание, чтобы не заплакать, но слезы помимо ее воли потекли по щекам.
– О-о-о, мать… Прости, – размяк Ведищев.
– Сергей, скажи мне, Александр Хабаров есть среди заложников?
– Заложников четверо: Орлов, Хабаров, Скворцов и Лавриков.
– Они живы? – спросила Алина едва слышно.
Он сделал знак оператору следовать за собой.
– Ну-ка, пошли! Наплакаться успеешь!
Ведищев взял ее за руку и потащил к оцеплению. Он шел так быстро, что Алина едва поспевала за ним. У цепочки стоящих в оцеплении бойцов ОМОНа Гордеев остановился и развернул ее лицом внутрь периметра.
– Мне нужен человек по фамилии Гордеев.
– Сева? Зачем?
– Он был с ними. Он многое может прояснить. Официально он недоступен, но я должен взять у него интервью!
Она вырвалась, отскочила.
– Ты – ненормальный! Есть для тебя что-нибудь святое в этой жизни, кроме рейтинга?! Пиарься! Я тебе не помощник!
– Еще как помогать будешь! – с холодной, самоуверенной ухмылкой пообещал он. – Больше двух месяцев прошло с момента теракта на Дубровке, но сто тридцать погибших ни силовиков, ни политиков ничему не научили. Сегодня вновь бандиты будут выдвигать требования, а власть – устраивать истерики. Провал со спасением заложников обзовут «спецназовской драмой в силу принятия ряда неправильных управленческих решений». Только заложников это не вернет! Сейчас в эфире только общие фразы. Вроде бы что-то произошло, а может быть и нет. Не стоит волноваться. Новый год все-таки! Какая ерунда – четыре жизни. «Мы будем держать вас в курсе событий…» – это все, что большинство из нас может сказать! К дьяволу общие фразы! – Ведищев сорвался на крик. – Надо, чтобы трагедия четверых стала личной трагедией каждого гражданина этой страны, от кухарки до президента! Надо взорвать общественное мнение к чертовой матери! Чтобы каждая кабинетная крыса поняла, что за ее решением следит вся страна и вся страна его оценивает и промаха не простит! Что такой «победы», как на Дубровке, силовикам мы больше не позволим! Ты поняла меня?!
Алина кивнула.
– Сережа… Я…
– Гордеева ищи!
Было много суетящихся в кольце оцепления людей, они сновали среди спецмашин, спускались в канализационные люки и поднимались на поверхность, но Гордеева нигде не было.
– Если увидишь его, сразу беги к нему, кричи, что ты его жена. Дайте, мол, минутку с мужем пообщаться. Только на окрик оцепления не останавливайся. Поняла?!
Она растерянно замотала головой.
– Ничего, пресса, по ходу догонишь. Шубу расстегни.
Ведищев прицепил к воротнику крохотный микрофон, шнур от него спрятал Алине под шубу, передатчик пристегнул к ремню.
– Ты глазами-то активнее вращай. Околеем!
Он обернулся к оператору.
– Следи за ней, Миша. Будь наготове! У нее «жук». Настройся на «жука».
Из-за пазухи он достал микрофон, кинул конец шнура оператору.
По периметру они обошли почти всю площадь. Алина внимательно вглядывалась в лица. От напряжения, от ледяного ветра начинали слезиться глаза. Она продрогла. Казалось, что кроме мороза и снега в мире ничего не осталось.
– Алина!
Она обернулась. Из черной «Волги», припаркованной за пределами оцепления в переулке, вышел мужчина.
– Это он!
– Миша, погнали! – скомандовал Ведищев. – Доброй ночи! С вами вновь Сергей Ведищев. Нам удалось разыскать Всеволода Гордеева – единственного из группы спасателей, вернувшегося назад на этот час. Сейчас вы видите его встречу с женой командира их группы Александра Хабарова…
Она бежала к нему, точно от того, успеет или нет, зависела ее жизнь.
– Где Саша, что с ним? Сева, прошу, не молчи!
Гордеев не знал, как ответить. Он тщетно подбирал слова, стараясь смягчить, потом вдруг понял, что ситуацию не отлакируешь.
– Все худо. Их всех взяли!
В голосе звучали вина и обреченность.
– Мы добрались до подземных помещений завода. Нас встретили вооруженные автоматами люди. Мне Саня приказал уходить наверх. Это был приказ, понимаешь? – словно оправдываясь, уточнил он.
От группы сотрудников милиции отделился мужчина в штатском и пошел к ним.
– Гордеев, сядьте в машину! – крикнул он.
– Я что, арестован? Тогда наручники наденьте! На Лубянку везите! Нечего на меня орать!
– Вы кто такая? – личность в штатском буравила глазами Алину.
– Жена моя! – с вызовом заявил Гордеев и нагло обнял «жену».
– Дайте хоть пять минут с мужем поговорить, имейте совесть! – тут же нашлась она. – Хоть обниму его. Вся испереживалась!
Мужчина в штатском погрозил Гордееву пальцем.
– Вы давали подписку о неразглашении. Жене никакой информации!
– Само собой! – честно пообещал Гордеев.
Представитель силовой структуры покосился на Ведищева и его оператора, снимавших неподалеку, но ничего подозрительного не обнаружил. Невдомек ему было, что оператор через плечо специального корреспондента, делавшего вид, что ведет репортаж, снимал совсем другие крупные планы.
– Ты только не пугай себя. Потерпи, – говорил ей Гордеев. – Тут спецов понаехало… Меня раз десять спрашивали, что да как. А что я? Мордой в землю и ползу назад. Ребятам кричат: «Руки в гору! Лицом к стене!» Здесь вылез, кричат: «Молчи! Не разглашай!» Я на два канала позвонил, информацию дал. Телевизионщики сюда прилетели. После них только и зашевелились. Новый год же! Как-то всем до следующей зимы, что наши ребята там… Мне, как положено, Сомов в челюсть за нарушение субординации, – он потер покрасневшую, опухшую щеку. – Но лучше уж так! Мы знаем, как государство заботится о своих гражданах. Сегодня никто ребят искать не стал бы. И завтра не стали бы. Праздники…
– Сева, ты выстрелы слышал, когда полз назад?
– Не было выстрелов.
– Уверен?! – Алина ухватилась за эту подробность, как за соломинку.
– Понимаешь, в замкнутом пространстве подземелья любые звуки чрезвычайно усиливаются. Даже звуки шагов слышны на очень значительном расстоянии. Звук выстрела в подземелье – как удар по барабанным перепонкам. Можно глухим остаться. Не услышать невозможно.
– Где находится то место, куда вы дошли?
– Прямо под заводом. Двести тридцать четвертая галерея к нему ведет.
– Сколько автоматчиков ты видел?
– Было человека четыре, я думаю. Ребята нарочно долго через лаз выбирались, чтобы я уйти сумел. Двоих я видел, но по голосам вроде бы четверо было. А вообще, черт их знает!
Состояние Гордеева едва вытягивало на хлипкую троечку.
К машине подошли трое в штатском.
– Гордеев, надо ехать.
Он послушно сел на заднее сиденье «Волги», махнул Алине рукой. Заурчал мотор, машина резко сорвалась с места и исчезла за углом.
Ведищев радовался, как мальчишка.
– Молодец! Классно сработала! По коньячку – и монтировать!
В машине было тепло.
– Куда мы теперь? – спросила Алина, жестом отказавшись от предложенного коньяка.
– Ты – домой. Все самое интересное будет утром, когда ФСБ проснется.
Ведищев хитро улыбнулся, отхлебнул коньяк из пузатой фляжки, выдержал паузу.
– Постой, Сергей, в своем репортаже в десять вечера ты говорил, что в освобождении будет принимать участие СОБР. Это структура МВД.
Ведищев кивнул.
– Соображаешь, пресса! Но это старая информация. От своего источника в СОБРе я узнал, что все полномочия по ведению операции забрали себе чекисты. Так что, – подытожил Ведищев, – не все так просто, – он деликатно зевнул. – Но. Но… Мы ничего до утра не узнаем. До утра ничего не будет.
– Что ты думаешь обо всем этом?
Ей было важно знать его мнение. Ведищев был профи. Его репортажи из Чечни в первую и вторую войну, из Приднестровья, Косова, Абхазии были всегда обстоятельны и компетентны. Он обладал репортерским чутьем, знанием логики развития событий, а работа преимущественно в горячих точках научила его понимать и предугадывать тактические ходы спецслужб.
– Начнем с того, что ни в одной стране мира не допускаются прямые трансляции с мест таких событий. Но у нас демократия. Снимай, пожалуйста! В другой стране просто бы убрали камеры. Телевидение дает прекрасную возможность быть в курсе всех происходящих событий! Помнишь Дубровку? Благодаря телевидению не только боевики, но и их командиры в Чечне, и зарубежные спонсоры видели все своими глазами, вносили по телефону оперативные коррективы в действия этой уголовной мрази! Два месяца прошло, но история нас не учит. На ошибки, и свои, и чужие, нам начхать! «Даешь прямой эфир!» Мы морозим задницы и выдаем эти прямые эфиры. Не сумел снять – профнепригоден. Сегодня за ночь я взял восемь интервью. Алина, я давно мешу грязь по бездорожьям нашей необъятной Родины и за ее пределами, много понюхал пороху, но одного понять не могу: люди, по каким-то причинам ставшие народными избранниками, оказывается еще и суперпрофи в антитерроре. Они капают на мозги спецам из штаба по освобождению заложников, откровенно мешают им, превращая спецоперацию в предвыборное шоу. Смотри, – Ведищев ткнул пальцем в стекло, – с умным видом митингуют вокруг канализационного люка, через который ушли спасатели, а их помощники за нашим братом бегают. «Снимите босса!» Еще и приплатить готовы за говорящую голову в прайм-тайм. У восьми таких «героев-освободителей» сегодня брал интервью. А куда деваться? Как ты считаешь, мне больше заняться нечем?!
– Серюнь, не парься. Сейчас «нашинкуем» депутатов на сорок секунд, – пообещал оператор.
– Они и этого не стоят! По городу ввели план «Гроза». Установили оцепление и здесь, и на заводе. Куда ни глянь, милицейское усиление, – хладнокровно продолжал Ведищев. – К сгоревшему заводу лакокрасок пригнали дивизию имени Дзержинского с бронетехникой. Скажи мне, зачем? Идет симуляция активных действий на фоне отсутствия четкого плана действий. От этих потуг заложникам ни жарко, ни холодно. Вывод хочешь?
– Хочу.
– Наш российский бардак – самый лучший бардак в мире!
Оператор Миша нарочито громко кашлянул.
Ведищев спохватился.
– Прости. Ты спросила. Я ответил. Заводи, Миша! Девушку домой отвезем, потом на студию, кассеты в монтаж отдадим и к пожарникам на завод поедем. До семи надо – кровь из носу – успеть. Иначе мой человечек сменится, и через два оцепления мы ни за что не прорвемся. Будем без инфы куковать.
– Спасибо вам, ребята. Вы езжайте. Вы и так всю ночь возитесь со мной.
– Провожу.
– Не надо. Позвони мне!
Через площадь, вдоль кольца оцепления она шла к брошенной напротив парка машине. Ей хотелось только одного: поскорее убраться отсюда, спрятаться от людей и выплакаться вволю.
У машины Ведищев догнал ее.
– Мне только что позвонили. Спецподразделение «РОДОН» закончило тренировку на аналогичном объекте в районе «Речного вокзала».
– «РОДОН»? Что это?
– «Российский десант особого назначения». О нем сам Господь мало чего знает. Работают по миру. Везде. Спецоперации не разглашаются.
– Куда же попали наши ребята, если «РОДОН» привлекают?
– Предварительно начало операции назначено на десять часов. Через два часа.
– Долго она длится, эта операция?
– Алина, такие операции не длятся больше пары минут. Готовятся долго.
Ведищев помог ей сесть в машину.
– Все будет хорошо. Ты только верь.
– Я верю. Что остается…
Красная «Мазда» летела по пустому утреннему МКАДу с запредельной для скользкой дороги скоростью сто пятьдесят километров в час. Зазевавшиеся от утреннего безделья гаишники глядели ей вслед, сокрушенно качая головами: «Быстро едешь, тихо понесут…»
Холодная луна одиноко висла над крышами. Ни облачка. Ни дуновения ветра. Заиндевевшие ветки деревьев искрились колючим, неживым светом. Таким же неживым светом реклама била в глаза. Ни единого прохожего, редкие встречные автомобили. Мир затаился, замер, будто в ожидании неминуемой беды.
Рыжий КамАЗ стоял поперек шоссе. Всего двадцать минут назад в результате касательного столкновения он завалил на бок к разделяющему встречные потоки барьеру пассажирскую ГАЗель. Врачи двух скорых оказывали пострадавшим первую помощь. Движение вынужденно осуществлялось по единственной свободной крайней правой полосе.
Инспектор ДПС Егор Серебряков еще издали заметил красную иномарку, приближавшуюся к месту ДТП. Водитель-лихач вел машину с опасной скоростью, точно не видя препятствия, целя в копошившихся у скорых людей. Мгновенно оценив ситуацию, Серебряков кинулся навстречу машине.
– Сворачивай! Тормози! – на бегу кричал он, размахивая жезлом, словно водитель красной иномарки мог его услышать.
Пустая, однообразная дорога сквозь пелену слез дрожала и плавилась. Бил холодный озноб. Мысли путались и неслись вне пространства и времени. Вдруг огромный черный дог выскочил прямо перед машиной и кинулся в молниеносном прыжке прямо в лобовое стекло. Алина инстинктивно вжала педаль тормоза в пол, обеими руками уперлась в рулевое колесо, ожидая неминуемого удара. Машину закрутило волчком и швырнуло в гору снега, которую только что нагреб грейдер, расчищавший площадку перед постом ДПС.
– Это ж надо так ужраться! – присвистнул старший лейтенант Серебряков.
Он снял шапку и рукавом вытер со лба капли холодного пота.
– Злодей! Чуть будку нашу не снес! Виноградов, пойдем на место имения! – походкой «хитренькие ножки» Серебряков направился к машине.
Тревожная зыбкая тишина. Сознание рыбой плавает в мутной холодной воде. Изредка над водой появляются лица. Они размытые и беспомощно шевелят губами, не издавая ни звука. Лица то резко появляются, то так же резко исчезают.
– Борис Сергеевич, она опять потеряла сознание! – сказала фельдшер.
– Зина, голову, голову поддержите. Осторожней! – скороговоркой произнес врач. – Теперь, господа гаишники, кладем ее ровненько на носилки и в скорую.
Инспектор Серебряков растерянно смотрел на бесчувственное тело молодой женщины.
– Док, жить будет?
Врач раздраженно махнул рукой.
– Закройте дверь, молодой человек.
Серебряков послушно захлопнул боковую дверцу и присел на ступеньку в салоне скорой.
– С той стороны, пожалуйста! – рявкнул док и, уже фельдшеру: – Чего ты возишься, Зина?! Дай шприц, сам введу.
– Вы куда ее? – спросил Серебряков.
– В пятую. Все, инспектор, вылезай. Поехали.
Серебряков стоял посреди шоссе и сосредоточенно смотрел вслед удалявшейся скорой.
Перед глазами была одна и та же картина: разбитое левое боковое стекло «Мазды», сквозь проем видно неестественно бледное очень красивое лицо, ручеек крови вдоль уха. Он отстегнул ремень безопасности, и бесчувственное тело молодой женщины упало ему на руки. Женщина открыла глаза, посмотрела на него, что-то прошептала и склонила голову ему на плечо, словно просила помощи и защиты.
– Егор! Оглох что ли?
Серебряков резко обернулся. Виноградов подозрительно покосился на него.
– Ты как, нормально? На тебе лица нет.
Серебряков кивнул. Он будто впервые увидел и эту дорогу, и лежавшую на боку ГАЗель, и КамАЗ, и людей, копошившихся подле.
– Держи. Кровь вытри, – Виноградов протянул ему комок белого снега и показал на окровавленный рукав форменной куртки.
Серебряков тупо крутил комок в руках, глядя то на него, то на дорогу, по которой ходил туда-сюда, причитая, пьяный водитель ГАЗели.
– Урод, иди сюда! – рявкнул ему Серебряков. – Уйди, говорю, с проезжей части! Раскатают тебя, как бобика! Иди в «будку», объяснения пиши! Скройся, чтоб я тебя долго искал!
– Чего рот раскрыл? Машину на эвакуатор грузи! Нам дорогу освобождать надо! – крикнул Виноградов эвакуаторщику. – Егор, – он внимательно посмотрел на напарника, – давай по пять капель. У меня фляжка коньяку в бардачке.
Тот кивнул, вспомнил про снег и стал им затирать кровь на рукаве.
Черный «Форд-Фокус» остановился перед парадным входом школы № 234. Одетый в штатское генерал-лейтенант Иван Андреевич Гамов гулко хлопнул дверцей машины и не по возрасту легко стал подниматься по ступенькам.
На генерале был черный строгий костюм, безупречная белая рубашка, черный в тон костюму галстук, с неброским рисунком из косых белых полосок, черное осеннее пальто нараспашку и белый шелковый шарф. То, что одежда явно не по сезону, Гамова совершенно не заботило. Его мужество и сдержанность, его худощавая вытянутая фигура, выразительный профиль, красивые седые волосы невольно вызывали ассоциацию с генералом Иваном Вараввой из всеми любимого фильма «Офицеры».
– Здравия желаю! – боец у входных дверей замер в приветствии. – На второй этаж, пожалуйста. Лестница справа от входа, – четко отрапортовал он.
Гамов кивнул, вошел внутрь, осмотрелся и свернул направо. Звук его шагов гулким эхом разлетался по пустому школьному коридору. За приоткрытыми двустворчатыми стеклянными дверями он увидел лестницу и по ней стал подниматься на второй этаж.
Он внимательно смотрел на портреты русских писателей в тонких металлических рамках, на цветы, густой зеленью обрамлявшие перила по всей их длине, на стертые детскими ногами ступени и ловил себя на мысли, что чего-то главного недостает. Он на секунду остановился, обернулся. Коридор внизу был по-прежнему пуст. Наконец, он понял: детских голосов недостает, детского шума, гама, детской возни. Гамов улыбнулся и вспомнил внука.
– Дедусь, Бог сотворил вселенную за шесть дней, я надеюсь, твои планы менее амбициозны… – внук прильнул к нему. – Я тебя год не видел, а батя за мной уже четвертого приедет.
Он ласково погладил мальчишку по темно-русым волосам.
– Служба, внук. У тебя будет лишний повод задуматься, стоит ли в суворовское идти. Ведь нормальной жизни, в обывательском смысле, у военных не бывает.
Внук сердито засопел, потом заявил с вызовом.
– Дед, хоть ты не наседай! Мамка меня врачом видеть хочет, батя в банкиры определил. А я как ты хочу!
– Тоже хочешь внука в Новый год бросать и на работу идти, когда все празднуют и отдыхают?
– Он поймет…
– Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! – отрапортовал дежурный.
В руке он держал глобус.
Импровизированный пост дежурного оборудовали прямо в коридоре второго этажа, у лестницы, притащив из кабинета географии учительский стол, на котором все еще лежали сложенные высокой стопкой контурные карты.
– Максим, глобус-то тебе зачем? – спросил Гамов.
Всех бойцов отряда «РОДОН» он знал не только в лицо и по фамилиям, но и по именам.
– Так скучно же, Иван Андреевич! – выпалил Новеньков и тут же поправил себя: – Я хотел сказать, товарищ генерал, они там, в классе, заседают, а мы – «собаки войны»…
Гамов пошел к кабинету географии, из которого доносились приглушенные закрытыми дверями голоса. У дверей он на несколько секунд остановился, отметил про себя: «Хрыпов заканчивает доклад», – и вошел внутрь.
Увидев Гамова, Хрыпов прервал доклад, вытянулся по стойке смирно, скомандовал:
– Товарищи офицеры!
Аудитория стала вставать, трудно выбираясь из-за парт.
– Сидите-сидите, – Гамов остановил жестом присутствующих. – Продолжайте полковник Хрыпов. Вы – руководитель штаба, руководитель всей операции. Я послушаю.
Гамов сел «на камчатке», за единственную незанятую школьную парту.
Кабинет успели обустроить для нужд штаба. На доске, во всю ее ширину, висела подробная карта района, на пододвинутой к доске парте был оборудован мобильный пункт связи, возле которого спиной к аудитории сидели два радиста. Слева, у окна, была установлена антенна в виде внушительных размеров тарелки. На первых двух партах в ряду у двери установили компьютерную технику.
Вместо учеников за партами сидели дяди, в чине не ниже подполковника, и двое в штатском, не считая самого Гамова. «Медицина…» – для себя отметил Гамов.
– С оцеплением, эвакуацией людей из близлежащих домов и учреждений мы решили. Пожарникам все ясно? – Хрыпов в упор посмотрел на сидящего перед Гамовым плотного седого полковника.
– А мне уже вторые сутки все ясно, – ответил тот. – Оно горит, мы тушим!
Хрыпова передернуло.
– Дисциплинка у вас, Звягин, – ехидно сказал он. – Вот передадут вас МЧС, кончится ваша вольница!
Гамов посмотрел на форменную куртку Звягина, то здесь, то там обпачканную гарью и сообразил, что запах дыма в классе от нее.
– Сомов, вы безотлагательно проведите дополнительное изучение района с соседями. «Центроспас» выделяет вам весь соседский резерв. Района они не знают. В общем, Андрей Сергеевич, организация их работы на тебе.
– Есть! – коротко ответил сосед Звягина.
– Передали тебя МЧС, и кончилась твоя вольница, – склонившись к уху Сомова, сказал Звягин.
– Напиться бы… – ответил тот.
Хрыпов постучал кончиком авторучки по столу, требуя тишины.
– Вроде бы все обсудили. Вопросы?
– Вы нам время начала операции скажете?
– Все узнаете в свое время, – коротко ответил Хрыпов. – Еще?
Двое мужчин, которых Гамов окрестил «медициной», о чем-то оживленно спорили между собой. Потом один, что помоложе, поднял руку.
– Вот нам, людям в белых халатах, так и не ясно после вашего почти часового выступления, будете вы газ применять или нет, и если будете, какой именно? – с некоторой горячностью начал он. – И главное, что является антидотом к нему? Чтобы не вышло, как на Дубровке.
Хрыпов мельком взглянул на Гамова и скороговоркой произнес:
– Тасманов, это – закрытая информация.
Доктор не удовлетворился ответом, не сел на место, наоборот, он вышел из-за парты и теперь стоял рядом с Хрыповым перед аудиторией.
Тасманову было тридцать восемь. Он относился к той редкой породе людей, которых называют жизнелюбами. Высокий, стройный, темноволосый, с простым, открытым, симпатичным лицом и черными глазами, общительный, одаренный талантом нравиться людям. Никому и в голову бы не пришло, что этот, скорее похожий на популярного киноартиста, мужчина является заведующим реанимационным отделением только что созданного Центра медицины катастроф.
– Сейчас Алексей научит его Родину любить, – тихонько сказал Сомов Звягину.
– Ты его знаешь?
– Вместе в командировке были в Армении, когда там трясло. Врач от Бога. Он тогда местную власть всю на уши поставил, организовал сеть полевых госпиталей. Сколько народу за него Бога молят…
Тасманов начал сдержанно, тоном вынужденного объяснять человека, но по мере того, как говорил, его речь становилась все эмоциональнее, убедительнее, он говорил так, точно хотел, чтобы каждое сказанное им слово все присутствующие запомнили навсегда.
– Восемь утра сейчас. Зачем мы здесь, усталые вы мои? Мы не будем освобождать заложников. Я уверен, спецы отработают на совесть. Без нас. Одна из наших задач – спрогнозировать последствия и быть к ним готовыми. Я – врач. Моя задача позаботиться о заложниках сразу после их освобождения. Для этого я должен знать, сколько примерно их будет, какой объем и характер помощи им потребуется. Следовательно, я должен просчитать, сколько и каких специалистов привлечь, как проинструктировать медперсонал, какими медицинскими препаратами и техникой я должен располагать. Вы, уважаемый руководитель штаба, меня такой возможности лишаете. А значит, вы лишаете заложников – это могут быть не только спасатели, но и рабочие завода, получившие ожоговые травмы – шанса на спасение их жизней. Ситуация напоминает мне спасение пассажиров с тонущего в Арктике корабля. Когда их выбрасывают за борт, прямо в ледяную воду, без плавсредств и спасательных жилетов!
Хрыпов не выдержал:
– Алексей Кимович, вы слова подбирайте!
– А я на Дубровке два месяца назад слова подбирал. Сначала слова подбирал, а потом трупы!
– Что значит «лишаю шанса на спасение жизни»?
– Я поясню. Если будет применяться газ, это вызовет бессознательное состояние. Если нет, бессознательное состояние может наступить по другим причинам, например, травма, физическая или психологическая. Человек без сознания может задохнуться от западания языка, от рвотных масс или потому, что рот и нос чем-то перекрыты. Если с самого начала предпринять немедленные действия для восстановления дыхания, человек возвращается в нормальное состояние. Чем позднее принять такие меры, тем меньше у человека шансов остаться живым и здоровым. Если человек находится в состоянии гипоксии достаточно долго, головной мозг необратимо поражается. Я хочу, чтобы вы поняли – необратимо! Если мы в отделении интенсивной терапии даже наизнанку вывернемся, мы не сможем его вывести из состояния комы. С точки зрения медицины неотложных состояний, если пациента не удается вернуть в сознание достаточно быстро, например, введением антидота, то его необходимо интубировать и держать на искусственной вентиляции до тех пор, пока сознание не вернется. Значит, нужны в достаточном количестве реанимобили. У нас здесь нет нужного оборудования для реанимационных мероприятий.
– Мы вам скорые пригнали. Алексей Кимович, чего вам не хватает? – спросил Хрыпов.
– Во-первых, вам выделили машины по принципу: возьми, Боже, что нам не гоже. Две трети из них обычные буханки, где нет реанимационного оборудования. А во-вторых, моя беседа с экипажами скорых показала, что ни один врач, не говоря уже о среднем и младшем медперсонале, не имеет представления, что и в каком порядке следует делать в ситуации оказания помощи при массовом поражении, при мультитравме, то есть о системе ATLS[39] никто из них слыхом не слыхивал.
– Что вы предлагаете? – спросил до того молчавший Гамов.
Аудитория зашумела. На Гамова стали оборачиваться любопытные.
– Простите, не имею чести знать, кто вы, – вежливо сказал Тасманов.
– Скажем, я серый кардинал при руководителе этого штаба.
Тасманов умел улавливать нюансы.
– Вариантов всего два. Первый. Мы срочно вызываем обученных по системе ATLS сотрудников нашего Центра и сажаем по одному в каждый экипаж скорой, но тогда дайте нам время, хотя бы час.
– А вы не могли бы сами провести инструктаж с экипажами скорых по вот этой системе, я не запомнил аббревиатуру? Вы же врачи. Вы поймете друг друга.
Гамов старался говорить спокойно и доброжелательно. Он давно усвоил, что в любой ситуации, даже самой тупиковой, нужно искать конструктивное решение, а не драть горло. «Чем выше тон, тем меньше профессионализма», – любил он повторять подчиненным. Гамов принципиально не признавал мата в общении с подчиненными, хотя по собственному опыту знал, что задача, поставленная матом, усваивается яснее и четче выполняется.
– Научить?! – изумился Тасманов. – За час или два совершенно невозможно. Это же система, методики! Нужен определенный уровень подготовки.
– А какой второй вариант? – спросил Гамов.
– Применение второго варианта предпочтительно, если пострадавших будут не поднимать непосредственно наверх в месте обнаружения, а транспортировать по подземным коммуникациям какое-то время. Вы же врачей с собой на штурм не возьмете! Но реанимобили все равно в достаточном количестве нужны на последнем этапе. Итак, в армейских индивидуальных медицинских пакетах есть большая английская булавка. Находящемуся без сознания пострадавшему булавкой прокалывают язык через его боковые поверхности, вытягивают его изо рта и закрепляют булавку за воротник. Это простейший и надежный способ предупреждения западения языка и гипоксии.
– Варварство … – сказал кто-то.
По аудитории пронесся шум обсуждения. Кто-то даже брезгливо поморщился.
– Проколотый язык заживет за несколько дней, – Тасманов усмехнулся. – Зато жизнь будет спасена. Вы можете узнать об этом способе на любой кафедре военно-полевой терапии. Я проинструктирую спецназовцев. Да, я думаю, они об этом способе знают. Воинская часть у нас рядом. Позаимствуйте индивидуальные пакеты. Надо штук тридцать, чтобы с запасом. Уверен, проблем с военными не будет, особенно у вашего, уважаемый Серый Кардинал, ведомства. Ибо, как говорил Суворов: «Любого интенданта через год можно смело вешать»!
Хрыпов вновь посмотрел на Гамова, но у того вопросов больше не было. Тогда Хрыпов сказал:
– Мы решим эту проблему в рабочем порядке. Что-то еще?
– Замените буханки реанимобилями, пока есть время. Я ничего лишнего не требую. Поверьте мне, комбинированные поражения, включающие отравление угарным газом, термотравму кожи и легких, относятся к категории крайне тяжелых поражений, часто с летальными исходами. Поскольку пусковым механизмом смертельных исходов при этих поражениях является гипоксия вследствие поражения системы «кровь-легкое», в комплекс интенсивной терапии надо безотлагательно включать инфузию перфторана и лаваж перфтораном пораженных легких. А пока мы будем в буханках, не оснащенных реанимационным оборудованием, через наши московские пробки транспортировать пораженных в стационар, они наберут дополнительные баллы шокогенности. Дайте мне реанимобили! Если вы меня не услышали, вас можно смело судить за преступную халатность, повлекшую смерти пострадавших. Спасибо за внимание!
Хрыпов обернулся к помощнику.
– Лядов, займись, немедленно. Этот доктор не оставит нас в покое. Еще вопросы? Сверим часы. Сейчас восемь двадцать. Двухчасовая готовность. Работаем.
Как только члены оперативного совещания освободили кабинет, его тут же заняли «технари», которые перенесли из соседнего кабинета математики груду бумажных, свернутых в рулоны чертежей зданий и подземных коммуникаций. Со знанием дела они сортировали чертежи, раскатывая их партах. Две парты в ряду у окна они сдвинули вместе, превратив в рабочий стол. На них были перенесены несколько чертежей, положены карандаши и бумага для расчетов, установлен компьютер. Создав себе условия для работы, не обращая никакого внимания на присутствующих, «спецы» склонились над чертежами и о чем-то стали негромко спорить.
Тем временем Лядов вел переговоры с военными. Переговоры проходили с переменным успехом. Сначала военные дали добро и пообещали выделить необходимое количество индивидуальных пакетов. Потом оказалось, что они не могут найти прапорщика со склада. В конце концов прапорщика нашли мертвецки пьяным после встречи Нового года, но не смогли разбудить. Потом военные долго не могли решить, ломать замки на складе или нет, относится ли ситуация к чрезвычайной или нет.
Наконец, Лядов сказал Хрыпову.
– Индивидуальные пакеты сейчас привезут.
Гамов встал из-за парты, неспеша снял пальто. Пальто было осенним, но никто не помнил, чтобы генерал, будучи в «гражданке», даже в самый лютый мороз ему изменял. Гамов положил пальто на стул, на котором только что сидел, и подошел к технарям. Он слушал их рассуждения и смотрел в окно на зарождающийся рассвет, смазанный отражением в стекле ярко освещенного кабинета.
Хрыпов работал с помощниками, с которых то строго спрашивал, то давал указания, то выслушивал их доклады и доклады радистов.
Генерал выждал завершения этого неизбежного при подготовке любой операции этапа, направился к двери, на ходу коснувшись плеча Хрыпова.
Беседуя вполголоса, они шли по полутемному коридору третьего этажа. Коридор был абсолютно пуст, пустыми были и помещения расположенных здесь классов.
– Когда ты ожидаешь результаты тактической разведки?
– С минуты на минуту, Иван Андреевич, – с готовностью ответил Хрыпов, очевидно этого вопроса он ждал и к нему был готов.
– Кого послал старшим?
– Майора Андреанова.
Генерал одобрительно кивнул, улыбнулся.
– Что? – тут же спросил Хрыпов, скорее не увидев, а почувствовав эту улыбку.
– Это в первую чеченскую было. Андреанов тогда ротой командовал. Ты же знаешь, мы воевать в городских условиях тогда не умели, долбили нас боевики почем зря. Сидели по подвалам полуразрушенных пятиэтажек, голодные, холодные, и материли все, что движется. Боевой дух был на двойку с минусом. Утром тряслись от холода, вечером от голода тошнило. Воды было в обрез. Ни умыться, ни побриться. Да и не хотелось красоту наводить. Многие ребята тогда усы и бороды поотпускали. Командование не запрещало. Григорий тоже усы и бороду отпустил и стал точь-в-точь вылитый чеченский полевой командир. Он же смуглый, волосы черные как крыло ворона, хоть и русский до десятого колена. Возвращается он по утру с хлопцами с задания, два наших поста прошли. Ну, само собой, почти дома. Расслабились. А пароль цифровой был. Без наших заморочек, конечно. Например, пароль «Восемь». Часовой с устатку, с ночи, орет им: «Стой! Пароль – два». Андреанов вычитает из восьми два и кричит отзыв: «Шесть!», спокойно двигаясь дальше. Приближаются наши герои на расстояние визуального контроля внешних данных, тут часовой видит обросшего Григория, его черные глаза, его смуглую кожу да как заорет: «Духи!». И из автомата давай поливать. Хорошо, что салага совсем, стрелять толком не умел. Да и АК-74 у него был, не чета нашему «Никонову»[40]. Отдачей автомат в сторону-вверх кинуло, ребята залегли. Андреанов фляжку свою достает, а она у него в виде РГ-шки была, кидает в часового, орет: «Граната, ложись!». Тот на землю, ну, тут его Григорий-то и скрутил. И смех и грех… С того дня бриться Григорий стал регулярно. А солдатика того, часового, Григорий потом из этой же фляжки водкой отпаивал.
– Да-а… В Чечне много мутотени было.
Хрыпов хорошо знал генерала: Гамов мягко стелил, но спать всегда было жестко. Потому лирика закончилась.
– Передвижение будем осуществлять двумя группами по четыре человека. В штурмовую группу я включил Исаева, Коломийца, Иванова и Подгорного. В группе прикрытия, она же управления, Андреанов, Пресняков, Тихомиров, Уточкин. Командир – Андреанов. Уточкин обеспечивает проводную связь с внешним миром. Подземелья. Помехи. Так что обычный способ связи годится только как локальный, внутри и между подразделениями. Связь налажена. Резерв: две группы по четыре человека. Будем использовать для транспортировки заложников на поверхность. Оснащение групп обычное: АН-94, дымовые гранаты и СS гранаты, приборы ночного видения, средства индивидуальной защиты, экипировка стандартная. Способ опознания своих прежний: электронная система «Свой». Порядок подхода к объекту – скрытный, по маршруту спасателей. Других доступных подходов пока не выявили. Работаем с Гордеевым. Это тот спасатель, что вернулся. Он Тарасовские пещеры хорошо знает. Предположительно в помещение всего два входа: один завален рухнувшими конструкциями заводского цеха, они еще дымятся, другой – тот, через который взяли спасателей. Место закладки баллонов с газом установлено: ВШ-2417 58-й штрек уровень три. Закладка произведена. Решение по их применению и порядок действий при штурме объекта считаю возможным уточнить после доклада Андреанова. Подробная схема путей эвакуации составлена. Выходы на поверхность установлены – подсобные подземные помещения ООО «ЛИЯ-Люкс». Люки вскрыты, посты расставлены.
– Не мало народу посылаешь? Восемь человек…
Хрыпов растерянно развел руками.
– Там же обычная уголовная шелупонь. Я даже не понимаю, почему эту операцию на нас повесили. СОБР есть!
Гамов остановился и пристально посмотрел в глаза Хрыпову.
– Не надо тебе понимать. Ты помни одно, Олег Алексеевич, в случае гибели группы или, не дай бог, заложников, погоны мне на стол положишь.
Хрыпов выдержал взгляд генерала спокойно, даже с некоторой небрежной полуусмешкой. Не любил он, когда начальство перед самым началом операции капало на мозги.
– Наибольшая опасность будет угрожать нашим ребятам, – сказал Гамов. – Психология: вооруженный человек сразу направляет автомат на вооруженного и применяет «три секрета»: наведение, прицеливание, выстрел. Иногда, «по-македонски», не целясь, навскидку, от живота…. Так что на ошибку ты не имеешь права, полковник.
Щелкнула, зашелестела рация:
– «Рубин» вызывает «Первого», «Рубин» вызывает «Первого»… Прием».
– «Рубин», я – «Первый», – тут же ответил Хрыпов. – Что у вас?
– Группа депутатов на входе. Требуют пропустить к вам. Ругаются.
– По завершении операции мы дадим пресс-конференцию. Пусть едут по домам. Отбой, «Рубин», – с некоторым раздражением сказал Хрыпов. – Только депутатов мне сейчас не хватало… Развлекалово нашли после новогодних банкетов!
– Рубин, я – «Крот». Я дома. Прием! – резкий диктующий голос Андреанова был почти не искажен помехами радиосвязи.
– Ждем тебя. Восемь-четыре, – откликнулся Хрыпов, кодом «восемь-четыре» предупредив о присутствии руководства.
Кто родился в рубашке – слывет счастливым. С Андреановым так и получилось. Подмигнула ему судьба, приласкала, распростерла свои крылья над ним, ангела-хранителя приставила, да не простого, а из небесного отряда специального назначения. И жил Григорий уже лет десять как, не давая ангелу-хранителю использовать заслуженное право на отдых и личную жизнь. Надо отдать должное ангельскому терпению и выдержке, хранитель никак не выказывал ни недовольства, ни критики, успевал всегда и всюду, куда лез Григорий, а лез он не куда все нормальные люди, а либо к черту на рога, либо ему же в пасть. Тут, правда, иногда возникали споры между представителями противоположных миров о разграничении полномочий: представитель Мира Добра полагал, что добро тоже бывает с кулаками и, соответственно, следует хранить, представитель же Мира Зла считал, что «не убий» заповедано для всех случаев жизни, следовательно объект охраны должен быть передан ему для перевоспитания и осознания. Судя по тому, что Григорий был жив, ангел-хранитель, в отличие от оппонента, обладал недюжинным красноречием и даром убеждать.
От Андреанова пахло сыростью подземелья и канализацией.
– Вообще, там полная жопа, полковник! – начал свой доклад Андреанов.
Положив на парту автомат, он стащил черную маску-шапочку и принялся расстегивать липучки бронежилета.
– Мы дошли до последней замуровки, пробитой спасателями, а дальше – жопа!
Он бросил жилет рядом с автоматом.
Хрыпов погрозил ему кулаком.
– Прекрати выражаться при генерале!
Андреанов обернулся, нашел взглядом Гамова, смотревшего на него через группу технарей, которые теперь переместились к доске с картой местности.
– Здравия желаю!
Сотрудники расступились, пропуская Гамова ближе.
– Так «жопа» или «полная жопа», майор? – спросил Гамов.
Андреанов не смутился.
– Полная, товарищ генерал. Дайте лист бумаги с ручкой, – обратился он к спецам.
Наскоро набросав план-схему, взяв ручку, как указку, Андреанов продолжил:
– Здесь лаз, который пробили спасатели в старой замуровке. Сразу за нею площадка имеется, что-то вроде большой пещеры, метров десять на десять. Освещение слабое. Направо идет темный тоннель, вот здесь. Слева дверь, вот здесь. Дверь металлическая, наподобие входной в подъезд. На площадке датчик движения, дверь попадает в его сектор обзора.
– Что за датчик? – спросил один из спецов.
– Обычный пассивный инфракрасный извещатель типа LS-100-PС.
– Серегин, информацию! – сказал Хрыпов, обращаясь к задавшему вопрос спецу.
– Пассивный инфракрасный датчик движения серии LS-100-PС подходит для помещений любого типа, не реагирует на животных весом до 25 кг, имеет цифровую обработку сигнала, обеспечивающую высокий уровень надежности и защиту от ложных тревог. Оснащен специальной технологией, обеспечивающей точный анализ контуров тела человека и их дифференциацию от окружения и животных. Не требует регулировки в зависимости от высоты установки. Обычно ПИК-извещатели обнаруживают стандартную цель, движущуюся со скоростью 0,3–3 м/с. Это требование ГОСТ Р 50777-95. Есть извещатели с увеличенным диапазоном обнаруживаемых скоростей, как правило в интервале 0,1–5 м/с. Наш как раз такой. Вы тип не перепутали? – спросил Серегин.
Андреанов усмехнулся, достал из нагрудного кармана фотоаппарат, размером с зажигалку, протянул Серегину.
– Подключи, увидишь.
Серегин оперативно настроил ноутбук на устройство, на экране вспыхнула картинка, датчик был снят в режиме ночной съемки.
– Да, это действительно LS-100-PС, – кивнул он. – Встроенного микроволнового датчика нет. Если подробно: ИК датчик следит за передвижением по тепловому каналу, а микроволновый действует как мини-радар и контролирует отраженный от стен и пола радиосигнал, замечая движение по изменению времени отражения радиоволн. В общем, наш направленный излучатель «Штурм» предусматривает работу с этим типом датчиков. Проблемы я не вижу, – заключил Серегин и, довольный ясностью ситуации, посмотрел на Гамова.
Тот кивнул, коротко бросил:
– Продолжайте, майор.
Андреанов потер отросшую за сутки щетину.
– Вот здесь датчик движения, – он отметил место на схеме взятым в кружок крестом. – Первое, что нам пришло в голову, при штурме его «задавить». Но потом мы подумали: почему датчик один? Обычно в любой охранной системе датчики взаимозащищены. Их сектора обзора перекрываются, они выбирают «мертвые зоны» друг друга. Из укрытия мы внимательно осмотрели каждый сантиметр пещеры, но больше датчиков не было. Если датчик не для охраны, тогда для чего? – Андреанов сосредоточенно смотрел на генерала Гамова. – Увеличенный наблюдательной оптикой электронный замок двери оказался «запитанным», грубо и вульгарно. Значит, датчик работает, как детонатор. Хозяева, вероятно, уже далеко и точно не планировали возвращаться. А вот заложники, действительно, в ловушке.
– Как это работает? – спросил Хрыпов, обращаясь ко всем сразу.
– Принцип несложный, – тут же начал объяснять Серегин. – ИК-фотоэлемент, за ним усилитель и два интегратора, один с малым временем интеграции, другой с большим, импульсы поступают на входы компаратора. Когда скорость изменения теплового фона мала, на входах компаратора разности сигнала нет и нет срабатывания. При быстром изменении сигнала «медленный» интегратор не успевает за «быстрым». Происходит срабатывание. Электронный импульс идет не на пульт охранной системы, а на взрывное устройство. Цепь замкнулась Взрыв.
– «Штурм» почему не подходит? – спросил Гамов. – Мы его всегда использовали, когда надо было «ослепить» датчики.
– Мощный импульс «Штурма» может спровоцировать взрыв. Может быть, я перестраховываюсь, – Серегин оглядел присутствующих, точно ища поддержки, – но лучше не рисковать.
Хрыпов нервно поежился.
– Нам надо разминировать замок. Думайте, что делать с датчиком! – резко сказал он.
– Может, его просто засветить, старым дедовским способом? – спросил стоявший рядом с Серегиным напоминавший студента молодой человек. – Какую он защиту от засветки имеет, 60000 кондел?
– В принципе, можно взять фонарь-миллионник… – сказал кто-то.
Серегин сел за компьютер, на экране которого все еще была фотография датчика движения. Он внимательно смотрел на экран и рассуждал, точно сам с собой:
– Ну, засветим мы одну из секций пирочувствительного элемента. На время. Физическая природа пироэлектриков такова, что электрический заряд, спонтанно возникший при засветке, постепенно растекается с поверхности. Две секции засветить будет сложно из-за системы линз. А если начать движение и сработает не ослепленная секция? Если автоматически повысится чувствительность в засвеченном канале? А где вообще гарантия, что датчик не сработает при засветке?
– Ты что-то про скорость перемещения говорил… Может, просто двигаться медленно? Приблизиться к нему с необходимой скоростью, заслонить стеклом, например? – предложил все тот же «студент».
Серегин покрутил головой.
– Дмитрий, ваша специализация – вентиляционные шахты. Вот и занимайтесь делом.
Заметив начальственный взгляд Хрыпова, он добавил:
– Даже если двигаться очень медленно, датчик все равно сработает. В нем стоит линза Френеля. Она особым образом преломляет свет, падающий на датчик. Как бы лепестками. Лепестки идут не по очереди, а вразнобой. Поэтому, если вы идете, то на один кристалл датчика попадает, преломившись через линзу, излучение от вас, а на другой кристалл – излучение от другой, удаленной от вас точки, и датчик срабатывает. Мы проверяли это не раз еще на разработке «Штурма», правда на других датчиках. Но тип датчика зависит только от того, какая в него вставлена линза Френеля. Меняется зона детектирования, сами же принципы функционирования остаются прежними.
– Что вы предлагаете? – спросил Хрыпов.
– Пока не знаю, – честно ответил Серегин. – Аналогов у нас еще не было.
– Андреанов?
– Инфракрасный датчик – это треть дела, – сказал Андреанов. – На двери может быть датчик давления, тоже соединенный с механизмом взрывного устройства. Ну, погасим мы эти датчики. Взорвать дверь нельзя. Кода замка мы не знаем, а один набор неверной комбинации…
– Вывод?
– Лезть туда не надо, – сказал Андреанов. – Надо искать другой вход. Я выставил у выхода на площадку наблюдательный пост: Уточкин и Тихомиров. В присутствии основных сил, пока не решено со штурмом, нет необходимости. Пусть ребята поспят. Пять часов как из Абхазии.
– А этот «другой» вход, думаешь, с гарантией чистый? Там тоже наверняка намудрили. Только здесь мы видим, что именно намудрили, а там будет кот в мешке.
– Я же сказал, – Андреанов посмотрел на Хрыпова, – полная, извините, задница.
– Что мы знаем о том, кто и как эти помещения использовал? – спросил Хрыпов.
– Информации нет.
– Товарищ полковник, президент на линии! – крикнул радист.
Хрыпов обернулся к Гамову.
– Что будем делать?
– Разговаривать с президентом.
Гамов подхватил свое черное пальто и быстрым пружинистым шагом направился к выходу.
– Объявляй часовую готовность! – на ходу приказал он. – «Собак войны» на исходную!
– Товарищ генерал! Но…
– Выполнять! Андреанов, за мной!
Белый, залитый солнцем луг и смех, как колокольчик.
– А я смотри, как могу!
Широко раскинутые руки, вдох, сердце замирает восторгом. Еще мгновение и густой бархатистый клевер уже пружинит под спиной, словно подушка. Запах дурманит голову. Ухо щекочет божья коровка. Рядом хлопотливое жужжание шмеля. Отсюда, снизу он кажется неправдоподобно большим и мохнатым. А над шапками клевера расплескалась синева. Ни одного белого островка. Клевер тянется к самому небу и шепчет, баюкает.
– Валентин, ты посмотри на него! Завалился в клевер прямо в новой белой рубашке! – голос мамы не то расстроенный, не то удивленный.
Голос отца:
– А мордаха-то, мордаха, до-воль-на-я! Ну, а мы-то что с тобой, Зоенька, думаешь дюже взрослые?
Серебряный смех мамы, короткий восторженный вскрик, шорох смятого клевера.
– Благодать-то какая!
– Валя, как маленький, ей-богу!
Тишина. Только слышно мерное жужжание луговых пчел и шмелей на фоне монотонного пения кузнечиков.
Любопытный детский голос, его голос:
– Мам! Пап! А вы чего это там делаете?
Едва сдерживаемый смех в голосе отца:
– Шмелей считаем.
– Здорово! Я тоже хочу!
Тоненькие ручонки обвивают родительские шеи.
Счастья много не бывает. Это правда.
Он стоял и смотрел, как трепетал на ветру широкий подол маминого белого платья, когда она за руку с отцом шла в гору по узкой поросшей короткой травой дороге. Вот еще чуть-чуть и они будут на самой вершине. Вид оттуда – воплощение рая.
– Подождите! Меня забыли!
Он стоял на дороге и от обиды топал маленькой ножкой, обутой в новенькую зеленую сандалию.
Улыбка мамы, задорная, счастливая. Улыбка отца, всегда добрая и сдержанная. Лица вполоборота. Взмах маминой руки. Прижатая к сердцу и взлетающая вверх, в прощании, рука отца.
– Ме-ня за-бы-ли!
В голосе слезы и сожаление, почти горе.
– Ты что, позвонок? – рука крепко сжимает плечо.
– Саня? Хабаров?!
Теперь только его глаза: умные, добрые.
– Ты что, тоже с ними?
Растерянная, чуть смущенная улыбка:
– Нет. Рановато. Ты держись тут давай. Не раскисай.
Рукопожатие – крепкое, мужское.
Кругом ни души. Только голос. Голос тихий, мягкий, просительный. Голос рвется в самое сердце.
– Тише. Пожалуйста, тише! Я должен его услышать…
Взгляд как бы сверху. Одинокая, преклонившая колени темная мужская фигура, застывшая у подножья горы, среди бескрайних, залитых белым светом лугов, обратившая лицо к небу.
Голос все явственнее, отчетливее, уже можно различить слова: «…Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною; возьми щит и латы и восстань на помощь мне; обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: “Я – спасение твое!” Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло; да будут они, как прах перед лицом ветра, и Ангел Господень да прогонит их; да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму – сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель..»
Лавриков пошевелился, сел, привалившись к стене боком, чтобы дать отдых затекшей спине.
– Разбудил я тебя, ты уж прости меня, сынок, – Сан Саныч старался говорить очень тихо.
В темноте старика совсем не было видно. Лавриков догадался, что это его голос, произносивший молитву, он слышал во сне.
– Вы извините меня, я помешал вам, – сказал он, как можно мягче и доброжелательнее.
– Нет! Нет… Если неприятно тебе или мешает, я замолчу.
– Что вы! Это так… – Лавриков не сразу подобрал нужные слова.
Потом он понял, что говорить нужно о чувствах, а не о логике восприятия.
– От этого душа радуется и бояться перестает. А что это?
– Псалтирь.
– Почитай еще, отец. Почитай…
Он ладошками стер с глаз слезы, как когда-то в далеком детстве.
Сан Саныч помолчал, потом тихо и напевно стал читать:
– «…Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Передай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю…»[41]
– Ты достал уже бубниловкой своей! – сказал сосед Сан Саныча, мрачный желчный мужик лет сорока пяти. – Бу-бу-бу, бу-бу-бу, как хреном по консервной банке. Тьфу!
И старик покорно замолчал.
– Чего, подъем? – спросонья спросил Олег Скворцов.
– Тихо! Спи, позвонок. Спешить некуда.
Но Скворцов спать не стал. Он потянулся, повернулся и сел как-то неуклюже, почти касаясь плеча Лаврикова своим лбом.
– Времени сколько? – шепотом спросил он.
Лавриков нажал кнопку подсветки циферблата наручных часов.
– Семь десять. Доброе утро, позвонок.
Тот зевнул и с досадой в голосе ответил:
– Доброе…
Лавриков почувствовал его настроение, с таким Олегом Скворцовым надо было поговорить.
– Как спалось?
Тот пожал плечами.
– Не знаю. Никак. Тут муть какая-то снится. Не хочу про это.
– Тогда про женщин.
– Почему про женщин?
– Самая благодатная тема.
– Ну, про женщин, так про женщин.
Скворцов вздохнул, зевнул еще раз.
– Вот живу я, Женечка, с женщиной, с которой последние лет десять мы никогда не сходимся ни в чем, даже в оценке погоды.
– Но вы с Людкой вместе. Значит, что-то вас крепко связывает, несмотря на противоречия.
– Как там у Эдуарда Асадова? «Весь свой век я был скромней апрельского рассвета…»
– Красиво.
– Нет. Правильно. Так точнее. А еще дети. Так и едешь по накатанной. На заднице. Так что про женщин у меня скучно получается. Всю жизнь с одной. Всю жизнь для одной. За буднями любовь куда-то делась. Остались одни обязательства. От обязательств уже тошно обоим, но сила привычки берет свое, и лень что-то менять. Давай лучше ты, Женька. Кстати, мне очень понравилась твоя Алина, – без перехода сказал Скворцов. – Когда на свадьбу-то позовете? Селедки под шубой хочется. Опять же «Горько!» покричать…
Лавриков был рад, что Скворцов не видит сейчас его лица.
– Чего молчишь? – Скворцов дернул его за рукав.
– Не будет селедки, Олежек.
– Что так?
Лавриков пожал плечами.
– Ты стала лучом закатным и шорохом за окном, первым лучом рассветным и сизой крикливой чайкой в мареве голубом… Хватит об этом!
– Как это хватит? Почему это хватит?
– Тьфу ты! – в сердцах сказал Лавриков. – Зачем, дурак, тему предложил?
Он прислушался. Среди сонного сопения было слышно, как кто-то тихонько стонет.
– Тихон?
– Тот, что с раной на спине? Вроде бы да.
– Пойдем посмотрим. Я включу фонарик на малый. На ноги никому не наступи. Да, Олежек, ты ближе, у Володи Орлова чемоданчик с медициной возьми. Он его под голову вместо подушки приспособил.
Скворцов деликатно толкнул Орлова.
– Володя, чемодан отдай.
– Чего вы, позвонки, в ночи шастаете? – зевнув, спросил он. – Спали бы.
– Тихону плохо. Мы с Женей посмотрим.
– Ну-ну, – буркнул Орлов и перевернулся на другой бок.
У Тихона дела были плохи. Он стонал в бреду. Судя по его пылающему лбу и горячему, в поту, телу, температура была очень высокой.
– Я думаю, антибиотики и парацетамол сделаем, но рану смотреть надо, заново чистить и перевязывать. Открывай чемодан.
Лавриков быстро и аккуратно сделал два укола.
– Олег, накануне рану обрабатывал Орлов?
Скворцов кивнул.
– Ах, Володя! Ах!
– Может, это из-за ожогов? У него ж лицо в бинтах, может, там чего?
– Ты же сам вчера ему лицо обрабатывал. Там первая, от силы вторая степень. Олежек, даже если бы там четвертая была, надо сорок процентов кожи, чтобы травма была несовместимой с жизнью. У него же процентов семь и не четвертой степени. Ты вспомни, есть же общепринятый индекс оценки состояния человека: процент ожога плюс возраст. У Тихона он сорок пять. Ожоговые травмы считаются несовместимыми с жизнью при индексе свыше шестидесяти. Это рана воспаляется, обработали плохо. По новой чистить надо.
– Жень, мы же не врачи.
– Врачи не во всех бригадах есть. А мы, с нашим опытом и послужным списком, точно получим врача себе в последнюю очередь. Вспомни Косово!
– Может, ему еще перфторан сделать?
– Рано еще. Всего несколько часов прошло. Мы и так ему вчера…
Он вдруг замолчал, судорожно провел рукой по лицу…
– Только не говори мне, Женя, что тоже об этом думаешь.
Скворцов кивнул.
– Последствия гипоксии… Женя, тогда завтра-послезавтра, если доживем, у нас будет гора трупов.
– Тихо, Олег! – он взял Скворцова за плечи, тряхнул. – Действие спасает от страха. Так что ползи, буди Орлова, держите Тихона, я обработаю рану. Предположения будем строить после.
Тихон оказался крепкий мужик. Озверев от боли, он вырывался, метался и удержать его даже двоим, а тем более обработать рану, не было никакой возможности.
Услышав потасовку, несколько рабочих проснулись и спросонья с недоумением глядели, как два мужика, которые накануне клялись, что спасатели, при свете фонарика сегодня грубо заламывают руки их товарищу и пытаются уложить его лицом вниз, а третий стоит с поднятыми вверх руками в перчатках и подает советы, как лучше с ним справиться..
– Вы чего, уроды, делаете? В ухо дать?! – просипел сосед Сан Саныча.
– Вы лучше помогите нам, – сказал Лавриков. – Тихону вашему надо рану обработать. Пошло воспаление. Иначе отправится к праотцам. А ребятам вдвоем не справиться.
Пока Лавриков обрабатывал рану, накладывал асептическую повязку, пока делал уколы, обездвиженный Тихон матерился, с удовольствием и от души. Отпустили его только когда он уснул.
– Давно я ничего подобного не слышал, – сказал Олег Скворцов.
– Перлы. Впору записывать, – согласился Лавриков. – Хорошо, что Маришки здесь… – он осекся. – Посвети, чемодан соберу. Медикаментов у нас кот наплакал…
– Чего там у Тихона?
– Рана гноится, образуется «карман» гноя. Этот «карман» надо систематически промывать антисептическими препаратами. Лучше дважды в день. Антибиотики колоть надо.
– Жень, нас же учили только первую помощь оказывать.
– Я в стройбате служил. Там же из анестезии в медпункте одна зеленка была. Вот мы и помогали нашего брата держать. Насмотрелся. Не грузись, Олежек.
Они осторожно пробрались на свое место.
– Скоро ж эти скоты расчухаются? Жрать охота, пить охота! – просипел сосед Сан Саныча. – В этой гребаной вонючей конуре все сдохнем!
– Потерпеть надо, Артем, – сказал ему Сан Саныч. – Нас Бог спас. Мы не сгорели. Теперь уж скоро нас освободят, сиди и терпи. Что народ смущаешь?
– Освободят! Пулю в затылок, и – точно освободят! Шел бы ты, праведник, куда Тихон спасателей посылал! Чего разлегся, клешни свои растопырил, один здесь что ли? Убрал! Убрал, я сказал!
– Нога у меня ноет в коленке, Артемушка. Вот я и приспособил поудобнее, – по-прежнему тихим и ровным голосом ответил дед.
– А у других, значит, не ноет!
Он пнул ногой по ногам Сан Саныча. Тот сдавленно охнул.
– Ты надоел уже, Овсянкин! Заткнись и сиди тихо, – прохрипел сидевший напротив Лаврикова Эзерин, молодой паренек лет двадцати трех. – К Сан Санычу не лезь! Без тебя тошно.
– Ты поучи меня, плевок! – с вызовом выкрикнул Овсянкин. – Иди сюда, заморыш! Иди, я тебе…
Но «заморыш» уже схватил Овсянкина за грудки, легко поднял, и теперь они стояли, сцепившись в полной темноте, прямо посреди подсобки.
Лавриков торопливо зажег фонарь.
– Прекратите разборки! Сядьте, оба! – рявкнул Лавриков.
– Прямо страшно мне стало. Уссуся! – хриплым, болезненно срывающимся на фальцет голосом объявил Овсянкин. – Я задушу тебя, гаденыша! Я задушу тебя, гаденыша! – в истерике повторил он. – Ты на кого голос повысил?! Я… – Овсянкин судорожно вздохнул, жалобно взвизгнул и, закатив глаза, все еще цепляясь за одежду Эзерина, стал сползать на пол.
– Тёмыч, ты чего? – испуганно прошептал Эзерин.
Лавриков и Скворцов подхватили Овсянкина, уложили на расстеленную на полу куртку Скворцова.
– Голову, голову, Олежек, повыше. Давай нашатырь.
– Спасатели, чего это с ним?
– Стресс осознания. Очухается сейчас.
Лавриков настойчиво водил ватным тампоном у носа Овсянкина. Наконец тот дернул головой и отвел руку Лаврикова.
– Тёмыч? – Лавриков похлопал его по щекам. – Ты как?
– Н-нор-м-м-маль-н-но, – вымученно сказал он и заплакал.
Он плакал по-детски, навзрыд, не стыдясь слез, размазывая их по щекам. Лавриков вложил ему в руку кусок бинта, погладил по голове.
– Все будет хорошо, Тёмыч. Ты сильный. Ты выдержишь. Глаза закрой. Поспи.
– Я посижу с ним, ребятки. Отдыхайте, – сказал Сан Саныч.
Он взял Овсянкина за руку и стал что-то тихонько говорить ему на ухо.
– Ну, что, добро пожаловать в третью стадию психоэмоциональной травмы, – сказал Скворцов.
– Век бы этого не видеть, – угрюмо ответил Лавриков. – Никогда я к этим переменам не привыкну.
Прикрыв фонарик рукавом свитера так, чтобы свет не бил в глаза спящим, они осторожно осмотрели людей. Необходимо было убедиться, что никто не потерял сознания. По завершении осмотра Лавриков предложил:
– Пойдем покемарим. Часа два у нас есть. Володька молодец, снова дрыхнет.
– Не хочу я спать.
Скворцов сидел, откинув голову, коснувшись затылком стены.
– Олежек, ты бы видел себя…
– Видел. Потому и не хочу.
– Что-то я тебя не понимаю.
– Я сам не понимаю, – Скворцов усмехнулся. – Как глаза закрою… Опять эти лица. Лица… Лица… Лица….
– Лица?
– Привезли нас в часть, под Джелалабад. Как раз после боя. Смотрим, а срочников, наших ровесников, нет совсем. Сослуживцам нашим, только что вышедшим из боя, лет по шестьдесят. Ничего себе, думаем! Контрактники что ли? Фигурки щупленькие, шейки тоненькие, виски седые, глаза – сгусток боли. А лица… Лица изможденные, морщинистые, все в копоти. Мы перед ними стоим, в новеньких формах, отглаженные, розовощекие, мамкино молоко на губах не обсохло, и на них смотрим. Они на нас. Сидят, тихо так, рядком, не шелохнутся и смотрят. Только слезы по щекам. Слезы…. Понимаешь, Женя? Это были наши ровесники! Теперь опять эти лица. Все время, как закрою глаза! Все время! – он обхватил голову руками, сжал виски.
– Позвонок…
Скворцов вздрогнул, руки безвольно упали на колени.
– Это наши с тобой лица, Женя. Это этих несчастных лица! Понимаешь?
Лавриков придвинулся к нему, обнял за плечи.
– Мечта одна у меня была. Хотелось по цветущему полю в полный рост пройти. Не ползти на брюхе, рылом в землю, от пуль прячась, а в полный рост. Понимаешь? Сейчас опять. В полный рост хочу. Чтобы не на брюхе! Душить хочу уродов этих! Пусть меня потом пристрелят, но парочку гадов на тот свет отправить я успею! Не могу я сидеть и ждать! Не могу ждать и наблюдать, как люди к смерти готовятся! Ненавижу! – он врезал кулаком по стене, в кровь разбив костяшки.
Лавриков сильно тряхнул его, взял за грудки, подтащил ближе, лицом к лицу.
– Твою мать! Отставить сопли, Скворцов! Ты не имеешь права! Слышишь?! Держаться! Б…! Держаться! Х…й им, сукам, что за дверью! Мы им фору не дадим! Ты – не телка зеленая. Ты же мой напарник! Как же я, если ты раскиснешь?! Ты же…
– Женя, хватит! Пусти! – Скворцов сбил его руки. – Знаю я все. Прости…
Лавриков выключил фонарь. Подсобка вновь погрузилась во мрак. Тишину нарушали лишь редкие жалобные стоны спящих, исстрадавшихся людей. Он зажмурил глаза, закрыл лицо руками, сжался, ссутулился и заплакал, тихо-тихо, чтобы не слышал никто.
…Бесилась, свирепела вьюга, зло швыряя пригоршни ледяной пыли. Не было ни неба, ни земли. В мертвой дали, сквозь дикую карусель и сугробы, не оставляя следов, неслышной поступью одиноко брела темная фигура. Снег лежал на ее плечах, снег укрыл белым саваном ее длинный плащ, снег лежал на ее иссохшей старческой руке, сжимавшей клюку. Снег лежал и не таял… И брела она прочь, и брела она в ночь, понуро свесив голову, седые космы отчаянно рвали порывы ветра. Вдруг она взмахнула плащом, словно ворон крыльями, и исчезла в снежном вихре. Так и ушла, ни разу не обернувшись, и никого с собой не взяла. Ушла одна-одинешенька, потому что вслед за нею по тающим снежным сугробам пробирались Надежда и Вера, к которым из далекого далека, почти с края земли, спешила на помощь Любовь…
Реальность вернулась резким обвальным грохотом, руганью и матом.
– Открывай, я сказал! Я приказываю вам открыть, уголовная сволочь! Немедленно! Кто у вас главный? Зовите сюда. Я разбираться с ним буду! Открывай! Всех пересажаю! Уроды недобитые! – дальше поток нецензурной брани.
– Олег, проснись! Володя…
Лавриков и в темноте бросился к двери, попытался оттащить Орлова, но тот ударом ноги отшвырнул его.
– Свет! – рявкнул Лавриков.
Скворцов тут же зажег фонарь.
Орлов опять начал барабанить в дверь и ругаться. Вдвоем они схватили его за руки, заломили их назад, навалились. Только когда Орлов взвыл от боли в предплечьях, его удалось оттащить от двери и повалить на пол. Они держали его вдвоем, но Орлов не унимался, он кричал, матерился, рвался, и, казалось, не будет этому конца. Эта борьба вымотала всех троих. Орлов словно озверел. Он клял на все лады уже не только тех, кто за дверью, но и Лаврикова со Скворцовым, и начальство, и правительство, и страну, и рабочих. Рабочим он обещал размозжить головы, так как только из-за них оказался в подсобке, а те испуганно наблюдали за ним. Потому отпустить его не было никакой возможности
– Олег, чем бы связать его? – крикнул Лавриков.
– У нас только бинты и жгуты резиновые. Бесполезно! Разорвет.
– Мужики, ремни у кого есть? Дайте!
Ремнем Орлову связали руки за спиной, двумя ремнями связали ноги. Но либо ремни были плохонькие, либо из Орлова перла адова силища, но как только Лавриков и Скворцов его отпустили, он изловчился, освободил руки и в то же мгновение с диким воплем кинулся на лежавшего рядом Сан Саныча.
Удар по затылку был четким, дозированным. Орлов обмяк, рухнув навзничь, придавив тщедушное тельце старика.
– Прости, позвонок…
Лавриков приподнял Орлова, отволок подальше, уложил на бок и без сил рухнул рядом. Он сидел, тяжело дыша, опершись одной рукой о тело Орлова, другой потирая грудь, где сердце, куда Орлов ногой ударил его. Он тупо смотрел перед собой. От висков по щекам извилистыми ручейками сбегали крупные капли пота. Скворцов опустился рядом, спина к спине, и погасил фонарь.
Так они и сидели в темноте, молча, глядя каждый в свою даль, пытаясь удержать в себе Веру с Надеждой и по одним им ведомым приметам распознать приближающуюся из далекого далека, почти с края земли, спешащую к ним Любовь.
Текли одна за другой минуты.
– Люди… Люди…. Кто-нибудь живой? Люди… – голос был слабым, охрипшим.
Лавриков взял из рук Скворцова фонарик, включил, обернулся.
– Миша? Что случилось?
Лавриков присел на корточки рядом с Золиным, потрогал лоб. Температуры не было, но дыхание было тяжелым, прерывистым. У Миши Золина были обожжены обе руки до локтей и левая щека. Ожоги были не сильными, причинять особого беспокойства после качественной обработки они не должны были.
– Миша, чего звал-то?
– Где мы?
– Все там же. В подсобке. Потерпи, нас скоро освободят.
– А живые, кроме нас с тобой, есть?
– Все живы.
– Мужика того, вашего, что в дверь лупил, убили, да?
– Да ты что?! – Лаврикову стало не по себе. – Башка твоя вихрастая! – он потрепал Золина по кудрявым волосам. – Сошел с тормозов мужик маленько. Сейчас проспится и будет вас дальше пугать, – он заставил себя улыбнуться. – Ты лучше вздремни.
Лавриков стал осматривать остальных.
– Олег, пожалуйста, бригадиру давление померь.
Скворцов тут же выполнил просьбу.
– 98 на 69, – доложил он. – Может, глюкозку? Больше нет ничего.
Лавриков кивнул. Он склонился к Тихону, прислушался, потом тыльной стороной ладони коснулся его обнаженной кожи на спине и подмышках. Кожа была сухой и горела. Потом он осторожно, чтобы не разбудить, осмотрел остальных. Эффект был таким же. Он вернулся к Скворцову.
– Вот что, Олежек. Готовь перфторан. Весь, что остался. Поделим поровну. Только Тихону побольше набери. Я ему первому сделаю. Вводить будем в замедленном темпе: двадцать-тридцать капель в минуту. Почти у всех пульс частит, до ста двадцати ударов.
Когда Лавриков затянул жгут на предплечье Сан Саныча, тот поймал его руку и очень тихо попросил:
– Молодым делай. Мне, старому, Бог поможет.
Лавриков хотел было возразить, но старик стащил жгут, прижал руку к груди, сказал:
– Не мытарь. Отойди.
В состоянии рабочих преобладали вялость и апатия. Никто из них никак не отреагировал на инъекцию, не спросил что, не спросил зачем. Тяжело дыша, издавая при этом не то хрипы, не то стоны, люди с лицами-масками просто тупо смотрели перед собой в состоянии своеобразной прострации. Только Эзерин Роман все спрашивал и спрашивал, какой сегодня день недели и какое число, и никак не мог запомнить, и спрашивал опять.
Когда инъекции были сделаны, Лавриков осмотрел содержимое медицинского чемоданчика. В нем осталось две упаковки стерильных бинтов и лист бактерицидного лейкопластыря. Лекарства закончились. Больше никакой медицинской помощи тяжело больным пострадавшим оказать они не смогут.
Лавриков дрожащей рукой смахнул пот со лба.
«Господи, если ты не вмешаешься, все очень паскудно закончится…»
Он пробрался к двери, сел, опершись на нее спиной, и закрыл глаза.
– Жень! – позвал его Скворцов.
Он не откликнулся, не шевельнулся. Скворцов тряхнул его за плечо.
– Жень, ты чего?
– Жутко мне, Олег.
– Гипомимия[42]… Куда ж деваться-то? Психофизиология не таракан, не задавишь.
Скворцов разорвал пополам сигарету, протянул Лаврикову. Тот не шелохнулся. Скворцов раскурил обрывок сигареты и сунул ему в рот. Лавриков затянулся, ладонями вытер глаза.
– Последняя… – сказал Скворцов.
– Что последняя?
– Сигарета последняя.
– Х…й с ней! У нас теперь все последнее. И жизнь, и слезы, и… Тихон умер.
Марш с шестью неподъемными саквояжами вымотал их.
– Всё! Привал десять минут. Потом пойдем дальше, – сказал Осадчий. – Всем отдыхать. Фонарики погасить.
Хабаров упал на колени, опустил Марину на землю, стоя на четвереньках, немного отдышался, потом завалился на бок. От натуги нещадно ныла спина, а руки мелко дрожали.
Закрыв глаза, Хабаров слушал тишину.
Бывает тишина в лесу в предрассветный час, когда соловьи еще не разбудили природу своими заливистыми трелями, а сова уже покончила с лесным уханьем и спит в дупле, свернувшись мягким комочком. Бывает тишина белого безмолвия, когда вот-вот начнется буран, но до светопреставления еще полчаса. Бывает скорбная тишина, торжественная тишина, тишина одиночества, тишина замершего необитаемого дома, тишина зимнего леса, тишина разлуки, тишина ожидания, но не бывает тишины, как сейчас: сверхтишины, не похожей ни на одну из своих сестер. Эта сверхтишина – тишина за чертой, отделившей бытие от небытия.
Хотя ты еще дышишь и сердце прилежно гонит кровь по артериям и венам, все это уже не имеет никакого значения. Лампада жизни едва теплится. Мир сам по себе, а ты сам по себе. Фитилек пока еще тлеет, но еще чуть-чуть, и вечность дохнет в лицо лютым холодом. Мурашки бегут по спине. Вместо истерик мат, жесткий, мужской, вперемешку с досадой и злобой.
«Саня, держись!»
Но жизнь сорвалась и катится кубарем под гору. Прожитых дней под ногами, как опавших листьев поздней осенью. Их заметает холодный равнодушный снег. Снег засыпает глаза, и ничего не видно. Только белая пелена.
Вдруг руки подхватили, руки добрые, точно руки ангела.
«Взлетаем, командир! Потерпи…»
Дрожит, вибрирует пол под спиной. Шлепки по железу. Потом долго, очень долго, только мерный гул.
«Хочу туда, где нет войны…»
…А у родного дома черемуха пенится, и клен полощет листвой на ветру. Серый жирный кот дремлет на окне, где пахучая герань в цвету. Тут же глиняный кувшин, полный молока. Жизнь отдал бы, только б напиться…
Из горла вырывается невнятный стон. Торопливое: «Вас зовет, товарищ майор…»
Рука теплая, такая живая, знакомая, надежная.
– Васек, ты цел?
– Цел, командир. Никто, как Бог и маленькие боженятки…
Опять боль. Много боли. Просто болит все тело. Стон, похожий на хрип раненого зверя.
Емельянов ногой толкнул в грудь Хабарова.
– Хорош дрыхнуть! Не на кладбище.
Хабаров очнулся. Сводило руки и ноги, спину нещадно ломило. В мозгу пронеслось: «И на хрена же я проснулся?»
В свете фонарика Осадчий изучал карту.
– Емеля, ты у нас самый быстрый. Проверишь левую галерею. Тагир, ты правую. В одной из них метров через двести должен быть тупик. Негоже нам с грузом лишние полкилометра шагать.
– Полкилометра? Шеф, ты ж сказал 200 метров.
– Двести туда, Емеля, а упремся мордой в стену, двести еще обратно. Ясно? На все про все вам десять минут. Будьте осторожны.
– Дай-ка карту… – попросил Хабаров.
Осадчий протянул скрепленные скотчем пожелтевшие листки.
Хабаров и без карты прекрасно помнил, что в левой галерее пропасть. Он сам в нее едва не угодил, когда месяц назад с Севой Гордеевым исследовал эти места. Злополучную галерею диггеры окрестили «Дорогой отлетевших душ» за провал грунта в виде колодца. В самом начале галерея идет вниз с уклоном градусов в тридцать. Незадачливый искатель приключений идет по ней метров 60–100, потом уклон резко возрастает почти вдвое, и зазевавшийся «крот» просто падает и дальше уже едет по сыпучему каменистому дну галереи, как с горки, в колодец-пропасть.
На карте стояли значки опасности, запрещающие проход.
«Не видеть их ты не мог…»
Свет фонарика Хабаров направил прямо в лицо Осадчему. Тот вскинул руку.
– Свет убери! Как чувствуешь себя, спасатель? – тоном, по которому ничего не читалось, спросил он.
– Как в морге перед вскрытием.
Хабаров лег на бок, так было вроде бы полегче. Спину крутило жестко, так, что слезы выступали на глазах.
– Около шести мы попадем в заброшенный ствол «Дмитрогорской». А там и до поверхности рукой подать. Там я вас отпущу.
Хабаров усмехнулся.
– Так же как дружка своего?
В этот момент раздался не то визг, не то срывающийся на фальцет крик, отдаленный шорох, а потом все опять стало тихо.
«Даже для виду не встревожился…» – подумал Хабаров.
Торопливые шаги, звук падающего тела, озлобленное: «Чертовы норы!».
– Никита! Там Емеля сгинул! Гнида спасательская нас подставила!
Тагир вскинул автомат, целя в Хабарова.
Осадчий вскочил, встал между.
– Тагир, опусти оружие.
– Сами выберемся. Дай мне его! Я его кончу!
– Опусти оружие, – с нажимом повторил Осадчий. – Емеля глупец. Под ноги надо было смотреть. Это не Парк Горького, вашу мать! – вдруг рявкнул он. – А вы еще не осознали! Это подземелья! Ведете себя как на бульваре! Кто мне саквояжи понесет?! Баба?! Чего молчишь? Что у тебя?
Тагир неохотно опустил автомат.
– В моей галерее есть проход, – после напряженной паузы сказал он.
– Хорошо. Привал окончен. Поднимайся, милая барышня. Идти сама сможешь?
Он взял Марину за руку, поднял, сделал с нею несколько шагов.
– Ну, что? Ноги-то держат!
– Вроде бы… – неуверенно сказала она.
– «Вроде бы»! – передразнил ее Осадчий. – Какого ж ты, сука… – он едва сдержал мат и руку, занесенную для удара. – Тебе что, интересно было, сдохнет он или нет?! – он ткнул пальцем в сторону все еще лежавшего на земле Хабарова.
– Я… Я… – Марина всхлипнула. – Я испугалась.
– Чего ты испугалась, курица?
– Что вы, увидев, что я… Вы начнете… вы… – она заплакала.
– Только интима с такой хитроумной сучкой нам не хватало! Была бы у тебя башка не перевязана, я б тебе по уху съездил! Без вариантов! Сама пойдешь! А спасатель саквояжи Емельянова понесет. Отстанешь – оставим. Крысы тебя сожрут. Боишься крыс?
Марина испуганно закивала.
– Здесь крысы размером со среднюю собаку…
Хабаров встал, прислонился спиной к мокрой стене. Сочившаяся сверху из-под камней вода намочила его комбинезон. Он этого будто не замечал.
Осадчий протянул ему свою фляжку.
– Глотни. Хороший коньяк.
Хабаров жестом отверг предложение.
– Тогда погнали!
Осадчий пропустил вперед Хабарова, за ним Марину, Тагира, сам опять пошел замыкающим.
Со временем галерея стала просторнее, уже можно было идти в полный рост, не пригибаясь, но зато стало сыро. То и дело сверху капала вода, образуя под ногами вонючие черные лужи. За поворотом они уперлись в кирпичную замуровку. Дальше идти было некуда.
– Я говорил, его надо в расход?! – крикнул Тагир, отирая пот грязным носовым платком. – Говорил?!
Хабаров подошел к замуровке, встал к ней спиной и вдоль правой стены отмерил пять шагов. Потом он опустился на колени и стал что-то искать на ощупь.
– Посветите, – попросил он.
У самой стены он нащупал ржавый рычаг, выступавший над землей на ширину ладони и, упершись ногами в стену, обеими руками потянул за него.
Раздался сдавленный скрежет, потом все стало опять тихо.
– Милости прошу! Мы недавно из подземелья труп бомжа вытаскивали. В таком же лазе застрял, – сказал Хабаров.
Осадчий фонариком осветил замуровку. У ее основания виднелся черный проем. Электрический свет выхватил идущие по дну толстые трубы теплотрассы. Осадчий нагнулся, посветил внутрь. Теплотрасса шла в закрытом плитами пространстве примерно метр на полтора.
– Нам что, по трубам ползти?
Он вопросительно глянул на Хабарова.
Хабаров кивнул.
– Я первым полезу, – сказал он. – Дайте фонарик.
– Далеко нам? – не выдержал, спросил Тагир.
По его голосу чувствовалось, что идея ему совсем не нравится.
– До развязки, – ответил Хабаров и юркнул в люк.
Ползти приходилось очень медленно, толкая впереди себя тяжелые саквояжи, с непривычки то и дело стукаясь макушкой о бетонную плиту сверху. Расстояние метров в шестьдесят они преодолевали почти час. Развязка представляла собой закрытое плитами пространство в виде куба четыре на четыре метра. Черные глянцевые трубы по узким тоннелям уходили вниз, вправо, влево. Однако только справа тоннель был больше остальных, и по нему уже можно было не ползти по-пластунски, на брюхе, а передвигаться на четвереньках. Хабаров смог немного отдышаться и отдохнуть, пока до развязки доползли остальные.
– Дальше куда? – тяжело дыша, спросил Осадчий.
– Направо.
– Далеко?
– Пока не увидим решетку.
– А скоро мы ее увидим?
– А этого я не знаю.
Он расстегнул спецовку, задрал свитер, обеими руками рванул черную хлопчатобумажную футболку, ткань затрещала, раздалась, он оторвал большой лоскут и обвязал им голову в виде маски.
– Советую сделать то же самое. Если в той теплотрассе, что мы преодолели, было сыро, то сейчас поднимем тучу пыли.
Он подполз к Марине, снял с нее куртку, оторвал рукав от ее когда-то белого халата, разорвал его вдоль и помог ей завязать лицо.
– Носом дыши, понятно? Куртку застегни.
Она цепко ухватилась за его рукав.
– Я боюсь, Саша. У меня даже зубы стучат от страха. Я все время представляю себе, как это будет…
– Хорош любезничать! Погнали!
Пыль лезла в глаза, в нос и в рот, мешала видеть, мешала дышать. Пыль липла к ладоням, толстая, мохнатая, мышиного цвета. Пыль имела вкус горьковато-плесневелый. Пыль саднила в носу, заставляя чихать, до рези в легких, до головокружения. Из-за облака пыли рассмотреть ползущего впереди было нельзя. Можно было только по звуку догадываться, что не один в этом каменном мешке, заполненном до самых краев пылью.
Наконец Хабаров почувствовал легкое дуновение сквозняка. Левой рукой он толкнул легкую металлическую решетку, посветил фонариком и вылез наружу, на небольшую металлическую площадку. Здесь гуляли сквозняки. Он стащил с лица маску, с удовольствием сделал глубокий вдох и тут же закашлялся.
– Осторожно! – крикнул он в лаз, когда приступ кашля прошел. – За решеткой площадка метр на метр. По скобам надо, вниз. Мы метрах в десяти от пола. Я попробую спуститься. Скобы старые, могут не выдержать. Поэтому держитесь руками сразу за две скобы. Короче, как повезет…
Следом на площадку вылезла Марина. Она долго чихала и кашляла. За нею в лазе показался Тагир, что-то бубня по-ингушски, матерясь по-русски и отплевываясь.
Ржавые скобы под ногами жалобно поскрипывали. Два или три раза скоба ломалась под ногой Хабарова, тогда, повиснув на одних руках, он судорожно искал опору. Давно не тревоженные никем пенки ржавчины от скоб прилипали к его вспотевшим ладоням и резали кожу, точно бритва. Наконец, он нащупал ногой пол. Посветил фонариком.
Он стоял в большом тоннеле, хорошо продуваемом и, судя по эху, идущем далеко. По стенам шли толстые связки проводов с маркировкой, нанесенной на стены краской.
– Марина, спускайся!
– Нет! Я спущусь! – крикнул Тагир в ответ.
– Валяй… – пробубнил Хабаров и сел на бетонный выступ.
Спустившись, Тагир взял его на прицел.
– Давай саквояжи! – крикнул он Осадчему. – Веревки хватит.
Спуск саквояжей занял почти полчаса. Осадчий наверху их привязывал, Хабаров внизу узлы развязывал.
– Марина, в левом кармане куртки перчатки. Надень, иначе руки порежешь! За скобы крепче держись. Не сорвись! – крикнул Хабаров, когда девушка приготовилась спускаться.
Тагир хлопнул его по плечу.
– Странный ты мужик, спасатель! Она тебя отымела, да? Ты заботишься о ней. Не понимаю!
Хабаров хмуро глянул на него.
– И не поймешь, – сказал он и сплюнул.
Прошагав метров сто по гулкому холодному тоннелю, они остановились у пролома в стене. Хабаров попросил карту. Он внимательно разглядывал чертеж, сверялся с компасом, вмонтированным в наручные часы, потом опять глядел в карту. Наконец он подошел к пролому в кирпичной стене, протиснулся в него, что-то поискал фонариком, а найдя, грустно усмехнулся.
«Ах, Сева-Сева… Мог ли я предположить, что через каких-то два месяца пойду сам по этим твоим норам?! Как бы только не в последний путь…»
– Что? – не вытерпел, крикнул ему Осадчий. – Заблудились?
– Нет, к сожалению. Надо идти на один уровень вниз.
– Никита, опять по скобам я не полезу! Понял, да?! Пойдем этим тоннелем. Слушай, чем этот тоннель тебе плох? – волнуясь, затараторил Тагир.
– Этот тоннель не ведет к «Дмитрогорской». Но решать вам, – сказал Хабаров.
– Лезь в пролом! – жестко сказал Осадчий Тагиру.
Тот выругался, но подчинился.
Лаз был небольшой. Пробираться приходилось на четвереньках. Острый битый красный кирпич больно впивался в ноги и царапал ладони. За горкой битого кирпича виднелся не то чтобы проход, а скорее небольшая круглая нора диаметром не больше метра.
– Ой, мамочки! – крикнула Марина и спряталась за Хабарова.
– Что?
– Там! – она ткнула пальцем в угол. – Там есть кто-то!
Свет фонарика выхватил из темноты островок с двумя толстыми крысами. Одна из них подняла остроносую морду и села на задние лапы.
– Крысы – верный признак. Значит, скоро будем на месте, – сказал Хабаров.
Он посветил внутрь. Стенки «норы» были гладкими и матово поблескивали.
– Труба, что ли? – спросил Осадчий.
Хабаров кивнул.
– Ползти далеко. Без груза минут сорок. С грузом часа полтора. Клаустрофобией никто не страдает? Полтора часа в этой трубе вам полутора днями покажутся.
– Куда мы выйдем? – Осадчий развернул карту. – Покажи.
– Вот в этот штрек. Но это, если знать где именно из этой трубы выйти, – добавил Хабаров на всякий случай.
– Ну, что, барышня, – Осадчий улыбнулся с издевкой, – страшно?
Марина не ответила.
– А я в полном восторге! – так же саркастично заключил он и оглянулся на Тагира. – Я вижу, Тагирчик, ты тоже. Ладно. Лезь первым, спасатель.
Осадчий поставил в трубу два саквояжа, посмотрел вслед медленно поползшему вперед Хабарову.
– Я следом. За мной дама. Тагир, ты замыкающий. С нами Бог и маленькие боженятки!
От последней фразы Хабаров вздрогнул. Он инстинктивно обернулся, но ничего не увидел. За ним уже продвигались, заполняя собой почти все узкое пространство, ударяя о ступни, два саквояжа, что толкал впереди себя Осадчий. Хабаров тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, дрожащей рукой провел по лицу и пополз дальше.
Он сосредоточенно считал: «Раз – два – толчок – толчок, раз – два – толчок – толчок, раз – два – толчок – толчок, раз – два – толчок – толчок…» Два раза перебираешь локтями, продвигаясь на четверть метра вперед, потом толкаешь рукой один саквояж, потом толкаешь другой, и так опять, опять, опять…
Но память – хитрая бестия! Ее так просто не проведешь, по плечу не похлопаешь, не договоришься. Память уже расправила оба крыла и уносила, стремительно уносила его прочь, в то далекое, горькое от пороховой гари время, которое больно забыть, а помнить – еще больней.
И снова «Беркут-1» и «Беркут-2» шли в атаку, снова балагурил, шутил его ведомый Васька Найденов, снова было голубое бескрайнее небо – одно на двоих. Снова звучал в ушах неунывающий голос друга: «Прорвемся, командир! С нами Бог и маленькие боженятки!» А потом была боль. Много боли. Время замерло, боясь начать новый, последний для кого-то отсчет.
Сейчас, спустя пятнадцать лет, лежа на брюхе в ледяной трубе, где-то на третьем или четвертом уровне московского подземелья, Хабаров до боли сжал ладонями виски, зажмурился, словно это могло спасти от воспоминаний.
Он лежал так какое-то время, пока не отпустило. Он прислушался. Позади, еще далеко, полз Осадчий, тяжело сопя. Впереди откуда-то доносился негромкий мерный гул. Хабаров протиснулся между саквояжей, зажег фонарик и посветил вперед. В полуметре в днище трубы зияла черная дыра. Дальше нужно было спускаться вниз, в колодец.
Он перекатился на спину, замер. Все тело ныло, будто по нему лупили палками. «Как соломенная собака…» – подумал он и усмехнулся. Тут же в сердце заныла, засаднила заноза, до того под прессом событий не дававшая о себе знать. Это было плохо. Этого было нельзя. Он тряхнул головой, сказал в темноту:
– Эй, там, ползущий следом! Вас еще черти не побрали?
– Не дождешься! – тут же донеслось в ответ.
– Надо вниз спускаться. Я у колодца сижу.
– Погоди, сейчас подползу, перекурим.
– Кури, коли жить надоело, – сказал Хабаров. – Я вниз полез. Саквояжи я на ту сторону колодца переставил.
Спускаясь по шатким металлическим скобам, он слышал, что Осадчий что-то быстро сказал то ли Тагиру, то ли Марине, и последовал за ним. Спуск длился неправдоподобно долго. Руки и ноги уже начали уставать. Осадчий не выдержал первым:
– Долго еще?
– До самого конца, – ответил Хабаров.
Осадчий остановился, достал фонарик, посветил.
– Я не понял, – в голосе Осадчего было изумление, но не испуг, – дна чего, совсем нету? Ты нас прямо в преисподнюю, а, герой?
– А ты закури и отмучаешься.
– Это почему?
– Места выхода метана. Замеряли концентрацию, есть свыше тридцати одного процента. Газ без запаха, что не мешает ему взрываться.
– Спасибо, что предупредил. Хорошо, что Тагир не курит и леди тоже.
Передохнув, они стали спускаться дальше.
Вдвоем они стояли на дне огромной пещеры-тоннеля, у подножия горы камней, щебня, торчащих из них бревен, и шарили по склону фонариками.
– Что здесь было? – спросил Осадчий.
– Хотели ветку метрополитена строить, но не сложилось.
Вдруг над ними раздался шум, напоминающий звук проходящего поезда.
Осадчий насторожился, задрал голову.
– Глаза! Осторожно! – вовремя сказал ему Хабаров.
Сверху в лицо Осадчему посыпался песок, мелкие камушки. Он потряс гладко выбритой головой, улыбнулся и посмотрел на Хабарова. Их глаза встретились.
– Все-таки ты – необыкновенный человек. Я надеюсь, это не «стокгольмский синдром»[43].
– Нет. Понимание хрупкости человеческой жизни.
– Даже нашей, бандитской?
– Я вам не судья.
Он отвернулся, отошел в сторону.
– Тагир! – крикнул Осадчий.
– Я здесь! – донеслось сверху.
– Свяжи все веревки, что взяли с собой. Опускай по одному.
Хабаров сидел на полусгнившем бревне и рассеянно наблюдал за тем, как Осадчий возился с саквояжами.
Осадчий, в отличие от Тагира, не заставил этим заниматься его. Он не направлял на него оружия. Он даже отложил автомат в сторону. Это Хабаров отметил сразу. Вообще в Осадчем чувствовались внутренняя сила и достоинство, что заставляло относиться к нему без настороженности, спокойно, даже с долей симпатии.
Хабаров грустно улыбнулся этим своим наблюдениям.
«Я бы, действительно, списал все на “стокгольмский синдром”, но Тагира и покойного Емельянова, если б не Маришка, я бы просто порвал. И мне плевать, что меня скорее всего прошили бы на месте из автомата эти суки! И не стал бы я их водить никуда. Хоть убейся!»
Он так и не разобрался в своих чувствах, когда услышал наверху отчаянный визг Марины.
Моментально поняв, в чем дело, он бросился к скобам, и полез наверх.
– Я сейчас спущу ее, Тагир! – закричал он. – Подожди две минуты. Не трогай ее! Я поднимаюсь.
– Что у вас происходит? – крикнул Осадчий.
– Она исцарапала меня, Никита. Слушай, совсем с ума сошла! Бешеная вся! Визжит как недорезанная.
– Отойди вглубь трубы. Пусть вместе с Хабаровым спускается!
«“С Хабаровым…” Надо же, честь какая! Запомнил…» – поднимаясь наверх, отметил Хабаров.
С Мариной, действительно, было неладно. Она сидела в трубе, сжавшись в комок, рыдая и причитая. Когда он попробовал приблизиться к ней, девушка завизжала так, что заложило уши.
– Пристрелю, дура! – рявкнул Тагир.
Он вскинул автомат. Лязг затвора не оставил вариантов.
Хабаров заслонил собою Марину.
– Уйди, спасатель! – Тагир прицелился в грудь Хабарову. – Она или ты? Или оба?!
Хабаров видел, как палец на спуске выбрал свободный ход. Подумалось: «Он же и ее заденет…» Не сомневаясь, что сейчас, в это мгновение, будет выстрел, он схватил Марину за воротник куртки, рванул вниз, на дно трубы и сдавил горло. Девушка умолкла, захрипела и потеряла сознание.
Хабаров зажмурился. От напряжения дрожала каждая клеточка. Не то капли пота, не то слезы покатились по щекам.
Снизу что-то кричал Осадчий.
– Все, Тагир, успокойся, – вымученно выговорил Хабаров. – Я сейчас спущу ее, а ты за нами следом спускайся.
Остатками веревки он связал Марине руки, в кольцо связанных рук просунул свою голову, потом, обмотав веревкой несколько раз, привязал тело Марины к себе и начал спускаться.
Это было сложнее, чем он ожидал. Где-то на середине пути Хабаров проклял все.
Он судорожно прижимался к скобам, ощущая, как опасно болтает его привязанное за спиной тело Марины. Перехваченную веревкой грудь нестерпимо резало, было трудно дышать, на шею давили связанные руки девушки. Последняя треть спуска далась ему с особенным трудом. Несколько раз он оступался, уставшие, дрожащие от непомерной нагрузки ноги беспомощно скользили в пустоту, и в этот момент сердце тошнотворно замирало. Под конец спуска он уже не чувствовал скоб под изрезанными в кровь ладонями.
Как спустился, Хабаров не помнил. Он очнулся от того, что кто-то тряс и больно бил его по щекам, тихонько шепча:
– Давай, родной! Хотя бы глоток сделай…
Во рту он ощутил безвкусную влагу, судорожно глотнул, и тут же, закашлявшись, повалился на бок. Кто-то постучал ему по спине, потом подхватил, развернул, положил на что-то мягкое. Голову сжимало железным обручем, шумело в ушах, сердце трепетало, точно овечий хвост, и липкий холодный пот покрывал все тело. К горлу подкатывал отвратный ком тошноты.
«Симптомы отравления углекислым газом и метаном…» – точно кому-то другому, не себе, поставил диагноз Хабаров.
– Тагир, ты как там? – крикнул уже знакомый голос.
– Голова кружится. Блевать буду.
– А дама?
– Может идти. Эта баба то кричит, то плачет, то дерется. Истеричка. Да?
Хабаров открыл глаза и тут же увидел беспокойные глаза Осадчего. От этих глаз загоралось все внутри. Что-то они бередили такое, чего трогать было нельзя ни при каких обстоятельствах.
– «Стокгольмский синдром» наоборот? – спросил он Осадчего.
– Нет. Просто понимание хрупкости человеческой жизни…
Хабаров трудно сел.
– Надо убираться отсюда.
– Идти-то, спасатель, можешь? Передохнем еще. Посиди.
Хабаров хмуро глянул на Осадчего. Его забота, если это можно было назвать заботой, была неприятна.
– То гонишь, аж язык на плечо, то «посиди». Определись!
Он тяжело поднялся, двинулся вперед, махнул рукой сидевшим на груде битых кирпичей Марине и Тагиру.
– Уходим. Из-за завала тупик плохо вентилируется. Концентрация углекислого газа и метана высокая. Отравимся. Диггеры здесь никогда привалов не делают.
Марина первой догнала его.
– Зачем ты им про углекислый газ и метан сказал?! – зло зашептала она. – Пусть бы сидели. Может, сдохли бы!
Хабаров кивнул.
– Это скорее всего. Только я, девочка, спасатель, а не убийца.
– Чистоплюй ты! Я думала, ты – мужик. А ты… – она запнулась, решая, стоит ли переходить на мат, потом сквозь слезы в истерике крикнула. – Жук ты, навозный!
Осадчий присвистнул.
– Леди, поберегите мои уши! От вашего мерзкого лексикона Тагир краснеет.
– Пошел ты, бандитский козел!
По кирпичам и гравию они вскарабкались к самому потолку, потом начали потихоньку спускаться уже с другой стороны завала. Спускаться было много тяжелее. Гравий ехал под ногами, осыпался вниз, и острые осколки кирпичей при соприкосновении больно впивались в тело.
В неверном электрическом свете фонариков дно сводчатого тоннеля напоминало лунный пейзаж. Оно было сплошь усеяно россыпью больших и мелких камней вперемешку с беспорядочными полутораметровыми кучами песка и круглыми кратерами луж, блестевшими черным маслянистым глянцем. Песок был влажным, и ноги утопали в нем до середины голени.
– Спасатель, глубоко мы? – спросил Осадчий.
– Метров сто десять. Точно не знаю.
– Холодища тут! – Осадчий поежился.
– Это из-за влажности. Влажность воздуха близка к ста процентам.
Они шли по недостроенному перегонному тоннелю, ведущему к несуществующей на карте Московского метрополитена станции «Дмитрогорская».
«Дмитрогорская» была станцией-призраком, так же как «Волоколамская», «Советская», «Первомайская» и «Калужская». Станцию запроектировали, ее строительство началось, но из-за тяжелой гидрогеологической обстановки подвести перегонные тоннели к станции так и не удалось, строительство бросили.
Стены и свод тоннеля были укреплены серыми, похоже, стальными листами, а встречающиеся редкие деревянные конструкции от сырости покрылись грибком и прогнили. Освещения в тоннеле не было. Зато чем дальше они по тоннелю уходили, тем воды становилось больше. Вода сочилась по стенам, через швы капала с потолка, собираясь на земле в зловонные, покрытые радужной пленкой громадные лужи, и они шли по этим лужам, уже не выбирая дороги.
– Никита, долго будет продолжаться этот беспредел? Жизнью клянусь, этот спасатель хочет, чтобы я подох прямо здесь!
Тагир стоял по щиколотки в воде и все не решался поставить саквояжи прямо в лужу.
– А я пить хочу, – тихонько сказала Марина. – Очень. Я уже давно пить хочу, еще когда по пыльным трубам ползли. И ноги у меня замерзли.
Тагир нервно рассмеялся, что-то добавил на родном языке.
– Никита, дай ей свой саквояж, пусть греется!
– Сейчас выйдем к бомбоубежищу, там артезианская скважина. Будет вода, – сказал Хабаров.
Шпалы с уложенными на них рельсами возникли в лучах фонариков внезапно. Шпалы были старые, деревянные, рельсы на них – ржавые. На фоне сплошной водной глади они казались странным, наспех сколоченным мостом. По правой стене поползла связка проводов. То и дело по обеим сторонам стали попадаться непонятные металлические приспособления и агрегаты, все покрытые толстым слоем ржавчины и, очевидно, не работавшие с войны.
Конечно, они обрадовались: теперь можно было идти не по воде, а по шпалам. То, что это худший вариант, оценили очень скоро. Между шпал были глубокие ямы, заполненные водой, поэтому нужно было постоянно следить, куда ставишь ногу. Одно неверное движение уставших от ходьбы, замерзших ног грозило неминуемым падением, что напрягало.
Тоннель был длинным, очевидно, самым длинным из всех существовавших когда-либо тоннелей. Он вымотал их.
– Налево, – вдруг сказал Хабаров.
Он переступил со шпал на бетонную ступеньку, торчавшую из стены вровень с водой, толкнул тяжелую металлическую дверь, за нею еще одну и протиснулся внутрь.
Электрический свет резанул по привыкшим к темноте глазам.
Они вошли в абсолютно пустое помещение бомбоубежища. Оно было размером с теннисный корт, с серыми бетонными стенами, полом и потолком, снабженное двойными гермодверями с разобранными устройствами замков. Убежище освещалось двумя рядами тридцатишестивольтовых лампочек.
– Что это за буквы на двери: «ДСО»? – спросил Тагир.
– Дистанция спецобъектов.
Вдруг обвальный грохот сотряс воздух. Мороз от страха побежал по спине. Женский визг. Лязг автоматных затворов. Падающие с матом тела.
Хабаров передернул плечами. Он помнил, что его первая реакция была столь же мощной и как потом он долго пенял Севе Гордееву за эти свои «острые ощущения». Включающиеся среди тишины подземелья над ухом насосы дренажной системы производят неизгладимое впечатление. Он вздохнул: «Как же давно это было! В другой жизни…»
– Поднимайтесь. Пойдем воды попьем. Здесь хорошая артезианская вода.
Хабаров направился к маленькой металлической двери, что вела в смежное, выложенное голубым кафелем помещение.
– Что это было? – тоном еще не оправившегося от потрясения спросил Тагир.
Осадчий зло сплюнул, быстро поднялся и пошел за Хабаровым.
Вода была холодной, необыкновенно вкусной и без тошнотворного запаха хлорки. Они пили ее жадно, поочередно подставляя под единственный работающий кран сжатые лодочкой ладони, потом умывали чумазые от подземелья лица.
Тагир сидел на бетонном полу и, покашливая, курил.
– Во, Тагирчик, тебя пробрало! Ты ж не куришь!
Осадчий не смог сдержать смеха.
– Я ни разу в жизни так не боялся! – с сильным акцентом произнес тот. – Мамой клянусь! Что это было, вы скажете мне?
– Дренажная система – это погруженные насосы и трубопроводы. По достижении ватерлинии автоматический датчик уровня включает насос для откачки воды. Поэтому бомбоубежище не подтопляет, – сказал Хабаров. – Мы слышали звук включающегося насоса.
– О-о-о! Горе мне! – простонал Тагир. – Опозориться из-за какой-то железки!
– Ты пить пойдешь или нет? Не пойдешь, тогда поднимайся. Тагирчик, времени в обрез. Идти надо.
– Куда ты все торопишься, слушай?! – недовольно заворчал Тагир. – Часом раньше, часом позже… Какая разница?! Отдохни, дорогой. Давай посидим. Сдохну ведь! Не дойду.
– Дойдешь.
Осадчий помог Тагиру подняться. Он смотрел ему вслед, когда тот измученной походкой шел в умывальную. Хабаров перехватил этот взгляд и тут же отвел глаза. Когда-то он уже видел такой взгляд. Это был его собственный взгляд. Этот взгляд был у него всякий раз перед боевым вылетом, когда знаешь, что будешь убивать, а убивать не хочется. Вот как раз для таких взглядов и были предусмотрены «боевые 100 грамм».
– Баба сбежала! – вдруг заорал Тагир.
Наскоро вытирая лицо грязной полой пиджака, он выбежал из умывальной.
– Не сбежала я, – сказала Марина, выходя следом. – Там дальше туалет есть.
– Все. Уходим! – строго сказал Осадчий.
Он подхватил саквояжи и боком протиснулся вслед за Хабаровым в приоткрытые двойные гермодвери, точно такие же, как те, через которые они вошли.
Тоннель, в котором они оказались, как и бомбоубежище, был серый, бетонный, освещен тридцатишестивольтовыми лампочками, что было и непривычно, и необычно после долгих часов блуждания в темноте.
Здесь не было воды между шпал, и рельсы были не такие ржавые. Здесь даже был контактный рельс на восемьсот двадцать пять вольт, запитывающий поезда. Правда, напряжения в нем не было. Вдоль обеих стен шли связки силовых кабелей. Периодически встречались двери с непонятными табличками «СУ – NN», «ДСО-2», «ВВ», «Людской ходок».
Не прошло и десяти минут, как впереди показался просвет – довольно большое пространство, освещенное ярче, чем тоннель. Увидев его, Осадчий остановился.
– Это и есть «Дмитрогорская» – станция метро, на которую не ступала нога пассажира? – обернувшись к Хабарову, спросил он.
Хабаров кивнул.
Осадчий толкнул ногой ржавую рыжую дверь слева и посветил внутрь фонариком. Луч света скользил по серым бетонным стенам комнаты метра два на полтора. Стены были то там, то здесь покрыты белесым грибком, на бетонном полу валялись остатки какой-то аппаратуры.
– Тагир, оставим саквояжи здесь. Мало ли что…
Идти без груза было наслаждением.
Они прошли еще немного вперед. Платформа стала видна более отчетливо. Подходить к ней вплотную Осадчий не стал.
– Ждите меня здесь. Тагир, пожалуйста, без резких движений. Если ты меня оставишь без проводника, я тебе башку прострелю.
Он соскочил со шпал в канаву, шедшую вдоль левой стены и, пригнувшись, побежал вперед.
Приблизившись к платформе, Осадчий не стал подниматься наверх, а юркнул вниз, под бетонный настил, и исчез.
Хабаров хмуро глянул на Тагира.
Тот взял Марину сзади за ворот куртки, упер ей в спину ствол автомата
– Только дернись, спасатель! Ты – проводник, а про бабу Никита ничего не сказал.
Полковник Добрынин заметно нервничал. Он курил сигарету за сигаретой и то и дело поеживался от противного озноба, мурашками пробегавшего по спине.
Уже обсудили все доступные темы. Решили, почему в России уж два века как все одна и та же проблема – дураки и дороги; почему «Ниссан» голландской сборки 1992 года выпуска лучше новенького, собранного у нас; почему обычный банковский кредит выгоднее, чем предлагаемая заманиха-овердрафт; почему с красивой жить тоскливо, а со страшненькой страшненько; почему всех денег все равно не заработать, но хочется, и почему хочется всегда не там и не тех.
Как раз когда они почувствовали друг в друге родственные души, Мозговой, тощий и долговязый напарник Добрынина, задушевно так, с матерком, спросил:
– Товарищ полковник, какого х…я? Долго еще будем концы морозить? Четвертый час ждем!
– Не знаю, – хмыкнул Добрынин.
Он зябко поежился, шумно выдохнул, сплюнул.
– Знаешь, капитан, если бы он не пришел, это было бы лучшим исходом для нас обоих.
– Это почему же?
– Это сволочь, отмороженная на всю голову.
– А какая нам разница? Будет борзеть, шлепнем, и дело с концом! У нас же приказ: при выходе клиента из-под контроля действовать по обстановке. А кто сможет проверить эту обстановку?
Добрынин вздохнул, достал носовой платок, шумно высморкался.
– Крамольно мыслишь, Мозговой. Мелко. Лучше куртку застегни, чтобы бронежилета видно не было. Твое дело не принимать решения, а меня страховать. Не хватайся ты за ствол при каждом переходе разговора на повышенный тон! А-то будет как в Питере.
– Е-есть! – разочарованно протянул Мозговой. – На этой уголовной сволочи клейма ставить негде. Ее тупо мочить надо! А мы в дипломатию с нею играем, прикрытие обеспечиваем! Николай Алексеевич, может, вы мне объясните, почему офицеры ФСБ должны лебезить перед этой распальцованной шоблой?
– Тебе по выслуге майора когда должны были дать? – без перехода спросил Добрынин.
– Три года назад. А что?
– Вот когда поймешь почему, тогда и майора получишь. Я однажды спросил: «Почему?»
– И что?
– На подхвате с тех пор. Кстати, из-за того субъекта, что мы сейчас ждем.
Они стояли в самом конце пустынной серой платформы, разделенной двумя рядами опор, освещенной редкими лампами дневного света. Стены и потолок платформы были из ничем не прикрытых металлических тоннельных тюбингов[44].
Легкий шорох, едва уловимый в гулком подземелье, непонятный, нарушающий привычную слуху картину, заставил их насторожиться. Добрынин жестом приказал напарнику спрятаться. Мозговой тут же встал за опору, на всякий случай приготовив пистолет с навернутым на него глушителем.
Добрынин остался на месте. Напоказ беззаботно он закурил новую сигарету, затянулся и шумно выпустил дым через ноздри. Добрынин ждал его появления. Чекист чувствовал кожей, что человек, из-за которого его блестящая карьера очень быстро накрылась самым что ни на есть медным тазом, рядом. Добрынин всматривался в черноту тоннеля и в слабо освещенное пространство платформы, но никого так и не смог разглядеть.
– Любезнейший, не подскажешь, как мне на руддвор[45] попасть? – голос был спокойным, доброжелательным.
Добрынин обернулся.
За его спиной, шагах в семи, у едва приметной двери с маленькой заржавевшей табличкой «Аварийный выход» стоял высокий, плотный, абсолютно лысый мужчина. Его рыже-зеленый камуфляж был в грязи, ноги, обутые в высокие армейские ботинки, почти до колен были в коричневой мокрой глине.
– Я новый электрик. Заблудился… – улыбаясь, добавил незнакомец и перекинул с руки на руку автомат.
– Руддвор на нижнем уровне ствола. Войдите в лифт и вызовите дежурного, – ответил отзывом на пароль Добрынин.
– Ну, слава богу! Я думал, тебя паралич разобьет при моем появлении, – сказал Осадчий.
Добрынин улыбнулся, шагнул навстречу и протянул руку.
– Здравствуйте, Никита Васильевич. Заждались мы вас. Как добрались?
Осадчий задержал руку Добрынина в крепком рукопожатии. По-прежнему приветливо улыбаясь, сказал:
– Позови из-за опоры Мозгового. Он мне на нервы действует. Или я ему яйца прострелю.
– Кого? – с деланным непониманием переспросил Добрынин, пытаясь освободить кисть.
Осадчий усмехнулся, холодно, нехорошо, разжал пальцы, и Добрынин едва не потерял равновесие.
– Я минут двадцать ваши байки слушал, Николай Алексеевич, – с убийственной вежливостью продолжал Осадчий. – Уже выбрал угол для стрельбы. Дальше рикошет сделает свое дело. Мне повторить просьбу или выбрать спуск?
– Иди сюда, капитан! – крикнул Добрынин.
Мозговой выглянул из-за колонны и с видимой неохотой пошел к Добрынину. Пистолет он держал в опущенной руке.
– Интуиция у вас, Никита Васильевич! – с деланным восхищением, как плохой актер, сказал Добрынин. – Ну, что ж, раз мы в полном составе, позвольте спросить, где же ваш груз? Нас предупредили, что груз будет с вами.
– Со мной. А о чем еще вас предупредили?
Добрынин смутился. Он взял Осадчего под руку, отвел к краю платформы и как бы по секрету сказал:
– Вы, Никита Васильевич, не волнуйтесь. Я обязан обеспечить не только вашу безопасность, но и безопасность ваших людей. Доверяйте мне.
Осадчий молчал. Он в упор смотрел на Добрынина. От его пронзительного холодного взгляда, от того, что Осадчий больше не улыбался, а был серьезен и сосредоточен, опять мурашки побежали по спине Добрынина.
– Хватит нам с вами танцевать по платформе, – понизив голос до шепота, продолжал Добрынин. – Зовите ваших людей, будем подниматься. Только…
Добрынин замялся.
Осадчий не задал привычного вопроса: «Что только?», никак не поддержал Добрынина, предоставив возможность ему самому справиться с неловкой ситуацией.
– Оружие придется сдать, – наконец выдавил из себя Добрынин и тут же добавил с выдававшей неуверенность поспешностью: – Только на время! Доберемся до места, все назад получите в целости и сохранности. Вы уж извините великодушно, Никита Васильевич. Такой у меня приказ. Вы-то, понятно, человек уравновешенный. А от ваших людей чего ожидать, мы не знаем. Придется и вам, и нам за ними в оба смотреть. К тому же, город перекрыт, с милицией меньше объясняться придется. Кому нужна головная боль? – Добрынин доверчиво смотрел в глаза Осадчему. – Вы устали. Мы устали. Закончим вашу переброску и – по домам. Отдыхать. Новый год ведь! Сдайте оружие, – просительно повторил он. – Я вот вообще безоружен. Обыщите.
Добрынин с готовностью поднял руки.
Осадчий усмехнулся.
– Если вы АК-74 считаете оружием…
Он отсоединил магазин и бросил автомат под ноги Добрынину. Магазин он с размаху швырнул в полутемный тоннель.
– Никита Васильевич! – с досадой сказал Добрынин.
Ему хотелось приказать Мозговому немедленно обыскать Осадчего, но, опасаясь конфликта, от которого едва ушли, он сдержался и поспешно предложил:
– Позовите ваших людей, Никита Васильевич. Все в порядке. Я понимаю вас.
Из нагрудного кармана Осадчий достал фонарик, несколько раз щелкнул кнопкой, направив луч в черноту тоннеля.
– Они заметят? – чтобы поддержать разговор, спросил Добрынин.
– Мы устали, полковник. Переход был тяжелым. Прошу тебя, не гунди.
Минут пять или, может, все десять прошли в полном молчании. Добрынин терпеливо ждал, стоя рядом с Осадчим все там же, у края платформы. Мозговой топтался справа, чуть поодаль.
Наконец из тоннеля послышалось невнятное шарканье. Прошло еще какое-то время, и звуки стали громче, отчетливее. Они превратились в неторопливые шаги и отрывистые, короткие фразы. В просвете тоннеля уже можно было различить силуэты идущих к платформе людей.
– С вами трое? – спросил об очевидном Добрынин. – А это еще что за маскарад?
Он с недоумением разглядывал остановившуюся шагах в пяти компанию. На Хабарове был потрепанный грязный комбинезон спасателя, на Марине явно не по размеру зимняя форменная куртка с надписью «Центроспас», из-под которой виднелись лохмотья юбки и халата, ноги девушки были в грязных обмотках бинтов. Марина трогательно прижалась к плечу Хабарова, обхватив обеими руками его руку выше локтя, словно была уверена, что этот хмурый безоружный человек сможет ее защитить. На Тагире был свитер, костюм и черная кожаная куртка, тоже грязные, от пыли и глины. По лицу Тагира легко читались недоверие и неприязнь к встречавшим.
– Ситуация сложилась так, что мне понадобился проводник, – сказал Осадчий. – Он! – он указал на Хабарова. – Спасатель превосходно знает эти подземелья. Без него бы не вышли.
Добрынин рассеянно кивнул, о чем-то напряженно размышляя.
– А девка? – спросил Мозговой.
Осадчий недовольно глянул на него.
– Кто обучал вас русскому языку, капитан?! Вы более мерзко воспитаны, чем я мог предположить вначале. Присутствие дамы, – он сделал акцент на слове «дамы», – было обязательным условием нашего проводника. Без нее ну никак не хотел идти!
Осадчий развел руками, извиняясь.
– А кто третий? – все же спросил Добрынин.
Платком он отер пот со лба и расстегнул куртку.
– Это вам знать не обязательно.
– Хорошо. Тогда прикажите ему сдать оружие. Пожалуйста, Никита Васильевич.
– Тагир, отдай автомат.
Видя его замешательство, Осадчий с нажимом добавил:
– Отдай.
Тагир отточенным движением отсоединил магазин, не оборачиваясь, через плечо бросил его назад, на железнодорожные пути, автомат передал подошедшему Мозговому.
– Капитан, обыщи всех троих!
Мозговой поспешил исполнить приказ. У Тагира он нашел пистолет, подал Добрынину.
– Его тоже…
Добрынин кивнул на Осадчего, из наплечной кобуры небрежным жестом вынул пистолет и направил на Осадчего. Осадчий покорно поднял руки.
– Скучно с вами, серые клоуны.
– Вы, Никита Васильевич, притащили двоих заложников. Я статус этих людей правильно понимаю?
Осадчий отступил на шаг.
– Пришлось.
– Осадчий, вы отдаете себе отчет, что вы нарушили закон? Вы причинили много страданий этим людям. Я не оставлю это безнаказанным! Спокойно, граждане, – как можно доброжелательнее сказал Добрынин, обращаясь к Хабарову и Марине. – Мы сотрудники ФСБ. Вам больше ничего не угрожает. Вы свободны!
Дальше события были спрессованы в мгновения. Только потом, прокручивая их в памяти вновь и вновь, они поражались тому, сколько смогли вместить эти несколько коротких секунд.
– Лежать, Хабаров! – страшно крикнул Осадчий и толкнул Хабарова, едва Добрынин успел закончить фразу «Вы свободны».
Кто из них успел выстрелить – Добрынин или Мозговой – Осадчий не понял. В прыжке с разворота он нанес мощный удар ногой в грудь Добрынину, обернувшемуся на его крик, и в то же время всадил выхваченный из-под левого манжета кинжал в шею Мозговому.
– Мама… Мама родная… – с сильным акцентом произнес Тагир и рухнул набок на бетон платформы, трогательно прижимая к груди свой грязный носовой платок, ставший алым от крови.
Хабаров ладонью зажал рот лежавшей с ним рядом Марине, пытавшейся закричать.
– Сука! – взревел Осадчий и ногой выбил у Добрынина пистолет, кинулся на него, схватил за грудки, тряхнул. – Время идет, а пароли не меняются! «Вы свободны!» опять означает приказ убивать!
Кулаком он ударил Добрынина в лицо, швырнул на землю.
– Хабаров, живой?! – крикнул он, не оборачиваясь, потом вновь схватил Добрынина за грудки, придавил к платформе. – Иди сюда! Кто?! Я спрашиваю, кто меня заказал?!
Добрынин извивался ужом, брыкался, пытаясь освободиться от удушающего захвата, что-то хрипел.
– Кто? Ну?! – он заломил руку Добрынину. – Говори! Сломаю!
Добрынин что-то невнятно просипел.
Осадчий ослабил захват.
– Не слышу!
– Пошел ты… – прохрипел Добрынин.
Осадчий впился пальцами в горло Добрынина.
– Этот прием называется «тигр ломает шею журавлю». Полковник, я проведу его медленно, чтобы ты почувствовал, как рвется твоя гортань и остается в моих руках.
– Одессит… Костик… Вор в законе…А-а-а-а… – он жалобно застонал.
– Погоны продаешь! Мразь!
Осадчий брезгливо отпихнул его.
– Скажешь Одесситу, что заказ выполнил. Понял?!
– Ты больше не жилец… – выдохнул Добрынин.
– Уходи, полковник. Прошу тебя! Уходи, пока живой!
Добрынин трудно поднялся, держась за горло, покачиваясь из стороны в сторону, побрел прочь. У двери с ржавой табличкой «Аварийный выход» он споткнулся, упал, чуть замешкался, потом неожиданно резко вскинул руку.
Выстрела слышно не было. Только очень тихий, свистящий звук. Потом удивленный, по-детски удивленный взгляд Добрынина и расползающееся темное пятно на его лбу, точно третий глаз. Пару секунд он еще держал вскинутой правую руку с зажатым в ней маленьким ПСМ, потом, так и не закрыв глаз, рухнул ничком на усеянный окурками бетон грязной платформы.
Осадчий опустил пистолет Мозгового. Он был уверен, что сейчас вновь, как всегда, нахлынет, захлестнет знакомое чувство наслаждения чужой смертью, которое овладевало им всякий раз, когда он убивал, появится сладковатый привкус во рту, затрепещет сердце и захочется убивать, жестоко, без разбора, без повода, и нужно будет опять с этим бороться. Он ждал и боялся этого и ненавидел себя за «слабость», как он это состояние называл. Но ничего этого не произошло. Он обернулся к Хабарову и Марине.
Расширенными от ужаса глазами девушка не мигая смотрела на него. Осадчий поймал этот взгляд, вскинул руку, точно защищаясь, потом, пересилив себя, пошел навстречу.
– Наверху все тихо. На строительной площадке видим двоих в колеснице. По виду братки. Ждут. Наблюдают. Движения нет.
Доклад капитана Ивочкина был лаконичным.
– Спускайтесь внутрь. Задача – наблюдение. На связь через 15 минут. Как понял?
– Есть! Наблюдение. 15 минут.
Генерал Гамов посмотрел на часы. Стрелки показывали 10.05 первого утра наступившего года. Он достал сигареты, закурил. Это был хороший табак, чуть терпкий, чуть горьковатый, с глубоким насыщенным вкусом. Он курил и смотрел на белесые струйки дыма, что тянутся от сигареты зигзагами вверх. Он думал. Подобное состояние, чуть заторможенное, внешне абсолютно непроницаемо-спокойное, было у него всякий раз перед принятием важного решения. А он привык принимать решения. Привык к грузу последующей ответственности. И все-таки сейчас он медлил.
– Почему вы не отдаете приказа о штурме?
Слова неестественно резко прозвучали в пустом школьном коридоре.
Генерал не обернулся.
– Не надо стоять у меня за спиной, – холодно произнес он.
Тасманов шагнул вперед, встал рядом.
– Иван Андреевич, я не собираюсь вас поучать. Это было бы глупо с моей стороны. Но мне не понятно, почему вы медлите. Неужели вы не понимаете, что промедление будет стоить жизни и рабочим, и спасателям?!
Гамов не ответил.
– У рабочих, вероятнее всего, комбинированные травмы. Вдобавок у всех заложников наступила вторая стадия психотравмы. Вы знаете, что это такое?
Гамов обернулся.
– Новеньков! – громко позвал он.
– Я, товарищ генерал! – Новеньков поставил на учительский стол глобус, резко поднялся из-за стола и вытянулся по стойке «смирно».
– Проводите доктора. Он торопится к подчиненному врачебному персоналу.
Тасманов кивнул.
– Да! Мешки для трупов пойду готовить. Еще надо труповозки вызывать. Куча дел! Как всегда! Спустите меня с лестницы, Новеньков. Только это заставит меня заткнуться!
Гамов улыбнулся, ладонью прикрыл глаза. Он слушал звук удаляющихся шагов, но – странное дело! – чем дальше, тем шаги звучали гульче, отчетливее. Наконец, скрипнула дверь.
– …Вызывали, товарищ полковник? Старший лейтенант Найденов!
– Входи, старлей.
Полковник Гогоберидзе стащил с гвоздя рваное, неопределенного цвета полотенце и отер пот с шеи и подмышек.
– Жара сучья! Никак привыкнуть не могу, – прокомментировал он. – Даже не знаю, что лучше, песок на зубах или пот в подмышках. Пленного видишь?
– Так точно.
– Вот что, Василий. Я без Зонова, переводчика нашего, как без рук. Его утром с аппендицитом увезли. А мне допрос безотлагательно оформить надо.
– Что от меня-то требуется? – спросил старлей.
– Спроси у него: кто, откуда, зачем.
– Как?
– Как… Как… На пушту или на дари[46].
– Товарищ полковник, вы меня с кем-то путаете. Я не переводчик. Я – «летун». Я в «вертушках» спец.
Полковник недовольно поерзал на стуле, пошевелил какие-то бумаги, потом вдруг резко отпихнул их и припечатал кулаком по столу.
– Отставить, Найденов! У тебя в личном деле три курса иняза записано.
– Так точно. Я их, – он кивнул в сторону пленного, – я их понимаю прекрасно. Но говорить… Практика на уровне «Сколько стоит?» и «Руки в гору, мордой в землю!».
– Тогда начинай! – рявкнул полковник, побагровев. – Не ломайся, как телка валдайская!
Старший лейтенант сел на стул, боком приставленный к обшарпанному складному столу полковника, взъерошил волосы, ладонями потер лицо, вздохнул.
– Дайте выпить! – неожиданно сказал он. – И не надо на меня орать, Амвел Суренович. У меня сегодня было пять боевых вылетов, а сейчас личное время, и я должен спать! У меня глаза слипаются.
Полковник искоса глянул на наглеца, потом на пленного, но промолчал. Из ящика от снарядов, приспособленного под тумбочку, извлек бутылку спирта, два граненых стакана, поставил на стол.
– Ну, наливай, что ли. Не томи!
Старший лейтенант Найденов наполнил стаканы на треть. Молча чокнулись. Выпили.
Найденов обернулся, внимательно посмотрел на пленного, сидевшего в углу комнаты на полу. Под его взглядом старик сжался, превратившись в маленький, тщедушный комок. Из-за густой седой бороды и усов, грязного лица его возраст угадать было сложно. Сухонькое тельце, одетое в грязные драные лохмотья, было жалким.
– Откуда ты? Как твое имя? – спросил старший лейтенант на дари.
Старик молчал. Он никак не отреагировал на вопрос.
Старший лейтенант приблизился к нему, слегка нагнулся. Руки старика заметно задрожали.
– Откуда ты? Как твое имя? – вновь спросил Найденов уже на пушту.
Старик опасливо глянул на старшего лейтенанта, показал руки, связанные спереди отрезком парашютной стропы и что-то залепетал. Сначала его речь была почтительно-просительной, но потом в голосе стали слышны требовательные нотки, и полковник Гогоберидзе не выдержал, спросил:
– Найденов, что он говорит?
– Он говорит, что близится час молитвы. Он просит развязать руки, так как не может молиться со связанными руками.
Но старик не ждал, когда его переведут. С завидным упорством он тараторил на своем витиевато-каркающем языке, все убыстряя и убыстряя темп речи, так что Найденов едва успевал переводить.
– Он говорит, что бесчеловечно лишать пожилого человека молитвы, что молитва – это основа жизни. Говорит, что Бог накажет за это нас. Говорит, что лучше бы мы его лишили пищи и воды. Он готов терпеть любые физические лишения. Говорит, что у людей с красными звездами черные души и что эти люди, мы то есть, несут горе его народу. Он говорит, что…
– Хватит! – рявкнул Гогоберидзе. – Скажи ему, что он получит возможность молиться сразу после того, как ответит на наши вопросы.
Найденов перевел.
Старик вздохнул, что-то пробубнил непонятной скороговоркой.
– Он говорит, что слишком стар, у него нет сил, чтобы спорить, – перевел Найденов и, – уже на пушту, старику: – Наши вопросы немногочисленны. Назовите место, откуда вы. Назовите ваше имя.
Старик смиренно сложил руки на груди и стал говорить.
– Он из селения Катузган, что близ города Гиришк. Зовут Маших, – переводил Найденов. – Его семья занималась разведением каракульских овец. У него был дом, был большой сад, два колодца, чтобы поить овец, и два колодца с чистой водой. Люди в его селении продавали воду. Он же позволял брать воду даром, потому что считал, что то что Бог дает даром, надо людям отдавать даром. За это убили его жену и его дочь. Потом наши вошли в Гиришк. Его селение было стерто с лица земли в боях за Гиришк. Короче, товарищ полковник, бизнес старика накрылся, а вся его семья погибла.
Найденов присел на корточки перед стариком. Он смотрел в его грязное, обветренное лицо, в его испуганные глаза с нескрываемым чувством сострадания.
– Как ты здесь-то оказался? – спросил он старика как можно мягче.
Старик закивал, опять залопотал витиеватой скороговоркой. Гогоберидзе почесал затылок.
– Как ты только эту хрень разбираешь? По мне все одно – набор звуков. Черти безъязыкие!
– Он говорит, что мусульманин-суннит. Здесь, недалеко, религиозная община, куда собираются такие, как он, бездомные.
– А в окрестностях аэродрома что делал этот «суннит»? – с издевкой спросил Гогоберидзе. – Ты только про аэродром не переводи.
– Само собой.
Старший лейтенант Найденов перевел:
– Почтеннейший, что вы делали в окрестностях нашей общины?
Услышав перевод, старик замахал руками, что-то оживленно заговорил.
– Чего это он заволновался? – спросил Гогоберидзе.
– Он говорит, что за ним гнались вооруженные люди. Кто, не знает. Он бежал от них, прятался. Потом сбился с дороги. Потом наш патруль его задержал. Еще он говорит, что никогда не воевал и осуждает войну, что люди должны выращивать хлеб и виноград, разводить овец и молиться. Его отношение к войне… – Найденов запнулся. – Тут, вероятно, употребляется какая-то анаграмма. Как это точнее перевести? Его отношение к войне аристофано-лисистратское…
– Мне что, так и писать? – спросил полковник.
Найденов пожал плечами.
– Это буквальный перевод. Я спрошу, что это значит.
– Не надо. Мне интересно его отношение к войне, как интересны его грязные портянки.
Старик вновь что-то беспокойно затараторил.
– Беспокоится, что солнце сядет. Он не успеет помолиться. Просит с нижайшим поклоном господина главного начальника на время молитвы развязать ему руки.
Найденов улыбнулся, похлопал старика по плечу, мол, ничего, сейчас все уладим. Гогоберидзе недовольно поморщился.
– Товарищ полковник, – в дверном проеме показалась голова лейтенанта Ужова, – керосин привезли. Вы говорили, лично принимать будете.
– Не вовремя!
Комполка встал, направился к двери.
– Найденов, смотри в оба. Я сейчас. И… Ладно, развяжи ему руки. Пусть молится. Не звери же мы! Потом продолжим.
– Есть! – довольно отрапортовал Найденов и принялся развязывать руки старику.
Что случилось дальше, Найденов понял не сразу. Мощным ударом ноги тщедушного стрика-пацифиста он был отброшен в центр комнаты. Скорее инстинктивно, чем подчиняясь разуму, из положения лежа Найденов резко выпрыгнул вверх и мгновенно принял боевую стойку. Однако старик не дал ему опомниться и попытался нанести несколько мощных ударов по болевым точкам. Найденов ловко ставил блоки. С того момента, как от шокирующего поворота событий старший лейтенант Найденов стал приходить в себя, он не переставал удивляться, откуда в тщедушном старике столько силы. Дрался старик, ни в чем не уступая молодому, полному сил Найденову, кстати, имевшему черный пояс по каратэ. Старик дрался азартно и в то же время расчетливо, предвосхищая и угадывая все найденовские хитрости и приемы. Поединок закончился неожиданно. Найденов пропустил простейший удар. Старик моментально воспользовался этим, провел болевой прием и вот-вот должен был свернуть старшему лейтенанту Найденову шею.
В этот момент показавшийся в дверях полковник Гогоберидзе не в тему пафосно заявил:
– Что ж ты меня позоришь, старлей?! Я нашему гостю твои достоинства расхваливаю, будто девки на выданье, а ты?
– Амвел, ты не прав. Парень в отличной форме! Если учесть, что у него действительно было сегодня пять боевых, то он совсем молодец! – на чистейшем русском языке произнес «старик» и, наконец, ослабил захват. – Полковник, распорядитесь-ка насчет чайку!
«Старик» подал руку сидевшему на полу Найденову.
– Вы можете называть меня Сан Саныч. Мне понравился ваш перевод. Мне говорили, что вы знаете язык, но я не думал, что так хорошо. Болит? До свадьбы заживет! – улыбнулся Сан Саныч, глядя, как Найденов потирает шею. – Вы присядьте. Присядьте…
Найденов послушно сел напротив Сан Саныча, который теперь сидел на месте полковника Гогоберидзе.
– В вашем переводе только одна неточность. Но это скорее не от незнания языка, а от незнания истории. Был такой греческий поэт-комедиограф Аристофан. Жил в 445–385 годах до нашей эры. Так вот, в комедии «Лисистрата» он выступал против военной политики государства. Теперь вы знаете, как правильно перевести, что отношение к войне у меня, как вы сказали, «аристофано-лисистратское»?
– Зачем нужен был весь этот маскарад?
– Вот и чай! – обрадовался Сан Саныч. – Откуда вы так хорошо язык знаете? – спросил он, напрочь игнорируя вопрос Найденова.
– От верблюда! – буркнул Найденов.
– Старлей! У тебя совесть есть?! – рявкнул Гогоберидзе. – Ты чего подполковнику госбезопасности хамишь?!
– Извините, товарищ подполковник! – Найденов резко встал и вытянулся по стойке «смирно». – Прошу разрешить отбыть в расположение.
– Сядьте, Василий. Сядьте… – сказал Сан Саныч, мягко. – Амвел, оставь нас. Так откуда вы так хорошо знаете язык? – вновь спросил подполковник, дождавшись, пока закроется дверь за Гогоберидзе.
– Отец… Он знал язык. Всю свою жизнь изучал культуру афганского народа. Ту самую культуру, которую я сейчас методично изничтожаю. Залп – и нет культуры! Я родился в Кабуле, во время одной из командировок отца. У меня няня была из пуштунов. Мама говорила, что сначала я начал говорить на пушту, а только потом, годам к пяти, выучил русский. Потом английский. Я в Кабуле в английскую школу ходил при американском представительстве. Дома всегда на трех языках говорили. Отец хотел, чтобы я в иняз поступил. Ну, в общем, меня на три курса только хватило. Учился на «отлично», но было скучно. Зачем вам все это?
– А спорт?
– Что спорт?
– Когда вы черный пояс получить успели?
– В институте. Мне ж не надо было слова с грамматикой долбить. Вот и коротал свободное время в спортзале.
– Нравилось?
– Нравилось. Простите, а борода у вас настоящая?
– Настоящая, – Сан Саныч тихонько засмеялся. – Летать нравится?
– Нравится.
– А воевать?
– Воевать? – Найденов усмехнулся. – Это нравиться может только умственно неполноценному. Смерть. Грязь. Кровь. Пот. Нервы.
– Вы чай-то пейте, пейте, Василий. Как умер ваш отец?
Найденов резко отодвинул чашку, встал.
– Странная тема для чайной церемонии. Разрешите идти?
– Нет! – резко сказал подполковник. – Не разрешу.
Теперь они стояли друг напротив друга.
– Ты не знаешь, как умер твой отец. Тебе сказали, что он заболел, находясь в командировке, в Кабуле. Твоего отца хоронили в закрытом гробу. Знаешь, почему? – подполковник выдержал паузу. – Потому что пуштуны порезали его на куски, а перед этим долго пытали. Знаешь, почему? Потому что он отказался им выдать место, где спрятал меня. Он был … – подполковник запнулся. – Он был настоящий мужик и очень хороший друг. Благодаря ему я живой, а он…
– Заткнитесь! – Найденов сжал кулаки.
– Ваш отец, Василий, был полковником госбезопасности. Он не был институтским профессором. Он был боевой офицер! Профессионал очень высокого класса!
– В отличие от вас! – с вызовом заявил Найденов и от души, наотмашь врезал подполковнику кулаком в челюсть. – Ничего, подполковник, переживешь. Трусливые подонки живут долго.
– Ты ничего не знаешь! Заткнись!
– Спустите меня с лестницы, подполковник. Только это заставит меня заткнуться…
Генерал Гамов ладонями потер лицо. Давно это было!
…В маленьком спортивном зале кроме него не было ни души. С силовыми упражнениями было покончено, и теперь, напоследок, вися вниз головой на ребрах шведской стенки, подполковник Гамов с упрямым упорством качал пресс. Его худое, но мускулистое тело, несмотря на хмурую московскую зиму, было бронзовым от загара. Пот лежал на нем ровным глянцем. Черные с проседью волосы, доходившие до плеч, теперь растрепались и висели тяжелыми влажными прядями. Окладистая черная, с густой проседью борода почти скрывала коричневое от загара лицо.
– Иван Андреевич!
Старший лейтенант Найденов остановился в дверях. На нем были голубые американские джинсы и светло-серый франтоватый хлопчатобумажный пиджак, надетый поверх тонкого темно-серого пуловера.
Гамов на секунду замер, потом, изобразив лихое сальто, соскочил на пол, пошел навстречу.
– Красавец!
– Узнали? Я сам себя в зеркале не узнаю. Новая морда, новая жизнь…
– Наслышан, весьма наслышан о твоих успехах. Рад и горжусь!
– Спасибо.
Найденов сдержанно улыбнулся. Он был напряжен и сосредоточен.
– Иван Андреевич, я через три часа улетаю, может быть, больше не увидимся. Я должен попросить у вас прощения. Простите меня.
Подполковник удивленно вскинул брови.
– Что за минор?
– Я всего не знал. Ни о вас, ни об отце.
– Васька!
Они порывисто обнялись. Найденов зажмурился, затаил дыхание. Как в детстве, защипало глаза.
Гамов отстранил его, правой рукой обнял за плечи, улыбнулся.
– Что?
– Вспомнил нашу первую встречу. Н-да… Я четыре года был там. Наконец, мне удалось выскочить. Меня доставили на вашу базу. Даже переодеться не успел. Тут задание. Парнишку обработать надо. Я было отказался. Устал, как сотня чертей. Мне сказали: сын Анатолия.
Василий вздохнул. Враз охрипшим голосом произнес:
– Мне награды отца отдали. Их так много… – его голос дрогнул. – Жаль, мама не знала.
– Марта… Я желаю тебе такую же встретить.
– Когда постарею. Не хочу, чтобы у кого-то сердце за меня болело.
– У меня оно всегда за тебя болит.
– Вы все правильно сделали, Иван Андреевич. Если бы не вы, я бы спился давно.
– Не драматизируй. Куда сейчас?
– В Афган. Самолет через три часа. Поступаю в распоряжение некоего Шухраба.
– Шухраба… – Гамов усмехнулся. – Это я.
Генерал Гамов глянул на часы, достал пачку крепких «Дезери», выбрал сигарету.
– …Держите, уважаемый Шухраб. Это блок ваших любимых сигарет: крепкий «Дезери». В машине целая коробка. Пошлите кого-нибудь. Нигде их не делают такими ароматными, как в Штатах.
– Уверен, они так же хороши, как ваш американский английский, уважаемый Шон. Сегодня у вас нет акцента, свойственного китайцу.
– У меня для вас все самое лучшее, – улыбнулся Шон Цзы. – А что до акцента… Мы с вами давние деловые партнеры. Убежден, вы давно знаете о том, что я американский советник в этих стреляющих зыбучих песках. Так что китаец из меня неважный. Мои дед и бабка действительно были китайцами. Они эмигрировали в Соединенные Штаты. Родители уже стопроцентные американцы, хотя и с раскосыми глазами.
– Достойная откровенность. Я тоже кое-что для вас подготовил, Шон.
– Ответную откровенность?
– Именно. Наше дело стало слишком хлопотным.
– Согласен.
– Не сегодня, так завтра Советы покинут мою многострадальную родину. Это вопрос очень близкого будущего. Поверьте, Шон, месяц, может быть, два или три… Они выведут войска. Мои налаженные связи рухнут. Больше не будет авиадоставки прямо в Москву. Гнать героин караванами через таджикскую границу дорого и небезопасно. Каждый переход будет как маленькая война. Советские пограничники – это волки. Я уже стар. Я не хочу воевать. Я слишком много воевал за свою жизнь. Всевышний свел меня с человеком, который может быть полезен нам обоим.
– Что-то мне подсказывает, речь не об оружии.
– О, нет! – Шухраб театрально вскинул руки. – Это не перспективно. Откройте.
Он бросил на стол черный бархатный мешочек.
Шон Цзы потянулся к нему и высыпал на полировку стола бриллианты. На солнце блеск камней брызнул в глаза.
– О, мой Бог!
– Их добывали в Союзе. Их север, Якутия. Обработал поставщик. Что скажете?
Гость долго рассматривал камни, вооружившись ювелирной лупой, наконец, все еще не отрываясь от камней, произнес:
– Это никак не связано с недавней катастрофой вертолета Советов? Мы не обнаружили ни одного трупа. Экипаж просто исчез!
– Мои затраты с лихвой окупились!
– Мне это интересно. Хорошее качество.
– Согласен. Вы знаете в этом толк, Шон. Ведь камни – львиная доля вашего бизнеса.
– Вы хорошо осведомлены, уважаемый Шухраб.
– У меня есть человек, который имеет возможность осуществлять регулярные поставки.
Шухраб сделал знак. Тут же бесшумно отворилась дверца летней веранды, и на пороге возник молодой человек с приятной улыбкой.
Конечно, Никита Осадчий волновался, но держался молодцом. Даже, пожалуй, слишком хорошо для советского коммерсанта, нарушающего закон. Вместе они склонили-таки Шона Цзы к совместному бизнесу.
Уже пару поставок спустя хитрый лис Шон Цзы работал с Никитой Осадчим напрямую, бросив-таки, облапошив давнего проверенного делового партнера Шухраба.
«Он просто рожден для разведки!» – подумал тогда Шухраб, он же подполковник Иван Андреевич Гамов, наблюдая виртуозную работу капитана госбезопасности Василия Анатольевича Найденова, носившего псевдоним «Никита Осадчий».
Действительно, самым трудным для Василия Найденова были не «боевые будни», а рождение Никиты Осадчего: новое имя, новая внешность, новый круг общения и потеря любых старых связей. Ведь старший лейтенант Василий Найденов геройски погиб…
Гамов вспомнил о сигарете, которую все это время мял в пальцах, сунул в рот, раскурил.
– Ой, Никита, только бы башку твою не снесло от вседозволенности! – не раз говорил ему Гамов, когда о преступной группировке Осадчего уже заговорили всерьез в самых высоких кругах МВД и ФСБ.
– А по мне хоть сейчас завяжем, Иван Андреевич! – смеясь, отвечал Никита Осадчий. – В шпионов я еще в Афгане наигрался и государственными интересами сыт по горло. Уеду в деревню, буду коров пасти!
Но «пасти коров» Осадчему не разрешили. Родина еще нуждалась в его посреднических услугах. Всегда нужно было кому-то заплатить, кого-то подкупить, что-то профинансировать, проконтролировать денежные вливания за рубежом. Тут без структур и цепочек, созданных Осадчим, было просто не обойтись, ведь государство часто не может выступать от своего имени, дабы не скомпрометировать себя.
Он никогда не давал повода сомневаться в себе. Даже тогда, когда мог действовать безнаказанно, нагло, никогда не переходил грань.
Но сейчас, располагая информацией Андрианова о заминированном входе в цеха по обработке алмазов, санкцию на организацию которых давал сам, стоя в пустом школьном коридоре, генерал Гамов не знал, может ли теперь доверять подполковнику ФСБ Василию Найденову.
Не знал потому, что полчаса назад Найденов должен был выйти на связь, но телефон генерала молчал. Ничего утешительного не могла сообщить и наружка. Посланные за Никитой Осадчим Добрынин и Мозговой тоже как сквозь землю провалились.
«У него вариантов исчезнуть, как бычков на перроне! – продолжал думать Гамов. – А то, что устал он, так это без вариантов. Почти тринадцать лет иметь дело с уголовной сволочью… Я тоже, наверное, подумывал бы свалить со всеми пожитками в заранее заготовленное тепленькое местечко. Ушел бы, красиво хлопнув дверью… Черт! – Гамов одернул себя. – Почему молчат Добрынин и Мозговой? Почему Василий не выходит на связь? Если он исчез… – Гамов усмехнулся. – Даже пуля в висок проблему не решит…»
Мелодия звонка была неожиданно громкой и резкой.
– Гамов! – выдохнул в трубку генерал.
– Тут такая колбаса! – донеслось тихой скороговоркой. – Мы опоздали. Добрынин и Мозговой убиты. На платформе три трупа. Убит еще один не известный нам мужчина.
– Что?!
Гамов качнулся, рванул галстук.
– Объект на платформе. С ним женщина и мужчина. Оба без оружия. По поведению – заложники. Мужчина похож на командира отряда спасателей, только выглядит много старше, чем на фото. На нем комбинезон «Центроспаса». На женщине его форменный бушлат. Ноги женщины обмотаны грязными тряпками. Голова забинтована. Женщина постоянно плачет, повторяет фразу: «Не убивайте нас!» – капитан Ивочкин перевел дух. – Фу-у-у… Черт!
– Чего сопишь, как в «учебке»?!
– Тут засопишь! Аллюром двести метров по почти вертикальной стальной лестнице. Внизу связи нет. Секунду, товарищ генерал!
В трубке невнятный, искаженный помехами голос, потом короткое: «Понял!»
– Ряхин снизу докладывает. В руке «объекта» пистолет. «Объект» идет к предполагаемым заложникам. Что делать?
«Елки с Майорки!» – генерал Гамов потер грудь там, где сердце.
– Объект идет к заложникам! Он вооружен! Жду ваших указаний! – капитан почти кричал в трубку.
– Огонь на поражение…
Ивочкин тут же подхватил и передал по рации:
– Стрелять на поражение, Ряхин! Объект уничтожить! Повторяю объект уничтожить!
– Поднимайтесь уже! – точно укоряя за нерасторопность, сказал Осадчий.
Он протянул Марине руку, но та попятилась назад, словно увидев перед собой змею. Лицо девушки было пепельно-серым, глаза болезненно блестели. Дрожащими пальцами она ухватилась за комбинезон Хабарова, спряталась за него и завизжала.
– Зажми ей рот! – приглушенно сказал Осадчий. – Из-за дуры все ляжем!
Шорох, едва уловимый, неясный, похожий на скрип речного песка. Всего на мгновение, не дольше. Он возник внезапно из-за ржавой металлической двери с черной надписью «Людской ходок» и так же внезапно исчез, шмыгнув, как крыса, в промозглую черноту ближнего угла платформы.
– Падаем! – скомандовал Осадчий.
В прыжке он сбил с ног Хабарова, склонившегося к Марине. Обеими руками рванул его и девушку назад и в перевороте через голову увлек за собой, вниз, на рельсы. Их тела еще падали, не коснувшись земли, когда по серой стальной стене тоннельного тюбинга раздались звонкие шлепки. Что-то маленькое, металлическое, отрикошетив от стены, дзинькнуло о рельс рядом с Хабаровым.
– Ты влип в очень хреновую историю, спасатель, – едва отдышавшись, прошептал Осадчий.
– Я догадался, – прохрипел Хабаров, морщась и потирая занывшую от падения спину.
– Самонадеянное суждение. Все много хуже! Поднимайся! – он толкнул Хабарова ногой в бок. – Бабу бери. Уходить надо!
Хабаров попытался поднять распростертое на рельсах тело Марины. От боли девушка вскрикнула и Хабаров поспешно зажал ей ладонью рот.
– Она, по-моему, руку сломала.
– Бери за куртку, я за ноги. И рысью. Рысью! – Осадчий сунул пистолет в нос Марине. – Только пикни! Я пристрелю тебя. Поняла?!
Девушка судорожно закивала.
Через узкий лаз вдвоем они затащили ее под платформу. Здесь было абсолютно темно и очень холодно.
– Тихо! – шепотом приказал Осадчий.
В ту же секунду на платформе, над ними раздались поспешные шаги. Осадчий достал пистолет, напряженно замер. Какое-то время он вслушивался в тишину, потом рукой придавил голову Хабарова ниже к земле, так, что тот щекой почувствовал шероховатый панцирь инея.
– Дай руку, – Осадчий дернул его за рукав.
Из нагрудного кармана он достал авторучку и на запястье Хабарова написал семь цифр.
– Это телефон, – он посветил фонариком, подправил цифру «7». – Если я через час за вами не вернусь, позвонишь по этому телефону, спросишь генерала Гамова. Скажешь ему: «Шухраба приветствует сын Анатолия». Повтори!
– Да понял я! – шепотом огрызнулся Хабаров. – Саквояжи ему передать, а потом в расход!
– Дурак ты, спасатель! – за одежду Осадчий рванул Хабарова на себя, тряхнул. – Скажешь Гамову, что я нарушил приказ. Дверь не заминирована. Не заминирована! Понял?!
– Какая дверь?
– В подвалы, откуда мы ушли и где остались твои спасатели вместе с рабочими завода и моими рабочими.
– А «секреточка»? «Чтоб испугаться не успели». Забыл?! – сказал Хабаров и резким ударом сбил руки Осадчего.
Осадчий поймал его руку. На запястье ниже первой надписи написал четыре цифры «7951».
– Это код замка. Я сейчас уйду. Ты с дамой останешься здесь. Я должен разобраться, кого за мной послали. И главное, я должен позвонить. Эта хреновина, – он вытащил из нагрудного кармана куртки телефон, – здесь не ловит. Без звонка они не начнут штурм. Они сочтут, что это опасно для заложников и спецподразделения. Время будет стоить жизни заложникам. Если же штурм начнут, обязательно дров наломают. Поэтому мне надо подняться на поверхность.
Он снял свою куртку, бросил ее Хабарову, потом, чуть помедлив, протянул пистолет.
– Здесь пять боевых. Ну, что ты смотришь на меня ошалелыми глазами, командир?! Что ты мне душу рвешь?! Ты же почти узнал меня. Надеюсь, ты не вгонишь пулю тому, что осталось от подполковника ФСБ Василия Анатольевича Найденова?
– Открывай, говорю! – орал инспектор ДПС Егор Серебряков охраннику, важно расхаживавшему возле красно-белого шлагбаума, преградившего въезд в больничный городок. – Открывай, не дожидайся, когда я из машины выйду!
– А ты на алкоголь меня проверь или прав лиши, – меланхолично отвечал охранник, не уступая занятого рубежа.
– Ты, тундра, что-нибудь про спецтранспорт слышал? Открывай или ждет тебя нагоняй!
– Кабы ты раненого вез, я б открыл. А так… Вылазь. Пешком топай. У меня приказ главврача!
– Понаехали! – в горячке огрызнулся Серебряков и погрозил охраннику кулаком. – Еще говорят, Москва не резиновая!
Он бросил машину возле будки охранника и побежал к дверям приемного покоя.
Больничный городок был расположен в лесопарковой зоне и представлял собой три восьмиэтажных здания из рыжего кирпича, стоявшие параллельно друг другу. Между зданиями и по периметру раскинулся больничный парк, спящий, абсолютно пустынный и заваленный снегом. Снег искрился зеленоватыми брызгами в свете редких фонарей, потому и заснеженные еловые лапы, и снежный ковер внутри этих белых электрических пятен казались продезинфицированными и стерильными.
От проходной до корпуса было примерно с километр. Добежав до угла здания, Егор Серебряков был вынужден перейти на шаг, потому что на бегу сухой морозный воздух рвал горло.
Обитые листами оцинкованного железа двери приемного покоя были заперты.
Серебряков помедлил, потом изо всех сил стал барабанить ногой в дверь. Ему казалось, что грохотом он вот-вот перебудит весь больничный городок, но медики приемного покоя на него не реагировали вообще.
Наконец за дверьми что-то скрипнуло, послышалось шарканье ног, и сонный, прерываемый приступами зевоты женский голос посоветовал:
– Ты головой, головой постучи!
– Доктор, с Новым годом! К вам часа два назад по скорой привезли девушку. Я хотел бы узнать, как она себя чувствует! – выпалил Серебряков.
– Пьяный, что ли?
– Да нет! Что вы!
– Так да или нет?
Серебряков обессиленно привалился спиной к дверям.
– Женщина, милая, впустите меня! У меня не праздный интерес. Мне по работе надо. Я старший лейтенант ДПС Егор Серебряков. Два часа назад в зоне патрулирования нашего наряда была авария. Пострадавшую девушку привезли к вам. Мне надо знать, кто она, как себя чувствует. Я же должен документы заполнить! Мне через час дежурство сдавать! Вы же, вместо того, чтобы помочь, меня под дверью маринуете.
– Документ есть? – очень серьезно поинтересовалась медик.
– У вас даже глазка нет! Откройте, я предъявлю.
– Разбежалась! Сойди с крыльца и отойди к елке. Я на тебя из окна посмотрю.
Серебряков молча обматерил бдительную тетку, но делать было нечего. Он обернулся, поискал елку.
– Дура! Удостоверение она мое рассмотреть собралась! – в сердцах выпалил Серебряков и, спрыгнув с крыльца, через стометровую площадку перед зданием побежал к украшенной разноцветными огоньками елке.
– Дед Мороз, заходи! – услышал он из форточки уже знакомый голос.
В полутемном коридоре было тепло и почему-то совсем не пахло больницей, а пахло по-домашнему салатом оливье, тушеной картошкой и свежими огурцами.
Из приоткрытой в коридор двери смотровой донесся хриплый мужской голос:
– Спартаковна, кого привезли?
– Это нас с психбольницей перепутали. Спи! – монотонно отрапортовала Спартаковна.
Свое тучное тело медсестра внесла в кабинет приема больных и водрузила на хрупкий скрипучий стул, который с жалобным стоном исчез под ее задом.
– Я слушаю вас, молодой человек, – в очередной раз зевнув, сказала она.
– Мне нужна информация о девушке, которую скорая доставила к вам два часа назад после ДТП.
– И все? – медсестра с недоумением смотрела на него.
– Все.
– Стоило так стучать… С ума все посходили!
Она пошевелила компьютерной мышкой, еще раз зевнула и произнесла:
– Записывай и проваливай. Я еще доспать успею.
Серебряков выхватил из-за пазухи блокнот.
– Последние два часа поступлений больных у нас не было.
– Как не было?
– Так! – медсестра развела руками. – Это же компьютер, слава богу, а не голова нашего заведующего.
– Но мне врач скорой сказал, что повезли к вам!
– Я не знаю, что вам и кто сказал… С врачом со скорой я вообще не знакома… – медсестра кокетливо поправила кудри. – Не знаю, можно ли ему верить. Может быть, он, вообще, пьяный был! А может, эта дамочка в скорой померла. Тогда с утра в морге ищите! Что же вы сидите, молодой человек, может быть, рюмочку? За Новый год… – она стрельнула глазками. – Служебные дела вы порешали…
Серебряков сделал вид, что не понял.
– Подождите, подумайте. Я очень прошу вас, – он взял медсестру за пухлую руку. – Может, больную привезли, а в компьютер не занесли? Может? Вы на столе бумажки посмотрите.
– Ну что за бессовестный мужик пошел! – громогласно восхитилась медсестра. – Ему на халяву выпить предлагают, а он о бумажках думает! Я тебе русским языком сказала, – медсестра неестественно бодро для ее веса поднялась и через стол нависла над Серебряковым, – не было у нас поступлений! Понял? Иди отсюда!
– Не орите! – Серебряков стукнул ладонью по столу.
– Что?! – взревела медсестра. – Своей жене по заду так хлопать будешь!
Серебряков встал, через стол склонился к медсестре и, хотя весовые категории были явно неравными, нагло заявил:
– Я сейчас наряд вызову! Он зафиксирует факт пьянства на рабочем месте! И всю вашу тушенку-печенку, салатик-сальцо мы предъявим вашему главврачу! Так что спать будешь отныне дома, а не на дежурстве. Ясно?! – и он припечатал о стол кулаком.
Но медсестрой приемного покоя нужно родиться. Вопреки ожиданиям старшего лейтенанта Спартаковна не сдалась. Подбоченясь, приняв позу торговки с одесского привоза, она возвестила:
– Уберешься сам или помочь?!
Мы в затруднении предположить, чем бы дело окончилось, не стрелять же, в самом деле, из табельного оружия в противника прекрасного пола, пусть даже на четыре весовые категории превосходящего тебя, но в этот самый момент откуда-то из недр приемного покоя опять донесся хриплый мужской голос.
– Разучились пить медсестры…
Потом послышались кряхтение, мат и, наконец, сам обладатель хриплого голоса в мятом халате нараспашку, клеенчатых больничных шлепанцах на босу ногу появился в дверях.
– Ну, ты вспомни, – он постучал себе пальцем по лбу, – вспомни, клуша. Ты колбасу резала, – он в воздухе изобразил руками процесс нарезки колбасы, – а я девчонку смотрел.
Медсестра наблюдала за жестами доктора, точно загипнотизированная.
– Ты еще сказала, что волосы у нее красивые и если черепно-мозговая, то надо стричь, и они тысяч на пятнадцать в салоне потянут.
– Ой! – всплеснула руками медсестра. – Про деньги я помню. Точно. Говорила! Пятнадцать тысяч! Ты, паренек, слушай сюда! – она ухватилась за рукав Серебрякова. – Каштановая коса, толстая, с мою руку, вот так, полумесяцем, от уха до уха, на затылке уложена. Я сначала усомнилась, думала, накладная. Потом шпильки-то вынула, гляжу – своя!
– Да что вы мне про косу-то говорите! Документы на девушку где? Куда от вас ее направили?! Диагноз какой?!
– Подожди, – медсестра проворно стала перебирать бумаги на столе. – Сейчас найдем.
Врач крабом прошел к кушетке, сел, дотянулся до графина с водой и выпил половину прямо из горлышка.
– Вы зря, молодой человек, иронизируете, – сказал он как бы между прочим, дирижируя в воздухе графином. – Коса – очень важный элемент в этой истории. Удар был по диагонали сзади и пришелся прямо за ухо, именно в то место, где была уложена толстенная коса. Никогда таких кос не видел! – врач вновь приложился к графину. – Господи, как же выжить-то? Еще в Рождество дежурить! – он отер губы тыльной стороной ладони. – Так что там обязательное для таких случаев сотрясение мозга. Судя по наличию незначительного горизонтального нистагма последствия пройдут дня через четыре. Синячок. Царапины от шпилек. Царапины кровят, правда, но тоже дня за четыре заживут.
– Вот, кошкина мышь! Нашла! – медсестра победоносно положила перед Серебряковым документ. – Я же говорю, у нас ничего не теряется.
Врач прижал к сердцу графин и умоляюще произнес:
– Я же тебя просил, Спартаковна: не ори!
Серебряков изучил документ, сделал пометки в блокноте.
– Значит, она сейчас в травматологии.
– Конечно! Где ж ей быть? – не обращая внимания на призывы доктора, торжествующе объявила Спартаковна. – Проводить или сам заблудишься?
– Травматология в этом здании?
– У нас.
– Какой этаж?
– Второй. От нас направо, потом за углом лифт. Или по лестнице.
– Спасибо. В компьютер больную внесите.
– Обязательно! Только по рюмашечке тяпнем для поправки головы и сразу занесем! – заверила медсестра. – А мне сдается, парень, не служебный у тебя интерес. Да иди, иди уж! Она ждет. Все тебя звала. С Новым годом!
В отделении травматологии было неестественно тихо. Ночной приглушенный свет рыжего коридора действовал угнетающе. В коридоре Серебряков остановился, помедлив, решил идти наугад в левое крыло.
Коридор был длинный, по левой стене заставленный пустыми обшарпанными каталками и белыми подставками для капельниц. По правой стене примерно в семидесяти сантиметрах от пола краска со стены была стерта и серой лентой тянулась широкая полоса проглядывающего бетона.
«Каталками стерли…» – невольно подумал Серебряков.
По обеим сторонам коридора были двери в палаты. Одни двери были плотно закрыты, другие приоткрыты.
Ему был нужен пост медсестры.
– Вы как сюда попали? Почему без бахил? Почему без халата? И вообще, посещение с десяти. Кто вас пустил?! – накинулась на него медсестра, внезапно вышедшая из палаты.
– Простите, я по службе. Инспектор ДПС Егор Серебряков. Вот документы, – он протянул медсестрам удостоверение. – Мне постовую ведомость заполнять надо к восьми, к концу смены. Я не знаю никаких данных потерпевшей в ДТП, что два часа назад было в нашей зоне патрулирования. Потерпевшую к вам доставили. Фамилия Тасманова. Мне надо уточнить диагноз и как она себя чувствует. Меня из приемного покоя к вам послали.
Миловидная русоволосая медсестра небрежно сняла резиновые перчатки и устало выдавила:
– Идемте.
На столе медсестра перебрала истории болезни и, найдя нужную, прочла:
– Тасманова Алина Кимовна. Паспортные данные нужны?
– Диагноз.
– Уточненного диагноза нет. Пока закрытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга, ушиб и множественные царапины волосистой части головы в заушной области, подозрение на перелом левого предплечья.
– Сестричка, а вообще как она себя чувствует? – поймав внимательный взгляд медсестры, Егор поспешно добавил: – Мне чтобы определиться, тяжкий вред здоровью будет или нет. Уголовное дело против виновного в ДТП лица возбуждать или нет.
Медсестра вздохнула, потерла сухие от талька руки.
– Все будет ясно после утреннего осмотра. С восьми томограф будет работать. Ей прямо на восемь назначено. Рентген на восемь тридцать. Сейчас Галанин после операций освободится и ее посмотрит. Он хороший врач. А почему вы мне врете? – без перехода уточнила она.
– Вру?!
– У меня муж был инспектором ДПС. Уголовных дел вы не возбуждаете и не ведете.
– Был?
– Погиб при исполнении…
– Простите… Можно мне ее увидеть?
– Я ей снотворное уколола. Спит она.
– Я быстренько. Одним глазком! – продолжал просить Серебряков. – Мне бы только почувствовать, что она дышит, что она жива, и я сразу же уйду. Обещаю!
– Ладно, – медсестра украдкой смахнула слезинку. – Двадцать четвертая палата. Это в правом крыле, по правой стороне. Две минуты.
На цыпочках, ступая бесшумно и осторожно, Егор Серебряков вошел в палату. Это была стандартная шестиместная палата. Все кровати были заняты. Несмотря на то, что было меньше получаса до обхода, больные еще спали.
Он узнал ее сразу. Внезапно нахлынувшая горячая волна нежности накрыла Егора с головой, поглотила. Стало и душно, и жарко, и здорово! Он рванул ворот форменной куртки, нетвердой рукой провел по лицу. Сердце замерло. Еще дед говорил – а дед был казак и мудростью славился на всю станицу, – что сердце не обманет, оно верный даст знак и уж тогда не упусти, Егорка, свое счастье, крепче за хвост держи!
– Так что у нас с новенькой в двадцать четвертой? Как наши де… – хирург-травматолог Юрий Алексеевич Галанин запнулся и замер в дверях. – Молодой человек… – он удивленно развел сильными волосатыми ручищами и на грани мата продолжил: – Какого хрена вы делаете в женской палате, да еще до обхода, да еще в верхней одежде?!
Серебряков дернулся к выходу, точно его застали на месте преступления. Пожалуй, только оказавшись в коридоре, когда Галанин недвусмысленно и жестко обматерил его, он окончательно пришел в себя. А ругался доктор просто виртуозно. Потом, сидя в ординаторской, его заковыристые кренделя Егор вспоминал с улыбкой.
– Не переживай ты так! – Галанин поставил перед Егором пластмассовый мерный стаканчик, в каких больным раздают микстуру, и из пузатой бутылки плеснул туда граммов пятьдесят спирта. – Огурчиком, солененьким, закуси. Пей, пей! Как лекарство.
Доктор лег на один из двух стоявших в ординаторской диванов, заложил руки за голову и, не скрывая улыбки, произнес.
– Не думал, что на самом деле бывает любовь с первого взгляда. Думал, киношники ее придумали. Уж больно красиво! Он, рискуя жизнью, спасает ее из разбитой, готовой вот-вот взорваться машины, и понимает, что в его руках его судьба. А тут режешь-режешь, и ни спасибо тебе, ни …
Галанин резко поднялся, сел, ладонями потер лицо, пальцами надавил на глаза, зевнул.
– Сейчас усну. Дай-ка мне огурчик.
Серебряков положил перед доктором конверт.
– Юр, это деньги. Посмотри ее нормально.
– Я и без денег посмотрю.
– Не-не, возьми.
– Ладно. Чего сидим? – Галанин посмотрел на часы. – Сейчас томограф с рентгеном начнут работать. Да… – Галанин потянулся за записной книжкой. – Я тебе телефончик дам. Сдается мне, что твоя Алина Кимовна Тасманова какая-то родственница Алексею Кимовичу Тасманову.
– Кто это?
– У-у-у, брат! Таких людей надо знать! Центр медицины катастроф. Если она родственница, переведем ее к ним. У них ресурсы мощнее.
– Я часам к двенадцати вернусь. Вот мой телефон. Если что надо, звони сразу.
Уже знакомой дорогой через больничный городок Серебряков возвращался к машине. Он вытащил из кармана взятый у доктора листок, набрал номер. Он был удивлен, что ему ответили сразу.
– Тасманов. Слушаю вас, – жестко произнес хорошо поставленный голос.
– Алексей Кимович? – уточнил Серебряков.
– Да.
– Простите, что я разбудил вас. Новогоднее утро…
– Я на работе. У меня совсем нет времени. Чем могу помочь?
– Инспектор ДПС Серебряков. У нас было ДТП. В больницу доставлена женщина по фамилии Тасманова.
– Имя?
– Алина Кимовна.
– Какая больница?
– Простите, а она вам кто?
– Какая больница?!
– Пятая.
– Спасибо, инспектор.
Дальше в трубке послышались монотонные гудки.
– Поговорили…
Серебряков сунул телефон в карман, поежился от утреннего мороза и сел в холодный салон служебной машины. Руки он положил на рулевое колесо, склонил к ним голову, закрыл глаза, прошептал: «Господи, спасибо тебе! Пусть и дальше все будет хорошо. Пусть она поскорее поправится…»
– Экипаж 234, доложить, почему покинули зону патрулирования, – проснулась рация.
– 234. Преследовал нарушителя, – монотонно ответил Серебряков.
В рации что-то щелкнуло, прошуршало, затем диспетчер уточнила:
– Помощь нужна?
– Он наш. Отбой!
Серебряков лихо сдал задом, до смерти перепугав отскочившего от шлагбаума охранника, развернулся и погнал на пост.
– Если ты, Ромео хренов, не будешь на посту через десять минут, мы с тобой положим на стол погоны и пойдем, как все, работать! Ты меня понял?! – орал в рацию напарник.
Серебряков вжал в пол педаль газа, включил мигалки и впервые за смену улыбнулся.
В шахте лифта был полумрак. Через решетки сюда проникал свет с платформы. Этот ход через отсек рукава для подачи сверху цементного раствора Никита Осадчий обнаружил давно. Как раз тогда, когда местом встречи на случай непредвиденных обстоятельств генерал Гамов определил не существующую на карте Московского метрополитена станцию метро «Дмитрогорская».
По опыту Осадчий знал, что порою обстоятельства бывают настолько непредвиденными, что лучше бы предвидеть их заранее. Поэтому еще тогда он тщательно осмотрел все примыкающие к платформе помещения и коммуникации, а также ведущую наверх лестницу. Полагаясь на известное «береженого Бог бережет», он даже хотел оборудовать здесь тайничок с оружием и диггерским снаряжением, но потом решил, что это уже слишком. Сейчас Осадчий откровенно жалел, что не перестраховался.
«Стареешь, Никита. Теряешь форму. По таким норам надо молодым лазить…» – думал он, пробираясь к шахте лифта по металлическим крепежам за рукавом для подачи цемента.
О себе он давно уже привык думать как о Никите Осадчем. Никита Осадчий жил, дышал, делал то, что от него требовал долг, старался быть расчетливым, жестким, бесчувственным.
Как же хорошо ничего не чувствовать, не мучиться угрызениями совести, не мытарить себя за то, что живешь не для того и не так!
Но Никита Осадчий так и не смог «задавить» в нем Ваську Найденова. Все чистое, светлое, что было когда-то в его жизни, что было в нем самом, хранилось именно в нем, Василии Найденове. Это он умел любить, а не проверять на лояльность или преданность, это он умел жалеть людей, а не видеть в них объекты потенциальной угрозы, это он радовался жизни, друзьям, а не разрабатывал план очередной операции «конторы» и не использовал людей для воплощения этого плана, это он мог беззаботно, запрокинув голову, глядеть в высокое ночное небо, загадывая на падающую звезду, а не видеть в нем только способ ориентирования на местности.
Осадчий чувствовал, что со временем Василия Найденова становится в нем все меньше. Он иссякал, таял, точно солнечный лучик, зажатый со всех сторон серыми тяжелыми тучами в пасмурный, ненастный день. В такие моменты ему казалось, что его обокрали, похитив самое дорогое, что у него было – его жизнь, дав взамен грязную, не по размеру, чужую.
Как-то случилось, что по делам он оказался поблизости от дома, где когда-то жили его родители и он сам. Он знал, что будет тяжело, но не удержался, пошел. Он хорошо помнил, как стоял посреди необитаемой квартиры, выронив из рук ключи от машины. С черно-белых фотографий на него смотрели мать и отец и он сам – то малыш-карапуз, то школьник, то длинноволосый студент престижного ВУЗа, то строгий, не по годам серьезный курсант военного училища. Он стоял неподвижно и вспоминал жизнь, которая здесь была когда-то, а теперь осталась только в его памяти. Вдруг за стеной заплакал соседский ребенок. Он вздрогнул, прислушался. Услышал, как ласково и терпеливо мать успокаивает малыша и тот перестает плакать. Вновь в мире воцаряется тишина. Он хорошо помнил, как в тот момент тяжелая, свинцовая усталость враз навалилась на него, он вдруг почувствовал себя ненужным, никчемным, всеми брошенным. Ему вдруг до боли захотелось назад, туда, в детство, где его любили, где он был нужен, где не было подлости и предательства, расчетливых, грязных схем и где дом действительно казался крепостью. Он сидел на полу и плакал. Он мог позволить себе эту слабость, первую за десять с лишним лет работы на «контору».
«Черт!» – почти вслух выругался Осадчий, когда усы стальной проволоки, из которой был сплетен трос лифта, больно врезались в ладонь. Превозмогая боль, он другой рукой поймал соседний трос и повис на нем, как на канате. Сдирая ладони в кровь, по тросу он стал спускаться вниз. Ему нужно было проползти метров шесть, потому что там, в сетке, отделявшей шахту лифта от лестницы, был технический люк, через который можно было выбраться на лестницу, ту самую, что была единственным путем наверх.
Никита Осадчий опасливо глянул вверх. Если бы сейчас кто-нибудь запустил кабину лифта, его моментально сорвало бы с троса и размазало по дну шахты, точно букашку по лобовому стеклу на скорости сто шестьдесят.
Ладони нещадно саднило, потом они загорелись, как от невыносимого жара. Он вспомнил это ощущение. Так горели ладони от самодельных носилок, когда, сложив кронами крест на крест два молоденьких деревца и положив на них раненого друга, он тащил эти носилки с десяток километров, без перерыва и отдыха. Но это было в другой жизни.
Лязг вылетающей крышки технического люка о стальную лестницу после идеальной тишины рвал и нервы, и барабанные перепонки.
Осадчий знал, что у него будет не больше четырех-пяти секунд, чтобы выбраться и занять позицию в темном узком лестничном пространстве над дверью. Он знал, что тот, кто стрелял в него, еще на платформе. Нет, он не слышал, но чувствовал это. И этого кого-то нужно было как можно быстрее выманить оттуда, потому что под платформой все еще были люди, чьими жизнями он никак не хотел рисковать.
Он все рассчитал правильно.
Пронзительный скрип открывающейся двери. Пустой дверной проем. Теперь рывок вперед и вправо. Осадчему был хорошо известен этот прием. Его применяли все подразделения спецназа. Он назывался «крючок». Сейчас боец пойдет «крюком» от правой стены к левой, прижавшись спиной к стене и контролируя все помещение. Оружие будет следовать за взглядом, словно третий глаз. Конечно же, он посмотрит и наверх.
«Не дать!» – подумал Осадчий.
Сверху он хорошо видел этого человека. И… прыжок! Молниеносный. Еще в прыжке – удар по загривку. Едва слышное: «Ничего, парень, жить будешь…»
Сидя на корточках возле поверженного противника, Никита Осадчий методично осматривал его карманы. Документов не было. Телефон, наушник-рация, два пистолета, два ножа. Взяв телефон, Осадчий посмотрел состояние связи. Связи не было.
– Ряхин, что там у тебя?
Осадчий надел наушник переговорного устройства.
– Вену мне перебил, сука. В тоннель ушел… – скороговоркой произнес он.
– Спускаюсь, держись!
Осадчий оттащил бойца на край платформы и положил так, чтобы его было видно с лестницы.
– Здоровый, кабан… – выдохнул он и отер пот с лица.
Топот ног по стальным ступеням приближался. Еще мгновение, и для ушей, привыкших к тишине, он станет просто нестерпимым.
Осадчий проверил магазин, сунул пистолет за пояс и полез в нишу технического люка.
Зажав автомат в руке, боец бежал вниз.
Вот он увидел лежащего на платформе напарника. Это было как раз возле ниши технического люка. Вид распростертого тела друга и следующая за этим жажда мести, как правило, делают нас менее внимательными и рассудительными. На это и был расчет. Боец, не останавливаясь, проскочил мимо. Осадчий нажал на спуск. Пистолет чавкнул. Из-за глушителя выстрела не было слышно. Топот разом оборвался, будто спускавшийся по лестнице человек налетел на невидимое препятствие. Тело мягко покатилось вниз, на платформу.
Осадчий знал, что попал бойцу в ногу и что, оказавшись внизу, тот тут же рывком откатится за дверной проем, сделав его своим надежным укрытием, и еще в движении начнет ответный огонь. Поэтому, что было сил, он рванул вверх по лестнице.
«Дзень… Дзень… Дзень…» – пели пули, плющась о сталь ступенек, но он уже был недосягаем.
Марина плакала. Крупные слезинки одна за другой скатывались по ее грязным щекам, оставляя за собой извилистые светлые дорожки. То ли от слез, то ли от нервов ее била мелкая дрожь.
– Я думала, он нас убьет. Я просто… просто уверена была… в этом, – сказала она прерывающимся шепотом. – Я… Я так… так испугалась. Я даже… даже описалась… – запинаясь, выговорила она. – Как заорет! Как глазищами зыркнет! И пистолет мне в нос… Я думала … думала … выстрелит. В меня… Понимаешь?
– Тихо… Тихо, девочка. Все будет хорошо.
Хабаров сидел рядом, привалившись спиной к заиндевевшей бетонной опоре, запрокинув голову назад, закрыв глаза.
– Я… Я оружие с детства… – она поморщилась. – Отец, как напьется, за мамкой с ружьем бегал. Я забьюсь… забьюсь под крыльцо, трясусь… От страха…. А потом… Потом слышу бах, бах. Сижу и думаю, маму убил или нет… – прошептала она ему в ухо и ткнулась холодным мокрым носом в щеку.
– Ты совсем замерзла.
Он обнял ее, прижал к себе. Девушка прильнула к нему, прижалась к его колючей щеке своей мокрой щекой.
– Скоро все это закончится… – устало и безразлично сказал он.
Груз событий последних суток, тягучей усталостью разлитый по всему телу, сделал Хабарова апатичным и заторможенным.
– Зачем мы здесь сидим? Бежать надо! – вдруг сказала Марина.
Он потер лицо ладонями, взъерошил волосы и замер, устремив неподвижный взгляд в одну точку.
– Не надо никуда бежать.
– Лысый вернется и убьет нас!
– Этот человек не причинит нам зла.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю.
Хабаров привлек к себе девушку, распахнул теплую куртку Осадчего и спрятал ее закоченевшие руки на своей груди. Она склонила голову ему на плечо, со слезами в голосе прошептала:
– Я не хочу умирать! Я хочу жить и встретить такого мужика, как ты! Слышишь?! – она легонько толкнула его руками в грудь.
Он вяло усмехнулся.
– У меня родители в Припяти жили. Попали под аварию на Чернобыльской АЭС. Отец два месяца протянул, а мама полгода. Мне повезло. Я уже в Москве жила. К тетке Алевтине уехала, маминой сестре. Пожила у нее… – девушка вздохнула. – Туда не ходи, сюда не лезь, это не трогай, то принеси… Домработницей у нее была. Они все, Сорокины, такие. Потом мне брат комнатку в коммуналке снимал. Он адвокат. Шипулькин Дмитрий Романович. Я в нем души не чаяла… Ты слушаешь?
Она шевельнулась, попыталась рассмотреть лицо Хабарова.
– Конечно, – хрипло выдохнул он.
– Знаешь, мы всегда очень хорошо думаем о родных. Они просто не могут, не имеют права быть негодяями. А мой брат оказался негодяем…
Она замолчала. Ладонями вытерла слезы. Он не торопил.
– Это было два года назад. Брат рассказал мне, что на улице к нему подошел какой-то лысый бандит и пообещал зарезать, если брат не признается в убийстве девятилетней давности. Дима плакал, не знал, что делать. Он напился и рассказал мне, что в Иерусалиме, где был в командировке, он убил гримершу из их съемочной группы. Он зарезал ее прямо в номере, спящую…
– Как, ты сказала, фамилия тетке?
– Сорокина. Алевтина Сорокина.
– А брату – Шипулькин?
– Да. Как мне. Этот бандит… Он подошел к брату на улице. Лысый такой. Здоровый. На нашего мучителя похож. Я не знаю, что он ему сказал, но в этот же день брат пошел в милицию и во всем признался. Брата судили. На этапе его нашли мертвым в железнодорожном вагоне. Я потом долго боялась, что ко мне придет тот человек, что девять лет сидел вместо брата. Я даже свет по вечерам не включала. Закроюсь и сижу как мышка. Два года прошло, а я все боюсь его встретить. Так будет стыдно в глаза смотреть…
Девушка притихла, затаилась, как дикий зверек.
Хабаров зажмурился, пальцами сдавил веки.
– Я стала противна тебе, да? Ты думаешь, мы с братом одинаковые?
– Тихо! Кто-то идет!
После долгого и нудного допроса, учиненного генералом Гамовым прямо на железнодорожных путях у лаза под платформу, они гуськом поднимались наверх по гулкой стальной лестнице.
Это был как раз тот случай, когда эпопее все прочили золотой финал.
Еще какая-то сотня ступенек, и свежий морозный утренний воздух штурмом ворвется в легкие. Нет ничего замечательнее этого воздуха! Надо обязательно сделать его большой глоток, потом еще и еще упиваться им, чтобы поверить, что живой и что наконец-то закончился маразм прошедших суток! Сейчас даже сука-жизнь кажется совсем неплохой штукой, хотя порой случаются в ней досадные казусы!
– Врачей с двумя носилками сюда! – крикнул Гамов, едва поднявшись на верхнюю площадку. – Женщина ранена и наш боец.
– Я не поеду с вами никуда! Оставьте меня! Я с ним останусь!
Марина крепко ухватилась за рукав Хабарова.
Гамов недовольно наморщил лоб.
– Александр Иванович, – обратился он к Хабарову. – Пожалуйста, поговорите с госпожой…
– Шипулькиной! – подсказал подскочивший майор Желтков.
– Да. Она вам верит. Посадите ее в неотложку. Будьте добры.
Хабаров кивнул.
– Сам-то как? – спросил майор. – Серый весь.
– Нормально… – отмахнулся Хабаров и повел Марину к бежавшим навстречу врачам.
Три новеньких желтого цвета реанимобиля в лучах утреннего солнца на свежем искрящемся снегу смотрелись не в меру мажорно.
– Товарищ генерал, тут вневедомственная охрана с представителем метрополитена приехала. У них «колесико» сработало. Чего делать-то? – майор Желтков, одетый в камуфляж и черную заиндевевшую маску-шапочку застыл перед генералом.
– Колесико?
– Это датчик на дверях перед входом на лестницу, что ведет вниз, к платформе.
– Не морочьте голову, майор!
– Понял. Когда будем оцепление по периметру снимать?
Гамов посмотрел на толпившихся за оцеплением журналистов и просто зевак – «собачников» из соседних многоэтажек.
– Уедем, через час снимешь.
Гамов отвернулся, поискал взглядом Осадчего.
– Товарищ генерал, может, вашу машину подогнать?
Гамов недовольно смерил взглядом майора.
– Холодно же! Вы в осеннем, без шапки, – в оправдание добавил Желтков.
– Сергей, ты зачисткой сам руководил?
– Так точно. Все чисто.
– Немедленно проверь еще раз! Каждый угол проверь.
– Есть!
С той самой минуты, как он вошел на стройплощадку, генерала не покидало чувство, что за ним пристально наблюдают, причем наблюдают в перекрестье прицела. Такое чувство было у него в «горячих точках», всякий раз перед обстрелом.
Генерал зябко поежился, из кармана достал тонкие кожаные перчатки, надел.
– Товарищ генерал, разрешите обратиться? Можно, я в строй? Пуля прошла на вылет. Ногу мне перебинтовали. Я с ребятами на штурм. А майор меня в госпиталь посылает.
В лихо заломленном на затылок берете с неприступно-наглым выражением лица Ивочкин смотрел на генерала.
Гамов хорошо знал, что пара Ивочкин – Ряхин была одной из самых продуктивных тактических пар, способных выполнить любую поставленную задачу.
«Надо разбивать, – подумал Гамов. – Слишком сроднились. Отсюда результат…»
– Облажался, старлей! Забыл правило коммуникации: многословны и давят на жалость – вгоняй пулю в лоб. Не ошибешься. Понял?
– Так точно!
– Вторая твоя ошибка?
– Недооценил противника.
– Был убежден, что противник – заурядный уголовник, а вышел на профессионала, выше тебя классом. Так что сегодня, считай, ты второй раз родился. Если бы противник тебя не пожалел, в труповозку с Добрыниным и Мозговым тебя бы грузили. – Генерал ткнул пальцем в сторону машины, куда только что загрузили три трупа. – Выводы. Первое: если подобные ошибки повторятся – уволю из органов, если, конечно в живых останешься. Второе: за нарушение субординации я тебе взыскание наложу. Напомнишь мне завтра.
– Есть!
– Марш в скорую!
Гамов обернулся к Осадчему, стоявшему на площадке шахтного копера[47]. Осадчий был сумрачный и злой. Генерал подошел к нему, протянул сигареты.
– Я бросил.
– Позвольте пройти, товарищи.
Трое бойцов поднимались по лестнице с саквояжами.
– В мою машину грузите и обеспечьте охрану! – отдал приказ Гамов.
Осадчий протянул генералу кассету.
– Запись переговоров с Добрыниным и Мозговым.
Генерал взял кассету и теперь крутил ее в руках, разглядывая.
– Да-а, – выдохнул он. – Кто же мог просчитать, что Добрынин и Мозговой – люди, проверенные не в одном деле… – Гамов замолчал, зажал кассету в кулак. – Подполковник, ты почему приказ не выполнил? – холодным, начальственным тоном вдруг спросил он. – Что мне теперь с твоими рабочими делать? Слушать их рассказы о рабстве?! Ты понимаешь, что начнется?!
Осадчий выразительно глянул на него.
– Моими рабочими?
Генерал проигнорировал.
– А заложники? Ты что, под пожар взорвать не мог все к чертовой матери?! Готовую продукцию и сырье ты в саквояжах унес. Мы что, помещений или специалистов тебе бы не нашли? Чем ты думал?!
– Я ухожу из конторы.
– Что?
– Я профнепригоден. Оказывается, я не могу себе простить, что людей с тяжелейшими ожоговыми травмами, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, я запер, как скотов, как мусор, лишив всяких шансов на выживание. Оказывается – ну прямо как комсомолец! – я не могу себе простить, что хорошие мужики, рисковавшие жизнью ради спасения рабочих завода, из-за меня всю ночь вынуждены отходную по себе читать и видеть, как на их руках загибаются те, кому помочь они уже не в силах! Там умирают люди, генерал! Не бандиты какие-нибудь, а Петьки и Юрки, для которых мы служим! И если ты взорвешь их, генерал, я пойду против «конторы»! – холодно и жестко сказал Осадчий.
– Василий, послушай…
– Только про долг перед Родиной мне не надо! Про присягу и интересы государства не надо! Лицемеры, подонки и гады мы!
Осадчий достал помятую пачку сигарет, щелкнул зажигалкой, демонстративно закурил.
– Ты же бросил…
– У вас рычагов давления на меня нет. У меня друзей нет. У меня семьи нет. У меня даже бабы своей нет! Ко мне приставлена ваша надсмотрщица! Мне жаль, что я загубил свою жизнь, болтаясь, как… – он смачно сплюнул. – Ради чего все? Вы можете мне ответить, Иван Андреевич, ради чего?! Не было у меня никогда такого финала. Бандюков, шестерок ЦРУшных мочил, что с оружием на меня перли. Там понятно: или они тебя, или ты их. Но чтобы своих… – он отстранился. – Идите генерал, освобождайте моих рабочих и моих заложников. С этой минуты мне не хочется иметь с вашим братом ничего общего.
– Боюсь, это у тебя не получится, подполковник. Тебе светит пожизненное. Никто не станет подтверждать твои секретные операции. Самое большое, что для тебя, Василий, я могу сделать в память о твоем отце, это не арестовать тебя сию же минуту!
Осадчий кивнул, усмехнулся.
– Что ж, буду опальным олигархом где-нибудь на Каймановых островах. Или в Лондоне. Сейчас это модно. Компромата, хранящегося за рубежом, у меня даже на свержение режима хватит. Надеюсь, вы поняли, Иван Андреевич, что я меняю свое молчание на жизни рабочих и заложников?!
Гамов хмуро глянул на него.
– Отменяйте, генерал! Отменяйте ваш приказ о взрыве. Судя по хлопцам, что здесь пасутся, работать будет РОДОН. Ваш верный пес Андреанов ждет указаний! А мне пора. Честь имею!
Зацепив большие пальцы за ремень, майор Андреанов вальяжно расхаживал перед строем.
– Ну, что, сынки, внутри нас ждут всего четыре охранника. Это хорошо. Но у них четыре «калаша» и боевые патроны. Это плохо! Чтобы мамы с папами вас дождались за новогодние столы, зажмите яйца в кулак, как самое дорогое, что у вас есть в этой жизни, вспомните наши лучшие операции и навешайте этим четырем отморозкам, как наши деды под Берлином в сорок пятом навешали одной очень вредной сволочи!
Бойцы заулыбались. Конечно, все они – профи. Но есть командир, лидер, настрой которого перед операцией они чувствовали кожей.
– Штурмовая группа работает по двойкам: Исаев – Коломиец, Иванов – Подгорный. Пресняков, Тихомиров, Уточкин со мной в группе прикрытия. Уточкин – проводная связь с внешним миром. Как видите, ничего нового. Работаем в обычном режиме. Резерв две группы по четыре человека. Подходим скрытно. Бесшумно открываем дверь. Код замка «7951». Используем фактор внезапности. По имеющейся у нас информации все четверо бандитов бритоголовые молодые люди лет 20–25, спортивного телосложения. По ним огонь на поражение. Среди спасателей и заложников бритоголовых нет. За второй металлической дверью с кодовым замком вы можете увидеть людей в белом, сидящих за ювелирными столами. Этих кладем на пол. Направо от этого зала узкий коридор с металлической дверью в конце. Дверь запирается на засов и на ключ. Ключ у одного из бандитов. За дверью заложники – рабочие завода и спасатели. Они – ваша главная цель. Эти люди должны быть живы, чего бы это ни стоило! На штурм даю вам полминуты. Помните, в течение всей операции необходимо сохранять высокий темп продвижения в режиме «перемещение – поддержка – перемещение». Помните об эффективности стрельбы с упреждением при пересечении целью узких пространств, в частности коридоров, которые отмечены красным на розданных вам планах. Напомню, что время пересечения коридора шириной два метра менее одной секунды. Для поражения такой цели с расстояния свыше пяти метров эффективной является только стрельба с упреждением, цель малочувствительна к плотности огня. Непосредственно перед началом штурма объект будет обесточен. Это значит, у нас, благодаря приборам ночного видения, будет явное преимущество. Продвижение по объекту скрытное, это значит, стрельба должна быть бесшумной. Двойкам друг от друга находиться на расстоянии прямой видимости. Помните: момент огневого прикрытия – закон на войне. Скорость, агрессия, «сюрприз» – ваши козыри. Зачистка объекта штурма – на пятьдесят процентов охота и на пятьдесят процентов принятие мер к тому, чтобы самому не превратиться в дичь. Действуйте осторожно и методично, поэтапно решая возникающую перед вами тактическую задачу. Не полагайте, что где-то опасности нет, пока не убедитесь в этом окончательно. Не давайте собственных объяснений необычным явлениям. Проверьте, чтобы знать наверняка. Помните: либо уверен, либо мертв, – майор остановился, оглядел строй. – Я повторяю вам прописные истины, а Коломиец зевать изволит! Он, вероятно, дважды профи. Лейтенант Коломиец!
– Я!
– Выйти из строя!
– Есть!
Боец браво сделал шаг вперед.
– Продолжайте инструктаж.
Едва сдерживая улыбку, боец хорошо поставленным голосом продолжил:
– Далее, товарищ командир, вы всегда отпускаете нецензурные остроты в адрес бандитов, нашего правительства и лично полковника Хрыпова, как руководителя операции. Их приводить?
– Молодец! Стать в строй! Я-то думал, вы, орлы, во время этой обязаловки ушами хлопаете, про девок думаете. Остальное… – он еще раз окинул цепким внимательным взглядом ребят, улыбнулся. – Остальное вы мне сейчас нарисуете, филигранно и талантливо. Работаем!
Продвижение по подземным тоннелям заняло считанные минуты. Маршрут был проработан и изучен.
У поворота к последней замуровке, пробитой спасателями, Андреанов остановился. Он поднял руку вверх на высоту головы, что на языке жестов означало: «Стоп. Внимание».
Дальше ему надо было одному преодолеть метров шестьдесят от места, где он оставил ребят, до площадки с дверью в подземные помещения завода лакокрасок.
«Дай бог, полковник, чтобы информация твоя была надежной! – думал на бегу Андреанов. – А то я же тебя, Хрыпов, замучаю. Я же тебе с того света являться буду! Я ж тебя, суку, везде достану! Ты от меня даже в храме не скроешься! И весь небесный спецназ тебе не поможет!»
Он осмотрелся, юркнул в лаз и вышел на площадку перед дверью.
«Ну что, проверим твое везение, Григорий…» – сказал он сам себе и, подозрительно покосившись на датчик движения LS-100-PС, пошел к двери.
«…пассивный инфракрасный датчик движения серии LS-100-PС имеет цифровую обработку сигнала, оснащен специальной технологией, обеспечивающей точный анализ контуров тела человека и их дифференциацию от окружения и животных, – нудным монологом зудел в его голове голос спеца Серегина. – Обычно ПИК-извещатели обнаруживают стандартную цель, движущуюся со скоростью 0,3–3 м/с. Это требование ГОСТ Р 50777-95. Даже если двигаться очень медленно, датчик все равно сработает…»
– Твою мать! Заклинило тебя! – выругался Андреанов.
Он присел на корточки перед дверным замком и внимательно стал его осматривать.
«…принцип несложный, – голос Серегина был настолько реальным, что Андреанов невольно обернулся. – ИК-фотоэлемент, за ним усилитель и два интегратора, один с малым временем интеграции, другой с большим, импульсы поступают на входы компаратора. Когда скорость изменения теплового фона мала, на входах компаратора разности сигнала нет и нет срабатывания. При быстром изменении сигнала «медленный» интегратор не успевает за «быстрым». Происходит срабатывание. Электронный импульс идет не на пульт охранной системы, а на взрывное устройство. Цепь замкнулась. Взрыв…»
– То заминируй и взорви, то разминируй и спаси. Черт бы вас побрал, генералы! Ну, Господи, благослови! – прошептал Андреанов и последовательно нажал 7951.
Электронный зуммер замка тихонько промурлыкал в ответ, послышался легкий щелчок. Андреанов почувствовал, как мгновенно все лицо стало мокрым от пота. Он осторожно тронул дверь, она легко поддалась. Он поднял руку на высоту головы и, резко опустив ее до высоты плеча, указал в сторону двери. Тут же вперед пошла первая пара Исаев – Коломиец, за ними по пятам – вторая: Иванов – Подгорный.
«В тамбуре чисто, – докладывал Исаев. – Вижу второй кодовый замок. Набрал код. Входим!»
Андреанов вжал в ухо наушник переговорного устройства, пытаясь расслышать, уловить даже незначительный шорох.
«Объект один уничтожен», – голос Исаева был спокойным, точно действие происходило на учебном полигоне.
«Объект два уничтожен», – следом доложил Коломиец.
«Объект три и четыре обездвижены. Без оружия. Сопротивления не оказали. Заложники обнаружены. Свет!»
– Уточкин! Свет! – передал Андреанов связисту.
Через секунду непривычно ярко вспыхнул свет.
«В помещении чисто. “Авангард” работу закончил».
– Вхожу! – откликнулся Андреанов.
«Мы им навешали, командир, как в сорок пятом!» – с легким смешком звучало в наушниках.
Хабаров стоял на залитой рыжим утренним солнцем строительной площадке и сосредоточенно мял в руке комок снега. От руки снег стал грязным. Комок постепенно таял, и по пальцам стекали черные капли.
…Пересохшее горло. Скрежет песка на зубах. Едкий, невыносимый запах гари. Жара. Пекло. Мутный покачивающийся взгляд.
Он попытался подняться, но жгучая боль сбила с ног.
– Что ж ты творишь, командир?! Нельзя нам с тобой вставать. Стреляют, черти бы их побрали! Потерпи. Близко уже.
Найденов взвалил его на спину и пополз по горячему песку. Песок был вперемешку с камнями. Их острые края больно впивались в тело Найденова, в кровь царапали ему руки, ноги, живот.
Хабаров открыл глаза. Черные жирные капли пота стекали одна за другой из-за уха и по щеке друга.
– Брось меня, Васька. Не жилец я. Уходи сам! Брось… – прохрипел Хабаров.
– Брошу. Вон в ту расщелину заползем и брошу. Там наши…
Хабаров разжал пальцы, бросил на землю грязный снег.
– …А у меня планида до девяносто одного дожить! Цыганка нагадала! – улыбался Васька Найденов…
…Вспышка, внезапная, слепящая глаза, пронзающая нервы. Потом звук. Его не слышишь, его ощущаешь, впитываешь кожей. Огненный факел, черный едкий дым. И не оторвать глаз.
– Нет! – от этого крика Хабаров долго просыпался ночами…
«…Этот бандит подошел к брату на улице. Лысый такой. Здоровый. На нашего мучителя похож. Я не знаю, что он ему сказал, но в тот же день брат пошел в милицию и во всем признался…»
«Я-то думал-гадал, кто помог, почему дело пересмотрели…» – размышлял Хабаров.
Тяжелая рука легла на плечо. Хабаров обернулся.
– Здравствуй, командир!
Осадчий стоял перед ним, не решаясь протянуть руку.
Хабаров смотрел на этого абсолютно чужого человека. Нос… Скулы… Овал лица… Подбородок… Все чужое. А глаза… Глаза были прежними. Глаза его – Васьки Найденова. Разве что не было в них бесшабашных искорок, а была усталость и боль.
– Прости меня, командир. Не мог я по-другому. Ни там, «за речкой», ни в подземельях.
– «По-другому»… – Хабаров усмехнулся. – Тебе у меня не за что прощения просить. Ты прощения проси у жен и матерей тех несчастных, что умерли в твоей вонючей кладовке от комбинированных ожоговых травм. А если ребята мои там легли, я тебя вот этими руками… – Хабаров сжал кулаки.
– Ты прав, – очень спокойно, даже обреченно произнес Осадчий. – Сто чертей! – он с досадой вскинул руки. – Надо же, чтобы мне попался именно ты, Саня! Я же из-за тебя на заднице съехал. Я из-за тебя приказа выполнить не смог!
Он потер гладко выбритую голову.
– Сань, может, хрен бы с ним со всем, а? Есть ты и я. Вмажем по стакану за встречу! Ты как, Сань?
Хабаров хмуро глянул на него.
– Я уже вмазал. Еще под Джелалабадом. Тебя поминал. Ты для меня покойник.
– Может, так оно правильно …
Осадчий отвернулся и пошел назад, к еще не запертым дверям шахтного копёра. В какой-то момент он заметил, что на чердаке, занятом механизмами направления лифтовых тросов, что-то блеснуло.
«Солнце в оптику…» – ассоциация всплыла автоматически.
Он стоял как раз на линии огня, заслоняя собой Хабарова. Что последует выстрел, Осадчий не сомневался, но пригнуться или отойти он не мог…
Он падал, словно лист, сорванный внезапным порывом ветра, и поверженный, залитый слезами ангел-хранитель укрыл его своим невесомым крылом.
Высоко-высоко в утреннем небе таяли последние звезды, и все плыли и плыли в неведомую даль румяные, пропитанные солнцем насквозь облака. Как перелетные птицы, летели за ними вслед его боль и его горе, освобождая место для любви.
– Васька!
Хабаров бросился к нему, упал на колени рядом, приподнял, прижал его голову к своей груди.
– Живи, командир…
Осадчий сквозь боль улыбнулся. Эта улыбка, виноватая, искренняя, последняя застыла на его губах.
– Не-е-ет! – этот крик был похож на рев. – Господи, нет!
Хабаров прижимал к себе тело друга, в распахнутых темных глазах которого, точно в зеркале, отражались облака.
– Желтков! Вашу мать! – орал Гамов. – Взять его! Живым взять! Я хочу, чтобы при жизни он узнал, что такое ад!
Звучали автоматные очереди. Бойцы с нескольких сторон лезли на чердак шахтного копёра.
Кто-то крикнул:
– Он, подлюка, за сеткой, в брезентовом рукаве для подачи цемента. Потому мы его и не видели…
– …Сань, а Сань!
– Чего?
– Звезды, видишь, падают?
– У тебя совесть есть?
– Красота-то какая! Давай загадаем, чтобы Боженька воскресил, если что. Как Лазаря.
– Дурак ты, Васек. И уши у тебя холодные. Нашел тему за час до боевого вылета. Дай поспать!
– Зря ты так. А я загадаю, если кому из нас без времени суждено, пусть это я буду. Я слабый. Вторым не смогу я …
– Загадывай чего хочешь, только дай подремать. Двое суток на ногах. Глаза слипаются…
Когда-то давно, посещая, как турист, археологические раскопки у городка Пителия на юге Италии, Хабаров увидел надпись на золотой плите, только что найденной археологами: «Скажи: я – дитя Земли и звездного неба, но род мой принадлежит только небу».
Хабаров поднял полные слез глаза к небу, где сейчас, заглянув за облака, летела вместе со звездами душа друга. Летела домой…
– Кто здесь главный?! Я спрашиваю вас, кто здесь главный?
Истеричного вида дама в длинной ночной рубашке и песцовой шубе до колен, расталкивая людей, приближалась к курившему возле центроспасовского «Соболя» Сомову.
– Я хочу знать, когда закончится это безобразие? Все утро мигалки! Все утро сирены! Все утро ор! Шум! Гам! Какие-то грязные бомжи, какие-то люди с автоматами… У нас элитный район!
– Соня, Софочка, пойдем домой. Не надо мешать работать нашим экстренным службам.
Худощавый мужчина в очках старомодной оправы, похожий на профессора палеоботаники, попытался удержать за плечи даму.
– Иннокентий, оставь меня! – выскользнула та. – Молчи. Иди домой.
– Дорогая… – попытался продолжить тот, но, перехватив взгляд супруги, осекся и засеменил следом.
– Я хочу спать! Я была на банкете в Кремле. Я устала. Вы третий час не даете мне уснуть! – орала дама Сомову. – Что вы молчите, язык отморозили?!
Сомов не сразу нашелся.
– Мы… Простите. Мы почти закончили. Потерпите полчаса.
– Как полчаса? – она обернулась к мужу. – Иннокентий, еще полчаса! Я не сплю уже три часа! Элитный район! Боже, что ваши машины сделали с нашим газоном!
– Все в порядке с вашим газоном. Там снега метра полтора.
– Иннокентий! Мои маргаритки… Они уничтожили своими варварскими машинами мои маргаритки! Кругом грязные бомжи. Они разнесут заразу по всему району. Вы не могли их выгнать из подземелий в другой день и в другом месте? Опять же люди с автоматами, в масках… – она схватила Сомова за куртку. – Вы помните девяносто первый год? Так начинаются перевороты!
– Сонечка, ну что ты говоришь! Какие перевороты? – встрял «палеоботаник». – Идем домой. Видишь, люди обгоревшие, их в скорые грузят. Скажите, а что произошло? Это не из-за того пожара, что по всем новостям?
– Из-за того, – вымученно кивнул Сомов. – Пожалуйста, проводите домой вашу супругу.
– Я не уйду, пока вы не уберетесь с моих маргариток! Иннокентий, принеси мне записную книжку. Я буду звонить мэру!
– Покиньте зону оцепления, – едва сдерживая раздражение, потребовал Сомов.
– Мой муж – депутат Государственной Думы. Вам ясно?! – с вызовом объявила дама. – Если сейчас же вы не уберетесь из-под наших окон, считайте, что вы – безработный!
– Гордеев! Лисицын! – крикнул Сомов спасателям, грузившим в автобус снаряжение. – Проводите гражданку за оцепление!
– Сонечка, пойдем… – робко предложил «палеоботаник».
Он робко, по-женски прижал руку к груди и тихим, извиняющимся голосом сказал:
– Извините нас, пожалуйста, господа…
Супруга отвесила ему звонкую пощечину.
– Назовите мне ваше звание и фамилию! – крикнула она Сомову и погрозила пальцем. – Я из вас недееспособного пенсионера сделаю!
Только что поднявшийся на поверхность Григорий Андреанов мгновенно все понял. Он поймал руку женщины, поцеловал и жестом остановил Гордеева и Лисицына.
– Доброе утро, прекрасная незнакомка! – поправляя за спиной автомат и сияя белозубой улыбкой, произнес он. – Извините, но это я во всем виноват. Сейчас я все исправлю, – он обернулся к бойцам. – Отряд, в автобус, рысью! На посадку пятнадцать секунд. Время пошло! Позвольте мне как-то загладить мою нерасторопность. Позвольте, я буду вашей охраной. Позвольте мне проводить вас. Вы совсем продрогли.
Не дав опомниться даме, с изумлением наблюдавшей «бегство» с места конфликта двух десятков вооруженных до зубов бойцов, он заставил ее взять себя под руку, развернул в сторону дома и, нашептывая комплименты, повел к подъезду.
Сомов облегченно вздохнул, вытащил из нагрудного кармана валидол, воровато оглянулся и сунул таблетку под язык.
Возвращался Андреанов довольный, словно только что ему дали внеочередной отпуск.
– Не умеешь ты, Андрей Сергеевич, с женским полом. Нежнее надо, мягче… Мы закончили здесь. Милиции на оцепление хватит. Твои ребята уже поднимаются. Бывай, спасатель! Удачи тебе!
– Спасибо! – сказал растроганно Сомов. – Честное слово!
Он поискал взглядом Тасманова. Ему хотелось, чтобы именно Тасманов лично осмотрел его ребят. Тасманову он доверял. Однако среди машин, снующих туда-сюда, людей Тасманова не было видно, и он стал вызывать Тасманова по рации.
Закончив осмотр двух только что поднятых на поверхность тяжело пострадавших, проследив за оказанием им первой помощи и отправкой, в куртке нараспашку, без шапки и перчаток Тасманов шел по хрусткому искрящемуся на морозе снегу к «сортировке».
Там, сбившись в стайку, в наброшенных на плечи шерстяных одеялах стояли люди.
– Галя! Почему столпотворение у тебя?! – отнюдь не любезно крикнул он посиневшей от холода медсестре.
– «Медик-1», «Медик-1», ответьте «Спасателю», – прошелестела рация в нагрудном кармане.
– Возьми Вострухина из «пятнашки», Диму… Этого… с кем в Грозном работала. Поняла? Скажи, я приказал!
– Тасманов! «Медик-1», «Медик-1», ответьте «Спасателю», – повторила рация.
– Чего смотришь?! – рявкнул Тасманов. – У тебя люди мерзнут! Через пару минут чтобы я никого у машин не видел! Делай, чего застыла! Вострухин! Леша! Разберите мне сейчас же это стадо.
– «Медик-1», «Медик-1», ответьте «Спасателю»!
Тасманов выругался, достал рацию.
– Слушаю тебя, «Спасатель».
– Алексей Кимович, подойди, ребят встреть, – попросил Сомов. – Очень тебя прошу.
– Иду.
– Алексей Кимович, «тяжелых» в пятнадцатую направляю, – скороговоркой тараторила худенькая медсестра, едва поспевая за ловко лавирующим между людьми и скорыми Тасмановым. – А что делать с голыми? Практически здоровы, даже не истощены. Им разве что витаминчики поколоть и с психологом побеседовать.
– Лада, тебе приказ Хрыпова повторить? Всех в шестой спецсанаторий!
– Хорошо.
Он бегло осмотрел больного, лежащего на носилках, что два спасателя только что вынесли из здания ООО «ЛИЯ-Люкс».
– Стас! Этого к нам в Центр. Срочно! – крикнул Тасманов в толпу. – Стас, это третий к нам?
Врач обернулся, махнул рукой.
– Третий! Мы грузимся и поехали!
Тасманов подошел к Сомову.
– Ну, как, Алексей Кимович, успеваете? Еще наша помощь нужна?
– Спасибо, Андрей Сергеевич. Ваши спасатели хорошо поработали. Теперь наша очередь. Да мы, в общем-то, всех почти погрузили. Сейчас ваших четверых ребят поднимут, посмотрим их, и порядок.
– Выдалась ночка… Честное слово! – Сомов поежился от утреннего мороза, потер руки в меховых перчатках. – Слава богу, с минимальными потерями. Один только помер.
Тасманов хмуро глянул на Сомова. Его оптимизма он явно не разделял.
– Погоди считать-то. Кстати, хотел посмотреть твоего Хабарова.
– И…
– Он послал меня. Причем в категоричной форме. Но после праздников, в первый же рабочий день, пусть он ко мне приедет. В смену его не ставь.
– Я дам им по недельке. Пусть отдохнут. Натерпелись… А что? К тебе-то зачем?
– Понимаешь… – Тасманов замялся, тщательно подбирая слова. – Глаза мне его не нравятся. И вообще…
– Что вообще?
– Отечность под глазами, темные мешки… В общем, пусть обязательно приедет. Я сам с ним по кабинетам пройдусь.
– Ты, Алексей Кимович, что же думаешь, он все эти прошедшие сутки у тещи на блинах был? Тут будут и мешки, и… Честное слово!
– Ты поучи меня, Андрей Сергеевич, поучи. Мне ж, б…дь, больше делать нечего, как тебя, разъ…бая, уламывать!
– Понял! Пришлю. Где сейчас-то он? Что-то я его не вижу.
– За автобусом, на рюкзаках со снаряжением сидит. Не дергай его. Пусть один побудет.
– Алексей Кимович, – медсестра Галя тронула Тасманова за рукав. – Мы закончили. Надо бумаги подписать.
– Извини… – коротко бросил Тасманов и пошел за медсестрой.
Сомов обернулся к эвакуационному выходу, прищурился от ударившего в глаза солнца, внезапно прорвавшегося сквозь снежный заряд. В дверях показался Женя Лавриков. Чумазый и грязный, он простер руки к небу, выкрикнул от души:
– Ой, братцы, воля! Воля!
– Тысяча слонов! Мы живы… Позвонки, я не могу поверить! – Олег Скворцов, едва сойдя по ступенькам крыльца, рухнул на колени и отвесил земной поклон. – Спасибо тебе, Господи!
Володя Орлов скромно потоптался на крыльце, буркнул что-то невнятное и направился к Сомову.
Сомов протянул Орлову руку, потом обнял.
– Молодцы! Молодцы! Честное слово! – он хлопал Орлова по спине и растроганно улыбался, глядя, как, обняв друг друга, Олег Скворцов и Женя Лавриков смеясь катаются по снегу.
Игорь Лисицын и Сева Гордеев бежали к ним через парк, на ходу крича остальным спасателям: «Вернулись! Они вернулись! Мужики, они живы!».
Толпа человек в двадцать окружила Орлова, Скворцова и Лаврикова, подняла на руки. Голова кружилась от этого безобразия, от этой искренней, бесшабашной радости, от дружеского тепла и участия, от продолжения жизни без опасности, без оглядки!
– Стойте, мужики! – вдруг крикнул Женя Лавриков. – Пустите, говорю!
Он с трудом вырвался из дружеских объятий, продрался сквозь толпу.
У спасательского «Соболя» стоял Хабаров. Он был в своем грязном спасательском комбинезоне, в камуфляжной куртке с чужого плеча. Он сосредоточенно смотрел на восторженную встречу ребят, но был точно не здесь, точно оставил себя где-то за отступавшей молодой новогодней метелью. Снежинки путались и роились в его растрепанных ветром черных со свежей проседью волосах.
– Саня… – едва слышно произнес Лавриков.
Осторожно он протянул вперед руку и коснулся виска Хабарова, провел по волосам, которые то там, то здесь были прошиты белыми, как снег, прядями, виски же были абсолютно седыми.
– Позвонок».. – прошептал Лавриков.
Они обнялись и долго стояли так, не шевелясь.
– Живой… Саня, живой! Ты живой, чертяка! – растроганно повторял Лавриков.
Лавриков отстранился, тряхнул Хабарова за плечи и вновь уткнулся носом в его плечо и всхлипнул.
Их окружили ребята-спасатели, жали руки, хлопали по плечам, поздравляли со вторым рождением.
В машине Игорь Лисицын жестом фокусника извлек из-за пазухи бутылку коньяка.
– О! Малыш! Ты прямо ясновидящий! – зашумели позвонки.
– Спокойно. Не надо оваций. Держите стаканы.
Он протянул ребятам стопку белых пластиковых стаканчиков.
– Давайте за вас, мужики. Саня, Женька, Олег, Володя, Сева… С днем рождения!
Хабаров, не чокаясь, выпил коньяк, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Он был уверен, что, если закрыть глаза, мысли и настроение по лицу не читаются.
– Сань, а девчонка жива?
Хабаров не ответил.
Разогретый коньяком, Орлов принялся бесцеремонно тормошить его за плечо.
– Володя, сядь! – резко сказал Лавриков. – Пей коньяк. Зачем ты с вопросами лезешь?
– Да жива, жива… – откликнулся Хабаров, не открывая глаз. – Врачи ее для порядка в больницу забрали.
– Ничего девчонка? – спросил Сева Гордеев.
– Ты на дорогу, бабник, смотри!
– Классная! – разоткровенничался Володя Орлов. – Все мужики дрожали, а эта боевая, хоть и лобешник разодран был. Помнишь, как она на охранника с автоматом смотрела, когда Саня ей лоб шил?
– Малыш, налей ему полный. Пусть заткнется! – склонившись к Лисицыну, попросил Лавриков.
Но коньяк не помог. Вцепившись в рукав куртки Хабарова, Орлов стал допытываться:
– Чё это на тебе, командир? Куртка странная. Твоя где?
Скворцов попытался оттеснить Орлова ближе к окну.
– Володя, сядь, родной. Отстань от командира.
– А пожрать чего-нибудь есть? У меня этот коньяк бродит по организму, как неприкаянный, – икнув, спросил Орлов.
Он на минуту затих, ожидая, что Малыш столь же волшебным способом извлечет из-за пазухи кусок колбасы или, на худой конец, прихваченную в придорожной тошниловке копченую курицу.
– Пи. дец! Я вспомнил! – вдруг торжественно объявил он. – Командир, я вспомнил, где видел твой прикид! – он вновь вцепился в рукав хабаровской куртки. – Это чмыря лысого куртка. Ну, их главного… Рождает же земля таких уродов! – Орлов сжал кулаки. – Задушил бы суку, если бы встретил!
Орлов рванулся к Хабарову, схватил за плечи.
– Сними это говно, командир! Сними!
Он принялся стаскивать куртку с Хабарова.
– Володя, сядь! Сядь на место! – Лавриков и Скворцов безуспешно пытались усмирить Орлова.
– Сева, останови! – Хабаров сбил руки Орлова, резко поднялся, пошел к двери. – Останови, я сказал! Всем до свидания. С Новым годом!
Он захлопнул дверцу, остановил шедшее следом такси и спустя несколько секунд скрылся из виду.
– Здравствуйте, вы помните меня?
Егор Серебряков протянул Алине букет роз.
– Нет, простите…
Алина прикрылась одеялом.
– Я тот самый гаишник, что вытащил вас из вашей разбитой «Мазды».
Алина кивнула, перед глазами пронеслось видение ночных событий.
– Да. Я вспомнила вас. Это мне вам надо цветы дарить. Если бы не вы…
– Это же наша работа. Вас ваша коса спасла. Если бы не она…
Он присел на краешек кровати в ногах.
– Жарко здесь у вас.
– А мне холодно. Мне теперь все время холодно…
– Как вас здесь лечат? – не очень-то понимая, о чем нужно говорить, спросил Егор.
– Спасибо. Благодаря брату у меня теперь одноместная палата. Как ваше имя?
– Егор. Егор Серебряков. Я с врачом говорил. Он сказал, что переломов у вас нет. Легкое сотрясение мозга. В рубашке родились! Вот…
Он неловко замолчал.
– Егор, пожалуйста, извините меня, мне укол сделали, я должна поспать. Я очень хочу спать.
Серебряков поспешно поднялся.
– Конечно-конечно. Отдыхайте. Я, если позволите, зайду завтра.
– Завтра… Да. Заходите. Еще раз спасибо вам!
Она легла на бок, до подбородка укрылась одеялом, закрыла глаза. От холода и нахлынувших испытаний сжалась в комочек. Ей хотелось плакать, но глаза словно высохли. Все внутри заполнила ноющая пустота. Тогда она стала ждать. Ждать хорошего или плохого – и с этим уснула.
Алина очнулась оттого, что Хабаров гладил ее по волосам. Она приподнялась и порывисто обняла его.
– Я умру без тебя… – сквозь слезы прошептала она.
– Мне незачем жить без тебя …
…Где-то позади бушевал буран, швыряя в белый свет пригоршни ледяной соли. Где-то позади остались лед, и снег, и холодная белая луна в просветах низких свинцовых туч. Здесь же, в этом загадочном месте, напоминавшем уютную бухту, защищенную неведомой силой от морозов, ветров, льда и снега, в дивном солнечном свете, на пригорке, цвели прекрасные голубые цветы. Он все-таки успел. Он все-таки почти дошел. Еще несколько шагов, и можно будет обнять это сокровище тундры – Хрустальную Сиверсию – своими усталыми, израненными в кровь лапами, вдохнуть их волшебный аромат и блаженно закрыть глаза. Но эти несколько шагов… Они самые трудные. Оказывается, мало найти, нужно еще и дойти! Даже если нет сил! Даже если стая в тебя уже не верит! И он вновь поднимается, и из последних, Богом посланных сил делает шаг, потом еще и еще… Из льдов и морозов неверия его сердце упрямо стремится туда, где есть любовь и где об руку с нею идут надежда и вера…
Глава 4. Хрустальная сиверсия
Первый луч солнца доверчиво заглянул в спальню.
– Доброе утро, родная.
Ладонью Хабаров коснулся ее щеки, погладил теплую кожу. Алина счастливо улыбнулась, потянулась к нему, обняла.
– Я люблю теб…
Он не дал ей закончить фразу. Слова утонули в опьяняющем поцелуе.
Порыв нежности. Жаркие ласки. Восторг страсти, уносящий двоих к зардевшимся рассветом небесам.
Им больше не нужно было жить только верой и надеждой. Настало время для всепобеждающей любви.
– Леш, ты прекратишь нянчиться со мною, как с маленьким? Давай еще сестрицу твою позовем. Вместе будете надо мною измываться! Кстати, вчера у нас в гостях ты мне показался куда более добрым и сострадательным.
Хабаров не любил больницы вообще. Его всегда охватывал панический страх перед этими учреждениями. После многочисленных процедур анализов и исследований на спецаппаратуре предложение Тасманова пройти томограф показалось ему явным перебором.
– Нормально со мною все. Ты слышишь меня, Леша?! Нор-маль-но! Из-за тебя меня сегодня Сомов к работе не допустил!
– Не ори. Здесь больница.
– Тасманов, ты упрям, как твоя сестра. Это Алина тебя попросила?
– Нет.
– Врешь!
– Нет.
– Я тебе восьмой раз объясняю, доктор: меня не били, ожоговых травм, обморожений у меня нет! Какого черта?! Да ответишь ты, наконец?!
Хабаров остановился посреди коридора и резко развернул за плечо Тасманова. Тот невозмутимо взял Хабарова за руку выше локтя и тоном, не допускающим возражений, сказал:
– Пойдем на томограф. Я хочу, чтобы Астахов на тебя посмотрел. Он очень хороший нефролог.
Еще лежа в медленно возвращавшейся в исходное положение капсуле томографа по напряженному лицу Тасаманова Хабаров понял: что-то не так.
– Сергей Юрьевич, взгляни, вот здесь и вот здесь, – говорил Тасманов Астахову, указывая на экран монитора.
Поймав обеспокоенный взгляд Хабарова, Тасманов отвернулся.
– Спина болит? – спросил Астахов.
– Нет. Вернее, под землей прихватило пару раз. А что, ваша «машинка» и радикулит показывает?
В только что открывшемся баре кроме них посетителей не было.
Поставив перед Хабаровым и Тасмановым заказанный коньяк, блюдечко с колечками лимона и две пепельницы, бармен негромко включил диск модного в этом сезоне певца и ушел протирать стоявшие на подносе бокалы.
– Ну, и зачем ты меня сюда притащил?
Хабаров бросил на барную стойку пачку сигарет, щелкнув зажигалкой, закурил.
– Давай выпьем, – предложил Тасманов и поднял свой бокал.
– Я за рулем.
– Саша… – медленно, подбирая слова, начал врач. – У тебя проблема.
Он крутил в суетливых руках бокал коньяка и смотрел, как бьется о стенки чайного цвета жидкость.
– Когда у тебя начала болеть спина?
– Не помню. Всякое было. Я на заре моей туманной юности каскадером был. Профессия предполагает травмы. Почему ты спрашиваешь?
– Я не о травмах. Я о приступообразных болях. Таких, что ни двинуться, ни дохнуть.
– Было пару раз. Давно. Потом, вроде бы, прошло.
– Ты обследовался?
– Я сидел! Не знаю, говорила тебе Алина или нет… – его начинал выводить из себя этот разговор. – В солнечном Магадане! Девять лет!
– Не ори! Саша, у тебя опухоль. Злокачественная. Не операбельная.
Тасманов поставил коньяк на столешницу, придвинулся к Хабарову, обнял его за плечи.
– Уже затронута вторая почка. Отсюда боли.
Рука Хабарова с зажатой в ней сигаретой замерла на полпути к пепельнице.
– Что?
– Это рак, Саша.
Хабаров судорожно сглотнул. На его лбу мелкими бисеринками выступили капельки пота.
– Что-то нехорошо мне…
Он рванул ворот пуловера.
– Выпей.
Тасманов подал ему коньяк, зажал рюмку в его непослушных пальцах.
– Выпей… – еще раз повторил он и подтолкнул руку Хабарова.
Хабаров вылил содержимое в рот, облокотился о столешницу, запустил пальцы в волосы. Тасманов не трогал его. Он виновато сидел рядом. Просто сидел, коснувшись плеча Хабарова своим плечом, и ждал.
– Леш, это совсем не лечится? – тоном человека, не надеющегося на положительный ответ, спросил Хабаров.
– В твоем случае – нет. Время упущено. Прости.
Хабаров обернулся к нему, грустно улыбнулся.
– Ах, доктор-доктор… Как ты меня…
Он усмехнулся, надолго замолчал.
Внешне Хабаров был абсолютно спокоен, разве что была легкая дрожь в руках, которую мог заметить только внимательный наблюдатель.
– Любезнейший! – наконец, крикнул он бармену.
– Слушаю вас! – мгновенно отозвался тот.
– Плесни-ка нам коньячку по стакану. И пожрать чего-нибудь… Леш, – Хабаров обернулся к Тасманову, – а что с нею будет?
– О себе ты думать не хочешь?
– Что тут думать… Как она это переживет? Как я ей скажу? – он склонил голову к сложенным на столешнице рукам. – Ума не приложу… Легче… – он запнулся.
– Даже думать забудь! Тяжкий грех это!
– Грехом больше, грехом меньше… Алине не говори. Я сам.
– Обещаю.
Бармен поставил перед ними коньяк, мясную нарезку, фрукты.
– Давай выпьем, – Хабаров поднял свой стакан. – Будь здоров, док!
Коньяк растекался приятным теплом по каждой жилочке, только мозги он не отключал. На них он сегодня не действовал совершенно.
– Леш, сколько мне осталось?
– Саша, я не Господь Бог.
– Прости. Вопрос звучит некорректно. Я спрошу по-другому. Сколько обычно остается у подобных больных. Я «больных» правильно употребил?
– Правильно. Только я не буду тебе отвечать. Это бывает по-разному.
Хабаров нервно рассмеялся.
– Тебе придется мне ответить. Поверь! Прямо в лоб! Без сантиментов.
Тасманов украдкой вытер глаза.
– Сколько?
Взгляд Хабарова был жестким. Тон вопроса не допускал возражений.
– Месяца два. Смотря, какое сердце. Бывает, живут дольше. Черт! Это преступление!
– Спасибо!
Хабаров посмотрел на часы.
– Прости, мне ехать пора. У меня встреча, которую ни пропустить, ни отменить я не имею права.
Из-за пробок на похороны Василия Найденова он опоздал. Когда Хабаров подъехал к кладбищу, процессия уже разъезжалась. Люди в погонах, люди в штатском садились в автобус и в припаркованные у ворот кладбища на расчищенной от снега площадке машины.
Шум моторов всполошил окрестных ворон. С пронзительными криками они кружили над головами. Это действовало на нервы.
По главной аллее он пошел вглубь кладбища.
– Хабаров! Подождите.
Он обернулся и увидел Гамова.
– Здравствуйте, генерал.
– Здравствуйте. Я думал, вы приедете раньше.
– Обстоятельства.
– Да. Да…
– У вас дело ко мне?
– Вы были другом Василия. Он вас очень ценил и…
Хабаров не дослушал.
– Какая теперь разница?
Он отвернулся и пошел по заснеженной главной аллее в конец кладбища. Он был совершенно один. Он шел медленно, сосредоточенно глядя куда-то вдаль, слушая шепот ветра в кронах берез и мерный скрип снега под ногами.
Свежую могилу Хабаров увидел издали. Увидел и сбавил шаг. Мерзлые комья рыжей глины, то маленькие, то большие, были свалены продолговатой горкой – рыжей кляксой на белом снегу. Горка была неуклюже прикрыта четырьмя венками и еловыми ветками. Между венков стояла серая металлическая табличка с написанными коряво черной краской номером и фамилией.
Хабаров достал телефон, набрал номер.
– Реваз? Хабаров. Приветствую тебя, дорогой! Я тут вспомнил, у тебя мастерская по изготовлению памятников есть. Заказ срочный. Черный гранит: памятник, гробница. Реваз, и чтобы установить. Здесь глина, так что песку придется подвезти. Я завтра заеду, привезу фотографию и текст, рассчитаюсь. Спасибо. Увидимся.
Он опустился на колени перед могилой.
«А у меня планида до девяносто одного дожить. Цыганка нагадала… Не дрейфь, командир, прорвемся! Никто, как Бог и маленькие боженятки…» – улыбающееся лицо друга стояло перед глазами.
– Что ж они тебя, подполковник Найденов, как бомжа-то…
Защипало глаза. Он поднял взгляд к небу.
Низкие серые облака, гонимые ветром, бесконечной вереницей все плыли и плыли за горизонт. Неспешно падал снег, укрывая белым саваном замерзшую без тепла землю. Крепчал мороз, отчего воздух делался легким и прозрачным. Вдалеке, через поле, черной стеной шумел лес, а справа пестрой лентой четырьмя потоками вливалось в город перегруженное шоссе. В городе бурлила жизнь: суета, дела, события… Люди не перестали любить и ненавидеть, страдать и мстить, маяться и окунаться в страсти, не перестали надеяться, не перестали предавать, искать легких путей, они не стали лучше или хуже. Все было, как всегда. Все и дальше пойдет заведенным порядком. День по-прежнему сменит ночь, за зимой обязательно придет весна, за молодостью наступят зрелость и старость. Оттого, что его не стало, ничего в этом мире не изменилось.
«Не изменилось? Неправда…» – подумал Хабаров.
Найденов был сложным. Иногда трогательно нелепым, иногда чересчур правильным, иногда непростительно жестким, даже жестоким, и всегда – непонятым.
Когда он ушел, Хабаров ощутил себя осиротевшим. Это ощущение сиротства накрыло его впервые еще там, в Джелалабаде, и он безуспешно глушил его водкой, а сейчас оно возникло еще явственнее. Он чувствовал, что часть его прошлого ушла вместе с Найденовым, а вместе с прошлым отломился и ускользнул кусочек души. Погасло, оборвалось внутри что-то. Безысходность накрыла его. Так бывает, когда живешь надеждой что-то исправить и не успеваешь. Время по-прежнему течет для тебя. Просто у него его уже нет, этого времени. У него теперь другие категории.
«Время… – Хабаров судорожно провел рукой по волосам, растрепанным ветром. – Как быстро и безвозвратно уходит время, делая нашу жизнь кладбищем упущенных возможностей и несбывшихся надежд…»
К машине Хабаров вернулся, когда почти стемнело. Он запустил мотор. Нужно было возвращаться домой, к ней. Он коснулся подбородком сомкнутых на рулевом колесе рук. Впервые в жизни он не знал, как быть дальше.
Входная дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился мертвецки пьяный Хабаров. Чтобы не упасть, он ухватился за стоявшую в углу вешалку, но не удержался и рухнул на пол вместе с этой шаткой конструкцией. Когда Алина вбежала в прихожую, Хабаров лежал на полу, укрытый упавшей с вешалки одеждой.
– Не ругайся, – едва выговорил он.
– Святая Мадонна! – Алина всплеснула руками.
– Так меня еще никто не называл.
– Поднимайся. Пойдем на диванчик. Пойдем. Вставай.
Она с трудом доволокла его до дивана в гостиной, сняла дубленку, ботинки.
– Ложись на бочок. Тебе надо поспать.
Она укрыла его пледом, поцеловала в щеку.
– А скандал? – он попытался удержать ее.
– Завтра. Все завтра.
Она выключила свет и, стоя в прихожей, долго прислушивалась к его тяжелому дыханию.
Настенные часы пробили восемь.
Хабаров открыл глаза. В комнате было тихо. Укрывшись пледом, она дремала в кресле рядом. Он попытался тихонько встать, но, услышав легкое поскрипывание кожаной обивки, Алина проснулась и, улыбнувшись ему, тут же умчалась на кухню. Вернулась она уже со стаканом брусничного компота.
– Давай, по глоточку, кисленького…
Он с наслаждением выпил компот и попросил еще. Алина послушно принесла кувшин.
– Спасибо.
Напившись вдоволь, Хабаров сказал:
– Линка, мне так хреново…
– Саша, приходи в себя. Вчера вечером принесли телеграмму. Вот она.
Лина подала ему свернутый вдвое листок.
Текст был коротким: «Приезжай меня хоронить. Митрич».
Хабаров закрыл лицо ладонями и какое-то время сидел так, не шевелясь. Алина обняла его за плечи.
– Саш, это тот старик, из таежной избушки?
Он кивнул и пошел в спальню, плотно прикрыв за собою дверь. Помедлив в нерешительности, Алина пошла следом.
Хабаров лежал на кровати, прикрыв глаза тыльной стороной ладони, точно защищаясь от яркого электрического света.
– Ты полетишь?
– У него никого нет, кроме меня… – он усмехнулся. – Да, остается одно: опять нажраться до поросячьего визга.
Поджав губы, Алина с укором смотрела на него.
– Не смотри на меня так. Лучше накричи.
– Как ты, света белого не видя, мог сесть за руль? Это безответственно! Мне страшно, как подумаю, что было бы, если…
Он прикрыл ее губы указательным пальцем.
– А вы думали, мы такие пушистые, аж шерсть клоками валится… Вас никто здесь насильно не держит!
Она оттолкнула его руку.
– Поговорим, когда ты проспишься.
Она резко поднялась и вышла из спальни.
– Господи, что я делаю?! – Хабаров рывком встал, пошел следом. – Алина, подожди! Прости меня!
Она обернулась, ее глаза горели. Она сделала усилие, чтобы говорить спокойно.
– Что с тобой, Саша? Ты можешь мне объяснить?
– А что со мной?
– Мне пора на работу. Я уже опаздываю. Поспи еще хотя бы часа три. Ты неважно выглядишь.
Она холодно поцеловала его в щеку и, подхватив шубу, ушла.
Дворники продолжали отмечать Новый год.
По заснеженной нечищенной дорожке Алина шла к остановке маршрутных такси. В длинной шубе, в сапогах на высоких каблуках по узкой плохо освещенной дорожке идти было неудобно. Несколько раз она оступалась, проваливаясь почти по колено в снег. Бушевавшая всю ночь метель не успокоилась и утром. Вездесущий снег бесцеремонно лез в лицо, в волосы, и это было невыносимым.
На продуваемой всеми ветрами остановке было пусто и холодно. Очевидно, только что отошедшая маршрутка забрала всех пассажиров и теперь нужно было стоять и неизвестно сколько ждать. Ее настроение едва вытягивало на хлипкую троечку. Холод и снег, мокрое от снега лицо не добавили положительных эмоций.
«Никто вас здесь насильно не держит…» – она всхлипнула, и слезы смешались с таявшим на лице снегом.
Из окна Хабаров смотрел, как ее маленькая темная фигурка медленно пересекала заваленный сугробами двор. Постепенно пелена метели размывала и скрадывала ее очертания, пока не скрыла совсем. Потеряв ее из виду, Хабаров ощутил непонятное беспокойство, которое в нем росло и росло, пока не превратилось в осознанное ощущение вины.
«Я – озабоченная собственной персоной скотина! – обругал он себя. – Как она доберется по такой метели, одинокая, обиженная, такая хрупкая?»
– Девочка моя…
Он быстро оделся, взял ключи от машины, захлопнул дверь и проворно, как только мог, побежал вниз по лестнице к стоявшему у подъезда джипу.
Стоя на остановке, Алина старательно вытирала мокрое от слез и снега лицо носовым платком.
– Алина Кимовна! – вдруг услышала она за спиной.
Егор Серебряков вышел из патрульной машины и, счастливо улыбаясь, предложил:
– Давайте подвезу. Праздники. Маршрутки редко ходят.
– Спасибо, Егор! А я стою, стою… Никто меня везти не хочет. Снег идет…
– Видите, как я вовремя. Пойдемте!
Серебряков засуетился, деликатно помог ей стряхнуть с шубы снег, распахнул дверцу.
– Вам точно по пути?
– Конечно! – соврал Серебряков, скрыв, что уже вторые сутки дежурит у остановки в ожидании увидеть ее.
Черный джип бесцеремонно припарковался прямо напротив остановки и, нагло сдав назад, уперся в бампер «девятки» ДПС.
– Что за борзость? – Серебряков не мог сдержать изумления. – Я сейчас!
Стремительным шагом он направился к водителю джипа.
– Ну, козья морда, я те ща отымею!
Боковое стекло было чуть опущено, из образовавшегося проема белесыми струйками тянулся сигаретный дым.
– Инспектор ДПС Серебряков. Ваши документы.
Хабаров предупредительно опустил стекло.
– Я что-то нарушил? – вежливо осведомился он.
– Вы нарушили пункт 12.4 Правил дорожного движения, согласно которому остановка запрещается ближе пятнадцати метров от мест остановки маршрутных транспортных средств. Вы же – прямо на остановке!
– Разве?! – Хабаров с нарочитым вниманием посмотрел вокруг. – Извините. Я не заметил.
– Документы, пожалуйста!
– Может быть, простите на первый раз? – Хабаров был сама любезность.
– Документы!
– Я тоже трудно прощаю. Особенно когда вижу, как похотливый слизняк липнет к моей женщине! – он врезал Серебрякову кулаком по лицу.
От удара инспектор упал навзничь. Хабаров выскочил из машины, наступил на правую руку инспектора, которой тот пытался выхватить пистолет, другой ногой ему же на горло.
– Чего застыла? Иди в машину! – жестко приказал он Алине.
Но та не двинулась. Глазами, полными ужаса, она наблюдала эту сцену.
Хабаров выхватил из кобуры инспектора пистолет, ткнул дулом в глаз Серебрякову.
– Сядь в машину, я сказал! – в бешенстве крикнул он Алине и прибавил мата.
Она испуганно отшатнулась, побежала к машине Хабарова.
– Я тебя убью, если еще раз увижу возле нее! Кивни, если понял!
Хабаров сел за руль, резко рванул с места и погнал вперед, выбросив пистолет на дорогу.
С запрещенной скоростью 150 км/ч он гнал по молозагруженному в эти праздничные дни МКАДу.
– Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: что ты молчишь?!
Он едва сдерживал себя.
– Ты довольна?! Ты этого хотела?! – он в бешенстве врезал ладонями по рулевому колесу. – Я спросил, ты этого хотела?!
Алина не ответила. Хабаров резко затормозил посреди шоссе, включил «аварийку». Правой рукой он схватил Алину сзади за шею, притянул к себе. Глядя ей в глаза холодным немигающим взглядом, он занес левую руку с растопыренными, как когти хищной птицы, пальцами, над ее лицом, будто намереваясь вцепиться в него. Рука заметно дрожала, готовая вот-вот сорваться. От его взгляда холодело все внутри.
– Мне больно, – тихо, но твердо сказала Алина.
Его лицо дрогнуло, нервная усмешка исказила его.
– И мне…
Он расслабил руку и осторожно опустил ей на лицо.
Сомов нервно ходил по кабинету.
– Нет, я, конечно, все понимаю. Досталось тебе, Александр Иванович. Сходи в отпуск на недельку, с нашим психологом побеседуй. Но дать тебе отпуск за этот год сейчас я не могу! Никак не могу. Честное слово! Есть же утвержденный график!
– Андрей Сергеевич, а за тот год? Ты меня отозвал на две недели раньше. Еще дней двадцать у меня отгулов накопилось.
– И за тот не могу. Да что приспичило тебе? Что за срочность такая?
– Мне нужно.
Сомов по-женски всплеснул руками.
– А мне-то как нужно! Мне нужно, чтобы ты работал. Кем я тебя заменю?
– Да хоть Лаврикова поставьте. Толковый парень.
– Только не лезь в кадровые вопросы!
– Значит, отпуск не дадите?
– Не дам.
– Тогда увольняйте!
Хабаров бесцеремонно взял со стола начальника лист бумаги, ручку и стал писать заявление об увольнении.
Сомов встал у него за спиной.
– Ну, что ты… Что ты делаешь?! – он выхватил у Хабарова лист, разорвал. – Иди. Иди в свой отпуск. Честное слово! Сорок пять дней. Больше не дам.
Хабаров усмехнулся.
– Я постараюсь уложиться.
– Здравствуйте, Валечка, обладательница самого приятного голоса в эфире!
Диспетчер радостно встрепенулась, заулыбалась.
– Ой! Это вы…
– Я.
– Здравствуйте, Александр Иванович!
Хабаров протянул ей в окошечко диспетчерской перевязанную блестящей лентой коробку зефира.
– Ваш любимый, Валечка. Я зайду?
– Конечно, заходите!
Девушка покраснела, суетливой рукой поправляя прическу.
Хабаров вошел в диспетчерскую, взял стул, придвинул его вплотную к креслу Вали, сел, бесцеремонно положив руку на низенькую спинку ее кресла.
– Мы все так переживали за вас, – начала диспетчерша, смущаясь оттого, что он сел так близко. – Это все было так ужасно… Но вы такой молодец! Я даже ночью плакала, не спала, так за вас волновалась.
Она замолчала, окончательно смущенная тем, что он, с вожделением улыбаясь, смотрел на нее в упор.
– Ты ко мне на «вы» потому, что я такой старый?
– Ой, что вы! Просто… Просто вы всегда очень строгий. И еще… Я вас уважаю. Очень. Ой! Я что-то не то говорю… – она закрыла руками лицо.
Он тронул ее золотистые волосы. Они были невесомо мягкими, послушными под его рукой, совсем не такими, как волосы Алины.
– Давай перейдем на «ты».
– Хорошо. Но я не смогу так сразу.
Диспетчерша, наконец, убрала руки от лица и теперь, не зная куда их деть, теребила край вязаного свитера.
– Помочь?
Хабаров обнял ее и поцеловал в губы, настойчиво и требовательно.
– Валь, у тебя приказ Со…мо… – Лавриков замер напротив окна диспетчерской, так и не окончив фразы.
– Иди отсюда! Потом зайдешь! – рявкнул на него Хабаров, удерживая за руку Валю, порывавшуюся уйти.
– Есть зайти позже! – казенным тоном отчеканил Лавриков и, с видом человека, не верящего в то, что видел, удалился.
– Валя….
– Не надо, Александр Иванович. Я не могу так.
Он встал рядом, нежно прикасаясь, стал гладить ладонями ее волосы, зардевшиеся щеки, шею, плечи.
– Ты в три заканчиваешь?
Она кивнула.
– Я подожду.
По длинному пустому коридору Хабаров шел к лестнице. Ему нужно было подняться на третий этаж, в бухгалтерию, и получить отпускные. Едва он ступил на лестничную клетку, как сильные руки схватили его и зажали в угол.
– Ты что, охренел, командир?!
– Тебя мне только не хватало!
Хабаров рывком сбил руки Лаврикова, попытался пройти, но тот встал на пути.
– Ты понимаешь, что так нельзя? Это… – Лавриков запнулся, подбирая слова.
– Ой! – Хабаров усмехнулся, с издевкой. – Ты поучи меня!
Грубо толкнув Лаврикова плечом, он стал подниматься по лестнице, но, не сделав и пары шагов, пошатнулся, судорожно ухватившись за перила.
– Саня, ты что? – Лавриков бросился к нему.
Мгновенно ставшее серым лицо Хабарова заставило Лаврикова отшатнуться.
– Сань, я врача … – испуганно предложил он.
– Не надо, – прохрипел Хабаров. – Пройдет…
Цепляясь руками за перила он сел на ступеньки.
– Может, воды? – робко предложил Лавриков.
Хабаров стер с глаз выступившие от боли слезы.
– Яду!
– Ты думаешь, приведешь домой бабу, Алина сразу разлюбит и уйдет от тебя? – Лавриков погасил о ступеньку докуренную до фильтра сигарету. – Дурак ты, Саня! Хоть и умный мужик.
Хабаров вздохнул, пожал плечами.
– Черт! Но это как-то лечится? Чего ты сидишь, командир? Надо же что-то делать!
Хабаров покачал головой, грустно усмехнулся.
– Позвонок… – Лавриков обнял его за плечи.
– Ребятам не говори.
– Алине скажи.
– Как? Я не смогу…
– Она же любит тебя. Она должна знать!
– Не смогу я, понимаешь Женька, подохнуть на ее руках. Нету у меня таких сил!
– Н-да-а, ситуёвина…
– Сомов меня в отпуск отпустил на сорок пять дней. А мне столько, наверное, и осталось…
Бутылка шампанского почти опустела.
– Валька, да что ты делаешь-то? Погоди. Не в машине же!
– А мне плевать! Мне так хорошо с тобой!
Разогретая шампанским и его ласками девушка обнимала и целовала Хабарова. Он нервно глянул на часы. Оставалось минут двадцать до возвращения Алины.
– Ты так классно целуешься, Санечка. Ну, поцелуй, поцелуй меня еще!
Хабаров целовал диспетчершу и чувствовал, какими нескромными стали ее объятия и руки.
– Все. Пойдем. Вылезай.
– Куда?
– Ко мне.
– К тебе? – она повисла у него на шее, засмеялась. – А я хочу к тебе! Да!
Выходя из лифта, он воровато оглянулся, не видит ли кто из соседей его с дамой. Но на площадке было пусто.
– Я в душ! – сказала девушка, сбросив шубку прямо на пол в прихожей.
– Не-не-не, – остановил ее Хабаров. – Это ты фильмов насмотрелась. В спальню, только в спальню, – он опять посмотрел на часы. – И как можно скорее!
Алина с трудом втащила в прихожую два тяжелых пакета с продуктами, захлопнула дверь и без сил прислонилась спиной к ее мягкой обивке. Она аккуратно сняла намокшую от снега шапку, встряхнула ее и стала расстегивать крючки шубы. Вдруг из спальни донесся женский смех. Заранее зная, что увидит, Алина пошла в спальню.
Смятая постель, обнаженные тела, объятия, поцелуи – все смешалось. Картинка дрогнула, поплыла. Чтобы не упасть, Алина оперлась рукой о косяк двери.
– Вот так сюрприз!
– Ой! Кто это? – Валя смущенно натянула на себя простыню.
Алина сбросила с плеч шубу, стянула шарф.
– Мне нравится эта малютка. Детка, как тебя зовут?
Алина сняла пиджак, расстегнула пуговицы блузки.
– Кто это? Что ей здесь надо, Саня?
– «Саня»? Для тебя он Александр Иванович, милая. Он не сказал тебе? – Алина сделала удивленное лицо и села на кровать. – Нас будет трое!
Она, как кошка, стала красться по кровати к Валентине.
– Алина, прекрати! – не выдержал Хабаров.
– Иди сюда, малышка. Раздень меня!
– Нет! Я не хочу!
Валя спрыгнула с кровати и, подхватив одежду, побежала в прихожую.
– Облом! – констатировала Алина.
Она обернулась к Хабарову.
– Девочку проводи. Заблудится девочка.
Хлопнувшая дверь заставила обоих вздрогнуть.
Алина закрыла глаза, запрокинула голову.
– Господи, как же я устала от этого бесконечного дня…
Хабаров сидел в большом кожаном кресле в гостиной и с отсутствующим видом переключал телевизор с канала на канал.
– Саша… – Алина тронула его за плечо.
Он никак не отреагировал на это прикосновение.
– Давай поговорим.
Он увеличил громкость до максимума. Она взяла телевизионный пульт из его рук. Экран погас. Комнату накрыла тишина.
– Ты стараешься обидеть меня. Это я поняла. Но я… Я не поняла… зачем? – В ее голосе звучали слезы, и последняя фраза далась ей с трудом.
Хабаров встал, подошел к окну, распахнул форточку, достал сигарету, щелкнул зажигалкой.
– Скажи, это обязательно: выяснять отношения? Невозможно без этого? – резко сказал он.
– Я только пытаюсь тебя понять.
– Ты пытаешься меня достать! Утром своим сопливым слизняком-гаишником, вечером своим пониманием!
– Вообще-то это ты притащил девицу в нашу постель.
Он резко обернулся.
– Чего ты от меня хочешь?! Я такой, какой есть!
– Спокойно, Саша. Я сейчас уйду. У меня же есть целый загородный дом! – она прикрыла рот рукой, стараясь не расплакаться. – Но я прошу тебя…
Алина положила руки ему на плечи, коснулась мокрой щекой его спины. Тонкая ткань пуловера тут же промокла, и Алина почувствовала, как его спина напряглась и сам он замер от этого прикосновения.
– Я прошу тебя, объясни мне. Наша первая ночь здесь, наши скитания по тайге, наша встреча в лесу у Перетрясова, твой визит в больницу… Ты помнишь, что ты мне говорил? Ты помнишь, как ты мне этого говорил? Как мне с этим жить?
Он не обернулся, не проронил ни слова.
Когда она ушла, Хабаров позвонил Тасманову.
– Леш, она ушла. Совсем. Я тебя очень прошу, поезжай к ней. Она в ужасном состоянии. Поезжай немедленно! Ты понял меня?! Леша, прямо сейчас!
По скупо освещенным бетонным плитам он шел к самому краю строящегося моста через Клязьму. Среднего пролета еще не было. На его месте чернела пропасть шириной метров в шестьдесят. У самого ее края Хабаров остановился. Где-то далеко внизу была река с торчащими из нее быками под средний пролет. Середина реки не замерзла и извивалась черной блестящей змеей.
«Метров восемьдесят, не меньше, – подумал Хабаров. – Секунды три свободного падения…»
Он сжал пальцами веки, противясь быстрой на слезы, расслабляющей жалости к себе. Он-то думал, что теперь, защищенный выстраданным счастьем, стал неуязвим для козней судьбы! Он ошибся. Разжав пальцы, он провел рукой по лицу, будто стирая нахлынувшие чувства.
«Бедная моя девочка…Что сейчас с тобою творится? Прости меня. Я принес тебе столько страданий…»
Он представил себе ее нежные, печальные глаза, ее ласковые теплые ладони на своем лице, ее безвольные губы под его поцелуями… Всего этого уже нет. Было. Когда-то. А теперь – нет. Когда-то давно он мог жить. Теперь жизни не осталось совсем. Вместо нее сожаление и боль…
Хабаров повернулся и быстрым шагом направился к брошенной у въезда на мост машине.
Тасманов укрыл ее пледом, взял из рук чашку с выпитым чаем, куда подмешал снотворное.
– Тебе надо поспать, сестренка. Утро вечера мудренее.
– Не мудренее, а мудрёнее, Леша, – зябко кутаясь в плед, сказала Алина. – А ты чего решил зайти? С Томочкой поругался?
– Есть немного, – соврал Тасманов.
– Помиритесь. Она у тебя замечательная.
– Я у тебя сегодня переночую. Можно?
Алина на секунду задумалась.
– Тебе Саша звонил, да?
– Не звонил. А что случилось?
– Дай мне еще одно одеяло. Мне все время так холодно. Потрогай лоб. Температура?
– Нет, – ответил Тасманов, проверяя лоб, а затем и пульс Алины. – Сердечко частит. Может, стресс…
– Мне было так же холодно, когда ты сказал, что в подземельях среди заложников и спасателей Саши нет. Потом он пришел ко мне в больницу, и вдруг сразу стало так жарко…
Алина зевнула, закрыла глаза.
– Поспи. Все будет хорошо.
Очень ясно, в цвете, Алина видела, что бежит по заснеженному полю к реке. Морозный воздух перехватывает горло. Тело коченеет от стужи. Ноги вязнут в глубоких сугробах. Бежать нету сил. Хриплый стон вырывается из горла. Он переходит в душераздирающий крик, когда она видит падающую с верхотуры моста машину. Точно безумная, она из последних сил бросается туда, к нему, на место падения. Искореженная, собранная гармошкой дверца джипа податливо отворяется, и его безжизненное тело падает ей прямо на руки. Она прижимается своей мокрой от слез щекой к его колючей окровавленной щеке, судорожно глотает слезы…
Теперь черная река разделяет их.
Хабаров стоит по колено в снегу. Его волосы треплет метель. На нем строгий черный костюм, белая рубашка с застегнутым воротом.
Она кричит:
– Саша! Ты как там оказался? Тебе же холодно!
Он грустно улыбается.
– Уже нет.
– Я… Я сейчас переберусь к тебе. Подожди. Ты только не уходи! Здесь где-то должен быть брод или лодка…
– Нет! – он делает протестующий жест. – Тебе нельзя сюда! А… а… я должен остаться.
– Не гони меня!
– Оставь меня. Так мне будет легче. Есть моменты в жизни, через которые человек должен пройти один. Сам. Понимаешь? Ты поможешь мне, если я буду знать, что ты не будешь жалеть и плакать обо мне. Ты сделаешь это ради меня: не будешь жалеть и плакать?
Она все-таки нашла брод. По скользким камням все-таки перебралась на ту сторону. Она крепко взяла его за руку, потащила назад, за собой.
– Нет, нет, нет… – шептала она, как молитву. – Нет! – сквозь слезы кричала она. – Господи, не-е-е-ет!
Его лицо, его фигура, его рука, крепко сжимавшая ее руку, исчезали, просто растворялись, рассеиваясь в светло-сиреневый туман. Такой туман увековечил в своих полотнах Клод Моне.
– Лина! Линочка, успокойся! Все хорошо. Это – дурной сон! Посмотри на меня. Лина, посмотри на меня! Все хорошо… – Тасманов испуганно тряс ее за плечи. – Все будет хорошо! Это сон!
От ее взгляда, скорбного, строгого, чужого мурашки побежали по спине Тасманова.
Алина упрямо качнула головой.
– Это не сон, Леша…
Хабаров запустил мотор, погонял его на разных оборотах и резво сдал назад, обеспечивая место для разгона.
Теперь между быть и не быть немногим больше двухсот метров. Он отпустил сцепление, вжал в пол педаль газа и устало закрыл глаза. Больше не было страха, не было боли и его тоже не было…
Алина с силой оттолкнула Тасманова, бросилась из дома на улицу.
Она бежала через поле к реке. Ее босые ноги тонули в глубоком снегу, но догнать ее было невозможно.
– Не смей! – кричала она. – Тормози! Не смей!
Полными ужаса глазами Хабаров видел, как по мосту, навстречу летящей к пропасти машине бежит она – любимая, единственная, родная.
Еще мгновение – и машина собьет ее.
Но еще до осознания такого исхода он автоматически делает то, что должен: уводит руль чуть вправо, резко, очень резко срывает ручник и крутит руль влево, чуть обозначив направление, машину разворачивает, он выжимает сцепление, включает первую, разворот на сто восемьдесят градусов почти закончен, он отпускает ручник и возвращает руль в исходное положение, бросает сцепление и – газ в пол…
Он сидел в оцепенении, тупо глядя перед собой. У него была стопроцентная уверенность в том, что вот сейчас в машину сядет она или не сядет, а просто подойдет к его дверце, откроет ее и…
Хабаров нервно кусал губы, тщетно подыскивая, как бы оправдаться.
Но ее почему-то не было.
Он открыл дверцу, вывалился из машины.
Джип стоял в полуметре от обрыва.
«Она же бежала ко мне над пропастью! Это она спасла меня… Ее любовь…»
Хабаров привалился спиной к колесу.
Ветер рвал его волосы, швырял колючие льдинки снега прямо в лицо. Он сидел не шевелясь, пытаясь почувствовать, уловить признаки возвращавшейся к нему жизни.
Утром она провожала его в аэропорт.
– Саша, можно я полечу с тобой?
– Алина, отпусти меня…
– Если ты полагаешь, что разница в девять часовых поясов поставит твои мозги на место, изволь!
– Спасибо тебе.
Она порывисто обняла его.
– Возвращайся скорей!
Он был холоден. Он подхватил сумку и, не оглядываясь, пошел к самолету.
Лавриков сменился после дежурства и, стоя на остановке, соображал, как быстрее добраться домой. Служебный «Соболь», увозивший со смены ребят, ушел без него: уж очень тщательно Сомов разъяснял ему должностные обязанности командира взвода спасателей, временное исполнение которых на время отпуска Хабарова поручили ему.
– Женя, садись!
Лавриков немало удивился, увидев машину Хабарова и Алину за рулем.
– Привет, солнце!
Он неуклюже чмокнул Алину в щеку.
– Саня где?
– Улетел в Приморье на несколько дней.
– Когда?
– Сегодня.
– Зачем ты его отпустила?
– Он меня не спрашивал. Умер его старый знакомый, у которого мы гостили в тайге. Саша полетел его хоронить.
– Черт! Не надо было его отпускать! Где он теперь? Где его искать?
– Женя, хоть ты объясни мне, что происходит?! Саша творит не пойми что, брат молчит, ты – туда же!
Лавриков отчаянно махнул рукой.
– А-а-а, пропади всё! Опять я – крайний! Умирать он полетел! Понимаешь?!
Алина кивнула. Лавриков притих, ожидая бури эмоций и потока слез. Вдруг она улыбнулась и очень буднично сказала:
– Съезди со мной в автосервис. Саша сказал, нужно посмотреть подвеску, заменить тормозные колодки, отремонтировать стояночный тормоз и резину поменять.
– Алина, ты меня слышала?
– Женя, с ним все будет хорошо. Беду я бы чувствовала.
– Когда обратно, командир? – пилот вертолета Миша Данилов пытался перекричать шум двигателя и стрекот лопастей.
– Чего? – переспросил Хабаров.
Он надел наушники и щелкнул тумблером внутренней связи.
– Когда обратно, спрашиваю?
– Не знаю пока. Я тебе со спутникового позвоню.
– Номер не потеряй! Вот она, твоя избушка! – Данилов показал пальцем вниз. – Знахарь здесь живет. Я к нему людей вожу. Мертвого, говорят, поднимет! Ты зачем к нему?
– Помер он. Надо похоронить.
– Жалко! Приготовься, садимся.
Ми-2 завис в полуметре от земли, взбивая лопастями снежные вихри.
Хабаров бросил в снег здоровенный рюкзак, потом спрыгнул сам, увязнув по грудь в сугробе, и дал отмашку.
Взревев двигателями, вертолет резво пошел на взлет. Еще минута, и оранжево-синяя винтокрылая машина МЧС исчезла из виду, нырнув за гребень тайги. Еще какое-то время было слышно ее затихающее стрекотание, потом тайгу вновь укутала девственная тишина.
Искрясь на снегу мириадами зайчиков, солнце задорно било в глаза. Хабаров невольно щурился, осматривая окрестности. Потом он взял за лямку рюкзак и, волоча его за собой, утопая по грудь в снегу, стал пробираться к стоявшей у опушки избушке. Небольшое расстояние метров в сто пятьдесят он преодолел часа за полтора и, несмотря на мороз, порядком взмок.
Пробираясь по непролазным сугробам, он то и дело всматривался в убогое среди кедрового величия человеческое жилище и тщетно старался уловить признаки присутствия живого человека. Не было ничего, что бы свидетельствовало об обитаемости таежной избушки. Нервный озноб пробегал по спине, заставляя идти возможно быстрее.
Подобравшись ближе к жилью, Хабаров увидел расчищенную от снега площадку у входа. Выбравшись из двухметрового сугроба, он рухнул на нее практически без сил.
«Слава богу! Митрич, ты живой!» – прошептал он.
Хабаров лежал на снегу, тяжело дыша, раскинув руки, глядя в голубое морозное небо, и улыбался.
Избушка была до крыши обрыта снегом. От площадки перед домом были расчищены дорожки-тоннели к сараю и колодцу, а еще в сторону тайги. Снег на бортиках был выше человеческого роста.
Переведя дух, Хабаров поднялся и потащил рюкзак в дом.
После яркого полуденного солнца в темноте избушки невозможно было что-либо рассмотреть.
– Митрич! – позвал с порога Хабаров.
Никто не ответил ему. Хабаров щелкнул зажигалкой и смог разглядеть в дальнем углу темную человеческую фигуру.
– Митрич?
Но фигура не шевельнулась.
Хабаров зажег стоявшую на столе самодельную свечу и осторожно, боясь наступить на лежавшие на полу книги, пошел к человеку.
Старик сидел, подобрав под себя ноги, как это делают йоги, его спина была идеально прямой, а голова слегка запрокинута назад, руки раскрытыми ладонями вверх лежали на коленях, большие и указательные пальцы обеих рук были сомкнуты в кольцо. На нем были черные свободные штаны и черная китайская рубаха-балахон. Старик сидел с неподвижным, будто каменным, лицом и широко раскрытыми, словно от ужаса, глазами.
Хабаров легонько дотронулся до него. Это не произвело никакого эффекта. Он потрогал пульс на шее и с облегчением вздохнул.
– Митрич, черт бы тебя побрал с твоей медитацией!
Хабаров сел рядом и стал ждать.
Неверным, блуждающим взглядом он принялся равнодушно рассматривать комнату с бревенчатыми, увешанными пучками трав стенами, более чем скромную постель, ворох старинных книг, нехитрую посуду в самодельном стенном шкафчике в углу, висевшую на лосиных рогах шубу и свою старую гитару, наконец, самого Митрича.
Старик сильно сдал. Его тельце было сухим и маленьким, а лицо похожим на сморщенное печеное яблоко. От лица исходил неизъяснимый свет. Наверное, так светится доброта.
Свеча скоро догорела, и свет поглотила тьма. Хабаров закрыл глаза и стал слушать тишину. Он сидел так какое-то время, потом поднялся и, морщась от боли в затекших от неподвижного сидения ногах, вышел на улицу. Солнце клонилось к закату.
«Странно, я что, проспал полдня?» – догадка казалась нелепой.
Хабаров вернулся в дом, запер на ночь двери на засовы. Внезапная, пронзающая всё нутро боль сбила его с ног. Он беспомощно рухнул на колени посреди избушки, завалился на бок, сцепил до скрежета зубы, чтобы подавить вырвавшийся из груди стон, и потерял сознание.
Он очнулся от отвратительного горького привкуса во рту. Разжав его зубы, Митрич ложкой вливал ему в рот отвар.
– Вот, волк меня съешь, помощничка я себе призвал! – досадовал дед. – Спокаивал себя, мол, Саня приедет – помру. А тут еще Бог укажет, кто скорее!
– Правильно говоришь, отец, – прохрипел Хабаров.
Митрич отвесил ему щедрую оплеуху, сунул кружку со снадобьем в руки.
– Допивай сам. Не дите малое, чтоб за тобою ходить!
Хабаров сделал еще глоток и закашлялся. От горечи напитка спазмом перехватило горло.
– Отвар твой дождем и полынью пахнет.
– Горькими слезами он пахнет. Пей слезы-то. Понадобятся они тебе…
Старик взял ухват и, подцепив им чугунок, понес к столу.
– Ох, ты! – вдруг вскрикнул он и остановился на полпути. – Дрянная рухлядь! Других лечу, а у самого спина – разворошенный муравейник. Чего лежишь-то, как новопреставленный?! Подхвати чугунок-то. Без супу останемся!
Хабаров отбросил к стене самодельное одеяло, сшитое из трех шкур сибирских козуль[48], поднялся с самодельной кровати и пошел к деду.
– Прости, отец, – сказал он, внезапно устыдившись и своей немощи, и убивающего душу пессимизма.
Старик сел за стол, привалился спиной к стене.
– Кашу в маленьком чугунке достань. Да руками-то куда ты лезешь?! Ухват же есть! Эх-ма… Недотепа! Не умеешь ты… – вздохнул дед. – И жить не умеешь…
Ели молча. Сначала грибной суп, потом кашу из проросших зерен пшеницы, приправленную кедровым маслом. Хабаров ел жадно, с аппетитом прихлебывая. Старик ел аккуратно, не спеша, оказывая почтение каждой ложечке. Его уважение к еде было абсолютным, действительно, как к дару Господа. Он съел мало, но насытился, и сидел довольный, с видом счастливого человека.
– Митрич, хорошо у тебя. Спокойно…
Хабаров подпер кулаком щеку и с добродушной улыбкой уставился на старика.
– Это отвар из трав твои мысли спотыкающиеся обуздал. Обузданная мысль приводит к счастью[49].
Хабаров усмехнулся.
– А что приводит к страданию?
– Причина всех страданий – желание. Это сказано еще Буддой. Христианские заповеди о том же.
– Все это бородатая философия, оторванная от жизни.
Митрич вздохнул, с сожалением пожал плечами.
– Люди слабы. Очень часто они торопятся объявить бессмысленным то, что непосредственно сами не понимают. Вот и ты имеешь закономерное соответствие своих действий и их плодов. Не долго тебе осталось с твоей-то чистой лицом философией! Валялся на полу, в муках корчился. Как тебя еще шибануть надо, чтоб ты прочувствовал, чтоб дураком быть перестал?!
Хабарова бросило в жар.
– Судьба приласкала тебя, дала тебе счастье, которого ты так хотел. А сил нести это счастье у тебя нету. Нету! Неподъемным оно тебе оказалось. Надорвался ты! К будущему своему, счастливому, оказался не готов. Потому и болячки твои именно сейчас полезли. Счастье может нести лишь тот, у кого в душе много любви. А ты – убийца! Ты всю жизнь убивал в себе и в других чувство любви, давил его, рвал! А ведь оно нам не принадлежит. К нему мы не имеем права прикасаться! Ты ни к кому не привязывался, никого не впускал в свой драгоценный внутренний мирок. Мол, я – «одиночка». Мол, один такой исключительный! Душонку, стонущую, старался задавить спиртным да работой. Думал, все еще будет. Думал, нету пока настоящего. Пока не живу! Сам себе лгал… Теперь уперся лбом-то, упрямым, в болезнь, и идти дальше некуда! Да и времени нету. Сказано: не совершай зла ни телом, ни словом, ни мыслью. Где там! Это же бородатая философия! Есть Закон: справедливо поступай с другими, иначе не можешь требовать справедливости для себя. Люди получают наказание через дурные поступки, а не за них. Ты и любишь-то, как чугунок с кашей из печки тащишь. Первое движение надо делать не к себе, а от себя. Ухватом чтобы чугунок-то подцепить, надо от себя ухват послать. Потом, как чугунок подцепишь, к себе тяни. А ты лапами, грязными, загребущими, на пролом. Хвать – и тащишь! Без разницы – кашу ли, женщину… «Кто полон желаний, никогда не может избавиться от сознания своего ничтожества», – сказано в почти тысячелетней «Тэттэки Тосуи». Вот и жрет тебя это осознание. Любимых женщин, благополучную судьбу ты готов был поставить выше Создателя; чтобы спастись и спасти тебя, они были вынуждены рвать с тобой. Ты обижался, ненавидел, осуждал, ревновал, не хотел жить. Эти чувства – черные. Они несут с собой болезни. А любовь где? Выходит, что не только будущее, но и прошлое твое просит тебя расплатиться. А ты продолжаешь обижаться, осуждать, презирать, не принимая посланное тебе испытание. Пытался даже себя убить. Агрессия через край! Как же! Характер! Носишься с гордыней своей как с писаной торбой. Рак поедает именно гордыню. Говорят, кто отказался от гордости, тому даже боги завидуют! Презрение и жалость к себе есть, жажда желаний есть, уныние, то есть ненависть к себе и Создателю – есть, а любви и смирения нету. Не вижу… Ибо сказано в Библии: «А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь…»
Хабаров вытер выступившие на лбу капельки пота.
– Потеешь, причину своей болезни ищешь… Что ее искать-то? Она не пряталась.
– Получается, я самый плохой? Хуже убийцы-душегуба, хуже подонка-насильника, хуже вора?
– Ты болезнь пытаешься связать с нарушением не Божественной, а человеческой этики. И потом, кто сказал тебе, что ты лучше?!
Хабаров застыл в изумлении.
– В древнем Китае люди нанизывали монеты на бечевку, протаскивая ее через отверстия в центре монет. Однажды некий глупец, желая похитить монеты, схватился за веревку, а монеты бойко соскользнули в карман хозяина. Так и ты. Кичишься – мол, не убийца, не душегуб, не насильник, не вор, и вообще достойней моей персоны трудно сыскать! А сам, как глупец, сидишь с пустой веревкой в руках да еще хвастаешь, что клад держишь!
– Мне на этой веревке удавиться впору!
– Уныние, постоянное недовольство собой и своей судьбой – это почти всегда рак. Жить-то надо не материальным или духовным, жить-то надо любовью! «Если нет во мне любви, то я ничто…[50]» – говорит апостол Павел.
– Как же все это понять?
– Старики говорили: «Живи спросту – проживешь лет со сту!» И мудрствовать не надо.
– Я так… так жить хочу! – запинаясь произнес Хабаров. – Именно сейчас!
– Искать надо…
– Искать? Что искать?
– Ищущим, который обрящет, становятся по велению души и без посторонней помощи.
– Но как?
– Смотри на мир другими глазами. Лечи душу, а не тело. Не думай о будущем, иначе его потеряешь. Сказано: «И говорил Он: Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты[51]».
Хабаров коснулся подбородком сомкнутых рук, надолго задумался. Было слышно, как за окном потрескивает мороз и, будто откликаясь ему, ухает, хохочет далеко в тайге ночная птица.
– Я помню, незадолго до смерти отец рассказал мне легенду. Будто у одного из северных народов есть поверье, что раз в год в морозной, заснеженной тундре, среди льда и снега, зацветают потрясающей красоты голубые цветы – Хрустальная Сиверсия. Кто находит эти цветы, тот обретает любовь… Мне нужно их найти. Не для себя. Для нее…
Время уступило, оно замедлило свой ход, оставляя шанс для поиска правильного решения.
Утром его разбудил навязчивый шаркающий звук. Хабаров открыл глаза. Митрич, держась за поясницу обеими руками, ходил по избушке туда-сюда. Его ноги были обуты в обрезанные наподобие ботинок унты. Обувь была велика старику размера на четыре, при ходьбе шумно волочилась по полу. Именно от этого шаркающего звука, задевающего нервы, Хабаров и проснулся.
– Вставай, лежебока! – недружелюбно приветствовал его Митрич. – Рассвело уже. Дела надо делать. А то всю жизнь проспишь.
Хабаров послушно поднялся, потер ладонями лицо. Еще часа два-три он бы поспал. В избушке было холодно. Выбравшись из-под шкур, Хабаров поежился, шумно выдохнул, и его теплое дыхание растворилось паром в остывшем воздухе.
– Одевайся. Воду надо носить и дрова.
– Чего с утра-то? Не рано?
– В самый раз. К вечеру пурга будет.
– Может, чаю сначала согреем? Что-то мне пить хочется после твоего вчерашнего угощения.
– У колодца и напьешься!
– Завтрак тоже отменяется?
Старик накинул на плечи потрепанный рыжий козий тулуп и больше ни слова не говоря пошел на улицу.
Морозный, хрустальный воздух бодрил. Солнце светило во все лопатки. Кедры что-то шептали, помахивая пушистыми зелеными лапами. На белоснежном девственном снегу вновь играли, шалили, гоняясь друг за дружкой, переливаясь всеми цветами радуги, ошалевшие блики-зайчики.
Недалеко, на опушке, выводил свою нехитрую дробь дятел, а возле бани, на сирени, росшей здесь, в тайге, не привычным кустарником, а высоким крепким деревом, суетилась, перебираясь с ветки на ветку, белка.
Белка была пепельно-серая, как раз под цвет коры. Пушистый хвост и голова были черными. Черными были бусинки-глазки и кисточки на серых закругленных ушах. Только на брюшке виднелось продолговатое белесое пятнышко.
– Ты смотри-ка! Не боится! – глядя, как проворно белка стала спускаться до высоты человеческого роста, с изумлением сказал Хабаров.
Митрич протянул ему несколько кедровых орешков.
– Думаешь, подпустит?
Хабаров медленно пошел к дереву, стараясь, чтобы движения были плавными, протянул раскрытую ладонь с орешками белке. Зверек метнулся назад, на короткое время укрылся в густых ветках кроны, потом несмело начал спускаться. Хабаров терпеливо ждал. Наконец передние лапки невесомо коснулись ладони Хабарова, затем упор стал более прочным, и Хабаров ощутил и холод лап зверька, и острые коготки. Торопливо белка брала орех за орехом, пока ладонь не опустела. То место, где только что были орехи, белка понюхала черным крохотным носом и отправилась назад, в верхотуру кроны, где, устроившись между двух широких веток, стала неторопливо пережевывать запас.
– Господи, радость какая! – невольно воскликнул Хабаров.
Счастливо улыбаясь, он неотрывно смотрел на белку.
– Митрич, а чего ж она не рыжая?
– В Москве у тебя – рыжие. Это маньчжурская белка. Мало их осталось. Люди почти всех истребили. Ну, идем, идем…
Колодец был рядом с баней, добротной, срубленной из полуметровых в диаметре кедров.
– Багор в предбаннике возьми, ведра. Хотя… Багром-то тебе без сноровки не достать. Крюк возьми там же. Воды наносишь две бочки, что у печки. Дров наносишь в сенцы. Пусть лежат, сохнут. Легче будет растоплять. Да не ленись! Две поленницы сложи. Под крышу чтобы. Ель да сирень не бери. Они больно трещат, а тепла нету. Их летом в костер. Отличить-то сумеешь?
Хабаров улыбнулся обстоятельности деда.
– Торопись с делами-то. Погода меняется. К вечеру пурга будет.
Хабаров посмотрел на небо. Солнце по-прежнему светило ярко, и на небе не было ни единого облачка.
– Это ты по своей спине определил?
Дед покряхтел, опять потер спину.
– И по спине тоже. Ну-ка послушай…
Он поднял вверх указательный палец и так замер, прислушиваясь.
– Слышишь?
– Что?
– Птиц слышишь?
– Кроме дятла? Н-нет…
– На солнце смотри. Оно не такое уж яркое. Точно матовое.
– Солнце как солнце, – сказал Хабаров и от яркого солнечного света громко чихнул.
– Ветер изменился. Ветер вчера какой был?
Хабаров на секунду задумался.
– Южный, – это он отметил для себя автоматически, когда шел к избушке Митрича.
– А сейчас северо-восточный. Ветер пурги.
– Как ты определил? Тихо же. Ветра нет.
Старик взял Хабарова под руку, указал на белку.
– Видишь? Она носом на ветер смотрит. Ветер скользит по шерстке, и ей не зябко. Сядь она к ветру боком или задом, ветер поддувал бы ей под шерстку, ставил бы ее дыбом, белке было бы холодно.
Хабаров обнял старика за плечи.
– Сколько знаю тебя, не перестаю удивляться… Ладно, иди в дом. Замерз, наверное. Я все сделаю.
Митрич покладисто кивнул и, держась за спину, шаркая по дорожке обувкой, поплелся в дом.
Багром на длинной деревянной жерди Хабаров принялся разбивать лед в колодце. Лед был толстый. От каждого удара по нему расходились радиальные трещины, но поддавался он медленно.
Ведром Хабаров выловил куски льда, и на поверхности воды осталась только мелкая ледяная крошка. Потом двумя закопченными на костре ведрами он стал носить воду в избушку, постепенно наполняя стоявшие у печи дубовые бочки.
Наносив воды, Хабаров пошел за дровами. С березовых поленьев он надрал бересты, поленья сложил в топке аккуратной клеткой и, подсунув под них бересту, поджег.
– Чувствую, дымком потянуло… – донесся с печи голос Митрича.
– Дрова сухие. Скоро будет тепло. Пойду, в сенцы дров наношу.
Необычная для него, городского жителя, работа отвлекала, ни о чем не думалось, кроме того, что он должен сделать сейчас, в эту самую минуту. Но работа закончилась, и мысли-страшилки опять полезли со всех сторон. Хабаров поймал себя на том, что прислушивается к организму и пытается уловить признаки очередного страшного приступа, наподобие того, что свалил его вчера. Он нащупал в кармане таблетки, которые дал ему Тасманов для снятия болевого синдрома, он даже достал коробочку, но, повертев в руках, сунул назад в карман.
– На, отвару выпей, – Митрич протянул ему с печи теплую кружку со снадобьем.
– Пожрать бы сначала, – сказал Хабаров и пошел к своему рюкзаку, стоявшему под вешалкой. – Работа на свежем воздухе сделала меня жутко голодным! Давай, слезай, сегодня я угощаю! Постой, что такое?
Хабаров в недоумении вытащил из рюкзака полушубок и пару валенок Митрича.
– Сегодня среда. День очень сильной энергетики. Голодание по средам – самая полезная штука. Пей отвар. Больше сегодня ты не получишь ничего.
Хабаров бросил рюкзак и вещи на пол.
– Зачем ты со мной, как с желторотым пацаном? А?! Зачем унижаешь меня? Со мною можно говорить. Го-во-рить! Понимаешь? У меня есть уши, чтобы слышать. У меня есть мозги, немного, правда, но есть, чтобы соображать. У меня есть воля. Я могу себя заставить. А ты… Ты…
Хабаров врезал кулаком о дверной косяк и, обидевшись, хлопнул дверью.
По маленькой расчищенной от снега площадке возле дома он нервно ходил туда-сюда.
– Ты же хотел уединения? Вот тебе уединение! По самые уши! Хотел тихо уйти? Уйдешь! «Приезжай меня хоронить…» Педагог – целитель, хренов!
Он обернулся к избушке и погрозил кулаком.
В клинику к брату Алина приехала без предупреждения, чтобы наверняка. Ссылаясь на занятость, Тасманов отказывался общаться с нею по телефону, дома она его застать не могла, и продолжались эти прятки четвертый день.
– Алеша, нам надо поговорить!
– Привет, сестренка! Это совершенно невозможно. Прости.
– Я никуда отсюда не уйду!
Тасманов только что вышел из операционной. На нем была светло зеленая униформа, спереди и сзади обильно пропитанная потом.
– Галя! Галя, черт тебя возьми, где ты? Иди сюда! Лада! – он обернулся к сидевшей за столиком дежурной медсестре. – Лада, анализ крови Королева мне. Бегом!
– Сейчас, Алексей Кимович.
– Каждый час брать. Поняла? Каждый!
Медсестра кивнула, сунула в руки Тасманову листок.
– Где Галя? Найди мне ее.
– Здесь я, Алексей Кимович.
Худенькая медсестра бежала к ним по коридору.
– Капельницу Иванову поставила?
– Да. Все в порядке.
– Давай, займись Алиной Кимовной. Отведи ко мне, напои чаем, – он бросил медсестре ключи. – Извини, – он чмокнул Алину в щеку, – у меня еще две операции.
Отстранив Алину, он юркнул в предоперационную, дверь в которую, со словами «Женщина, вам сюда нельзя!», прямо перед носом Алины закрыла строгая медсестра.
– У вас такой дурдом каждый день? – спросила Алина, следуя за медсестрой в кабинет Тасманова.
– Сегодня у нас нормально, потому что Алексей Кимович дежурит. У него и врачи, и медсестры – все под контролем. Зря никого не дергает, выполняется необходимая работа в необходимой последовательности. А вот завтра точно будет дурдом. Завтра Станислав Ростиславович дежурит.
– Чем же один от другого отличается?
Медсестра распахнула перед Алиной дверь.
– Станислав Ростиславович начальник, а Алексей Кимович врач. Разницу понимаете?
Алина улыбнулась. Медсестра включила электрический чайник.
– Не надо мне чаю. Я просто посижу. Как вы думаете, Галочка, долго мне здесь куковать?
– Устраивайтесь поудобнее. Пожалуйста, не трогайте компьютер и бумаги на столе. Алексей Кимович от этого просто звереет. Уборщицу загрыз на смерть – за то, что бумаги в стопку сложила. Извините, я должна идти. Если что, я в процедурной.
Алина сняла белый халат, повесила его на вешалку слева от входа и подошла к окну. Радуясь внезапно наступившей оттепели, в больничном парке мальчишки из соседних домов играли в снежки. Пузатые красногрудые снегири, усевшиеся стайкой на верхушке березы, смотрели на детей, то и дело обмениваясь впечатлениями. Несколько человек в больничных пижамах и накинутых на плечи куртках, опираясь на костыли, стояли на тропинке, под березой, курили и тоже весело обсуждали ход поединка на снежках.
Тогда тоже была оттепель. Оттепель после сорокоградусных морозов, диких для средней полосы. Тоже дети играли в снежки и совсем по-весеннему гомонили птицы. В парке у метро «Речной вокзал» она нечаянно встретила школьную подругу.
– Привет! А я все думаю, ты это или не ты. А потом смотрю, ты тоже на меня смотришь и тоже думаешь, я это или не я… – Люда Кратирова обняла ее. – Привет, Алинка! Привет, моя дорогая!
Конечно, они зашли в кафе. Конечно, они хотели поговорить.
– У меня все замечательно! – хвастала Люда. – Прекрасный дом, муж, двое детей. Это мой тыл, так сказать. Мы оба работаем. Хотя, признаться, это больше моя прихоть. Чтобы за готовкой борщей и телевизором не опухнуть. Муж вполне обеспечивает нас. Еще свекрови перепадает. Старшенький у меня школу заканчивает. Младшенький в восьмом. Умненькие пацанятки, скажу я тебе! Дважды в год ездим в теплые страны, отдохнуть от нашей грязюки. Еще машина, дача. В общем, все, как у людей.
– Я рада за тебя. Только… Почему глаза-то грустные?
– Та-а… – Люда небрежно махнула рукой. – Ты-то как?
Алина растерянно пожала плечами.
– Живу… – и, уловив внимательный взгляд надеющейся на подробности подруги, поспешно добавила: – Успешна, красива, свободна!
– Одна что ли? Странно… Возле тебя всегда все мужики крутились.
– Мне всех не надо. С тем, кто нужен, жизнь развела.
– Давно?
– Восемь лет как.
– И ты все восемь лет…
Подруга с сочувствием смотрела на нее.
– Работаю. Красиво старею.
– Ой-ой… Ты, девка, точно ненормальная! Сейчас тебя лечить будем. Эй, молодой человек! – Кратирова окликнула официанта. – Принесите нам водки по сто пятьдесят. Слушай меня, – она взяла Алину за руку. – Если ты не в курсе, вот новость тебе: времена Ромео и Джульетты давно кончились. Сейчас кто смел, тот и съел. Поняла? Не кивай. Лучше запиши. Ты всегда была шибко умная. Я помню, еще в школе от Булгакова и его «Мастера и Маргариты» на стенку лезла. «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? За мной, читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» – пафосно продекламировала Людмила. – Чушь! Бред! Наплюй и забудь. Он написал так потому, что все писатели пишут про то, чем обделены, но чего они страстно желают. Посмотри на меня. Я тебе говорю: нет на свете настоящей, верной, вечной любви. Есть молодость и глупость, по причине которых выскакивают замуж. Потом, если детей нарожать успели, есть мужество, выдержка, самопожертвование, обязательства. А еще, чтобы не сойти с ума, есть ложь, мои любовники, его любовницы и негласное правило: ты меня не трогаешь, а я – тебя.
Официант принес водку.
– Давай, за любовь! Не чокаясь… – сказала Кратирова и махом выпила сто пятьдесят.
Резкий стук в дверь заставил ее обернуться.
– Разрешите, Алексей Кимович?
Мужчина средних лет несмело заглянул в кабинет.
– Он на операции, – ответила Алина.
– Понял. А когда будет?
– Извините, я не знаю. Спросите у медсестер.
– Понял, – еще раз повторил мужчина и бесшумно прикрыл за собою дверь.
Алина вновь отвернулась к окну.
– …Я, знаешь, жить когда начинаю? Когда мой с детьми к своей маме едет.
– А я, знаешь, Людка, кажется, ни на минуточку не отпустила бы.
Подруга снисходительно усмехнулась.
– Отпустила бы! Еще бы и вслед плюнула…
В дверь осторожно постучали.
– Алексей Кимович, позвольте побеспокоить?
Тучная женщина бойко вошла в кабинет. В одной руке она держала коньяк, в другой конфеты.
– Он на операции, – сказала Алина. – Когда будет, не знаю.
– Тогда я тоже подожду.
И дама бесцеремонно уселась в кресло у журнального столика.
– Кимыч, что с Маврикием? Все утряс? О-па! – доктор, одетый в такую же, как у Тасманова, униформу, с фонендоскопом в нагрудном кармане, остановился посреди кабинета и взглядом голодного мачо уперся в Алину. – Это даже хорошо, черт возьми, что вас, шеф, сейчас нет! – заключил он. – Богиня, позвольте представиться, Астахов Сергей Юрьевич, – он склонился в старомодном поклоне. – Могу я узнать ваше имя?
– Тасманов на операции. Освободите кабинет, доктор, и эту даму с собой прихватите.
– Пойдемте, пойдемте со мною, гражданочка. Здесь нельзя находиться. У нас проверка из министерства. Видите, проверяющая какая строгая! А вы со спиртным, с конфетами. Это же взятка! Пойдемте, я сейчас все устрою. Вас позовут сразу, как освободится наш шеф.
С любезной улыбкой и уговорами, как профессиональный ловелас, Астахов под руку повел даму из кабинета. Наконец, дверь за ними закрылась, и Алина облегченно вздохнула.
– Простите великодушно, это снова я…
Астахов вошел в кабинет, словно имел на это полное право.
– Пока Алексей Кимович работает, позвольте, так сказать, скрасить ваше одиночество и пригласить вас в кафе. У нас на первом этаже прекрасное кафе для персонала. Уверен, вы голодны, а ждать вам еще долго. Идемте?
– Нет. Благодарю.
– Но это неразумно. Алексей мне не простит, если я…
– Послушайте! – почти выкрикнула Алина. – Я не хочу знать, на каком основании вы позволяете себе быть столь навязчивым, но если вы еще раз попадетесь мне на глаза, я буду вынуждена перейти к оскорблениям. Я ясно излагаю?! А сейчас, – она понизила голос, – пошел вон!
– Как угодно.
Более ни слова не говоря, Астахов удалился.
– …Ты вообще не любишь мужчин. Ты можешь ими командовать, помыкать, обходить по карьерной лестнице, но любить их ты не можешь! Отсюда твои проблемы, – вдруг вспомнила она давний разговор с братом.
– Ты потом извиняться будешь за сказанное! – в гневе сказала она.
– И не подумаю! – нагло ответствовал Тасманов…
Прячась от непрошенных воспоминаний, она закрыла лицо руками, судорожно вдохнула.
«Главное, ни о чем не думать. Не думать… Не думать… Не думать…» – сосредоточенно повторяла она и, конечно же, думала.
Тасманов освободился только к вечеру. Он вошел в свой кабинет, где было абсолютно темно, щелкнул выключателем. Вытянув ноги, Алина дремала в массивном кожаном кресле. Яркий свет заставил ее прикрыть рукою глаза. Тасманов с удовольствием развалился в кресле напротив, устало закрыл глаза.
– Линка, пристрели меня, чтоб не мучился… Я омерзительно устал.
– Я не буду варить тебе кофе. Не дождешься. Я хочу знать, что с Сашей. Только правду. Понял?
Тасманов потер лицо ладошками, подался вперед.
– Лада! – крикнул он в приоткрытую дверь, и Алина от неожиданности вздрогнула. – Лада, иди сюда!
Спустя пару секунд послышались торопливые шаги.
– Слушаю, Алексей Кимович.
– Спирту принеси.
– Чтобы выпить? – уточнила медсестра.
– Нет, смотреть на него будем!
– А мы его уже йодом разбавили.
– Зачем?
– Завтра Станислав Ростиславович дежурит. Чтобы не выпил. Нас девочки из утренней смены всегда просят.
– Ё… – Тасманов вскинул брови. – Почему я об этом ничего не знаю?
– Что спирт разбавляем?
– Что Стас пьет! Неси, давай, свой разбавленный спирт.
– Но его же нельзя…
– И две таблетки аскорбиновой кислоты.
– Зачем?
– Лада, химию учить надо! Спирт очищать будем. Да сходи, пожалуйста, к Астахову, попроси, пусть ко мне зайдет. Давай! И еще… Захвати в перевязочной конфеты. Я на шкафу забыл. А коньяк можешь взять себе.
– Может, я в кафе спущусь, вам покушать куплю?
– Еще работает?
– Десять минут до закрытия.
– Давай.
– Зачем тебе Астахов? Сводничаешь?
– Он очень хороший нефролог.
– Невролог?
– Для особо одаренных: нефролог – это врач, который лечит почки. Он недавно у нас. Я его переманил из института онкологии. Кстати, к нему очередь на операции на годы. К нему из заграницы едут. Я вас познакомлю.
– Мне он показался безмозглым мачо.
Тасманов хохотнул.
– Заходил?
– В кафе приглашал.
– В кафе – не в койку. До такого мужика могла бы снизойти.
– Прекрати!
– А тебе и твой распрекрасный Хабаров вначале показался безмозглым мачо.
– Наглым мачо. Безмозглым он никогда не был.
– То-то ты от него, овца, полжизни бегала. Добегалась…
Астахов заглянул в кабинет и дипломатично осведомился:
– Алексей Кимович, вызывали?
– Входи, Сергей. Знакомься. Моя сестрица – Тасманова Алина Кимовна.
– Мы уже, собственно, виделись…
– Садись. Выпьешь?
– Н-нет, – неуверенно ответил тот присаживаясь к столу.
– А я выпью. Устал, как сто чертей! И сестрице налью. Она что пьяная, что трезвая…
– Я не буду! – Алина отодвинула белый пластиковый стаканчик.
Тасманов выпил спирт, закусил куском ветчины.
– Сереж, ты прости ее. Она, обычное дело, на незнакомых мужиков с кулаками бросается. Ты легко отделался, ведь и пришибить могла. Рука у нее тяжелая. В детстве мне от нее попадало! Маленькая, а такая вреднючая была!
– Алеша, прекрати!
– Что прекрати? Прекрати! Прекрати… Сергей, мы с твоими профессорами-онкологами неделю назад мужика смотрели, спасателя. Помнишь?
– Помню, конечно.
– Я тебя подумать просил. Твое мнение осталось прежним?
– Куда ж ему деваться, мнению-то… – то ли спросил, то ли заключил Астахов и посмотрел на Алину. – Может быть, мы не будем сейчас это обсуждать? Алине Кимовне будет неинтересно.
– Серюнь, она за этого спасателя замуж собралась. Она его, видите ли, очень любит!
– Даже так… – Астахов вновь посмотрел на Алину, но теперь уже по-иному, с сочувствием и состраданием.
– Что скажешь?
– Ну, браки не моя специальность. Они, как известно, заключаются на небесах. А по заболеванию… Диагноз требует уточнения. Необходимо дополнительное обследование: артериография, дополнительное рентгеновское исследование грудной клетки, цистоскопия. Я бы повторил в условиях стационара компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, УЗИ, внутривенную пиелограмму, анализы, разумеется. Только потом можно будет сказать что-то определенное. Вы извините меня, – он прижал руку к сердцу, – я должен идти.
– Погоди! Ты же сказал, твое мнение не изменилось.
– Алексей Кимович, пойду я. Гости у меня сегодня. Еще бы в супермаркет заехать…
Алина догнала его уже на улице. Астахов шел к припаркованной напротив приемного покоя новенькой иномарке.
– Сергей Юрьевич! Подождите! Я… – Алина запнулась, переведя зашедшееся от бега дыхание. – Простите меня!
– Успокойтесь. Я все забыл уже.
– Я задержу вас только на пару минут. Что с Хабаровым? С тем спасателем, которого вы смотрели? Только скажите мне правду.
– Вы слышали все. Что я еще могу сказать?
– Правду.
– Операцию ему делать поздно. Химиотерапия? Как правило, рак почки мало чувствителен к противоопухолевым препаратам. Остается лучевая терапия, иммунотерапия, эмболизация артерии. Эмболизация артерии заключается в прекращении тока крови к почке, позволяет уничтожить часть опухолевых клеток. Лучевая терапия помогает уменьшить болевой синдром. Иммунотерапия поддерживает состояние всего организма. Одно плохо. Все это не продлевает жизнь. Лучевая терапия купирует болевой синдром, но сильно ослабляет весь организм. Иммунотерапия по большому счету продлевает агонию. Алина Кимовна, наши почки двадцать четыре часа в сутки, каждый день, постоянно фильтруют, чистят нашу кровь. Новыми почки эти процедуры не сделают. А если система вот-вот даст сбой, совсем? Ваш друг это хорошо понимал. Он сознательно сделал выбор.
– Нет…
– Рак почек у мужчин вообще встречается в два раза чаще, чем у женщин. Скрининг рака почки, то есть обнаружение опухоли без наличия симптомов, не существует, поэтому в момент диагностики опухоль обычно бывает больших размеров. А ваш Хабаров, вообще, как я понял, врачей не жалует, лечиться не любит. К тому же, у него есть деликатный период в биографии. Исправительная колония, где он отбывал наказание, имела своеобразное производство: цеха по изготовлению материалов для сварочных работ. А это контакт с кадмием в воздухе. Есть исследования о взаимосвязи между воздействием кадмия и раком почек.
Алина спокойно смотрела на врача, взгляд был упрямым.
– Я не верю в его болезнь. Я чувствую, нет – я знаю, что все у него будет хорошо. Вы понимаете? Я это знаю… Знаю! Правда! Я не сомневаюсь, что вы очень компетентны. К тому же, Тасманов вас очень ценит. Но я убеждена, что в случае с Хабаровым вы ошиблись. Он поправится. Он будет жить. Я нарожаю ему кучу детей! Мы будем воспитывать внуков. Оба умрем старенькими-старенькими. Я убеждена. Как вам?!
– Я видел много больных. При абсолютно одинаковом лечении одни выздоравливали, а другие… Я видел родственников больных. Одни их заранее оплакивали, а другие, наоборот, упрямо не верили в плохой исход, и свершалось чудо, болезнь уходила. Вы, как раз, из этих, других. Ваш друг обязательно поправится. Только вы не переставайте в него верить. Были случаи, когда неоперабельные раковые опухоли рассасывались за неделю. Это невозможно объяснить! Есть что-то, что за рамками физиологии!
– Вы удивительный человек, Сергей Юрьевич. Спасибо вам.
Он поцеловал ее руку.
– Вы очень красивая и очень сильная женщина, Алина Кимовна.
– Сильная? Какая ошибка…
Погода под вечер испортилась. Неподвижное отяжелевшее небо навалилось на землю. Все живое от этого притаилось, природа замерла в тоске, ожидая начала собирающегося с силами ненастья.
Часам к пяти вечера, когда стало уже совсем темно, завыл, заметался ветер. Вихреобразные порывы поднимали снежную пыль из свежевыпавшего и еще не успевшего спрессоваться снега. Они лихо закручивали ее белыми смерчевыми столбами, и, ослабев, швыряли в белый свет. Еще немного времени, и щедро повалил снег. Он добавил силы ветру, его порывы стали чаще и жестче. Ветер теперь выл, стонал, плясал дикими снежными вихрями, подминая под себя все живое. Эта ледяная карусель заполнила собою все пространство от земли до неба, и между ними не было больше ничего, кроме свирепеющего ветра и снега. Окончательно погасла луна, дрожавшая в небе бледным неясным пятном, в мире сделалась кромешная тьма, и началась пурга.
Хабаров сидел в полной темноте, в углу, на сбитой из кедровых досок кровати. Закрыв глаза, он слушал, как бился ветер, неистово и страшно завывая в трубе, как снежная поземка шелестела по крыше.
Странно устроен человек. Из пестрой вереницы близких и далеких событий иногда выхватывает то, о чем совсем не думал, что считалось давным-давно забытым.
Тогда тоже так же выл, бесился ветер. Он продувал плато насквозь, носился по покрытым снегом вершинам гор и возвращался назад, на равнину, чтобы попотчевать порцией ледяного холода вперемешку с колючим снегом.
Оборванный, голодный, – а не ел он к тому времени уже дней шесть, – спасаясь от ветра, в поисках сомнительного тепла Хабаров забился между двух тысячелетних валунов у дороги. Ему нужно было передохнуть. Его бил озноб, а перед глазами плавали разноцветные круги. Трясясь от холода, он глядел из своего укрытия на гору, где, примерно на середине подъема, прилепился буддистский монастырь, глядел и отчетливо понимал: туда ему уже не дойти. Слишком долог и труден был его путь. Слишком много сил и испытаний он ему приготовил. Он смотрел на монастырь, как на красивую картинку из советского учебника географии, красивую сказку из другого, не его, измерения. Постепенно очертания монастыря стали таять, стираться, глаза заволокла свинцовая пелена. Притупилось отвратное чувство голода, тело стало ватным, ленивым, бесчувственным. Он проваливался в тяжелое сонное забытье, он замерзал.
Очнулся он оттого, что горячий шар бело-электрического света вошел в него и обжег горло и грудь. Холода больше не было. Наоборот, все тело загорелось, будто он лежал в полдень на горячем пляжном песке. Открыв глаза, он увидел склонившегося над ним пожилого китайца. Только его черные глаза, против обыкновения, не были раскосыми и узкими, они больше походили на глаза европейца. Не изобразив на своем лице ни одной эмоции, китаец подал ему руку, помог подняться, а потом, все так же молча, сделал несколько шагов назад, поклонился Хабарову, спрятал руки в темно-малиновый халат-балахон и пошел в гору, по направлению к монастырю.
Сообразив, что этот китаец – его единственная надежда, собрав последние силы, он поплелся следом. Монастырь остался далеко внизу, а они все шли и шли, поднимаясь в горы выше и выше. Последнее, что он помнил, это как полз на четвереньках по снегу следом за исчезающей за стеной метели темно-малиновой фигурой старика-китайца.
– Почему ты подобрал меня, отец? – спросил его Хабаров, когда после недели, проведенной в болезненном бреду, пришел в себя.
– Ты добродетельный. Тот, кто будет меня хоронить… – с ощутимым акцентом, но все же на русском ответил старик и сразу же перевел разговор на другое. – След на твоей шее от чего?
Старик коснулся кончиками пальцев страшных ран на шее Хабарова, часть которых была покрыта свежими корочками, а часть гноилась, не заживая никак.
– От ошейника.
Китаец ждал пояснений.
– Когда сбили наш вертолет, нас двое уцелело. Отстреливались. Потом… Потом бросили монету. Орел – последний патрон Толе Кажурину, решка – мне. Выпал орел… Думал, голову отрежут, а они меня в подвал посадили, ошейник из колючей проволоки надели. Наверно, собирались продавать или менять. Неделю сидел. Чем все кончится, ждать не стал. Как бежал, помню плохо. Убил кого-то… Что убил – точно помню! Почему же ты сказал, что я добродетельный?
Китаец молчал. Неторопливыми, плавными движениями он мешал что-то деревянной лопаткой в стоящей на огне пиале. От варева комната наполнилась отвратительным запахом серы и горечи. Готовую кашицу он выложил на сложенную лентой тряпку, аккуратно размазал по полотну, потом тщательно смазал этим же снадобьем раны на шее Хабарова и, приложив к шее тряпку, обмотал вокруг.
– Нет добра. Нет зла. Нет добрых людей. Нет злых. Человек подобен речному потоку, он каждое мгновение меняется. Меняется сам в себе от своих мыслей, меняется от влияния других людей и природы. Даже убийство может быть добрым поступком, если учесть побудительные мотивы, – наконец произнес он. – Любой орган атрофируется, если не использовать его. Склонности тоже ослабевают, если их постоянно подавлять. Человек, подавляющий свой гнев, страсть или желание убить, со временем сделается совершенно неспособным к их проявлению. Эта неспособность достойна сожаления. Человек становится немощен. Человек должен творить добро и удерживаться от зла не потому, что не способен совершать зло. Неспособность совершить зло – это немощь, а не добродетель…
Так они и познакомились.
Хабаров подошел к лежавшему на печи старику, на ощупь нашел руку и прижал к своему лицу.
– Прости меня! Прости, я … – его голос прервался, защипало глаза.
– Поплачь. Болезнь-то со слезами раскаяния уходит…
На Старый Новый год Алина поехала к родителям.
Вообще-то еще в Новый год она обещала отцу и матери, что познакомит их с Хабаровым, тогда же определили день официального знакомства – Старый Новый год.
– Чего одна пожаловала? – недовольно приветствовал ее отец.
– Здравствуй, папа. С праздником! – Алина поцеловала отца в щеку.
– И тебя с праздником. Только праздновать нечего! – проворчал отец и ушел в комнату, где сел в кресло, водрузил на нос массивные в роговой оправе очки и принялся за прерванное чтение.
– Здравствуй, Линочка! – мать крепко обняла ее. – Мой котенок, любимый. Как же я соскучилась!
– И я соскучилась. Отец не в духе?
– Не обращай внимания. Мой руки, сейчас обедать будем.
Из ванной Алина слышала обрывки разговора. Мать совестила отца, просила быть полюбезней, а тот все никак не соглашался, требовал оставить его в покое. Она поплотнее прикрыла дверь, открыла воду и просто стояла в ванной какое-то время, ждала. Когда несколько минут спустя Алина вошла в гостиную, отец сидел на своем месте во главе большого овального стола. Она села от него по правую руку, это место было ее с детства.
– Отец, давай тарелку, первое налью.
Мать сняла крышку с пузатой фарфоровой супницы. Пахнуло ароматным запахом только что приготовленного борща.
– Я борщ не буду! – поспешно сказала Алина, внезапно ощутив стойкое отвращение к этому блюду.
– Ты что, дочка? – изумилась мать. – Я для тебя старалась. Ты же сама просила борщ приготовить.
– Я оливье поклюю.
– Ты не заболела? Похудела, осунулась, под глазами черные круги…
– Все нормально. Давайте обедать.
– Что ты, мать, к нашей принцессе-то с расспросами лезешь? Нам с тобой знать лишнего не положено. Сиди, мать, в тарелку гляди.
– Папа!
– Что папа? Папа… Рая, налей мне стопку. Не могу я на трезвую голову ее кислую мину видеть!
Мать послушно принесла из холодильника запотевший графинчик.
– Алина, может, водочки выпьешь?
– Нет, спасибо. Папа, у тебя же сердце. Тебе же нельзя.
– А чем водка хуже вас-то, оболтусов? Водка хоть душу греет. А вы только плюнуть в нее норовите. Алешка с Томкой обещались, так и не приехали. Забыл родителей. Большим человеком стал. Сопляк! Ты вот хахаля своего привезти обещала. Тоже мимо! Растишь вас, растишь…
Он выпил водку, закусил кусочком селедки.
– Мама! Папа! Мы обязательно приедем к вам вместе. Саша вернется из командировки и приедем. Так сошлись обстоятельства.
– Обстоятельства… – проворчал отец. – Алина, твой отец – старый идиот. Он верит, что дети его любят!
Алина улыбнулась, погладила отца по руке.
– Конечно, любим. Все будет хорошо.
– Ты чего не кушаешь, Алина? Не вкусно? – забеспокоилась мать.
– Все вкусно, мамочка. Просто… Кусок в горло не идет.
– Я перцы, фаршированные, приготовила. Ты говорила, Саша любит.
– Да… Спасибо. Он их действительно очень…
Горло перехватило, хлынули слезы.
– Рассказывай! – отец отложил ложку. – Вопрос первый: что у вас случилось? Если расстались, так прямо и скажи. Мы переживем. Вопрос второй: почему так плохо выглядишь?
Родители ждали ответа. Алина молчала. Не могла заставить себя это произнести.
– Саша болен, – наконец, выговорила она.
– Тогда чего ты тут сидишь? Тебе надо быть рядом, ухаживать за ним, – сказал отец.
– У него рак. Он улетел в Приморье. Умирать…
Отец встал из-за стола и молча стал ходить по комнате туда-сюда. Мать застыла, скорбно прикрыв рот рукой. Так прошло какое-то время.
– Что врачи говорят? – нарушил общее молчание отец. – Как-то это лечится? У нас сосед из девяносто шестой квартиры уже лет двадцать пять с раком живет.
– Алеша созвал целый консилиум… Они говорят, лечить поздно. А я… Понимаете, я убеждена, что он поправится! Мама, я бы знала! Папа, я бы чувствовала! Мне никто не верит. Все сумасшедшей считают. Алеша говорит, что это защитная реакция психики такая. Но я же знаю, что всё будет хорошо!
– Да… Дела… – невесело заключил отец.
– Понятно, почему ты такая худенькая стала, – едва скрывая в голосе слезы, произнесла мать. – Испереживалась вся…
Тасманов недовольно глянул на супругу.
– Цыц ты! Слез твоих нам не хватало!
– А я думаю, к лучшему это! – выдохнула мать.
– Что к лучшему?
– Что сейчас. Кто он тебе? Никто. Не супруг. А женились бы…
– Ты совсем, старуха, одурела! – выпалил Тасманов.
Он склонился к жене через стол и, глядя на нее с укором, постучал себе в лоб кулаком.
– Думай, мать! Думай хоть иногда, что говоришь!
– Думаю! Не нужны нашей девочке такие волнения. Линочка, другого себе найдешь! Ты у нас видная, красавица… Забудь! Вычеркни из памяти! Улетел? Прекрасно! Тебе хлопот меньше!
– Ну, дура! Дура, провалиться мне! – вспылил отец. – Не понимаешь ничего, так лучше молчи!
– А ты мне, старый, рот не затыкай! Раскомандовался! Даже если он поправится, все равно дефективный! Их облучают. Химиотерапию делают. После этого за ним надо ходить, как за дитём. Куда нашей Линочке такая обуза? А еще, не дай бог, ребенок от него будет! Нет, хорошо, что все случилось сейчас! Забудь, дочка. Не твое это. Бог тебя останавливает. Брось и забудь! Давай рюмочку налью.
– Сколько живем вместе, а ведь не знал, с кем живу! – подбоченясь, вскипел Тасманов-старший.
– А этот Хабаров хорош гусь, нечего сказать! – всплеснула руками мать. – Линке голову морочил. Нет, чтобы честно про болезнь признаться. Все тянул, гаденыш! Сиделку искал. Гони его в шею от себя! Гони, Линочка!
Отец обнял Алину, поцеловал в щеку.
– Не слушай мать. Я ей сейчас ликбез устрою. Буду про жизнь объяснять.
– Это тебе, старому, надо объяснять, что ни один мужик не стоит даже единственной слезиночки нашей дочери!
– Этот стоит, – очень тихо произнесла Алина.
– Что? – переспросила мать.
– Я ждала поддержки, мама. Мне так она была нужна! Я надеялась, что здесь, в этом доме… – Алина встала из-за стола. – Спасибо за обед. Мне пора!
Уже на пороге отец остановил ее.
– Ты говорила, у Александра есть дочь. Надо бы адрес поискать…
…Он обещал отвезти Мари Анже в аэропорт. Он едва не опоздал.
Когда Хабаров подъехал к гостинице, француженка стояла на тротуаре с кучей дорожных сумок и нервно поглядывала на часы.
– Саша! – радостно воскликнула она, сделав, как обычно, ударение на последнем слоге. – Я определенно полагала, что ты не приедешь. Мое настроение уже стало плохим.
– Я здесь!
– Саша, нам нужно ехать. Но прежде дай мне на память о себе что-нибудь. Мне это нужно. Мне важно…
Он поцеловал ее, долго, страстно.
– Нет! – высвободилась Мари. – Дай мне вещь, чтобы я держала ее в руках и помнила тебя.
– Нет у меня с собой ничего. Сейчас заедем в сувенирную лавку, купим тебе матрешку.
– Не хочу матрешку. Дай мне брелок от ключей, зажигалку, любую мелочь. Твою!
– Что за чушь?
– Обещай мне, что приедешь ко мне. Я устрою тебя в лучшем виде. Ты ни в чем не будешь знать отказа. Я найду тебе превосходную работу, дом. Обещай!
Хабаров отстранился.
– Мы уже говорили на эту тему. Твои московские каникулы закончились.
Она обняла, поцеловала в уголок губ, потом вдруг рванула пуговицу на его рубашке и, победно улыбаясь, зажала трофей в кулачок.
– Я пришью ее в спальне к ковру! Буду засыпать и вспоминать тебя!
– Ковер с лебедями?
Мари удивленно вскинула брови.
– Нет. Я привезла его из Конго.
– Тогда пришей.
– Почему ты про лебедей спросил?
– Так… Многие их уважают, а я не люблю. Верности не существует…
Хабаров грустно усмехнулся, припомнив этот внезапно всплывший в памяти, казалось, совсем забытый эпизод.
«Про верность сужу по себе… Всю жизнь осуждал своих женщин, считал себя жертвой, несправедливо обиженным. Козырял: я предательство не прощаю! Слабый никогда не прощает. Прав Митрич! Если я осуждаю и презираю, любовь умирает. Если любовь умирает, что остается? Нервы. Страдания. Пустота. Одиночество. Мне всегда было так одиноко… Душа болит. Душу-то не обманешь…»
Он вздохнул, прислушался. Метель завывала с прежней силой. Сколько она будет продолжаться, одному Богу известно. Погода вторила его настроению.
«Жаль, в душу нельзя запустить этот буран, чтобы вымел, вычистил всё до зеркального блеска…»
– …Футбол, значит, смотрим. Прелестно! – жена рванула шнур из розетки и вызывающе встала перед телевизором.
– Уйди, мешаешь мне! – пьяно растягивая слова, выговорил Хабаров.
– Мне надоели твои загулы! Я устала! Ты слышишь? Я не могу больше!
Она швырнула детские сапожки на стол перед ним, повалив почти полную бутылку вина. Бутылка покатилась по столу, оставляя за собой темно-вишневый след. Он попытался ухватить ее, но неуклюже зацепил рукавом стоявший на подлокотнике кресла бокал. Ловить и то и другое – как за двумя зайцами. Звон бьющегося стекла был омерзителен.
– Ё-мое! Ты чего творишь, Лиза?!
Он вспыхнул, как спичка, вскочил.
– А ты ударь меня! – жена с вызовом подставила лицо.
– Тебя куда понесло?! Эй! Девочка! – он щелкнул пальцами перед ее носом.
– Была девочка да быстро старухой стала! От жизни с тобой! Ты забыл, что у тебя есть дочь. Ты приходишь, она уже спит. Ты просыпаешься, она уже в садике. А в воскресенье папа снимает стресс!
Он безразлично махнул рукой, рухнул в кресло и уставился на жену.
– Тебе чего не хватает? Что ты орешь?! Я мало зарабатываю?!
– Мне денег твоих не надо!
– Ух ты! Ух ты! Как мне интересно! – он растерянно улыбнулся. – Сережки, что у тебя в ушах, стоят столько, сколько нормальный мужик получает за пятилетку. Перстенек, что на твоем пальчике, звезда с неба, сколько стоит? А столько стоит, дорогая, сколько наш подъезд за год не зарабатывает! А шмотки на тебе? А твои загранпоездки? А учеба твоих сестер? А подарки твоим родственникам? А машина твоя? Ты же на такси уже не хочешь! А няня с домработницей? Все это тебе не надо. А что надо?!
– Я морду твою, пьяную, больше видеть не хочу. Я жить хочу! Ты вспомни, Саша, когда в последний раз ты спал со мной? Вспомни, когда говорил мне, что любишь?
Он протестующе вскинул руку.
– Ой! Расплáчусь! Я пьяный, Лиза, а не тупой. Я же вижу, ты ищешь повод.
Из бара он достал еще бутылку вина, демонстративно откупорил ее и выпил почти половину прямо из горлышка.
– А ты повод не ищи, – рукавом он отер губы. – Просто подойди и скажи: «Ты мне надоел». А лучше ничего не говори. Просто подойди и посмотри мне в глаза. Я пойму.
Она всхлипнула.
Хмельной походкой, держа бутылку за горлышко в опущенной руке, он пошел к ней.
– Ты что?! – она испуганно отшатнулась.
– Ты думаешь, я не знаю, что было в Лионе? Ты ткала полотно любви…
– Следил?
Он усмехнулся.
– Нет, что ты…
Осторожно, пальцами, он вытер ей слезинки, коснулся своим лбом ее лба.
– Я всегда чувствовал тебя, Лиза. Тебя не было рядом, но я всегда знал, что с тобой. После твоего возвращения из Лиона я чувствовать тебя перестал. Тебя больше нет со мной. Это больно. Это так больно, что душа в клочья!
Он отвернулся, отхлебнул еще из бутылки, в кармане куртки нащупал ключи от машины, достал.
– Я только машину возьму. Больше мне ничего не надо.
Он пошел к двери.
– Саша! – выкрикнула она сквозь слезы.
Он обернулся.
– Видишь, как все просто. Даже неинтересно…
Их пытались помирить друзья. Виктор Чаев и Володя Орлов проявляли чудеса изобретательности.
– Лизонька, вы самые тяжелые времена пережили вместе. У вас столько общего. У вас ребенок! – говорил Виктор Чаев. – С Саней же невозможно работать стало. Он на людей кидается! Помиритесь. Прояви первой разумную инициативу.
– Я что угодно проявлю, Витенька. Он не простит мне. Единственное, что он не может простить, это предательство.
Два года спустя они встретились в аэропорту.
– Зачем ты приехал?
– Хочу удостовериться, что ты улетела.
– Тебя, Хабаров, время не меняет.
Он опустился на корточки перед дочкой.
– Анька, я люблю тебя, малыш.
Она обвила его шею ручонками.
– Аня, нам нужно идти, – пряча слезы, заторопила она. – Давай руку. Самолет без нас улетит.
– Погоди минуту! – он просительно посмотрел на бывшую жену. – Анютка, ты будешь жить с мамой в большом доме с красивым садом. У тебя будет много слуг и игрушек. У тебя будет замечательная школа, много друзей. Когда захочешь, будешь приезжать ко мне в гости, а я к тебе. Поняла? Так что все будет замечательно! Помни, малыш, если я буду нужен тебе, ты мне дай знать, и я прилечу. Как Карлсон. Ладно?
Дочка кивнула.
– Я всегда буду любить тебя, папочка!
– Аня, пойдем! – настойчиво потребовала Лиза.
– Ну, беги-беги… – он поцеловал ее в макушку.
Он неотрывно смотрел им вслед, стараясь впитать, запомнить навсегда каждый их шаг, каждый жест, каждую секунду. Он чувствовал, что с ними уходила лучшая частичка его самого.
«Мы имеем так много, а ценим всё это до обидного мало! В результате теряем всё. Самое печальное в том, что и не замечаем, что потеряли…» – возвращаясь в памяти к тем событиям, думал Хабаров.
Слезы помимо воли струились по его щекам. Тогда же он не плакал. Было что угодно: обида, злость, наглость, но не любовь, печаль и сожаление.
Эгоистичным волевым усилием он изменил жизнь своей дочери, позволил, чтобы его место, место отца, в ее жизни занял пусть и хороший, но абсолютно чужой ребенку человек. Он украл у дочери половину полагающейся ей любви.
Он не смог простить и понять Лизу. Он изменил ее жизнь, он заставил ее пролить много слез и принять тяжелое, ненавистное решение.
Он долго винил за это судьбу, жену, но не себя. Он долго чувствовал себя жертвой, мучился и обижался. Так было долго, очень долго, до тех пор, пока в его жизнь не вошла Алина.
«Алина…»
Нервная судорога пробежала по его лицу. Хабаров вскинул руку, пальцами сдавил веки, задержал дыхание.
Ветер заплутавшим волком скулил в печной трубе. Поскрипывала, вздрагивала под жесткими порывами ветра избушка. Билась о стены, бесилась пурга. В кромешной темноте ночи от этих звуков было жутковато. Даже сверчок, тянувший за печкой свою заунывную песнь, затаился и замер.
«Н-да-а… – Хабаров усилием подавил тяжелый вздох. – Опять жаль себя. Опять жаль ее. Опять обида. Опять злость. А любить… Любить не умею. Не умею! Господи, научи! Сбился я с пути-дороги. Бреду впотьмах. Мордой на все натыкаюсь. Где ж ты, моя путеводная звездочка? Господи, помоги прозреть…»
– Не спишь чего? – вдруг громко спросил его Митрич.
Он зашевелился на печи, перевернулся на другой бок.
– Не спится…
– Заплутал ты в суете-то, – сказал старик. – Суета глаза застит. Заезженный ты суетой, раздавленный. Сил на небо поднять глаза нету. Звезды-то под ногами, в грязи, не ищут… Чтобы ты окреп, обрел силу поднять глаза на небо, тебе и посланы испытания. Лиан лимонника издает благоухание лишь когда его раздробишь, раздавишь. Так и душа человеческая издает благоухание, наполняется силой, пройдя испытания. А мы не понимаем, а мы горюем, а мы обижаемся, плачем… Причина слез, обид и огорчений в отсутствии знания.
Хабаров горько усмехнулся.
– Я боюсь при тебе думать. Мне кажется, я думаю вслух…
– Думай-думай. Не бойся. Главное только, чтобы мысли твои не были немощными, ибо сказано в Дхаммападе: «Расслабленный странник только больше поднимает пыли». А вообще-то ум пуст. Он просто переводит информацию в слова. Думай душой, вступай в поток[52].
– Я не умею.
– Успокой разум. Не анализируй. Страсти и мысли – это охотник, веди себя с ним, как маньчжурская пантера.
– Пантера?
– На земле охотник видит след пантеры, понимает, что она где-то рядом. Он берет ружье на изготовку, прислушивается, приглядывается. Он притаился. Только все это пустое! Не видит он зверя! Невдомек ему, что зверь прямо перед его носом. Потому что пантера влезает на дерево, выбирает сук прямо против своих следов на земле, а значит против взгляда охотника, растягивается на нем и кладет голову на передние лапы. Так она замирает и исчезает, превратившись в глазах охотника в нарост на суку. Будь пантерой.
– Какая из меня пантера, отец? Я, скорее – кабан-подранок, готовый броситься на любого, кто попробует приблизиться.
– Опять ты о своей исключительности! Бестолковый…
Старик умолк. В наступившей тишине Хабаров слушал биение своего сердца. Он не сразу понял – почему. Прислушался. Оказалось, ветер стих. Он не завывал больше в трубе и не расшатывал старенькую избушку своими неистовыми порывами. Сверчок за печкой ожил и вновь завел свою долгую, заунывную песню. Наступало утро. Оно победило пургу. Победило примерно-показательно, как когда-то Михаил и Ангелы его победили дракона и ангелов его, низвергнув на землю[53].
Хабаров надавил кнопку подсветки циферблата наручных часов. Стрелки показывали семнадцать минут шестого.
– Митрич, метель утихла. Слышишь? – негромко произнес он. – Наступает утро…
– Время начала. Время пытаться разглядеть Видящего твое зрение, время пытаться услышать Слышащего твой слух, время пытаться осмыслить Мыслящего твои мысли, время почувствовать Чувствующего твою душу, как частичку Самого себя.
По кряхтению Митрича Хабаров понял, что дед слезает с печи.
– Погоди, я помогу.
Хабаров заторопился к нему.
Старик сел на лавку возле печи, бережно прижимая к груди котелок.
– Спасибо, спасибо… – тяжело переводя дыхание, поблагодарил он. – Чем дальше, тем печка-то все выше и выше делается, волк меня съешь! – сквозь смех выговорил он. – На-ка, отвару выпей.
Он протянул стоявшему рядом Хабарову котелок.
– Я с вечера поближе к трубе пристроил. За ночь травки всю силу в отвар отдали. Пей. На здоровье… – тяжело выговорил он.
После смены погоды ему нездоровилось.
Отвар был горьким до такой степени, что сводило скулы.
«Твой отвар дождем и полынью пахнет», – впервые попробовав снадобье, сказал Хабаров.
«Нет, горькими слезами он пахнет…» – возразил тогда Митрич.
Старик был прав.
– Спасибо, отец, – Хабаров ладонью отер губы.
От зажженной свечи в избушке стало уютнее.
– Ну, угощать гостинцами-то будешь? Сегодня четверг. День разрешенный. Али обидку затаил на старика?
– Что ты… – Хабаров обнял Митрича за плечи.
Из самодельного кедрового ящика, стоявшего под кроватью, он стал выкладывать на стол привезенные Митричу гостинцы: хлеб, мясные консервы, копченую колбасу, сливочное масло, маринованные помидоры, запечатанную в вакуумную упаковку копченую свиную грудинку, кукурузу, зеленый горошек, маринованные персики, кефир, шоколадные конфеты, апельсины, лимоны и бутылку водки. Старик водку пить не стал, сразу убрал бутылку под стол, однако из еды попробовал все, беря по крохотному кусочку, вкушая с любовью и особым почтением.
Хабаров исподтишка наблюдал за ним. Самому деликатесов цивилизации не хотелось.
– А ты, паря, чего пост держишь? – довольно улыбаясь, спросил его Митрич.
– Мне бы каши твоей, как третьего дня.
Старик крякнул.
– Неужто моя каша вкусней твоих изысков будет?
– Вкусней.
Помолчали. Каждый думал о своем.
– Каши-то сварим, – наконец произнес дед. – Вон ее, проросшей пшеницы-то, под лавкой в горшке, хоть торговать иди. Кладешь в чугунок, водой заливаешь да в печь. Вот и каша тебе готова. Потом маслицем кедровым сдобришь. Только в чугунок пшеницы с пол-литра сыпь. Она разбухнет. А то, по незнанию, целый чугунок-то наворотишь…
Хабаров настороженно посмотрел на деда.
– Ты зачем меня учишь варить кашу?
– Вертолет завтра утром прилетит. Так что обедать и ужинать тебе здесь.
– Вертолет? Ты ждешь кого-то?
– За тобой вертолет. Назад полетишь.
Старик внимательно посмотрел на него, взгляд был добрым, лучистым.
– Помру я сегодня, Саня. Пора мне. Закончил я здесь свои дела. Пора к Истоку.
– Как… – Хабаров поперхнулся хлебом, закашлялся.
Старик потянулся к нему через стол, кулачком постучал по спине.
– Не пугай… Не пугай так меня! – отдышавшись, выговорил Хабаров.
Старик вздохнул, улыбнулся.
– Я же тебе телеграфировал: «Приезжай меня хоронить». Чего ты побелел? Смерти бояться не надо. Чтобы долгая жизнь на этом свете не испортила тебя – бойся.
– Что за ерунда?! Я сейчас же вызову вертолет, полетим в больницу во Владивосток, а лучше в Москву. Полежишь, полечишься… Почему сразу умирать-то?!
– «Изнашиваются даже золоченые царские колесницы», – сказано в Дхаммападе. Все, что долго жило, должно умереть.
– Ты полон сил. Ты в здравом уме. Ты…
– Не причитай! Я не прямо сейчас помру. Это на закате случится.
Но Хабаров сидел, застыв, будто каменный. Как это может быть: сидеть, разговаривать, и не просто, а мудрые вещи втолковывать, быть полным сил, а на закате умереть? Хабаров понять этого не мог. Почему на закате? Почему именно сегодня? Конца своего земного срока не знает никто. Как можно относиться к смерти, как к чему-то обычному, словно проделанному десятки раз? И… как же он останется один, без него?
Горло перехватило. Спазм пошел ниже, к сердцу. Хабаров пристально взглянул на Митрича.
«А ведь старик не лжет…»
Он зажмурился. Он почему-то был уверен, что лицо с закрытыми глазами не выражает ни горя, ни сожаления.
– А она? – старик, прищурясь, смотрел на Хабарова. – Я запамятовал, как звали ту девушку?
– Алина.
– Она звала тебя соломенной собакой.
– Да… – выдохнул Хабаров и закрыл лицо руками.
– Помогает? – участливо осведомился Митрич.
– Что? – не понял Хабаров.
– Ты закрываешь лицо руками. Помогает?
– От чего?
– От глупости! Я расскажу тебе притчу о соломенной собаке. Могучий воин долго скрывал свои чувства к прекрасной девушке. Он всячески избегал ее. Наконец, однажды они встретились на узком горном мосту. Воину было некуда деваться, и он закрыл лицо руками. И – о чудо! – ее прекрасный лик явственно появился между всеми его пальцами. Могучий воин струсил, он испугался любви и в тот же миг превратился в солому. Долго та куча соломы валялась на мосту. Потом люди стали из этой соломы делать кукол собак и во время обрядов топтать ногами. Кто не может впустить в себя любовь, подобен соломенной собаке, годной только для топтания ногами.
Хабаров усмехнулся.
– Ты – соломенная собака! – Митрич маленькой сухонькой рукой потрепал его по колену. – Ты бросил ее. Теперь, чтобы увидеть ее, тебе надо зажмуриться.
– Да, отец, мне легче было уехать. Теперь понимаю, я не о ней думал, а о себе. Был уверен, у меня характер, а вышло…
– Лао-Цзы сказал: «Много времени нужно, чтобы изготовить великой красоты посуду. Великие характеры не создаются за несколько лет». Ты молод. Молодости свойственно ошибаться.
– Ты снисходителен сегодня. Когда-то ты мне втолковывал Конфуция: «В пятнадцать лет человек начинает учиться и изучать, в тридцать лет он уже знает, что может дать ему опору, в сорок его уже ничего не смущает и не сбивает с толку, в пятьдесят он познает свое небесное призвание, в шестьдесят его уши в состоянии слушать все, что бы ему ни говорили, в семьдесят он действует только согласно своему внутреннему убеждению». Так что меня давно уже ничего не должно сбивать с толку, и пора приступить к познанию своего небесного призвания.
– Жить надо, а не приступать к жизни.
– Хорошо сказано. Извини, что спрошу. Сколько тебе лет? Лет восемьдесят пять?
– Сто двадцать четыре.
Хабаров изумленно посмотрел на старика.
– Красиво!
– Быстро…
– Ты, видимо, всегда почитал Бога, раз он послал тебе такую долгую жизнь.
– В «Брихадараньяка-упанишаде» сказано: «Кто почитает некое божество с мыслью: «Оно – иное, иное, чем я», тот не ведает. Его, как животное, используют боги. Ведь поистине, как многие животные поддерживают существование человека, так и каждый человек поддерживает бытие богов». Мы можем рассуждать много часов кряду, а придем к одному: единственное, к чему надо стремиться – это любовь.
– Это твоя религия?
– Я всю жизнь к Богу стремился, а не к религии. Пойду, дверь входную откопаю. Пургой-то, верно, до крыши замело. Еще бы дорожки почистить… Не сидеть, дела делать надо!
Она узнала ее сразу и поднялась навстречу.
– Аня? Здравствуйте! Это я вам звонила.
Девушка безразлично пожала плечами, села за маленький круглый столик.
Она, действительно, была очень на него похожа. Те же глаза, лоб, тот же овал лица, та же горделивая осанка и уверенная повадка.
Алина дождалась, пока смолкнет голос диспетчера, объявлявшего по-французски, а потом по-английски очередной вылет, сказала:
– Спасибо, что приехали. Я боялась, вы не успеете. У меня самолет через час. В более удобном для вас месте встретиться не получилось.
Девушка молча кивнула.
– Аня, я – приятельница вашего отца. Мне тяжело это вам говорить, но, полагаю, вы должны знать. Ваш отец болен. Тяжело болен.
Девушка удивленно вскинула брови.
– Вы уверены? – с сильным акцентом произнесла она.
– К сожалению, да.
– Вообще-то, он не очень похож на больного. Дважды в неделю играет в теннис. Каждое утро плавает в бассейне. А мама знает?
Алина ладонями сжала виски. Осознавать, что Аня считает другого, не Хабарова, своим отцом было и неприятно, и больно.
– Аня, я говорю о вашем настоящем, русском отце – Хабарове Александре Ивановиче. Вы помните его?
Аня равнодушно смотрела на нее.
– Вы помните? – повторила Алина.
– Меня воспитал Пьер. Он мой отец. А мой русский отец бросил меня! Он ни разу не приехал ко мне, даже не поинтересовался, жива ли я. Что ему нужно?! Денег на лечение? Я дам. Я работаю, у меня свой счет.
– Он ничего не просил. Он даже не знает, что я здесь.
– Тогда в чем проблема?
– Понимаете, мы с вами должны поддержать его. Если он почувствует, что он нужен, ему будет легче бороться с болезнью.
Аня встала, взяла сумку.
– Вы вешаете на меня чужие проблемы. Мило!
– Аня, вы уже взрослая, – Алина удержала ее за руку. – Обижаться проще. Любить сложнее. У вашей мамы и у вас была новая семья, новая жизнь. Ваша мама настояла, чтобы вы с отцом не встречались. Есть даже решение французского суда, запрещавшее вам с отцом видеться. Вы не знали об этом? – уточнила Алина, заметив, как от удивления расширились глаза девушки. – Он виноват только в том, что ваша мама променяла его на француза и не проявила достаточно мудрости в отношении его и вас. Он любил и любит вас! Я буду ждать вас в Москве. Вот адрес, телефон, – она сунула бумажку с адресом в руку Ане. – Приезжайте!
Аня вертела листок в руках.
– Чем он болен? – наконец спросила она.
– Онкология.
– Вы сказали, что вы его при-я-тель-ни-ца, – старательно, по слогам выговорила мадмуазель. – Как это? Я не переведу это слово. Мама давно не говорит со мной по-русски, а моя русская бабушка умерла два года назад. Я стала забывать язык.
– Друг.
– То есть он вам чужой?
– Он очень близкий мне человек.
– Не понимаю.
– Я люблю его.
Аня убрала листок с адресом в сумочку.
– Я подумаю над тем, что вы мне рассказали. Еще я должна расспросить мать. Я приму решение. Я сообщу вам.
Девушка вышла из кафе и по крутой винтовой лестнице бойко побежала вниз, в зал ожидания аэровокзала. Вдруг она остановилась, оглянулась в сторону наблюдавшей за нею Алины.
– У вас его фото с собой есть? – крикнула она.
Алина кивнула.
Девушка вернулась, протянула руку.
– Дайте! – требовательно скала она.
Алина протянула фотографию. Аня долго всматривалась в лицо на снимке.
– Это точно он? Я совсем не помню его.
Она достала мобильный телефон и сделала несколько снимков с фото. Потом она вернула фотографию Алине и, более ничего не говоря, направилась к выходу.
Алина осмотрелась, словно желая собрать с собою на память хоть какие-то впечатления. Вокруг были люди. Люди улыбались. Люди смеялись. Они были жизнерадостными, энергичными, живыми. Кто-то улыбнулся ей. Она сделала усилие, улыбнулась в ответ. Как же это трудно, неимоверно трудно просто улыбаться…
Часа в три пополудни Митрич засобирался.
Он достал с чердака короткие охотничьи лыжи, тщательно осмотрел их и выставил на крыльцо «морозить». С печи он стащил старый рыжий овчинный тулуп, которым застилал печь и на котором спал, проверил наличие всех пуговиц на тулупе, отряхнул его и повесил на рога у двери. Также с печи он достал узелок, из него выложил на лавку новые меховые сапоги, наподобие унт, и новый китайский халат. Потом Митрич снял с себя медвежью жилетку, с которой не расставался столько, сколько его помнил Хабаров, снял старый халат, коротко обрезанные, на манер ботинок, унты и облачился в обновки.
– Иди-ка сюда, – поманил он Хабарова и надел на него свою старую медвежью жилетку.
Жилетка была тяжелой и, как показалось Хабарову, сильно давила на спину.
– Носи. В жилетке-то не только сила медвежья, – говорил ему Митрич, наблюдая, с каким любопытством Хабаров ощупывает спинку жилетки. – Тут хитрость есть. Вдоль позвоночника и по пояснице вшиты камни звездного неба. Они силу дарят. На них женьшень, корень жизни, растет. Я их спиной-то ошлифовал. Носи, не снимай и поправишься. Как поправишься, спрячь жилетку-то, не отдавай никому! Иначе вся сила к новому хозяину уйдет. Опять тебе худо будет. Усек?
– Спасибо, – Хабаров растроганно обнял старика. – Ты как же?
– Мне уж без надобности. Было бы что ценное, отдал бы тебе. Да не нажил. Ничего, кроме этой жилетки, и нету.
– А мудрость?
– «Знающие не говорят, говорящие не знают», – сказано древними. Когда утверждаешь, что нечто является чем-то, теряешь это всецело… Присядем на дорожку. Пора мне.
– Куда ты собрался?
– В путь.
Старик поднялся, степенно надел овчинный тулуп, застегнул его на все пуговицы, нахлобучил старую, сшитую на китайский манер из байкового одеяла шапку, дошел до порога, остановился, обернулся и отвесил поясной поклон своему старенькому убогому жилищу.
Враз ослабев, он тяжело переступил через порог одной ногой, потом другой и не оборачиваясь пошел на улицу.
Растерянный Хабаров вышел следом.
Мела поземка. Ветер то и дело налетал ледяными порывами, заставляя поеживаться и кутаться. Старик надел лыжи, поудобнее пристроив обутые в унты ноги в кожаных креплениях, надел рукавицы. По расчищенной от снега тропинке он пошел к бане.
Хабаров тупо шел за ним, оступаясь, скользя по примятому горкой посередине тропинки снегу. У бани он зачерпнул пригоршню снега, растер по мертвенно бледному лицу. Тропинка кончилась. Впереди была снежная целина, а метрах в шестидесяти за ней начиналась тайга.
– Давай прощаться.
Старик распахнул объятия.
Хабаров обнял его, прижал к сердцу.
– Ну, полно. Полно… – отстранил его Митрич.
– Не уходи. Пожалуйста, не делай этого! Не уходи!
Руки Хабарова заметно дрожали, а на лице сложной палитрой застыли и боль, и мука, и любовь, и сожаление.
– Что ты задумал, отец?! Хочешь умирать – умирай дома. Я мешаю, значит я уйду. В тайгу-то зачем?
Он рухнул на колени перед стариком, заплакал. Он плакал громко, навзрыд, с бешено заходящимся дыханием.
– Пожалей… Пожалей меня, отец… – он простер руки к старику, словно просил о милостыне, без которой не только дальше жить, но и дышать, и верить, и чувствовать было невозможно. – Не уходи… Прости… Прости меня. Прости… Не уходи!
Нервный спазм перехватил горло. Хабаров замолчал, склонился к самым ногам старика в земном поклоне.
– У меня никого… никого не… осталось… кроме… тебя… Нет… Нет больше корней, которые… которые давали мне силу. Я один. Совсем … Мне страшно. Страшно потерять тебя! Не уходи, слышишь?! Поедем со мной. Я буду ухаживать за тобой. Ты же еще крепкий. Ты еще долго жить будешь. Ты еще внуков будешь растить! А там… Там страшно… Там холодно… Там ты один будешь… Совсем беспомощный… Я не хочу, чтобы ты был один! Мне жалко тебя, и себя без тебя жалко! У меня сердце от горя рвется! Ну, накричи на меня, прогони, только не уходи!
Старик отстранился.
– Не-е-ет! – почти в истерике выкрикнул Хабаров и уцепился за его одежду.
Старик снял рукавицы, заткнул их за полу тулупа и простер руки над головой Хабарова.
– Все делается так, как должно. Все идет своим чередом. Ты не будешь горевать и плакать обо мне, не будешь меня искать. В твоей душе светло и покойно. Иди в дом.
Старик отступил на шаг и поклонился Хабарову.
Хабаров послушно встал с колен и, более ни слова не говоря, даже не взглянув на Митрича, пошел в избушку. До порога он так ни разу и не обернулся.
Старик пристально смотрел ему вслед, смотрел до тех пор, пока Хабаров не скрылся за дверью избушки. Потом он степенно надел рукавицы, запрокинул голову, посмотрел в небо. В небе было сразу два светила: солнце и полная луна.
– Равновесие… – почти по слогам проговорил он. – Коли одна жизнь прибавляется, другая завсегда убавиться должна…
Он поправил шапку и, осторожно ступая, пошел на коротких широких охотничьих лыжах по целику в тайгу. Снег равнодушно и холодно заметал его следы, заметал до тех пор, пока на белой целине не осталось ни одного изъяна.
Вертолет прилетел в четвертом часу вечера, когда уже начинало смеркаться.
– Чего припозднился-то? Темнеет. Думал, не прилетишь!
Хабаров пожал протянутую пилотом руку.
– На Дан-Тадяхе застрял! – крикнул ему в ответ Данилов.
– Где?
Хабаров сел в правое кресло, надел наушники. Теперь сквозь лязг и рокот старенького геликоптера по внутренней связи можно было разговаривать спокойно.
– У геологов, говорю, застрял. Погоды нет. Метет! Мне надо было им продукты сбросить. Пришлось садиться. Сутки почти куковал! Вишь, с пальмой летим! – Данилов кивнул назад, где в объемистой кадке зеленела, раскинув листья-лапы, роскошная пальма. – Им какой-то придурок из московского начальства в подарок привез. Вот, теперь в детский садик везу. Ты как?
Хабаров кивнул, отогнул большой палец.
Миша Данилов одобрительно кивнул в ответ. Данилову было около сорока. Был он жилист, сухощав, из той породы людей, про которых говорят: «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Его взгляд всегда был внимательным, цепким. Серые глубоко посаженные глаза смотрели с лукавым прищуром, точно Данилов знал о собеседнике или о предмете разговора много больше, чем позволял себе высказать, точно понимал человека лучше, чем тот себя. Было в нем что-то щедро-снисходительное, мол, ладно, пользуйтесь моей добротой, я-то себе цену знаю. Его высокие выступающие скулы каркасом натягивали кожу лица, когда Данилов улыбался. Две глубокие вертикальные носогубные складки выступали неестественно рельефно и придавали даже улыбающемуся лицу несколько свирепое выражение. Ядовито-белый цвет очень коротких волос абсолютно не шел ему. Более того, был даже неприятен. Кстати, цвет волос сразу бросился в глаза Хабарову, и он так и не смог понять, свой это цвет или волосы окрашены. Жесты Данилова, в противовес его внешности, напротив, были мягкими, даже женственными. И то, как Данилов держал ручку управления, и то, как тянулся к тумблерам приборной доски, его жестикуляция при разговоре – все это было неприятно Хабарову из-за навязчивых ассоциаций с «нежной» частью мужского населения. Подытожив, будет верным сказать, что пилот вертолета Ми-2 Михаил Данилов вызывал у Хабарова странное двойственное впечатление: с одной стороны матерого, ученого жизнью и крученого, с другой – человека мягкого, с «голубыми» сердцем и наклонностями.
– Маслом пахнет. Чуешь? – спросил Хабаров. – Что с «кабаном»[54] у тебя?
– Дотянет, не боись. Машина – зверь! – Данилов с улыбкой посмотрел на Хабарова и поднял вверх указательный палец. – Я так думаю!
Вертолет шел на высоте двухсот пятидесяти метров. Под крылом, насколько хватало глаз, волнистым бело-зеленым ковром расстилалась тайга. Время от времени тайга прерывалась небольшими светлыми плешинами старых делянок, еще безлесных, откуда в девяностых предприимчивые китайцы нелегально вывозили заготовленный кедровник. Солнце садилось в тучу, прилипшую к горизонту, и было тусклым, точно кто-то прикрыл его огромным матовым стеклом. Это предвещало пургу.
– Сколько осталось?
– Почти двести. При крейсерской скорости в сто девяносто четыре километра в час – час полета.
– Долететь-то успеем? – Хабаров ткнул пальцем в горизонт.
– А черт его знает! – честно признался Данилов. – Я в таких случаях не загадываю. Я в таких случаях двести пятьдесят на грудь и «под винтом вертолета о чем-то поет бескрайнее море тайги»… Будешь? – скромным женским движением Данилов достал из-под левой руки бутылку водки.
Хабаров погрозил ему кулаком. От этой бесшабашности ему стало не по себе.
Ощущение непонятной тревоги плотно сидело в нем с самого взлета, постепенно все усиливаясь и усиливаясь. Оно не поддавалось анализу, но Хабаров точно знал – неспроста. Он гнал это от себя, но в последние минут пять полета никак не мог избавиться от ощущения, что вертолет постепенно теряет высоту.
– На высотомер посмотри, орел с куриной задницей! Снижение чувствуешь? У тебя ЛЭП впереди!
– Страшненько?! Врет высотомер. На двадцатку врет!
Данилов добродушно рассмеялся, взял ручку на себя, и вертолет резво полез вверх. Обоих положительной перегрузкой тут же вдавило в спинки кресел.
– Хочешь, я тебе «потолок» покажу? – испытующе глядя на Хабарова, спросил Данилов. – Ой, уписаешься! Спорим на ящик водки?
– Пятнадцать минут жалко.
– Почему пятнадцать?
– Потому что практический потолок у тебя четыре тысячи, стандартная скороподъемность на твоем Ми-2 270 метров в минуту. На высотомере двести пятьдесят. Откинь на износ, на погоду. Вот и считай. Боюсь тебя огорчить, Миша, но спорить ты можешь только теоретически. С двигателями у тебя беда – не тянут. ГТД-350 стоят, я правильно помню?
– Чего-то мне спорить с тобой расхотелось! – присвистнул Данилов. – Откуда познания? – Данилов с нескрываемым интересом посмотрел на Хабарова. – Бывший военный?
– Бывший.
– Воевал?
– В Афгане.
– Вот я попал бы с пари своим сопливым! – Данилов смутился. – Извини. Так вдруг повыпендриваться перед москалем захотелось. Терпеть не могу москалей! Чего не служилось-то?
– Оборонная доктрина. Сократили.
– Хреново!
– Нормально! Сначала, правда, думаешь, все – жизнь кончилась. В башке занозой сидело: летать, летать, летать… Мозги на место встанут – нормально.
– Сань, ты мне скажи, только без позерства, по совести, вам в армию запчасти списанные поставляли? Моя ласточка вся из металлолома, списанного, собрана. Сам летаю, сам латаю! Запчасти первой категории только во сне и видел.
– Та же песня, – махнул рукой Хабаров.
– Понятно. А я думаю иногда, что птичка моя никому, кроме меня, не нужна. Сколько клянчил, писал, просил движки и главный редуктор на стационаре поглядеть, у волка одна песня: средств нету, заменить тебя некем. Летай! У меня наработка 18000 лётных часов! Куда тут «летай»? А ты мне кулак про бутылку показываешь! Обижаешь!
– Прости…
– Раньше, в распрекрасные времена застоя, таких птичек, как моя, в парке около тысячи было, – с горечью в голосе продолжал Данилов. – После перестройки, как у нас говорят, «переляпки», осталось 542, из них летающих не больше ста пятидесяти. Моя – одна из них. Парк Ми-2 разваливается. Саня, мы теряем серьезную машину! Трудягу! Мы теряем целую эпоху! Нашу эпоху! А никому и дела нет. Неужели они, там, наверху, не понимают?! Я поражаюсь! Я тут, прошлой зимой, не поленился, сел, почитал проект Федеральной программы «Развитие гражданской авиационной техники России в 2002–2010 годах и на период до 2015 года». Ты не поверишь, вертолетная тематика представлена всего двумя машинами: Ми-38 и Ка-62. Я был в шоке! Как же Ми-26, Ми-8, Ка-32, Ка-226, «Ансат», «Актай», Ми-34 и мой Ми-2?! Для них что, «ассигнований и поддержки государства не предусматривается»?! Наверно, ждут, когда мы вконец доломаем старье, сами угробимся и людей угробим, к чертовой матери!
– Может, разработают чего новое или закупят… – чтобы хоть как-то поддержать разговор, заметил Хабаров.
– Да не заменят наши «двушки» ни «Робинсоны», ни «Беллы», ни «Экюреи», ни даже «Дельфины». Сам подумай, как можно заменить нашу жизнь, наш образ мысли? – Данилов горько вздохнул. – Никак!
«А ведь вот так каждый день. С бутылкой за пазухой… – думал Хабаров. – На старье, не загадывая, вернешься домой или нет… Геологам без него кранты, народу из отдаленных поселений тоже, о рыбаках на дрейфующих льдинах и таежниках говорить нечего. Тяжелые больные все тоже на нем, санавиации нет. Конечно, в небе еще никто не остался. Сесть-то всегда сядешь, с любым ресурсом. Вопрос, с каким результатом… И главное… Главное: он же прав! Во всем прав!»
Хабарову стало вдруг неудобно за свои предубеждения. Он улыбнулся, тепло посмотрел на Данилова.
– Ничего, Мишаня! Прорвемся! Не из таких ситуёвин выползали! Давай отметим с тобой посадку. Во Владике я знаю один очень недурной ресторанчик!
– Заметано! Только не забудь, если я упьюсь, вези меня ко мне домой. Я посылку для тебя приготовил: рыбка красная, трехлитровая банка черной икорки по высшему классу, кальмары сушеные, под пивко. Закачаешься!
– Спасибо, Миша. Спасибо! Не ожидал!
– Да ты, морда москальская, не представляешь, какие у нас тут водятся рыбы! Какие мы консервы для всей матушки-Россеи делаем!
Хабаров от души рассмеялся. О своем «рыбацком» прошлом он промолчал.
В расчетной точке Данилов начал разворот на сорок градусов, обходя зону, закрытую для полетов. Машина не выполнила и трети намеченного разворота, когда ее затрясло резко и жестко.
– Твою мать! – крикнул Данилов.
В то же мгновение по ушам резанула тишина. Стрелка тахометра прилипла к нулю. Двигатели сдохли. Тряска тут же прекратилась. Повторный их запуск результатов не дал. Оба почувствовали, как сиденья под ними стали проваливаться вниз. Машина начинала падать, кренясь на левый бок.
– На авторотацию[55]! Миша, чего ждешь?! – крикнул Хабаров.
В то же мгновение, чтобы не дать несущему винту потерять скорость, Данилов поставил шаг винта на минимально возможный. Из-за уменьшения шага винта вертолет начал быстро снижаться, обеспечивая сильный поток воздуха, набегающий снизу на несущий винт. Больше в такой ситуации человек не мог сделать ничего, мог только секунд пять или шесть пассивно ждать, когда сработают законы аэродинамики и встречный поток воздуха создаст авторотацию, то есть сам будет вращать несущий винт в том же направлении. Если это произойдет, то возникнет подъемная сила, достаточная для относительно безопасного приземления, и всю оставшуюся жизнь этот день они будут праздновать как второй день рождения.
– Я – семьдесят второй! Повторяю, я – семьдесят второй! Всем, кто меня слышит! Квадрат четырнадцать – восемьдесят! Четырнадцать – восемьдесят! Аварийная ситуация! Отказ двигателей!
Неравномерный, надрывный свист воздуха, сопротивляющегося обессилившим лопастям, был невыносимым до тошноты. Данилов обернулся к Хабарову, крикнул:
– Б…! Лезь назад! Назад, я сказал! – и, опять в эфир: – «База», я – семьдесят второй! Я – семьдесят второй! Вашу мать! Е…ные в рот! Кто-нибудь меня слышит?! Квадрат четырнадцать восемьдесят! Отказал двигатель! Сажусь на тайгу! Сажусь на тайгу! Подставляйте жопы, б…ди! Со мной пассажир из Москвы – командир взвода спасателей сто восемьдесят седьмого спасательного центра МЧС Александр Хабаров. Как поняли? Прием! – он глянул на Хабарова, тот по-прежнему сидел справа. – Придурок, назад лезь! Убирайся, если жить хочешь!
Самолет боится потери скорости, вертолет – потери оборотов винта. Если у самолета в воздухе остановится двигатель, у него есть крылья, создающие подъемную силу, он может спланировать. У вертолета крыльев нет. Если перестанут вращаться лопасти несущего винта, подъемная сила пропала. Считай, дюралевая болванка в воздухе. Остается одна надежда на авторотацию.
– «Семьдесят второй», я – «база». Слышу тебя! Квадрат четырнадцать – восемьдесят. Аварийно, – откликнулась земля. – Удачи тебе!
– Пошел ты на х…! Сука! – выругался Данилов. – Э-эх! Жаль, до залива не дотянем! Тайга здесь, между двух черных сопок, больно гиблая! Держись, москаль! Яйца в кулак зажми!
Пестрая нечеткая земля кренилась слева. Вертолет, словно соскальзывая с крутой горы, стремительно несся вниз, а внизу переваливалась тяжелыми черно-белыми волнами необозримая, как море, тайга. Стрелка высотомера аллюром отсчитывала метр за метром потери высоты.
– Господи, спаси… – прошептал Данилов.
Он все же сумел выровнять машину. За несколько метров до земли Данилов увеличил шаг винта, как при работающем двигателе. Накопивший большую кинетическую энергию за счет массы и скорости вращения винт начал создавать подъемную силу. Взгляд пилота прилип к счетчику оборотов несущего винта.
– Ну же, тварь! – упрямо потребовал Данилов. – Давай, зараза!
Стрелка замерла и медленно поползла обратно.
Несущий винт продолжал вращаться, все ускоряя и ускоряя ход. Подъемная сила постепенно нарастала. Вертикальная скорость стала резко уменьшаться, снижение замедлилось.
Земля не сразу становится страшной. Сперва, в запарке, ее вообще не замечаешь. Ну, есть где-то там, внизу, и есть. Потом она незаметно подкрадывается и, точно тигр, в молниеносном прыжке бросается в глаза.
Близкие деревья темной массой поднырнули под фюзеляж. Они только сверху выглядят ровной площадкой. На самом деле какое-то из них выше, какое-то ниже. Их очертания обманчивы. Вертолет зацепил хвостом за выступающую над общей массой крону и тут же сломал рулевой винт. Еще мгновение, слышится скрежет и треск. Вертолет резко несет в развороте влево и заваливает чуть на бок.
Данилов машинально вскинул левую руку, закрывая лицо от надвигающейся опасности. Лес зверем прыгнул на него, и все мгновенно исчезло, будто машина канула в темную воду.
Яркое солнечное московское утро обещало такой же яркий солнечный день.
Алина смотрела на свое отражение в зеркале и впервые за прошедшие полторы недели улыбалась. Чему она улыбалась, Алина, пожалуй, внятно не смогла бы объяснить. Просто на душе было так легко, словно огромный камень вдруг свалился и открыл живительный родничок, питающий силой душу.
Она с аппетитом поела, предпочтя обычному кофе с тостом яичницу с беконом и большой стакан апельсинового сока. Кофе с некоторых пор вызывал у нее отвращение. Пользуясь тем, что до работы еще вагон времени, напевая что-то легкомысленное, Алина принялась мыть за собою посуду, которую обычно, уходя, бросала в мойку до вечера.
На газовой плите оставалась кастрюля со вчерашним борщом. Сварив утром, Алина намеревалась съесть его на ужин, но маринованные помидорчики с картошкой как-то больше привлекли ее. Борщ остался на плите на ночь. Теперь надо было определяться, прокис борщ или нет. Алина поднесла к носу кастрюлю, понюхала. Внезапно тошнота подкатила к горлу, зажав рот рукой, она бросилась в ванную. Однако, едва Алина склонилась к раковине, все прошло столь же внезапно и бесследно.
Глубоко вдохнув несколько раз, она села на край ванной.
– Если бы был испорчен бекон, болел бы желудок… – прошептала она.
Вдруг ее лицо озарилось предположением. Она трогательно прижала руки к животу, потом, радостная, побежала в спальню, где в тумбочке среди баночек с кремами, гигиеническими салфетками и косметикой отыскала тест на беременность. Процедура заняла не больше трех минут.
Сомнений не было. Она была беременна.
– Сашка, все будет хорошо! Теперь я это точно знаю! Ты только возвращайся скорей… – вслух произнесла она.
Раскинув руки, обнимая весь мир, Алина в танце закружилась по квартире. Ее счастливый смех рассыпался звонкими блестящими колокольчиками. Она даже не сразу расслышала звонок в дверь.
– Кто это к нам в такую рань?
Продолжая счастливо улыбаться, Алина открыла дверь.
– Доброе утро. Хорошо, что застал тебя.
Лавриков был хмур. Оттеснив плечом Алину, не спрашивая разрешения, он вошел в гостиную.
– Привет! Чего на нервяке? – чуть игриво уточнила она.
Алину забавлял и его хмурый вид – как можно быть хмурым в такое утро?! – и его нерешительность, и нервность.
– Алина, сядь, пожалуйста.
Лавриков взял ее за плечи и усадил рядом с собой на кожаный диван.
– Жень, с Антоном что-нибудь?
– С Антоном? Кто это?
– Мальчишка соседский. Он очень хороший. Он Сашку папой называет. Сашка его очень любит. Он его в лагерь детский на зимние каникулы устроил, на базе санатория. У них там и оздоровительные процедуры, и трехразовое питание, и конные прогулки, и лыжи, и снегоходы… – она запнулась. – Ты что? Ты что так смотришь на меня?
– Лин, ты только спокойно. Без нервов. Ладно?
Лавриков взял ее за руку.
– Я спокойна, – она продолжала улыбаться.
Эта ее улыбка так не вязалась с теми новостями, что он принес, столько в ней было искренней радости, что отнять эту радость, стереть эту улыбку с ее лица у Лаврикова не хватало духу. Он держал ее руку в своих огрубевших руках, гладил пальчик за пальчиком и молчал, тупо глядя в пол.
– Женька, расскажи мне, кто тебя обидел? Я ему задам! – Алина опять звонко рассмеялась. – Нет, это надо же с таким лицом встречать такое утро!
– Я только что с дежурства…
– И что, вам пришлось спасать черта из преисподней?
– Я только что с дежурства, – повторил он. – Нам поступило сообщение из нашего центра во Владивостоке. Короче, у вертолета, на котором во Владивосток летел Саня, отказали двигатели. Он пошел на вынужденную посадку. Потом связь с вертолетом прервалась. Судьба экипажа и пассажиров не известна.
Алина высвободила руку, отодвинулась от Лаврикова в угол дивана и недовольно скрестила руки на груди.
– Их ищут? – холодно спросила она.
– Там уже темно. Тайга. Минус сорок три. От Владивостока до Камчатки пурга. Если пурга стихнет, поиски начнут с рассветом. То есть не раньше чем через четырнадцать часов, – Лавриков потер ладонями лицо. – Слушай, у тебя выпить есть?
Алина ушла на кухню.
– Иди сюда, алкоголик! – уже из кухни крикнула она. – У меня есть и выпить, и закусить. Куртку снимай. Руки мой!
Пока Лавриков был в ванной, Алина позвонила в редакцию и отпросилась на весь день.
– Лин, ты только не переживай, постарайся. Еще же ничего не ясно.
– Кому не ясно? Тебе?! – чуть раздраженно сказала она. – Садись за стол. Ешь, пей. И убери, пожалуйста, вот это вот лицо свое, траурное! Смотреть противно! Он жив! С ним все хорошо! Нужно просто подождать! – она рассерженно отвернулась к окну.
Лавриков налил себе рюмку, поднес было ко рту, но передумал, поставил, отодвинул.
– Сколько лететь до Владивостока? – вдруг спросила она.
– Смотря как и чем. Часов девять – шестнадцать. Тут приказ на днях из министерства пришел, Сане за ту историю с бандитами Героя России дают. Ну, наши, по такому случаю, решают послать во Владик самолет МЧС, группу спасателей.
– Так что ж ты молчишь?! – она схватила Лаврикова за одежду, тряхнула. – Вставай! Поехали! Я должна быть там! Мне нужно на этот самолет!
– Да ты хоть самолет, хоть целую эскадрилью пришли! – орал в телефонную трубку Княгинин. – Вы там совсем, в своей Москве, одурели! Звонками замучили! У нас видимость – ноль! Ничего не взлетает и не садится. Все аэропорты Приморья по погоде закрыты! Пурга! Андрей Сергеевич, ты когда-нибудь настоящую пургу видел? Так, чтобы не по телевизору?!
Сомов чуть отодвинул трубку от уха, нервно поерзал в кресле.
– Ты на погоду не спирай! Ты спасатель, а не балалайка! Честное слово! Спасательная операция на контроле у министра. Ты это понимаешь?! Василий Васильевич, не заставляй меня жаловаться на тебя министру!
– Да хоть самому Господу Богу! – в сердцах отвечал Княгинин. – Пурга стихнет, тогда будем что-то предпринимать. Артем нам вертолет дает. Хабаровск своих ребят с вертолетом присылает. Вот так: Хабаровск для вашего Хабарова! Пограничники помогут.
– А ты с земли пока попробуй! У тебя вездеходы есть. С земли попробуй!
– Нет, пи…дец! Чтоб я делал без твоих советов?! Ты достал, Андрей Сергеевич! – отвечал Княгинин. – До-стал! Я тебе битый час объясняю: у меня снежная буря! Пурга! Ночь! Минус сорок три! У меня «ГАЗик» пошел краевое начальство встречать и по дороге от самолета к аэровокзалу заблудился. Часа два плутали. Это же пурга! Локтя вытянутой руки не видно! Ветер с ног сбивает. Сто двадцать метров в секунду! – в сердцах говорил он. – Хоть убейся, а пока пурга не стихнет, никакие поиски невозможны.
– Так министру и доложить?
– Так и доложи. Если он договорится с Господом, погода наладится, начнем искать немедля. Ты на меня, москальская морда, не наседай! Я свою работу не хуже тебя знаю! Хоть и не Москва. Бывай!
Сомов потер вспотевшую лысину. Он расстроенно посмотрел то на прерывисто пищавшую телефонную трубку, то на сидевших за столом совещаний ребят.
– Обиделся. Говорит, пурга у них. Ничего не летает, не ползает. Искать нельзя… Честное слово! – Сомов в сердцах бросил трубку на рычажки и отодвинул телефон. – Аэропорты Приморья закрыты «до погоды». Ветер сто двадцать метров в секунду. Снежные заряды, мать их!
– Как надолго все это? – спросил Олег Скворцов.
– А кто знает? Это не пробка на Новорижском.
– … твою мать! – в сердцах сказал Володя Орлов. – Если не убился, так замерзнет, к …аной тетушке!
– Вова, заткнись, немедля! – пробурчал Скворцов и больно наступил Орлову на ногу, взглядом указывая на сидевшую в дальнем углу кабинета Алину.
Но Орлова понесло.
– Я правильно сказал! В тайге, в снегу, в минус сорок три, да на таком ветрище… А если ранен? Тут ни одна спецподготовка не поможет!
– Н-да-а… Погоде наплевать на людей. Она может издеваться над ними, сколько ей вздумается! – подытожил Сомов. – Что я-то могу?!
Сомов виновато смотрел на подчиненных, будто именно из-за него срывалась спасательная операция.
– Андрей Сергеевич, вы решили, кто полетит? – спросил Лавриков.
– Вот вы точно останетесь дома! – Сомов обвел взглядом притихших Скворцова, Орлова и Лаврикова. – Хватит с вас геройства! Опять полезете черту в пасть, а мне из-за вас валидол глотать! Честное слово! Сима! – крикнул он секретарше. – Погоду мне по Приморью. Быстро! И два чая сделай, мне и Алине Кимовне. С лимоном. Вы, Алина Кимовна, с лимоном будете? – мягко уточнил Сомов.
– Да, спасибо.
– Андрей Сергеевич, у вас на десять совещание. Что делать-то? – возникшая на пороге сомовского кабинета Серафима растерянно хлопала ресницами.
– Хрен бы с этим совещанием! – махнул рукой Сомов. – Погоду давай!
Сомов встал, заходил туда-сюда по кабинету, все поглаживая и поглаживая потевшую лысину.
– А ведь я не пускал! Как я его не пускал в отпуск! Как чувствовал! Честное слово… Нет, выпросил. Достал! Хабаров мертвого достанет! Так кабы в теплые края махнул, понятно бы было. А тут… Что он вообще забыл в этой пурге?
Секретарша принесла чай, аккуратно и, как показалось Сомову, нарочито нерасторопно, исподтишка разглядывая Алину, расставила на журнальном столике чашки, вазу с конфетами и чайник.
– Что-нибудь еще, Андрей Сергеевич?
Сомова раздражала и эта ее нерасторопность, и беспечная довольная улыбка. Он сел в кресло напротив Алины, пододвинул ей чашку.
– Да! Позвони наверх, пусть на пару часов небо станет голубым.
Он достал, наконец, носовой платок и вытер лысину.
– Простите, а зачем разгонять облака? Небо и так голубое.
– Уйди!
– Сим, что с погодой-то? – крикнул ей вдогонку Скворцов.
– Я карты погоды не делаю. Ждем факс из Раменского. Извините, мне нужно идти, делами заниматься.
Мужчины обменялись выразительными взглядами.
– Уволю! Честное слово! – подытожил Сомов. – Только с эпопеей этой, хабаровской, развяжусь и… Уволю!
– Да, совсем забыла, – секретарша вновь возникла на пороге. – Там по телевизору в новостях про ваше Приморье говорят. Первый включите.
Лавриков бросился к телевизору.
– … в настоящее время неизвестна, – говорил ведущий «Новостей». – По предварительным данным вертолет Ми-2, принадлежащий Управлению МЧС России по Приморскому краю, упал в тайгу примерно в ста километрах от поселка Отразово, что на побережье Амурского залива. Вертолет совершал плановый полет по доставке продовольствия и медикаментов геологам в труднодоступный район Приморья. Как нам сообщили в краевом Управлении МЧС, поиски пострадавших затруднены метеоусловиями. В Приморье бушуют сильные метели, и вылет к месту падения вертолета пока невозможен. Приходится признать, что аварии вертолетов Ми-2 происходят с завидным постоянством. Авария Ми-2 сегодня – первая в наступившем году. 16 сентября прошлого, 2002 года, близ Тбилиси потерпел аварию вертолет Ми-2 пограничных сил Грузии. Вертолет упал в озеро Кумиси, погибли два человека. 17 октября 2002 года вертолет Ми-2 упал в местечке Ярково под Ярославлем. 2 июня 2001 года Ми-2 потерпел катастрофу в Хабаровском крае. Две катастрофы Ми-2 произошло в 2000 году: 3 мая у села Сокиричи Киверцовского района Волынской области Украины – погибли два члена экипажа и пилот-наблюдатель, семь человек получили травмы различной степени тяжести, 4 июля разбился Ми-2 в Темрюкском районе на Кубани, пилот погиб. 8 марта 1999 года на острове Вайгач потерпел катастрофу вертолет Ми-2 компании «Мурманские авиалинии», а спустя месяц, 31 мая, потерпел катастрофу вертолет Ми-2 в Хабаровском крае, пять человек погибли. 15 февраля 1998 года на севере Польши произошла авария вертолета Ми-2, в которой пострадали наши соотечественники. 2 сентября 1998 года на Камчатке потерпел катастрофу вертолет Ми-2 авиакомпании «Кречет», погибли два человека. Таким образом, за последние пять лет…
– Евгений, выключите! Выключите эту балаболку! Не уподобляйтесь бабушкам на скамейке! – гневно потребовал Сомов от Лаврикова. – И вообще, что за собрание вы у меня в кабинете устроили? Марш по домам! Быстро, быстро вон из кабинета! – он притопнул. – С красивой женщиной чаю попить спокойно не дают. Честное слово!
…Сырой холодный туман разъедал легкие. Поздняя осень нависала над миром серым промозглым утром. Тяжелые, как намокшая вата, тучи выдавливали из себя редкие капли последнего в этом году дождя. Упадет температура еще на пару градусов, и вместо дождя с неба полетит ледяная крупа. Он помнил, как больно барабанят такие льдинки по щекам, заставляя щуриться, защищая глаза, и кутаться в теплый шерстяной шарф.
Лес уже сбросил листву и стоял серый, невеселый, пустой, кронами мокрых деревьев сходясь над головой.
Дорога шла через лес, прямая, точно пущенная стрела. Это была странная дорога. Ему даже показалась, что дорога была протоптана босыми ногами. Не было сомнения, что по ней часто ходили, но никогда не ездили. Он осторожно ступал по длинной рыжей жухлой траве. Трава была мокрой, с запутавшимися в ее патлах прелыми листьями. Трава была чуть тронута не успевшим сойти инеем и от этого что-то жалобно шептала под его шагами.
Хмурое осеннее утро, сумрачный угрюмый лес, с умершей в нем жизнью, тяготили.
Он обернулся, с тоской посмотрел назад, на свои следы, тянущиеся темной цепочкой по белому. Странно, но параллельно шел еще чей-то след. Этот второй след обрывался рядом – только руку протянуть.
Он осмотрелся. Что-то неясное, тревожное вдруг нахлынуло, стало звать назад.
«Ве-ер-ни-ись…» – чувствовалось едва уловимо.
Он поднял голову, прислушался. Звуки нанизывались на голые мокрые ветки и жалкими флажками телепались на ветру. По одному они уже не звучали.
Он тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Он пошел вперед, все ускоряя и ускоряя шаг.
Пошел дождь. Порывы холодного северного ветра швыряли ледяные брызги ему в лицо. Дождь пожрал иней. Больше не было видно его следов. Исчезли, смытые дождем, и следы кого-то невидимого, шедшего рядом.
Он шел, стараясь не думать, не анализировать.
– Вперед! Прочь из этого гиблого леса!
Дыхание то и дело заходилось.
– Вперед! – гнал и гнал он себя. – Вперед!
Дыхание перешло на хрип. Сердце бешено колотилось. Холодный пот застилал глаза. Упругие злые ветки хлестали его по лицу. Голова гудела, все тело саднило, болело, будто он всю дорогу продирался через терновник.
Наконец остекленевшими, налитыми кровью глазами он поймал луч света, робко пробивающийся впереди, вероятно, там, где дорога выходила на открытое пространство. Там – он знал это точно! – хорошо и покойно. Там нет боли, ни телесной, ни душевной. Там небо не давит черными тучами и нет ядовитого, рвущего легкие, тумана.
Теперь он знал, куда идти.
Чем ближе он подходил к зияющему впереди просвету, тем отчетливее осознавал: лес кончится и все станет другим.
Лес кончился внезапно.
Яркий свет полоснул по привыкшим к сумраку глазам. Он зажмурился, инстинктивно вскинул руку. Но свет нельзя было заслонить, прикрываясь ладонью. Свет был всепроникающим. Он попытался рассмотреть, что впереди, но кроме беспредельного ничего, заполненного светом, льющимся откуда-то сверху, не смог ничего разглядеть.
Он понял, что здесь проходит граница бытия и небытия. В бытие он зачислил этот угрюмый, неприветливый, сырой, холодный, но все-таки настоящий, с чувствами и запахами, понятный, «свой» лес. Небытие заполнял никогда невиданный им ранее и от того пугающий и манящий свет. Он чувствовал, что нужно сделать выбор. Нужно сделать всего один шаг. Один шаг – и не будет больше боли, изнуряющей тело, рвущей душу. Он бы этот шаг уже сделал, но у него было стойкое ощущение того, что тогда он потеряет что-то важное, без чего там ему точно будет не в радость.
Ему нужно было додумать. Ему нужно было допонять. Ему нужно было дочувствовать.
Когда все это соберется воедино, он сможет принять решение. Его нельзя было упрекнуть в неумении или боязни принимать решения…
Но память-предательница бессильно кружила неподалеку.
Он отступил на шаг, посмотрел вверх, в серое низкое небо.
«Я не могу… Не сейчас… – вдруг охрипшим голосом сказал он кому-то, кто ожидал его решения. – Пожалуйста… Пожалуйста…» – с мольбой повторил он.
Он закрыл лицо руками. Он отступил еще на шаг, назад, в сырой осенний лес.
Кто-то ласковой теплой рукой коснулся его плеча. Он вздрогнул, обернулся.
– Лина…
Она накрыла его рот ладошкой, обняла.
Сердце заколотилось где-то в горле. Он, наконец, вспомнил!
Дрожащими, содранными в кровь руками он жадно прижал ее к груди, сделал глубокий вдох. Как же… Как же пленительно пахнут ее волосы! Он блаженно закрыл глаза. Она высвободилась, вскинула голову и ладонями коснулась его лица. Ни тени укора… Ее взгляд был наполнен любовью и нежностью.
– Прости меня, – прошептал он. – Я все выдержу, все преодолею, только… Только бы ты, хоть иногда, смотрела на меня так, как сейчас!
Удар. Еще удар. Еще…
Кто-то жестко, не жалея, бил его по щекам, тряс за одежду. Этот кто-то был настойчив. Чувство меры было ему незнакомо.
Удар. Потом еще. Еще…
– По шее… – процедил сквозь зубы Хабаров и открыл глаза.
На грязном, перепачканном кровью и копотью лице Данилова застыла то ли улыбка, то ли гримаса. Что именно, Хабаров так и не смог разобрать. Лицо прыгало, то уходя, то возникая вновь.
– Ну, морда москальская, слава богу, живой!
Снег под головой Хабарова был обильно пропитан кровью. Данилов оттащил его чуть в сторону, попытался осмотреть, но смерзшиеся окровавленные волосы мешали понять, где именно рана. Данилов снял с него шарф и шарфом перевязал Хабарову голову, похлопал по плечу.
– Ничего, до свадьбы заживет! – тяжело выдохнув, подытожил он.
Придерживая левую руку, Данилов сел рядом.
– Думал – все, не найду тебя. Кричал, звал… А ты с башкой разбитой лежишь, мордой в снег. Нет, братец ты мой, мордой в снег лежать не годится. Обморозишься.
Грязным носовым платком он принялся вытирать Хабарову лицо, растирать побелевшие нос, щеки, уши. Это занятие заставило его вспотеть, дыхание стало судорожным, сиплым. Пригоршню снега Данилов растер себе по лицу, жадно облизал запекшиеся губы. Снег моментально стал грязно-красным, растаял и хаотичными ручейками потек по лицу, собираясь на подбородке в массивные капли, падавшие на темно-синюю меховую лётную куртку. Куртка была разодрана в нескольких местах, а местами обгорела.
Хабаров лежал без движения и тяжело дышал.
– Саня, прятаться надо. Пурга идет! Встать можешь?
Хабаров не ответил. Невидящим взглядом он смотрел в небо.
– Саня! – Данилов сильно тряхнул его. – Вставай!
Хабаров закрыл глаза.
– Б…дь! Да что ж такое-то?! Навязался ты на мою голову! Так, спички… Спички… Надо тебе дать понюхать затушенную спичку. Лучше нашатыря продирает.
Он стал лихорадочно обыскивать свои карманы, потом карманы Хабарова.
Спутниковый телефон, обнаруженный во внутреннем кармане куртки Хабарова, казался вещью неуместной и неестественной в заваленной снегом тайге. Данилов поначалу ошалело смотрел на него, потом набрал номер.
Гудки были недолгими. Почти сразу он услышал знакомый голос.
– Ну, что, ё…ный рабовладелец, ты искать-то нас начал или еще нет? – потом он коротко выслушал ответ и заорал: – Кто? Кто?! Конь в пальто! Данилов моя фамилия! Списал уже, сука?! Вы начали нас искать или ждете, пока околеем? – потом он опять слушал, постепенно все заводясь и заводясь. – Да… Да не доживет он до утра, ваш Хабаров! Морозу да пурге все одно: герой он России или хрен собачий! Тебе, Княгинин, вообще статья светит! А ты кодекс-то, уголовный, открой, почитай, что бывает за допуск к полетам технически неисправного, выработавшего свой летный ресурс авиационного судна! Я молчать не буду! Мне плевать на вашу целесообразность! У тебя, Княгинин, человек на руках помирал хоть раз?! Ты же, кабинетная крыса, только бумажки из ящика в ящик… – потом Данилов опять что-то слушал, кивал, потом ругался матом, потом вновь безразлично кивал. – Да. Да! Я понял. Что я могу? У меня даже аптечки нет! – суетливой рукой он вытер мокрое от пота лицо. – Тут не понять ничего. Башка вся в крови, – он покосился на Хабарова. – Лежит как мертвый. Может, с родственниками его связаться. Может, поддержат его словом хотя бы, пока аккумулятор в телефоне не сел. Василич, подсуетись! – попросил он Княгинина. – Мы же для него ничего больше сделать не можем! Мужик он мировой! Василич, жалко!
Он спрятал телефон во внутренний карман куртки.
– Ну-ка, поднимайся, Саня! Вставай, говорю! – он опять стал трясти Хабарова, пытаясь привести в чувство. – К машине пойдем. Фюзеляж почти цел, в нем укроемся. Пурга идет. Здесь замерзнем.
Хабаров медленно, словно во сне, поднял руку, рука безжизненно упала на грудь.
– Один иди… – выдохнул он.
Данилов усмехнулся с издевкой, тряхнул головой. Отсветы горевших обломков вертолета плясали на его лице и делали его хищным и злым. Он выругался, правой рукой ухватился за воротник хабаровской куртки и, утопая по пояс в снегу, поволок его за собой, в сторону горевших обломков машины.
– Зачем вы от теплых унитазов свои жопы в тайгу волочете? Экзотику вам подавай! Хавай свою экзотику. По самые гланды!
Снег был глубокий, рыхлый, ползти по нему можно было только шагом беременной улитки. Метров через пять-семь Данилов в изнеможении рухнул в снег, сцепив зубы, застонал. Резкая боль пронзила грудину, перехватила дыхание, заныла, до этого оберегаемая, по всей видимости, сломанная левая рука. Данилов закашлялся, сплюнул кровью, пнул ногой Хабарова.
– Саня, не спать! Не спать, твою мать!
Тот застонал, пробормотал:
– Брось меня. Не жилец я…
Данилов снова зашелся в приступе кашля, опять сплюнул кровь.
– Худо мне. Ребра, видать, сломаны. Дышать не могу. Тяжело… Здесь замерзнем. Или… Или я тебя впотьмах, в снегу, потеряю. Черт! Не спать!
Он осмотрелся, но в наступивших сумерках ничего хоть мало-мальски напоминающего укрытие не нашел.
Ветер заметно усилился и недобро гудел в кронах. Его порывы то и дело подхватывали, слизывали свежий снег и закручивали маленькими вихрями.
– Ща, Санек, начнется светопреставление…
Взяв Хабарова правой рукой за воротник, до скрежета сцепив зубы, утопая в глубоком снегу, Данилов пополз дальше. Желваки ходили по его щекам, боль из глаз вышибала слезы. Он полз, грязно матерясь, и очень мало на этом свете осталось людей, вещей и понятий, которых не коснулся бы острый язык Данилова.
– Андрей Сергеевич, Владивосток. Княгинин. Отвечать будете?
Секретарша Серафима с безразличным видом стояла на пороге кабинета.
– Буду! Буду! – Сомов вскочил с кресла, едва не опрокинув на себя чай. – Ой! Извините, Алина Кимовна. Такой я неуклюжий… Но надо… Надо ответить, – на ходу стал извиняться он.
Дверь в кабинет Сомова приоткрылась, и было видно, что собравшиеся в приемной возле двери Лавриков, Орлов, Скворцов, Лисицын и ребята из других смен живо интересуются содержанием разговора.
– Понятно. Понятно. Понятно… – с очень серьезным лицом повторял Сомов. – Ну, слава богу! – он улыбнулся, ладошкой потер лысину. – Как гора с плеч! Честное слово!
Но постепенно улыбка на его лице стала таять. Наконец ее не осталось совсем. Взяв ручку, Сомов что-то быстро записал в настольном перекидном календаре, потом коротко поблагодарил и положил трубку.
Какое-то время он сидел абсолютно неподвижно, уставившись в одну точку, и монотонно барабанил пальцами по столу, потом, сделав усилие, не глядя на Алину, сухо сказал:
– В вертолете было двое: пилот и наш Хабаров. Живы оба. Только… Короче, при посадке их обоих сильно потрепало. Александр Иванович сначала был без сознания, потом несколько раз приходил в себя. Пилот сказал, что… Короче, может до утра не дожить. Голова разбита… Такое дело… Опять же, мороз, пурга, мать их, перемать! – он все же собрался с духом и поднял глаза на Алину. – Ему можно позвонить. По спутниковому. Пока аккумулятор не сел… – Сомов вздохнул, понизил голос почти до шепота. – Поддержать хоть как-то. У них там даже аптечки нет…
Алина встала, подошла к Сомову, протянула руку.
– Набирайте! – потребовала она. – Что вы уставились на меня, Андрей Сергеевич? У них там даже аптечки нет!
Данилов совсем выбился из сил. Он судорожно хватал ртом воздух, то и дело заходясь в страшном приступе кашля. Вдруг в ушах зазвенело, перед глазами поплыли разноцветные круги, сердце задрожало, как заячий хвост.
– Не могу больше…
Он лег в снег, сомкнул заиндевевшие ресницы, затих. Сон на мягких лапах уже крался к нему по сугробу. Он все же уснул. Ему приснилось, что он что есть мочи орет сам на себя: «Данилов, встать! Встать, говнюк! Разъе…ный п…р!» От этого крика он очнулся.
Хабаров лежал в сугробе. Он развязал обмотанный вокруг головы шарф и теперь ощупывал голову.
– Очухался, москальская морда! Слава Всевышнему!
Данилов погладил нывшую левую руку, на его лице застыло страдальческое выражение.
– Голова раскалывается. Саня, напомни мне, мы пили или летали?
– Уж, лучше б мы, Мишаня, пили, чем так летать!
Данилов кивнул, довольно подытожил:
– Сознание не спутано. Поведение адекватно ситуации.
Хабаров попробовал сесть, но не удержал равновесие и рухнул в снег.
– Ну, кто ж так с разбитой башкой прыгает?! – заорал Данилов. – Потихоньку, потихоньку надо!
Хабаров зажмурился. Дыхание перехватило, что-то тяжелое, словно медведь, навалилось на спину, в висках острыми молоточками замолотил пульс. Голову рвало на части, так что хотелось одного – орать во все горло от боли или, на худой конец, опять потерять сознание, а там незаметно уснуть. Остальное доделает мороз.
«Какая разница, раньше, позже…» – устало подумал Хабаров.
Дрожащей от перенесенной нагрузки правой рукой Данилов не сразу нашел звонивший телефон.
– Северный полюс на проводе! Пока живой. Данилов слушает! – с вызовом выкрикнул он в трубку. – Минутку… – он сбавил обороты. – Я сейчас передам ему трубку.
Он прижал телефон к уху лежавшего в снегу Хабарова.
Сквозь континент, сквозь метели, сквозь непроходимые таежные чащи, через спутник, среди звезд, летел ее голос. Голос проникал в самое сердце. Он был чистый, точно хрустальный. Голос был частью ее, милой, любимой, родной, единственной.
– Саша, ты слышишь меня? Здравствуй…
Хабаров знал, нужно собраться с силами, подобрать слова, чтобы попрощаться, потому что до утра он не дотянет. Он благодарил Бога за возможность сказать ей последнее прости. Слезы навернулись на глаза от расслабляющей жалости к себе и к ней. Он вдохнул раз, потом еще…
– Рад тебя слышать. Здравствуй, солнышко.
– А мне бы никогда не слышать тебя и забыть навсегда о твоем существовании! Я столько нервов не тратила за всю свою жизнь, как за полмесяца с тобой. Я с тобою так постарела! Я ушла от тебя, Хабаров. Я звоню это тебе сказать, – в голосе зазвучал металл. – Я от тебя устала. Мне жаль тебя, по-бабьи. Правда, жаль. До слез. Но жалость – не любовь. Есть человек, который действительно любит меня. Я говорю о Женьке Лаврикове. Женя всегда рядом. Он хочет, чтобы мне было хорошо. Если бы не его поддержка… Ты слышишь меня, Хабаров? Алло? Ты слышишь меня?!
Он кивнул, потом произнес:
– Слышу.
– Мне не нравится этот тон! Изволь быть любезным. Свой характер следующей дуре будешь показывать! – с некоторой горячностью продолжала она. – Я ухожу от тебя! К другу твоему ухожу! А ты… Ты даже не пытаешься меня удержать?! Скотина!
Только теперь до него начал доходить смысл этого неожиданного, несуразного разговора.
– Лина, поганая шутка.
– Я отдираю тебя вместе с кожей! Мне больно! Я звоню тебе, чтобы пошутить! – она нервно рассмеялась. – Ты свинья, Хабаров! Эгоистичная свинья! Да, извини за меркантильность, чуть не забыла, с тебя три тысячи на аборт! Для меня это принципиально. Я хочу, чтобы ты понял: пути назад нет, в наших отношениях стоит жирная точка! Мне не нужен ребенок от тебя. Вырастет такой же двуличной сволочью. А я… Я буду счастливой! Вот увидишь! Ты задохнешься от зависти! Тогда… Тогда ты поймешь, как много ты потерял!
В его волосы набился снег, теперь они казались абсолютно седыми.
Сосредоточенно глядя в одну точку, Хабаров слушал монотонные короткие гудки. Во всей вселенной не осталось ничего, кроме этих монотонных коротких телефонных гудков, которые разносил по миру ветер.
«Она бросила меня. Бросила, когда больше всего на свете была нужна! Предала. Она предала меня! Предала! Предала-а-а!»
– На! Тварь! Позвони! Позвони еще! На! – орал Хабаров в истерике и что было сил молотил телефоном о пень.
Он успокоился только тогда, когда телефон рассыпался на мелкие детали, смешавшиеся со снегом.
Тяжело дыша, он лежал в сугробе, и начинавшаяся метель постепенно заметала его.
Жадная жизнь. Она дала ему все, что он хотел, потом разом отняла. Жадная…
«Мне бы никогда не слышать тебя… Не слышать тебя… Не слышать тебя…Я ушла от тебя… Ушла…Ушла…Ушла… Мне жаль тебя… Жаль тебя… Жаль тебя… Я ушла от тебя… Женька любит меня… Женька любит меня… Женька… Женька…»
Хабаров обхватил голову руками, пригнулся к заснеженной земле, сжался в комок, не желая больше слышать этих ее слов. Но слова не исчезали, теперь они звучали нагло, даже с издевкой.
«Я буду счастливой! Вот увидишь! Ты задохнешься от зависти! Ты поймешь, как много ты потерял… Много ты потерял… Много ты потерял… Потерял… Потерял… Потерял… Потерял… Пути назад нет… Ты не любил меня… Я буду счастливой… Женька… Женька… Женька любит меня… Женька… Ты задохнешься от зависти… С тебя три тысячи на аборт… На аборт… На аборт… Три тысячи… В наших отношениях жирная точка… Точка… Точка… Точка… Мне не нужен твой ребенок… Ребенок… Ребенок… Я буду счастливой… Буду счастливой… Аборт… Я буду счастливой… Аборт…»
– Тварь! – страшно зарычал он. – Тварь! Тварь! Тва-а-арь! – он бешено молотил руками по спрессованному снегу. – Тва-а-а-арь!
Его бросило в жар. Все тело горело, словно в полдень на пляже. Хрипя, задыхаясь от ненависти и боли, он встал на четвереньки, мутным, качающимся взглядом посмотрел вперед. Зачерпнул пригоршню снега, сунул ее в рот, прожевал, остатки снега растер по лицу.
– Ты у меня будешь счастливой! – дьявольская усмешка исказила его лицо. – Только выберусь отсюда, дорогая…
Он брезгливо сплюнул и медленно пополз вперед.
– Ты что? Ты что сейчас сделала?! – орал Лавриков.
Орлов, Скворцов, Лисицын переглянулись, Орлов положил ему руку на плечо.
– Спокойно, Женя. Без нервов. За это просто убивать надо.
– Какая же ты дрянь! – сквозь зубы, захлебываясь бешенством, прошипел Лавриков. – Да такая подлая сучка мне даже как коврик у подъезда не нужна. Жаль, я женщин не бью. А то бы… Каждое слово тебе в глотку… Обратно… – он сжал кулаки. – Он же там… Там… А ты!
Все, включая секретаршу Серафиму, с немым укором и осуждением смотрели на Алину. В тишине, под прицелами взглядов, Алина обернулась к Сомову.
– Андрей Сергеевич, до Благовещенска небо чистое. Если не возьмете меня на самолет МЧС, я полечу обычным рейсом.
Сомов вздрогнул. Только сейчас он все понял. Он подошел, взял руку Алины, поднес к губам, поцеловал.
– Вы – великая женщина, Алина Кимовна… – он растроганно обвел взглядом подчиненных. – Да после таких-то слов я бы пешком в Москву пришел выяснять отношения! А еще вот ему, – он ткнул пальцем в Лаврикова, – ему морду набил бы! Честное слово…
– Мишаня! – Хабаров дернул Данилова за ногу.
Тот не отозвался. Полулежа в глубоком сугробе, он спал с блаженной улыбкой на лице. Хабаров тряхнул его, потом еще раз, еще.
– Рука! – вдруг вскрикнул Данилов и застонал.
– Замерзнешь, дубина! Двигаться надо.
– Такой кайф обломал… – Данилов зевнул и снова закрыл глаза.
Хабаров подполз ближе, стал растирать Данилову щеки, нос, уши, пальцы рук. Наконец Данилов вздрогнул всем телом, проснулся.
– Фу-у-у! Спал я, да?
Хабаров дал ему пинка.
Друг за дружкой, утопая в снегу, они поползли по направлению к лежавшему вверх хвостом, зажатому между кедров фюзеляжу вертолета.
Что произошло, Данилов не понял. Вдруг земля стала вращаться быстрее, он за нею не поспел, заскользил на брюхе вниз, крича от боли. Когда скольжение прекратилось, он со стоном перевернулся на спину, руками стал откапывать лежавший поверх него снег.
– Мишаня, ты как? – донеслось откуда-то сверху.
– Могилка готова!
Проделав в снегу отверстие для лица, Данилов осмотрелся. Оказалось, он свалился в заметенный снегом овраг, шириной метра полтора, с крутыми, почти отвесными откосами в человеческий рост. Данилов вдруг отчетливо осознал, что самому ему отсюда не выбраться. Его охватила паника.
– Черт подери! Саня! – что есть мочи крикнул он. – Мама моя… Что делать-то? Саня! – заорал он в истерике. – Б…! Е… в рот! Вытащи меня! Вытащи!
Лежа на снегу Хабаров смотрел на него сверху.
– Нет, ты видел блядство такое?! – выкрикнул, чуть не плача, Данилов, предпринимая безуспешные попытки подняться по склону.
– Ну, давай! Вытаскивай меня! Чего глядишь?!
Хабаров поморщился.
– Не ори, голова раскалывается.
– Может, тебе скорую вызвать?! – и Данилов опять нецензурно выругался.
Хабаров посмотрел на Данилова, потом на овраг, потом на место падения машины и еще горевшие мелкие обломки, втянул носом воздух, опять поморщился.
– Двоечник, что ж у тебя посадка-то с выключенным двигателем не отработана? Несущему винту надо резвей обороты давать, жестче выжимать из него подъемную силу! Скорость надо уметь гасить. Или ты ее или… она тебя.
– Ты вытаскивать меня будешь или нет?! – выкрикнул Данилов.
– Нет.
– Сука! Я тебя почти час искал, по снегу ползал! Да ты бы, зае…нец, замерз давно! – Данилов перешел на крик. – Я с ребрами, сломанными, тебя сюда тащил! Слезы от боли на кулак наматывал, а тащил! А мог бы в фюзеляже спрятаться, отсидеться. Замерзай ты, к чертям собачьим! Вытащи меня, немедля! Сам вылезу – порву!
– Все сказал? Теперь меня слушай. Разгребаешь снег в овраге под два лежака. Пока пурга сил не набрала и еще горят обломки, я таскаю лапник. «Ласточка» твоя лапника много насшибала. Лапник с полметра стелим на дно оврага. Сбитые сучья – наверх, как крышу. Въезжаешь? От «ласточки» твоей керосином воняет. Чуешь? Дымится она. Это не укрытие. В любой момент рвануть может. Я пошел. Посмотрю, что к чему. Снег разгребай.
«Пошел…»
Это было проще сказать, чем сделать.
Утопая по пояс в снегу, то и дело проваливаясь в засыпанные снегом ямы, натыкаясь на спрятавшиеся под снегом сучья, пни и кочки, продираясь сквозь кусты и опутавшие их лианы лимонника, Хабаров медленно продвигался к месту падения вертолета.
Он заставлял себя не думать ни о чем, кроме того, что должен сделать сейчас, сию минуту. Боль, и душевную, и телесную, он решил отложить на потом. Хабаров знал, что боль телесную он готов терпеть любую, а вот боль душевную… Он страшился ее. К ней он был не готов. Эта боль была много сильнее его. Невольно он вспомнил вдруг свою неуклюжую попытку уйти из жизни. Тогда он боялся. Было что терять. Сейчас терять стало нечего… Но прежде он должен увидеть ее глаза.
Шаг, сейчас еще один шаг, а сейчас еще…
Голова гудела. Лес и снег опасно покачивались.
Шаг, еще один шаг и еще…
Перед глазами заплясали радужные круги. Мириады колокольчиков звенели в ушах на разные лады. За глоток воды, холодной, обжигающе холодной воды, он бы отдал состояние!
Хабаров зачерпнул пригоршню снега, пожевал. Это не помогло. Его стошнило, буквально вывернуло наизнанку. Он отдышался. Обернулся к Данилову, но так и не смог его разглядеть. Он зачерпнул еще одну пригоршню снега, сплюнул и упрямо пополз дальше.
Зажатая между кедрами «ласточка» лежала метрах в двадцати от оврага, завалившись по диагонали на правый бок и на нос. Нос в нижней части был сильно деформирован, крепившийся на брюхе топливный бак поврежден, из него тонкой струйкой на снег текло горючее. Позвякивая на ветру обрывками дюраля, торчал обрубок хвоста. Лопастей не было. Без хвоста и лопастей вертолет был жалким и беспомощным.
У вертолета Хабаров остановился. Здесь сильно пахло горючим, однако фюзеляж пока огнем тронут не был. Справа и перед вертолетом горела мелочь, которой была усеяна поляна. Здесь же догорали остатки развороченной взрывом бочки с авиационным керосином. Очевидно, бочку, находившуюся в задней части салона, сорвало либо в тот момент, когда вертолет крутанулся, зацепив хвостом дерево, либо при падении. Вероятнее всего, последнее. От удара об интерьер салона стенка бочки была пробита, в результате чего салон вертолета был щедро облит горючим. Достаточно искры. Опасность возгорания и сильный запах авиационного керосина делали остатки фюзеляжа совсем непригодными для укрытия. Их, конечно, выбросило из машины раньше, еще на первом этапе, когда из-за повреждения хвоста вертолет швырнуло по нисходящей спирали, в противном случае Хабаров отказывался предположить, почему же они остались живы.
Он подтащил к горевшим остаткам бочки обрубки кедрового сушняка и сырой березы, сложил конусом. Полизав сушняк, огонь вспыхнул ярче, стало светлее.
Через разбитое остекление кабины, ползком Хабаров проник внутрь вертолета. В вертолете на левой боковой панели он нашел топор, который приметил еще на пути в таежную избушку. Топор он приспособил за спину, засунув топорище за ремень. Из ножен, закрепленных на ремне, он вытащил охотничий нож и им стал срезать обшивку сидений. Это не отняло много времени. Потом он поискал аптечку, но не нашел. Подобрал помятое ведро, запихнул в него ветошь, застрявшую под сиденьем пилота, и спецовку Данилова. Туда же сунул пустую жестяную банку из-под кофе, когда-то служившую Данилову хранилищем мелких гаек и болтов. Пальма! Он ухватился за ствол и выдернул ее из кадки. Кадку с землей осторожно просунул наружу, поставил в снег. Он уже было собирался вылезать, как вдруг обнаружил по-настоящему бесценную находку: аккуратно свернутый, пристроенный за задним пассажирским сиденьем брезент.
Именно из этого брезента они сделали подобие палатки. Сучьями прикрыв овраг сверху, они соорудили крышу, по крыше раскатали брезент, подоткнув его концы внутрь, спустив их по откосам оврага. Брезент по краям засыпали снегом. Дно оврага в несколько слоев устлали кедровым лапником.
Строительство было окончено, когда стало абсолютно темно, когда пурга уже показала свои первые клыки и совсем погасила роскошный костер, сложенный Хабаровым у разодранной бочки с горючим.
– Все, Саня! Не могу больше. Я спекся… – Данилов без сил свалился на лапник. – Худо мне. Тела не чувствую. Сдохнуть хочу…
– Раздолбай, брезент держи! Сорвет все! – прикрикнул на него Хабаров.
– Почему я держи?! Какого… ты сидишь?
Данилов подоткнул край брезента под себя, правой рукой ухватился за его трепетавший с наветренной стороны край.
– Снегом завалит, будет теплей и спокойней, – сказал Хабаров.
Сидя на лапнике, подсвечивая себе зажатым в зубах крохотным фонариком – брелоком от ключей, Хабаров сооружал примитивную печку. Замерзшие руки не слушались, и он то и дело пытался согреть их дыханием.
На небольшой лист обшивки он поставил консервную банку с насыпанной в нее землей из кадки с пальмой, бросил на нее кусок ветоши и поджог. Ветошь легко загорелась, а вслед за нею загорелся и керосин, которым была пропитана земля в банке. Пламя было небольшим, медленным и ровным. Хабаров протянул к огню руки. Было чертовски приятно!
Ветер бесился, рвался, пытался разрушить их хрупкое укрытие. Приходилось постоянно подстраховывать и хрупкую конструкцию крыши, и держать концы брезента, который то и дело пыталась сорвать, унести с собой рассвирепевшая снежная буря. Эта борьба вымотала их, и оба без сил свалились на лапник.
Огонь самодельной печки поднял температуру в их укрытии и сделал его сносным. Теперь оба были уверены, что дотянут до утра.
Хабаров знал, что любое топливо даже после получаса горения в непроветриваемом укрытии может дать опасную дозу не имеющего запаха углекислого газа, от которого незаметно засыпают навсегда. Поэтому, как ни жаль было расставаться с теплом, ножом он вырезал небольшое отверстие в брезентовой крыше, посветил в него брелоком – фонариком.
– Вот почему тише стало. Нас уже снегом занесло. Пурга не шутит.
Ножом он прочистил в снегу отверстие.
– Хорошую вещь испортил, – недовольно пробурчал Данилов. – Зачем тепло выпускаешь?
– Задохнемся. Огонь кислород жрет. Ничего, Мишаня, пурга стихнет, мы с тобой таежный костер запалим. От него жарко будет. Согреемся, отоспимся. По нему нас и найдут. Меня старик один, таежник… – он запнулся, – научил… – изменившимся голосом договорил он.
– Ты чего? – Данилов пнул его ногой. – У тебя сейчас такая морда… Не москальская.
Хабаров погасил брелок-фонарик. Только сейчас он вспомнил о старике Рамагкхумо Саокддакхьяватта, который был для него просто Митрич.
Митрич…
«Как же он вырубил мне память? Будто на сутки стер все…»
Хабаров закрыл глаза, представил холодную, заснеженную тайгу и в ней маленькую, тщедушную фигурку старика, скорчившегося, замерзшего под кедром. Сердце сжалось от боли.
«Почему мы так мало ценим то, что имеем? Почему воспринимаем, как должное, те авансы любви, которые наши близкие нам выдают? Почему не любим сами? Почему спохватываемся, горюем и плачем только когда исправить уже ничего нельзя? Откуда в нас эта беспечность?! Откуда?!»
Он вспомнил их давний разговор о брошенной собаке, замерзшей у дверей необитаемого дома, откуда ее хозяева переехали в новостройку.
«Я быть на месте старого пса не хочу…» – сказал он тогда Митричу.
Хабаров грустно улыбнулся.
«Я был неправ, отец. Я хочу быть на месте того старого пса. Несмотря ни на что, он сохранил в душе и любовь, и преданность. Его жизнь поэтому имела смысл. Остальным Бог судья…Бог судья?! И ей?»
Хабаров недовольно вздохнул, поерзал на лежаке из лапника, укладываясь поудобней.
«В сущности, из-за чего столько шума в моей маленькой душонке? Фейерверк эмоций… Накал страстей… Что изменилось от того, что она ушла от меня? Разве я стал любить ее меньше? Разве не порву любого, кто обидит ее? Разве я не хочу, чтобы она была счастлива, пусть не со мной, пусть с другим, но обязательно счастлива? Хорошо, что она далеко. Будь она рядом, орал бы, слюной брызгал… По любимой схеме: ты плохая, я хороший. Таким, как я, чтобы не чувствовать себя негодяем, обязательно надо, чтобы место негодяя занял кто-то другой».
Он уже был готов примириться и с миром, и с нею, и с собой, но тут вдруг вспомнил сказанное ею в самом конце, ядовито, так, чтобы побольнее: «Извини за меркантильность, чуть не забыла, с тебя три тысячи на аборт… Для меня это принципиально. Я хочу, чтобы ты понял: пути назад нет, в наших отношениях стоит жирная точка!»
Это ее финальное заявление спутало ему все карты.
«Ты за меня все решила… Будто меня уже на свете нет! Будто я чужой! Будто совсем ни при чем! Зараза! Как можно любить тебя, такую заразу?! Ты знаешь, как ударить меня побольнее. Тебе удалось! Только знаешь что, повтори-ка мне, глядя в глаза, все, что по телефону сказала. Я хочу видеть, как это у тебя получится. Очень хочу, дорогая!» – он недовольно засопел, открыл глаза и принялся подправлять печку.
Он мечтал о ребенке именно от этой женщины. Он вообще хотел, чтобы у них с Алиной было много детей. Ему, выросшему в родительской любви, всегда хотелось иметь большую, крепкую семью и чтобы обязательно по вечерам собираться всем вместе за большим обеденным столом, чтобы приходили в гости родственники, друзья, как это всегда было в родительском доме. Он хорошо помнил, что у родителей и радости, и горести всегда были общими. Радости становилось больше от того, что она умножалась. Беда уменьшалась, потому что ее делили на всех. Он только сейчас понял, почему в разлуке отец и мать страдали бессонницей, глотали снотворное, чтобы уснуть: просто его или ее не было рядом. Он помнил, как мать целый день могла ждать отца обедать. Насколько бы он ни задерживался, никогда не садилась обедать одна. Она все сновала туда-сюда, хлопотала, переживала. Она всегда наполняла его жизненной силой, была его вторым ангелом-хранителем, несмотря на то, что у отца был очень сложный и тяжелый характер. Привыкший руководить огромным заводом, он и в семье вел себя как начальник. Его слово было законом, авторитет – непререкаемым. Но как же этот лев таял от тихого, нежного голоса мамы! Он превращался в совершенно ручного котенка, стоило ей ласковой рукой погладить его по лысой, как шар, голове, шепнуть на ушко: «Хочешь чайку с лимончиком? Хочешь, я рядом посижу, по коленочке тебя поглажу? Ты расскажешь мне, что с тобой было сегодня…» Он не мог забыть, как после отцовского инфаркта мать стояла в церкви на коленях и просила Бога отдать ей его болезнь, вернуть ему здоровье. Это так сильно подействовало на него тогда! Тогда он впервые задал себе вопрос: а я пожертвовать собой смог бы? Их отношения он считал почти эталоном. Эталоном настоящей семьи, где один готов отдать жизнь за другого. Тихие семейные радости, любовь, поддержка, родство душ… Разве многого он желал? Кто-то скажет: «Вероятно – да, по нашей суетной жизни». Но другой семейной жизни он не хотел, наверное, потому и был очень долго один. Смириться с тем, что вместе с этой женщиной он теряет еще и мечты, и уже спланированное будущее, Хабаров был не готов.
Опять черная злоба накатила, сломала, задушила поселившуюся было в нем любовь. Мир вновь стал черно-белым. От этого стало физически плохо.
Хабаров тяжело поднялся, прислушался. Порывов ветра и завывания бури почти не было слышно. Данилов тоже лежал тихо, не постанывая, как обычно, и не шевелясь. Он посветил ему в лицо.
– Мишань, ты как?
Данилов не ответил. Сжавшись в позу эмбриона, стеклянным, немигающим взглядом он смотрел перед собой. Его дыхание было тяжелым, неровным.
– Ты как? – повторил Хабаров и, дотянувшись, похлопал Данилова по щеке.
Щека была ледяной, мокрой.
– Спать… Спать хочу. Рук не… не поднять. Все тело, точно… точно сырое… сырое бревно… – едва ворочая языком, выговорил он.
Только тут Хабаров заметил, что Данилов мелко-мелко дрожит.
Хабаров извернулся и не без труда впотьмах, в узком пространстве укрытия стал снимать пуховик. Под пуховиком была медвежья жилетка – подарок Митрича.
«В жилетке-то не только сила медвежья, – говорил ему Митрич, передавая жилетку на память. – Тут хитрость есть. Вдоль позвоночника и по пояснице вшиты камни звездного неба. Они силу дарят. На них женьшень, корень жизни, растет».
Хабаров расстегнул на Данилове куртку, помог ее снять, потом осторожно, оберегая левую руку, надел на Данилова свою жилетку, застегнул ее на все пуговицы, наверх опять надел лётную куртку. Он несколько раз ударил Данилова по щекам.
– Миша, не спать!
Хабаров в очередной раз прочистил вентиляционное отверстие в потолке, приложил к нему ухо, прислушался. На белом свете бушевала пурга. Он посмотрел на часы. Стрелки показывали первый час ночи.
– Ничего, к утру успокоится. Ты не спи, Мишань. Говори.
Хабаров выпрямил затекшие, нывшие ноги, подоткнул под спину лапник и приготовился дожидаться утра.
Данилов подполз, сел рядом, привалился спиной к боку Хабарова.
– Что говорить-то?
– Что-нибудь. Главное, не спать. Расскажи, почему цвет волос у тебя чудной. Будит, прямо против воли, ассоциации.
Данилов шумно выдохнул, погладил левую руку.
– Скажи мне, морда москальская, какая, на хрен, разница, какой цвет волос у человека?
– Я ж сразу понял, что ты гей. Твой цвет волос – это как… – Хабаров улыбнулся, – как визитка-пропуск в гей-клуб!
– От, чудило… Надька, дочка младшенькая, на парикмахера учится. Они экзамен сдавали. Добровольцы были нужны. Пристала: «Папа… Папа…» А мне что? От меня не убудет. Думал, бесплатно подстригут. А Надюха билет вытянула с заданием про осветление волос. Ну, как видишь, и осветлила. На пять баллов. Я как в зеркало глянул, представляешь, онемел. Даже ни слова мата не смог. Потом, дома, правда, пристала: «Папа, давай я тебя назад в твой темно-русый покрашу». А я как представил, что опять всю эту мазилку на голову да, как баба, в чепчике полчаса сидеть… Нет, говорю, Наденька. Спасибо. Сами отрастут. Вот и хожу чудо чудом. Мужики на работе поначалу ржали, про «голубую луну» песню пели, потом привыкли. Только ты из впечатлительных-то и остался…
Постепенно щеки Данилова порозовели, болезненная испарина убралась, дыхание стало ровнее. Хабаров тронул его за руку, потом за плечо. Больше не ощущалось той отвратной мелкой дрожи, которая бьет всякий раз перед тем, как человек проваливается в бредовый сон, а затем замерзает.
«Носи жилетку-то, не снимай и поправишься. Как поправишься, спрячь жилетку-то, не отдавай никому. Иначе вся сила к новому хозяину уйдет. Опять тебе худо будет. Болезнь вернется. Усёк?» – крутились в голове слова Митрича.
«Ну и пусть! Пусть будет все, как на небесах записано! Зато Мишаня выживет. Эх, Митрич, Митрич! Не в жилетке дело… Жилетка – это психотерапия. Спасают не жилетки, спасает человеческое участие. Как ты любил повторять, спасает любовь… А если и правда, сила какая в тех камнях есть, так Мишане она нужнее. Прости, отец! Вот и нарушил я твой наказ…»
Хабаров покрутился на лапнике. Без медвежьей жилетки было холодно.
«Дурак я! Надо было раньше на него жилетку надеть! – с досадой подумал Хабаров. – Ползал, искал меня… Куртка драная, на рыбьем меху… Штанишки – спецовка. Как он еще столько продержался? И не пикнул. Мировой мужик, Мишаня!»
– Чего замолчал-то? Дальше рассказывай.
– Нечего рассказывать. Живу. Работаю. Жена. Три дочки.
– Бракодел! Три девки настрогал.
– Сам ты… – обиделся Данилов. – Они у меня замечательные!
– Как звать?
– Надька, Ленка и Наташка. Надька младшенькая. Рожали, думали, пацан будет. Родилась Надька. Ох, боевая девка! В свои семнадцать на машине, на снегоходе, на аквабайке поливает, любого пацана за пояс заткнет! Вот, говорит, на вертолете научиться надо… – Данилов тяжело вздохнул. – Теперь уж вряд ли…
Он замолчал. Тут ведь, и вправду, было о чем подумать. Остался семейный мужик без работы. Новую машину вряд ли дадут, старая восстановлению не подлежит. И куда ему теперь? На консервный завод рыбу шкерить?
– Надька, понятно, боевая. Один папин причесон чего стоит! А Ленка, Наташка? – спросил Хабаров, чтобы не дать Данилову углубиться в невеселые прогнозы своего дальнейшего житья-бытья.
– Ленка… Ленка… – думая о чем-то своем, повторил Данилов.
– Мишань, – Хабаров похлопал его по плечу, – не тормози.
– Ленка замужем. Нормально живут. Машину, «Ниву», купили. Пацан у них в четвертый класс пошел. Наташка… Наташка у нас голова! Кандидатскую защитила. Докторскую пишет. А ей двадцать шесть только. Врач, говорят, от Бога! Если выберемся отсюда, наверняка к ней попадем. Она у меня в краевой больнице в травматологии работает. На работе своей помешанная. Дни и ночи в больнице. И представляешь, больные деньги, коньяк, конфеты предлагают. Никогда ничего не возьмет! Машка, моя супружница, начнет ей выговаривать, а Наташка на своем стоит, говорит: это не я их вылечила, это судьба у них счастливая. А у тебя, Сань, судьба счастливая?
– Счастливая, раз с тобой, с двоечником, сижу, разговоры разговариваю, а не лежу в снегу с разбитой башкой, – со смешком ответил Хабаров.
Он подвинул печку поближе к правому краю их укрытия и к ногам Данилова и в ее неверном дрожащем свете принялся утрамбовывать стенки оврага под ложе особого таежного костра.
– Сань! – позвал Данилов.
– Что?
– Теперь ты про своих расскажи.
«Про своих»…
Хабаров обернулся, но в темноте лица Данилова не было видно.
Почему-то предполагается, что у мужика на пятом десятке обязательно должны быть эти самые «свои». Это как дважды два…
А если она ушла, и не просто, а еще и денег на аборт потребовала?
– Ладно, Саня, не хочешь, не говори. Помнишь, как у Стругацких: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!»
«Хорошо бы…» – подумал Хабаров и стал готовить на утро нодью.
Он чувствовал звериным чутьем, что им повезет и пурга под утро утихнет.
Этому костру его тоже научил Митрич. Тогда они промокли до нитки, попав в тайге под ледяной октябрьский ливень. Надо было обсушиться и согреться. Митрич тут же нашел два березовых обрубка, положил их один на другой, закрепил по концам с обеих сторон кольями. Между березовых сушин вставил клинья, приподняв, таким образом, обрубки один над другим на два пальца, в образовавшуюся щель напихал растопки: бересты, птичьих перьев. Нодья горела плавно и долго, никакой заботы о себе не требовала, разве что пепел и золу по мере обгорания березы приходилось счищать.
Хабаров знал, что самая сухая древесина – это сердцевина стоящего сухого дерева. Вот, чтобы такую древесину добыть, он, рискуя затеряться в уже начавшей свирепеть снежной буре, несмотря на мат и призывы Данилова к благоразумию, все-таки срубил и притащил к укрытию сухую березу. Нижний конец ее ствола спустили прямо в овраг, в укрытие, и сейчас, под аккомпанемент завывающей метели, Хабаров рубил сушину под нодью.
Каждое движение отдавалось болью во всем теле, голову рвало на части раскаленными клещами. Хабаров то и тело скрежетал зубами, сдерживая стоны, мат и желание все бросить.
«Мишаня без меня замерзнет… Одному ему не выжить, – то и дело думал Хабаров. – Господи, дай силы. Не для себя прошу. Для Мишани. Ждут ведь его. Семья…»
Превозмогая боль, он ободрал с заготовок бересту и принялся вырубать вдоль каждого бревна лоток, стараясь добраться до сухой сердцевины. Когда эта работа была окончена, Хабаров сложил бревна лотками друг к другу, а в зазор напихал вперемешку бересту и мелкие щепки. Нодья была готова. Теперь нужно было дождаться утра.
– Мишань, спички держи. Башка у меня сильно ломит. Если чего, утром, как пурга стихнет, подожжешь, погреешься.
Хабаров лег на лапник, тяжело дыша.
– Саня…
– Ждут тебя… И любят… Ты выживешь… – он остановился, переводя зашедшееся дыхание. – А меня ждать некому. Плохо это… Неправильно… В общем, жаль…
– Алина, подожди! Подожди, говорю! Куда тебя несет?!
Быстрым шагом Алина шла через служебный двор. Лавриков догнал ее, взял за плечи, попытался остановить. Она вырвалась.
– Ну, прости меня, идиота! Мне что, на колени встать?
Она смерила его холодным, равнодушным взглядом.
– Ты-то тут при чем? Вашему начальству только рабочая сила нужна. Чуть что, спишут не задумываясь!
После того, как руководство сочло целесообразным поиск пострадавших в аварии вертолета всецело поручить краевому управлению МЧС, Алина поняла, что ей больше незачем докучать Сомову. Она приняла решение самостоятельно лететь во Владивосток и уже там, с Княгининым, решать вопросы своего участия в поисках.
– Куда тебя несет?! – Лавриков взял ее за руку, остановил. – С Благовещенска погоды нет. Застрянешь в Благовещенске! Будешь на вокзале бомжевать! Там неделями люди вылета ждут! Там мороз за сорок! Сегодня ты не вылетишь. Завтра его найдут. Он будет здесь! Куда тебя несет?!
– Я пойду к руководству аэропорта, договорюсь с летчиками… Не знаю… Я сделаю что-нибудь! Но я улечу туда! И не смей, не смей меня останавливать!
Начальник пограничной заставы майор Василий Борисович Жамлин вот уже который раз изучал карту района поисков и свежераспечатанные, пришедшие факсом, карты погоды.
– Четырнадцатый квадрат… – Жамлин погладил пальцем карту. – Слушайте сюда, братцы-кролики, – он обвел угрюмым взглядом подчиненных. – Буря уходит к морю. Владивосток будет закрыт по погоде еще неизвестно на сколько. Воробьев и Осипов, возьмете вездеходы, шесть человек, кто поумнее, фельдшера, и – полный вперед! Выдвигаетесь сразу, как Мимино… Тьфу! – он смутился. – Прости, Ашот. Тихо! – он постучал ручкой по столу. – Выдвигаетесь сразу, как Мизандари совершит облет квадрата и доложит обстановку.
– Может, там сесть можно. Я сяду!
– Я те сяду! Один сел уже… – Жамлин бросил ручку на стол. – Теперь вот ищем! Слетаешь, уточнишь координаты и все. От нас этот квадрат – рукой подать. Вездеходами доберемся.
Дверь в кабинет со скрипом отворилась, и щупленький сержант положил перед Жамлиным свежую распечатку погоды со спутника.
– Ну, что? Хорошо. С рассветом можно будет лететь. Сейчас всем спать.
Запрокинув голову, Хабаров смотрел на звезды.
Небо было ясным, усеянным празднично начищенными бриллиантами звезд. Звезды казались неправдоподобно большими и яркими. Ни одного облака. Ветер прогнал пургу и стих, уснув в кронах кедров после ночных диких плясок.
Большая круглая луна заливала поляну ярким холодным светом. В лунном свете кедры отбрасывали причудливые тени, от чего поляна казалась расчерченной на косые линейки, как тетрадка первоклассника. То и дело потрескивал мороз, пронзая тишину резким, как выстрел, звуком.
Наступало утро.
– Не сидится-то тебе, таежник хренов! Ночью чуть Богу душу не отдал. Иди к костру! Намерзся! – кричал Хабарову Данилов.
Данилов сидел возле пышущей жаром нодьи и, после бессонной ночи, разомлев от тепла, клевал носом.
Дремать у костра на пару с Даниловым Хабаров не стал. Он знал, что в голову полезут невеселые мысли, убежать от которых можно было только применив терапию занятости. Он выбрал пару стоящих рядом кедровых сушин, сбил нижние ветки, обломал кустарник у подножья и, устроившись половчее, начал рубить.
Первую зарубку он сделал в полуметре от земли с той стороны, куда должно будет упасть дерево, затем углубил зарубку до половины толщины ствола. Топор был хорошо наточенным, топорище – удобным, и работа спорилась. Потом он нанес несколько ударов топором с противоположной стороны ствола, чуть выше первоначальной зарубки, подтолкнул ствол плечом, и подрубленный кедр, жалобно заскрипев, рухнул поперек поляны, подняв кроной облако снежной пыли.
От работы стало жарко. Хабаров расстегнул молнию на куртке и принялся за вторую сушину.
– Не ленивый ты мужик! – крикнул ему Данилов, когда и второе дерево было завалено. – Давай помогу!
– Сидел бы ты, Мишаня, с ребрами своими переломанными, у костра грелся. Думаешь, не вижу – плохо тебе.
– А тебе? Ты себя со стороны не видел. Голова твоя, разбитая, болит?
Данилов откусил кусочек от собранного в комок снега.
– Болит. И мутит. И ребра тоже болят. И сдохнуть хочется, – честно признался Хабаров. – Но в моем случае это не имеет значения.
По своим же следам он пробрался к Данилову, тяжело дыша, сел на край оврага, стащил перчатку, зачерпнул пригоршню снега и отправил в рот.
– Чайку бы, горячего.
– Верно, Саня. И по отбивной из свинины.
– О-о! Стоп. Стоп. Французы говорят: кто спит, тот обедает. Сейчас костер запалим, спать пойдем. Подай-ка мне растопку, что я в ночи наготовил.
Растопкой была березовая лучина, связанная в пучки, обмотанные берестой. Забрав растопку, Хабаров пошел назад, к срубленным кедрам, которые клином, расходясь кронами, лежали поперек поляны. Ему предстояло нарубить сухих веток и, сложив их под срубленными сухими деревьями, сделать запальные костры. Когда он эти костры подожжет, огонь потечет по стволам, и они превратятся в один большой костер. Кедр горит долго, плавно, без искр и стрельбы угольками, и чем дольше, тем жарче. Затем ему предстояло между горящими деревьями, посередине, расчистить от снега площадку, покрыть ее свернутым в несколько раз брезентом, чтобы холод не шел от земли, потом подушкой из лапника, и можно будет ложиться спать.
Когда Хабаров закончил сооружение костра и запалил его, солнце было уже высоко.
Серебро, в которое был укутан лес, вдруг ожило, заиграло теплыми, живыми красками. Кроны деревьев подрумянились. Солнце прошлось по ним своим лисьим хвостом. Только внизу пока все еще царил хмурый полумрак уходящей тяжелой ночи, от которого к полудню, когда солнце поднимется выше, не останется и следа.
– Мишаня, смотри, чего нашел. Поешь.
Хабаров протянул Данилову горсть темно-красных, собранных в плотные грозди ягод.
– Лимонник? Вот черт! Мне даже в голову не пришло.
Сидя на лапнике в окружении костра, отогреваясь за все прошедшие двенадцать часов, проведенных на морозе, они с удовольствием жевали чуть кисловатые и терпкие на вкус замерзшие шарики ягод лимонника.
– Все равно жрать охота… – Данилов тоскливо вздохнул.
– Давай спать.
– Не околеем? – Данилов с опаской покосился на жарко горевшие кедры.
– Не бойся. Жарко будет. Еще и унты, и куртку свою, меховую, снимешь. Только, если куртку будешь снимать, под себя подстели. Снизу холод идет.
– Скажешь тоже! Куртку снимать! Унты снимать! В мороз-то!
Хабаров не стал спорить, он лег на лапник, блаженно закрыл глаза. Только сейчас он почувствовал, что сил нет совершенно, и сам он уже с этого ложа не встанет.
Огонь обогревал с одного боку и с другого, разбегаясь по жилочкам убаюкивающим теплом.
– Сань, где ж ты в Москве такому костру научился? Мороз за сорок, а у нас Ташкент. Смотри, даже снег вокруг тает.
– Таежник один научил. Спасибо ему. Спи.
Данилов покрутился, лег поудобнее. Ему хотелось еще поговорить, но, видя, что Хабаров затих и, видимо, уснул, он какое-то время лежал тихо, время от времени поглядывая, как ведет себя костер, но, наконец, и его, размягченного теплом, сморил сон. Данилов зевнул, повернулся на бок и уснул.
Лес был укутан инеем. Иней бриллиантовыми холодными брызгами слепил глаза, заставляя щуриться. Сугробы переливались на солнце мириадами крохотных радуг. Заблудившееся в бездонной сини солнце, задевая лучами кроны кедров, лениво ползло к горизонту. Мороз крепчал. Зимний день стоял во всем своем великолепии.
Хабаров зажмурил глаза, заледеневшими пальцами поскреб мешавшие смотреть заиндевевшие ресницы, непослушной рукой провел по лицу, стирая болезненную испарину. Рука чуть-чуть дрожала и плохо слушалась. Теперь все его тело было таким: слегка дрожащим и плохо слушающимся. Он продрог, промерз до самых костей, замерз, как бездомная псина. Это сравнение так и вертелось у него на языке. Он посмотрел вперед.
«Уже недалеко…»
Он не собрался с силами, сил уже не было, он собрал волю в кулак.
«Надо доползти…»
Он облизал окровавленные, потрескавшиеся от мороза губы, сцепил зубы и, утопая по грудь в снегу, упрямо пополз вперед.
Где-то далеко раздался непонятный рокот, похожий на звук пролетающего высоко в небе вертолета. Хабаров задрал голову, но, кроме покрытых шубами инея кедровых крон на голубом, ничего не смог разглядеть и пополз дальше.
Он выбился из сил, он почти ненавидел себя за немощь. Он едва уговорил себя преодолеть еще метров пять, вон до того черемушника.
«Здесь. Где-то рядом…»
Хабаров лежал в зарослях черемушника и сквозь немыслимое переплетение голых веток смотрел на открывавшийся пейзаж.
Черные плотные кусты плакучей черемухи шли двумя извилистыми рядами на расстоянии метров трех друг от друга. Полоска между ними была чистой, ровной. Хабаров догадался, полоской была замерзшая река. Ближний берег был пологим и низким, а противоположный – высоким, обрывистым, изрезанным карманами замерзших заводей. У самого берега, из-под снежных шапок, то там, то здесь поднимался белесый пар. Пар был настолько плотным, что заволакивал непрозрачной пеленой часть противоположного берега.
«Видимо, теплые источники…» – подумал он.
Его уже давно одолевала жажда. Хотелось напиться обжигающе холодной воды, так, чтобы зубы сводило, а потом…
Потом – будь, что будет.
Он сполз на лед. На льду снега было меньше, снег едва доходил до колен. Хабаров встал и, покачиваясь, тяжело переставляя ноги, пошел к противоположному берегу.
Руками он разгреб снежную шапку, из-под которой струился пар, и обнаружил округлое, заплывшее ледяной крошкой отверстие во льду. Оно было маленькое, не больше двух ладоней. Он стащил перчатку, опустил руку в показавшуюся теплой воду, выгреб ледяную крошку и, зачерпывая воду пригоршнями, стал жадно пить. Никогда еще вода не казалась ему такой вкусной и сладкой.
Пар, шедший от воды ему прямо в лицо, был тоже вкусным, наполненным неуловимым свежим запахом цветущей черемухи.
Напившись вдоволь, Хабаров завалился набок. Остекленевшим взглядом он уперся в крутой берег и обомлел: под ледяным навесом, на проталине, у самой воды, в клубах выходящего из-под снега пара, цвели изумительной красоты голубые цветы Хрустальной Сиверсии. Их тонкие, хрупкие лепестки выглядели беззащитными среди снегов, льда и сорокоградусных морозов.
Хабаров приподнялся, встал на колени.
– Надо же! Ну надо же… – он тряхнул головой, будто не веря. – Я все-таки дошел… Я все-таки их нашел!
Он ликовал. Его смех отдавался эхом в верхушках кедров, точно стая белок, несся по ним все дальше и дальше, в глубь тайги. Вдруг он разом оборвал смех. Радость так же внезапно погасла. В его взгляде была теперь только боль.
– Зачем мне теперь эти цветы? Для кого? – от обиды на глаза навернулись слезы. – Для кого?!
Усталый, замерзший, полуживой, прошедший через ад одиночества, он больше не имел сил сдерживать себя. Сердце заколотилось где-то в горле, глаза налились яростью.
– Как же так? Как же так?! Как ты могла?! Почему твоя любовь кончается там, где кончаются слова? Зачем врать, лицемерить, играть со мной? Чтобы потом побольнее ударить?! А если я перед тобой беззащитен? А если я не могу с расчетом? Если я кидаюсь в счастье, в тебя, как со скалы в океан?! Как мне теперь жить?! Как мне эту жизнь вынести?! А-а?!
Он стиснул виски.
– Тихо. Не надо. Не могу. Я не могу…
Стоп!
В пахнущем цветущей черемухой воздухе вдруг раздался непонятный звук, похожий на звук камертона, и мир вспыхнул вдруг красками и задрожал, взволнованно и зыбко.
Он протянул руку к цветам, рука дрогнула, на мгновение замерла.
Нет, последние сомнения тоже были отброшены!
Он собрал превосходный букет этих дивных голубых, с прозрачными бутонами, точно хрустальных цветов. Собрал для нее.
– Храни тебя Бог, родная моя. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть не со мной, но счастлива…
Хабаров бережно спрятал букет на груди, защищая от мороза и ветра, и побрел назад.
– Не волнуйся, Княгинин! В порядке твои ребята! – кричал в трубку начальник погранзаставы майор Жамлин. – Мы их в госпиталь определили. Уже оказываем твоим ребятам помощь. Что ж делать, если у вас все еще света белого не видно?
– Надо бы их в краевую больницу поскорее. Я уже и с врачами договорился, – сказал Княгинин. – Ты вот что, служивый, как только Владивосток откроется, давай сразу их транспортируй туда. Керосином поможем!
– Понял. Не переживайте там. Видел я ваших ребят. Живые. Адекватные. Да, тот, что пассажир, все время про цветы какие-то говорит.
– Цветы?
– Ну да! Спрашивает, где цветы, что были у него за пазухой.
– И где эти цветы?
– В том-то и дело! Не было при нем никаких цветов! Точно – не было! Мы когда их нашли, они спали. Представляете, запалили клином огромный кострище, а сами посередине легли на кедровый лапник. Так у них там, как в бане, жарко было. Видать, натерпелись мужики за ночь, отогревались. По этому костру мы их и нашли.
– Молодец, Василий Борисович! Спасибо и тебе, и твоим пограничникам.
– Служу России. Честь имею!
Утро смотрело на мир с задорной улыбкой.
Хабаров шевельнулся, тело плохо слушалось. Оно было чужим и ватным. Но там, где он лежал, было уютно и тепло и почему-то пахло ее любимыми духами.
Вдруг он ощутил прикосновение руки. Рука потрогала его лоб, шею, погладила по щеке и исчезла куда-то.
«Куда же ты?»
Хабаров открыл глаза.
Больничная палата чуть-чуть дрожала и покачивалась.
«Довольно. Спокойно! Стоп!»
Усилием воли он заставил себя сосредоточиться.
Теплая, заботливая рука тронула плечо.
– Ты меня слышишь? – донеслось справа.
Он медленно перевел взгляд.
«Серые дымчатые глаза… Глаза дремлющей страсти. Ее глаза. Лиза… Лиза… – очевидное казалось несуразным. – Откуда здесь Лиза?»
Он смотрел в юное улыбающееся лицо.
– Папа? Ты узнал меня? – голос был взволнованным, с ощутимым акцентом. – Я так волновалась… Я так волновалась за тебя!
– Анютка…
Хабаров протянул к ней руку, привлек к себе, прижал ее голову к своей груди, поцеловал в макушку и стал гладить ее золотистые волосы. Он был рад, что дочь не видит сейчас его лица.
Ах, черт бы побрал эту зиму с ее вечной мерзлотой, снегами и морозами!
Да здравствует весна!
Да здравствует ломающая лед талая вода!
Да здравствуют вернувшиеся к нам из теплых краев долгожданные перелетные птицы!
Да здравствует первая проталинка, с еще рыжей, едва пережившей зиму травой!
Да здравствует первый подснежник, робко раскрывшийся на солнцепеке!
Пусть будет весна, до горизонта, везде, до самых звезд!
Пусть раззадоренная шаловливыми ветрами, опьяненная весной, кружится пережившая зиму планета!
Пусть радость, спешащая к нам перелетной птицей, не собьется с пути, заглянет в каждое сердце! И пусть вслед за радостью в наши сердца обязательно постучится любовь!
Сердце мудрее нас. Оно способно прощать то, что разум простить не в силах. Оно способно любить не за что-то, а вопреки всему. Оно сберегло, оно помнит тот теплый, пахнущий липами вечер, и треск цикад, и падающие с неба в свежескошенную траву звезды. И ее оно помнит. И их первую ночь. Ее пахнущие мятой плечи и доверчивые, чуть приоткрытые губы. И нежность, нежность, нежность….
– Анька, как ты нашла меня?
– Это Алина. Она была у меня, во Франции. Потом я приехала. В Москве узнала, что авария. 911.
Хабаров улыбнулся.
– Я не совсем умею по-русски… Ты научишь меня?
– Научу…
– Знаешь, твоя Алина… Ух! Она супер! Она командир всех врачей! Она не уходила от тебя почти трое суток!
– Где она?
– Она почувствовала себя немного плохо. В ее состоянии это естественно. Я не могла поверить, что у меня может быть брат или сестра! Ты просто молодец, папа! И вообще, – она смутилась, – мне кажется… Как это по-русски? Ты – классный!
– Во-на! Стоило тебя на полчаса одного оставить, ты уже с барышнями обнимаешься.
Одетый в больничную пижаму и жилетку Митрича, Данилов, прихрамывая, крабом протиснулся в дверь палаты.
– Живой, чертяка!
– Да! Я уже со всеми твоими барышнями перезнакомился, пока ты дрых, морда ты москальская! Они меня с ложечки пару дней кормили, гулять выводили по коридорчику. Да-да! – заметив вспыхнувший взгляд Хабарова, подтвердил Данилов. – Ой, повезло тебе, Саня! Делись! Молоденькую – мне, а строгую тигру – тебе.
– Это кто «строгая тигра»?
– Алина Кимовна твоя! «В палате не курите!» «Пейте свежий морковный сок, это полезно!» «Идемте по коридорчику гулять, вам нужно больше двигаться!» «Почему вы забыли выпить лекарство?» «Наденьте жилетку, простудитесь!» «Идемте на укольчик». «Не ходите босиком, давайте я надену вам шерстяные носки». Прямо замучила!
Хабаров счастливо улыбнулся.
– Не буду я с тобой делиться, Мишаня.
– Что так?
– Жадный.
– Ну, вот что, жадный, ты тут лежи, а мы с Анечкой пойдем, за обедом тебе сходим. Есть-то хочешь?
Хабаров кивнул.
– Значит, жить будешь.
Данилов одной рукой оперся о костыль, другой об Анькино плечо, и потихонечку они зашагали к двери.
– Папа, не скучай. Я сейчас вернусь! – Аня помахала ему рукой.
Он кивнул в ответ, откинулся на высокие подушки, закрыл глаза.
То, что вошла она, Хабаров не увидел. Он сначала это почувствовал: сердце затрепетало, как у мальчишки.
Она стояла в дверях, как всегда красивая и строгая. В ее руках был букет дивных цветов. Нет, это были не подснежники. Это были именно те цветы, что он собирал на речной проталине, с нежно голубыми, прозрачными, точно хрустальными бутонами.
Хабаров откинул одеяло, держась за спинку кровати, встал. Голова чуть-чуть кружилась. Он пошатнулся, но справился с собой. До нее была только пара шагов.
– Это тебе… – Алина протянула ему букет.
Он взял ее за руку, державшую цветы, привлек к себе и обнял, властно и бережно.
Во дворе института онкологии она ждала его уже четыре часа. Она то отогревалась в машине, то опять и опять туда-сюда сновала по хрусткому, тронутому оттепелью февральскому снегу.
– Алина!
Она вздрогнула, обернулась. Дыхание затаилось. Сердце замерло на половине удара.
Хабаров подошел, ладонями коснулся ее лица.
– Я здоров. Абсолютно! Представляешь?! – не веря самому себе, сказал он. – Врачи в шоке! Я… – он запнулся от нахлынувших чувств. – Я не могу поверить!
Они обнялись и долго-долго стояли так, душа к душе, сердце к сердцу.
Из окон больницы на них смотрели любопытные зеваки, что-то оживленно поясняя друг другу.
У ворот больничного городка остановилась машина «Центроспаса». Из нее вышли шестеро и по главной аллее пошли к корпусу. Вскоре, увидев Хабарова и Алину, от группы отделился мальчишка и припустил к ним.
– Антон, скользко! Не упади! – крикнул вслед ему Лавриков.
Светило солнце. Небо было голубым, с редкими перистыми облаками – облаками хорошей погоды.
Хабаров запрокинул голову и, глядя в эту бездонную высь, что-то тихо-тихо, одними губами благоговейно шептал, смахивая слезы.
Жизнь продолжалась. Она звучала в нем колокольчиками Хрустальной Сиверсии. Теперь он точно знал: жизнь продолжается, пока в сердце живет любовь.
Примечания
1
Китайско-Восточная железная дорога между станциями Манчжурия – Хайлар – Харбин «Пограничная» – Харбин «Чанчунь». Строительство дороги завершено в 1903 году.
(обратно)2
Рыболовное судно, предназначенное для ловли рыбы в дрейфе при помощи плоских сетей высотой от 3 до 15 метров и длиной до 5000 метров, свободно плавающих после их постановки.
(обратно)3
Запчасти первой категории – новые запчасти, не бывшие в употреблении.
(обратно)4
Молотое зерно с травяными добавками.
(обратно)5
Зюзга – весло для перемешивания икры в процессе обработки.
(обратно)6
Грохотка – сетка для просеивания и очистки икры.
(обратно)7
На языке оперов так называют работу в камере с лицом, не желающим давать правдивых показаний. В камеру к такому лицу помещается «такой же по процессуальному положению», а на деле – опер или «агент», который и убеждает дать правдивые показания. Мотивировка может быть различной: от советов «бывалого», до угроз и запугивания, физического насилия.
(обратно)8
Завербовать, сделать «агентом».
(обратно)9
7,62 – калибр пистолета ТТ.
(обратно)10
Имеется в виду Лао-Цзы – древнекитайский философ (VI–V вв. до н. э.) и его философский труд «Дао-дэ-цзин, или Книга Пути и Благодати»
(обратно)11
Контролер.
(обратно)12
«Бивень» – слабоумный человек. (жарг.)
(обратно)13
«Быть в дыму» – не знать что делать. (жарг.)
(обратно)14
«Фарт не катит» – не везет. (жарг.)
(обратно)15
Имеется в виду Берлинский кинофестиваль и его главный приз.
(обратно)16
Упасть на хвост – получить что-то даром (жарг.).
(обратно)17
Деревянный по пояс – слабоумный человек. (жарг.)
(обратно)18
Цифры – деньги. (жарг.)
(обратно)19
Понт не навожу – не обманываю, не искажаю факты. (жарг.)
(обратно)20
Сигнализатор высоты, прибор для парашютизма.
(обратно)21
Костюм-крыло, применяемый в парашютизме для длительного плавного, возможно, горизонтального скольжения, например, параллельно рельефу (склону горы и т. п.).
(обратно)22
Серый – человек, впервые совершивший преступление, попавший на зону. (жарг.)
(обратно)23
Обкатать – поставить в зависимость, подчинить. (жарг.)
(обратно)24
Битый парень – смелый человек. (жарг.)
(обратно)25
Блатной шарик – солнце. (жарг.)
(обратно)26
Ангар – тумбочка. (жарг.)
(обратно)27
«Чехами» на этой зоне называли чеченцев.
(обратно)28
Ш трафной изолятор.
(обратно)29
Один из пунктов «кодекса воровской чести». В частности, считается, что «вор в законе» просто так нож не достанет, а если достанет, то обязательно кого-нибудь «насадит».
(обратно)30
«Раздеться!» (англ.)
(обратно)31
Девиз спасателей.
(обратно)32
Отрывок из стихотворения С. Есенина «Листья падают…»
(обратно)33
Диггер – дословно «копатель»; альтернативное увлечение, связанное с исследованием урбанистических «горизонтов» ниже уровня асфальта: исторические подземелья, городские коммуникации, бомбоубежища, ветки метро и т. п.
(обратно)34
«Для неверу» – пустить пыль в глаза. (жарг.)
(обратно)35
Препарат, применяемый в противоожоговой терапии при термотравмах гортани и легких.
(обратно)36
Дым, образующийся при горении пластика, лакокрасок как правило содержит азотную или азотистую кислоты, фосген и газообразную гидроциановую кислоту. Вдыхание такого дыма приводит к химическому ожогу дыхательных путей и отеку легких. Вдыхание пламени, горячего воздуха влечет за собой ожог верхних дыхательных путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Ожог верхних дыхательных путей и повреждение легких приводят к нарушению доставки кислорода к тканям организма – гипоксии. Такое поражение фактически блокирует поглощение и перенос кислорода в ткани, что является причиной смерти. Внешними признаками гипоксии являются спазмы мышц и судороги, бледность кожных покровов, воспаление горла и слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
(обратно)37
См. Евангелие от Матфея: 6 (19–21): «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе… ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
(обратно)38
См. там же: 6 (24): «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне».
(обратно)39
Advanced Trauma Life Support.
(обратно)40
АН-94 – автомат Никонова, два первых выстрела совершаются вообще без отдачи. На вооружении спецслужб.
(обратно)41
Псалтирь. Каф.5, псалом 34.
(обратно)42
Маскообразность лица.
(обратно)43
Стокгольмский синдром – психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать захватчикам. Авторство термина приписывают криминалисту Нильсу Биджероту, который ввел его в обиход во время анализа ситуации, возникшей в Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года. Ситуация сложилась следующим образом. Два рецидивиста в финансовом банке захватили четырех заложников – мужчину и трех женщин. В течение шести дней бандиты угрожали их жизни, но время от времени давали кое-какие поблажки. В результате жертвы захвата стали оказывать сопротивление попыткам правительства освободить их и защищать своих захватчиков. Впоследствии, во время суда над бандитами, освобожденные заложники выступали в роли защитников бандитов, а две женщины обручились с бывшими похитителями.
(обратно)44
Тюбинг (от английского «tube» – труба) – часть конструкции метрополитена, элемент крепления подземных тоннелей округлой формы.
(обратно)45
Руддвор – подземное помещение около ствола основного тоннеля, где могут размещаться депо, насосная и т. п.
(обратно)46
Пушту и дари – два официальных языка Афганистана.
(обратно)47
Сооружение для размещения подъемной установки.
(обратно)48
Сибирская козуля – дикая коза, мясо которой используют в пищу, а зимнюю шкуру для спальных мешков, одеял и т. п.
(обратно)49
Дхаммапада, дхамма 35
(обратно)50
Первое послание к Коринфянам святого Апостола Павла. 13,2.
(обратно)51
Евангелие от Марка. 14,36
(обратно)52
«Вступить в поток» – используемое довольно часто буддистами выражение, означающее первый шаг в духовной жизни.
(обратно)53
См.: Откровение Святого Иоанна Богослова. 12, 7.
(обратно)54
«Кабан» – (от французского саbаnе – шалаш) надстройка над фюзеляжем вертолета, где находится силовая установка: спереди два двигателя, сверху вентилятор, охлаждающий маслорадиатор и главный редуктор.
(обратно)55
Авторотация – от греческого аutos – “сам” и латинского rotatio – “вращение”, режим работы несущего винта вертолета с неработающим двигателем, при котором энергия вращения отбирается от набегающего на винт снизу, в результате снижения, потока воздуха. Технически возможна потому, что между двигателем и несущим винтом стоит обгонная муфта, позволяющая винту свободно вращаться и с неработающим двигателем. Используется для аварийной посадки вертолета и выхода из «вихревого кольца».
(обратно)




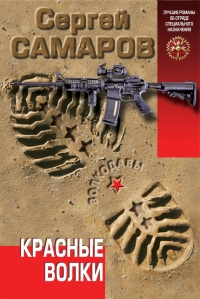

Комментарии к книге «Сиверсия», Наталья Троицкая
Всего 0 комментариев