Эдуард Байков. Время собирать
Где-то там, на пороге сознания, заскреблась не прошеным мышонком мысль и слегка удивила, что жизнь его через триста шестьдесят дней перевалит за сороковник. Виктор Муромов усмехнулся. У него и привычки-то такой не было — отмечать свои дни рождения, а тут вот как-то спонтанно получилось, хотя и дата была не круглой. Пришли трое сослуживцев, без жен — он решил устроить мальчишник — и без мундиров — впрочем, они и на службу ходили чаще всего во всем цивильном, так уж у них, разведчиков было заведено. Виктор же, сколько себя помнил, какие только прикиды не примерял — чуть ли не всех стран и народов. Лохмотья клошара [1] и тысячедолларовые смокинги, монашеские рясы и камуфляж — любые тряпки смотрелись на нём как собственная кожа, а однажды даже пришлось наряжаться в дамское платье и изображать из себя трансвестита. И все ради целей, которые ставила перед ним Родина.
Что же сделали с Родиной? Была великая держава, а теперь остались от нее рожки да ножки.
«Советский Союз, — думалось Муромову, — был, как известно, самым крупным государством во всем мире, занимал территорию, равную без малого шестой части всей суши. Причём Россия составляла примерно семьдесят семь процентов площади СССР, а оставшиеся двадцать три — остальные четырнадцать республик, вместе взятых». Помнил он и о том, что по размеру своей территории Россия и сейчас занимает первое место в мире. За нею идут Канада и Китай. США — мировой господин занимает лишь четвертое место в этом ряду, затем следуют Бразилия и Австралия.
Муромов прекрасно осознавал и гордился этим, что ни одна из великих империй прошлого не достигала ТАКИХ границ и ТАКОГО влияния как Советская империя — ни Римская, ни империя Александра Македонского, ни в более далёком прошлом легендарная Атлантида, ни даже обширная Монгольская империя Чингисидов. Единственная в своем роде, уникальная, грандиозная держава с поистине МИРОВЫМ значением, дух и плоть Евразии, наследница арийской Арктиды [2]. А самое главное — преемница Рима и Византии; Третий Рим, принявший знамя истинного духовного Завета Господа Нашего Иисуса Христа — ортодоксального христианства, православия.
«Где же она теперь, моя Родина?! — в отчаянии думал Виктор. — Ее изнасиловали, изгадили и продали грязные ублюдки с нечистыми душами и помрачённым рассудком! Народы и их правители, которые должны были стремиться к России, как к свету Божьему, сияющему во мраке погрязшей в суевериях, с одной стороны, и в грубом культе материи, с другой, мировой цивилизации околдованных зомби и фарисействующих молохов! Они перерубили сук, на котором спокойно сидели до этого, и теперь летят прямиком в ад, куда им всем и суждено было попасть. Но не смейте тянуть нас вслед за собой, нам с вами не по пути, алчные гешефтмахеры Сиона и Уолл-Стрита!»
Вот об этом они и говорили, наполняя рюмки, и по традиции чокались, провозглашая тосты. На мгновение задумывались, а за что пить — за свою нищенскую, жалкую зарплату, или за то, что все идеалы похерены, а патриоты вымерли? Конечно, каждый из их четверки, офицеров одной из самых могущественных спецслужб мира — в свое время даже при слове «КГБ» так не трепетали — любой из них мог бы легко, играючи стать миллионером. И дело здесь было не только в обладании ценнейшей для противника информацией и опытом, но и из-за статуса, который они имели в этом засекреченном, недоступном для глаз большинства, мире разведок и спецслужб. Статуса, позволявшего им заводить какие угодно знакомства и контакты — деловые, любовные, дружеские — в среде богачей и знаменитостей, в творческой элите, в самых высших эшелонах власти.
Организация, на которую трудился Виктор Муромов в звании полковника, имела внушительное название — Главное Разведывательное Управление Генерального штаба Вооруженных Сил, или просто и коротко — ГРУ.
И вот, решая, за что пить, друзья поднимали рюмки за именинника, за его заслуги перед российским народом и за дальнейшие успехи и удачу во всех начинаниях. Потом пели песни, перебрав, кажется, все какие знали — от советских патриотических до общеизвестных народных. Далеко за полночь гости разошлись, а хозяин остался в одиночестве, пьяно уставившись на заставленный теперь уже пустой посудой стол с пепельницами, доверху наполненными окурками. Виктор так и не заметил момента, когда сон сморил его, успев перед этим добраться до кровати и плюхнуться на нее, не раздеваясь.
Сегодня, спустя двое суток после памятного вечера, он лежал в темноте с открытыми глазами и размышлял о том, сколько уже прожито лет и, если быть честным перед самим собой, то всё впустую. Он не нажил богатства, не приобрел славы и не отыскал счастья. У него даже не было семьи. Издержки профессии — скажете вы и окажетесь… совершенно, не правы. Большинство сотрудников разведок мира, а особенно советских, имели семьи, любили жен и радовались детям. Хотя в виде исключения были и такие плейбои как он — причём обоих полов.
Муромов принадлежал к элитной и очень засекреченной даже в недрах ГРУ категории сотрудников спецотдела, выполняющих особо важные для обороноспособности и безопасности страны задания. Полковник Муромов был на особом счету и как «оперативник-крышевик» не имел себе равных. Под его руководством была особая группа, а перечень его умений мог бы составить целую брошюру, этакое пособие для начинающего разведчика. Владел он также навыками спецназовца и диверсанта.
В последнее время их организация слегка поубавила свою мощь и влияние, впрочем, все основные позиции за собой сохранила — потенциал-то был накоплен огромный. Пришлось переориентироваться, меняя направление — теперь всё чаще приходилось работать на своей территории. Тем самым нарушалась основная заповедь любой разведки, в том числе ГРУ и СВР [3] [4] (бывшего ПГУ КГБ [5]) — работать только за пределами своей страны, внутренними же «разборками» всегда занималась контрразведка. Теперь враг чувствовал себя вольготно в самой России. Государство было разделено на множество противоборствующих лагерей. Муромов помнил, что такое мы уже проходили во время междоусобицы русских князей, которой успешно пользовались враги с Запада и Востока.
Последнее свое задание, которое Муромов получил, было связано с заграницей. И проделал он всё, на этот раз в одиночку, без поддержки группы, далеко от родных просторов. После удавшейся акции ему пришлось уносить ноги в таком быстром темпе, как, пожалуй, никогда за всю свою долгую и успешную карьеру оперативника высшего класса. С большим трудом, обрубив все «хвосты», он сумел оторваться от преследовавших его повсюду искусных убийц, работавших на сицилийские мафиозные кланы. Лишь очутившись в Москве, он смог спокойно вздохнуть, убедившись в сохранности своей шкуры.
На следующий день он взял отпуск на месяц. А ещё через двое суток полковник пересёк тридцать девятый рубеж своей жизни.
Жизнь наша, а вместе с нею и мы, меняется либо медленно и незаметно, по капле в час, либо резким виражом, зигзагом, внезапно раздавшимся громом и блеснувшей во тьме молнией.
В тот день поутру пролил сильный ливень, но к полудню небо очистилось от туч, оставив легкую пелену сплошных облаков, за которыми скрывалось солнце. Муромов, решивший не брать машину со стоянки, шел по мокрым тротуарам и, перепрыгивая лужи, не переставал удивляться, как всё-таки похожи улицы больших городов в любой из стран Европы — сегодняшняя Москва ничем не отличалась от них — и, в то же время, как они различаются своим особым национальным колоритом, историческим духом каждой местности и людьми, которые их населяют.
Вскоре полковник свернул с оживлённой улицы в один из переулков Садового Кольца. Когда проходил мимо старого, довоенной постройки дома, из распахнутого на втором этаже окна донёсся хриплый баритон, под бренчание гитары распевавший «Поручика Голицына» в собственной интерпретации:
«Сверкание молний, и грома раскаты,
Ну, что загрустили, мой юный корнет?
А в комнатах наших сидят демократы
И девочек наших ведут в кабинет».
Слово «демократы» невидимый исполнитель пропел с нескрываемой ненавистью и презрением.
«Браво!» — мысленно поаплодировал певцу Муромов и в следующую минуту, миновав дворик и арку, очутился в очередном пустынном переулке.
Впереди двигалась одинокая фигура девушки, показавшейся ему со спины очень даже привлекательной. Из подъезда отремонтированного по высшему разряду здания показалась группа мужчин, направляющаяся к похожему на раскормленного бегемота огромному лимузину с работающим двигателем. Намётанным глазом Виктор определил богатого бизнесмена и его трёх телохранителей. Девушка поравнялась с ними, замедлив шаг, пропуская шедших ей наперерез. Один из охранников не спускал с неё глаз, двое других внимательно смотрели по сторонам, не забывая и про окна близлежащих домов.
«Жигули» пятой модели («форсированный движок», — успел отметить про себя Муромов) появились неожиданно для всех, и в ту же секунду из его окон с приспущенными стёклами застрочили автоматы («АКМ и АКСУ», — вновь отметил Муромов) — стрелков было двое, третий из нападавших сидел за рулём. В следующее мгновение полковник, действуя чисто рефлекторно, ушел с линии огня, укрывшись за мусорными баками, стоящими неподалеку.
Наблюдая оттуда, он с ужасом заметил девушку, напуганным зверьком застывшую посреди этой бойни. Вокруг неё свистели пули, а она стояла и не двигалась, обезумев от нереальности происходящего.
«Падай, идиотка!» — в отчаянии крикнул Муромов, решивший было броситься к ней, но тут всё и закончилось.
Киллеры изрешетили очередями бизнесмена и четверых его телохранителей, включая и водителя лимузина. Девушка осталась целой и невредимой, и это было похоже на чудо. Лишь один из охранников прежде, чем его пристрелили, успел выхватить оружие и разок пальнуть. Девушка, наконец, опомнилась и в шоке, выкрикнув что-то гневное, подхватила «пушку» неудачливого рынды [6]. Зажав пистолет в обеих руках, она неумело прицелилась и надавила на спусковой крючок.
Она стреляла, как выяснилось потом, первый раз в жизни, тем более по движущейся мишени. Но, тем не менее, все три выстрела, которые она успела сделать, достигли цели. Первая пуля чиркнула по переднему крылу, вторая сорвала колпак с заднего колеса, третья разнесла вдребезги заднее стекло автомобиля. Дальше стрелять не имело смысла — машина вильнувшей акулой скрылась за поворотом.
Муромов, тем временем, не упуская картину из виду, позвонил по телефону-автомату в милицию. Сообщив всё, что нужно, в том числе марку и номер машины киллеров, он повесил трубку, протерев её носовым платком. Затем подскочил к девушке, потрясённо взиравшей на окровавленные трупы, без слов забрал у неё «ствол» и так же тщательно обтер его, сунув в руку мертвого владельца.
— Пойдёмте, нам незачем здесь оставаться, — увлек он её за собой, подумав, что в лучшем случае её затаскают по судам да следствиям, а в худшем просто уберут как опасного свидетеля.
— Куда вы меня ведёте? — спустя какое-то время, словно только очнувшись от наваждения, взволнованно спросила она, остановившись и пристально глянув ему в глаза.
— Подальше от головной боли, — серьезно ответил полковник, скользнув взглядом по её прическе, лицу, фигуре — спереди она оказалась просто очаровашкой. Его интерес не укрылся от девушки, она отвела взгляд.
— А вы смелая, — добавил он, усмехнувшись, — и отчаянная.
— Да, какая к чёрту смелость, — пробормотала она, — просто я до такой степени перепугалась, что разозлилась на этих ублюдков, вот и схватила пистолет. Сама до сих пор не пойму, как решилась на такое.
— Ладно, пойдёмте. Лучше уйти от греха подальше. Извините за любопытство, а вы куда направлялись?
— Да по делам шла, по работе, — пояснила та, — но теперь какие дела, после этой мясорубки.
Она поморщилась, добавив:
— Сейчас неплохо было бы расслабиться с чем-нибудь покрепче и лечь спать.
— А вы это любите? — Виктор слегка приподнял бровь.
— Что? — непонимающе переспросила девушка.
— «Расслабляться».
— Да нет, что вы, — рассмеялась она, — терпеть не могу. Это я так, к слову. Ну, если только чуть-чуть и по значительному поводу — вино там полусухое или шампанское. От остального меня воротит.
— Я восхищен вами. Девушки вашего возраста теперь…, — он замялся, подыскивая слова.
— Пьют, что попало, курят, «забивают косячка» и спят со всеми подряд, — нарочито грубовато и откровенно закончила за него она, с вызовом глядя ему в глаза.
— Ну, не совсем так…
— Но, верно по существу.
Муромов быстро глянул на неё и, покачав головой, скорчил смешную гримасу, вызвав в ответ смех.
— А, вы — не такая?
— Не такая, — всё ещё смеясь, ответила девушка, — вообще-то курю, но время от времени бросаю.
— Ну, что ж, в таком случае давайте, познакомимся, что ли для начала?
Он представился.
— Татьяна, — просто ответила его спутница.
— Тать и Яна, — в шутку пробормотал Виктор.
Девушка лукаво посмотрела на него, смешливо наклонив голову и прищурившись.
— Знаете, а ведь я — журналистка. Доводилось писать и о подобных случаях. Но, чтобы самой участвовать в такой передряге…
— Журналистка — очень интересно…
— А вы, чем занимаетесь, если не секрет?
— Вообще-то секрет, — серьезно заявил её собеседник, — но вам откроюсь, я — агент национальной безопасности.
Сказал и чуть не рассмеялся, вспомнив шедший по каналу НТВ одноимённый сериал.
— Неужели? — иронично воскликнула она, готовая включиться в игру.
— Шучу, — улыбнулся полковник и, достав удостоверение сотрудника МИДа — любой «грушник» имел подобное для прикрытия — развернул его, показывая спутнице.
Та взяла удостоверение в руки, прочитала — на её лице отразилось удивление.
— Так вы — дипломат? — наивно переспросила она.
— Как видите. Не разочаровал?
Она с интересом смотрела на него, не находя, что ответить.
— Не возражаете, — неожиданно обратился он к ней, — если мы зайдём в бар и выпьем вашего любимого вина?
И так же неожиданно для себя она согласилась.
Когда выходили из бара, обоим показалось, что между ними появилось чувство некоторой близости. Обменявшись телефонами, они расстались. Муромов с грустью возвратился в свою пустую двухкомнатную квартиру на Чистопрудном бульваре. И одиночество показалось ему сейчас особенно острым и тягостным.
Познакомившись с очаровательной журналисткой, Муромов стремительно развивал достигнутый успех, призвав на помощь весь свой опыт и обаяние.
Но перед этим он по своим каналам «пробил» все, какие только могли относиться к ней сведения о личной жизни, учебе, работе, родителях, контактах и прочих несущественных на первый взгляд мелочах. Ничего, что могло бы насторожить опытного разведчика, он не нашел. Перед их конторой и «соседями» девушка была чиста.
После этого он расслабился, посмеявшись над своей профессиональной подозрительностью. Муромов водил ее в лучшие рестораны. Они обошли все музеи, выставки, вернисажи — было заметно, что Татьяне нравится его общество. Порой они просто гуляли вдоль набережной и по аллеям Бульварного кольца, каждому из двоих было интересно мнение собеседника по самым разным вопросам, какие только приходили в голову.
Виктор до этого и не подозревал, что можно так замечательно проводить время с понравившейся женщиной — разве мало было у него раньше связей? Но в том-то и дело, что увлечения эти, мимолетные и ни к чему не обязывающие, не заходили слишком далеко, а, если он чувствовал, что подобное может случиться, то сразу же прерывал все отношения, исчезая из жизни своих временных подруг. Сейчас он совсем не хотел, чтобы их связь оказалась подобной ошибочному телефонному звонку.
Все те годы, что отдал службе в ГРУ, он постоянно пребывал в колоссальном напряжении, не позволяя себе расслабиться и допустить просчет, чреватый провалом и гибелью не только его самого, но и боевых товарищей. Он уже почти свыкся с тем, что как искусный актер все время играет разные роли, вживаясь в те или иные образы и примеряя на себя многочисленные маски. Но все это было чужим , не его личной, настоящей сущностью, о которой знал только он, да те несколько посвященных в его работу кураторов с седым ежиком волос и генеральскими звездами на погонах. Даже его престарелые родители и многочисленная родня, проживающая в Курске, не могли знать, чем конкретно занимается их сын и родственник в рядах Вооруженных Сил.
Раз в год Муромов наезжал к ним погостить на недельку, а то и того меньше. И разве могли они за столь короткое время прочувствовать его характер, понять изменения, произошедшие с ним с тех пор, как еще восемнадцатилетним парнишкой он был призван в армию, да так с того памятного дня отправки эшелонов с призывниками и не вернувшийся больше в родной город.
Дальнейшая судьба определилась его физическими и умственными способностями — два года службы в частях ВДВ, под конец которой сложилось стойкое убеждение остаться в армии. После — учеба в Рязанском высшем воздушно-десантном училище, несколько лет службы офицером в Прикарпатье, затем вновь учеба в Военной академии им. М. В. Фрунзе. Отсюда его взяли в ГРУ, снова готовили в закрытой спецшколе. После этого обучение закончилось, началась работа.
Работа, о которой до сих пор мало что известно, несмотря на «откровения» предателей и перебежчиков, мемуары отставников и скандальные статьи ушлых журналистов. На самом деле секреты строго охраняются, как в ЦРУ, Моссаде, МИ-6 [7], так и в ГРУ, КГБ, или в какой-либо иной разведке мира. КГБ как такового давно нет, исчезла «Штази» [8], переродились и перекрасились спецслужбы других стран бывшего соцлагеря. А вот ГРУ как стояло со дня его основания, вырисовываясь грозным неприступным бастионом в тумане геополитического противостояния, так и стоит крепко, по сей день.
Муромову было известно, как и многим настоящим патриотам России, что в КГБ за последние десятилетия просочилось немало враждебно настроенных по отношению к Советскому Союзу кадров, в ГРУ же такого не было никогда.
Вскоре после знакомства с Таней Муромов почувствовал, что Москва становится для них несколько тесноватой. Той любви, что возникла у обоих, притянув в порыве взаимного чувства, требовались иные просторы, смена обстановки, романтический антураж. Подсчитав свои сбережения, полковник удовлетворенно хмыкнул — вполне хватало на поездку вдвоем и двухнедельное проживание где-нибудь на южном курорте. Не долго думая, он выбрал Крым и, посоветовавшись со своей подругой, приобрел билеты на самолет, вылетавший через два дня.
В тот же день, когда Муромов после встречи с Татьяной возвращался домой, во дворе возле подъезда его ждали. Припарковав «восьмерку», он заметил расположившегося на скамеечке пожилого мужчину с большой лысиной и добродушным лицом. В руках у пенсионера была сумка, доверху набитая продуктами. И разве мог кто-нибудь из окружающих подумать, что перед ними генерал-«грушник» и непосредственный начальник Муромова.
— Здравствуйте, Николай Степанович, — не выказывая удивления, поприветствовал полковник.
— Здравствуй, Витюша, — тот легко поднялся со скамейки, — в гости вот к тебе собрался. Не прогонишь старика?
— Ну, что вы, — усмехнулся Муромов, — да и потом, разве вас прогонишь?
Генерал рассмеялся.
Не успели войти, гость принялся расставлять бутылки, закуску. Заметив удивленный взгляд хозяина, пояснил:
— Я у тебя вроде как в первый раз, да и отпуск твой следует обмыть.
Подняли рюмки, чокаясь, выпили. Прожевав шпротину, Виктор испытующе посмотрел на шефа:
— Что-нибудь случилось, Николай Степанович?
— А ты сам не догадываешься? — вопросом на вопрос ответил тот.
— Полагаю, плакал мой отпуск?
— Все правильно, Витюша, твоя проницательность как всегда на высоте. Кстати, ты еще не забыл, как пару недель тому назад убегал от волков?
— Такое забудешь, — усмехнулся Муромов.
— То-то и оно. И на этот раз задание будет не только чрезвычайно важное, но и опасное. Образно говоря, нужно залезть прямиком в пасть тигру. Тебе лучше всех известна обстановка в том регионе. Но… из соображений безопасности мы можем отклонить твою кандидатуру.
— Николай Степанович…
— Ты подожди, Витя, послушай старшего по званию, — остановил его генерал, — сам посуди, кто ты есть на этой земле и сколько у тебя врагов. От страны пребывания, где тебе предстоит выполнять задание, рукой подать до Сицилии, откуда ты еле унес ноги. Это все хорошо, Витюша, твой роман с замечательной девушкой… Только, ты, не подумай, будто мы лезем в твою личную жизнь. Это твое и только твое дело, и дай вам Бог счастья обоим. Но, Виктор, будем говорить прямо — на этот раз придется рисковать не только самому, но и работать в паре со спутницей, так как она послужит твоим прикрытием. А легенда такова: состоятельный мужчина едет со своей невестой на Кипр отдохнуть и развеяться. Ну, что скажешь?
— Я все прекрасно понимаю, — спокойно ответил тот, — только и вы чересчур высокого о них мнения. Им не было известно мое имя, моя точная внешность, национальность — я для них был просто призраком, который появился из мглы и туда же ушел, растаяв. Они могли меня схватить, но не получилось. И сейчас достать меня никак не смогут, даже, если я снова сунусь в их логово. А ведь это — Кипр, где тысячи отдыхающих, туристов со всего света. А, уж сколько там россиян околачивается… Я полагаю, вы преувеличиваете риск. Извините, но это мое мнение. И если вы мне доверяете, я готов выполнить любое ваше задание.
Генерал молча выслушал его, кивнув, поднял рюмку:
— Ну, давай, за правоту твоих слов. Если бы я захотел, то запретил бы тебе. Но я не хочу давить на тебя сейчас. Слишком многое ты вытерпел ради служения Родине. И… Виктор, я рад, что ты принял именно это решение.
Прошло определенное время, которое было потрачено на спецподготовку для выполнения задания. Затем любовники вылетели из столицы. Их ждал солнечный Кипр.
* * *
Божественный остров, на берег которого из волн морских когда-то вышла Афродита. Давно это было, так давно, что никто уже и не помнит, когда. Здесь она, самая прекраснейшая из богинь, проводила счастливые дни со своим любимым Адонисом, столь же ослепительно красивым и совершенным, как и она сама. Забыв о своих братьях и сестрах — небожителях, позабыв о светлом Олимпе, верной спутницей сопровождала она его повсюду. На охоте ль, на отдыхе ли — везде богиня была рядом с ним, а горы, холмы и леса стали свидетелями их любви.
Неразлучны были влюбленные, пока не вмешался в эту идиллию слепой рок. Отнял на охоте жизнь прекрасного юноши свирепый вепрь, свершилось предначертанное мойрами [9] в отсутствие Афродиты. А, когда узнала о страшном событии, горько рыдая, отправилась искать тело своего смертного мужа. Камни резали ей ноги, колючий терновник рвал кожу, и на месте пролитой крови вырастали прекрасные розы. Нашла она своего суженого, и не было предела ее горю. Но разве не преодолевает великая любовь все преграды, побеждая даже саму смерть?! Благодаря милости Зевса лишь полгода пребывает Адонис в царстве мертвых, а остальные полгода возвращается в мир наш к своей богине любви.
Прекрасный остров, помнящий поступь многих богов и героев.
Они поселились на берегу моря, в четырехзвездочном отеле «Амальфия», хозяином которого был жизнерадостный коротышка грек, умеющий, к их огромному удивлению, довольно сносно изъясняться по-русски. Оправдывая свое название, отель оказался столь же щедрым на дары природы — ярко сияющее солнце, теплый песок, ласковое море, заросли пальм, пестрые клумбы с экзотическими цветами, горы фруктов и отменная кухня. Море было рядом, стоило лишь спуститься вниз по каменным ступеням, и вот он — пляж. Первые несколько дней они не покидали его, с утра до вечера валяясь на песке, впитывая в себя живительные лучи солнца, барахтаясь в соленых волнах и вдыхая полной грудью влажный воздух, насыщенный неповторимым запахом моря. Вскоре наступило пресыщение. Вдоволь накупавшись и успев покрыться золотистым загаром, они решили перейти к более активному отдыху — вылазкам по окрестностям, осмотру местных достопримечательностей — одним словом, насладиться прелестями туризма по полной программе.
Виктор взял напрокат машину — далеко не самую плохую модель «Фольксвагена». В это время года дожди здесь — явление чрезвычайно редкое, почти всегда стоит ясная, солнечная погода и, если бы не освежающий ветерок с моря, ощущение было бы таким же, как от пребывания в жарко натопленной парилке.
На Кипре к крупным городам — помимо столицы Никосии — можно причислить разве что еще четыре, являющихся одновременно главными портами. Местечко, где они отдыхали, находилось неподалеку от Пафоса, одно название которого [10] уже должно было вызывать у туристов радостное предвкушение отдыха и восторженно-приподнятое настроение. Местным же жителям было глубоко плевать и на название их родного города и на то, что оно навевало. Лишь бы было больше отдыхающих, готовых расстаться с содержимым своих кошельков, поддерживая тем самым местную торговлю и, конечно же, сам туристический бизнес. Экономика острова, носящая аграрный характер, поддерживалась в основном за счет экспорта фруктов, виноделия и туризма. Площадь территории — чуть меньше нашего Онежского озера, а все население свободно разместилось бы в одном из таких городов как Пенза или Саратов.
Со своей спутницей Виктор объездил все окрестности, гоняя по удобным, проложенным повсюду трассам. Современные автомобильные дороги, как и предлагающие всевозможные развлечения, рестораны, таверны, ночные клубы и диско-бары — веяния нового времени. Большинство туристов днем либо отдыхали на море, либо осматривали памятники древней и средневековой культуры, вечером же начиналась другая жизнь. Каждое из ночных заведений предлагало какие-то свои, особенные развлечения. В одном вы могли вдоволь насладиться зрелищным кабаре или банальным стриптизом, в другом плясуны-акробаты проделывали различные номера и трюки, в третьем вы сами отплясывали вместе с танцорами традиционный сиртаки [11] и пели под караоке и шумные аплодисменты посетителей. Одним словом, везде было весело. Молодежь, в основном, предпочитала резвиться в ночных диско-барах и дансингах, исступленно дергаясь под бесовскую музыку в стиле техно и транс.
Во время своей первой экскурсии Виктор с Татьяной, исколесив вдоль и поперек новый Пафос, отправились затем на восток к мысу Афродиты, где обнаружили выжженные солнцем развалины храма богини. Там же находилась и утопающая в зелени средневековая вилла с музеем. В этот же день они побывали в деревне «Священные сады», где расположена византийская церковь с великолепными фресками. На каждом углу турки-киприоты торговали восточными сладостями. Полакомившись там рахат-лукумом, путешественники вернулись в Пафос, заехали в гавань и, оставив машину, пешком добрались до старой крепости — военной цитадели, построенной еще в тринадцатом веке. Попасть в нее можно было только по перекидному мостику.
Все это время их чичероне был Муромов, с увлечением описывающий своей спутнице историю прекрасного острова. Та была приятно удивлена.
— У меня такое ощущение, — целуя его, промолвила девушка, — что ты совсем недавно сдал экзамен по истории и географии Кипра.
— А вот и не угадала, — рассмеялся он, — просто, прежде чем ехать, я основательно подготовился, просмотрев несколько демонстрационных видеокассет по Кипру — их специально подготавливают для русских туристов. Ну, еще кое-какие сведения я почерпнул из специализированных изданий.
— Как все просто, — пробормотала она, — и все же ты у меня умница.
— Стараюсь соответствовать, — улыбнулся он, галантно предложив ей руку.
По всему острову было разбросано немалое количество церквей и базилик [12]. В одной из самых больших внимание Виктора привлекла к себе настенная живопись — изображение Христа в золотистых одеяниях, с одухотворенным лицом. Он долго не мог оторвать взгляд от этого величественного и, в то же время, теплого, человечного портрета Спасителя, поражаясь таланту неизвестного художника, сумевшего передать все шедшее из его сердца.
В то же время Муромов подметил, что лик Христа очень похож на лицо грека. В связи с этим ему вспомнилось, как однажды он по служебным делам заехал в Алма-Ату и, увидев висящие в городе плакаты вождей пролетариата, чуть было не расхохотался — их лица были широкоскулыми, с маленькими глазками — типичные казахи. Наверное, те же китайцы изображают Христа желтолицым, с узкими щелочками глаз.
Подумав так, он отвернулся и, отыскав глазами Таню, рассматривавшую в немом восхищении стенные росписи с сюжетами на тему жития святых, направился к ней в другой конец церкви.
Следующим этапом стало посещение Византийского музея, известного своей большой коллекцией православных икон, собранных со всех окрестностей Пафоса. Это было двухэтажное здание в форме буквы «П», с идущими вдоль всего фасада длинными галереями. В залитом солнечным светом дворике были разбиты клумбы с цветами самой разнообразной окраски. Сочная зелень, изумрудные ветви пальм — как это типично для Кипра! Радующий взор пейзаж средиземноморского побережья.
Они ехали мимо раскинувшихся вдоль берега моря банановых плантаций к коралловой лагуне — излюбленному месту отдыха туристов. Пляж с необыкновенно чистым и мелким песком был весь усеян телами отдыхающих. Искушение поваляться на нем после купания было столь велико, что, оставив машину, они мигом скинули одежду, благо купальные принадлежности были на них, и поспешили к кромке воды.
Морские волны лениво омывали прибрежные валуны. На море — лазурном днем, и черном ночью — уже который день держался полный штиль. Виктор в солнечных очках и светлой каскетке полулежал на матрасе, демонстрируя тренированное, мускулистое тело, и благодушно наблюдал за непрерывной игрой солнечных бликов на водной глади. Татьяна, время от времени, поглядывая на него с улыбкой, ровными слоями наносила на кожу крем от загара. Это было похоже на идиллию, на какую-то райскую жизнь, что так разительно отличалось от ситуации в России за последнее десятилетие. Серые российские будни были наполнены каждодневной борьбой за выживание, страхом, алчностью и жестокостью. Они насквозь пропитались опасностью, кровью и смертью. В них царило безумство отчаявшихся масс и свихнувшихся на вседозволенности выскочек. Эта темная, холодная, сырая и мрачная, но до боли в сердце родная Россия была сейчас где-то там далеко, а они здесь.
Но разве была наша Родина такой доныне — Виктор вспомнил свое детство, юность. Нынче стало выгодно и модно возводить хулу да напраслину на ту великую державу, которую лучшие из лучших элементарно просрали. И кому — русофобам из всемирного масонства, кои есть враги православного христианства, то бишь сатанисты!
Вспоминалось такое: безоблачное небо, сияющее на нем солнце, цветущие луга с порхающими по ним бабочками — душами божьими. А еще врезавшаяся в память картина из раннего детства: широкое поле, полное благоухающих трав — васильков, лютиков, одуванчиков, ромашек… и стрекот кузнечиков. Господи, такая красота, благодать, умиротворение! И, казалось, впереди ждет что-то несказанно радостное, прекрасное, великое — от предвкушения чего сладостно замирало сердце, душа взволнованно трепетала, озаряясь светом преходящим и одновременно предвечным. Вот что всплывало в памяти Муромова о социалистической советской России.
«Беснуйтесь до времени, оглоеды! — сурово думал полковник. — Настанет срок, получите все сполна от Судии Вышнего!»
От Него каждому воздастся — по делам и помыслам его. Предающий отчизну — предает родителей своих, и народ свой, и любовь свою, а самое страшное — душу свою отдает во власть врага рода человеческого. А тот рад-радёхонек…
* * *
Мимо них, направляясь к воде и грациозно покачивая при этом бедрами, ожившей богиней прошествовала красивая блондинка со сногсшибательными формами. Полковник, не удержавшись, бросил на нее невольный взгляд — длинные стройные ноги, аппетитные ягодицы, плоский живот, роскошная грудь. У любого здорового мужика при виде этих ста семидесяти сантиметров лакомой плоти потекли бы слюнки. Вот она — прелесть чар, истинная дщерь Лилит! Такие самки призваны искушать добрых христиан — невольно подумалось Виктору. В следующее мгновение он, спохватившись, быстро отвел взгляд, что, впрочем, не укрылось от его спутницы.
— И что это ты там увидел? — иронично поинтересовалась она.
— Да так, — пробормотал тот, — ничего заслуживающего внимания.
— Неужели? — непритворно изумилась Татьяна. — А мне показалось… По-моему вы лжете, господин дипломат!
— О чем ты говоришь, лапушка? — он придвинулся к ней, прильнув губами к ее шее. — Да разве мне еще кто-нибудь нужен?
И, подражая голосам оперных певцов, громко пропел, вызвав ее звонкий смех:
— Кто может сравниться с Татьяной моей?!..
* * *
А сам подумал: где прелесть, там и дьявол — прельщает враг души живые человеческие. Ох, как ловко прельщает всеми соблазнами мира! Ловит на живца: кого на славу, кого на богатство, кого на власть, а кого и на утехи плотские. Умело давит на тщеславие, честолюбие, корысть, алчность да похоть. Сильна власть отца лжи над умом и чувствами. Да только Создатель могутнее! Посему и власть эта дана лукавому на время. Важно устоять, не соблазниться, не погубить душу бессмертную, но… трудно сие подвижничество — труднее не бывает. Нельзя жить во грехе, но и без оного тяжко — отсюда и мощь греховности.
* * *
Когда они, возвращаясь в отель, проезжали Пафос, в глаза им бросилась забавная сценка из повседневной жизни островитян — на площадке летнего кафе официант кормил большущих пеликанов. Экзотическое зрелище настолько понравилось туристам, что, притормозив, они со смехом наблюдали за птицами, пока те не насытились и степенно удалились.
Виктор захватил с собой в поездку фотоаппарат «Никон» — одну из лучших моделей, запасся кучей пленки и без устали снимал свою подругу повсюду, где они только бывали. Запечатлел он и лакомившихся рыбой пеликанов. Официант, растаяв при виде Тани, даже доверил столь очаровательной особе покормить птиц из своих рук.
— А почему ты не хочешь сфотографироваться сам? — уже в машине, отсмеявшись, с лукавой улыбкой поинтересовалась у него девушка. — Хотя, понимаю — дипломатическая служба, засекреченность и все такое.
— Ну, нечто в этом роде, — ухмыльнувшись, он наклонился и доверительно прошептал ей на ухо, — специфика моей деятельности не позволяет мне рисоваться перед объективом.
— Да-да, все понятно, — скорчив серьезную мину, она согласно покивала головой, вызвав у него смех, и, не удержавшись, расхохоталась сама.
Вдвоем они очень часто смеялись над любой глупостью, по самому незначительному поводу. Многое из того, на что раньше каждый из них и не обратил бы внимания, теперь вызывало смех. Это было похоже на какой-то заговор, некое тайное невысказанное вслух соглашение, когда скрытый смысл известен и понятен лишь двоим, а всему остальному миру неведом. Влюбленные люди могут понимать друг друга с полуслова, достаточно любого намека, двусмысленности и даже просто недосказанной фразы.
Очередной вечер они решили провести в городе. Не спеша, поужинав в ресторане, где им были предложены прелести китайской кухни, они отправились в один из ночных клубов, программа которого только началась. В этом клубе Муромов должен был встретиться с разведчиком-нелегалом.
Горластую певицу, исполнявшую на греческом местные шлягеры, сменили энергичные танцоры в национальных костюмах, выделывавшие такие коленца и акробатические выкрутасы, что профессиональные циркачи позеленели бы от зависти. Затем загорелые девушки в экзотических одеяниях из каких-то лоскутков, разноцветных перьев и бижутерии исполнили эротический, полный чувственности танец. Создавалось впечатление, что на самом деле они совершенно голые, а вся эта мишура на них лишь подчеркивала прелести гибких юных тел. Спустя какое-то время к ним присоединились не менее стройные загорелые юноши, единственным одеянием которым служил матерчатый гульфик. Необычное стриптиз-шоу закончилось, в конце концов, тем, что молодцы сорвали с прекрасных нимф все лоскутки, за исключением одного, что прикрывал их срам спереди. Разгоряченная публика бешено аплодировала, а в зале к тому часу стало совсем душно, несмотря на работающие в полную силу вентиляторы и кондиционеры. За это время полковник успел наведаться в мужской туалет, где его уже ждал нужный человек, передавший необходимые материалы.
Для желающих потанцевать освободили обширную площадку, а на сцену вышла еще одна певица и под аккомпанемент группы музыкантов принялась наяривать нечто похожее на последние европейские и заокеанские поп-хиты. Виктор с Татьяной танцевали до упаду, пока не выдохлись окончательно и уже далеко за полночь, уставшие и довольные, отправились к себе. Добравшись до постели и освободившись от одежды, они свалились без чувств. Немного отлежавшись, не сговариваясь, переплелись в объятиях, окунувшись в любовный омут. Сил хватило и на это.
На следующий день их экскурсионный маршрут несколько изменился. Они отправились на север, в местечко под названием Лара, представлявшее собой побережье с девственными пляжами. Именно там, для находящихся под охраной государства морских черепах был устроен настоящий заповедник. Купаться в этих местах, было категорически запрещено.
Вдоволь налюбовавшись неуклюжими с виду рептилиями, туристы направились дальше на север, где для любителей отдыха на лоне природы были устроены кемпинги. По дороге задержались возле очередной христианской святыни — храма святого Георгия. Изумительная по красоте базилика соседствовала рядом с рыбацкой деревушкой.
Посетив кемпинг и встретив там группу соотечественников, они разговорились с ними и по совету последних поехали дальше в горы, где среди густо поросших зеленью холмов затерялся известный природный родник — купель Афродиты. Согласно легенде богиня любви и красоты совершала в нем свои утренние омовения. Разумеется, среди отдыхающих был «свой» человек, с которым Муромов вошел в контакт. Обмен закодированными сообщениями прошел не замеченный для окружающих.
Им пришлось оставить машину у поворота возле подножия скалистой вершины и дальше продолжить путь пешком, взбираясь по узкой тропке наверх. Проложенная по изрезанной местности тропа коричневой змейкой петляла среди зарослей лесной чащобы. Наконец, они добрались до места. Вокруг не было видно ни одной души, и, если бы не журчание ручейка и пение птиц, это место могло бы показаться пустынным и заброшенным.
— Ты позволишь? — с кокетливой улыбкой обратилась к нему Таня, сбрасывая с себя одежду. — Пока никого нет.
И, спускаясь к источнику, шутливо погрозила пальцем:
— Карауль здесь и не подглядывай.
Держа в руках одежду, он с улыбкой наблюдал за ней. Обнаженная девушка, купающаяся в роднике, была похожа на одну из прекрасных наяд [13], совершающих омовение в тайном месте, сокрытом от глаз простых смертных. Представшая перед ним бесхитростная картина была настолько чувственной и естественной, что он мгновенно ощутил жар неутолимого желания, вечное влечение самца к избранной самке, заложенный природой в каждом из живых существ могучий инстинкт, древний как сама жизнь. Он в восхищении любовался полосками проникающего сквозь кроны деревьев света на матовой коже юной прелестницы. Движения плавных изгибов ее нагого тела завораживали, заставляли вскипать горячую кровь, кружили голову в хмельном упоении женской красотой.
Вдоволь наплескавшись в прохладной воде, девушка поднялась наверх, наткнувшись на его пристальный взгляд, которым он так и пожирал прелести ее молодого, пышущего здоровьем и свежестью тела.
— Боже, как ты прекрасна! — в восторге прошептал он, приближаясь к ней.
Заключив свою нимфу в объятья, он осыпал ее градом горячих поцелуев, прижимая к себе все сильнее, чувствуя, как закипает желание. Она запрокинула голову, почти повиснув на его руках, взор ее затуманился, томный вздох вырвался из вздымающейся груди. Какое-то время они двигались в любовном ритме, в исступлении забыв обо всем на свете. И когда волна наслаждения захлестнула их обоих, он на короткое мгновение ощутил полное единение их душ.
Приведя себя в порядок, они медленно двинулись в обратный путь, держась за руки и молча улыбаясь, друг другу.
Тем же вечером Татьяна поинтересовалась у своего друга:
— Поедем сегодня снова в город?
— Нет, — он отрицательно покачал головой, — ты помнишь, о чем нам рассказывали в кемпинге? Старинный, заброшенный храм на горе. Хотелось бы его осмотреть. Если ты, конечно, не против.
— Что ты, я только за.
— В таком случае сегодня поужинаем пораньше в отеле. На мой взгляд, кормят здесь не хуже, чем в любом из ресторанов города. Разница лишь в обстановке — здесь гораздо спокойнее…
— И намного скучнее, — с лукавой смешинкой в глазах добавила девушка.
Хмыкнув в ответ, Виктор принялся перезаряжать фотоаппарат. Таня, взяв со столика карту-путеводитель, сосредоточилась на ее изучении.
— Даже, если мы выедем прямо сейчас, засветло, — с сомнением заявила она, — пока доберемся, уже стемнеет. Отсюда до храма около двухсот километров.
— Это, если ехать по прибрежной трассе до Лимасола, а от него к горе с храмом. Посмотри на карту внимательней — там есть еще одна, полузаброшенная горная дорога. Если мы поедем по ней, то сократим путь. Ты только представь — темная ночь, таинственный храм, вокруг ни одной души…
— По-моему, ты, в детстве начитался приключенческих книг, — рассмеялась она, — Стивенсон, Жюль Верн, Конан Дойл…
— Джек Лондон, Фенимор Купер, — весело подхватил Муромов, — ты не подумай, не такие уж мы прожженные насквозь сухари — те, кто занимается внешней политикой.
— А разве я о тебе такого мнения? — Таня прильнула губами к его щеке, затем слегка укусила за мочку уха. — С этим у тебя полный порядок, как и со всем остальным.
С этими словами она просунула руку за отворот рубашки, поглаживая его грудь, живот, постепенно спускаясь все ниже.
— Эй, — он со смехом запротестовал, — мы так не договаривались. Оставим любовь на вечер.
— Вечером мы будем замаливать свои грешки в храме, — прошептала она, скользя ладошкой по его бедрам.
Виктор отбросил в сторону фотоаппарат и, скинув одежды, опрокинул подругу на кровать.
* * *
Позже ему пришла в голову мысль, что, шутливо подначивая друг друга, они почему-то вспомнили лишь зарубежных писателей и ни одного отечественного. Конечно, они говорили о классиках беллетристики, и все же… Неужели забыли о наших собственных писателях, авторах приключений и фантастики: Александр Грин, Валентин Катаев, Александр Беляев, Аркадий Гайдар, Алексей Николаевич Толстой, да мало ли было других?.. Не говоря уже о русских гениях — Гоголе, Льве Николаевиче Толстом, Пушкине, Лермонтове, Горьком…
И он был вынужден с горечью признать, что уже с самого детства, самой юности всех нас завлекали яркими сюжетами и манящими мирами литературной реальности иностранных сочинителей, прививали чуждые нам, русским, идеалы и ценности. Да, это — увлекательная, интересная, романтическая и героическая проза, но не наша , чужая, заморская, импортная, чужестранная. В этом-то было все дело — в переориентации и искажении сознания сызмальства. Понемногу, капля за каплей подтачивали наши устои — веру, патриотизм, историческую память, национальную гордость, традиции и заповеди. А взамен подсовывали пустышку в блестящей красочной упаковке, виртуальную реальность, несбыточные мечты, фата-моргану в заокеанском исполнении. Над нами ставили опыты, экспериментировали опытнейшие ловцы душ. О, они не торопились, да и куда — впереди вечность. Эра противостояния океана и суши, торгашества и труда, иллюзий и реальности, пошлости и нравственности, беззакония и справедливости, атлантизма и евразийства, мондиалистов и традиционалистов, космополитов и патриотов. Эра беспрестанной борьбы, перманентной схватки, вечной битвы двух начал, двух Орденов, двух цивилизаций.
Виктор слишком хорошо знал всю подноготную мировой политической и геополитической закулисы, чтобы обманываться на этот счет. В настоящее время мы проигрывали глобалистам — жрецам атлантизма, но даже до начала конца было еще далеко.
* * *
Выехали они засветло. И хотя солнце уже клонилось к горизонту, стремясь погрузиться в морскую пучину, все же стояло достаточно высоко, освещая окрестности своими лучами и пронзая ими безоблачное кипрское небо.
Машина неслась по автотрассе, проложенной вдоль побережья. Вскоре справа показался указатель поворота на аэропорт. Увидев его, Муромов лишь прибавил скорость. Они не проехали и километра, когда очень скоро их глазам предстала уходящая влево объездная дорога. Свернув на нее, машина затряслась на кочках и выбоинах. Покрытая остатками растрескавшегося асфальта дорога местами была совсем непригодной для легковых машин, но Виктор гнал по ней, лихо объезжая препятствия, уверенный, что таким образом им удастся значительно сократить расстояние до цели.
Храм располагался на вершине неподалеку от горы Традос — самой высокой точки острова. Для того чтобы достигнуть цели своего путешествия, им необходимо было миновать цепь гор, по которым и пролегала эта сомнительная трасса. До ближайшей горы они добрались сравнительно быстро и безо всяких приключений. Дорога вилась по ее склонам, затем, достигнув пика, начинала спускаться вниз по противоположной стороне, переходя в перешеек между двумя вершинами, по верху которого и пролегал путь.
Муромов уверенной рукой вел послушный ему «Фольксваген», время от времени, справляясь с атласом-путеводителем. Впрочем, на каждом километре им обязательно попадался указатель. Вообще, что их удивляло на Кипре, так это обилие разнообразных дорожных указателей. Заблудиться здесь было очень сложно, при условии, что вы не сойдете с дороги и не углубитесь в труднопроходимые места.
С насыпи, подножие и склоны которой были сплошь усеяны валунами и булыжниками, открывалась чудесная панорама — справа, далеко от них за холмами раскинулось море, а слева — изумительной красоты долина, покрытая разноцветным ковром цветущих трав. Татьяна, во все глаза рассматривающая пейзажи за окном, не успела насладиться этой красотой, как они снова начали взбираться в гору по петляющему серпантину, изобилующему опасными поворотами и коварными спусками. Впрочем, и ее они миновали благополучно, хотя девушке было не по душе то лихачество, с которым, как ей казалось, ее приятель управлял машиной.
Во время спуска их взору предстала еще одна долина, в отличие от предыдущей, выглядевшая мертвой и пустынной. От некогда протекавшей по ней реки осталось лишь высохшее русло, по правую сторону которого раскинулось заброшенное селение. Каменные дома средневекового типа выглядели запустелыми и обветшалыми, часть из них подверглась разрушению временем. Кое-где виднелись более поздние постройки, но и они были брошены людьми. Татьяне, впечатлительной по натуре, представилось, что это мрачное место служит пристанищем вампирам и привидениям, и ночью, при тусклом свете звезд и луны, когда настает их час, нечистая сила вылезает из своих убежищ, чтобы стать полноправными хозяевами этого проклятого места.
Она непроизвольно поежилась, удивляясь своим мрачным мыслям. Впрочем, на самом деле сделалось довольно прохладно, и она поспешила поднять стекло со своей стороны. Постепенно начало темнеть.
Оставив позади эту мертвую долину, они миновали гряду небольших гор. Вскоре перед ними предстала еще одна вершина, которая в сумерках огромным исполином возвышалась перед ними. Дорога, пролегавшая по ее крутым склонам, выглядела опасной и труднопроходимой. На каждом шагу виднелись указатели с тревожными предупреждениями. Таня в тревоге смотрела в окно, и на каждом крутом вираже у нее от страха замирало сердце. Серпантин горной дороги, на всем протяжении, с одной стороны, прилепившейся к отвесной стене, а с другой обрывающейся в пропасть, представлялся ей последней стезей, ведущей в преисподнюю к дьяволу. Виктор, целеустремленный и целиком сосредоточенный на дороге, и не подумал сбавить скорость, заметив, что на землю спускаются сумерки и начинает быстро темнеть, а ехать предстояло еще почти тридцать километров. Понадеявшись на свой опыт вождения и отменную реакцию, он лишь притормаживал на поворотах. Каждый раз, когда они приближались к очередному «слепому» повороту, девушка в страхе сжималась, ожидая увидеть мчавшуюся им навстречу машину. В один из моментов ей показалось, что колеса с ее стороны зависли над пропастью. Наконец, ее нервы не выдержали.
— Виктор, езжай медленней, — потребовала она.
— Ерунда, — отмахнулся тот, не глядя на нее, — я держу ситуацию под контролем.
В этот момент машина совершила резкий вираж, завизжав покрышками по остаткам асфальта и еле вписавшись в крутой поворот.
— Ну, почему мужчины такие упрямые и самонадеянные?! — с негодованием воскликнула она. Страх ее сменился злостью. Впервые за все время их знакомства она вспылила:
— Тебе наплевать на наши жизни?! На свою и на мою, да?!
— Ну, хорошо, милая, успокойся, — он тут же сбросил скорость почти вдвое, — ты права, уже слишком темно, и дорога здесь такая, что не приведи Господь ехать по ней ночью еще раз. Обратно мы поедем вдоль побережья.
В это время они миновали верхнюю точку, и машина осторожно покатилась вниз.
— Ты в порядке, дорогая? — спустя какое-то время, заботливо поинтересовался Виктор, бросая на свою спутницу быстрые взгляды.
— Сейчас, да. Но ты меня сильно напугал и заставил поволноваться. Не делай больше этого, хорошо?!
— Извини меня, я слишком увлекся.
— Ты уже прощен, — улыбнувшись, она потянулась к нему, чмокнув в щеку.
Где-то на полпути спуска, на глаза им попалась маленькая, аккуратная церквушка, редкостным деревцем примостившаяся на отвоеванном у гор пятачке. Рядом виднелись захоронения. Не останавливаясь, они поехали дальше и уже у самого подножия, где дорога исчезала в узком ущелье меж отвесными скалами, повстречали двигающуюся им навстречу повозку, запряженную лошаком, в которой сидел поп. Возможно, это была лишь всего-навсего игра теней, но Таня успела заметить его удивленный и даже встревоженный при виде путников взгляд, которым, как ей показалось, старый священник предостерегал их о таящейся впереди опасности. Все страхи снова вернулись к ней. У нее возникло странное, тревожное предчувствие, что впереди их ждет что-то плохое.
«Господи, какая я трусиха! Что за дурацкая мнительность?!» — она попыталась взять себя в руки, но тревога не покидала ее, острой занозой крепко засев в душе.
Когда они миновали ущелье, уже совсем стемнело, и Виктор включил, помимо ближнего, дальний свет. Мощные фары, словно прожекторы, прорезали мрак, выхватывая из темноты скалы, придорожные канавы и редкие кусты по обочинам. Впереди, прямо перед ними возвышалась последняя на пути вершина. Теперь водитель вел машину с предельной осторожностью, впиваясь взглядом в круг света перед собой. В полном молчании они преодолели и этот горный кряж и, когда спустились к подножию по другую сторону, внезапно очутились на современной асфальтированной трассе.
Проехав немного, они наткнулись на указатель, возвещающий о том, что ответвление направо приведет их в Лимасол — главный порт острова. Перед ними предстал выбор — либо свернуть в Лимасол и оттуда по хорошей дороге вернуться в Пафос, либо, не побоявшись дальнейших трудностей, продолжить путь, тем более что до цели их поездки оставалось всего пять километров. Немного посовещавшись, они решили ехать дальше.
Неподалеку от развилки виднелась освещенная огнями таверна. Подъехав поближе, они зашли внутрь, в надежде получить от местных жителей уточняющие путь сведения. В этот час таверна оказалась пуста, лишь хозяйка за стойкой позвякивала посудой. К ним тотчас вышел хозяин заведения — седовласый, чисто выбритый грек, держащийся с таким достоинством, словно был, по крайней мере, придворным церемониймейстером, а его поздние гости — царственными особами. На английском он спросил их насчет ужина и, получив от Виктора, в совершенстве владевшим этим и еще двумя языками, отрицательный ответ, недовольно поджал губы. Но, когда узнал о цели визита, вновь оживился и принялся рисовать план, поясняя, как туда лучше добраться. Напоследок он посоветовал отложить поездку до завтрашнего дня, так как сейчас дорога не освещена, а храм пуст. Вежливо поблагодарив, путешественники уселись в машину и двинулись дальше, навстречу неизвестности.
Вскоре они достигли поворота на грунтовую дорогу, ведущую к храму. Рядом, к склону горы, прилепилась то ли забегаловка, то ли «шоп», они толком не разглядели. Когда их автомобиль свернул с трассы и вновь затрясся по ухабам, из магазинчика выглянули люди, с изумлением взиравшие на странных туристов.
Они медленно продвигались по лесной дороге, петляющей среди высоченных столетних сосен, забираясь все выше. В некоторых местах путь пролегал сквозь прорубленные людьми скалы. Внезапно путники вновь очутились у развилки. Небольшой указатель возвещал, что слева съезд упирается в грот с водопадом, правая же наезженная колея ведет к храму. Еще немного и они будут на месте. Несколько раз машина буксовала, попадая колесами в скользкую размытую колею с обнажившимся глинистым грунтом.
Наконец, перед ними возникли темные очертания здания, вокруг которого шла металлическая ограда. Рядом находился святой источник. Виктор развернул машину так, чтобы свет ее фар освещал внутренний дворик и вход в храм. Выйдя наружу, они тут же ощутили, насколько прохладен в горах воздух. Взявшись за руки, озябшие и притихшие, они двинулись к воротам. Те оказались заперты, на табличке виднелась надпись на английском, предупреждающая о том, что идут реставрационные работы.
Недолго думая, они перелезли через невысокую ограду, первым — Муромов, за ним Татьяна. Он помог своей подруге спуститься, подхватив на руки. Затаив дыхание, слишком взволнованные, чтобы разговаривать, они двинулись к храму. На лужайке Виктор обо что-то споткнулся. У него возникло неприятное ощущение, будто кто-то схватил его за ногу. Посветив фонариком, он усмехнулся — теннисная туфля запуталась в волейбольной сетке, натянутой поперек дворика и на данный момент приспущенной вниз.
Храм представлял собой прямоугольную двухэтажную постройку, по сути дела являясь базиликой с нефом [14], вдоль которого по обеим сторонам располагались кельи монахов, а наверху над ними шел ряд окон, в дневное время освещающих помещение. На второй этаж вела каменная лестница.
С одной стороны храм был окружен лесом, с другой — высилась гора, а сзади площадка, на которой он был когда-то возведен, обрывалась в глубокое ущелье. Виктор попытался припомнить все, что им рассказывали об этом православном храме.
Он был построен еще в двенадцатом веке, когда островом владели крестоносцы, чтобы затем спустя полвека передать Кипр ордену тамплиеров, рыцарей-храмовников. Окруженное множеством тайн и легенд, до сих пор будоражащих пытливые умы исследователей, это духовно-рыцарское братство христиан, принявших обет безбрачия, как никакой другой орден оставило яркий и глубокий, до конца еще не понятый след в истории европейской цивилизации. Кипр являлся одной из их главных резиденций. Многие Великие магистры [15] [16] ордена жили здесь. И, кто знает, не хранил ли этот храм еще одну тайну ушедших в небытие рыцарей?
А может, и в самом деле были они, как их обвиняли, чернокнижниками и язычниками, поклонявшимися статуе Бафомета — одного из демонов рати сатанинской? И не зря ведь христианский государь Филипп Красивый объявил им войну, при поддержке Папы, и казнил Жака (Якова) де Моле — Великого магистра ордена, и все его окружение. Храмовников уличали в дьяволопоклонстве, кощунстве, богохульстве и пороках плоти. И не они ли, рыцари-сатанисты, посредством сети интриг направили орды чингисхановы на земли русские? Не они ли основали Тевтонский орден, рыцари коего аспидами гремучими яростно наскакивали на Православную Русь? Ныне их обеляют, сводя все к необузданной алчности французского короля, позарившегося на воистину несметные богатства тамплиеров, да еще к коварству главы католического мира. Но, как видно, не только алчность, но и Божье провидение двигало умом и сердцем французского монарха Филиппа, в жилах которого, кстати, текла и русская кровь.
Так кто же прав, и может истина — где-то посередине?.. На этот риторический вопрос ответа у разведчика Муромова не было.
* * *
Двери, ведущие в храм, оказались распахнуты настежь. Слабый луч фонарика в руке Виктора ронял крохотный пятачок света, не в состоянии разогнать поглотившую внутренность храма тьму. Они осторожно продвигались по первому этажу, девушка боязливо жалась к своему спутнику. Дойдя до противоположной стены, они остановились. Луч фонаря вырвал из темноты стенную роспись — огромное, во всю стену изображение Христа. Всю центральную часть фрески занимало лицо Спасителя. Ничего подобного Муромову видеть не доводилось. Он посетил немало церквей здесь на Кипре, вдоволь насмотревшись на лики Иисуса. В России он перевидал много разных икон — висящих на стенах квартир, в музеях и церквях, в антикварных магазинах и на стендах уличных торговцев на Арбате. Везде лики, изображенные на дереве, бумаге, металле или на стенах храмов имели почти схожее выражение. Христос взирал на мир с кротостью, отмеченной печатью неземной мудрости на лице, как справедливый Пастырь на своих овец.
А здесь, в этом старом храме, неизвестный художник (или их было несколько?) сумел воплотить с помощью кисти и красок то, что всегда жило в сердце каждого христианина. Иисус был изображен ослепительно красивым молодым мужчиной. Но красота эта представлялась не телесной, а духовной, святой, такой чистой и непорочной, что ни у кого при взгляде на эту фреску не возникало ни одной мысли о плотском. Христос смотрел с доброй улыбкой и теплотой, и от него шел, лучился из его глаз такой поток любви, что хотелось смеяться и плакать от счастья, восхваляя Господа за то, что создал этот мир, эту землю и нас самих, даровав нам право выбора между состраданием и жестокостью, между любовью и ненавистью. Это было изображение Спасителя, который когда-то жил на Земле, учил, страдал и мучился, и принял смерть за всех нас, живших, живущих и еще не рожденных. Это был живой Христос.
И еще кое-что поразило Виктора — сходство храмового облика Христа с изображением, полученным в результате заложенной в лучшие компьютеры НАСА [17] специальной программы — он видел это в каком-то журнале. В самое мощное устройство была заложена вся, какая есть, информация об Иисусе Христе. Результат получился ошеломительный. Машина изобразила ослепительного, утонченного красавца с открытым лицом, полным любви и сострадания взглядом, доброй улыбкой на устах, голубоглазого и светловолосого — типичного ария, а вовсе не семита!
Все это видели сейчас перед собой взволнованные путники. Они словно завороженные не могли отвести взгляд от этого откровения, представшего перед ними. Наконец, Виктор тронул свою спутницу за плечо, отчего та вздрогнула.
— Нам пора, — шепотом обратился он к ней.
На обратном пути, направляясь к выходу, они заглянули в одну из монашеских келий. Неожиданно фонарик мигнул и тотчас погас, оставив их в кромешной тьме. Таня испуганно ойкнула, вцепившись в руку спутника.
— Все в порядке, я здесь, — прошептал он, — батарейки разрядились, попробую поменять местами.
С его стороны это было уловкой. В келье находился тайник, и Виктор специально погасил фонарик, чтобы незаметно от своей спутницы забрать из контейнера посылку резидента. Быстро проделав все в темноте, он собрался, было включить фонарь, как неожиданно почувствовал чье-то незримое присутствие. В таких случаях разведчиков учат действовать четко по инструкции, но это, если они заметили постороннее внимание к себе или явную слежку, когда вами заинтересовались люди. Здесь же, в этот момент, он не ощущал присутствие человека. Так что же его насторожило? Это было похоже на какое-то наваждение.
Внезапно и девушке показалось, что кто-то невидимый следит за ними из темноты. От страха у нее захолонуло в груди, она явственно ощутила, как на затылке зашевелились волосы. Голос не слушался ее, но она все же сумела выдавить:
— Виктор, послушай…
— Да? — в его голосе тоже чувствовалась нервозность, или ей только показалось?
— Ты ничего не чувствуешь?..
Он ответил не сразу, словно не решаясь сказать правду вслух.
— У меня такое ощущение… — он слегка замялся, — что кто-то наблюдает за нами.
— Но я точно знаю, — как бы оправдываясь, поспешил добавить он, — что здесь, кроме нас, никого больше нет.
Наверное, даже не само чувство, что она испытывала, а его слова вселили в нее ужас перед чем-то кошмарным и необъяснимым. Она задрожала.
— Давай, выбираться отсюда, — так же шепотом произнес он и, крепко сжав ее руку, потянул к выходу.
Они продвигались на ощупь и, когда покинули келью, заметили светлое пятно выхода. Еще немного и любители ночных экскурсий очутились снаружи, под открытым небом, на котором ярко светила полная луна. Виктор с шумом вобрал в себя полные легкие воздуха. Горный, необычайно чистый воздух подействовал на них освежающе. Возле ограждения на краю дворика располагались умывальники с дождевой водой. Полковник с удовольствием ополоснул ею лицо. Когда они вернулись в машину, сразу же включили обогреватель, почувствовав себя продрогшими.
Когда спускались вниз, на одном из поворотов свет фар выхватил из темноты лежащий на обочине валун, показавшийся им ослепительно белым.
— Смотри, — Татьяна прильнула к окну, — там на нем какое-то углубление и, кажется, вырезан крест.
— Я слышал, — отозвался ее спутник, — у здешних жителей существует обычай, прямо противоположный нашему. Когда у нас кто-то погибает на дороге, на обочине обычно ставят памятник-знак. У киприотов же наоборот такие вот камни кладут в том случае, если человеку удается спастись.
— Совсем как нам только что, — тихо промолвила она.
Обратно в Пафос они возвращались по современной скоростной трассе, идущей по прямой вдоль побережья. Эта поездка привнесла в их отдых массу эмоций. Оба чувствовали, что таинственный храм, где они испытали столь яркие переживания, уже не забудется никогда.
Ночью оба никак не могли заснуть. Виктор все прокручивал в голове впечатление от той встречи в темноте кельи с чем-то необычным. Что же это могло быть: проявление подсознания, всплывшие на поверхность детские страхи перед тьмой, неведомая сила — охранительница тех мест, или, все-таки, люди, притаившиеся и следящие за непрошеными гостями? А, возможно, специально наблюдающие за ними? Неужели он в чем-то «прокололся», успел «засветиться» перед чужой разведкой, или местной контрразведкой? Весь опыт подсказывал ему, что ничего подобного не было, до сих пор он все делал правильно. Его подруга же перенесла слишком сильное потрясение от испуга, чтобы разом все забыть и успокоиться. Возможно, утром солнечный свет разгонит ее ночные страхи, но сейчас она лежала словно в оцепенении, боясь пошевелиться и наткнуться взглядом на горящие в темноте глаза неизвестного Нечто. Наконец, утомленная переживаниями и слегка успокоенная близостью и ровным дыханием своего друга, она заснула, провалившись в глубокий омут сна.
Как ни странно, этой ночью кошмары ее не мучили, и она первой проснулась рано утром, чувствуя себя отдохнувшей и в безопасности. Вчерашние страхи растаяли, не оставив и следа. Она с веселым смехом растолкала своего дрыхнувшего без задних ног любовника и побежала в ванную комнату. Все, с них хватит этих экскурсий! Впредь ничего, кроме моря, солнца и ночных развлечений в городе.
Утро выдалось чересчур душным, что предвещало большую жару днем. Летнее кафе, на площадке которого они заняли столик, примостилось на склоне горы неподалеку от поворота на памятную им горную дорогу. Терраса нависала почти над самым обрывом, а дорога упиралась прямиком в кафе, огибая его. У посетителей поначалу складывалось впечатление, что подъезжающие машины движутся прямо на них и, не сумев вовремя повернуть, вот-вот вкатятся на площадку. Большинству беспечных туристов это придавало дополнительную остроту ощущений.
Почти все столики вокруг них были заняты, а посетители все прибывали и прибывали. Они сидели напротив друг друга и со смехом болтали ни о чем. Виктор в открытую любовался своей подругой, подумав, что, наконец-то, встретил женщину своей мечты. Неожиданно его внимание привлек подъехавший к кафе автомобиль — неприметный «Опель» далеко не самой лучшей модели. По привычке полковник, разговаривая с Татьяной, продолжал незаметно наблюдать за вновь прибывшими.
Передняя дверца «Опеля» со стороны пассажира открылась, и взору Виктора предстал коренастый мужчина средних лет в светлых летних брюках и белой футболке. Этот человек был разведчиком-нелегалом, работающим в этой стране уже несколько лет и располагающим довольно устойчивой агентурной сетью. За время их пребывания на Кипре Муромов успел несколько раз войти с ним в контакт. Фамилия у него была смешная — Пупырышкин, а имя знатное — Борис. В их группе он считался одним из лучших и работал еще до прихода Муромова.
Майор Пупырышкин потоптался у края площадки и, даже не взглянув в сторону своего коллеги, уселся обратно в машину. Это был сигнал.
— Дорогая, пожалуй, нам пора, — обратился к своей спутнице Виктор.
— Уже?! — удивилась та. — Но ведь мы…
— Поговорим позже, хорошо? — мягким и в то же время не терпящим возражения тоном прервал он ее.
Девушка почувствовала, что произошло нечто непредвиденное и непонятное ей.
— Пойдем, — вздохнула она, подбирая со столика сумочку.
Когда вернулись в отель, Виктор, ничего не объясняя, попросил Таню остаться в номере и до его возвращения никуда не выходить.
— Что случилось? — с тревогой спросила она.
— Пока ничего, — он попытался успокоить ее, — я все выясню и скоро вернусь.
Выйдя из отеля, Муромов по каменной лестнице спустился вниз к пляжу, где маячила знакомая фигура резидента.
— Рад тебя видеть, Егорыч, — обратился он к другу, — только у меня такое чувство, что ты хочешь испортить нам весь оставшийся отпуск.
— Ты, как всегда проницателен, Витя, — усмехнулся тот, увлекая его за собой вдоль берега.
— Так что же за пожар такой, раз ты решился на незапланированную явку? Встреча с твоим агентом накануне прошла успешно.
— Да ведь это ты горишь Витя, только пока не замечаешь этого.
Он остановился, в упор посмотрев на соратника.
— Насколько все серьезно?
— Вот-вот доберутся до тебя. То ли кто-то из наших продал, то ли сами выследили — это сейчас выясняют. Кипр наводнен наемными убийцами, несколько уже появились в окрестностях Пафоса. Представлять их не нужно?
— Не нужно, — с серьезным видом кивнул Муромов.
— Ну, тогда расклад один — берешь ноги в руки и в срочном порядке исчезаешь отсюда вместе со своей приятельницей. Билеты на завтрашний утренний рейс для вас уже куплены.
— Все ясно, — коротко ответил Виктор.
— Мои ребята тебя пока подстрахуют. Вот, возьми мобильник, если что — сразу звони мне. Запомни номер… А это — на всякий случай, — он незаметным движением сунул ему в руки небольшой сверток.
Так же незаметно Муромов убрал его во внутренний карман прихваченного с собой пиджака. Вернувшись к себе, он запер дверь и, бросив Тане: «Я сейчас», зашел в туалет. Развернул упаковку, собрал из разрозненных частей пистолет «беретта», вставил полную обойму, приладил глушитель.
«На всякий случай», — пришли на память слова боевого товарища. Все-таки он «засветился», а ведь шеф его предупреждал. Теперь он получит от того нагоняй. Если конечно доберется до дома живым. «Должен добраться!» — решил про себя Муромов, ведь на этот раз под угрозой жизнь другого человека, любимой женщины. В то же мгновение он понял, насколько сейчас уязвим, вдвоем со своей подругой.
— Танюша — обратился он к ней, — завтра утром мы вылетаем домой. Извини, но так нужно.
Какое-то время она внимательно наблюдала за ним, затем кивнула:
— Я все понимаю. Ни о чем не беспокойся, мы успели отлично отдохнуть.
— Ты действительно так думаешь? — Виктор сел рядом с ней, нежно привлекая к себе.
— Конечно, — улыбнулась девушка, отвечая на его поцелуй.
Он слегка отстранился, глядя в ее глаза, и внезапно поразился возникшей у него мысли о том, насколько дорога стала ему эта женщина, и что без нее он уже не сможет жить, как раньше. Виктор боялся даже предположить, что с ней может что-то случиться, и он потеряет ее навсегда. От подобных мыслей ему сделалось дурно и уже в следующее мгновение, гоня их от себя прочь, он крепко обнял ее, шепча нежные слова любви.
Остаток дня и ночь прошли спокойно. Рано утром, еще только начало светать, Муромов был уже на ногах, быстро привел себя в порядок и принялся собирать вещи в дорогу. Вскоре к нему присоединилась Татьяна.
Неожиданно раздался настойчивый стук в дверь. Виктор, приложив к губам палец в знак молчания, вытащил припрятанный «ствол», напугав тем самым Таню, неслышно приблизился к двери, встав от нее сбоку, и негромко по-английски спросил, кто там. Ему ответили закодированной фразой и он, не убирая оружие, свободной рукой щелкнул замком, предложив войти.
Дверь открылась, на пороге показался взволнованный капитан Каданников из их группы.
— Сергей, — кивнул ему Виктор, — и ты здесь?
— Виктор, все слишком серьезно! Времени больше не осталось, слышишь? Наш план сорвался, нужно менять его на ходу. Тот храм, в котором вы побывали накануне, немедленно езжай туда. Там тебя встретят. Не теряй времени, ваша жизнь в опасности!
И, не попрощавшись, он выскочил из номера.
«Что за дерьмо?!» — удивился полковник. Мысль его лихорадочно заработала. Ерунда какая-то складывалась. На кой черт сдался этот храм, он никак не мог понять этого. Впрочем, в подобных случаях все решает скорость и беспрекословное подчинение приказам, а не попытки логически обосновать принятые решения.
Подхватив багаж, они поспешили к машине. Муромов на ходу огляделся — вокруг, как будто было все тихо. Вчерашний «Опель» — прикрытие майора Пупырышкина — нигде не наблюдался. Заведя двигатель, он вырулил со стоянки и уверенной рукой направил «Фольксваген» к автотрассе. На этот раз они поехали вдоль побережья по хорошей дороге.
Пока машина мчалась на предельно допустимой скорости, Муромов ломал голову над странным выбором места встречи. Может быть, их хотят спрятать на время в глубинке, а потом, когда страсти немного улягутся, по-тихому переправят с острова на материк и оттуда доставят в Москву? Других разумных объяснений он пока не находил.
Местность вокруг храма была столь же безлюдной, как и во время их ночного визита. Виктор достал пистолет, заткнув его за пояс стволом вниз — в таком положении легче всего выхватить оружие мгновенно. Посмотрел на побледневшую Татьяну и, немного поколебавшись, решил взять с собой, чтобы не оставлять одну в машине.
Виктор первым вошел в храм, окунаясь в прохладный полумрак огромного помещения, за ним — Татьяна. Они медленно, осторожно продвигались вперед, придерживаясь правой стороны и заглядывая в каждую из келий. Храм казался совершенно пустым.
«Внимательно смотри по сторонам», — шепнул ей Муромов, напряженный и собранный, похожий сейчас на настороженного и опасного хищника.
Они почти достигли противоположной стены, где был изображен так поразивший их лик Христа, когда Таня встревожено вскрикнула. В ту же секунду полковник развернулся и, выхватив из-за пояса пистолет, левой рукой повалил ее на пол — сейчас было не до церемоний — а сам отпрыгнул в сторону, снимая оружие с предохранителя. Он успел заметить два крадущихся силуэта, появившихся из келий напротив, и, не раздумывая ни мгновения, поняв, что это ловушка, открыл по ним огонь. Оба стрелка в свою очередь принялись палить по нему. Выстрелов практически не было слышно — лишь сухой треск да громкие щелчки — у обеих сторон оружие было с глушителем. Пули визжали вокруг него, одна ужалила в ногу, другая пробила левое плечо, но и он сумел положить обоих противников меткими выстрелами.
— Виктор! — в ужасе закричала распластавшаяся на полу Татьяна.
Услышав ее выкрик, он опрокинулся на спину, но не успел на какую-то долю секунды. Приглушенная автоматная очередь прошлась по нему, вспоров живую плоть. Упав навзничь, он затих, все еще сжимая готовое к бою оружие в вытянутой вдоль туловища руке.
Киллер, которого он проворонил, некоторое время выжидал, засев в укрытии на втором этаже, затем, решившись, принялся спускаться вниз. Виктор держался из последних сил, не позволяя черному мраку затопить сознание, увлечь за собой в пустоту небытия. И, когда враг приблизился на достаточное расстояние, полковник вскинул руку и из положения лежа выстрелил несколько раз, вышибив тому мозги. Затем повернулся на бок, пытаясь сфокусировать взгляд на окружающих предметах.
— Витя! — вскочив, Татьяна бросилась к нему. — Витенька, милый, что с тобой?! Ты ранен? О, Господи, ты же ранен! Ты весь в крови! Что делать, Витюша, подскажи, что мне делать?!
— Телефон… — прошептал он, — там, в машине… трубка мобильника… позвони…
Он продиктовал номер майора Пупырышкина.
— Хорошо, хорошо! — воскликнула, плача, она и кинулась к машине. Вскоре вернулась, прихватив с собой аптечку.
— Ты… позвонила?..
— Сейчас, — глотая слезы, промолвила девушка, — сейчас позвоню, только сначала перевяжу тебя.
— Нет, — он остановил ее слабой рукой, — звони.
— Хорошо.
Связавшись с майором, она скороговоркой сообщила о том, что здесь произошло и что ее другу срочно нужна помощь врачей. Тот, в отчаянии выругавшись, пообещал прибыть к ним так быстро, как только сможет.
Татьяна перевязала кровоточащие раны, обработав перекисью водорода — всего она насчитала пять пулевых отверстий. Взяв за руку, она принялась разговаривать с ним, ни на минуту не смолкая. Когда прибыл резидент с полицией и врачами, Виктор уже был без сознания. Его осторожно подняли и отнесли в карету «скорой помощи», где тут же сделали переливание крови.
— Восемьдесят-девяносто процентов, что пациент не дотянет до госпиталя, — мрачно заявил врач на чистом английском, — большая потеря крови, задеты органы брюшной полости.
— Везите, — распорядился Борис Пупырышкин, — все равно здесь он точно загнется, а так хоть шанс есть.
Он с вздохом посмотрел на отъезжающую машину «неотложки» и направился к полицейскому офицеру, пытающемуся успокоить бившуюся в истерике девушку.
Позже майор долго хлопотал, улаживая возникшие проблемы, благо один из руководящих чинов местной полиции являлся его агентом. Все списали на нападение вооруженных грабителей, никому не хотелось осложнений. Пупырышкин все же добился, чтобы у реанимационной палаты с больным дежурил охранник. Девушку он поселил в снятом им номере отеля. Та категорически не соглашалась улететь домой без Виктора.
«Ну и вляпался же я! — досадливо морщился разведчик. — Полное дерьмо».
Троих его парней с пулевыми отверстиями в черепах нашли в обгорелом «Опеле» на дне ущелья. Полиция решила, что это — разборки русской «братвы». Для их группы же это был полный провал.
«И все этот сука, Каданников! — с ненавистью думал майор. — Продажная тварь, ублюдок, попадешься еще, не долго тебе по земле топать!»
Первым делом он занялся поиском ускользнувшего предателя, используя для этого все свои связи и возможности. Одного из агентов попросил глаз не спускать с лежащего в больнице и находящегося пока в коме Муромова.
Капитан Каданников вскоре нашелся, точнее его обезображенный труп — киллеры знали свое дело, обрубив все ниточки, которые могли бы привести к ним.
Майор собирался передать зашифрованное сообщение в Центр, когда запиликал сотовый.
— Он пришел в сознание, — сообщил его агент из больницы.
Прошло несколько месяцев. В Москве выпал первый снег, который тут же благополучно растаял. Из-за полученных ранений Муромов был признан непригодным к дальнейшей оперативной работе. Шеф-генерал выбил для него место преподавателя в разведшколе, строго наказав, не унывать. Он и не унывал, благодарил провидение, что вообще остался жив, выкарабкавшись с того света.
Татьяна не бросила его, да и зачем — ведь, несмотря на удаленную почку, и несколько свежих шрамов, как мужчина он оставался на высоте. В скором времени они собирались пожениться.
Так что к положению своему Виктор отнесся философски, заявив как-то навестившему его, вернувшемуся, наконец, на Родину теперь уже подполковнику Пупырышкину: «Знаешь, Борис, я как в той библейской притче — всю свою жизнь разбрасывал камни. Вот теперь настало время их собирать. Но и это тоже жизнь, и нужно принимать ее такой, какая она есть. Все под Богом ходим».
…
Ноябрь 2000 г.
Эдуард Байков. Miserere [18]
Самолет гигантским птеродактилем тяжело ухнул на толстенное бетонное покрытие и резво кинулся вперед, постепенно замедляя свой бег. Взревели напоследок двигатели, пассажиры затряслись в своих креслах. За иллюминаторами проплывала залитая ослепительным солнцем африканская земля. Лайнер, словно сбившаяся с курса арктическая птица, окунулся в пекло.
В аэропорту их встречали люди Васильева. Алексей с легкостью вызвал в памяти электронное досье на новорусского магната. Опуская подробности, можно было резюмировать: владелец заводов и пароходов из тех, кого называли предпринимателями-патриотами — из новой волны национально ориентированных бизнесменов, исповедующих идею сильной и независимой России и стойко не переносящих разных олигархов-инородцев и иже с ними. Васильев упрямо поднимал производственную инфраструктуру, соединяя в единую империю множество разбросанных по регионам промышленных объектов, дышащих на ладан. Учредил несколько культурных фондов, строил школы и детские сады, открывал дома культуры и новые храмы, финансировал издание российских литературных журналов и деятельность отечественных киностудий. И еще много чего делал, неизменно добиваясь успехов — действуя, где напором и нажимом, а где хитростью и коварством. Не жалел денег на подкуп чиновников самого высокого ранга, раздавая щедрые подарки, оказывая разнообразные услуги нужным людям.
Георгий Иванович Васильев слыл прагматичным, трезвомыслящим реалистом и циником. Но, как и у всякого, истинно русского человека, присутствовала в его широкой натуре некая загадка, необъяснимая глубинная суть, заставляющая расчетливого нувориша поддерживать проекты, ну совершенно невыгодные с точки зрения делового человека, а где-то и прямо убыточные. Выгода то этих начинаний лежала в плоскости иной, виртуальной — возрождение духовности России, самосознания ее народа, идейности ее сынов и дочерей, самоуважения и достоинства ее граждан, и еще Бог знает чего, столь же, на первый взгляд, эфемерного. Но лишь на первый взгляд…
«Не ходите дети в Африку гулять». Что ж, детьми они не были уже давно, а прилетели сюда отнюдь не для праздных прогулок, а решать очень серьезные дела — прямо скажем, государственной важности. Прибыли в составе трех человек: Алексей и двое его спутников — полковник ГРУ Виктор Муромов и представитель «Росвооружения» Олег Чердынцев. Звание последнего Алексею Смирнову было неизвестно.
Из аэропорта их привезли в город, в резиденцию Васильева — пятизвездочный отель, где весь верхний этаж снимал русский богатей. Этажом ниже для гостей были зарезервированы номера-люкс с видом на далекое побережье. Из окон смирновского временного жилища была видна рощица пальм, за которыми шумел океан — его приглушенный рокот доносился и досюда.
Вновь прибывшие едва успели освежиться с дороги, как их пригласил к себе неутомимый последователь двух Савв — Морозова и Мамонтова.
* * *
— Так что, сами понимаете, други мои, — Васильев обвел гостей испытующим взором, — дело это для нашей державы, как сказал бы незабвенный Владимир Ильич, архиважное. Представляете, какие деньги хлынут в наш прохудившийся бюджет? Причем этот веселый ручеек обещает в дальнейшем превратиться в полноводную реку, так сказать, в канал…
Он выдержал паузу, затем добавил, четко выговаривая каждое слово:
— Если мы с вами сделаем все как надо.
Хозяин поднялся, подошел к широкому окну, прикрытому каскадом жалюзи, обернулся и с хитрецой промолвил:
— Ну, а я, как понимаете, стану смотрителем этого канала, а посему приложу максимум усилий в его строительстве. Впрочем, вы люди взрослые, серьезные, сами все прекрасно понимаете.
Они понимали. Африканцы долго думали и выбирали, пока, наконец, не склонились окончательно в их пользу — российское оружие в условиях жары и пустыни предпочтительнее европейского, израильского и даже американского. Да и дешевле выйдет! Плюс давние связи с их оборонкой — еще со времен некогда могучего Советского Союза.
Как ни странно, российские спецслужбы и даже оборонщики здесь не приложили никаких усилий — всю предварительную рекогносцировку и договоренность осуществил втихомолку дядя Жора (как его именовали уважительно в деловых и властных кругах). Им, как представителям государства российского, предстояло лишь закрепить достигнутый на первоначальных переговорах успех. Потом машина закрутится — все будет закреплено официально, подтверждено подписями и заверено печатями. Но вначале — переговоры тет-а-тет с тутошними министрами и боссами бизнеса. Министров было двое — обороны, безопасности и внутренних дел (все в одном лице), а также финансов и внешней политики. Боссы, сиречь местные магнаты-олигархи, представлены одним лишь двоюродным братом президента — самого богатого человека в северо-восточной части африканского континента. Экономические, политические, военные и даже геополитические интересы двух государств сошлись воедино в предстоящих переговорах. Впрочем, затрагивали они интересы и третьей стороны — вот почему дело не предавали огласке, и с обеих сторон старались все обстряпать как можно незаметнее.
* * *
Алексей сидел в кресле, ожидая, когда за ним зайдут. Он был собран и целеустремлен, хотя до прибытия машины оставалось еще с полчаса, и поэтому можно было слегка расслабиться перед дорогой. Сегодня их повезут на секретную встречу с президентским кузеном — на его загородную виллу, затерянную где-то в тропических лесах. Казалось, опасности не предвиделось никакой, но в подобных делах нужно быть готовым к любым неожиданностям и сюрпризам.
За безопасность их группы отвечал Муромов. Полковник все время где-то пропадал, улаживая и устраивая общие дела, но в нужный момент неизменно оказывался на месте. Чувствовалось, опыт у грушника имелся прямо-таки колоссальный по части конспирации, налаживания связей и шпионажа. На него можно было со спокойной душой положиться, и все же что-то неприятно зудело у Смирнова под ложечкой, вызывая подспудную тревогу. Впрочем, подобное чувство возникало всегда перед опасным и рискованным заданием.
Алексей решил отвлечься и вызвал в памяти встречу с родными перед отъездом. Жена с дочерью прощались сдержанно, ничем не проявляя смятение — командировка как командировка, и в Африке люди живут. На самом деле о характере его работы они имели самое общее представление, точнее — догадывались и, конечно же, понимали, что тихой и безопасной службой государственного чиновника здесь и не пахнет.
Побывал он и у матери с сестрой, провел с ними вечер. Мама перед его уходом неожиданно подарила ему миниатюрную иконку на цепочке с изображением Богородицы — такие носят на груди подобно нательному крестику.
— Пусть она хранит тебя, сынок, — улыбнулась старушка, — ты уж носи ее, не обижай мамочку…
Он, смеясь, дал слово, что будет носить — хотя к подобным вещам относился несерьезно. Вот мать, та действительно ВЕРИЛА — она ведь и раньше-то, в ТАМОШНЕЕ время считала себя православной, как никак родители крестили, не то что нынешние нехристи… А в последние годы так вообще воцерковилась, посещала храм, молилась, соблюдала посты и праздники.
«Пусть ее, — думалось Смирнову, — у нее это, может, единственная радость осталась, после гибели державы советской: вера да мы, ее дети и внуки».
Алексей обнял ее на прощанье, отстранил, всмотрелся в дорогое ему лицо с дорожками слез на морщинистых щеках. Постарела матушка, сдала, разве признаешь в ней ту красивую женщину, кружившую голову многим мужикам, да так и не вышедшую повторно замуж, после смерти мужа. Вся целиком сосредоточилась на воспитании их с сестрой. Практически в одиночку — родные, конечно, помогали, чем могли — подняла деточек на ноги, сделала из них людей. Что ж, за своих детей ей краснеть никогда не приходилось.
Последнее время хворает только что-то часто. Это больше всего беспокоило Лешу…
Он глянул на часы, усилием воли отогнал образы близких, — готовность пять минут. Внезапно, подчиняясь неведомому импульсу, вскочил, шагнул к дорожной сумке. Покопавшись, достал оттуда образок и надел на шею, спрятав под сорочкой и легкой курткой. Ну вот — теперь порядок! Вроде и на душе полегчало.
Раздался условный стук в дверь. Вошел Муромов, озабоченный, хмурый. Молча сел в кресло, побарабанил по подлокотнику.
— Чтой-то на душе кошки скребут, — он посмотрел на товарища ясными глазами, — предчувствия какие-то нехорошие…
Смирнов покачал головой, ничего не ответив. Поймал взгляд собеседника, вопросительно приподнял бровь.
— И отказаться никак не возможно, — пробормотал тот, уводя взор.
Потом легко поднялся, вышагнул к входной двери. У порога задержался, бросил через плечо — вроде небрежно, но с внутренним напряжением в голосе:
— Ты… будь начеку, — и вышел.
* * *
Накануне Алексею приснился сон. Будто шагает он по улицам чужого города. Ну, город как город — обычный африканский мегаполис с семью-восемью миллионами жителей, высоченными небоскребами в центре и на побережье и с жалкими картонными лачугами на окраинах — несть им числа. Идет себе неспешно, поглядывает по сторонам, изучает здешнюю обстановку. Ноги привели его на рынок. Ходит, приценивается: торговцы наперебой предлагают товар — всякую всячину, — дергают за рукав, оживленно жестикулируют, играют темными маслинами глаз в надежде заманить, соблазнить потенциального покупателя.
Потом вроде бы шел какими-то кривыми улочками, и тянулись те нескончаемо, но все ж таки вывели его на большую площадь — еще один базар. Там будто озарение снизошло, направил свои стопы сразу в нужное место — палатку предсказателя.
Сидит старик белобородый — не африканец, скорее араб, или копт? Увидел чужестранца, забормотал что-то на своем, непонятное. Алексей стоит, только ушами хлопает. Тут звездочет покряхтел и на ломаном английском молвил:
— Ждет тебя опасность. Но, если вера есть — выживешь.
— Вера во что? — разлепил губы удивленный донельзя Смирнов.
— Ты тупой что ли? — окрысился дед. — В Бога, ясно дело!
И принялся махать руками, выпроваживая недогадливого клиента. А напоследок, приняв от того деньги, с загадочной миной предупредил:
— Бойся крылатого змея.
После этого Алексей и проснулся, чувствуя себя разбитым и не выспавшимся. В номер, несмотря на работающий кондиционер, вползала утренняя жара.
* * *
Поехали на двух машинах: Смирнов с помощниками олигарха в джипе «Чероки», остальные — в лендровере Васильева. Решили двигаться не рядком, а для отвода глаз, на некотором расстоянии — так чтобы маячить друг перед другом вдали. Первыми рванули африканцы с гостем, следом, через какое-то время — компатриоты последнего.
Надо сказать, заранее условились, что за главного в переговорах будет выдавать себя Смирнов — хотя, на самом деле, все полномочия были предоставлены Чердынцеву из «Росвооружения», ну и, само собой, дядя Жора был явно не сбоку припека. Но так уж повелось в их дипломатических и шпионских играх, чтобы возможного противника вводить в заблуждение. Если, не дай Бог, пойдет что-то не так — удар примет на себя подсадная утка, то бишь Смирнов. От этих мыслей становилось совсем уж неуютно, да ничего не попишешь — работа у него такая.
А еще Муромов — битый жизнью военный разведчик-профессионал — прицепил к куртке Смирнова в укромном месте особый маячок тревоги, нажми такой, и товарищи получат сигнал. Алексей не удержался от ухмылки — бондиана какая-то! Но если серьезно, то в их деятельности спасала иной раз простая случайность, а иной — четкое следование инструкциям и серьезное отношение к кажущимся мелочам.
И все же, чаще всего, их работа заключалась именно в умении вести сложные переговоры, умении убеждать и переигрывать оппонентов интеллектуально, умении выдерживать долгие и напряженные психологические поединки, а вовсе не драки, перестрелки и искусство перевоплощения — хотя и это тоже. Но Алексею, на его памяти, больше приходилось работать головой и языком, чем руками и ногами, и пользоваться бумажником, калькулятором и авторучкой, а не пистолетом и ножом. Как и его противникам.
А сейчас их вообще ждали дружески настроенные партнеры, и с ними придется торговаться, проявляя максимум ловкости, изворотливости и деликатного нажима…
* * *
Когда джип свернул с асфальтового шоссе на каменистую проселочную дорогу, а спустя четверть часа — на лесную просеку, в конце которой показалось приземистое бунгало, Смирнов занервничал, внешне не показывая вида.
Возникло стойкое убеждение: это не вилла магната, у африканских богатеев просто не может быть такого, у них — все на показуху, чтобы роскошь била в глаза. Но это еще ни о чем не говорило, их могли привезти в перевалочный пункт, а уж оттуда…
Алексей попытался успокоиться. И это ему не удалось; тревога, плавно перерастающая в панику, захватила его сознание целиком. Никакое умение держать себя не срабатывало — пот струйками тек по спине и груди, выступил на лбу. Все в нем кричало, прямо-таки вопило: опасность, опасность, ОПАСНОСТЬ!..
Он достал платок, вытер испарину, пробормотав по-английски:
— Ну и жарища тут у вас!..
Сопровождающие как-то криво ухмыльнулись в ответ. Они не потели — сухая черная кожа матово блестела в полумраке лесной чащобы.
Джип остановился перед воротами, просигналил. Вышел здоровяк в камуфляже — белый, с европейскими чертами лица, в солнцезащитных очках. Кивнул высунувшемуся водителю, распахнул створки. Мелькнула загорелая мускулистая рука с закатанным рукавом куртки, легла на верхнюю перекладину.
Смирнов впился взглядом, чувствуя, как холодеют конечности — на запястье охранника отчетливо виднелась наколка — клыкастый змей с распахнутыми крыльями. Водитель плавно отпустил сцепление, в тот же миг пассажир рывком распахнул дверцу и выпрыгнул наружу. Упав, перекатился и, прежде чем подняться на ноги, нащупал потайную кнопочку и со всей силы надавил ее. Затем вскочил, не оборачиваясь, краем глаза зацепил прыгнувшую к нему тень и ударил ногой, попав в мягкое. Раздался утробный всхлип, противник отлетел, тут же осев на землю… В следующее мгновение страшный удар обрушился на затылок Алексея, и тьма поглотила его.
* * *
Сознание вернулось от острой боли в голове. Казалось, под черепной коробкой поселились крошечные рудокопы и своими малюсенькими, но весьма увесистыми кирками пытаются добраться до сердцевины мозга.
Поплавав минут десять в дурноте, контуженый попытался сосредоточиться. Вскоре понял, что едет в машине и, кажется… Он приоткрыл один глаз, другой — поначалу ничего не понял, потом до него дошло — он же в багажнике, лежит связанный по рукам и ногам!
Ну, что связанный — это еще не беда, учили его высвобождаться и не от таких пут. Осторожно пошевелился, подвигался в темной тесноте багажника, принял максимально удобную позу и начал работать.
Поворочавшись, вскоре он освободился от веревок, туго стягивавших его запястья, настал черед ног. С этим он справился еще быстрее. Затем на ощупь накинул веревки обратно — так чтобы в один момент от них избавиться. И принялся ждать, стараясь не обращать внимание на пульсирующую боль в затылке. Это-то было как раз тяжелее всего.
Некоторое время машина еще тряслась на ухабах, наконец, остановилась, двигатель заглох, и на минуту установилась полная тишина. Затем хлопнули дверцы с обеих сторон, послышался звук шагов. Крышка багажника резко распахнулась, хлынул ослепительный свет.
— Порядок, — буркнул кто-то, — берем его.
Смирнов, лежа на боку, кожей спины почувствовал присутствие наклонившихся к нему людей, сгруппировался и принялся действовать. Подобно разогнутой пружине вскочил со дна багажника, обрушиваясь всем телом на врагов.
Казалось, бой шел долго — но это было обманчиво. Всего десять-пятнадцать секунд, по истечении которых Алексей вышел победителем. Двое валялись на земле, и до противника им не было никакого дела…
В следующее мгновение Смирнов заметил целящегося в него из карабина третьего. Прозевал, мать!.. Упал на землю, грянул выстрел — мимо. Перекатился под защиту машины, затем вскочил и, пригнувшись, ринулся к спасительной кромке леса — благо и бежать далеко не пришлось. И, когда уже почти нырнул в густой кустарник, снова громыхнул выстрел, и раскаленным копьем насквозь пронзило плечо, бросив его вперед. Он упал, кубарем покатился куда-то вниз, в овраг. Все смешалось в падении — верх, низ, земля, небо. Удар затылком обо что-то твердое, и вновь безмолвная темнота.
Из беспамятства вырвали приглушенные голоса.
— Этот урод где-то здесь. Далеко не мог уйти. Я же его подстрелил, — доказывал один из них.
— Это еще ничего не значит, — возразил другой и застонал, — дерьмо! Он мне, кажется, нос сломал.
— Нос — ерунда. Вон у твоего брата челюсть расколота — это сурово.
— Я у этой падали сейчас сердце вырежу!..
— Ты сначала найди его.
Голоса приближались. Охотники осторожно спускались вниз. Все, ему точно крышка! Даже ползти нету сил.
Неожиданно что-то просвистело над ним. Один из преследователей выругался, а после тишина…
Прошло не меньше минуты, пока до слуха затаившегося беглеца не донеслись голоса.
— Ты видел? Стрела в дереве торчит.
— Ну!..
— У него лук что ли?
— Сам ты лук, это долбанные дикари!
— Какие еще дикари?
— Ты совсем тупой или как?! Племена лесных демонов! Людоеды, мать их так!..
Помолчали.
— И что делать будем?
— Очень тихо и очень осторожно уходим.
— А как же этот…
— Вот они его и сожрут… На ужин, ха!
Потом вновь воцарилась тишина. Смирнов лежал, боясь шелохнуться. Затылок жгло, словно приложили раскаленный утюг. Да и мокро что-то под ним — неужели в лужу угодил? Попытался пошевелиться — резкая боль пронзила все тело. Он застонал. Все же сумел перевернуться на живот, встал на четвереньки, глянул — под ним все в крови, в изголовье камень, тоже покрыт бурыми пятнами. Без сил упал ничком. Теряя сознание, услышал приближающиеся осторожные шаги.
«Ну все, — мелькнуло в слабеющем сознании, — старуха с косой приперлась».
Потом все вспоминалось урывками, отдельными эпизодами: темнота, свет, склоненные над ним страшные африканские маски, провал, его несут, над ним качается зеленое небо, снова провал…
Очнулся на какой-то площади с каменным истуканом в центре. Вокруг домики-шалаши, костры, полуголые коричневые люди — деревня. И тут его сморил сон.
* * *
Английский здесь не знал никто, кроме местного колдуна, да и тот изъяснялся с грехом пополам. Вот у него-то Смирнова и поселили — на время выздоровления. А потом что — съедят?..
Побыв несколько дней в этой деревне и понаблюдав за повседневной жизнью туземцев, Алексей понял, что каннибализмом здесь и не пахнет. Днем его выносили, все еще слабого, наружу, где он грелся на солнышке, возле хибары шамана. Старик молился своим темным богам и подкладывал под повязки, на раны незваного гостя какие-то вонючие лепешки — из трав, навоза и еще чего-то гадкого. В детали своего излечения раненный старался не вникать. Так или иначе, но… помогало. Боль стихла, раны затягивались, голова прояснилась. И настал день, когда он, опираясь на крепкую руку одного из воинов племени, проковылял на площадь, ведомый старым знахарем.
Колдун подвел его к идолу и как мог объяснил, что их бог — то ли Нгамба, то ли Мамба — смилостивился и даровал жизнь белокожему чужеземцу. На что Смирнов со всей серьезностью поклонился божку, сжимая под рубашкой матушкин оберег с Богородицей.
До своего полного выздоровления Алексей старался ни о чем не думать, отложив все на потом. Лишь одна мысль неотступно преследовала его: сумел ли он предупредить товарищей, удалось ли тем избежать засады, или?.. Хотелось верить в лучшее.
В эту ночь ему явился Нгамба-Мамба и на чистом русском пояснил:
— Ты, белокожий странник, под защитой Матери всего сущего. Мать-Земля тебя пожалела и даровала жизнь. Теперь ты верь в Нее и в Отца-Небо. И знай, что мир не так прост, как ты себе представлял. Сегодня ты в одном мире, завтра в другом, а послезавтра — в третьем. Помни о Тех, Кто создал и тебя и меня.
Потом божок пропал, и Смирнов очутился в какой-то мгле. И вскоре из призрачного тумана показалась знакомая фигурка в пуховой кофточке и ситцевом платке. Это была его мать. Она остановилась в нескольких шагах от него, постояла молча, а затем, улыбнувшись, промолвила: «Теперь ты будешь жить долго, сынок».
Алексей хотел ответить, подойти к ней, обнять и… не мог, какое-то окостенение охватило его, сковав все члены. А потом матушка исчезла, и он обнаружил себя стоящим на пятачке земли, а вокруг разверзлась глубокая и темная пропасть. И вдруг откуда-то сверху заструился неземной свет, такой ослепительный, что Алексей прикрыл глаза руками и сквозь пальцы наблюдал за чудесным явлением.
И явилась ему Богородица — та самая с иконки, — в руках у нее лежал младенец Христос, а вокруг порхали ангелы. Дева Мария посмотрела в глаза павшему на колени человеку и будто пронзила насквозь, просветив его душу до самых потаенных глубин. Пламя снедало Алексея, все естество пылало в огне стыда и благоговения перед Матерью Божьей. Предал он взор долу и так стоял на коленях, не смея посмотреть вверх. Но все же не удержался и поднял голову.
Богородица улыбалась ему, и столько было в ее улыбке доброты, мягкой нежности и всепрощения, что возликовало сердце человеческое, радостно забилось: прощен, прощен! Вихрь разноцветных огней поднял его и понес ввысь, вслед за Девой Марией, путеводной звездой светящей во вселенской ночи. А после, когда все мироздание предстало перед ним словно на ладони, он вспыхнул, весь изошел лучами и растворился в космосе…
* * *
Новый день принес нежданные перемены. Утром, не успел Алексей разделить скудную трапезу с хозяином, вся деревня внезапно всполошилась. Жители разом зашумели, забегали… В хибару с почтительной миной просунул голову помощник вождя, что-то коротко возвестил, выслушал ответ и скрылся из виду.
Смирнов вопросительно взглянул на старика. Тот, нещадно коверкая слова, кое-как объяснил:
— Прибыли чужаки на железной повозке… Белокожие соплеменники раненого гостя.
Сердце Алексея ухнуло куда-то вниз, вернулось на место и забилось часто-часто. Теперь и его слуха коснулось знакомое тарахтение мотора. Спустя мгновение движок взревел и заглох.
Следом за колдуном он выбрался наружу и, опираясь на толстый сук, поспешил к площади, где собралось все племя.
В окружении воинов, нацеливших свои копья и стрелы на чужака, стоял с безмятежным видом Муромов. Руки у полковника были подняты, демонстрируя мирные намерения.
— Виктор! — хрипло прокричал Смирнов и, чувствуя головокружение, бросился к другу.
— Мы переиграли их, Леша, — прошептал ему на ухо грушник, — контракт подписан.
* * *
В посольстве ему предоставили телефон, надежно защищенный от любой прослушки. Отзвонив куда следовало, Смирнов с сильно бьющимся сердцем набрал номер матери. К трубке долго никто не подходил, затем раздался щелчок и вслед за ним — голос сестры.
— Леша! Господи, где ты пропадал?! Мне сказали, что с тобой потеряна связь…
— Настя, со мной все в порядке. Вы-то как там? Позови маму…
— Леша, Лешенька… мамы больше нет!..
— Что?.. — он осел, сжимая трубку в кулаке, — как ты сказала?..
— Мамочка умерла, Леша… — и она, всхлипывая, поведала подробности.
Смирнов слушал Анастасию словно сквозь вату, в оцепенении уставившись на рисунок обойного орнамента напротив. Слушал и не понимал — точнее, все понимал, но не мог принять, не в силах свыкнуться с тем, что это — реальность.
— Сегодня девять дней, Леша, — немного успокоившись, устало добавила сестра. — Ах, братик, если бы ты был здесь, с нами…
Он сглотнул, чувствуя, как защипало глаза, отвратил, наконец, взгляд от той точки на стене, хрипло произнес:
— Как же это… А я тут застрял — и ничего не знал. Это же несправедливо! Почему… Господи, о чем я говорю!
Губы его задрожали, но он взял себя в руки — не сейчас, не здесь.
Сестра поспешила успокоить, сказала, что они справились, конечно, им помогли — и родственники, и сослуживцы Алексея, и с ее, Настиной, работы. Маму проводили достойно.
— Скоро ли ждать тебя?
— Да… да, — покивал он, — теперь скоро.
— У твоих все в порядке. Ты позвонишь им? Сегодня они придут к нам — на девятины. Хочешь, я им сейчас перезвоню, скажу, чтобы сами тебе позвонили? Какой у тебя номер?
— Да, ты… позвони им, успокой. Я… позже сам позвоню.
Потом он действовал как во сне: покинул посольство, поехал в отель, зашел в номер, сел на кровать. Бессмысленно огляделся, не понимая, зачем он здесь.
«Мамы больше нет», — вспомнилось ему. И вдруг острая боль утраты пронзила его беспощадным разрядом молнии, Алексей застонал и, уткнувшись в ладони, разрыдался.
* * *
Он проснулся посреди ночи — почудилось, точно кто-то позвал его, окликнув по имени. Алексей сел на кровати, всматриваясь в темноту, оглядел комнату… у порога стояла мама.
Он явственно различал ее в полутьме, но не мог поверить своим глазам. Мама была одета совсем как в том чудесном сне, где ему явилась Богоматерь — пуховая кофта, платок.
— Мама, — тихо позвал он, — мамочка…
Она, улыбаясь в полумраке, тихонько приблизилась к кровати, положила ладонь ему на макушку — Алексей ощутил тепло человеческой плоти. Мама молча погладила его по голове — как часто делала это в детстве, приглаживая непокорные сыновни вихры. Он взял ее ладонь, поцеловал, орошая слезами.
— Спи, сыночек, — донеслось до него, — спи, родной…
И он, откинувшись на подушку, в миг заснул.
* * *
Алексей вышел из церкви, где поставил свечку, помолился — все как полагается в таких случаях. Сел в машину и поехал на кладбище.
Стоя возле могилки, долго смотрел на памятник, губы шевелились, читая: «Смирнова Евдокия Николаевна».
— Мама, — прошептал он, — я знаю, что у тебя все хорошо.
Он обвел взглядом окрестности, глянул вверх, на небо, и улыбнулся.
— Ты жди меня, слышишь? Всех нас дождись. Однажды мы придем… я приду, и мы снова будем вместе. Я буду скучать по тебе, мамочка. Но… до поры.
Солнце выглянуло из-за облаков, озаряя светлыми лучами землю. И тут же весело зачирикали пташки. Алексей поправил цветы на могилке и неспешно направился к выходу.
…
Февраль 2004 г.
Александр Леонидов. Путь Кшатрия
Он ждал Леку Горелова, когда в кафе зазвучала эта песня — «Ностальжи». Она значила для Мезенцова, может быть, даже больше, чем для настоящих эмигрантов, будя воспоминания, уводя в прошлое, в минувшую и невозвратную жизнь, в какие-то параллельные миры и альтернативные вселенные. В 70-е, в 80-е годы, которым не быть вновь…
Был день памяти Алана Голубцова. Мезенцов позвонил Леке — международный роуминг долго ворочался в эфирном пространстве, и, наконец, дал протяжные гудки вызова.
— Алло! Ты где?!
С некоторых пор все их звонки начинались этой сакральной фразой.
— Я в Роттердаме…
— А я в Копенгагене!
Нехорошо получилось: прямо как в анекдоте про сексуальные извращения — «Вроттердам и Поппенгаген». Вместо ностальгии — очередная порция неизбежной клоунады по этому поводу. Потом — щемящий вопрос:
— Завтра день Алана… Может, встретимся на нейтральной полосе?
— Ага.… Где это у нас теперь нейтральная полоса?
— Географически это Берлин. Я буду ждать тебя в семь вечера в «Гроссэгере» на Унтер-ден-Линден, на нашем месте у окна! Приезжай! Хотя бы мертвые должны собирать живых вместе…
И вот Мезенцов ждет живых и призраков за большим стеклом «Гроссэгера», где всегда угостят хорошей охотничьей олениной, курит свой извечный «Салем», смотрит на подтеки дождя, на промокших и озябших берлинцев. За спиной, под пристальными низкими лампами — зелень бильярдных столов, костяной пристук шаров, фантомы сигаретного дыма…
В любом возрасте природа выдает поровну лета, осени, весны, зимы, — но с определенного момента начинаешь запоминать только осень. Мезенцов не помнил лета с 1988 года — видимо, его лето осталось там. Вкрапления седины в жидких редеющих и прилизанных волосах, пятна желтизны на знаменах — все уводило потом от солнца и разнотравья в холод прозрачного утра умирающей природы, телеграфирующей свое прощальное «прости».
— Ностальжи… Же мур ля со мегре…
* * *
В 1984 году было очень жаркое лето. Не везде, конечно, но Лека, Алик и покойный Алан отдыхали тогда в пансионате «Кувшинка» в Чувашии; там было просто пекло! Их вытащил по писательской линии как раз Голубцов, сгоревший недавно под палящим солнцем Ирака, посреди мертвой, растрескавшейся земли. Вспоминал ли Алан другое, доброе солнце Кувшинки, сверкающее на бриллиантах капель, пронизавшее изумрудную зелень, сочащееся сквозь листву, золотящее травы, стрекочущее двигателем зноя в тысячу насекомьих сил?
Собирались много лет подряд. То одно, то другое — то Алан в Париж по ленинским местам, то у Леки командировка в Магадан, то Алик с его торговыми операциями. В 1984 году так сложилось — все свободны, но Лека начал ныть:
— Да там рубль в день за номер, за отпуск десятую часть зарплаты только проживешь, а мне телевизор надо новый, и морозильную камеру надо…
Лека был тогда, чего греха таить, скуповат. Жил на советскую «очень среднюю» зарплату, и все время экономил к ярости своих друзей. Алан пошел куда-то, движимый энергией злости, и легко пробил профсоюзную льготу, чтобы Лека, как многодетная мать, платил 18 копеек за номер.
— Это нормально? — ерничал Алан перед отправкой. — Или тебе опять не по карману?
На 18 копеек Лека, скрепя сердце, скрипя им, согласился, и Кувшинка, давно облюбованная Аланом, распахнула душистые объятья своего разнотравья для троицы разгильдяев.
Это был писательский пансионат из нескольких двухэтажных срубов-корпусов, на берегу реки Чермашни и её длинного тупикового рукава, заросшего кувшинками, тростником, изобилующего рыбными омутами, гладкими, как зеркало, поистине серебряными днем, розовыми на закате и черными, как полированный антрацит, глухой чувашской ночью.
Ивы в ином месте так низко свисали к воде, что, казалось, росли из неё побегами, врастая в берег по мере возмужания. Под их зеленые клейкие пряди Алик любил загнать белую санаторскую лодку, оказываясь в душном и банно-пряном шалашике, незримый ни с воды, ни с суши, уединенный, как мудрец Лао-цзы.
Кормили в Кувшинке за тот же рубль (для Леки — 18 копеек) очень диетично: манной кашкой на завтрак, легким омлетиком, ухой под щучью голову на обед, расстегайчиками с крольчатиной на ужин (почему-то!). Светлана у Алика худела, Мирончику как-то хватало, а сам отец семейства не наедался. Но что за беда — поутру ходили тучные деревенские молочницы, зычно предлагали молока — а когда Алик выходил к ним со стаканом, то со смехом наливали «такую малость» и бесплатно.
У разъезда, где шел подъем на шоссе, работал в летнее время шашлычник дядя Гурам. За сорок копеек можно было взять сочный дымный карский шампур с колечками лука и помидора, политый белым вином, ароматный нездешним югом, пришлым пиршеством.
— Спекулянт! — злился Лека, голодавший больше всех на диете «Кувшинки», но самый жадный. — Вот я позвоню ребятам в народный контроль, тогда он не так запоет!
Вообще-то он не только брюзжал, но и выучил Мирончика плавать: выбрасывал из лодки посреди омута (правда, привязав за талию к спасательному кругу) и заставлял самолично добираться до берега. Обычно своенравный Мирончик при «дяде из КГБ» как-то притих, покорился судьбе и даже ничего маме не рассказал про варварский способ «экспресс-обучения».
Мезенцов запрещал сыну плавать без страховки — веревки, за которой на приличном расстоянии тащился пенопластовый красный круг. Мирончик и с таким балластом выделывал чудеса водного поло, нырял, плескался, бесился с соседскими ребятишками.
— В рукаве-то поосторожнее! — предупредил Алан. — Там где-то в омутах здоровенный сом живет, метра на два! Местные его «Силурусом» прозвали. Он недавно у завхоза цельную утку проглотил… А Мирончик все-таки пока маленький… Силурус его если не съест — так ведь напугать может…
— Хрен! — вмешался легкомысленный Лека. — Весь этот Силурус легенда для привлечения рыбаков! Её вон Гурам распускает, чтобы успешнее шашлыками спекулировать! Сколько сома этого ловят — а выловить не могут, зато шашлычки жрут, молоко пьют, хлеб деревенской выпечки покупают — этому Силурусу местные барыги памятник должны поставить!
— Нет. — обиделся Алан и поджал пухлые гедонистические губы. — Есть сом, сам видел на ночном клеве, как он плещется! Говорю тебе метра два, не меньше… Может быть, полтора метра, врать не буду, но на метр точно потянет, тут и к бабке ходить не надо!
— Да отродясь такого не было, чтобы сом на человека нападал! — заполошно загомонил Лека. — Я сам рыбак! Сом может лягушку съесть, ну, карпа, например!..
— А утку может?! — саркастически прищурился Алан.
— И про уток сроду не слыхал! Фуфло все это!
— Да?! Фуфло?! А куда тогда у завхоза утка делась?!
— Курортники, может, украли! Или сама утонула! Нажралась вон суперфосфата — везде сволочи, накидали — забалдела и утонула спьяну, вот и вся недолга!
— А я говорю — Силурус её съел! Ты таких сомов, Лека, и не видал никогда! А все почему? Здесь ила и тины всякой завались, в рукаве-то, как подушка пуховая сомам! Рыбу здесь совхоз специально разводит для нужд отдыхающих, выпускает в омута — как шведский стол ему… Объедки из столовой — раньше обслуга тут свиней держала, а теперь обленились, черти, свиней позабивали, объедки в омут сливают — жри да толстей, чего сому ещё надо! Одного жареного антрекота вчера два бачка вывалили понадкусанного… С детской группы отдыхающих… Дети не едят — а Силурус жиреет!
— Но не настолько же, чтобы утку съесть живую! — горячился Лека.
— Вот что! — положил конец спорам Алик Мезенцов. — Раз тут есть сом, то я сына купать тут боюсь… Конечно, Мирончик купается в реке, а не в омуте, конечно, сомы охотятся по ночам, а не днем — но раз в год и кочерга стреляет! А посему, други мои, надо нам этого чертового сома изловить для безопасности — глядишь, и другие родители нам спасибо скажут! И доброе дело сделаем, и сомятины порубаем… Как, идет?!
Предложение было принято на «ура», как в прошлом году, когда Алику дали премию величиной чуть не с зарплату, и друзья втайне от жен слетали в Волгоград, похавать черной икры и осетрины, а к вечеру тем же «ТУ-124» вернулись обратно, так что про их проделку никто и не знал.
Даже скептик Лека — и тот загорелся: сомы, конечно, в два метра бывают только в сказках рыбацких, но оно и к лучшему. Если бы сом был такой здоровенный, то он был бы старым! А если бы он был старым, то плесо его было жестким и невкусным, а сомовий жир при растопке для пирогов пах бы тиной. То ли дело поймать молодого сомика — его мякоть сочная, аппетитная, а уха из такого — сущий жир, даже ложка стоять будет!
Вечером Света заставила Мирончика доесть омлет, применив замечательный аргумент:
— Вон, смотри, папа уже свои яйца съел!
Алик тогда как раз выскребал третье яйцо всмятку, принесенное деревенской торговкой.
Сын отправился спать, а Алик собрался идти на его защиту — бить сома. Света, увидев Алика в охотничьем снаряжении, только выразительно покрутила пальцем у виска. Когда Мезенцов объявил цель похода — она довесила сквозь зубы:
— Ну-ну! Дуракам закон не писан!
И ушла в комнату отдыха смотреть телевизор. Алик не унывал — такой стиль общения с женой вошел у них в норму. Его мучило другое — если он сегодня в ночь не возьмет сома Силуруса, то завтра не сможет разрешить Мирончику купаться, что, конечно, не обрадует сына.
Вышли из бревенчатых корпусов тихо, как на конспиративную сходку. Алан в гидрокостюме, Лека в спортивном костюме с символом московской олимпиады не груди. Алик в больших, с отворотами, болотных сапогах, в брезентовой выгоревшей штормовке, в джинсах марийского пошива.
— Значит, так! — предупредил Алан, местный краевед. — Будем брать его баграми! Багры возьмем на пожарном щите! Прикормку я взял у поваров — пять буханок свежего хлеба…
— Сом на хлеб не клюет! — рассердился профанации Лека.
— Знаю! Я хлеб буду вымачивать вот в этой кастрюле, в мясном бульоне! Только поплывет такой хлебушек — по всему омуту пойдут бульонные флюиды! А коли они пойдут — Силурус поплывет по запаху к источнику, к поверхности воды! Тут мы — с фонариком и с баграми — ка-ак саданем!!!
Лодка отчалила от берега с едва слышным плеском, вежливо раздвигая носом кувшинки. Ночной омут парил с дневной жары, полуокутанный белесой дымкой. Свет фонарика выхватывал из мира темных контуров зеленые участки буйных порослей.
— В принципе, можете говорить в полный голос! — разрешил Алан. — Силурус — хозяин здешних мест, это вам не мелкая плотва, от крика не ушлепает… Главное, как всплывет, попасть ему багром в башку! Если в хвост — то только поцарапаешь, злее станет, глядишь, и лодку, чего доброго, перевернет!
— Что бы вы без меня делали! — усмехнулся Лека, собирая невесть откуда взявшееся охотничье ружье. — Вы ведь даже не члены общества рыболовов и охотников… так, может быть, половые члены, не более…
— Ща как дам! — замахнулся Алан.
— Ладно, ладно! — притворно испугался Лека. — Ты будешь бесполым, я же не настаиваю…
— Слушай, Алан — поинтересовался Алик, всегда отличавшийся любознательностью. — А почему они зовут его Силурусом?
— Вообще-то они его как-то по-чувашски зовут… — вынужден был признаться Голубцов. — А Силурус — это латинское обозначение сома… Я сам прошлым летом приспособил, но скромно скрылся под псевдонимом…
— Да и сома этого ты тоже выдумал! — разочарованно зевнул Лека. — Писатель хренов! Вот счас промерзнем тут всю ночь, как дураки — а я, между прочем, с такой отдыхающей познакомился! Прикинь, Алик, она искусствовед! Она в Эрмитаже все знает, как мы в собственном туалете! И такая, знаешь, фигуристая… Очки только портят — надо ей оправу поменьше… А то, как синий чулок… Я бы сейчас мог к ней в номерок, под теплое одеяльце — а вместо этого торчу тут и зябну с двумя миндалями в лодке…
— Зяблик нашелся! — хмыкнул Алан. — Если ты так говоришь, Лека, то запомни: поймаем сома, поделим с Аликом, а ты только облизывайся — фантомов не едят!
Иногда говорят про тишину: мертвая. В Кувшинке тишина была живая, зыбко-подвижная тишина безветрия и неуловимого шелеста берегов, не воспринимаемого ухом развода и бульканья мелкой рыбешки. Какой-то пух — то ли остатки тополиного, то ли камышовый — витал незримо в темноте, иногда касался лица, падал на воду и не плыл — от невесомой легкости своей скользил по её глади. Ночная прохлада гладила утомленные окрестности, белевшие от раскаленного зноя днем.
— Нет, ты скажи! — приставал Лека к Алану. — Если бы здесь действительно водился сом! Столько рыбаков — и все неумехи, один ты Д’Артаньян, так что ли получается? Никто его выловить не мог, один Алан Голубцов счас подъедет и возьмет?!
— Во-первых! — терпеливо загибал пальцы Голубцов. — Эти лентяи удят в основном днем, а Силурус всплывает ночью. Во-вторых — сом не клюет на обычную рыболовную снасть. Здесь нужны специальные приспособления, крюки как у багра — а с обычной удочки он просто лесу оборвет — и все! К тому же местным он нужен, как легенда, тут ты, Лека, прав, а приезжим некогда всерьез за него взяться…
— Тихо! Смотрите! — возопил Алик, проведя фонариком дорожку по зыбкой пленке воды.
Они увидели то, что сразу осекло скептика Леку — и убило его надежды попробовать молодой сомятины. Близ берега на мелководье ворочалось какое-то серое гуттаперчевое бревно. Вот перевернулось боком, хапнуло лягушку — и вновь с еле слышным плеском ушло на глубину…
— Ого-го! — присвистнул Горелов.
— Вот он! — торжествовал Алан. — Силурус! Я же говорил! Оклеветанный неверием, оскорбленный сомнением, не понятый современниками — я все же был прав! И что, Лека, разве такой красавец не в силах утащить утку?! Да ему хоть барана дай — утащит под корягу!
— Или… мальчика… — холодея от той опасности, которой подвергался здесь Мирон Витальевич, прошептал Алик. — Алан, ты должен был мне сказать в первый же день…
— Да нормально, Алик! Твой сын купается на протоке, а сомы не любят проточную воду… Хотя… Судя по размерам, Силурус все время должен быть голоден… Может, он от голода и днем выйдет охотиться…
— Все! — подвел итог Лека. — И спорить не о чем! Хана твоему Силурусу, а нам всем доброй ушицы…
Он открыл кастрюлю, источавшую сладковатый запах перекисающей еды, и стал ломать моченый в бульоне хлеб, кусок за куском отправляя по воде. В призрачном свете фонарика их рваные остовы нарушали гармонию спящей природы, идеальную ровность поверхности омута.
— В тихом омуте — черти водятся! — посетовал Алан. — По правде сказать, Алик, я в первый раз вижу Силуруса вблизи! По плескам ведь не определишь… А то, и правда, Мирона и на протоку бы не выпустил…
Они тихо вращались, влекомые неведомыми слабыми круговыми течениями, посреди безобразия плавучего хлеба, по-охотничьи собранные.
— Вот вам и романтика странствий! — улыбнулся Лека.
— Я соглашусь с тобой, — кивнул Алан. — Но не с тем, что ты имел в виду! Романтика — совсем не то, что видят в ней наши глупые женщины — когда много роз, кофе в постель — или лучше в чашку, ресторации, ассигнации… На самом деле, Лека, это не романтика, а пошлость в квадрате! Лунный свет, тихая музыка отвратительно пошлы!
— Хм… а что же тогда романтично, по твоему?
— Философия романтики — в её трагичности. Подлинный романтизм — это ореол трагедии и обреченности. Белый офицер, прощающийся с любимой на перронах Гражданской войны — это вечный романтический сюжет, вечное поле для романсов и сонетов! А современный мажор, из ресторана везущий на «чайке» девушку домой слушать Чайковского и смотреть с балкона в бинокль на Луну — это дерьмо. То есть, может быть, не дерьмо, а простая проза жизни — но нет… не поэзия…
— Чё-то ты заболтался уже, писатель! — хихикнул Лека. — Белый офицер ему… Помягчели времена-то для вас, щелкоперов, прежде ты бы не стал вспоминать белого офицера в обществе офицера КГБ!
— Я это не в смысле апологетики Белой армии! — сдал на попятный Голубцов. — Победив, Белая армия стала бы пошлостью уже не в квадрате, а в кубе… Я говорю про романтику — вот здесь и сейчас — не потому, что ночь ароматна и пахнет дымом, банькой, сеном, детством… Я говорю — романтизм в Силурусе, одиноком старом соме, против которого вышли трое жестоких истребителей, вооруженных всей технической и интеллектуальной мощью ХХ века! Старый сом, живущий по законам доисторического времени, когда не появлялись ещё даже рисунки на стенах пещер, гость из Силура — Силурус — обречен перед нами и в этом прекрасен. Если бы он поймал мальчика из деревни — он был бы мерзкой хладнокровной гадиной — и не больше того. Но вышли мы — и симпатии верхнего наблюдателя на его стороне; Божественный романтизм именно в этом:
Старого мира последний сон
Молодость, сила, Вандея, Дон!
— По-твоему, выходит, коммунизм, если побеждает — становится пошлостью?
— Ладно, Лека, уймись! — выручил Алана Мезенцов. — Пошлостью становится этот ваш беспредметный разговор. Коммунизм неизбежен — и все! Лучше сома не проглядите!
— Есть большая разница между романтиками, комсомольцами двадцатых и, например, туземной бабой по прозвищу Мотниха! — не унимался Алан. — Мотниха как раз в двадцатые и была, наверное, комсомолкой! А сейчас у неё сдох почему-то весь опорос, и она дохлых поросят хочет продать горожанам под видом свежерезанных… Пришла ко мне, дура старая — мол, Алан Арменович, вы большой человек, нет ли у вас какой синей печати, чтобы поросятам на бок проставить! Ведь вот дура старая — а знает, что санэпидемстанция мясо убойное метит… Я её выгнал! С чего поросята сдохли — никто не знает! А ну как горожане помрут следом?! Но Мотнихе, ослепленной собственничеством, это ничего, мол, в городе народу нет переводу, один помер, другой родится, а в кубышке у Мотнихи все деньги-то считанные…
— Вот сволочь! — сплюнул Лека в воду.
— Человека портит комфорт! — глубокомысленно изрек Алик. — Люди в землянках и в лаптях честнее людей в «Жигулях» и итальянских сапожках… Мы им пансионат за 18 копеек в сутки, а они нам в ответ — дохлых поросят на продажу… Мы им дешевый хлеб, а они его в рюкзаки и за город — свиней откармливать…
— Но коммунизм все-таки неизбежен! — зачем-то сбил накал трагической ноты Лека. — Отобьемся! Все-таки Константин Устинович Черненко — это такая сила — никакая Мотниха не переломит!
— Сом подходит! — шепотом просипел вмиг напрягшийся и заострившийся Алан. — Силурус-с-с…
Черную полировку воды разрезала сильная слизистая спина могучего сома. Похожий на чудовищно разросшегося головастика, с длинными усами и блеклыми, по виду слепыми бусинами глаз на широкой, состоящей почти из одной пасти морде, Силурус возник из тинистых глубин и донных коряг как истинное порождение ночи и кошмара.
Он рос, наверное, века два, но с каждым днем, набирая вес, становился все жаднее и неразборчивее до пищи. Чем дальше в неведомое технотронное грядущее планеты уходил век Силуруса, тем сильнее терзало его проклятие голода.
Теперь видно было, что он не короче двух метров. Он глотал бесформенные размокшие куски хлеба с бульоном и шел прямо наперерез лодке, как айсберг на «Титаник».
— Стреляй, Лека! Стреляй! — взмолился Алан, вмиг вспотевший от рыбацкого возбуждения.
— Счас… подпущу поближе…
В ночи, в ирреальном мире расходящихся водяных бликов и волн Лека не рассчитал скорости большой рыбы. Алик раньше выстрела ударил в серую лоснящуюся спину багром. Обычные сомы мягки до студенистости. Но Кувшинковский левиафан затвердел от старости, как полено, и багор скользнул по его боку, лишь слегка ободрав кожицу и слизь.
От удара Силурус рванул вперед сильнее, ударил спиной лодку — и в тот самый момент Лека нажал на спусковые крючки своей двустволки. Но лодка уже накренилась, стволы ушли с прицела, и вместо сома крупная дробь седьмого номера прошила днище.
— Едрен кагал! — выматерился упавший на дно новообразованного дуршлага Алан. — Смотри хоть под ноги, когда стреляешь!
Силурус ушел на глубину. Вода в лодке быстро прибывала, и матюгающаяся промокшая компания погребла к спасительной осоке берегов.
— Это не сом! — кричал Лека в ярости (во многом на собственную неловкость). — Это враг народа! Это душа Колчака, которого утопили в Ангаре!
На берегу немного пришли в себя. Алан торжествовал вдвойне: во-первых, его рассказ о Силурусе подтвердился наглядно, а во-вторых — насмешник Лека посрамлен, обгадился прилюдно, и теперь его можно шпынять до посинения.
Это торжество, этот триумф духа заставил Алана быть благородным. Он объявил, что штраф за расстрелянную лодку он заплатит пансионатскому начальству лично, поскольку охота на Силуруса — его инициатива.
Когда Алик добрался до номера — мокрый, в иле, в водорослях и водной траве, как утопленник — презрительный взгляд жены сказал ему все, что она думает о его ночных развлечениях. Взгляда было довольно — супруги не разговаривали.
На следующий день Мирончик плакал, потому что отец запретил ему купаться. Лека реабилитировался, посетив по Алановой наводке бабку Мотниху. Здесь Горелов развернул перед обалдевшей старухой впечатляющую панораму её бесчеловечного преступления. Подобно Босху он поместил маленькую фигурку согбенной Мотнихи в центр панорамы шабаша: Мотниха подавлена и сломлена ужасными ликами подступающих отовсюду неотвратимо Санэпиднадзора, Народного Контроля, Месткома и Парткома, КГБ и Политбюро, объединившихся для победы над зловредной бабкой. Обложив Мотниху со всех сторон, могучие союзники тащат с собой новейшую технику: зловещие овоскопы и дактилоскопы, экспертов и криминалистов, лупы и микроскопы, прожектора позора. И вот уже раскрыт бабкин замысел продать дохлятину, и вот уже со всех сторон спешит милиция брать бабку — обкладывает окрестность, прочесывает леса.
И нет укрытия, нет спасения бабке Мотнихе. Лучшие пинкертоны страны прижимают её в угол убойными доказательствами, предъявляют ей её отпечатки пальцев и орудие преступления — нож, которым она после смерти отворяла горло поросятам. Дедуктивный метод не дает сбоя — страна Советов поставлена под угрозу распространением поросячьего трупного яда. И вот уже суд над Мотнихой — в блеске юпитеров, со стрекотом кинокамер, с рядами иностранных журналистов и гостей из братских республик. Вот уже клеймят Мотниху видные деятели профсоюзного и рабочего движения, указуют на неё перстом и требуют: «К ответу! К ответу!». И полнится газета «Правда» гневными письмами трудящихся со всех уголков необъятной родины — призывающих не щадить классового и генетического врага. Финал полон декоративных элементов: Бабку Мотниху сажают почему-то в полуторку, отвозят на помойку, и там, предварительно завернув в черную простыню, расстреливают.
Уже на половине этой экспозиции почти рыдающая бабка готова была согласиться на любые, даже самые унизительные условия мира с обществом. Когда Лека предъявил ей ультиматум — сдать ему немедля весь дохлый опорос — Мотниха без лишних слов пошла в подпол, на ледник и принесла трупики неудавшихся свиней.
Лека поспел как раз вовремя: на боках трупиков уже виднелась где-то слямзенная Мотнихой неразборчивая печать.
Друзья дожидались его недалеко от шашлычной, плотно пожевав жареного мяса, запивая студеным виноградным соком, урча теперь животами. Здесь они несколько часов просто и пошло спали, причудливо и мозаично загорая в рассеянных листвой лучах жгучего светила. Что касается дохлых поросят, то их положили на солнцепек, где они сперва отмерзли, а затем ещё и засмердели, вздуваясь. Сому лучший гостинец!
Частично восстановив подорванные ночной охотой силы, охотники перешли к пьянке…
* * *
«Ностальжи»… Как много можно вспомнить и заново пережить за две минуты единственной песни! За стеклом кружили белые мухи — первые признаки мокрой и бесснежной берлинской зимы. А водка — хоть и называлась «Русской» — была по-европейски чересчур чиста и дистиллирована. Это была подделка под ту, настоящую, «Андроповку» — сивушную, из опилок, из нефти — из чего ещё там?
Алан, Алан… Не щадит нас время… Он стал нефтебароном, и чтобы есть черную икру — в новой России не нужно было летать в Волгоград. Но изобильная икра тоже стала подделкой, как и нерусская «Русская» водка — она утратила витамины радости, солнечные ферменты целеустремленности.
Алан ворочал миллионами долларов. Он работал в Ираке по программе «Нефть в обмен на продовольствие», и много помог опальному режиму Саддама Хусейна. Потом, когда запахло второй войной в Заливе — Алан, как и все нефтебароны, отпустил домой сотрудников фирмы. Думали, что он, как капитан — последним покинет тонущий корабль.
Но это был бы не Алан! Он сделал нечто, заставившее новостные программы мира вновь заговорить о «загадочной славянской душе», хоть и был наполовину армянином. Он сказал Саддаму: «Мы были вместе в богатстве и радости — останемся вместе и в смертельный час!». Потом он надел костюм-«сафари», пробковый шлем, взял бронебойное ружье, из которого ухлопал в Африке не одного слона — и принял одинокий бой под деревушкой Эль-Обейд.
Говорили, что это очень экзотичный способ самоубийства. Говорили, что Алан сошел с ума, и принял за сафари настоящую войну.
Но Алик знал истинную причину. Незадолго до Эль-обейдской последней охоты он видел Алана на экономическом форуме в Давосе. Алан показался ему безмерно усталым, издерганным и потерявшим стержень внутри. Бессвязную речь мог понять только старый, многолетний друг:
— Шлюхи! Я, Алик, потратил на шлюх всего себя! Занимали мы с тобой, занимали… Отдавать все равно придется! Как все пошло и по Фрейду — убить себя, чтобы нравиться бабьей твари, проституткам нравиться — ради чего все?!
Подлинная романтика для Алана всегда была связана с трагедией и поражением. Алан смолоду впал в странную ересь — он полагал, что Богу милы побежденные, что Бог на их стороне — но, увы! — Он лишь наблюдатель и не может вмешаться: вмешайся Он — и побежденные станут победителями, и пропадет их шарм и величие, подлинная глубина, отверзающаяся в их душах в час великих испытаний.
Под Эль-Обейдом одинокий путник пустыни дал красивый бой: он стрелял в американский бронированный вертолет «Апач». Он не смог бы его сбить — если бы одна из пуль не попала под вращающийся винт, в ту единственную, как у Ахилла, уязвимую точку «Апача». Для охотника это большая удача! Только страстный охотник сможет её оценить — все равно что попасть бешено прыгающей белке прямо в глаз мелкой дробью!
А может быть, думал Мезенцов, то была и не удача вовсе, а просто великий Наблюдатель все же вмешался, усилил драматический эффект? Прошла лишь минута торжества — и другой «Апач» разорвал тело Алана в клочья очередью из крупнокалиберного пулемета. Кровавые останки Голубцова пали на иссохший такыр вдали от Басры и Багдада, вдали от родной стороны, бесконечно уходящей во времени и пространстве от Алана.
К гибели своей страны Алан приложил немало усилий — потому что хотел нравиться шлюхам. Но нельзя убить СВОЕ, не убив при этом СЕБЯ. На склоне дней Алан понял это — и ушел красиво, в колониальном пробковом шлеме и брезентовом френче, со слоновым ружьем в руках.
«Ностальжи»… Одна только песня. И какие гуттаперчевые, каучуковые, резиновые две минуты! Сколько мыслей влазит в них под фальшиво-чистую, стерильную, не обжигающую горла водку и под вкус прикормленной, домашней, потерявший терпкий лесной дух погони и страсти оленины!
* * *
В далеком и чопорном 1978 году Ему было 33 года — возраст Христа. Он состоял завотделом в Кареткинском райкоме ВЛКСМ, отвечал за науку и учебные заведения. Медик по профессии, он писал диссертацию по методам психотронного воздействия в буржуазных странах, ненавидел райкомовские будни с их пьянками, саунами и распущенностью, презирал свою скучную должность, возню с бумажками и маразматические поправки в молодежные стенгазеты.
На кафедре психиатрии им. Семенова грозились зарубить его детище — его массивный труд по внушаемости человека. Хоть труд и писался в рамках «критики ИХ нравов», все же познавательная часть выпирала, вопияла к небесам. Чтобы упокоить друзей и преодолеть врагов, нужны были банкеты, коньяки, охотничьи домики с запотевшей, ледяной внутри «Посольской» с балычком и копченой осетринкой. А на райкомовскую зарплату не разбежишься — меньше заводской.
Кафедра психиатрии им. Семенова втянула 33-летнего комсорга в коррупцию. Диссертация, как древний Молох, не спрашивала — откуда дары, но требовала даров. Выгодная женитьба, хоть и способствовала карьере, но денег тесть (замминистра нефтяной промышленности одной из автономных республик) не давал, наоборот — придирчиво разглядывал, как зятек КГБ-шных кровей, потомственный кат и палач, будет содержать его дочку. Родился первый ребенок — колокольчик, солнышко, Мирончик, и расходы семьи (жена работать и не думала) снова возросли.
Разрываясь, терзая себя и ближних, Мезенцов мучился какое-то время, потом нашел выход; Раз он отвечает за науку и учебные заведения, то имеет право выпустить сборник молодых авторов по научной фантастике. А раз он имеет право выпустить сборник — то имеет право решать, кого в нем из молодых и честолюбивых авторов разместить.
Друг, Алан Голубцов, работал в аппарате Союза писателей и помог собрать молодежную конференцию. Он же, храбрый и беззастенчивый, (через пару лет уйдет во внешнюю разведку!) собирал деньги с желающих обрести писательский статус. Отбоя от желающих не было, и ставки росли.
Алан Арменович был честен с друзьями, и отдавал бывшему однокласснику Мезенцову не меньше половины хабара. Смазанная зелеными полтинниками с профилем Ильича I машина диссертационной защиты заработала более складно, а после выхода первого фантастического сборника тут же наметили второй. Шустрый Алан Арменович нашел перекупщиков (фантастика в 70-е годы шла очень хорошо) и сбывал им готовую книжную продукцию в полторы госцены. От Мезенцова зависело — сделать эту госцену минимальной, и он расстарался: толстенная, сверхходовая книжка стоила 80 копеек, хотя её брали охотно даже по 3 рубля в городских магазинах-«Букинистах».
Вливаясь в «светлые ряды» цеховиков, комсорг Алик (так тогда звали его почему-то друзья) чувствовал ледяной ком и сладковатый привкус страха, бьющие под дых. Сколько веревочке не виться… Но обратной дороги не было.
Постепенно слащавая гниль в горле прошла, организм полностью переключился на адреналиновый режим, окреп и закалился в мире Фобоса. Но все хуже становились отношения с женой Светланой, «принцессой бензоколонок» далекой автономии, никогда не понимавшей мужа.
— Откуда у тебя снова деньги?! — зловещим, свистящим шепотом спрашивала она. — Тебя посадят, Алик! Зачем я послушала отца, зачем вышла за тебя?!.. Господи, ты же сломал мне жизнь! Ты же банальный рвач, мелкий жулик! Ты карманник из трамвая, Алик! Долбанный комсомолец!
Если он задерживался на работе — начиналась другая песня:
— А-аа!.. В сауну сходили?! Поздравляю! Кого обрюхатил там?! Вашу тренершу из спортивного отдела?! Молодец, секс-герой! Живот только втяни, а то брюхо тебя портит… Господи, как же я несчастна с тобой… Ну почему у Ляли муж археолог, почему они живут, как люди, почему именно мне досталось это животное без сердца?!
Светлана не любила труд — она была принципиальной нахлебницей — но все же советского образца. Не желая работать, она, тем не менее, согласна была довольствоваться малым, жить только на зарплату. Верхом ужаса в её ночных кошмарах был арест приворовывающего мужа и несмываемый позор. К тому же домашнее безделье приучило Свету к мысли об изменах мужа, о его донжуанских похождениях. Сама себя накручивая, она творчески и с фантазией, как писатели-взяткодатели на работе Алика, варьировала тему его бесчисленных измен и издевательств над её чувствами.
Алик Мезенцов был несчастлив среди коллег, в семье (хотя сына Мирона все же очень любил) и в мыслях. Но он был удачлив в делах, в теневой коммерции и счастлив в друзьях. Алан Голубцов и Лека (Олег) Горелов шли с ним с самого детства, от школьной парты, не бросая его, защищая, если придется. Алан любил белые атласные галстуки, которые в сочетании с черными импортными рубашками и искристыми кримпленовыми костюмами (тогда это было модно) покоряли сердца всех «мочалок» округи. Темные итальянские очки с вензелем лихим всадником сидели на его массивном армянском носу, чутком, трепещущем ноздрями, вполне годном на роль в одноименной повести Гоголя.
Алан считал Свету сукой и ненавидел её.
Лека Горелов пошел после института в КГБ и долго заманивал к себе туда отнекивавшегося Алика. Алик выпрыгнул из этой «колесницы возмездия», где громыхали когда-то его отец, мать и дед, где для Алика имелись хорошие завязки и были открыты все пути (в пределах, ясен перец, разумного!). Лека казался полной противоположностью знойному южанину Голубцову. Истинный ариец, нордический тип — пшеничные волосы, голубые глаза, прямая римская переносица, волевой подбородок, накаченное мускулистое тело — если не Геракла, то уж точно Аполлона античности. «Красив, как бог!» — ахали однокурсницы.
— Как идол! — всякий раз ревниво поправлял их Алик.
Мезенцов в их компании являл собой средний тип. Стертый, тусклый, неопределенной внешности, как старая монета, он оказался лишенным южной страсти, горячей крови Алана, и северной статности, хладнокровной уверенности в себе Леки. Он был рыхловат, немного безлик, его трудно запоминали в лицо — некая среднестатистическая внешность, маска толпы, фоторобот обыденности. Если что и выделяло Алика — удивительная бесцветность глаз, пустых, почти как бельма. Да, у них с Лекой вроде бы один цвет радужки — голубой, но у Леки он насыщенный, васильковый, острый, а Алик довольствуется блекло-вареным, почти белесым оттенком.
Это с неприязнью отмечали девушки. Алан подарил Алику одни из своих итальянских солнцезащитных очков, но Алик не мог себе позволить роскоши их носить: если свободный (хоть и вербованный разведкой) работник Союза писателей одевался как стиляга в обыденном порядке, то партиец, номенклатурный кадр Мезенцов быстро бы попал на прицел партконтроля.
Поэтому Мезенцов нашел выход в виде дымчатых очков, не совсем, но все же скрадывавших его неприятное свойство смотреть рыбьим взглядом. К тому же диссертация подпортила зрение, и без очков (хоть бы и не дымчатых) было уже не обойтись.
Тот летний дождь пришел как раз после защиты кандидатской. Документы отправились в ВАК СССР, а троица друзей — поразвлечься после пятичасового томления в институтской аудитории. Они были на машинах — Алан на «Волге» (гонорар с книги-фотоальбома «Это и есть советская жизнь»), Лека на видавшем виды «москвиче» родителей, Алик — на «Жигулях-копейке», недавно приобретенных на имя жены. Они могли бы считаться «золотой молодежью» 70-х, если бы не витал в воздухе столь отчетливо запах увядания молодости, если бы не уколы геморроя, вымывание залысин и ветер грустной зрелости, навеки хоронящей память шаловливого детства.
Этот летний дождь 1978 года приоткрыл завесу судьбы Алика Мезенцова и подарил ему Таню Лузину. Если бы не дождь — может быть, все было бы иначе… Но он так же неостановимо стучал по жести и камню города, как десятилетия спустя будет стучать над ложем умирающего Виталия Николаевича.
Она была моложе лет на десять. Она была стройной, с узкими бедрами, маленькой грудью, роскошными каштановыми волосами. «Мальчиковая» фигура рождала жажду близости и… мысли о латентной гомосексуальности. Дождь промочил её платье насквозь, размазал косметику на лице, словно она долго рыдала, дождь лепил её волосы на крутые монгольские скулы. Она шла на высоких каблуках, по мясным колбаскам дождевых червей, выползших наружу, хлюпая в их мерзкой плоти.
— Девушка! Эй, девушка! Может, прокатимся!
Конечно, писатель и агент внешней разведки Алан подал наглый голос первым. Вытащил из нагрудного кармана сиреневого пиджака сторублевку и выставил перед собой, ухмыляясь, как декларацию о намерениях.
— Дэвушка! Ты к нему не ходы, ты моя ходы! — с издевательским акцентом загомонил Лека. Оперся о капот своего «москвича», смеясь навстречу дождевым струям. У Леки с деньгами было куда хуже Голубцовского, но отставать он не хотел и тоже выставил сто рублей. Мол, гуляй, холостая вольница…
Алик со смущенным смешком поддержал инициативу. Он понимал, что за такие шутки можно полететь из райкома в два счета, но он защитил кандидатскую — бравада успеха ещё распирала его. К тому же все сворачивалось в шутку, к тому же — самое главное — он был убежден, что девушка выберет (если выберет!) или жаркого Зорро или мраморного Аполлона, но уж никак не его.
Но Таня выбрала именно его. Под изумленные посвисты и подзадоривающие смешки друзей она подошла к «копейке», с достоинством вынула из ладони Алика мокнущую деньгу и вызывающе улыбнулась:
— Куда поедем?
Алик остолбенел. Он был горазд пошутить с корешами — но дело зашло слишком далеко. Глядя на его обалдевшую физиономию, Лека и Алан презрительно зашумели:
— Алик, не дури! Открой даме дверцу!
— Алик! Ты избран из лучших! Не дури!
— Алик! Леди ждет! Ты не джентльмен…
— Садитесь, пожалуйста… — пробормотал тушующийся Мезенцов. — Вас куда подвезти?
— Я думала — к тебе, ковбой! — засмеялась Таня. — У меня свободный вечер… Найдется вино и тортик?
Алик повез незнакомку за город, на родительскую дачу, которую друзья в шутку прозвали «Угрюм-холлом». Они некоторое время ехали сзади, размахивали из окошек руками, пытались клаксонами машин сыграть вальс Мендельсона. Наконец, Алик набрал в легкие побольше воздуха и, высунувшись из машины чуть ли не наполовину, рискуя потерять управление, проорал кортежу:
— Пошли вон, мудаки!!!
Друзья не обиделись — понимающе развели грабли, «попердели» губами — «без балды, браток!» — и развернули свой транспорт от греха подальше.
Алик, кандидат медицинских наук, завотделом КРК ВЛКСМ, редактор-составитель серии «Флагман фантастики» — и Таня Лузина, девушка широких взглядов, секретарь-машинистка партийного машбюро, юная лимитчица из далекого маленького и глухого городишки.
— Живут же люди! — присвистнула Таня, входя в «Угрюм-холл» и осматриваясь по сторонам. — Мезенцов (они уже успели познакомится) — ты не кандидат! Ты целый доктор! И может даже, академик! Слушай, камин, картины, венские стулья… Лосиная голова и сабли на стене… тут, часом, не кино про красивую жизнь снимают?!
— Это все ещё от деда… — растерянно приборматывал небалованный женским вниманием Алик. — Стулья немецкие, трофейные, из Бабельсберга… Дед был полковником, ему целый вагон к вывозу полагался… Так Сталин распорядился… тогда… А картины, видишь, специфические — Маркс, Энгельс, Ленин… Плеханов вон, зачем-то… Сталин тоже был… Мама сняла, боялась очень… А лося отец сам… вот… убил, значит, и чучело закуклил, и повесил, моль-то разводить…
— А камин вручили тетке прилюдно за ударный мартен! Ладно, Аля, не оправдывайся, живешь — и живи хорошо, я тебе не народный контроль…
— Камин газовый. — зачем-то сообщил Алик. — Там газ подведен, и пламя поэтому синее… Не очень красиво…
— Но романтично! — она артистично обвила рукой шею Алика и шепнула на ушко игриво:
— Дурачок, когда идешь налево, обручальное кольцо с пальца снимать полагается…
Мезенцов растерялся и не нашел ничего лучше, чем начать стаскивать кольцо.
— Не при даме! — мягко удержала его Лузина. — Сейчас оставь, так даже пикантнее…
* * *
Старшему сыну, Мирону Витальевичу, отец доверял вполне. Он был плоть от плоти Мезенцовых, статный и красивый, как гусарский офицер. Пошел по финансовой линии и возглавил (не без помощи отца, конечно) инвестиционную компанию. Он умело играл на рынке ценных бумаг, продавал и покупал акции, владел солидной недвижимостью.
Сын боготворил отца. Однажды, когда Виталий Николаевич совсем было собрался умирать от панкреатита, Мирон бросил все дела и прилетел через две тысячи километров с Гибралтара. Он ворвался в комнату, раскидав охрану, и бросился к изголовью.
— Папа! Что это?! Почему ты не вызвал врача?! Я не понимаю… Какое лекарство тебе купить? Только не говори, что умираешь — папа, это… Уйдите, нам пока не нужен священник! Отец не умрет, уходите…
— Не шуми, сынок! — попросил Мезенцов-старший, обнимая голову сына пергаментной рукой. — Хорошо, что ты приехал… Но я хочу, чтобы ты ушел в гостиную… То, что мне придется рассказать — не для твоих ушей, Мирон… Уходи… Что ты стоишь? Я приказываю — у меня осталось мало сил, а мне надо закончить…
Мирон ушел. Он привык слушать отца во всем. Но на пороге не выдержал — и как-то по-детски заскулил, заплакал, будто котенок над трупом хозяйки…
Может быть, это сыновнее искреннее заступничество перед Богом было Алику Мезенцову зачтено, и необратимый, казалось бы, распад организма вдруг потек в обратную сторону. Получилось в итоге конфузно: помирал — и выздоровел, вроде как притворялся, миндальничал…
* * *
— Ему не надо этого слушать… — просипел Виталий Николаевич. — Довольно ему и того, что он знает… А вы слушайте до конца, и ничего не пропустите, батюшка! Я опускаю много мелочей, но есть такие мелочи, которые очень важны… Поэтому не думайте, что я несу какую-то блажь… В тот день я был очень счастлив. Мы пили вино и танцевали под тихую музыку, потом я отвел Таню в спальню и… никогда мне не было так хорошо, батюшка! Женщины в постели чаще всего — полено… А она была самой тьмой приникающей и теплой, она обволакивала… Вы знаете, что такое «минет», отец Евлампий? Не знаете? Ну и ваше счастье… Советские женщины тогда тоже ни хрена не знали, даже предположить не могли… А она знала и умела… В общем, в задницу все эти подробности, вы лицо духовное, и значение в них только одно: она меня взяла изнутри… Не просто за яйца, как бывает, а именно за сердце, тонкой рукой с коротко стриженными ногтями… Она тогда не могла позволить себе маникюр, она же сидела в машинистках и набирала всякие тексты…
Мы встречались один-два раза в неделю, и она всякий раз рассказывала много интересного. Ведь тексты-то печатались непростые, полные если не государственных, то служебно-карьерных тайн. Я многое уяснил для себя в раскладах нашей партийной верхушки… А однажды она пришла заплаканная… Да, я помню это, как сейчас… Вся зареванная пришла и протягивает мне листочек бумаги…
Тогда к ним электрические машинки «Ятрань» установили. Текст стал ровнее, бумагу насквозь литеры не пробивали. Казалось, что этот гудящий агрегат — чудо техники. Не напрягаясь, не тратя сил — нажал кнопочку — и буква уже на бумаге. Вообще-то у неё были очень сильные руки: она и на механических печатных машинках много поработала.
Но тот листочек она напечатала на «Ятрани». Да, ровным таким густым шрифтом, я хорошо запомнил почерк «Ятраней» по работе…
Это был листок под копирку. Запрос на меня, грешного. И четкий, жестокий, холодный ответ — как будто из-под рентгена меня вытащили. Я-то грешным делом думал, что умело маскируюсь, что скрываю свои чувства, что я сфинкс для начальства — а про меня, оказывается, знали все.
* * *
Руки Мезенцова дрожали. В висках колотились кровяные молоточки. Он не должен был увидеть эту бумагу, но и то, что он её увидел, мало что меняло: это был приговор карьере, а карьера казалась Мезенцову тогда смыслом всей жизни.
«Мезенцов Виталий Николаевич. Из семьи служащих. Отец и мать — сотрудники КГБ… Семейная генетическая склонность к садизму и насилию в настоящее время латентна… Карьерист… Основа мировоззрения — цинизм… Страдает приступами черной меланхолии… Склонность к суициду…»
Алик посчитал тогда, что все кончено, что он, как агент, засыпался, и возврата к успеху не будет. Алик думал, что теперь его ждет малоответственная работа на самых гнилых участках партстроительства. В этом его слезами поддерживала Таня, уверенная, что блестящий «папик», покровитель и толкач блестяще же провалился на подмостках реального социализма.
Глупые, наивные сопляки! Они не знали, и не могли тогда знать, что отрицательные качества уже становятся для власти положительными, что сумма облика будет кем-то отслежена, выделена и подана в особой папке на рассмотрение.
Бумага ушла наверх. Таня ушла от Алика. Может быть, потому, что уже не могла рассчитывать на его успех, и по методу Дарвина искала нового сильного самца. А может, наоборот, потому что слишком уже привязывалась к Мезенцову, и случайная связь принимала угрожающе серьезный оборот…
Вскоре после ухода Тани Мезенцов получил вызов из Внешторга. Даже Светлана, давно и люто ненавидящая мужа, посмотрела на этот раз с уважением: с чего бы такие валютные прелести?
Друзья «раздавили» в детской песочнице под грибком бутылку «Киндзмараули» и искренне, от души, поздравили. Алик шел в рост, в непонятный рост, в неожиданный верхний штрек, находившийся далеко от прежнего ствола подъема.
Во «Внешторге» разговаривали на самых верхах, очень вежливо и бережно. Предупредили, что задание будет торговое, чрезвычайной важности, сложности и секретности. Что Алик должен сыграть ключевую роль в ответственейшей операции. И степень его свободы будет высока, но степень ответственности за злоупотребления — ещё выше. Подстраховывать будет КГБ. Вот список агентов поддержки, прослушайте их, чтобы было полное взаимопонимание. Но помните — вы главный. Вы выбираете себе офицера сопровождения, и он целиком и полностью выполняет ваши распоряжения.
В списке было 7 фамилий. В основном капитаны и майоры КГБ. Мезенцов — была не была — вписал ручкой восьмую — «О. Горелов» — и именно напротив неё поставил галочку выбора. Через пару дней ничего не понимающий Лека получил командировку в маленький западногерманский городок Гифхорн…
* * *
Командировка Алика была обставлена так, чтобы он не отвлекался на потребительские нужды и не думал о покупках. В валюте его совершенно не стесняли, пояснили, что отчет за выданную пачку долларов будет формальным. Все эти крупные купюры — «на представительские расходы». Есть и запасные паспорта на Алика и на Горелова — если нужно, используйте чужую фамилию. Наше консульство в курсе. Главная цель — предприниматель Эрнст Иоган Хок, житель Гифхорна и крупный биржевой делец…
* * *
Его звали Эрни Хоком. Смолоду он подвизался в концлагерях и душил евреев газом, а потому попал в список военных преступников. И, тем не менее, его берегли, потому что высокие люди обоих миров — Востока и Запада — могли получить от Эрни то, что нужно больше всего на свете: дополнительную жизнь.
Эрни Хок торговал человеческими органами. Никто не спрашивал его, откуда берутся почки и печени, сердца и суставы. Никто и никогда не входил в мрачный подвал тайн Эрни Хока, откуда он, как фокусник из цилиндра, доставал новые жизни для власть имущих.
Его дом в Гифхорне, в котором не раз потом гостил Мезенцов, был типичным домом богатого бюргера, с брусом фахверка, обрешечивающим стены, с сентиментальными фарфоровыми статуэтками и картинками настенных тарелок. Верхнее чердачное помещение имело круглое окно с перекрестьем рамы, словно крест сверкал над кирхой. Хок очень любил лакированную мебель — все столы в доме сверкали зеркальной полировкой, казались темными неподвижными озерами тайны. Предмет, который вы клали на такой стол, отражался в призрачном потустороннем полированном мире, искаженный и затемненный тоном лаков.
У Хока был винный погреб, выложенный диким булыжником, просторный и сумрачный, с крутыми 33 ступенями вниз, прохладный даже в летний зной. Здесь хранились на 178 стеллажах обрамленные бархатом благородной пыли бутылки Франции, Италии, Испании, рейнских виноградников. Некоторые пролежали в коллекции не один век…
Хок по роду своей деятельности не боялся ни черта ни дьявола. Пожилой человек с лоснящейся лысиной в обрамлении жидких седых волосенок, гладко выбритый и церемонно одетый, Хок носил «Вальтер» в подмышечной кобуре и крошечный дамский трехзарядный пистолетик за резинкой правого носка.
Хок не боялся полиции — она его боялась. Хок не боялся воров и бандитов — они его боялись. Одного на свете с 1944 года боялся Эрни Хок — он до смерти боялся русских. Молодому спецу «Внешторга» предстояло войти в контакт с Эрни и получить инъекции спинного мозга для омоложения дряхлеющих советских вождей. Ни у кого тогда и мысли не было, чтобы получить чудо-средство в СССР — столь чудовищной представлялась вампирическая мысль перехватить чужую жизнь.
Но — шаг сделан. То, что не рисковали получить в СССР, надеялись за валюту получить в Западной Германии. К Хоку послали гонца налаживать отношения — значит, совдепу приходит конец, понял Алик.
* * *
Бюрократическая машина сработала быстро: подлинники документов о преступлениях Эрни Хока в годы Второй Мировой войны были собраны в Архивах КГБ, Министерства Обороны, Военной Прокуратуры СССР и срочно курьерской почтой доставлены в Гифхорн.
Через день их получил сам «виновник торжества», а ещё через день он перезвонил Мезенцову в отель «Гертруда» по приложенной визитной карточке и пригласил зайти по-свойски. Хок говорил по-русски! В свое время подготовленный школой Абвера для войны с Россией, он не забыл, не утратил навык общения с «византийцами», как он называл жителей СССР.
Так Алик Мезенцов впервые вошел в «тихую гавань» старого пирата, в воды комфорта и забвения. Он был собран и напряжен, по кошачьи упруго ступая по драгоценному паркету «базилика», он понимал — визит может окончиться чем угодно, вплоть до устранения нежелательного свидетеля.
У них уже была одна на двоих большая тайна — и вскоре должна была появиться вторая. А умные люди в торгпредстве недаром говорили — у кого тайны с Хоком — у того смерть сидит за плечами…
В доме Эрни обстановка успокаивала, убаюкивала внимание своей исключительно немецкой упорядоченностью, чинной чопорностью и неким сентиментальным провинциализмом. Диваны и кресла обтянуты прохладным полосатым шелком, их полированные подлокотники красного дерева удобно ложились в ладонь. Картины фламандской школы XVII–XVIII веков с сюжетами из жизни традиционного бурга выдавали в хозяине культуртрегера и почвенника Германии.
Алик понимал, что он, как в сказке, попал в замок людоеда, но замок был далек от сказочной мрачности, развешанных черепов и скелетов на карауле. Разве что лепнина на потолке чуть отдавала сатанизмом — некие драконы, химеры, оскаленные псы щерились из-под побелки, словно замурованные в известковую скорлупу. Но в остальном — дом как дом, бизнес как бизнес…
«А может, так оно и есть? — подумал Мезенцов. — Дом как дом и бизнес как бизнес?»
В сознании произошла странная аберрация — Хок вошел в обойму бизнесменов, вместо того, чтобы выпасть из обоймы рода человеческого. Алик сидел внутри адского гнезда — и постепенно приучал себя к мысли, что все гнезда — адские.
Разговор шел неторопливо, издалека. Хок поинтересовался Россией, переменами к «свободе», потом как бы невзначай спросил у Мезенцова, что привело его в Гифхорн.
— Мне необходимо совершить определенную торговую сделку… — взял Алик быка за рога. — Особого рода сделку… С вами…
— Хм… боюсь Вас огорчить, но я уже не торгую щетиной… Я закрыл бизнес и живу на правах рантье…
— Я не интересуюсь щетиной, — тонко улыбнулся Алик, — разве что бреюсь… иногда… Нет, херр Хок, мне необходим особый товар, тот, который называют эликсиром молодости…
Старик Эрни был выдержанным человеком. Он и бровью не повел. Отхлебывал из китайской фарфоровой чашки баварский шоколад и тихонько морщился, как от зубной боли.
— Объясните, молодой человек, почему я не должен немедленно вытряхнуть Вас из своего дома?
— Если бы я был «подсадной уткой», я бы уже одел на Вас наручники… — терпеливо, как ребенку объяснял Мезенцов. — Я принес Вам гору компромата, неужели Вы думаете, херр Хок, что мне понадобилось бы подлавливать Вас на эликсире молодости? По нацистским преступлениям нет срока давности…
— Хм… — поднял Хок седую, кустистую бровь, — тогда объясните другое… почему я не должен прихлопнуть Вас, ключевого свидетеля, безотлагательно?
Русский язык в редактуре абвера был немного книжным. Он не выражал богатства образов, проносящихся за казенными, как из хрестоматии, фразами. Но суть Хок умел хорошо передать, тут уж не поспоришь.
— Потому что я представитель крупного заказчика, — разжевывал Мезенцов, — и потому что я принесу Вам, герр Эрни, хорошие деньги на блюдечке.
— На блюдечке много не уместится… — придирчиво сверил мысль со своим фарфоровым блюдцем Хок. — Но вообще-то Вы правы, я предпочитаю наличные, и терпеть не могу банковских переводов. Говорят, что банки были придуманы для удобства людей… как бы не так, хе-хе, банки всегда были людям неудобны, но они хороши для фискальных целей государства… Банк — это тот же рентген, глаз Большого Брата… Как вы относитесь к государству?
— Герр Эрни, в вашем вопросе я чувствую заданный ответ. Но я не стану подлаживаться под собеседника. Я представляю величайшую империю на планете, и я люблю её. Это может показаться Вам странным, но я правда, люблю её тяжкую поступь, её ледяное величие, металлический кимвал её голоса, звон литавр и рычание труб на её парадах… Я слишком потерт жизнью, чтобы верить в её справедливость, её доброту или прогрессивность. Но я верю в Силу — Силу, равной которой нет. Мне кажется, Вы, херр Хок должны это понимать.
— Сколько Вам лет? — прищурился (прямо-таки по-ленински) Эрни. — Вы кажетесь таким молодым…
— Это обманчиво, херр Хок. Я уже перевалил за ту черту, на которой остановили Христа. Я не могу считать себя молодым.
— Ха! ЗЗ года! Поверьте старику, вы ещё мальчик! Когда-то юный лейтенант райха Хок рассуждал именно как Вы. Но это пройдет! У каждого есть своя империя. Не каждому суждено пережить её — но у каждого есть надежда пережить империю, и увидеть её слабость и агонию…
— Я работаю для того, чтобы никто этого не увидел и не пережил. Ради этого я и приехал к Вам.
— Если Вы приехали ко мне за божественным эликсиром — за семь миль хлеб-соль хлебать (русские поговорки путались в старческой памяти Хока) — значит, Ваши боги ослабли и алчут помощи. Империя на грани — и Вы это понимаете, но не хотите открыть глаза до конца.
— Жизнь докажет, кто из нас прав, херр Хок!
Хок брал дорого. Но дряхлеющие вожди не жалели денег — и заветный контейнер был переправлен в Гамбург, на международный рейс. Лека до последнего носился по супермаркетом, собирая сомнительный товарец с яркими наклейками, а Мезенцов застыл перед отлетом в некоем ступоре, зараженный и подломленный словами Хока, как инфекцией.
Для друзей и знакомых он ещё оставался Аликом, но нечто тектонически перевернулось, не позволяя ему дальше так называть себя…
* * *
«Ностальжи»… Музыка прошлого, замкнувшегося в кольцо, песня защемленной временем души. Неужели не прошло ещё и минуты? Неужели песня не проиграна и до середины? И сколько будет обрастать деталями снежный ком ледяных, рвущих душу воспоминаний?
Мирона Витальевича Мезенцова не стало в самом расцвете сил и молодости. Его убили на лесной дороге, потому что он ездил на прекрасном джипе. Его убили дорожные мародеры, чтобы угнать «тачку» и где-то в гараже разобрать её на драгоценные запчасти…
Эту машину, ставшую причиной убийства, подарил Мирончику отец. Они давно были в разводе со Светланой, вернувшей себя даже девичью фамилию, Виталий Николаевич чувствовал себя виноватым перед сыновьями, и потому все время осыпал их подарками. Осыпание обернулось оспой: Мирон, лучший, деловой, целеустремленный — погиб из-за отцовской щедрости. Младший, Сергей — теперь уже законченный алкоголик. Жизнь при виноватом отце показалась младшему слишком легкой штукой; когда спохватились — было уже поздно…
— Все к чему ты прикасаешься, становится или смертью, или говном! — визжала Светлана, сама все чаще прикладывавшаяся к бутылке. — Господи, Мезенцов, что ты за человек?! И человек ли вообще?! Это ты убил нашего сына! Ты со своими деньгами, будь они прокляты!
Виталий Николаевич стоял перед ней, в черном траурном костюме, с черной гвоздикой в петлице — бессильно сжимал и разжимал кулаки. Он сломал тогда себе зуб: так стискивал челюсти, что зуб не выдержал и треснул, раскололся от невыносимого давления не находящей выхода ярости.
Господи, почему ты забрал красавца, гордость, гвардейца Мирона? Отличника, блестящего финансиста, удачливого и добродушного человека? Почему не эту мегеру Светку, отравившую Мезенцову жизнь, так и не ясно — за что именно? Или… прости, Господи, но почему не… другого?! Сережа, Сергей Витальевич был младше на четыре года, он был зачат как-то нелепо, когда охладевшее брачное ложе не могло вместить в себя даже тени живого чувства. Зачатие Мирона все же приходилось на некий апогей пусть остывающей, но страсти, хотя бы животной, но похоти. Сергей — это химическая реакция, даже не случка — занудное исполнение долга, совокупность бессмысленных, но прописанных доктором телодвижений…
Сергей даже на похоронах брата был в зюзю пьяный и сопливый. Его уже пару лет до этого подбирали почти безжизненного с газонов, с лавок в парке культуры и отдыха, с магазинных ступеней. Если верно, что Бог карает через детей — что ж, велики были грехи Мезенцова-старшего, если отнято у него дорогое и оставлено позорящее…
Сейчас Сергей Витальевич — наследник довольно крупного состояния. Единственный. Виталий Николаевич и думать не хотел, как мот и тунеядец, алкаш и придурковатый «свой парень» в любой компании, распорядится — в буквальном смысле кровью! — заработанными деньгами.
Зачем жить? Разве для того, чтобы прослушать песню «Ностальжи» в чужом и холодном городе, далеко от дома (весьма теперь условного понятия) ожидая постаревшего и такого же потерянного в пустынях Вселенной друга? Стоит ли жить только ради этого?
* * *
А тогда… Боже, было ли это в прошлом? Никакие бездны времени не могут связать это мостом между собой — нет, Кувшинка была где-то в параллельных мирах, где-то в области альтернативной реальности, в петлевом сегменте времени…
Три пьяных дурака стали гомонить, не слушая друг друга. Алан кричал, что сом обязательно купится, как фраер, на тухлого поросенка. Лека зачем-то вворачивал, что «Черненко — это сила! Черненко — это новая эпоха!» — бормотал, как заклинание, видимо, и сам-то не особенно веря в свои мантры.
На жаре с пары бутылок совсем развезло. Мезенцов пробил ножом банку сгущенки и припал к отверстию, высасывая сладкую белую патоку. Капли щедро падали вокруг, ложились на траву, где их растаскивали по крупицам веселые трудяги-муравьи.
— А он, пожалуй, может и нас самих… того… глок — и все дела! — предположил Алик заплетающимся языком.
— Силурус-то?! — обрадовался Алан. — Да за нефиг делать! Такому что лодку перевернуть, что человека сожрать — матерая тварь, прямо любуюсь!
— Я, наверное, есть его не буду! — почесал лоб Лека, безуспешно пытаясь сфокусировать блуждающий взгляд. — Он такой… ик… противный! Как глиста какая-то…
Прибежал Мирончик — обнял отца, и получил в награду недопитую банку сгущенки.
— Пап, там тебя мама ищет! Ты на обед пойдешь? А то столовую закроют…
— Садись, сынка! Побудь в мужской компании!
— «Жигулевского» будешь? — поинтересовался у мальчугана Лека, шаря пиво в рюкзаке.
— Ещё чего! — возмутился Алик. — Ты свои солдафонские штучки, Лека, отставь! Мирончику пить вообще нельзя, он у меня не звезды будет зарабатывать… Он у меня будет доктор экономических наук… во как! А чего?! Поднимем, поможем! Я по партийной линии, Алан по писательской, ты вон четвертый отдел на себя возьмешь в его Университете… потом… курировать…
— Это напрасно, Алик! — опрокинулся навзничь Лека. Бутылка «Жигулевского» торчала из его рта, как воткнутый кол. Выглохтав половину, Лека отвел руку, и посмотрел чуть более осмысленно:
— Мужчина — неважно, кто он по профессии! — должен быть солдатом и немного даже солдафоном! Короче говоря — бойцом, а не курицей! Это всегда и везде пригодится!
— И что ты в силу сего бесспорного утверждения предлагаешь? — пытливо поднял бровь Алан. — Споить ребенка пивом?
— Взять его сегодня охотиться на сома! — важно выдал Лека, раскинув руки по сочной и горячей от солнца траве. — Пусть привыкает! Жизнь, Мирон, это, в сущности, и есть смерть! Там, где нет смерти, нет, в сущности, и никакой жизни… Мы, мальчик, идем сегодня ночью на смертный бой с огромным сомом Силурусом, духом и фетишем здешнего водоема… Тут, брат, или мы его, или он нас — третьего не дано!
— Давай, болтай! — рассердился Алан. — Мужик, а плетешь языком, как баба! Да у Силуруса такого как ты жирного борова проглотить — пасть треснет!
— А может, он правда, дух? — ерничал Лека. — Применит магические способности, а?
Так и порешили. К дикой ярости Светки Алик забрал «в безумный поход» ещё и сына. Он чувствовал неподдельную и огромную отцовскую гордость, когда они шли с баграми и поросятами на Силуруса, и он обнимал сына за плечи, ощущая великое единство и гармонию поколений…
* * *
Он давно вбил в привычку: принимать решение в срок, пока курится сигарета любимого «Салема». Жизнь не терпит задержки — план должен быть утвержден или отвергнут в этот сжатый и дымный срок. Вонючая «пахитоска» решала иногда судьбу миллионных вложений.
Теперь так же обыденно плыли к стеклу, ударялись о него и искажались сизые призрачные колечки, растворяемая в нирване ресторана душа погибшего табака, и он морщил лоб, пытаясь вспомнить: какое же решение нужно принять в срок, пока не упадет в пепельницу эфемерный столбик пепла?
Но он больше не имел проблем и не нуждался в решениях. А приход Леки Горелова никак не связан с дымом умирающего в пальцах «Салема». Однажды вот так же умирал на его плече одноклассник Саша Ситников, взятый по старой памяти в дело, и предавший. Саша воровал, мечтая открыть собственное предприятие. Дело было не в деньгах — играючи на противоречиях Ситников вошел в контакт с врагами Мезенцова и сливал туда зловонную информацию.
Наверное, иначе было нельзя. Даже и сейчас — вернись все назад — Мезенцов не смог бы поступить иначе. Хотя ему было и жаль памяти детства, общего прошлого — но не он предал первым. Речь, в конце концов, шла о судьбах десятков и сотен вовлеченных в предприятие людей, и Мезенцов не мог простить Сашу даже по христиански — личный враг и враг твоего общества, твоего братства — разные люди. Судьбу личного врага ты можешь решать лично, судьбу врага друзей — только сообразно справедливости.
Когда Мезенцов пришел убивать Ситникова, тот, уже знающий о своей участи, сидел у колыбели своего ребенка. Встал, серый и прямой, улыбнулся сизыми дрожащими губами:
— Что ж, Алик, у каждого свое несчастье! У тебя убили сына, а я работаю по найму…
Даже в последний миг, в детской комнате, покидая мир, Саша был предан своей навязчивой идее — свободе в собственном деле, независимости. Он считал, что работающий по найму недостоин называться мужчиной. Ради свободы он перешел грань между жизнью на коленях и смертью стоя.
— Ты кшатрий, Саша, — тихо сказал Мезенцов. — И ты умрешь, как кшатрий.
Он приказал Валере Шарову и его бригаде удалиться за дверь, и они остались с Ситниковым вдвоем. Валера, кровавый пес, протестовал, но Мезенцову хватило одного взгляда, чтобы осечь холуя. Сегодня было мясо не по его клыкам…
— А помнишь… — из правого глаза Саши выбежала прозрачная слезинка. — В восьмом классе… Нас послали покупать таблицы Брадиса, а мы упороли в парк и купили на все деньги билеты на катамаран…
— Помню, Саш, как не помнить…
Это тоже было в другой жизни. Солнце преломлялось в линзе зеленой воды, плескавшей так близко и так радостно. Подводные травы качались в такт течениям родников, и мелкая рыбешка брызгала из-под носа катамарана во все стороны. Вода плескала на бетонную оправу озера, и быстро испарялась, берега курили влажной дымкой. Два школьника хохотали в пене брызг…
— Я все тебя торопил, Алик, помнишь? Я боялся, что меня поставят в угол… Меня поставили-таки в угол…
— А меня избили дома так, что я неделю не мог ходить в школу, — улыбнулся Мезенцов теплым воспоминаниям.
— Да… Алик, я много думал потом… Тебя ждало несравненно более худшее, но боялся не ты, а я… Наверное, с тех пор я тебя всегда и ненавидел… Я хочу, чтобы ты знал: я сдал тебя, потому что хотел стать таким, как ты!
Мезенцову вспомнилась Светка — «все, к чему ты прикасаешься, превращается или в смерть или в говно!» Может, она права? Вот ты коснулся рукой судьбы Ситникова, вовлек его в свой кильватер — и ему нужно выбрать между смертью и говном, и он выбирает смерть. В конце концов, выбор кшатрия!
Это была большая честь, которой вряд ли бы удостоился другой предатель. Мезенцов собственноручно приобнял Сашу за плечи и несколько раз ударил в его живот отверткой, которую иногда носил в кармане пиджака.
Ситников дернулся, уронив голову на плечо бывшего босса и всхлипнул то ли обессилено, то ли благодарно. Виталий Николаевич не дал ему упасть — мягко, бережно опустил на пол, доумирать в гармонии мира.
— Чистую рубашку и костюм! — спокойно распорядился Мезенцов, выходя. — Быстро!
Зачем этому Ситникову нужно было обязательно собственное дело? Разве Мезенцов мало ему платил? Разве Саша знал хоть в чем-то отказ? Может быть, ему бы стоило просто попросить Виталия Николаевича, и тот бы подарил ему казино, магазин, складскую базу? Нет, навряд ли… Ни тогда, ни сейчас… Сделать управляющим звеном в мезенцовской системе — может быть, но не собственником… На деньги Мезенцова можно строить только муравейник Мезенцова — это закон. Да и не денег хотел Ситников. Он хотел свободы — а свободу нельзя даровать, это ошибка всех прекраснодушных гуманистов-реформаторов, Александра II или Горбачева. Свобода не может быть передана хозяином рабу, ибо пока она — дар, она служит только хозяину. Свободу может взять только кшатрий, и только силой вопреки сопротивлению иных лиц.
Саша Ситников искал свободу — свободу он и обрел.
Вообще, зря Мезенцов вспомнил о нем сейчас, тогда, когда нужно вспоминать другого покойника, Алана.
Где же Горелов?! А, впрочем, прошло очень мало времени. Ещё звучит «Ностальжи» и ещё не рассыпался пепельный конус под указательным пальцем. Горелов не опаздывает — просто Мезенцов торопится. Жизнь, как оказывается, плотно ты умеешь сжиматься! И к чему бы это? Говорят, в последний миг перед смертью вспоминаешь все, переживаешь себя ещё раз от пеленок и ползунков. Но час Мезенцова ещё не пробил. Не пробил?..
Он всегда был человеком с душой в доспехах. Он был рыцарем в прямом, историческом смысле — не придурком на манер Дон-Кихота, а подлинным рыцарем-воином, храбрым и жестоким, фанатиком силы, грабителем и мародером, опорой трона и с массой сословных предрассудков в душе. Щедро разбрасывая семена смерти, сеятель не боялся её всходов, и не прятался от безносой. Иногда даже очень хотел оказаться на месте покойников, причиной которых был сам.
Например, на месте Мирона в том Богом проклятом «паджеро», когда сыну выбили мозги и левый глаз дверцей его же собственной машины…
Он и сам не знал, кто он есть: наемник Смерти или её повелитель, кровавый демиург нового времени или щепка, затерянная в урагане истории, в водоворотах тектонических разломов и перемен. Иногда ему казалось, что он правит; иногда — что его безвольно влечет течением.
* * *
…На сей раз подступили к крепости Силуруса вечером, на закате, когда даже мох понизу выбеленных временем прибрежных валунов-лежней казался розоватым в пене и кипени разбрызганного в перистых облаках багрового шара-солнца.
После многодневной жаркой истомы на Кувшинку несло с Востока иссиня-черную грозовую тучу, стлавшуюся понизу дробящихся линий — горизонтов. Алик оставил благоговеющего сына на берегу — неотрывно смотреть на действия и придурь взрослых, а сам с друзьями босиком прошлепал по мелководью готовить Силурусу новые сюрпризы.
Лека нес в руке не только вспухшего на солнце и вонючего поросенка, но и зачем-то небольшой кассетный магнитофон «Электроника», входивший тогда в бытовую моду последним разудалым писком.
— Тебе чо, Лекарь, дискотека тут что ли? — угрюмо ворчал Алан, напильником пытаясь высечь зазубрину на крюке багра, превращая пожарную снасть в рыболовную.
— Молчи, несведущий! — важно ответил Лека. — Эй, Миронка, тебе хорошо видно?! Учись, пока я живой!
Он включил магнитофон, и над кружливым, булькающим, неустойчивым зеркалом омута раздалось забытое в здешних местах лягушачье кваканье на все лады. И не лень ведь было Горелову гонять днем на дальние Карповые пруды, записывать всю эту какофонию! Что касается омутов рукава Чермашни, равно как и её берегов, то Силурус давно уже пожрал здесь всех лягушек, а пришлых уничтожал по всей строгости силурийского закона — оттого здесь ночью так славно спалось без лишнего квака.
— Ну что, сволочь! — распалял себя Лека. — Мучают голоса невинно убиенных жертв?! Всплывай давай, головастик, пробил и твой час! Нажрешься ты у меня по самые гланды!
— Вот чисто службистский примитивизм! — рассуждал Алан с выражением лица английского сноба. — Упрекать несчастное животное в его видовом питании! Лека, ты неандерталец!
Сам Алан привязал ногу дохлого поросенка за бечевочку и пустил плавать по омуту, как прикормку. Раздутый на солнцепеке трупик несостоявшегося борова носило легким поплавком, словно парус, меча по ветру эту мясную пробку. А на ляжке все ещё синела фиктивная печать Мотнихиной алчности и липового санэпиднадзора…
Алик рвал у берега осокорь и аир, приматывая мочалкой к ногам, чтобы под водой ноги казались травяными пучками. Их новый план был выманить Силуруса ближе к побережью, уцепить тут на крючья и втроем тащить — если получится, если у троих хватит сил на такую громадину. Надежда была только на то, что за последних несколько лет Силурус выжрал всю ихтиофауну вокруг себя и постоянно голодает.
В задачу Леки входило подливать мясной бульон, дабы его аромат тек по водам вдаль и манил сома. Первого поросенка сому решили скормить беспошлинно, чтобы вызвать доверие.
Алан, стоя в воде по пояс, держал на манер удочки багор с нанизанным на зазубренный крюк вторым поросенком. Учитывая длину древка багра, поросенок висел над порядочной глубиной. Чтобы Алан не устал, Алик приспособил под древко двурогий колышек-распорку, как для удочек, только побольше размером.
Мерк день, уходило в воды Чермашни, в буйное разнотравье её берега призрачное багровое светило. Звон цикад и кузнечиков стлался над раздольем вод и зарослей неумолкающей победной трелью жизни и покоя.
Остывали разгоряченные днем камни-лежни по обочине омутов, шелестела вода о гибкие стволы утопших корнями трав.
— Не возьмем мы Силуруса! — проявил малодушие Алан. — Многие пытались, да рога об него обломали…
— А я без рогов, я холостой! — бесшабашно отозвался Лека.
— Тебе их отращивать неоткуда, для них голова нужна!
— Заткнулся бы ты, рогатый, смотри лучше, чтобы сом потомство не откусил!
— Пап, а как можно откусить потомство?
— Это дядя Лека шутит так, Мирончик! Я вот счас ему оторву потомство, чтоб при ребенке так не шутил!
Все летят и летят в голове Мезенцова голоса из прошлого, осыпанные мелкой шелухой вечерних озерных звуков и укутанные запахом сырой земли. И пахнут надломленные зеленые стебли болотных аиров, сочных ослинников со взгорья, пахнут, хотя давно истлели и легли в толщу прибрежного ила, пахнут из далекого восемьдесят четвертого…
— Алан, а правда, что чуваши предком человека считают сома?
— Это националистический поклеп на чувашский народ, который, как и все прогрессивные нации мира, в соответствии с решением XXVII съезда партии, производит человека от обезьяны…
— Да ну тебя! — Лека сплюнул. — Трепло ты, Алан… Ты как считаешь, человек мог произойти от обезьяны?
— Ты — безусловно!
— Я же серьезно! Мне не за себя — за державу обидно!
— А ты предпочел бы, шоб из Космосу нас ввезли, как щас модно принято?! Я не знаю… Может, человек и ввезен пришельцами, этими первопроходимцами звездных дорог, но скотина он порядочная! Знаешь, обезьяна — одно из редчайших млекопитающих, которое нельзя почему-то приучить срать в одно место… Ходит и гадит, где придется! Казалось бы, умное животное, кубики складывает, американцы вон её языку глухих научили — а где припрет, там и влажно пукнет, культурно выражаясь… Меня всегда это в обезьянах удивляло…
— И что это доказывает?! — обиделся буффонаде Лека. — Мы же вот приучились к отхожему месту…
— Хомо сапиенс конвертировал свое недержание помета в нравственную плоскость, в сферу, так сказать, тонких психических материй… Но, знаешь, на мой взгляд, остался засранцем… Приспичит ему — и тотчас спич выдаст, жидко и зловонно, только из верхних дыхательных путей!
— Ты, Алан, сволочь и циник, и ездишь не там, где надо! Париж, Женева, Лондон — разве там ты ищешь настоящего человека, героя нашего времени, Личность эпохи Черненко?! А я был в Воркуте, в Целинограде, в Тайшете, я видел не только фарцу, валютчиков и интердевочек, как ты… Я видел школьников на комбайнах, приехавших в каникулы работать на целинной пашне, я видел лица детдомовцев в маленьком провинциальном Осколе, приехавших на конкурс планеров…
— Хер ли ты в командировках делаешь, капитан?! — пожал плечами Алан. — Ты врагов искать должен, а ты все друзей режима с фонарем ищешь! А всяких блаженных, оглашенных, потенциальных клиентов детского крестового похода — их всегда хватало, и сейчас везде завались… Другое дело, что не они погоду делают! Тут разве что титаническая фигура Черненко что исправит (Алан сделал издевательский жест наподобие мусульманского намаза) — Мир ему и хвала!
— Ты напрасно хихикаешь! — посуровел Лека Горелов. — Многое меняется! Партия признала намечающийся кризис общества и призвала к усилению работы с письмами трудящихся! Впрочем, ты птица вольная, все об Ильиче поешь, тебе простительно и не знать такого!
— Письма трудящихся! — просиял саркастическим лицом Голубцов. — Н-да… Это многое меняет…
Мезенцов видел, что Алан вот-вот прыснет неудержимым хохотом, но упертый Горелов почему-то воспринял глумливый возглас всерьез. Пробормотал что-то — мол, вот как вас, неучей, надо фактами учить, и врубил кваканье нездешних лягушек погромче. Магнитофон болтался на его шее, и снимался только, чтобы перевернуть кассету.
— Ализе де Пари… — легкомысленно затянул Алан диссидентскую мелодию — фьють-фьють-фють…
Тогда он был влюблен в «Город Пари», как двусмысленно называл Париж, молодой легкомысленной страстью алкая Монмартр и Ле-бурже, как Лека алкал видеть целинников, бамовцев и сирот-планеристов.
Мезенцов ненавидел «Город Пари» и всю цветочно-ванильную, конфетно-миндальную, слащаво-розовую страну под его главенством, даже на карте выкрашенную в цвет лесбиянки. Но он не мог рассказать об этом даже близким друзьям. Он ненавидел Францию не всегда, а вполне определенно с 16 ноября 1980 года. Ненавидел не саму по себе, а потому что она невольно открыла ему глаза на себя и на всю его проклятую Богом жизнь…
С 1978 года разгорался в Европе, навозной жижей растекался по её чистеньким столицам афганский скандал. Дряхлеющая империя в последний раз, гремя костями, проявила себя, ввалившись в горный кишлак под вывеской суверенного государства, туда, где, как с горечью повторял Лека, «много пчел и мало меда».
Европа бойкотировал Московскую олимпиаду. Напряжение нарастало. Поэтому площадку для следующей встречи с Хоком назначили не в Гифхорне и не в Гамбурге, а в дружественном Париже. Франция дергалась на поводке НАТО, рвалась на сторону, активно демонстрировала свою независимость. Кстати, из всего Западного мира только её команда прибыла в Москву на Олимпиаду.
Встреча в Париже стала для Мезенцова поводом ненавидеть Францию навсегда в жизни, отныне и навеки, потому что за глянцевым фасадом, румянощеким обывательским благополучием цивилизации цветных экранов и сверхзвуковых лайнеров Франция открыла ему изнанку, мир приводных ремней и механизмов, полный дикого зверства, вампирского торжества биоса над биосом.
Где-то лазил по переулкам, по ленинским явкам и малинам писатель и разведчик Алан Голубцов. Где-то жрал гамбургеры и жареные каштаны сопровождающий капитан Горелов. Не им — Алику Мезенцову выпало видеть суть и ужаснуться миром.
* * *
Не каждому везет знать точный день и час превращения своей души в труху и слизь. Мезенцов их знал. Богом и людьми проклятый нацист Эрни Хок во время их французского рандеву вызвался показать Мезенцову сущностную изнанку мира и человечества.
Мезенцов мог бы отказаться. Но что-то говорило ему — это очередное испытание, без которого капризный Хок не станет работать с молодым внешторговцем и потребует из СССР замену представителя заказчика.
Лучше бы Хок так и сделал. Но тогда Мезенцову казалось, что нет ничего страшнее, чем вылететь из Внешторга с его и без того подмоченным личным делом…
Так в полночь, в час вампиров, Мезенцов оказался рядом с адовым экскурсоводом, у далеко запрятанных дебаркадеров, на ржавой и страшной барже. Неуверенный луч фонарика в руке старины Хока вел путников вперед, в самое пекло преисподней — в гулкий металлический трюм.
— Я покажу Вам сырье, из которого делают волшебную вытяжку молодости… — улыбался Хок ровными перламутровыми зубами из фарфора.
В трюме было душно и сыро, а дрожащий лучик фонарика выхватил из кромешной тьмы белые от ужаса лица маленьких детей.
Ручки, стянутые пластиковыми жгутами, заклеенные скотчем рты, искаженные от ужаса ожидания лица, выпученные в немой мольбе глаза маленькой бедноты из бразильских фавелл и таиландских трущоб…
Мезенцов разом покрылся холодной испариной, почувствовал позывы тошноты и поноса. Все перевернулось в нем, живое перестало жить в тот же миг.
— Зачем… мы здесь? — растерянно выдавил из себя Алик. — Я… я сам отец… Зачем вы мне эт-то показываете?..
— Не «этто», а опору нашей цивилизации… Опору возлюбленных вами империй… Я же обещал Вам, что рассею все иллюзии в вашей голове…
Мезенцов плохо помнил продолжение — что-то вроде обморока, перенесенного на ногах. Ночь продолжалась. Это уже была ночь с верным Лекой Гореловым, ночь в «Плимуте», черной акулой несущемся по автобану из Франции в Германию…
Фары посылали вперед колышущиеся лучи желтого оттенка, и призрачная Европа стлалась за окнами. Из магнитофона орали рокеры — что-то энергичное и дикое. И в такт их отчаянным воплям бесноватых какая-то огромная черная тень, наподобие гигантской собаки, скакала за машиной по пустынному автобану, ровному, как стрела, и гладкому, как тефлоновое покрытие сковородок.
— Скорее, Лека… — умолял изнуренный Алик. — Скорее, догонит…
— Ты тоже ее видишь? — повернул к пассажиру перекошенное лицо Лека. — Бога ради, Алик, объясни, что это такое?!
— Бога для нас больше нет, Лека! — сизыми губами шептал Мезенцов. — поэтому жми на газ и не оглядывайся… Жми, родной…
Они ушли от черной тени, но сами стали этой черной тенью самих себя.
* * *
— Смотри, смотри! — возбужденно зашептал Алан, хватая Мезенцова за рукав штормовки. — Оно! Оно!
В щемящей и душной, спертой безветренной тиши ночного июльского омута что-то плеснуло, булькнуло — и зловонный дохлый поросенок, бочкообразно и неуклюже круживший над бездной, исчез. Огромный сом, килограммов на сто, если не на 150, был рядом, его извилистое тело прошивало теплые воды в расстоянии нескольких локтей.
Стараясь не греметь крышкой, Лека стал подливать мясной бульон. Лягушки квакали на кассете свою неумолчную песню жизни, возбуждая охотничьи инстинкты Силуруса. Алан напрягся на багре, макая поросенка в воду и покрепче сжимая древко.
Алика била нервная дрожь. Мирончик с берега смотрел напряженно, стараясь не дышать и не спугнуть рыбацкую удачу.
Новый всплеск — вокруг насадки на багре. Силурус — в двух шагах. Он скользит из глубины к поверхности, обводит добычу пристальным взглядом мертвых немигающих глаз-бусин. Вдали над горизонтом прогрохотал вестник идущей на жаркую хмарь лета грозы…
— Давай, давай! — умоляюще шепчет Алан, сжимая багор, как копье. Силурус голоден — но он не торопится, он выжидает чего-то с дьявольской для хладнокровного гада сообразительностью. Вчерашний удар Аликовским багром его чему-то научил, он стал опасаться людей, которых прежде презирал.
Плеск, круги… Сом кружит, но не клюет…
— Давай, давай… Ты самая большая удача в моей жизни, Силурус, не подводи…
«Самая большая удача, — думает Мезенцов. — Первый звоночек неотступной меланхолии, первая гнильца по краю души, которая поползет плесенью к сердцу, удушая, мешая жить…»
* * *
Трудно точно сказать, но к 1984 году, к «Солнечной эре Черненко», у Алана уже лежало в разных городах на разных сберкнижках несколько сотен тысяч полновесных советских рублей. Он уже не считал это удачей.
Если может человека подломить победа — то не пиррова, а наоборот, легчайшая, «за неявкой противника». Для Алана такой победой стал выпуск небольшой грампластинки, черного винилового диска в серой обложке «Биттлз». Это был первый и последний в СССР выпуск ливерпульской группы, который Алан вначале пробил через редакцию «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», а потом скорифанил на Ташкентском заводе грампластинок. Алан очень презрительно относился к творчеству битлов, называл его «кошачьим мяуканьем для быдла». Но уже входили в моду всякие авторские права, и с самими битлами Алан связываться не хотел: вместо ливерпульцев промяукала несколько их песен малоизвестная, вскоре канувшая в лету, московская джазовая группешка.
Алан ждал успеха. Но все-таки не такого. Торговли в принципе и не было — был глухой маркетинговый пук, в один день безвольно дохнувший на прилавки советской торговли — и пластинок не стало. Они исчезли, растворились в воздухе, моментально растаяли, словно не из черного совкового стратегического винила были, а из сигаретного дыма.
Алан, загоревший в огнедышащей Ташкентской чиле (сорок самых жарких дней Узбекистана, когда все живое прячется в тени, и бежит через солнцепек перебежками, сдерживая дыхание), вконец коррумпированный востоком, с оттопыренными от наличности карманами, казался унылым и тусклым, как выгоревшая на солнце картинка. Стертым пятаком он пришел в ресторан, где его ждал Мезенцов с поздравлениями.
Алик знал, что Голубцов недоволен успехами «Биттлз». Что одной рукой загребая бакшиш, другой Алан крестится, помня, что Леннон заявил в интервью: «Ради успеха я заложил душу дьяволу».
Мезенцов ожидал громоподобного Алановского мата, огней и молний в тупую, скотскую толпу, жрущую что попало. Но Алан был тихий, как после леченого запоя, и скромный. Заказал почему-то жареную картошку, и долго торговался с официантом, чтобы жарили не на сливочном масле, а на растительном.
— Я не хочу, Алик, очень жирно у них, пусть подсолнечного нальют, я по нему соскучился… — бормотал Голубцов, сминая в руке даровой ресторанный кусочек хлеба.
— Коньячку? За твой успех? Родного «Арарату»? — предложил Алик.
— А, да, успех… — саркастически скривился Алан. — Народ наш как всегда неподражаемо умен, беспросветно проницателен и чертовски дееспособен… Я думаю, надо бы запретить ему пользоваться ножами, бритвами и ножницами, как в дурдоме, по причине крайней, чрезвычайной дееспособности…
Пришел официант, заявить, что постного масла в ассортименте нет, и что картошку можно поджарить только на сливочном. Для Алана это значило чего-то больше, чем мог услышать и почуять душой Алик Мезенцов, потому что легкая судорога пробежала по растрескавшемуся под солнцем усталому лицу Голубцова. Тогда то впервые Алик и задумался: да, вот так выглядит воспетая сопроматом «усталость металла» — то состояние, когда сталь, всегда бесстрастная и безупречная, готова изойти в крошево.
— А если я не хочу-таки на сливочном! — тихо, но с рычащей угрозой начал заводиться Алан. — А если у меня печень заболела? Может у человека печень заболеть, я вас спрашиваю?! Дайте немедленно жалобную книгу, потому что не может не быть у вас гребаной бутылки гребаного растительного масла!!!
— Тише, тише! — потянул Алик друга за рукав. — Ты чего развоевался?!
Официант ушел, пообещав разобраться с проблемой.
— С ними только так… — ворчал Алан, как собака после драки. — Только так с этой сволочью…
В силе всплеска чувствовался прежний Алан — насмешник и элитарист до мозга костей, тот, что получив от официанта мелочь на сдачу, намеренно ронял монетку под стол, а потом поджигал свернутый трубочкой четвертной, светил официанту под скатерть:
— Ну-ка, подбери свои чаевые…
Но задача, которую решал теперь Алан — нелепая задача по получению жареной картошки на постном масле — казалась Мезенцову иной, из иного мира, иной системы координат.
Постное масло нашлось. Картошку пожарили и подали капризному клиенту вместе со счетом на 8 копеек. Алан долго, мутными от коньяка глазами вглядывался в счет…
— Как тебе нравится, Алик?! Бегать, работать, грызть жизнь и все углы, продавать, предавать… Ради того, чтобы узнать однажды, что твое единственное искреннее желание стоило 8 копеек…
— Се ля ви… — развел руками Мезенцов. Он тоже порядочно подустал от жизни и не желал спорить с другом с позиций оптимизма.
— Я всегда говорил — помнишь?! — что в совдепии незачем иметь большие деньги… Тут просто нечего на них купить… Но теперь я стою на пороге великого и ужасного открытия! Помотавшись по загранкам, я начинаю понимать… хм… что большие деньги вообще не нужны… Нигде… По мере расширения личного таксопарка понимаешь, что ехать некуда и незачем…
* * *
Теперь Алан обрел себя в поимке большого сома. Алик понимал его чувства: когда черная меланхолия, гниль и плесень, съедающие душу с краю до оселка, слишком разъели твою ткань, простое и естественное дело может их не то, чтобы соскрести, но как-то заморозить…
Ночь стояла поистине Вагнеровская: с громом литавр неба, с хохотом валькирий под облаками, с плещущим чудовищем в заводи. Гроза, пышная летняя гроза надвигалась на мир Кувшинки, истомленный многодневной безветренной жарой. Все — и земля, и камни, и бревенчатые срубы пансионата напряглись в ожидании расправы небес.
Грянули раскаты грома прямо над головой, небо раскололось сине-багровыми трещинами молний, хлынули первые струи, погрузившие все в причудливую, полуводяную смесь, совместившие омуты и берега толстыми нитями единородной среды.
— О, ё! — заорал Лека, побежав спасать стремительно мокнущий кассетник «Электроника».
Иглы теплого дождя вонзались в травы с шорохом, в тела с гулом, в воды — с плеском и бульканьем. Возбужденный буйством стихий Алан сверкал сквозь ночь глазами и орал сквозь невообразимый шум ливня какую-то оперную арию.
— Папа! Папа! Смотри! — закричал Мирончик.
Глядя по направлению его пальчика, Мезенцов увидел фантасмагорию грозы: Силурус, как и положено сомовьей породе, в пору грозы сошел с ума. Невелик умишко у перерослого размеры головастика, а все же сообщал ему лет за сто основы здравомыслия. Но гроза, её шум и внешняя катастрофичность, непостижимая энергия природы, заложенная в её свершение — заставляют сомов утрачивать и осторожность, и опыт.
Силурус танцевал свой танец смерти, почти выпрыгивая из вод, бурно шлепаясь боком в изрытую оспинами дождя стихию, извиваясь и корчась в немыслимой страсти и немыслимом жоре, нападающем на сомов в грозу.
— Килограммов на сто потянет! — восторженно проорал Алан, и лицо его, с ручейками сбегающей с волос воды, сияло нимбами счастья…
В прыжке, внезапно, Силурус подхватил дохлого зловонного поросенка на багре. Требовалась немыслимая сноровка рыбака, чтобы вот так, без гибкого удилища и лески осуществить подсечку — но Алану это удалось.
Зазубренный крюк багра пробил нёбо Силуруса, прочно застряв над верхней губой.
— Держи! Держи! — вопил Алан, которого сом легко, как тряпичную куклу, выдернул с отстоянного места и потащил на глубину. Тут древко багра подхватил Мезенцов. Ринулся было на помощь Мирончик — но отец жестом отогнал мальца: мало ли что тут может случиться?
Но и вдвоем, толча ногами тину, вздымая буруны брызг и пузырьков, Алан и Алик не могли удержать Силуруса, неумолимо уходившего под родные донные коряги.
— Лека! Быстрее! Лека! Уйдет!
Лека тоже подоспел, как та мышка в сказке про репку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Трое здоровых мужиков смогли лишь задержать могучую рыбу в её порыве на глубину, но не переменить вектор движения.
Наступило странное, как в революцию пятого года, равновесие сил: Силурус не мог уйти, а рыбаки — вытащить его.
— Мирон! Мирон! — первым сорвался на фальцет Алан. — Ну дерни тоже! Помоги!
— Мирон! — умолял Лека, отфыркиваясь под струями дождя, отбрасывая радужные брызги. — В воду! Помоги!
Мирончик застыл на берегу, как охотничья собака в стойке — и ждал слова отца. Отец не то, чтобы сказал — чуть-чуть кивнул — и он, поднимая тучи брызг, со всех ног ринулся с берега в воду.
Дедка за репку, бабка за дедку…
Тут наступил коренной перелом — и дебелая туша слизистой голокожей рыбы медленно, но с нарастающим ускорением поползла из воды к берегу. Как гвоздь из доски, сом выходил с натугой, с кряхтением и сопением. Алан очень боялся, что соскочит крюк с багра, но там был подбит и загнут гвоздик — так что обошлось.
Еле-еле Силурус, дух здешних вод, злой бог местных лягушек, был выволочен на траву, где ещё долго трепыхался и разевал губастый рот, поднимал башку с неопрятной «бородой» мерзких отростков. Рыбаки в изнеможении повалились вокруг кто где смог и почти час отдыхали, отлаживали сорванное в борьбе дыхание.
Матерый хищник сам попал другим хищникам на обед. С утра у берега собралась толпа зевак — посмотреть-подивиться. Сома подтянули на вес через ветку ольхи, и в вертикальном положении он был ростом с Леку. Алик оказался даже немного ниже.
— Ого-го! — гомонили зеваки — Это же монстр! Он же мог и купальщика заглотить! А мы и не знали! Это ж надо?! Ты посмотри, какое чудище! Неужели здешний?! Быть не может, чтобы здесь такие здоровые водились!!!
— А чего вы хотите! — со счастливым видом знатока объяснял Алан. — Сомы и по триста кило, и по полтонны могут вырастать. Наш по сравнению с прежними — ещё недомерок! Такие бывали сомы в девятнадцатом веке! Телят с водопоя на дно утаскивали!
— А пасть-то, пасть-то, глянь! Как пещера! И какие все-таки зубешки мерзкие — маленькие, кривенькие…
— Зато смотри сколько! Наверное, с тысячу!
Пришел почему-то грустный завхоз.
— Ваша утка отомщена! — помпезно заявил ему Лека.
— Зря Вы так… — поморщился, словно от больного зуба, завхоз, единственный, кто не оценил рыбацкого подвига. — Он тут наверное, лет сто жил… Людей к нам заманивал… Без него все хозяйство в Кувшинке загнется…
* * *
«Все, к чему ты прикасаешься, обращается или в смерть или в говно!» — великий афоризм бывшей жены Алика. Как не крути — женщину не обманешь…
С того самого дня, как убили Силуруса, дела в Кувшинке пошли не ахти. Вначале какие-то эпидемии, типа сальмонеллеза, нанесли первый удар по привлекательности пансионата. Потом, в начале девяностых, он разорился, был несколько раз перекуплен, а в итоге сгорел.
Старого шашлычника Гурама у развилки дорог, открывшего свой кооператив при Горбачеве, в 1992 году убили рэкетиры. Завхоз спился и повесился на бельевом складе. Завсегдатай «Кувшинки» Алан погиб на горячей иракской земле непонятно за что и зачем, и стал резиновой маской в западных супермаркетах. Там, где болтаются на крючках все великие или отвратительные люди. Пустые и искусственные лики, словно снятые скальпы — Горбачева и Черчилля, Буша и Саддама, Джека Потрошителя и Алана — они висят в назидание современникам и потомкам, как прикрытие для новых грабителей и маньяков…
Получается, что в соответствии с социальной алгеброй Светланы Мезенцовой, Кувшинка вначале превратилась в говно (когда стали её перепродавать, обогащая спекулянтов), а потом и в смерть. Оказывается, Мезенцов обладал волшебной способностью преодолеть последнее «или-или», и совершить Гиннеса достойный рекорд совмещения говна со смертью.
Это очень много значило, граничило с чудом, потому что говно, как философская категория, всегда было живо, до омерзения живенько, и могло атрибутировать только живую жизнь живчиков.
Кончится ли когда-нибудь эта «Ностальжи»?!
Сигарета дотлела в пальцах до середины. Руки у Мезенцова по-прежнему твердые, не дрожат: длинный пепельный столбец нарастает в длину — но пока держится, не осыпаясь…
Сигарета, к которой Мидас-Мезенцов прикасался, никогда не превращалась в говно. Наверное, оттого, что Виталий Николаевич курил только дорогие сигареты. Но она исправно, трубочка за трубочкой, отправлялась в смерть, усыпая пеплом берега Стикса и обдавая ароматами дорогого табака старика-Харона.
Дождь, дождь над Берлином, тучи заволокли все небо тевтонской берлоги. Если Лека идет пешком, то наверняка весь промокнет. Или такси возьмет? Нет, он жмот, он, небось, сядет на трамвай, а потом по мальчишески побежит от остановки, прикрывая голову задранным пиджаком…
«Des berlinen kaint» «И снова о русской мафии…»
Вчера, в берлинском ресторане «Гроссэгер» произошла очередная кровавая драма, связанная с разборками преступников из России. Неизвестный в резиновой маске в упор расстрелял за столиком известного русского предпринимателя Олега Горелова и крупного московского чиновника Виталия Мезенцова.
Причины такого драматического события в настоящее время выясняются полицией, но представители общественности Берлина в один голос заявляют: русской мафии, сделавшей всех заложниками в своих игрищах, пора жестко и решительно положить конец!
Российское посольство устранилось от комментариев инцидента в «Гроссэгере». Очевидно, какая-то группировка русской преступности была недовольна распределением преимущественных квот по рыболовству в русских территориальных водах, и устранила сразу как источник, так и получателя квот. Почему и с какой целью Виталий Мезенцов и Олег Горелов приехали в Берлин и как они были заманены в «Гроссэгер», также отсается неизвестным.
* * *
В этот последний миг, за секунду до смерти, он не поверил своим глазам: к их столику приближался третий, тот, кого они с Лекой собрались тут поминать! К ним по ресторанному залу приближался Алан Голубцов…
Только когда в неестественно замедленном режиме «Алан» поднял руку, и в ней засквозила черная дыра пистолетного ствола, Виталий Николаевич понял, что это резиновая американская маска Алана…
Грохот выстрела потряс тихий «Гроссэгер». Люди закричали и грушами повалились под столики. Недожевавший и недоговоривший Лека чуть выпучил глаза, падая, как пьяный, в тарелку простреленной головой. Он так и не успел ничего увидеть, ничего понять.
Мезенцов мог больше. Он был вторым в сегодняшнем меню у смерти. Он мог видеть бешеные глаза незнакомца в прорезях резиновой маски, до боли похожей на родное лицо. Успел привстать и нащупать в кармане легендарную отвертку, отвинтившую в России не одну жизнь. Как настоящий кшатрий, он собирался продать жизнь как можно дороже, собирался атаковать, пробить врага отверткой глубоко в ухо…
Пистолет синевато курился после выстрела. Сизо дымила и недокуренная сигарета в пепельнице.
— Почему так, Господи? — спросил Мезенцов.
Это был вопрос не о смерти. Смерть он давно ждал и давно заслужил ее. Вопрос касался деталей: почему Господь прислал Алана? Сюда? Почему в Берлине? Почему в день памяти друга?
Лязгнул отскакивающий затвор — и желтобрюхая пуля вырвалась на оперативный простор. Мгновение — и Мезенцов почувствовал острый и колкий удар со вкусом гнильцы. Такой вкус стоял под дыхом, когда он начинал воровать в далекие семидесятые. Такого вкуса страха и стыда он потом долго не ощущал…
С грохотом упал стул, с которого Виталий Николаевич привстал — грузное тело старика ушло следом, широко, задев соседний столик, распластавшись на полу.
Убийца в маске Алана подошел к Мезенцову и произвел контрольный выстрел в голову. Потом, никем не преследуемый, ушел.
Отвертка из руки Виталия Николаевича откатилась очень далеко, в самый угол ресторана, словно ища своей удобной пластиковой ручке нового хозяина…
…
Май 2004 г.
Примечания
1
Клошар (франц., сленг) — босяк, «бомж», опустившийся люмпен.
(обратно)2
Арктида — гипотетический материк, располагавшийся в Северном Ледовитом океане и населённый древними ариями; после его гибели часть спасшихся арийских племен расселилась по всей Евразии.
(обратно)3
«Оперативник-крышевик» — разведчик, работающий под прикрытием, по линии какой-либо официальной гражданской организации (орган СМИ, МИД и т. д.).
(обратно)4
СВР — Служба Внешней Разведки.
(обратно)5
ПГУ КГБ — Первое Главное Управление Комитета Государственной Безопасности СССР.
(обратно)6
Рында (устар.) — на Руси — оруженосец-телохранитель при князе.
(обратно)7
ЦРУ — Центральное Разведывательное Управление США.
Моссад — внешняя разведка Израиля.
Ми-6 — военная разведка Великобритании.
(обратно)8
«Штази» — бывшая служба разведки и госбезопасности ГДР.
(обратно)9
Мойры — в греческой мифологии богини судьбы: Клото, Лахесис и Атропос. Соответствуют римским паркам.
Амалфея (Амальтея) — божественная коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса. Ее рог стал источником изобилия, его обладатель мог получить любые дары.
(обратно)10
Пафос (греч.) — страсть, воодушевление, душевно-творческий подъем. Согласно легенде город Пафос назван в честь дочери кипрского царя-скульптора Пигмалиона и его жены Галатеи, изваянной им из мрамора и оживленной.
(обратно)11
Сиртаки — национальный греческий танец.
(обратно)12
Базилика — основной тип христианского храма, прямоугольное здание, разделенное внутри колоннами на части.
(обратно)13
Наяды — в греческой мифологии нимфы (природные божества) водных источников и водоемов.
(обратно)14
Неф, или корабль — вытянутое помещение в христианских храмах, ограниченное с обеих сторон рядом колонн.
(обратно)15
Великий магистр (гроссмейстер) — в средневековье глава духовно-рыцарского ордена.
(обратно)16
Король Франции Филипп IV Красивый (1268–1314) был правнуком Анны Ярославны — дочери Великого князя Ярослава Мудрого, жены французского короля Генриха I.
(обратно)17
НАСА — Национальное Управление по Аэронавтике и исследованию космического пространства — ведомство правительства США.
(обратно)18
Miserere (лат.) — Помилуй (из 50-го псалма: miserere mei, Domine — помилуй меня, Господи).
(обратно)

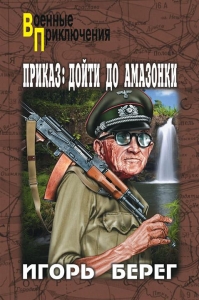




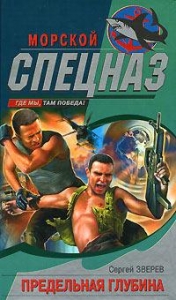
Комментарии к книге «Фантасофия. Выпуск 4. Шпионский триллер», Александр Леонидов
Всего 0 комментариев