…А профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:
— Имейте в виду, что Иисус существовал.
— Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.
— А не надо никаких точек зрения! — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего.
— Но требуется же какое-нибудь доказательство… — начал Берлиоз.
— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще…
Михаил Булгаков. Мастер и МаргаритаПролог
Март 1944 г., Выборгский залив
Тяжелый Дуглас DC-2 вынырнул из низкой облачности и, плюхнувшись на снеговую подушку, покрывающую полуметровый слой льда, стремительно покатился на смонтированных на шасси лыжах. Взревели на реверсе двигатели, крупные лопасти винтов бешено закрутились. Самолет плавно затормозил неподалеку от маяка, обозначавшего вход в створ фарватера у острова Уурас. В камуфлированном борту, рядом с хакаристи — голубой свастикой в белом круге, — распахнулся люк, и на снег выпрыгнул рослый молодой мужчина в армейском полушубке с шевроном егерского батальона VC на рукаве, вооруженный немецким пистолетом-пулеметом. Передвигаясь короткими перебежками, он быстро обогнул самолет, цепко оглядывая окрестности. Вокруг простиралось белое безмолвное поле скованного льдом залива, лишь на островах зубчатым частоколом чернел сосновый бор. Особую глухую зимнюю тишину ничто не нарушало — жителей островных хуторов и городка Уурас уже эвакуировали. Основные финские части занимали оборонные рубежи южнее, готовясь отразить массированное наступление советских войск. По последним данным разведки, оно ожидалось со дня на день. В тишине гулко лязгнула металлическая лестница — началась выгрузка.
Закончив обход, охранник подпрыгнул, ухватился руками за край крыла и ловко забрался наверх. Поднявшись в полный рост, он продолжал осматриваться.
Его окликнул высокий светловолосый пилот в кожаной куртке, помогавший выгружать из самолета тяжелый деревянный ящик:
— Гядиминас, смотри не оторви крыло, ты же здоровый, как медведь!
Литовец не удостоил пилота ответом. Спрыгнул вниз и обратился к высокому пожилому человеку в светлом полушубке без знаков различия, спускавшемуся по трапу с лыжами в руках:
— Господин маршал, как начальник вашей личной охраны, я настаиваю на том, чтобы сопровождать вас. И остаюсь при своем мнении — пребывание в этом районе очень опасно.
Маршал Маннергейм улыбнулся:
— Гядиминас, ты храбрый воин, это известно всем. Благодарю за предложение, но приказываю остаться у самолета и охранять его до нашего возвращения.
А потом, закрепив на унтах лыжи, спросил по-русски у кряжистого старика с пышными седыми усами:
— Ты готов, Григорий?
— Так точно, ваше высокопревосходительство, готов.
У нарт возился юноша, одетый в пэск[1] и яри,[2] закрепляя доставленный на самолете ящик и шанцевый инструмент.
— Скоро закончишь, Инари? — поинтересовался Маннергейм.
Саам Инари Висатупа молча отошел, показывая, что груз закреплен.
— Друзья, — я надеюсь, что вы позволите мне вас так называть, — обратился маршал ко всем присутствующим, — война скоро окончится, нам предстоит расстаться. Вы мужественно сражались, я, ваш командир, горжусь вами. Каждый из вас: и ты, Хейно Раппала, и ты, Гядиминас Миндаугас, и ты, Инари Висатупа, — стал мне по-человечески дорог. Я прошу вас, хорошенько запомните сегодняшний день. Пройдет время, и я вам обязательно о нем напомню. Маршал надел перчатки и взял лыжные палки. Обернувшись к старому сослуживцу, озорно улыбнулся, встопорщив седую щеточку усов, и по-русски скомандовал:
— Эскадрон, рысью марш!
Два пожилых лыжника впряглись в нарты и двинулись на северо-восток, в сторону Выборга. Скоро их следы скрыла поземка начинающейся метели. Трое, оставшиеся у самолета, молчали — их, непреодолимо чужих друг другу, связывала лишь война. Двадцатилетний финн Хейно Раппала, вместо продолжения маленького семейного бизнеса по изготовлению рыболовных снастей или музыкальной карьеры, о которой он, студент Выборгской школы изящных искусств, страстно мечтал, стал одним из лучших военных пилотов Финляндии. Гядиминас Миндаугас, капитан литовской армии, бежал из родной, оккупированной советскими войсками, страны. Война с большевиками стала для него делом всей жизни. Саам — охотник Инари Висатупа, уникальный снайпер-одиночка, на боевом счету — более семисот убитых красноармейцев. На войне, как в родной лапландской тундре, он оставался молчаливым и обстоятельным, и если что-то его волновало, то лишь судьба покинутого стада оленей. Соединенные войной и волей Маннергейма, они никогда не испытывали друг к другу симпатии и почти не общались. Не стал исключением и этот день. Может, каждый и строил какие-то догадки по поводу странного вылета на Выборгский залив, однако они ничего не обсуждали и порознь ждали возвращения маршала и его старого денщика Григория Малоземова, сопровождавшего Маннергейма еще со времен службы в русской императорской армии.
А два старика с трудом дошли до нужного острова и сейчас, сидя на занесенном снегом каменном причале, отдыхали. Отдышавшись, маршал спросил:
— Ну что, Григорий, семьдесят семь лет — не шутка?
— Так точно, ваше высокопревосходительство, уморился.
— Да, а сделать еще нужно многое, пойдем, пожалуй.
Они двинулись в глубь острова, где на пригорке чернел обгоревший остов разрушенной еще во время Зимней войны усадьбы. Остановились у старого колодца на круглой поляне, близ которого одиноко возвышалась береза. Прошло два часа, заполненных напряженной работой, и в колодезной обвязке, ниже уровня земли, появилась вместительная ниша. Теперь оставалось лишь аккуратно уложить туда привезенный ящик.
— …Нет, дружище, иного пути у нас нет, — сказал Маннергейм, заканчивая неспешный разговор, — Как сложится моя дальнейшая судьба — неизвестно. Когда разгром Германии завершится, — а это событие не за горами, — союзники обязательно устроят суд над военными преступниками, и не исключено, что я окажусь на скамье подсудимых. Не для того мы с тобой столько лет берегли эту реликвию, чтобы ей завладел большевистский тиран Сталин. Она попала к нам случайно и должна вернуться обратно в Тибет.
— Эхма, все понимаю, господин маршал, а расставаться так горько — сил нет. Свиток-то этот — столько лет наш ангел-хранитель. А тогда, в девятьсот восьмом, в горах тибетских, это же он вам жизнь сберег и смерть отвел. Эхма… — Григорий отер слезы с морщинистых щек и бережно извлек из снарядного ящика деревянный цилиндр. — Дозвольте, ваше высокопревосходительство, причаститься напоследок.
Он размашисто трижды осенил себя крестным знамением. Маннергейм осторожно открыл футляр. Состарившиеся боевые товарищи, стоя плечом к плечу, благоговейно слушали чистый и высокий юношеский голос, нараспев проговаривающий древний текст:
…И было так. В Тивериаду Галилейскую, в месяц Зиф, когда цвели все деревья, пришел караван с пряностями и благовониями из далеких восточных пределов персидских и индийских. И пришел с тем караваном Человек, светлый ликом, и сердце каждого, кто видел Его, наполнялось радостью и любовью…
* * *
Бесконечно долго тянулись часы ожидания. Саам, усевшись в снег с подветренной стороны, беззвучно, про себя, затянул бесконечную заунывную песню погонщика оленей, неторопливо покуривая набитую махоркой трубку. Литовец, как заведенный, продолжал кружить у самолета, нервно оглядывая окрестности. А Хейно, устроившись в пилотском кресле, извлек из-под обложки офицерского удостоверения потрепанную фотокарточку, каждый побелевший изгиб которой знал наизусть. Его девушка, его любимая Анна в строгом гимназическом платье с белым воротничком. Старый снимок, как осколочек счастливой довоенной поры в родном Выборге, пробудил в душе болезненно-нежные воспоминания.
Маннергейм и Малоземов вернулись к самолету лишь через четыре часа.
Часть первая РУНЫ СТАРОГО МАРШАЛА
В предрассветных сумерках сквозь сосновый бор с кое-где встречавшимися островками молодой поросли ольхи и рябины осторожно пробирается человек в темном камуфляже. Остановившись у высокого раскидистого дерева, он напряженно прислушивается. Со стороны усадьбы донесся звук автомобильного двигателя. Мужчина извлекает из рюкзака «кошки» и с их помощью поднимается вверх по смолистому стволу. В кроне есть отличное природное ложе, откуда усадьба, расположенная на берегу небольшой бухты озера, видна как на ладони. У ворот гаража стоит джип. По ступеням крыльца двухэтажного деревянного дома с высокой верандой, опоясывающей первый этаж, стремительно спускается рослый, худощавый старик в джинсах, свитере и рыбацком жилете. В руках у него деревянная шкатулка. Крупная немецкая овчарка черного окраса радостно приветствует хозяина восторженным лаем, спешащий старик мимоходом гладит крупную лобастую голову пса. Другая собака — высокая пламенно-рыжая лайка — замерла у сетки, огораживающей вольер, время от времени приподнимая заостренную морду, видимо, пытаясь уловить запах неизвестной и насторожившей ее опасности. Человек в камуфляже знает, что обостренным чутьем животное ощущает присутствие чужого. Хорошо, что старик не обратил на лайку внимания — поставив шкатулку на переднее сиденье, он садится за руль, и джип, плавно выкатившись за живую изгородь, скрывается за поворотом подъездной дороги.
Наблюдатель достает из рюкзака плоский прямоугольный чехол, напоминающий портфель-дипломат. Внутри в специальных углублениях уютно устроилась разобранная винтовка ВСС,[3] или, проще, «Винторез». Неторопливо, будто лаская ладонями, человек в камуфляже соединяет идеально рассчитанные части оружия — винтовка из черной матовой стали, кажется, излучает сконцентрированную безжалостность смерти. Удобно устроив ствол в широкой развилке ветвей, наблюдатель сквозь сетку коллиматорного прицела оглядывает усадьбу. Расстояние до окон дома чуть больше четырехсот метров — как раз прицельная дальность бесшумного «Винтореза».
С легким щелчком пристегнув обойму, он досылает в патронник вытянутый металлический цилиндр гильзы, увенчанный заостренным конусом пули со стальным сердечником внутри. Не отрываясь от прицела, задерживает дыхание и, выбрав свободный ход спускового крючка, имитирует выстрел. Мысленно чертит траекторию стремительного полета бешено вращающейся пули и зримо представляет, как, завершая свой недолгий путь, смертоносный кусочек металла разорвет кожу и мышцы и, пробив хрупкие человеческие кости, погрузится в горячее месиво плоти.
Разобрав винтовку, наблюдатель с удовольствием сует в рот леденец. Спустившись, охотничьим ножом неподалеку от сосны копает яму, укладывает туда упакованный рюкзак и прикрывает сверху срезанным куском дерна. Теперь следует позаботиться о том, чтобы в нужный момент не остаться незамеченным. Эту задачу выполнит детская игрушка — небольшой радиоуправляемый вездеход с резиновыми траками. Человек в камуфляже идет в сторону усадьбы. Услышав лай почуявших его собак, останавливается и устраивает вездеход в ближайшем ольшанике так, чтобы, двигаясь, игрушка производила как можно больше шума. Покидая лес, наблюдатель думает о том, как не вовремя появилась здесь русская внучка хозяина усадьбы.
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
На перилах балкона бойко подскакивала крупная синица с нарядной желтой грудкой. «Нет, похоже, это — синиц, — подумала Анна и сладко зевнула. — Вон как важно чирикает».
«Синиц», несколько раз подпрыгнув, останавливался, важно выпячивал грудку, с любопытством косил в комнату Анны блестящей бусинкой глаза, громко и коротко чирикал. Это чириканье и разбудило ее.
Через распахнутую дверь в «девичью светелку», как про себя называла Анна эту комнату дедушкиного дома, мягко проникло неяркое скандинавское солнце. Анне видны покачивающиеся пушистые ветви сосен с пятнами солнечного света на хвое и теплых чешуйчатых смолистых стволах. И еще кусочек голубого финского неба с пушистым белым облачком в невероятной выси.
«Нет, такого не бывает. — В который раз Анна вспомнила старый анекдот про посетителя зоопарка, стоящего перед вольером с жирафом и не верящего собственным глазам, и радостно улыбнулась. — То, что произошло со мной, — просто фантастика».
Сладко потянувшись, Анна свесила голову с кровати к уютно стоящей на кожаном коврике плетеной корзинке с черешнями, которыми ей так понравилось начинать утро, и ужаснулась. По светлым доскам пола в пятнах солнечного света к балкону подбирался здоровенный рыжий дедов котяра Карл. Он повел настороженным ухом в сторону кровати Анны и заерзал, приготовившись в решающем прыжке преодолеть полтора метра, разделяющие его и не подозревающего об опасности «синица». Кончик рыжего хвоста хищно подрагивал.
Анна быстро сунула в рот несколько черешен, выплюнула в ладонь косточку, сжала ее между большим и указательным пальцами и прицелилась. Выстрел получился метким. Косточка с глухим стуком врезалась в круглый кошачий затылок. Притаившийся в засаде под письменным столом Карл, испуганный неожиданной атакой, высоко подскочил, задев лежащий на краю столешницы тяжеленный том мемуаров Карла Густава Маннергейма, в честь которого рыжий разбойник и получил свою кличку. Извернувшись, он приземлился на лапы и тут же был накрыт рухнувшим со стола фолиантом. С утробным мявом кот выскочил на балкон и рванул вниз по причудливо изогнутой наружной лестнице, плавно переходящей в выложенную бежевой плиткой тропинку, ведущую к причалу. «Синиц», естественно, наблюдал за переполохом с ближайшей сосны.
«Поздравляю с удачной охотой, леди Воблер», — похвалила себя Анна, вскочив с кровати. То, что воблер — это деревянная или пластиковая рыбка, спиннинговая приманка для ловли морских хищников, она узнала всего неделю назад. Также выяснилось, что главный финский производитель этих приманок и прочих рыбацких прибамбасов называется «Раппала». Двадцатипятилетней телевизионной журналистке из Петербурга Анне Троицкой об этом рассказал ее неожиданно отыскавшийся родной финский дед Хейно Раппала. «Раппала, Раппала…» — напевала себе под нос Анна, сбегая по прохладным деревянным ступеням. Пробежав босиком по темным от росы доскам причала, она, резко толкнувшись, нырнула в прозрачную воду уютной маленькой бухты.
Холод воды остудил разнеженное сном тело, и, вынырнув, Анна издала восторженный вопль. Оглянувшись, она увидела у края тростника, на входе в бухту, уже знакомую лодку. Трое русских рыбаков, которые снимали коттедж на дедовой рыболовной базе, повадились по утрам заходить сюда и мешать ее ранним купаниям — голышом, как она любила. Пришлось надевать купальник. Показав рыбачкам язык, она неторопливо поплыла к берегу.
— Хороша чухонская русалка, а, мужики? — усмехнулся здоровяк в панаме, с фигурой борца-тяжеловеса, сидевший у транца и управляющий движком лодки.
Спиннингом, казавшимся хрупким в его огромной ручище, здоровяк сделал заброс в сторону тростника. Блесна булькнула, и через мгновение развернувшаяся для атаки щука образовала характерный бурун на поверхности воды. Резким движением кисти рыбак подсек пятнистую хищницу, и после недолгой, но яростной борьбы двухкилограммовая щучка оказалась в лодке.
— Не, Доктор, она не финка. Я тут провел дознание среди аборигенов. Она — русская, внезапно объявившаяся внучка хозяина. Из Питера, между прочим, — сказал невысокий лысый толстяк в бейсболке и очках с дымчатыми стеклами, освобождая тройник блесны из зубастой щучьей пасти, — С почином тебя, отец родной.
— Как это ты умудряешься — ведь ни по-фински, ни по-аглицки ни бельмеса не смыслишь? — Доктор заглушил двигатель, поставив лодку носом к невысокой озерной волне, — Давай, Профессор, не тяни, наливай за первую рыбку.
За несколько лет совместной рыбалки в небольшой компании сложились свои традиции. Доктор, — «в миру» высококлассный хирург Сергей Николаев, — требовал немедленного исполнения одной из них — обязательно выпить за первую рыбку, иначе рыбацкой удачи не видать. Отставной милицейский подполковник Виктор Божков прозвище «Профессор» получил, еще будучи молодым опером в уголовном розыске. Он не заставил себя долго упрашивать, и из рыболовного ящика были извлечены обтянутая кожей фляжка и коробка с бутербродами.
— Опять небось самогонку свою набухал, — пробасил Доктор, подозрительно рассматривая янтарного цвета жидкость, которую Профессор сноровисто разливал по стопкам, — Коньячок нужно по утрам принимать, с медицинской целью расширения сосудов. Учу я тебя, учу — все без толку, все со своим вискарем, как Мартын с балалайкой.
— Ну ладно тебе, дохтур, чего там, — Профессор протянул ему бутерброд, — последний день рыбачим.
— Да, вот и кончился отпуск — до свидания, Суоми-красавица, принимай нас, родная страна, — пропел Доктор. — Ну, будем! — Он опрокинул в рот стопку, поморщился, с удовольствием хрустнул маринованным огурчиком. — Ты чего такой задумчивый, Кэп?
Тот, к кому он обращался, откинул с загорелого лба непослушную, вьющуюся прядь темно-русых волос, прищурился, прикуривая, и посмотрел на причал, где еще поблескивали следы изящных ступней убежавшей в дом девушки.
Друзья-рыбаки понимающе переглянулись. Доктор пристроил на хлебную горбушку солидный кусок сала, прикрыл его сверху половинкой помидора и, удовлетворенно оглядев конструкцию, назидательно заметил:
— А вот Венечка Ерофеев всегда советовал выпить. Так и писал: «и немедленно выпил». Еще по одной, Профессура, и — хорош загорать — нужно рыбу ловить.
Разлив, Профессор перекрестился:
— Ну, ВЦСПС-НКВД, — и, поднеся рюмку к губам, чудом ее не расплескал, покачнувшись от резкого рывка лодки. Скоренько выпив, он укоризненно посмотрел на Доктора, который довольно оскалился и еще круче выкрутил ручку газа. Мощный движок взревел, и лодка рванулась на озерные просторы.
Анна скинула мокрый купальник и, стоя перед большим зеркалом, внимательно разглядывала свое отражение. Смуглая кожа в капельках озерной воды, небольшие, правильной круглой формы груди с задорно торчащими розовыми сосками, длинные стройные ноги — все это выглядело неплохо. Не красавица, но и вовсе не уродина. Девушка томно потянулась и соблазнительно улыбнулась собственному отражению. Продолжая игру, кокетливо провела кончиком языка по пухлой нижней губке и рассмеялась: «Что вы, нэйти Раппала, приличные финские барышни так себя не ведут», — Она скорчила строгую гримасу и показала язык зеркальной Анне.
В детстве она очень серьезно относилась к играм и требовала от взрослых, чтобы те, раз уж игра затеяна, непременно называли ее не Анной, а именем персонажа — будь то Пеппи Длинный чулок, Элли или Кристофер Робин. Взрослые, естественно, забывали и называли ее Анюткой, из-за этого дело нередко заканчивалось слезами. Детские забавы давно остались в прошлом, но повзрослевшая Анна сохранила искреннюю веру в обстоятельства игры и потому, старательно умываясь, она продолжала оставаться очень серьезной финской девушкой Анни Раппала. Надев шорты и майку-топик и наспех расчесав мокрые волосы, Анна захватила новенькую, подаренную дедом, цифровую видеокамеру и, звонко шлепая босыми ногами по светлым деревянным ступеням лестницы, поспешила вниз.
Первый этаж дома представлял собой одно большое помещение, выполнявшее функции кухни, гостиной и каминного зала. Стена, обращенная к озеру, была сплошь стеклянной. В строгом обрамлении зелено-коричневых сосен поблескивала отраженным солнечным светом темно-серая озерная гладь, укрытая сверху прозрачно-голубым платком высокого скандинавского неба. Дом казался такой же живой частичкой природы, как чайки, крикливо выяснявшие что-то у воды.
На кухне готовила завтрак Васса Ивановна — «русская финка», как она сама себя величала, долгие годы проработавшая у деда. Во время войны ее, девочку-подростка, вывез в Финляндию из разбомбленной карельской деревни финский солдат.
— Здрасьте, тетя Вася, — поздоровалась Анна и приготовилась снимать на видеокамеру процесс извлечения из духовки противня безумно вкусных булочек с корицей, аромат которых давно щекотал ноздри, — А дедушка еще не вернулся с воды?
Васса, заметив, что ее снимают, заволновалась, раскраснелась и, с усилившимся от волнения акцентом, на забавной смеси русского с финским объяснила Анне, что хэрра Раппала сегодня ранним утром уехал в город Миккели и до сих пор еще не вернулся. И слава богу, что занялся делом, а не шляется по воде со своей удочкой, да еще в компании Анны, которую приучает к рыбалке. Ведь занятие это совершенно не подходит для юной барышни. Под уже привычное ворчание добродушной Вассы, прихватив булочку, Анна уселась за стол и занялась дымящейся белоснежной фарфоровой кружкой, наполненной по-скандинавски черным и сладким кофе.
Васса относилась к деду с трепетным уважением и любовью, в одном оставаясь непреклонной — с истинно финским упорством не признавала рыбалку серьезным делом. И то, что Хейно Раппала — владелец рыболовной базы и один из крупнейших в Финляндии экспертов в области любительского рыболовства, ничего не меняло. У Вассы были свои резоны. Ее муж, — тот самый финский солдат, что спас ее в Карелии, — серьезный и почти не пьющий лесоруб, отправился с соседом на подледный лов и погиб, провалившись в ледяную полынью. Случилось это тридцать лет тому назад, боль утраты за это время утихла, но непримиримое отношение к рыбалке осталось.
Усевшись напротив Анны на стул и подперев подбородок полной рукой, Васса с умилением смотрела, как девушка с аппетитом уплетает горячие булочки, запивая их кофе, не забывая также о десерте из земляники и черники со свежим молоком.
— Кушай, кушай, моя нейтенька, кахвилла горяченька, — приговаривала она.
Анна, по мнению экономки, была тоща, и Васса с материнской заботой старалась это исправить.
— А что, дед не сказал, когда вернется? — с набитым ртом спросила Анна.
Выяснилось, что нет, хотя его присутствие необходимо — на базе приключилось уже ставшее привычным ЧП. Один из рыболовных гидов — Эка-Пекка Хелюля — ударился в запой. Анна пару раз встречала его. Этот тщедушный белобрысый и курносый, неопределенного возраста финн был замечательным мастером рыбалки и даже как-то выиграл чемпионат Финляндии по спиннингу. Но, по словам Вассы, «этот перкеле Пекка бутылку любил еще больше, чем свою дурацкую удочку». В те сезоны, когда на базе появлялись русские рыболовы, считавшие своим долгом поднести ему рюмку в знак уважения к мастерству, Пекка непременно уходил в запой. Вот и сегодня утром выяснилось, что пропьянствовавший всю ночь с русскими гид останавливаться не намерен. А привести его в чувство до сей поры удавалось только деду. Его Пекка боготворил и боялся.
Анна, ощущая свой живот отдельно существующим организмом, вылезла из-за стола, чмокнула Вассу в румяную, пахнущую молоком и корицей щеку и, прихватив с собой кружку с кофе, отправилась наверх, в кабинет деда. Нужно наконец написать письмо лучшей подруге Насте.
Переступив порог, девушка с удовольствием вдохнула полюбившиеся запахи кабинета — трубочного табака и свежего дерева. Дедова коллекция трубок располагалась на специальных подставках, на книжных стеллажах и столе, который занимал почти половину кабинета и служил, при случае, верстаком. Сейчас на нем, в куче мелкой стружки, валялось несколько деревянных заготовок новых воблеров. Дед конструировал рыболовные приманки — многие его модели выпускались серийно. К букету примешивался легкий запах оружейной смазки от стоявшей в углу пирамиды с охотничьими ружьями и аромат хорошей кожи, которой были обтянуты кресла и небольшой диван.
Анна устроилась у компьютерного монитора, удобно разместив рядом с клавиатурой кружку с кофе. Слева, на дубовой стенной панели, скрытый стеллажом от посторонних глаз, помещался маленький дедов фотомузей. В композиционном центре — портрет хитровато улыбающегося в седеющие усы маршала Маннергейма. Как уже знала Анна, во время войны дед был его личным пилотом. Вот он на старой цветной фотографии: двадцатилетний летчик-ас Хейно Раппала серьезно смотрит в объектив фотокамеры, опершись на стабилизатор своего истребителя. На фюзеляже виден краешек хакаристи — голубой свастики в белом круге, эмблемы финских летчиков и танкистов. А на хвосте самолета тридцать пять белых прямоугольников — так финны отмечали сбитых в воздушных боях противников. А вот старенький черно-белый групповой снимок — 1940 год, десятый класс Выборгской общей гимназии. На фотографии среди одноклассников ее шестнадцатилетние дед и бабушка.
Безумный двадцатый век, как бесшабашный карточный шулер, перетасовал колоду людских судеб и, передернув, бросил их на зеленые, белые или черные, расчерченные окопами и перепаханные взрывами поля войны. И даже теперь, уже в другом тысячелетии, изредка сквозь вязкую определенность будней, проступали вдруг контуры иной, совсем незнакомой, но родной жизни. Так произошло и с Анной. Она включила компьютер и, загрузив почтовую программу, выбрала в меню команду «Создать сообщение».
«Привет, подружка, — писала она, — как ты там, в городе на Неве? Я здесь, на берегу северного озера Сайма, — просто замечательно». С Настей Божественной — «фамилия такая», как говорил кот Матроскин, — она познакомилась во время учебы на журфаке Петербургского университета и вместе работала в информационной программе «Новости» питерской дирекции канала «Федерация». Настя, переживавшая бурный и счастливый роман с одним из новостийных операторов, трудилась в летнем, душном городе. «Мне очень повезло — дед отыскался просто замечательный. Я только сейчас начинаю понимать, насколько мне все время не хватало отца». Анна писала и заново проживала свои разговоры с дедом. Они рассказывали друг другу, что помнили и знали об их общей семье.
Анна родилась в Алма-Ате. Ее отец — Александр Троицкий, начальник спасательной селе-лавинной службы, — почти не бывал дома. Настоящим домом для него были горы Заилийского Алатау. Моренные озера нельзя оставлять без присмотра, ведь именно там зарождались сели, постоянно угрожающие Алма-Ате. Когда Анютке исполнилось три года — он погиб, спасая оказавшуюся в зоне схода селя группу туристов. Было ему тогда неполных сорок лет. Тело отца, унесенное беснующимся грязевым потоком, ломавшим вставшие на пути вековые деревья, как тонкие прутики, и стремительно рушащим вниз многотонные камни, так и не нашли. Вместо могилы на скалистой стене урочища, где он погиб, друзья-альпинисты установили пластину из нержавеющей стали с его именем и датами рождения и смерти. Все, что Анна знала об отце, ей рассказала мама. Восемнадцатилетняя красавица-студентка медицинского института Айгерим, как и многие ее ровесники увлеченная альпинизмом, на одном несложном восхождении неудачно упала, сломала ногу, и будущий муж нес ее на руках десять километров до селевой станции. Естественно, романтичная юная особа полюбила своего спасителя. Родовитая казахская семья Айгерим воспротивилась браку дочери с русским, но ее это не остановило. Через год родилась Анна, получившая от отца светлые волосы редкого пепельного оттенка, а теплый карий цвет и изящный восточный разрез глаз — от мамы.
Отец вырос в детском доме в Караганде. Он родился в Карлаге и о своей матери, которая умерла в заключении, знал лишь то, что звали ее Анна Троицкая. Каким-то чудом у него сохранилась черно-белая фотография. Именно эта фотография, отреставрированная и увеличенная, висит сейчас над дедовым столом. Дед рассказал Анне о бабушке — дочери настоятеля финского православного храма Святой Елизаветы в Выборге. Хейно и Анна были знакомы с детства, вместе учились в гимназии, где их дразнили «жених и невеста». А в 1944 году они обвенчались в уцелевшем во время жестоких боев Зимней войны выборгском православном храме. Лейтенант Раппала, получивший отпуск всего на сутки, вернулся в свою эскадрилью, был сбит, горел, но остался жив. А беременную Анну сотрудники НКВД, пришедшие вслед за частями Красной армии, отправили в Карлаг. Там, вскоре после родов, она умерла. Дед, считавшийся по советским законам военным преступником, только после развала Союза смог начать поиски своей семьи.
И вот каких-то две недели назад журналистке петербургских «Новостей» Анне Троицкой позвонили из финского консульства и попросили немедленно приехать. Важный консул в нарядном летнем костюме, светлом галстуке и рубашке неистовой голубизны проинформировал госпожу Троицкую о том, что у нее в Суоми есть родственник Хейно Раппала, который хочет ее непременно увидеть и приглашает посетить Финляндию.
Отправив письмо подруге, Анна вспомнила переживания тех дней: нервную суматоху, связанную с получением заграничного паспорта и визы, неуверенность, что отпустят с работы — летний сезон в самом разгаре, а главное — смущение и страх предстоящей встречи с абсолютно незнакомым человеком, ее нежданно объявившимся финским дедом. Потом, когда все утряслось и большой красивый автобус «Неоплан» стремительно катил по шоссе «Скандинавия» в сторону границы, смущение переросло в тихую панику. Дед встречал ее в Лаппеенранте — высокий худощавый старик, с седой шкиперской бородой, трубкой, крепко зажатой в зубах, и букетом цветов растерянно вглядывался в широкие окна остановившегося автобуса. А девушка все не выходила, по-детски глупо пряталась за высокими спинками кресел, исподтишка разглядывая чужого пожилого мужчину. Старик ладонью быстро и смущенно потер глаза, и Анна догадалась, что он плачет. Она вдруг отчетливо и остро ощутила, как много для него значит ее появление и как долго он ждал этой встречи. Схватив свой рюкзак, Анна стремительно выпрыгнула из салона и обняла деда, крепко к нему прижавшись. Вдохнула его незнакомый, но показавшийся родным запах, и сами собой выговорились те слова, которых она больше всего боялась и думала, что не сможет произнести никогда:
— Здравствуй, дед. Как я рада, что ты нашелся.
Неделя пролетела незаметно. Днями напролет они вместе ходили под мотором и парусом, ловили рыбу, и дед, большой мастер этого дела, учил ее пользоваться снастями. Он отвез Анну в Хельсинки и купил цифровую видеокамеру — девушка с ней не расставалась: снимала, чтобы, вернувшись в Петербург, сделать сюжет о Финляндии. А еще дед много рассказывал о Карле Густаве Маннергейме — великолепном командире, добром старшем друге и мудром наставнике. Вчера поздно вечером, когда Анна заглянула в кабинет, чтобы пожелать деду спокойной ночи, тот необычно серьезно взглянул на нее и протянул большую старую потрепанную тетрадь в черном коленкоровом переплете. Анна заметила, что один из углов, похоже, когда-то пострадал от пламени.
— Это подлинный дневник маршала, Анна, он отличается от официальных мемуаров. Прочти его, пожалуйста, очень внимательно. — Дед пытливо заглянул ей в глаза, видимо, собираясь сказать что-то еще, но передумал.
Уставшая от череды радостных впечатлений, Анна не нашла вчера сил на чтение — лишь коснувшись головой подушки, она крепко заснула. Сейчас же, поджидая деда, она раскрыла старую тетрадь. На пожелтевшем титульном листе порыжевшими от времени чернилами твердым почерком выведено:
«Дневник поездки, предпринятой по Высочайшему повелению через Китайский Туркестан и северные провинции Китая в Пекин в 1906–7 и 8 гг. полковником Г. К. Маннергеймом».
28 августа 1906 г., г. Верный
Я, полковник Карл Густав Эмиль Маннергейм, получив высочайшее дозволение Е. И. В. и секретные предписания Главного Управления Генерального штаба, сего дня прибыл в г. Верный во главе отряда из 10 драгун. Моим заместителем назначен ротмистр Муравьев, хорошо мне известный умелый и знающий штаб-офицер. В Верном отряду предстоит предпринять маскировочные усилия и под видом этнографической экспедиции Российской академии наук выдвинуться в г. Пржевальск, расположенный в 260 верстах южнее Верного на берегу озера Иссык-Коль. Здесь наш отряд присоединится к экспедиции французского синолога,[4] профессора Сорбонны г-на Пэлио для совместного путешествия через империю богдыханов.[5]
Поручив личный состав и лошадей заботам дежурного гарнизонного офицера, я отправился для доклада к военному генерал-губернатору Семиреченской области. В резиденции я был тепло встречен знакомым мне генерал-лейтенантом Михаилом Афанасьевичем Фольбаумом.
— Очень рад вас видеть, мой дорогой. Наслышан о ваших мукденских подвигах. Извините, вынужден отложить приятнейшие обязанности гостеприимства. Прошу вас, господин полковник, пройти в мой кабинет.
Генерал передал мне папку с телеграфной шифрованной депешей из Главного Управления Генерального штаба. Муравьев произвел дешифрацию текста, а тактичный хозяин удалился и позволил нам обсудить поступившие указания. Первый оберквартирмейстер ГУГШ генерал Федор Палицын приказывал нашему отряду, вступив в Китай, отделиться от французской экспедиции и двигаться на границу Тибета и Внутренней Монголии. Там, в монастыре Утай-шань, мне надлежало встретиться и затем оказать всяческое содействие проживающему в изгнании духовному лидеру Тибета — тринадцатому Далай-ламе Тхубдану Джамцхо. Для содействия нам в выполнении этой миссии в китайском городе Кульджа наш отряд будет ожидать буддийский лама Агван Доржиев. Новые цели экспедиции чрезвычайно секретны, и нам с Муравьевым поручалось предпринять все необходимое для сохранения тайны.
Мы с ротмистром вернулись к гостеприимным хозяевам. Овдовевший несколько лет назад Михаил Афанасьевич был отцом двух очаровательных дочерей, которые окружили нас самым добросердечным вниманием и заботой. Для начала они почли для себя обязательным накормить нас превосходным обедом, что, нужно отдать им должное, было совсем не лишним. Младшая — восемнадцатилетняя голубоглазая и светловолосая Мария, — мило смущаясь, расспрашивала нас о войне, о Петербурге и рассказывала в свою очередь о внешне спокойном течении жизни в Верном:
— Вы не поверите, у нас здесь все, как в настоящих городах, — синематограф, телеграф, было два автомобиля — так, представьте себе, даже произошло крушение — они столкнулись прямо на Торговой улице. А все равно, — неожиданно вздохнув и потупив красивые озорные глаза, промолвила она, — ужас как скучно. И ужас как боимся мы землетрясений.
Старшая Екатерина — высокая, статная, с русыми волосами, убранными в роскошную косу, с доброй улыбкой, с коей смотрят на маленьких детей, — слушала Марию. Она вспомнила, как в их доме разместили людей, потерявших кров после страшнейшего землетрясения, а подземные толчки продолжались, и в кабинете отца, где находился штаб помощи пострадавшим, падали с потолка куски штукатурки.
— Да уж, пережили мы тогда… Спасибо государыне Александре Федоровне — она организовала сбор средств в помощь пострадавшим. Триста человек погибли, город почти весь был разрушен. Самим бы нам с бедой не справиться, — добавил Михаил Афанасьевич и пригласил нас на террасу.
Палящий зной, казалось, не достигал этого затененного виноградником и большими яблоневыми и грушевыми деревьями уголка. Тихо журчала вода в арыках.
— Попробуйте местного табака — превосходный дюбек научились выращивать. — Михаил Афанасьевич угостил нас с Муравьевым весьма недурными папиросами. — Верненский фабрикант делает. У нас здесь чего только нет. — Он обвел руками окружающее пространство. — Оазис просто, а отъедешь двадцать верст на север — пустыня, солончаки да верблюжья колючка. На юге горы нехоженые — настоящая, дикая природа. Вот у нас гимназисты все в Северо-Американские Штаты бегут, начитаются майн ридов — и в Америку, за приключениями. Только в Ташкенте в прошлом месяце поймали гимназиста здешнего — Мишеньку Фрунзе. В прерии бежал, с индейцами сражаться. А чем здесь не дикий Восток? — Он вздохнул и продолжил: — Вы, господа, не сердитесь на дочек за их любопытство. Мы тут, на краю империи, все, что в России происходит, острее переживаем, чем постоянно там живущие, и с радостью встречаем любого приезжающего, всем, чем можем, услужить пытаясь. А уж вам-то, героям войны, — и подавно.
Я всей душой посочувствовал безвестным русским пионерам, в тяжелой борьбе с природой и врагами осваивавшим самые далекие уголки огромной империи. Их искренняя любовь к России, патриотизм, наивная сентиментальность по отношению к далекой Родине, наверное, насмешили бы завсегдатаев петербургских салонов, но меня, небогатого барона из маленькой Финляндии, эта душевная чистота совершенно растрогала. Ротмистр, сполна обладавший русской чувствительностью, испытывал еще более сильные эмоции.
Разговор перешел на служебные темы. Я не мог раскрыть истинные цели экспедиции, но по нашим вопросам генерал-губернатор сделал определенные выводы. Он обещал выделить нам из имеющихся гарнизонных запасов необходимую горную амуницию и палатки.
— Оружием не помогу, извините. У меня верненский гарнизон все еще берданками воюет. А что касается казацкого конвоя, то смогу выделить вам только 20 сабель — больше никак, — сокрушенно покачал он седой головой. — Очень уж неспокойно сейчас на границе.
Таким образом, в случае стычки с неведомым неприятелем нам придется рассчитывать только на имеющиеся у нас десять винтовок Мосина да два офицерских нагана.
Дочери хозяина любезно пригласили нас на верховую прогулку по городу. Полуденный зной уже спал. На затененные серебристыми тополями и акациями улицы неторопливо возвращалась жизнь, замершая на время изнурительного полуденного зноя. Посаженные вдоль регулярно разбитых оросительных каналов, или, как их здесь называют, арыков, высокие деревья кое-где смыкались ветвистыми кронами, образуя над улочками настоящий зеленый шатер. Прямизна планировки открывает уникальную горную панораму, венчающую вид улиц, идущих сверху вниз.
Мы поднялись на Кок-Тюбе — довольно высокий холм в городской черте, — улицы и сады Верного лежали у нас под ногами, а на севере взгляду открывались необозримые пустынные просторы в дрожащем мареве знойного воздуха. На юге возвышался величественный хребет Заилийского Алатао. Переливались блеском заснеженные вершины, и казалось, что за их острые пики цепляются редкие кучевые облака. Ниже ледников горные хребты меняли цвет с белоснежного на разные оттенки лилового и серого. Еще ниже преобладал темно-зеленый — подножия заросли исполинскими реликтовыми тяньшанскими елями. Кое-где заметны проплешины — местные жители безжалостно истребляли древние деревья для своих строительных нужд. Спустившись в центр города, мы имели возможность полюбоваться гигантским еловым спилом — неправильным кругом, не менее четырех метров в диаметре. Предприимчивый ресторатор установил на нем несколько столиков под тентом.
Своеобразным центром города служит большой искусственно созданный парк. Здесь я увидел милые моему скандинавскому сердцу сосны, дубы и клены. Среди деревьев было устроено кладбище, где похоронены погибшие при землетрясении. В центре на пятьдесят саженей вознес свои купола новый Свято-Вознесенский собор. Отделочные работы еще продолжались. Здесь мы встретили архитектора, проектировавшего собор, — г-на Зенкова, пенсне и бородкой походившего на покойного писателя Чехова. Он, горячась, принялся доказывать нам надежность этого хрупкого на вид сооружения. Главная идея архитектора состояла в строительстве исключительно из дерева — без единого гвоздя или металлической скобы. Так же был устроен специальный, как назвал его автор — «неверный» фундамент, который мог гасить подземные толчки.
Ниже пролегала Торговая улица — чрезвычайно пестрое смешение народов, обычаев и языков. Рядом с выстроенным из кирпича двухэтажным местным «Мюром и Мерелизом» — магазином купца Шахворостова и вполне западного вида номерами «Европа», где мы остановились, располагались киргизские юрты. По соседству с французской ресторацией дымились костры под огромными казанами, в которых полуголые, темные от загара азиатские шеф-повары варили плов, лагман, бешбармак и другую восточную еду, — пряные ароматы дразнили обоняние.
Чуть далее по улице расположился уже настоящий базар. Прямо на земле были устроены пирамиды из дынь и арбузов, кучи винограда всевозможных размеров и оттенков, возы яблок — знаменитого александровского апорта. Яблони растут здесь повсеместно, весь город — целый яблоневый сад. Крупные, иные с голову ребенка плоды, прекрасного пурпурового цвета, необыкновенно ароматные и сочные. Воз апорта стоит восемь гривен, сотня — восемь копеек. Екатерина рассказала, что через месяц, в пик сбора урожая яблок, всюду по обочинам дорог будут гнить кучи никому не нужных прекрасных плодов. Тут же торговали яблочным вином, своеобразным местным портвейном, пастилой и порошком — тоже местной придумкой: растворяя его в кипятке, можно получить чудесный яблочный кисель.
Среди разноголосого шума выделялись хриплые музыкальные аккорды, и когда мы подъехали ближе, то стало возможным узнать в них модный в прошлом году вальс «На сопках Маньчжурии». Ручку стоявшей на деревянной подпорке шарманки вращал одноногий инвалид в потрепанном мундире. На груди его зеленой драгунской куртки серебрился солдатский Георгиевский крест. Мы остановились подле уличного музыканта, я спешился. Старый вояка, как мог в своем инвалидном положении, попытался встать «во фронт». Я положил в кружку, укрепленную на верхней полке шарманки, пятирублевую ассигнацию.
— Спасибо, ваше высокоблагородие, — сказал старый драгун и отдал мне честь.
Я сел в седло и, взглянув на свою спутницу, заметил, что Екатерина Михайловна плачет. Она отвернулась, утерла платочком глаза и рассказала, что в 1905 году под Мукденом погиб ее жених — есаул Митенька Анненков. Что я мог сказать в утешение прекрасной женщине, которая так мне нравилась? Мы оба печально умолкли, вспоминая погибших на японской войне близких людей. Вращал ручку одноногий инвалид, шипела старая рассохшаяся шарманка, и над пыльной Торговой улицей Верного звучал вальс, как будто оплакивая российских солдат и офицеров, похороненных на чужбине.
Наше грустное единение разрушил стук копыт. На улице показался казачий разъезд, возвращавшийся, судя по запыленному и измученному виду, из неблизкой командировки. Меж коней шли, связанные веревкой, несколько кыргизов. Худой, высушенный безжалостным солнцем, есаул — командир отряда, — поравнявшись с нами, поклонился и отдал честь. Екатерина обратилась к нему, называя Гришей. Он рассказал, что отряд его двое суток лавой гнался за знаменитым в Семиречье разбойником Зарифом, но тот, приняв бой, вновь умудрился уйти в сторону китайской границы тайными горными тропами. Нескольких кыргизов из его шайки удалось захватить. Гриша просил Екатерину Михайловну в ближайшие дни не отправляться в горы без надежной охраны.
Отряд двинулся дальше — казаки от безмерной усталости раскачивались в седлах. Грязные и пыльные, в разодранных халатах, босые, со сбитыми в кровь ногами пленники злобно и затравленно озирались на окружившую конвой толпу. Я вдруг спиной ощутил не менее злобный, чем у кыргизов, острый и колючий взгляд. Несмотря на жару, в позвоночник мне будто впились ледяные иглы. Тронув своего верного Талисмана, я исподтишка обернулся. Неподалеку от нас остановилась пролетка. Один из седоков — европеец, в тропическом костюме и пробковом шлеме офицера британского колониального корпуса, — глядя на меня, что-то говорил сидящему рядом азиату в засаленном полосатом халате, зажавшему между коленей новенький английский карабин. Меня поразил его обритый наголо череп — казалось, жгучие солнечные лучи не причиняют кыргызу никакого беспокойства. Недоумевая, чем я мог вызвать столь сильное недовольство этой своеобразной компании, я взглянул на Екатерину и понял, что она их тоже заметила.
— До чего неприятный взгляд у этого господина, — сказала она.
Чуть коснувшись стременем лошадиного бока, она направила свою кобылу вперед и, улыбнувшись, предложила продолжить нашу экскурсию. По пути мы обсуждали странную встречу. Екатерина не знала господина с колючим взглядом, но предположила, что это очередной охотник или путешественник, жаждущий проникнуть в Китай, — в последнее время их много приезжало в Верный.
Казачий разъезд скрылся за пылью и зеленью в конце Торговой улицы, где располагался старый форт, с которого и начался пятьдесят лет назад город и где, как и прежде, находились казармы гарнизона. Улица вернулась к прежним торговым заботам…
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Во дворе залаяли собаки. Анна оторвалась от любопытных записок Маннергейма о прошлом ее родной Алма-Аты, полтора века назад основанной как казачье укрепление Верный, выглянула в окно и увидела подъезжающий к обозначавшим ворота усадьбы двум фонарям джип, а за ним следом — черный БМВ. Закрыв старую тетрадь, Анна отправилась вниз.
«Да, — с грустью думала она, спускаясь по уже почти родным деревянным ступеням, — неделя прошла — пора возвращаться». В «Новостях» летом, как и везде, был сезон отпусков, и каждому из оставшихся в пыльном, жарком городе журналистов и операторов приходилось работать за двоих. Анне отпуск по графику полагался только в сентябре. Поэтому начальник службы информации Шаховцев, прежде чем отпустить ее в Финляндию, долго говорил о том, что молодым журналистам необходимо много работать, чтобы чему-нибудь научиться, а отпуска — выдумка лентяев. Он тяжело переживал привычку подчиненных много, по его мнению, отдыхать.
«Ну ничего, — утешила она себя, — главное — у меня теперь есть дед». Завтра они вместе собирались в Выборг — Хейно непременно хотел ей показать места их с бабушкой юности, а заодно — проводить и посмотреть, как она живет в Петербурге. Кстати, Мариинский театр в очередной раз гастролировал в Выборгском замке. В этом году — «Борис Годунов». Русская опера в интерьере средневековой шведской цитадели — это, должно быть, очень интересно. Спектакль завтра, и у них с дедом есть возможность на него попасть.
Попутно стащив со стола плюшку, Анна выскочила во двор. Забежала в вольер с псами, кинула им по половинке — ритуальное подношение с человеческого стола — и поспешила к воротам. Ее удивил обычно приветливый и радующийся появлению незнакомых людей добродушный черный кобель. Пес, для которого главным счастьем в жизни было получить вкусненький кусочек, даже не посмотрел на плюшку. Встав во весь свой немаленький рост и опершись передними лапами на решетку вольера, он злобно рычал на человека, приехавшего на БМВ. Рассмотрев нежданного гостя, который что-то напряженно говорил деду, Анна мельком подумала, что, пожалуй, тоже бы на него порычала. Что-то отталкивающее, таящее опасность было в заурядной внешности упитанного финна. Набриолиненные волосы, черный костюм-тройка с белой сорочкой и непроницаемые карикатурно-гангстерские очки усиливали общее впечатление криминальной личности. Время от времени «бандюк», как окрестила его про себя Анна, оглядывался на машину. Был ли в БМВ кто-то еще — не позволяли рассмотреть солнечные блики на стеклах. О чем идет разговор, Анна не слышала, да и по-фински она мало что понимала. Но последнее слово ей было знакомо — дед отрывисто бросил «бандюку»: «Эй![6]» — и направился к дому.
Анна поспешила навстречу. Неосторожно распахнув дверцу вольера, она позволила Микелю выскочить наружу. Обычно пес никогда не пропускал деда и даже после небольшой разлуки старался лизнуть его в щеку. Дед притворно сердился, Микель не менее притворно стыдился, прятал глаза и отчаянно мел хвостом, но было заметно, что эта забава доставляет им огромное удовольствие. Теперь же кобель в несколько крупных прыжков одолел расстояние до БМВ. «Бандюк», заметив приближение разъяренной собаки, успел юркнуть на водительское место и захлопнуть дверь. Он резко рванул с места, с явным намерением зацепить бампером подлетавшего Микеля. Только изумительная реакция спасла молодого пса. Машина стремительно скрылась за поворотом подъездной дороги. Дед потрепал Микеля по ушастой здоровенной башке и сказал:
— Анечка, собирайся. Тебе сегодня необходимо съездить в Миккели к моему старому приятелю Моисею Фиделю. Он адвокат, вот адрес его конторы, — и, предупреждая ее вопросы, добавил: — Он все тебе объяснит.
Анна видела, что дед, невозмутимый и мудрый Хейно Раппала, чем-то расстроен. Она неловко обняла-обхватила его руками и, дыша в плечо, спросила:
— Дед, что случилось?
Старик замер на мгновение, потом погладил ее по голове и улыбнулся:
— Все в порядке. Просто встретил неприятных людей.
— А как же рыбалка? Ты собирался научить меня сегодня ловить форель!
Дед повернулся к озеру и внимательно посмотрел вдаль, как будто пытаясь разглядеть что-то, одному ему ведомое, в потемневших водах Саймы. Погода портилась, порывистый ветер принес с северо-запада темно-серые дождевые тучи. На озере началось небольшое волнение. Так и не ответив, он повернулся и вошел в дом. Анна обхватила себя руками — от прохладных порывов ветра кожа на плечах покрылась пупырышками. Ей отчего-то стало очень тревожно, и она поспешила вернуться в дом. Внизу никого не было, и девушка вдруг ощутила неприкаянность и одиночество. Несколькими минутами позже по лестнице со второго этажа стремительно спустился дед. Таким жестким и решительным Анна его еще не видела.
— Поторопись, Васса, вы уезжаете через пять минут, — громко поторопил старик экономку, видимо, заканчивающую сборы в своей комнате.
Обеспокоенная Анна попыталась вновь выяснить, что стряслось, но дед не ответил и протянул ей ключи от автомобиля:
— Водить старину Лаури (так он называл свой джип «Лендровер») ты уже пробовала. Васса поедет с тобой. Ей нужно к родственникам — они живут неподалеку. Иди, Анечка, одевайся.
Недоумевающая и встревоженная девушка поднялась наверх. Для поездки она выбрала джинсы и легкую светлую куртку из плащевки. Остановившись у зеркала, чтобы причесаться, Анна, взглянув на свое отражение, увидела напуганную и встревоженную маленькую девочку и разозлилась на себя за глупую, неизвестно почему возникшую тревогу. «Немедленно успокойся», — приказала она себе и спустилась на первый этаж, где ее ожидали Васса и Хейно.
— Это, — дед протянул ей небольшой сверток, — передай, пожалуйста, Моисею. А это — твоя кредитная карточка. Ну-ну-ну! — Он обнял пытавшуюся возразить Анну и сунул небольшой золотистый кусочек пластика в карман ее куртки. — Давайте присядем, по русскому обычаю, на дорожку.
Они присели и помолчали.
— Ну — с Богом, — сказал дед и перекрестил Анну.
Проходя мимо вольера, она привычно погладила лобастую голову Микеля. Важная лайка Пуми нежностей не любила и вела себя всегда независимо. Анна помогла Вассе забраться в автомобиль, села за руль и завела движок. Оглянулась на дом — дед стоял на крыльце, и в руках у него почему-то было охотничье ружье.
Выезжая с полуострова, где размещалась рыболовная база «Хуоменна», на трассу, они миновали стоящий у обочины черный БМВ. Анна уже видела сегодня эту машину.
В БМВ тоже заметили джип. Развалившийся на заднем сиденье Яри Пасанен, которого Анна окрестила «бандюком», потыкал в кнопки мобильника и доложил:
— Девка на джипе уехала в сторону Куопио, с ней прислуга. Похоже, старый дурак облегчил нам задачу, — и, внимательно выслушав собеседника, выключил телефон, важно объявив своим спутникам: — Надо немного подождать.
Будучи девушкой рассудительной, Анна пыталась унять внутреннюю тревогу, вызванную визитом «бандюка» и странным поведением деда. В самом деле, что она придумывает себе всякие страсти. У деда просто могло быть плохое настроение — нельзя же все время только радоваться. Дорога помогла ей успокоиться, девушка наслаждалась послушной мощью машины.
Ветер отогнал тучи в сторону России, и вновь на небосводе воцарилось летнее солнце, освещая простой и радостный мир.
Сзади ворчала Васса, продолжая ругать запойного «перкеле» Экко-Пекку. Анна не прислушивалась, да Вассе и не нужно было ее внимание. Долгая жизнь среди молчаливых финнов приучила ее вести длинные беседы с собой. Поглядывая на спидометр, чтобы Не дай бог не превысить разрешенную на трассе девяностокилометровую скорость, Анна нажала кнопку «play» CD-проигрывателя. Записанные в Париже накануне нового тысячелетия великие теноры — Паваротти, Доминго и Карерас — пели о прекрасной и вечной любви.
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Человек в камуфляже, выключив телефон, решил, что наемники глупы и самоуверенны. Старый хитрый лис готовится защищать свою нору, поэтому отослал женщин. Если бы эти финские придурки не напортачили, насторожив старика, можно было бы попытаться его разговорить. Есть специальная химия для этих случаев. Но — нет так нет. Он относился к упущенным возможностям без сожаления. Всегда отыщется иной способ решения задачи. Этому его научил суровый жизненный опыт: сперва — служба в Афгане, где ему, снайперу десантного разведвзвода, пришлось воевать неизвестно за что, а позже — специфическая работа на янкесов, которым его — «шурави»-перебежчика — отдали «духи». «Монгрел» — «ублюдок» — так его прозвали. И ему понравилось прозвище. Продвигаясь легко и бесшумно по изученному ранее маршруту, он вскоре вышел к облюбованной сосне. Обрызгал из баллончика жидким силиконом ладони, помахал руками, чтобы тот загустел. Теперь отпечатки его пальцев будут нечитаемы.
Август 200… г., трасса Куопио — Миккели, Финляндия
Анне пришлось сделать небольшой крюк, чтобы завезти Вассу на ферму родственников ее покойного мужа. Нарядная, окруженная корзинками с пирожками и домашним вареньем, Васса пребывала в нервозно-приподнятом состоянии. Родственники ее недолюбливали, и, совершая такие визиты два раза в год, она очень старалась не ударить в грязь лицом. У ворот их встретили две старушки — сестры мужа, такие же опрятные, как их небольшой типично финский дом. Вежливо поздоровавшись, они подхватили корзинки и важно удалились. Анна, прощаясь с Вассой, подумала, что в России, а уж тем более в родной Алма-Ате хозяева непременно заставили бы ее зайти в дом и без чаепития ни за что не отпустили. Сейчас особенности финского гостеприимства ей были на руку, — утихшая было тревога поднялась в душе с новой силой. Анна спешила к адвокату, надеясь получить объяснение странному поведению деда.
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Монгрел достал из-под дерна рюкзак, извлек из него футляр с «Винторезом». Нацепив «кошки», он легко взбирается к кроне сосны и замечает, что окна плотно зашторены, чего не было раньше. Да, Хейно Раппала приготовился к обороне. Ну что ж, пора выманить лиса из норы. Монгрел жмет кнопку на маленьком пульте, и в кустах неподалеку от дома включается игрушечный вездеход, шумно пытаясь выбраться. Лайка, и без того насторожившаяся, остервенело лает на невидимого врага. Менее чуткая овчарка присоединяется к ней. Монгрел готовится стрелять. Толстый из-за глушащей звук выстрела накладки ствол «Винтореза» плавно перемещается, выцеливая окна. Уловив движение портьеры на втором этаже, убийца задержал дыхание. В сетке коллиматорного прицела усиленное оптикой шевеление повторяется. Монгрел скорее угадал, чем увидел внимательные глаза старика в полутьме зашторенного кабинета и плавно давит указательным пальцем на спусковой крючок. Раздаются легкий хлопок и шипение стравливаемых пороховых газов и — через небольшую паузу — звон разбитого стекла. Убийца выжидает несколько секунд, хотя уверен, что, как обычно, не промахнулся. Затем, включив телефон, приказывает:
— Подъезжайте к дому.
Август 200… г., Миккели, Финляндия
Контору Фиделя в Миккели Анна нашла сразу, — в центре маленького городка рядом с Рыночной площадью мудрено заблудиться. Оставив машину на паркинге, она открыла стильную дубовую дверь с бронзовым декором.
Интерьер конторы выдержан в едином солидном, «адвокатском» стиле, как его для себя определила Анна. Полированное дерево, кожа, ковры и бронза — казалось, все здесь источает запах денег. Навстречу девушке из кабинета вышел невысокий, совершенно лысый пожилой человек в темно-синем, с тончайшей голубой полоской, костюме, нежно-голубой рубашке и строгом галстуке в тон. Мужчина внимательно рассмотрел Анну сквозь очки в золотой оправе, тепло улыбнулся и протянул ей руку, испещренную пигментными пятнами.
— Как я рад за моего друга Хейно! Отыскать внучку, которая оказалась к тому же красивой и умной девочкой, — это большая удача.
В кабинете он усадил Анну в глубокое кожаное кресло и поинтересовался, не хочет ли она чего-нибудь выпить. В горле пересохло, и пить действительно очень хотелось, но тревога и беспокойство столь сильны, что Анна отрицательно помотала головой. Правильно оценив ее молчание, Фидель предложил:
— Ты, девочка, можешь называть меня Моисеем Яковлевичем или, и мне это было бы приятнее, дядей Мойшей. С твоим дедом и бабушкой, пусть земля ей будет пухом, я знаком… дай бог памяти… с тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Мы жили по соседству в Выборге и выросли вместе.
Анна не могла решиться рассказать этому чужому и важному господину о терзающей ее необъяснимой тревоге, но, взглянув на него, вдруг заметила, какие живые, полные участия глаза скрываются за холодным блеском оправленных в золото стекол. Охватившая ее в чопорной адвокатской конторе скованность исчезла и, отдав Фиделю сверток, девушка, запинаясь от волнения, сообщила об утреннем визите отвратительного «бандюка» на БМВ и странном поведении деда. Адвокат молча извлек из свертка компьютерный винчестер и записку и внимательно прочел адресованное ему послание. Затем он прошел к столу и, пощелкав кнопками телефонного аппарата, набрал номер. Кабинет заполнили протяжные гудки — на его вызов не ответили. Фидель достал из скрытого стенными дубовыми панелями сейфа шкатулку из карельской березы и вернулся к Анне.
— К сожалению, телефон Хейно не отвечает. Твой дед был у меня сегодня утром и оставил это для тебя, — Он отдал ей шкатулку.
Анна, не в силах сидеть, порывисто поднялась из уютного кресла:
— Я очень беспокоюсь за него. Я, конечно, его мало знаю, но сегодня он был не такой, как обычно. И… я боюсь.
Фидель, успокаивая ее, мягко заметил:
— Не стоит так волноваться. Мы сейчас поедем к твоему деду и не отстанем от него до тех пор, пока он все не расскажет. Я только сделаю один звонок. Старого еврея Фиделя не очень любят в прокуратуре, но с полицейскими инспекторами я поддерживаю дружеские отношения.
Он быстро набрал телефонный номер. Ограничившись парой фраз, дядя Мойша достал из сейфа пистолет и привычным жестом заткнул за пояс. Поймав удивленный взгляд Анны, пояснил:
— Когда-то я служил в военной разведке. Пойдем, девочка, нам стоит поторопиться.
На улице адвокат взял у нее ключи от автомобиля, и, как только Анна пристегнула ремень безопасности, джип, взревев двигателем на высоких оборотах, рванулся вперед и выскочил на трассу. Фидель утопил педаль газа в пол. Стрелка спидометра, миновав верхнюю отметку шкалы, уверенно поползла вниз.
28 августа 1906 г., г. Верный
…Мы проезжали вдоль маленьких холмиков риса, мешков с мукой, корзин с лепешками. Далее — ряды продавцов скота. Здесь, привязанные к деревьям, покорно стоят в ожидании скорой смерти бараны и козы.
Екатерина рассказала мне, что правоверные читают специальную молитву, прося у Аллаха прощения за убийство живой твари, объясняя, что делают это не по злобе, а только ради прокормления. После этого барана стреножат и, повалив на землю, рассекут ему горло одним ударом широкого ножа. На придорожную пыль стекает кровь, скатываясь в грязные шарики. Туши тут же свежевали, сдирая шкуру целиком с помощью остро отточенных щепок. Шкуры развешаны вокруг, для просушки.
Среди торгового люда сновало множество всякого сброда: нищих-попрошаек, бродячих фокусников, китайских торговцев зельем — опиумом и гашишем. Кыргизки-гадалки в огромных белоснежных тюрбанах раскидывали на кусках белого полотна черно-белые гадальные камешки.
Но самая живописная фигура размещалась на берегу арыка под карагачом, дававшим немного тени. Это был апофеоз художника, буйство красок костюма выделяло его даже в пестрой толпе, заполнявшей Торговую улицу. Блуза ярко-оранжевой расцветки дополнялась изумрудным шейным бантом, широкие ультрамариновые лампасы украшали канареечно-желтые штаны, а на голове красовался берет из фиолетового бархата с алым страусовым пером. Художник стоял перед мольбертом с палитрой в руках и задумчиво покусывал кончик кисти. Над его головой, на корявом стволе укреплена вывеска: «Сергей Калмыков, гений 4-го ранга планеты Земля, небесный командор Солнечной системы и галактики Млечного Пути».
Екатерина, склонившись ко мне, шепнула, что Калмыков — удивительно талантливый художник-самоучка, человек не без странностей. Она ласково поздоровалась с ним и, получив разрешение, показала мне его картины. Я всегда ценил в живописи реализм и жизнеподобие, но этот среднеазиатский последователь французских импрессионистов, очевидно, действительно обладал незаурядным талантом. Непостижимым образом в яростном смешении колоритов из бесформенных цветовых пятен вставала перед глазами та самая Торговая улица, которую мы только что миновали, и величественные горные цепи, и город в весенней кипени цветущих садов.
Пока мы с Екатериной разглядывали простые, без рам, холсты, художник, напевая, возился у мольберта. Когда, поблагодарив его, мы собрались двигаться дальше, он нанес завершающий штрих на кусок картона и протянул его мне. Это оказался портрет моей спутницы — Екатерина, прекрасная и неземная и, в то же время, совершенно живая. Внизу художник сделал надпись: «Любовью Тронуто Черствое Сердце Ландскнехта».
Я был поражен. Как этот уличный живописец сумел разглядеть то, в чем я сам себе боялся признаться? Сорокалетний наемный солдат, давно и несчастливо женатый, далекий от собственной семьи, поставивший для себя высшей и единственной целью блестящую военную карьеру и ей посвятивший все свои силы, я весь день не мог заставить себя думать ни о чем ином, кроме прелестной спутницы.
Взглянув на картину из-за моего плеча, Екатерина лукаво улыбнулась, а я почувствовал, что краснею, как когда-то в детстве, когда меня стыдили за разбитое в гимназии окно. Моя прекрасная дама вдруг звонко и довольно рассмеялась, лихо вскочила в седло и протянула мне руку. Так, взявшись за руки, мы молча вернулись в дом генерал-губернатора.
Из гостиной доносились звуки рояля — молодые голоса старались исполнить романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду», иногда не выдерживая его печальной интонации и заливаясь веселым смехом. Вернувшиеся раньше ротмистр и Маша готовились поразить верненскую публику завтрашним вечером в офицерском собрании. Но этому не суждено сбыться — в приемной мы столкнулись с вестовым казаком, а чуть позже генерал-губернатор пригласил меня в кабинет и протянул срочную секретную депешу. Нашему отряду предписывалось со всей возможной поспешностью выдвигаться в китайский город Кульджу для встречи с ламой Агваном Доржиевым.
Я вызвал ротмистра из гостиной и сообщил о полученном приказе. Михаил Афанасьевич отправился делать распоряжения относительно казацкого конвоя. Мы зашли в зал, чтобы попрощаться с милыми нашим сердцам девушками. Мечты о проведенных вместе нескольких безоблачно-счастливых днях рушились. Мари схватила Муравьева за руку, заглянула ему в лицо, пытаясь понять, не шутит ли он. Потом порывисто обняла, поцеловала и, разрыдавшись, выбежала из залы.
Я смотрел в чудесные зеленые глаза Екатерины. Внешне она осталась спокойной и собранной, но в этих прекрасных глазах плескались бесслезная боль и безнадежная мольба.
Вернувшийся генерал-губернатор нарушил неловкую и тягостную паузу. Екатерина поинтересовалась нашим маршрутом и, подумав, решительно стала собираться:
— Поеду добывать вам проводника. Если желаете, можете составить мне компанию…
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Двумя выстрелами убив собак, Монгрел спускается с дерева. Он подчищает следы своего пребывания в лесу — так задумывалось. Уложив винтовку в чехол, снимает комбинезон и обувь с «кошками». Оставшись в шортах и майке с нарисованной на груди смешной пучеглазой рыбой, быстро идет к дому. БМВ уже стоит у ворот, Монгрел, бросив рюкзак в багажник, видит сквозь большое окно, что Яри и двое его парней старательно крушат мебель, — очевидно, обыск они представляют себе именно так. Приоткрыв водительскую дверь, он сует под сиденье чехол от видеокассеты и проводит к нему от замка зажигания тонкую полоску токопроводящего клея. Теперь при повороте ключа сработает детонатор, и от того, кто в этот момент окажется на переднем сиденье, мало что останется.
— Привет, парни! Хорошо поработали. Это вам, — Монгрел проходит в дом и бросает на диван зачехленный «Винторез».
Не задерживаясь, поднимается наверх, в кабинет. Эти придурки даже не удосужились проверить, мертв ли старик. Пуля попала в сердце. Монгрел перебирает бумаги в ящиках письменного стола, но кроме счетов и рыболовных журналов там ничего нет. В шкафу находит шкатулку из карельской березы, как две капли воды похожую на ту, которую старик увез утром. Просматривая письма, адресованные Хейно Раппала, Монгрел убеждается, что Маннергейма в числе отправителей нет.
Компьютер не включается — отсутствует жесткий диск. На тщательный обыск кабинета уходит полчаса. Послание маршала, за которым Монгрел пришел, обнаружить не удается. Остались внучка и экономка старика — не исключено, что им известно, где Раппала хранил эти чертовы письма. Монгрел поднимает валяющееся рядом с трупом ружье. Хороший дробовик, фирмы «Биннелли», с прикладом из ореха. Дослав патрон в ствол, спускается на первый этаж — финны увлеченно рассматривают винтовку. Теперь полиция получит отпечатки пальцев. Дважды грохочет ружье и с клацаньем выплевывает опорожненные гильзы. Мощные заряды картечи опрокидывают парней, чьи имена Монгрел не удосужился запомнить. Пороховой дым повис в комнате плотным облачком. Сломанная мебель и забрызганные кровью стены дополняют картину бойни.
— Как свиньи. — Кивком Монгрел указывает побледневшему Яри на его агонизирующих приятелей и сует в рот очередной леденец. — Так надо. Пошли.
С трудом передвигая ноги и стараясь не смотреть на трупы подельников, Яри идет к двери, но, не дойдя, — сгибается пополам и блюет. К запахам пороха и свежей крови добавляется резкая, едкая вонь рвоты.
Монгрел ждет у машины.
— Садись, — говорит он и, когда Яри плюхается на водительское сиденье, протягивает дробовик: — Отъедешь подальше и выбросишь.
Быстро уходя в сторону берега, Монгрел слышит клацанье затвора, но выстрела нет — ружье он предусмотрительно разрядил. Яри, перестав икать, с недоумением смотрит на дробовик. Отбросив бесполезное ружье, финн поворачивает ключ в замке зажигания. За мгновение до этого Монгрел скрывается за углом.
Дом прикрыл его от удара взрывной волны. Надсадно и непрерывно воет клаксон, замкнувший от взрыва. Над покореженным корпусом автомобиля кружится столб пыли. Легко пробежавшись, Монгрел ныряет с причала в воду и широким кролем плывет в сторону острова, где в тростнике рано утром спрятал лодку, — пришла пора вновь становиться рыбаком.
Август 200… г., Миккели — озеро Сайма, Финляндия
Мелькающий за окнами финский пейзаж казался Анне бесконечно повторяющимся эпизодом нелепого фильма, как будто сумасшедший киномеханик заправил в проекционный аппарат склеенную кольцом кинопленку. Вскоре их настиг СААБ с синим проблесковым маячком на крыше. Из полицейской машины через громкоговоритель что-то повелительно рявкнули.
— Предлагают следовать за ними, — перевел Фидель озабоченно. — Пока старый Мойша будет стараться нас не угробить, ты взгляни, что там в этой шкатулке.
Все время, пока они были в дороге, Анна, бесконечно нажимая клавишу повторного набора, пыталась дозвониться до деда. Длинный гудок из трубки, казалось, ввинчивался прямо в мозг. Она глубоко вздохнула, пытаясь совладать с накатывающей волнами паникой. Открыв непослушными пальцами шкатулку, достала пачку писем. На колени выпал аккуратно сложенный лист, на котором крупными буквами было выведено ее имя.
— Читай вслух, — попросил адвокат.
Срывающимся голосом Анна прочитала:
«Моя дорогая Анна,
Эту записку вместе с прочим тебе передаст мои старый друг и адвокат Моисей Фидель. Что бы ни случилось, ты можешь полностью ему доверять.
В марте 1944 года я, будучи личным пилотом, принимал участие в небольшой экспедиции Маннергейма на Выборгский залив. Там, на одном из островов, неподалеку от Уураса, который теперь называется Высоцком, маршал и его старый денщик Григорий Малоземов спрятали в тайнике некие ценности. В тот день на льду залива с нами были также начальник охраны Маннергейма Гядиминас Миндаугас и снайпер — саам Инари Висатупа. Спустя семь лет, незадолго до своей кончины, маршал написал нам письма, в которых просил отыскать тайник и указал точное положение шифром, упомянув, что разгадать его код мы сможем лишь втроем. С письмом мне доставили дневник азиатского путешествия Маннергейма, предпринятого в начале двадцатого века.
Я пытался выполнить поручение глубоко чтимого мной командира и нашел двух других адресатов. Но Миндаугас не пожелал со мной встретиться, а Инари Висатупа погиб на охоте, и адресованное ему письмо маршала лишь волей случая попало ко мне. Была и еще одна помеха поискам тайника — тот район залива в составе Выборгской ляни в качестве военной контрибуции был передан Советскому Союзу.
Несколько дней назад меня разыскали люди, знающие о завещании маршала, и потребовали отдать им письма. Я не принял всерьез их угрозы. Уверен, что они выполняют чей-то заказ, и попытаюсь выяснить — кто их работодатель.
Моя дорогая Анна, поручение Маннергейма до сих пор не дает мне покоя, и если мне не суждено самому его исполнить, то я хотел бы, чтобы это сделала ты.
Береги себя и будь счастлива. Твой дед Хейно Раппала.»— Что там еще в коробке? — спросил Фидель.
— Два письма маршала Маннергейма — деду и Инари Висатупа. Больше ничего.
Анна, как прилежная ученица, закончив перечисление, взглянула на Фиделя. Адвокат задумчиво кивнул и, сосредоточенно глядя на дорогу, сказал:
— Значит, так, девочка. Первое — случилось что-то серьезное. Второе — эти письма наверняка имеют отношение к происходящему. Третье — будем ли мы информировать о них полицию? Думать нужно быстро, у нас мало времени.
Больше всего Анне хотелось закрыть глаза, сжаться в комочек, ни о чем не думать и только молить неизвестного всемогущего Бога о том, чтобы с дедом ничего не случилось. Но нужно принимать решение.
— Дед не хочет, чтобы эти письма попали к чужим людям. Поэтому мы не скажем полиции о бумагах.
— Как юрист, я не могу одобрить сокрытие важных улик, но как старый друг Хейно — считаю, что ты права. Теперь важно не попасться. Спрячь пока все на себе, а что положить в ящик, я, кажется, знаю.
Анна торопливо засовывала под пояс джинсов конверты, а джип вслед за полицейским СААБом уже свернул на подъездную дорогу, ведущую к усадьбе.
Увидев взорванный БМВ, несколько белых с синей полосой полицейских машин и фургон «скорой помощи», они поняли, что опоздали.
Анна попыталась выйти из автомобиля, но ее удержал Фидель.
— Оставайся в машине, — жестко приказал он. — Я сейчас вернусь.
Адвокат направился к дому и остановился у въезда, затянутого полосатой лентой. Ему пришлось объясняться с тучным полицейским в форме, который пропустил Фиделя только после долгих переговоров по рации.
Анна, охваченная паническим страхом, смотрела в окно. Ее взгляд непрерывно перемещался по окружающим автомобиль объектам, как будто боясь задержаться на чем-то — остановка означала осознание ужасной истины. Подсознательно страхуя себя от этого, она представила, что просматривает на мониторе отснятый материал, отбирая наиболее точные и красноречивые кадры.
Вот окно дедова кабинета. Она отчетливо видела пулевое отверстие, окруженное сетью мелких трещин. Анна не плакала и уже ни на что не надеялась.
Вот рядом с джипом остановился микроавтобус. Девушка долго разглядывала крупные синие буквы на его борту. И только после того как техники подняли сложенную на крыше фургона антенну, а вокруг установленной на штатив камеры засуетились оператор и звукач с длинной «удочкой», увенчанной толстым от мохнатой ветрозащиты микрофоном, она поняла, что подъехали ее коллеги-телевизионщики. Съемочная бригада информационной программы готовилась к выходу в прямой эфир.
Между тем у входа в усадьбу собралась небольшая толпа — пришли отдыхавшие на базе рыболовы и обслуживающие их работники, и просто зеваки, невесть как оказавшиеся здесь. Появилась еще одна телевизионная группа, видимо местной телекомпании. «А собаки? — подумала Анна. — Почему не слышно собак?» Вытянув шею, она увидела краешек вольера, закрытого фургоном «скорой». В углу, уткнувшись острой мордой в ограду, лежала лайка, обнажив крупные клыки в последнем безжизненном оскале.
Дверь джипа распахнулась, и Анна взглянула в утратившие теплоту и блеск замерзшие глаза адвоката.
— Дед умер? — спросила она, заранее зная ответ.
— Да. — Фидель протянул ей стопку старых конвертов и тихо велел: — Осторожно положи конверты в шкатулку — это письма твоей бабушки.
Из-за хлынувших слез, она не сразу смогла это сделать.
— Я не плачу, они сами текут, — сказала она и разрыдалась в голос.
Фидель с силой сжал ее запястье, так, что Анне стало больно.
— Прекрати распускать нюни, — грубо сказал он и потянул ее из машины. — Пойдем, они хотят тебя допросить.
Не выпуская ее руку, адвокат тащил Анну к дому. Она шла за ним, спотыкаясь, потому что из-за слез плохо видела, и чувствовала себя самой несчастной и одинокой на всем белом свете.
У ограничительной ленты стояла в ожидании известий группа журналистов, и Анна услышала, как один из них громко рассуждает по-английски о том, как им всем повезло — четыре трупа сразу: такое в тихой Финляндии бывает раз в десять лет.
Когда до веранды оставалось несколько шагов, адвокат шепнул ей:
— Держись, девочка.
Анна решительно шагнула в дом и громко произнесла:
— Я хочу попрощаться со своим дедушкой.
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Удачная легенда — рыболов, отдыхающий на базе, — позволила Монгрелу находиться рядом с домом все время, пока продолжались следственные действия. Он видит приехавшую с каким-то стариком русскую внучку. У нее в руках шкатулка из карельской березы — такую же он видел в кабинете старика. Похоже, дед успел передать свои секреты этой белобрысой девице. Полиция вряд ли станет ее задерживать, а сама она, скорее всего, после случившегося не захочет здесь оставаться.
Впрочем, он знает, как выяснить ее планы. В любом случае нужно собираться в Россию — предпринимать дальнейшие шаги в Финляндии, полиция которой взбудоражена громким преступлением, неразумно.
Значит, до писем маршала он доберется в Петербурге. А ведь у него в России есть еще одно дело — последний заказ в Выборге. Это нехорошо — он не верит в совпадения и не любит их. Очередной леденец оказался барбарисовой карамелью. «Барбариски» — так, кажется, они назывались в его детстве.
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Наконец-то Анна осталась одна — после продолжавшегося почти пять часов допроса, когда двое инспекторов дотошно выясняли, что она делала с момента пересечения финской границы до сегодняшнего утра. Фидель, переводя вопросы следователей, намеренно делал большие паузы, давая ей возможность собраться с мыслями.
Шкатулку из карельской березы с бабушкиными письмами изъяли, и поначалу все шло к тому, что Анну задержат и отвезут для дальнейшего следствия в полицейское управление Миккели, но адвокат устроил скандал. Не сдерживая эмоций, он объяснил, что если полицейские подвержены русофобии и идут на поводу у финских средств массовой информации, которые непрерывно пугают финнов русской мафией, то воевавший за независимость Финляндии уважаемый адвокат Моисей Фидель так этого не оставит. Будучи одним из старейшин финской еврейской общины, он использует все немалое политическое и финансовое влияние этой известной организации для борьбы с антироссийским шовинизмом в финской полиции. Угрозы ли Фиделя повлияли на следователей или их удовлетворили ответы Анны, но девушку в конце концов оставили в покое. И даже больше — как ближайшую родственницу пострадавшего проинформировали о том, что удалось выяснить. Удалось немного — причины случившейся трагедии, как и полная картина происшедшего, полиции в данный момент не известны. Следствие продолжается.
Больше узнал Фидель по своим «хитрым» каналам. Найдено место, откуда стрелял снайпер. Обнаружили также винтовку «Винторез». На оружии — отпечатки пальцев молодых мужчин, убитых в доме. Эти двое и третий, погибший при взрыве автомобиля, числились в полицейской картотеке Миккели как активные члены националистической группировки «Финский национальный фронт освобождения Восточной Карелии». До сегодняшнего дня особых хлопот она не доставляла — деятельность ограничивалась пьяными скандалами в пивном баре «Маршал» да редкими уличными шествиями. В последнее время группировка активизировалась. У вожака фронта Яри Пасанена появились деньги, — он хвастался дружкам, что наконец-то образовалось стоящее дело.
Получив разрешение, Анна спряталась в своей комнате. Ей нужно побыть одной и понять, что делать дальше. Но собраться с мыслями не получалось — свежая боль потери накатывала волнами. Хотелось упасть лицом в подушку и забиться в рыданиях. Чтобы справиться со слабостью, Анна достала из устроенного на просторном балконе кошачьего домика тетрадь и письма. Документы деда она спрятала, когда перед допросом ей разрешили переодеться. В домике сидел сжавшийся в комок, перепуганный и растерянный рыжий Карл. Девушка бережно вытащила тяжелого кота из укрытия, тот слабо мяукнул и доверчиво устроился у нее на коленях. Она просмотрела содержимое конвертов с красно-белыми марками почты Швейцарии. Два письма, почти одинаковые, написанные по-фински на красивой плотной бумаге с водяными знаками и монограммой барона Маннергейма. Дед их предусмотрительно перевел. Одно маршал адресовал Хейно, другое — Инари Висатупа. Текст писем был идентичен.
«Хочу напомнить тебе, мой дорогой боевой друг, нашу экспедицию весной 1944 года. Тогда, на одном из островов, я с помощью верного Григория спрятал дорогие для меня реликвии. Сейчас, когда дни мои сочтены, я завещаю их тебе и твоим товарищам. В целях предосторожности точное описание места зашифровано. Уверен, что втроем вы без труда сумеете разгадать этот несложный шифр».
Заканчивались письма странными рисунками:
Разгадывание загадок было сейчас выше ее сил, и Анна, отложив письма, открыла старую тетрадь в черном коленкоровом переплете. Вчитываясь в строки Маннергейма, горько усмехнулась — такой контраст между ярким полднем на азиатской Торговой улице и этой казавшейся бесконечной ночью на берегу бухты финского озера.
28 августа 1906 г., г. Верный
…Мы миновали городские окраины и по мосту переехали головной арык. Наезженная дорога вела в горное ущелье. По пути Екатерина мне поведала, что проводника зовут Сергей Карпович Обезьянов, но он предпочитает прозвище Серьга. Человек он весьма необыкновенный, под стать фамилии. Будучи лучшим знатоком здешних гор и охотником, он пользуется большой популярностью у богатых искателей экзотических приключений, щедро оплачивающих свои опасные развлечения. Серьга почитает себя настоящим коммерсантом и купеческий размах проявляет в регулярных безудержных запоях, из которых выходит, уединяясь у своего приятеля монаха, исполняющего в верненском мужском монастыре обязанности пасечника.
На монастырскую пасеку мы теперь и направлялись. Солнце плавно уходило за отроги хребтов, воздух стал прозрачнее, повеяло вечерней прохладой. Дорога петляла, повторяя затейливые повороты русла горной реки, что шумела и пенилась на перекатах. Вброд мы пересекли ее неглубокие холодные струи. Миновали круто уходящий вверх холм, на котором приютилась березовая роща. Нашим взорам открылось широкое плато, поросшее разнотравьем. На самом краю примостились несколько десятков ульев и небольшой деревянный дом пасечника. На веранде, у самовара, чаевничали двое.
Один, судя по серенькой рясе — монах-пасечник, заторопился к нам навстречу. Был он горбат, мал ростом и хром, но на его загорелом, заросшем седой бороденкой лице сияли чистые голубые глаза. И столько в них было доброты и любви, что я сразу перестал замечать его физическое уродство. Второй — проводник Обезьянов — оказался высоким, худым и мосластым мужиком лет сорока. Он производил впечатление очень сильного и необыкновенно выносливого человека. Монах пригласил нас к столу:
— Здравствуйте, Екатерина Михайловна, и вы, господин офицер, присаживайтесь, отведайте медку свежегонного, горного, с чайком китайским, Серьга вот принес.
Чайная церемония представляла собой смешение русского и кыргизского обычаев. Из круглой пиалы Серьга выливал чай в блюдце, а уже из него, прихлебывал, заедая сотами, истекающими золотистым медом.
Когда мы устроились за столом, он с глумливой улыбкой обратился к Екатерине неприятно высоким, визгливым голосом:
— Тэк-с, тэк-с, значит, все по горам скачете, барышня. Разбойников-то не боитесь?
Екатерина, ничуть не смущенная таким приемом, объяснила цель нашего визита. Серьга надменно ее выслушал и предложил нам выпить, как он выразился, «кальвадосца собственного гону-с». Разлил по стопкам янтарную жидкость.
— Ну, за перевал-с, — сказал он и хитро мне подмигнул.
Яблочный самогон оказался действительно на удивление чистым и ароматным. Закусив, Серьга с ленцой продолжил:
— Далеко ли путь держите-с?
Я рассказал ему о предстоящем маршруте и о том, что в Кашгар нам надо поспеть за неделю.
— Тэк-с, тэк-с, ну, — за перевал-с. — Он налил вторую, и на замечание Екатерины о том, что за перевал вроде бы уже выпили, этот уникум невозмутимо ответствовал: — Тэк ведь, барышня, сколько их, тех перевалов-то, — страшная ужасть.
Выпив, поморщившись и понюхав яблоко, Серьга объявил:
— Сто целковых-с.
Екатерина с азартом вступила в торговлю с негоциантом от дикой природы, обращая внимание на то, что запрошенная сумма — несуразна, так как обычно проводник берет пятнадцать рублей, и это всем хорошо известно. Серьга делал вид, что сильно обижен, тяжело вздыхал и даже пытался выжать слезу из узких хитрющих глаз. Заметив, что его актерство не произвело ожидаемого впечатления, верненский Кожаный чулок принялся туманно рассуждать о том, что много находится желающих считать деньги в его карманах, затем выразился определеннее:
— Эх, барышня, ведь не надобно быть Михайлой Ломоносовым, чтобы уразуметь, что не на пикник в горы собрался господин полковник сотоварищи. А голову свою подставлять задарма — кому ж охота-с?
В результате торговли удалось снизить запросы оборотистого купчины, сторговавшись на пятидесяти рублях. Попрощавшись с приветливым хозяином и Серьгой, мы тронулись в обратный путь. Стремительно, по-южному темнело, воздух был напоен ароматами разнотравья. Вставала над горными пиками огромная желтовато-серебристая луна. Камни, река и деревья, окутанные сумеречным светом, причудливо меняли очертания — мы оказались в ином, нереальном и загадочном мире. Звонко стрекотали цикады. Екатерина таинственно прошептала:
— Я хотела бы показать вам мое любимое место. Давайте заедем, это недалеко.
Мы обогнули холм с другой стороны, и в горном распадке, спускающемся к реке, я увидел водопад. Вода, веками падая с высоты нескольких саженей, проточила в подножии скалы каменную чашу. Образовалось маленькое озеро. Лунная дорожка подрагивала на его глади, а из глубины поднимались на поверхность тысячи мерцающих в этом свете пузырьков воздуха.
На утесе над водопадом росла большая, раскидистая яблоня. Она и окружающие озеро кусты облепихи, усыпанные оранжевыми ягодами, были украшены тонкими полосками ткани. Некоторые еще хранили яркость красок, другие уже выбелило горное солнце.
— Это кыргизский свадебный обычай, — пояснила Екатерина. — Они, когда спускаются с горных пастбищ, всегда здесь останавливаются, и будущие молодожены вяжут ленточки на счастье.
Моя спутница привязала кобылу и грациозно поднялась на утес.
Спустившись, она протянула мне на ладони небольшое бордовое яблоко.
— Дичка, но все яблочки наливные. Может быть, это древо познания, — сказала она серьезно и, как будто бы решившись, откусила половинку яблока, а оставшуюся предложила мне.
Я обнял ее. Сладкий яблочный сок, нежность и теплота полураскрытых губ, волосы, сохранившие аромат разнотравья, закружили меня. Я чувствовал, как бьется ее сердечко моему в такт.
— Пойдем купаться, — сказала она, когда, едва не задохнувшись, мы смогли оторваться друг от друга.
Всю оставшуюся жизнь я буду помнить крупинки белого кварцевого песка на нежной коже и хруст этих крупинок на моих зубах.
Мы молча вернулись в город. Невысказанная грусть и сближала нас, и отталкивала друг от друга. У ее дома мы остановили лошадей. Я пытался объяснить ставшей такой близкой женщине, что не имею права брать на себя никаких обязательств. Сорокалетний ландскнехт — я не знаю, доведется ли вернуться из предстоящего опасного путешествия. И еще я хотел сказать, что никогда прежде не испытывал такой нежности. Она закрыла мне губы прохладной ладошкой.
— Я знаю, — прошептала она.
Пора уходить — в гостинице ожидали мои товарищи и много разных забот перед завтрашним выступлением отряда. Но сердце разрывалось, и я никак не мог тронуть с места притихшего Талисмана. Она погладила мое лицо, как будто кончиками пальцев его запоминая:
— Я буду молиться за тебя всем богам, которых знаю. Если сможешь, пиши мне.
Я целовал соленые от слез губы и не знал — ее это слезы или мои.
— Езжай, — сказала она, порывисто отпрянув, перекрестила меня и легонько хлопнула Талисмана по крупу.
Не оглядываясь более, я шенкелями перевел коня в галоп и придержал его, только когда углубился в переплетение заросших садами улиц. Я нащупал в кармане портсигар, достал папиросу и потянулся за спичками, которые по старой кавалерийской привычке возил в седельной сумке. Справа, в густой зелени, сверкнула вспышка, грохнул выстрел. Я услышал пронзительный свист. Пробитая пулей фуражка слетела с головы и, скатившись в арык, медленно вращаясь, поплыла, увлекаемая водой. Секунду спустя неизвестный стрелок повторил попытку, но боевые навыки спасли меня — за мгновение до этого я поднял Талисмана на дыбы и тем самым уберег от ранения себя и лошадь.
Мой наган звонко затявкал, посылая в темноту пули. Выстрелив несколько раз, я сделал паузу и попытался что-нибудь разглядеть или услышать. В ушах стоял легкий звон, а глаза застилал пороховой дым. Через минуту послышался топот бегущего человека, а затем резкий гортанный окрик и стук лошадиных копыт. В просвете улицы мелькнула фигура всадника, проникший сквозь густые кроны деревьев лунный свет блеснул на стволе карабина и бритом затылке моего противника. Я не пытался его преследовать, спешился и выловил из арыка испорченную выстрелом фуражку. Оставшийся до гостиницы путь прошел без приключений.
В номере ротмистра горела лампа, и я застал его сидящим за столом, заваленным картами. Он, очевидно, пытался хотя бы приблизительно проложить наш маршрут. Дело это почти безнадежное — карты-трехверстки сделаны только для предгорий, нам же предстояло пройти через горные хребты.
У стола, присев на краешек стула, разместился вахмистр нашего отряда унтер-офицер Григорий Малоземов. Этот крепкий по-крестьянски хозяйственный и очень себе на уме мужичок как нельзя более подходит для выполнения обязанностей вахмистра. За три года совместной службы у меня не было повода упрекнуть его — солдаты и лошади всегда накормлены, обмундирование и оружие соблюдались в надлежащей чистоте.
— Ну как же так, Григорий Иванович, как вы могли казенное оборудование променять? — спрашивал ротмистр с напускной строгостью — его глаза искрились весельем.
Меня посвятили в суть дела. Выяснилось, что один из двух комплектов фотографического оборудования, полученных еще в Петербурге на складе Главного управления, наш предприимчивый вахмистр обменял на новенький пулемет Максима и десять цинков патронов к нему. Как Малоземов объяснил, его волновала слабая вооруженность отряда, и он искал способ исправить положение. В Омске подобный случай представился — тамошнему арсенальскому фельдфебелю зачем-то понадобился фотографический аппарат. Состоявшийся обмен к общему удовлетворению отметили в трактире, а чтобы не возникло лишних вопросов, Малоземов упаковал оружие в ящик от фотографической камеры. Так и доехал пулемет до Верного.
Трудно представить новость, которая обрадовала бы меня больше. Я решил не рассказывать подчиненным о ночном покушении.
Небо за окном серело, приближался рассвет, но, хотя отдых перед дальним и сложным переходом необходим, заснуть мне не удалось. Сейчас, когда я дописываю эти строки, уже рассвело, и с минарета старинной мечети муэдзин протяжным распевом призывает мусульман на молитву.
Август 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Перевернув пожелтевшую страницу дневника, Анна увидела вклеенный в тетрадь листок. Плотная и гладкая бумага сохранила свою белизну — наверное, этот лист появился здесь гораздо позже, чем дневниковые записи. Он был заполнен тем же аккуратным и четким почерком.
И было так. В Тивериаду Галилейскую в месяц Зиф, когда цвели все деревья, пришел караван с пряностями и благовониями из далеких восточных пределов персидских и индийских. И пришел с тем караваном Человек, светлый ликом, и сердце каждого, кто видел Его, наполнялось радостью и любовью. Было Ему имя Иисус Назорей. И был там один Фома бесноватый, ходивший за верблюдами в рубище ветхом. И пожалел его Иисус, и наложил на него руки не единожды, и запретил бесам, и вышли они вон. И прилепился Фома к Сыну Человеческому и стал везде за ним следовать. А Иисус отдал ему свое платье, потому что нечем было тому прикрыть наготу его, и учил много. И пришли они в день субботний, и вошли в синагогу, и проповедовал там Сын Человеческий, и учил, и говорил им: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие на земле. И нет главнее для человека заповеди великой Отца Моего Небесного, чем возлюби ближнего своего, как самого себя. Истинно говорю вам: когда все люди станут как братья — при-идет тотчас Царствие Небесное. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы слышали, что сказано в законе Моисеевом: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, ибо если вы будете любить любящих вас — какая вам награда?» И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжник. И исцелял там многих больных и одержимых, и скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности Галилейской. И запрещал Сын Человеческий всем говорить о чудесах сих, но они, выйдя от Него, возглашали и рассказывали, так что Иисус не мог уже явно войти в город. И приходили к Нему отовсюду — из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. А Фома недостойный приступал к Нему и спрашивал многажды: «Кто Ты, о Равви? Откуда Ты пришел?» И говорил ему Сын Человеческий: «Как ты сейчас Мой ученик, так и Я был учеником мудрецов великих в стране Кем и в восточных пределах. И познал многое, и обучился наукам разным и врачеванию, но скорбела душа Моя, так как многие знания были уделом избранных. А простые люди проводили жизни свои во грехе и много горя и печали терпели во все дни. И не ведали того, что, коли поверят и познают любовь, тотчас наступит на земле Царствие Небесное, и всякие печали сменятся радостью великой». И был голос Ему Отца Небесного и покинул Иисус чертог светлый — обитель мудрости, чтобы проповедовать по всей земле, что приблизилось Царствие Небесное. И пришел Он в Галилею, где в селении Назарет были родители Его Мария и Иосиф-плотник, и было Ему от роду тридцать лет. Так говорил Иисус Сын Человеческий, и запретил Он Фоме до срока разглашать о том. Ибо многие тайны будут разглашены здесь.
Анна дочитала до точки и, спрятав тетрадь, открыла дверь, в которую кто-то настойчиво стучал. Несмотря на глубокую ночь, суета в осиротевшем доме продолжалась. На пороге стоял рослый молодой мужчина. Анна подумала, что где-то его уже видела.
Сперва она решила, что это один из финских полицейских, намеренный продолжить допрос, но пришедший что-то начал говорить по-русски, и девушка поняла, что ошиблась. Не было ни сил, ни желания общаться — впервые столкнувшись с безобразной непоправимостью смерти так близко, потрясенная гибелью деда, она замкнулась в себе, старательно отгородившись от всего, что творилось вокруг. Поэтому далеко не сразу поняла, о чем говорит ночной визитер. А он продолжал неловко топтаться на пороге, и Анна наконец узнала одного из рыбацкой троицы, мешавшей ее купаниям, и, хотя видела его сегодняшним утром, ей показалось, что было это очень давно, в другой жизни.
— Извините за вторжение, — смущенно сказал он. — Словами горю не поможешь, но, поверьте, мы искренне вам сочувствуем. Смерть Хейно — большая потеря для нас, как и для всех, кто его знал.
В его речи отчетливо слышался прибалтийский акцент, и, как бы подтверждая это, гость представился:
— Меня зовут Стасис Адомайтис. Мы с друзьями отдыхали на базе вашего… покойного Хейно.
Он все так же стоял в дверях, не решаясь войти, а Анна продолжала упорно молчать — сейчас для нее общепринятые условности не имели значения. Пауза затягивалась. Наконец, видимо, собравшись уходить, он предложил:
— Сегодня ночью мы с друзьями уезжаем в Петербург. Если хотите, могли бы захватить вас.
«Точно, — подумала Анна. — Как же я сама не сообразила — нужно уехать отсюда, как можно скорее. Не могу здесь больше оставаться, мне не выдержать этого ужаса.»
— Спасибо, — искренне поблагодарила она. — И за сочувствие, и за предложение. Если не будут возражать полицейские, я обязательно поеду с вами.
Они вместе спустились на первый этаж.
Полицейские уже закончили осмотр, но покоем в доме и не пахло. Сообщения об очень крупном по финским меркам преступлении передали все уважающие себя СМИ. Получившие от редакций задание «копать дальше» журналисты продолжали находиться в усадьбе. Как раз в этот момент полицейский инспектор Няйменен, руководивший расследованием, собрал во дворе импровизированную пресс-конференцию. Осиротевший вольер, рядом с которым стоял инспектор, ярко осветили телевизионными софитами. Анна вспомнила ласковые карие глаза пса Микеля, и волна горечи вновь захлестнула ее.
Особо пронырливые журналисты, наплевав на запрет и охрану, умудрились пробраться в дом: двое фотокорреспондентов непрерывно щелкали камерами, снимая развороченную гостиную, а в уцелевших креслах вольготно расположилась пестрая компания. Разбитная девица с коротким ежиком волос интенсивно апельсинового цвета, в узеньких джинсовых шортах, высоко открывавших полукружия загорелых ягодиц, интервьюировала колоритную парочку: дальние родственники деда, услышав о трагедии, немедленно заявились в дом на озере. Мужчина с лицом краплачного оттенка и большим животом, выпиравшим из широкого малинового пиджака, — Анна запомнила только, что его зовут Юркки, — отвечал на вопросы, посасывая баночное пиво. Маслянистые глазки плотоядно ощупывали стройные ножки корреспондентки. Рядом с ним пристроилась надутая, как гусыня, безвкусная блондинка, старательно пытавшаяся походить на Мерилин Монро. Глобальная Мерилин приходилась Юркки супругой. Судя по тому, с какой важностью и удовольствием они отвечали на вопросы, настал их звездный час. Время от времени Юркки по-хозяйски похлопывал жену по необъятному заду — та громко и восторженно взвизгивала.
Анна прошла со Стасисом до выхода и, выпустив нового знакомого, захлопнула дверь перед нацеленными на нее микрофонами. Она знала, что такое цеховая солидарность, но сейчас ей не до общения с коллегами. На кухне витал резкий запах валокордина, и вернувшаяся от родственников Васса пыталась хлопотать у плиты — все валилось из рук. Анна обняла ее, погладила вздрагивающие от рыданий плечи и шепнула:
— Тетя Вася, приходи ко мне в комнату — нужно поговорить.
Взяв из бара бутылку водки, Анна увидела вошедшего с улицы Фиделя и знаками показала, чтобы он поднимался наверх. Адвокат устало кивнул. Несколько минут спустя он и Васса с подносом поднялись в «девичью светелку». Фидель, приложив палец к губам и показав на стены и уши, громко сказал:
— Очень душно сегодня. Думаю, небольшая прогулка на свежем воздухе нам всем не повредит.
— Да, нужно подышать, — ответила Анна, правильно истолковав красноречивый жест адвоката.
Белые ночи давно миновали — адвокат включил предусмотрительно взятый фонарик и подсвечивал тропинку, ведущую к причалу.
— Мой приятель инспектор — очень толковый полицейский. Он вполне мог оставить тут хитрую технику, чтобы послушать, о чем мы разговариваем. А во дворе в автомобиле сидят два его парня — кто знает, может, это не просто охрана.
Они дошли до причала и уселись на прохладный деревянный настил. Анна разлила водку в четыре стакана, один прикрыла кусочком хлеба.
— Я не знаю, как это принято делать в Финляндии… Давайте помянем Хейно Раппала по русскому обычаю.
— Пусть земля ему будет пухом, — сказала Васса негромко.
Объединенные потерей, они молча выпили. Водка обожгла горло, перехватило дыхание. От вновь накатившей горечи утраты Анна тихо застонала. Фидель и Васса обняли ее, пытаясь утешить. Сжав кулаки и почувствовав, как ногти впиваются в ладони, Анна ударила по отполированному ветрами и водой дереву. Физическая боль помогла ей прийти в себя. Как в детстве, она слизала с ободранных костяшек кровь и почти спокойно сказала:
— Я хочу сегодня уехать. Русские рыбаки с базы возвращаются в Питер и берут меня с собой. Я могу это сделать, дядя Мойша?
Адвокат, глядя на эту русскую девочку с восточным разрезом глаз, подумал о том, что она достойная внучка своего героического деда.
— Да, так будет лучше. Если бы мой приятель-инспектор знал, что ты — главная наследница Хейно, он бы вряд ли тебя отпустил. Сегодня мне удалось скрыть условия завещания. Но завтра к нашим гостям, — он кивнул на ярко освещенный дом, — присоединятся другие, столь же дальние и равнодушные родственники, и потребуют огласить волю покойного. Дед оставил тебе усадьбу, базу и кое-какие финансовые активы — в сумме это составляет более двух миллионов евро. Когда это станет известно всем, ты уже будешь дома в России. И это хорошо.
Новость была для Анны неожиданной — она растерянно молчала. Адвокат продолжил:
— Твой дед — национальный герой Финляндии. Поэтому дату и место его погребения определит государственная комиссия. Как только что-либо прояснится, я обязательно тебе сообщу. Но думаю, разумнее сюда пока не приезжать — полиция считает, что существует организатор преступления, и я в этом с ней полностью согласен. Сомневаюсь, что его удастся быстро найти.
Он помолчал и тихо добавил:
— Светлой душе Хейно гораздо важнее, чтобы ты была в безопасности, а не твое участие в похоронной церемонии. Ты уж поверь мне, я хорошо знал старину Раппала.
Наспех уложив вещи, Анна зашла напоследок в кабинет деда и сняла со стены его военную фотографию. Осиротевшего рыжего кота Карла она поручила заботам Вассы. Расцеловав старушку, которая вновь принялась плакать, она вышла из дома, где на первом этаже громко храпели дальние родственники и воняло пивным перегаром.
Неподалеку ожидал джип Стасиса. На прицепе разместилась накрытая чехлом лодка. Анна забралась на предупредительно оставленное для нее переднее сиденье, застегнула ремень безопасности, извинилась и закрыла глаза.
Попутчики оказались тактичными и не донимали разговорами. А она, укрывшись за стеной молчания, вновь и вновь переживала этот ужасный день. Но кроме документально точно зафиксированных зрительной памятью кровавых слайдов убийства перед мысленным взором неясно, пропадая в дымке времени оттенка сепии, появлялись пыльная Торговая улица Верного, где неторопливо проезжали, касаясь друг друга стременами, мужчина и женщина, и загадочные строки, повествующие о незнакомой земной жизни Иисуса Христа. И Анна все отчетливее понимала, что убийство деда и его последняя просьба кардинально изменили ее жизнь.
Август 200… г., Санкт-Петербург
На набережной тихой петербургской речки, в глубине небольшого сквера, спряталось четырехэтажное здание бывшей школы. Впрочем, ученики в ней обитали в уже далекие советские времена: сейчас здесь размещалась петербургская дирекция телевизионной компании «Федерация».
Летним вечером, когда непривычная для Петербурга жара уже спала, а солнце давно отправилось в свой повседневный путь на запад, чтобы утонуть в грязно-серой мути волн Финского залива, в телекомпании потихоньку затухала дневная, активная жизнь.
Служба новостей занимала третий этаж: здесь располагались студия, эфирная аппаратная, монтажные посты. В двух помещениях (одном совсем крошечном, другом — чуть побольше), заставленных столами с компьютерными мониторами, трудились пятьдесят журналистов и редакторов. Работать в маленькой комнате считалось более престижным — мощности кондиционера хватало, чтобы справиться с небольшим объемом воздуха. Во второй «клетушке», всегда стояла духота. Только что закончился последний на сегодня выпуск «Новостей Петербурга», и сотрудники устремились к долгожданной вечерней свободе.
В маленькой редакционной комнате с азартом резалась в сетевую «стрелялку» группа юношей. В рабочее время компьютерные игры карались финансовым штрафом. Телевизионные новости — занятие для молодых, — большинству корреспондентов и операторов нет и тридцати.
В курилке на лестничной площадке все разговоры, так или иначе, касались отпусков. Или — ура! — предстоящих, или — увы — прошедших. Многие неоригинально стремились за рубеж. Вернувшиеся демонстрировали пачки глянцевых, отщелканных мыльницами фотографий, рассказывая об отелях и пляжах, кафе и магазинах и обо всем том, что принято описывать. Впрочем, новостийные уникумы и здесь проявляли себя нетривиально. Саша Митенькин — нескладный очкарик с мальчишескими вихрами, певец бомжей и большой умелец разговорить людей в кадре, только что вернувшийся из поездки в Болгарию, рассказывал, как они с женой и маленьким сыном прекрасно провели время, разбив палатку на берегу Черного моря, вдали от курортных пляжей. Выбор был продиктован, конечно, малыми доходами, но Митенькина устраивала не только экономическая сторона вопроса, но и демократичность такой формы отдыха.
Руководителя службы информации, высокого, худощавого, всегда «как денди лондонский» одетого Никиту Шаховцева поджидала и успешно перехватила Наталья Бубенцова — «вечный стажер», как ее называли везде, где она работала. Широким плечом пловчихи она прижала начальника к стене и потребовала поговорить с ней по очень важному личному вопросу. Не любивший открытых конфликтов Шаховцев взглянул на девушку сверху вниз, характерно изогнув бровь над золотистой паутинкой оправы модных очков, вздохнул и пригласил Бубенцову в свой кабинет.
Наталья обладала чрезвычайным упорством, которое, к сожалению, не могло скрасить ее столь же абсолютную бездарность. Свои сюжеты журналистка писала корявым языком милицейского протокола, и редакторы, если не одолевала лень, переписывали их от первого до последнего слова. Бедолага никак не могла уразуметь, что профессия ей противопоказана — в своих неудачах девушка винила евреев, «затирающих» русскую журналистку.
С глупым смущенным хихиканьем она в очередной раз вскрывала «еврейский заговор» перед устало внемлющим Шаховцевым. Закончила обличительную речь Бубенцова весьма неожиданно:
— Вот вы, Никита Александрович, в штат меня не берете, а у меня, между прочим, бабушка-блокадница.
Опешивший шеф не сразу нашелся с ответом. Он покачал красивой головой с ранней и очень ухоженной лысиной. Отраженный свет настольной лампы блестящим шариком скользнул вниз по загорелой коже и холодно сверкнул в линзах очков. Развернув кресло, — Бубенцова уловила тонкий аромат дорогой туалетной воды, — он в который раз терпеливо объяснил девушке, что свободных единиц в штате нет, а бабушка-блокадница, впрочем, как и евреи, абсолютно ни при чем — нужно учиться писать нормальным русским языком. Шеф закончил разговор с Бубенцовой уже в коридоре своей коронной кокетливой фразой:
— О господи, и за что мне это все?
И пощекотал соблазнительную полоску нежной девичьей кожи между топиком и джинсами. Обладательница прелестей, дежурный редактор Дашенька Полева, ворковавшая в трубку мобильного телефона, взвизгнула и укоризненно заныла:
— Ну, Никита Александрович…
Плотоядно усмехнувшись, повеселевший начальник «Новостей» отправился утверждать расписание завтрашних выездов на съемки. Оказывать сотрудницам слегка фривольные знаки внимания он считал своим долгом — вроде обязанностей старшего петуха в курятнике.
У доски с маркером в руках трудилась полная брюнетка — ответственный редактор Инна Маркина. Аккуратно, под номерами, она выписывала планирующиеся выезды на съемки. Слева — название события и время, справа — фамилии журналиста и оператора. Концы с концами у Маркиной явно не сходились — съемок, несмотря на летнее затишье политической городской жизни, планировалось много, а отправлять на них некого. Сказывался сезон отпусков. Шаховцев принялся искать выход из безвыходного положения. Отменить что-либо нельзя — показывать и так нечего, а если еще отказаться от выставки в Михайловском манеже и не поехать в Волховский район с областным губернатором Стрельцовым, то и вовсе — труба. Наконец, после пятнадцати минут перестановок, в расписание попало все, кроме очередного оперного спектакля Мариинки в Выборгском замке. Оператора с трудом нашли, а свободных корреспондентов не было — и все тут.
Шаховцев принес график отпусков:
— Ну-ка посмотрим, кто у нас не хочет участвовать в трудовой жизни коллектива. Вот, например, госпожа Троицкая отдыхает в Финляндии. Отпрашивалась на неделю, пора уже приступить к работе. Как раз поедет через Выборг и встретится там с оператором. Инна, позвоните Троицкой, порадуйте ее. Так, кто у нас еще может принести пользу родной компании? Ага, вот господин Полуверцев уже две недели ловит рыбу на заливе. Кстати, тоже недалеко от Выборга. И ему пора возвращаться — давно не радовал зрителей сюжетами о суровых рыбацких буднях. Если Троицкой не дозвонитесь, — используйте Полуверцева.
Расписание сверстали. Как ни просила Бубенцова поставить ее на съемки любого сюжета, ее традиционно оставили в дежурной бригаде — журналист и оператор, в течение дня исполняющие роль «прислуги за все».
В открытые окна ворвался рев мотоциклетного двигателя — это уехал домой корреспондент Жемчугов. Как-то он родил безумную идею: приобрести мотоцикл и маленькую цифровую видеокамеру, чтобы выезжать на съемки ЧП, легко преодолевая автомобильные пробки в перегруженном транспортом питерском центре. Идея руководству понравилась. Купили мотоцикл ИЖ, расписали его логотипами телерадиокомпании и посадили на него Жемчугова. Оперативности это не прибавило, зато у «Новостей» появилась своя фишка, а у Жемчугова — индивидуальное транспортное средство.
Маркина обзванивала корреспондентов и операторов, сообщая им, что, где и когда они снимают. Ни Троицкой, ни Полуверцеву дозвониться не удалось. В опустевшей редакции осталась только парочка упорных геймеров да дежурная бригада, с жаром обсуждавшая, куда поехать ночью купаться.
Август 200… г., пограничный пункт Торфяновка
Вереница машин у пограничного пункта Торфяновка почти не двигалась. Как будто кто-то нажал на «паузу», и картинка замерла. Звонок телефона несколько оживил бесконечное ожидание — в трубке торжествующе забулькал голос Маркиной:
— Анна, по распоряжению Шаховцева ты сегодня едешь снимать Мариинский в Выборге… — Инна сделала паузу, ожидая возможных возражений, — Там в замке будет «Борис Годунов» — начало в семь. Оператором у тебя Дима Воскобойников. Подъедет часам к шести. Делаешь сюжет на завтра. А ты вообще где сейчас находишься?..
— Я на границе, — коротко ответила Анна.
— Значит, успеешь. С тебя — сюжет, — Маркина отключилась.
Анна вышла из машины и, заметив у обочины курящего Стасиса, попросила сигарету. Курила она редко, в исключительных случаях. Случай именно такой — в Выборг они собирались съездить с дедом.
Стасис достал из кармана рыбацкого жилета синюю плоскую пачку:
— Это «Житан», сигарный табак. Наверное, они слишком крепкие. Сейчас возьму у Доктора полегче.
— Не стоит его будить. Крепкие — то, что нужно.
Сзади раздалось покашливание. Анна вздрогнула и резко обернулась. Ей смущенно улыбался слегка сутулившийся длинноволосый блондин с пышными усами цвета пшеницы. Глаза надежно прятались за дымчатыми фотохромными линзами в модной оправе.
— Извините, — произнес он по-русски. — Я не думал вас напугать. Я хотел принести свои соболезнования — очень жаль Хейно Раппала. Вы ведь его внучка? — Он вопросительно смотрел на Анну. Прибалтийский акцент явно слышался в его правильной речи. — Я ловил рыбу на Сайме у вашего деда. И был там, когда произошло несчастье. Меня зовут Карлос Свенсон. Я из Швеции, журналист.
Анна выбросила окурок и досадливо поморщилась, пытаясь придумать, как вежливее избежать вопросов коллеги. Швед, заметивший ее реакцию, поспешил объяснить:
— О нет-нет, не беспокойтесь, я не буду просить у вас интервью. Я еду в Петербург, чтобы работать волонтером на ТВ и потом написать об этом — может быть, книгу? — да, так.
Анне стало немного неловко перед этим шведским журналистом с испанским именем. Она вежливо сказала:
— Спасибо вам за сочувствие. Меня зовут Анна Троицкая. Я ваша коллега — работаю на телевидении.
Стасис коротко представился:
— Стасис Адомайтис.
Мужчины пожали друг другу руки, и швед снова повернулся к Анне:
— Вы работаете в Петербурге? — И после ее утвердительного кивка поинтересовался: — А меня возьмут волонтером на ваш канал?
Анна представила себе, как этот шведский дядька в демократичных джинсах и дорогой оправе будет ездить со съемочной бригадой «Новостей» по питерским коммуналкам и слушать жалобы несчастных жильцов на обвалившийся потолок, замерзшие батареи или засорившуюся канализацию, и невольно усмехнулась. Но тут же одернула себя и старательно объяснила шведу, что она лишь простой корреспондент и поэтому никаких решений не принимает, но может пригласить его на свои репортажные выезды. Сегодня она будет снимать спектакль Мариинского театра в Выборгском замке и если господин Свенсон хочет, то он может присоединиться.
Очередь из машин слегка продвинулась, кто-то из водителей сзади принялся нетерпеливо сигналить. Стасис направился к джипу, и Анна, попрощавшись со шведом, поспешила за ним.
— Мне придется остаться в Выборге, — сказала она, усаживаясь.
Стасис завел двигатель и сосредоточенно посмотрел на девушку:
— Я обещал отвезти Профессора к его друзьям в деревню Медянка — это в двадцати километрах от Выборга. Может, вы поедете с нами? А потом я довезу вас до замка или куда скажете.
«Почему бы нет? — подумала Анна. — Вместо того чтобы до вечера болтаться по Выборгу…» На заднем сиденье посапывали спящие рыбаки, ей было уютно в этой большой машине и не хотелось оставаться одной.
— Спасибо, с удовольствием, — ответила она, и в этот момент джип остановился в досмотровой зоне таможенного перехода. С запозданием Анна сообразила, что у пограничников могут возникнуть вопросы о дневнике и письмах Маннергейма.
На ее счастье, финский таможенник не обратил внимания на салон, зато с пристрастием обследовал лодку, заставил снять с нее тент и даже вызвал кинолога со специально обученным спаниелем — собака искала взрывчатку или наркотики. Заспанные Профессор и Доктор, выползшие из джипа, с сарказмом наблюдали за стараниями невозмутимых финнов.
— Да, — говорил Профессор задушевно, — вот придет весна, тогда и узнаем, кто где гадил.
А Доктор, стараясь быть дословным, переводил эту сентенцию на английский язык, чтобы было понятно всем. Таможенники не остались в долгу и потребовали выгрузить из лодки весь рыбацкий скарб. Пришлось Профессору лезть внутрь и подавать Доктору чехлы и ящики со снастями. А Анна тем временем разглядывала лодку. Эта вполне утилитарная посудина была очень красива. Плавные обводы светло-серого пластикового киля и баллоны из серебристого материала придавали ей космический облик. Лодка называлась «Капитан».
— Нравится? — спросил Доктор.
Анна кивнула и погладила тугой баллон. Оказалось, что лодку спроектировал Стасис. Это последняя модель, и возили ее в Финляндию на ходовые испытания. Делают лодки в Литве, на принадлежащем Стасису небольшом предприятии.
Тут из-за борта выглянул торжествующий Профессор и продемонстрировал Доктору и Анне найденную в рундуке бутылку «Джонни Уокер». Находка примирила рыбаков с неприглядной пограничной действительностью, и они терпеливо дождались момента, когда им разрешили пересечь границу.
На российской территории все было проще. Сделавшийся очень важным Профессор отозвал таможенника в сторону и предъявил удостоверение Союза ветеранов правоохранительных органов. Видимо, поэтому досматривали их формально — бегло осмотрели лишь салон автомобиля. Доктор предположил, что у таможенников международное разделение труда: финны осматривают только прицепы, а русские — только салоны. Найденная бутылка виски постепенно пустела, и всю дорогу до Медянки друзья-рыбаки пытались развеселить Анну. Как ни странно, у них это получалось.
Сентябрь 1906 г. — июнь 1907 г., Кульджа, Китай
…Гостеприимный город Верный покидали мы ранним утром. Нам предстоял переход по Джаркентскому тракту и далее — подъем по руслу реки Или к приграничной горной заставе Кольджат. Губернатор любезно обещал сообщить при помощи гелиографа в гарнизоны о нашем марше. Телеграфное сообщение существует пока лишь с Ташкентом, а посты и гарнизоны в городках связаны системой гелиографических станций, расположенных в пятидесяти верстах друг от друга. Гелиограф представляет из себя треногу, на которой укреплено большое круглое вогнутое зеркало. Используя солнечный свет, присутствующий в этих краях в изобилии, а также телеграфный ключ Морзе, гелиографисты такими вот большими «солнечными зайчиками» сообщаются друг с другом и передают необходимые сведения.
Вопреки беспокойствам, Серьга явился вовремя, и, быстро завершив сборы, отряд в утренней прохладе двинулся по пустынной в столь ранний час Торговой улице в далекий поход.
Первая часть нашего пути пролегла по песчаной равнине, покрытой круглыми кустами верблюжьей колючки. Изредка встречался раскидистый, с кривыми стволами, саксаул. Сопровождающий нас конвой казаков непременно останавливался и собирал иссушенные до каменной твердости ветки: в горах топлива взять негде.
Переправились через полноводную и мутную Или на пароме: два кыргиза-паромщика в грязно-белых штанах, стоя по пояс в желтой воде, отпихивали его от берега. Казаки помогали им тянуть канат, потому что ветхий паром не мог совладать с довольно сильным течением. На другом берегу нас встретило искрошенное каменное русло. Следуя по дну высохшей реки, мы двинулись в направлении горной цепи, казавшейся нам достаточно близкой. Но только к исходу дня достигли предгорий. Пустынная равнина сменилась нагромождением каменных глыб, когда-то обрушенных на землю неподвластной человеческому разуму силой. Широкое галечное русло из раскрошившегося темно-красного гранита постепенно сузилось и превратилось в горную тропу, замысловато петлявшую и тянувшуюся вверх — к первому перевалу, который предстояло преодолеть.
Тропинка была хоженой — ее скаты усыпаны коричневыми горошинами бараньего помета. Уже при свете необыкновенно крупных и ярких звезд одолел отряд этот первый перевал на длинном пути. Я скомандовал ночевку — люди и лошади нуждались в отдыхе, хотя Серьга предлагал «быстренько добечь» до поста, где служили его знакомцы. По словам Серьги, «не боле тридцати верст». Опустившаяся ночь принесла с собой холод: пришлось развернуть шинельные скатки. Мне не спалось — тихонько поскуливала в душе тоска разлуки с прекрасной Екатериной, а удивительная атмосфера горной ночи способствовала романтическим размышлениям.
Проснулся я на рассвете от того, что разминающий затекшие члены ротмистр дрожащим от утреннего холода голосом напевал:
— Ах, зачем эта ночь так была холодна…
Быстро покончив со сборами, мы продолжили путь. Постепенно отряд втянулся в горную долину реки Кольджат. Нахоженная кыргизскими стадами и табунами довольно широкая тропа петляла по ущельям, кое-где повторяя причудливые изгибы русла, а где-то — отдаляясь от него, чтобы обогнуть очередную скалу.
Навстречу нам спускалась огромная отара, оглашая окрестности многоголосым блеянием. Впереди важно шествовал крупный черный козел с красивыми витыми рогами. Несколько лохматых пастушьих собак местной породы с отрубленными хвостами, устало вывалив розовые языки, трусили по сторонам и время от времени грозно рыкали, а иногда и кусали особо ретивых баранов, норовивших отбиться от стада.
За отарой следовали верхом пастухи, среди них — две девушки в красных юбках. Жакеты их тоже поражали яркостью красок: изумрудной зеленью и бирюзой. Поравнявшись с нами, они кокетливо посмотрели на улыбавшегося им ротмистра и, пересмеиваясь, зашептались. Серьга подъехал к старшему — дочерна загорелому кыргизу с длинной жиденькой бородкой, одетому в малахай, украшенный великолепным хвостом лисицы. Вернувшись, наш «Соколиный глаз» пристроился ко мне стремя в стремя и поведал, что это — одна из отар бая Алтынбека. Идут они из Китая с летовки и говорят, что выше в горах уже выпал первый снег. Поэтому необходимо поторапливаться — если начнутся метели, идти будет тяжело.
— А еще, ваше высокоблагородие, кыргизы видали снежных барсов — ирбис называется. Один у них двух баранов уволок-с. Нужно в оба смотреть — зверюги страшные-с. Эх-ма, времечка нету, а так — спымать бы эту кису. Мне в прошлом годе их благородие директор зверинца из самого Петербурга за ирбиса обещались десять тысяч рублев-с.
Сумма, названная Серьгой, меня поразила — за эти деньги можно сторговать трех чистокровных английских скакунов. Очевидно, ирбис — животное действительно редкое.
За разговором мы одолели новый подъем, и я придержал Талисмана. Передо мной открылся незнакомый и пленительный мир. На юг, запад и восток от нас простиралась необъятная горная страна. Серые — гранитные, лиловые — порфировые и черные — базальтовые скалы повсюду вздымали свои вершины — будто бушующее каменное море с гигантскими волнами горных пиков над темными складками ущелий. На западе огненный шар солнца примеривался нырнуть за горную гряду, а прямо перед нами отражала пурпурный закатный свет ледяная глыба — остальные вершины, в сравнении с этой громадой, смотрелись ничтожными. Пик вырастал из клубящихся у его подножия облаков и, казалось, гордо парил над ними.
Хан-Тенгри — подножие божьего трона, так называли его китайцы — величественностью, огромностью и торжественным безмолвием подтверждал свое небесное происхождение. И верилось в то, что прямо над ним в лазоревой выси покоится трон Всемогущего.
Потрясенные открывшейся нашим глазам картиной, мы молчали. Даже Серьга, всю жизнь проведший в этих горах, перекрестился и уважительно произнес:
— Хан-Тенгри сердится — вишь, как заметает, — и пояснил, что облака у подножия — это суровый снежный буран. — Однако пора уже трогаться, потому — гора, она гора и есть, никуда не денется, а нам до темноты беспременно успеть надо добечь до Кольджатского поста. Не под снегом же ночевать — нынче ночью непременно выпадет-с.
Без приключений, уже при неверном мерцающем свете звезд добрались мы до возвышавшегося над тропой огорода из валунов. Деревянные ворота маленького укрепления украшал развевающийся линялый российский триколор. Пастушья собака Жулька звонким лаем приветствовала наш отряд. Чисто выметенный плац окружали небольшие саманные постройки — казарма, коновязь и сарай. Лишь дом коменданта выстроен из кирпича. На плацу вкопаны столбы для рубки лозы и самодельные гимнастические снаряды.
На террасе, освещенной тусклым светом керосиновой лампы, у самовара расположилась странная компания. В плетеном лонг-шезе полулежала закутанная во что-то переливчато-черное дама с бледным лицом. Я узнал небезызвестную баронессу Г., о которой в аристократических кругах Петербурга ходило немало слухов.
Мужчина лет тридцати в пробковом шлеме был мне незнаком. Его нездоровая полнота подчеркивалась тропической униформой английского колониального корпуса.
Третий — молодой казачий хорунжий — поднялся нам навстречу.
— Начальник Кольджатского поста хорунжий Поливанов, — представился он и открыто улыбнулся. — Добро пожаловать, господа, на самый краешек Российской империи.
Он пригласил нас в дом и, извинившись за тесноту, проводил в беленную известью, скудно обставленную комнату. Ее украшала огромная, во всю стену, шкура тигра, очевидно — трофей хозяина. Поливанов подтвердил мою догадку:
— В прошлом году в балхашских тростниках лично застрелил красавца. Располагайтесь, пожалуйста, и прошу пожаловать к чаю.
Когда мы с ротмистром, сменив пыльные мундиры, появились на террасе, Серьга уже составил компанию в распитии бутылки рома своему, как он объяснил, «старинному другу Савве». Нас представили друг другу — расфранченный путешественник оказался наследником миллионов знаменитой семьи московских фабрикантов М.
Прерванный разговор возобновился — фабрикант продолжил рассказ о том, как он помогает российским революционерам:
— Писатель Лешка Пешков, ну этот, который Максим Горький, — давай, говорит, Савва, на Капри школу для рабочих устроим. Дал ему денег на школу. Другой, Ульянов, потомственный дворянин из Симбирска, — маленький, лысенький, картавый, но с амбицией, — пролетарскую газету, говорит, нужно издавать за границей. Дал денег на газету. А что же, как не дашь — все замечательные, душевные ребята. Не жалей, говорят, Савва, денег — все равно скоро все общее будет. Кто был ничем, тот станет всем.
— Как это? — Опешивший Серьга даже не донес до рта очередную рюмку. — Как это «общее»? Это что же, допустим, моя лошадь — общая будет? И дом мой? Может, еще и бабой моей общество пользоваться станет?
— В самый корень зришь, друг мой Серьга. Так господа социал-демократы и постановили: разрушение семьи, частной собственности и государства, всеобщая и полная свобода.
— Не-ет, на-кася, выкуси. — Серьга не на шутку разозлился. — Ишь, чего удумали, оглоеды. А из каковских будут они, эти твои… сосал-дураты, — он намеренно переврал название политической партии российских революционеров, — не иначе — голытьба ленивая?
— Да нет, брат, образованные все люди — дворяне, интеллигенция…
— Дорогой, как это чудовищно скучно! — перебила Савву баронесса, томно курившая маленькие сигарки и время от времени бросавшая на нас откровенные взгляды. — Quelle terrible, эта твоя социал-демократия — сплошной материализм, никакого полета фантазии. Господа, — обратилась она к нам, — давайте покинем этих ужасных, грубых людей. Я непременно хочу поведать вам о случившихся со мной в Индии чудесных мистических озарениях.
Отказаться было бы невежливо, и я с сожалением покинул уютную террасу и последовал за ротмистром и баронессой, которая привела нас в полутемную комнату, пропитанную экзотическим и душным ароматом индийских благовоний. Комната освещалась десятком небольших свечей, столь же успешно наполнявших пространство духотой и запахами.
— Прошу вас, господа. — Баронесса указала на пуфы рядом с тахтой, которая, судя по всему, не принадлежала к скромной, казенной меблировке Кольджатского поста. Баронесса прилегла на тахту, и ее наряд, напоминавший сари, подчеркнул изгибы роскошного, зрелого тела. Она несколько раз затянулась из узорчатого мундштука курившегося кальяна. По комнате поплыл сизый дымок, а баронесса, откинувшись на подушки тахты, низким томным голосом предложила: — Не желаете ли, господа, составить мне компанию в маленьком путешествии в райские кущи?
Мы вежливо поблагодарили ее и отказались. Она заговорила о мистическом — астральном теле и эгрегоре, упоминала книги г-жи Блаватской и наставления буддийских лам, рассказывала об обретенной в путешествии по Индии небесной энергии, о чакрах и Шамбале. Время от времени она затягивалась, и речь ее становилась все бессвязнее. Вглядевшись, я заметил, что зрачки ее глаз сузились — так проявляет себя опийное опьянение.
Очевидно, устав от мистического, баронесса переменила тему и призвала нас задуматься о превосходстве подлинно естественной жизни. Извиваясь всем телом, словно змея, она выскользнула из смятого шелка и раскинулась на тахте — совершенно обнаженная.
— Будьте естественны, господа, — почти молила она нас с ротмистром, покусывая губы. — Идите ко мне, овладейте мною, сильно и грубо, как настоящие дикие воины.
Неожиданно появился наследник фабричной империи. Пошатываясь, он протиснулся в комнату и, не обратив ровно никакого внимания на извивающуюся на тахте свою обнаженную спутницу, извлек из дорожного сундука две бутылки рома. Все так же покачиваясь, удалился. Очевидно, подобные сцены были для него привычными.
Воспользовавшись возникшей паузой, я пробормотал извинения и выскользнул из комнаты вслед за ним. Ротмистр, заговорщицки подмигнув, затворил за мной дверь.
На террасе, одинокий и немного смущенный, меня встретил Поливанов.
— Опять прогулки в райские кущи? — сочувственно спросил он. — Уже три дня здесь, и каждую ночь — одно и то же. Сейчас вот на вас переключилась. Прямо-таки Клеопатра какая-то, а не женщина, — добавил он сконфуженно.
Я достал портсигар и предложил ему угощаться папиросами. Мы закурили. Внизу, невидимая, монотонно шумела Кольджатка, привычно совершая свой бесконечный ток в каменном ложе. Вверху серебрился мириадами крупных звезд небосвод. С угадываемых в темноте горных вершин тянуло холодом. Поливанов поежился.
— Утром снег выпадет, — сказал он, — но еще не стойкий, к полудню весь стает. Тропа промокнет — лошадям будет сложнее.
Мы помолчали.
— Я знаете, хотел у вас спросить, — нерешительно, словно сомневаясь, стоит ли, начал он. — Как вы думаете, зачем человек рождается на земле? Ведь должно существовать какое-то высшее предназначение, а не только каждодневные будничные дела? Нет, я понимаю — главное, конечно, служба Государю и Отечеству. Так и казакам своим говорю. Случаются у нас тут иногда разговоры, особенно зимою, когда, кажется, что в целом свете только и есть, что этот пост. Или вот еще: а что такое счастье? Читал, будто счастье — следовать своим, предназначенным тебе путем. Но как его найти и не совершить ошибку?
Меня поразил его вопрос. Казалось бы, здесь, в забытой Богом и людьми глуши, молодого офицера должны волновать другие заботы. Но он был настолько серьезен, что я счел своим долгом ответить ему со всей откровенностью. Я сказал, что, не являясь человеком, хоть немного сведущим в современной философии, не берусь рассуждать о смысле бытия, но жизненный опыт говорит о том, что, возможно, мы рождаемся именно для того, чтобы найти свой путь, и далеко не каждому это удается.
Он задумался, покивал, глубоко затянулся.
— Вам не скучно здесь? — спросил я.
— Скучно? — переспросил он, как будто не понимая. — А, вы о том, что где-то есть большие города, наполненные шумной суетой, и не схожу ли я с ума, осознавая свою оторванность от той жизни? Я бывал и в Петербурге, и в Москве, и знаете — здесь мне нравится жить гораздо больше — так уж я устроен. Горы не надоедают — каждый день открываешь что-то новое: и в них, и в себе самом. Здесь думается хорошо. — Он открыто мне улыбнулся. — Да и дело у меня здесь важное — Отечество охранять.
Мы вновь помолчали.
— Послушайте, — обратился я к Поливанову, — извините мое любопытство, но что это за странное строение у вас рядом с коновязью?
Он смутился:
— Вообще-то, конечно, это не положено, но командир бригады Петр Александрович Краснов разрешил… Это курятник. Понимаете, скудные средства выделяют на провиант, и вот, чтобы подкормить казаков, держим кур и цесарок, — и с гордостью в голосе добавил: — У нас даже павлин есть.
Подтверждая его слова, громко прокричал петух, возвещая приближающийся рассвет. Пожелав спокойной ночи гостеприимному хозяину, я отправился спать, со сладкой тоской вспоминая Екатерину. Доведется ли увидеть ее вновь, пересекутся ли когда-нибудь пути — ее и мой, неведомый мне самому?
Поливанов оказался прав: ранним утром я застал двор и крыши поста запорошенными первым нестойким снежком. В начале седьмого часа отряд уже поднимался по узкой горной тропе. Поливанов с казачьим разъездом проводил нас до китайского пограничного поста — четырехугольной башни старинной постройки. Строение оказалось необитаемым — империя богдыханов не очень старательно охраняла свои границы.
Хан-Тенгри располагался на востоке, по левую руку от тропы. Освещенную сзади восходящим солнцем вершину окружал золотистый нимб. Горный великан казался сегодня мудрым и отрешенным — вечный покой хранил подножие божьего трона. От бушевавшей вчера бури остались только таявшие на солнце пятна мокрого снега.
Несколько часов спустя люди и лошади втянулись в размеренное чередование небольших спусков и подъемов. Пребывающего после бурной ночи в меланхолическом настроении ротмистра я определил в арьергард. Двигаясь впереди отряда, бок о бок с Серьгой, я старательно считал шаги своего коня — начались топографические работы.
— Ваше высокоблагородие, — обратился ко мне проводник, — тут вот какое дело… Мне Савва, фабрикант-то этот, вчера сказывал, что они три дня тому назад в этих местах двух ирбисов видели-с. Так, может, мы…
Он не успел закончить фразу. Мой Талисман вдруг всхрапнул, напрягся всем телом и, резко толкнувшись, прыгнул вперед, увлекая за собой лошадь Серьги. От неожиданного рывка я едва удержался в седле. Откуда-то сверху раздался страшный скрежет. Спустя мгновение послышался глухой удар. Земля содрогнулась, сзади на тропе дико ржали лошади…
Август 200… г., Выборг
В 12.40 на пульт дежурного по Выборгскому горотделу милиции поступил сигнал. Неизвестный мужчина, говоривший по-русски с заметным акцентом, сообщил, что заминирован средневековый замок, и указал места закладки гексогена. Анонимный заявитель рассказал, что готовится террористический акт. На обычные ложные сообщения «телефонных террористов» это было не похоже. Дежурного майора Попеню, несмотря на духоту, прошиб холодный пот. «Едрена батон, — тяжело ворочалась в одурманенном бессонницей и алкоголем мозгу единственная мысль, — на хрена ж я сегодня похмелялся, сейчас тут такое начнется!» Собравшись с духом, он доложил о сигнале начальству, те — «смежникам» из ФСБ, и в замок была направлена взрывотехническая группа.
Когда взрывотехники в шурфах под крепостными стенами обнаружили мешки с гексогеном — операция вышла за региональные рамки. В Выборг срочно перебрасывали на вертолетах питерские спецподразделения, из Москвы военным бортом летели крупные чины спецслужб. Все местное милицейское начальство пересело на потрепанные «уазики» — приличные машины уступили приезжим генералам.
Срочно собрали совещание и постановили: шума не поднимать, спектакль не отменять и, оцепив прилегающий район, захватить террористов на подходах к замку. Возбужденные предстоящей успешной операцией и возможными наградами генералы бодро принялись претворять стратегические планы в жизнь. Сообщившего о заминировании обнаружить не удалось — милицейская техника оказалась не способна преодолеть хитрую защиту его телефонного аппарата.
Август 200… г., Выборгский залив
На Выборгском заливе царствовало лето. Уже с самого утра припекало солнце, а не успевшая остыть за ночь вода была теплее утреннего воздуха. Казалось, даже непременный балтийский ветерок разморило, и ему лень дуть на притихшие бухты, с удовольствием притворяющиеся зеркалами, полными отраженного солнечного света.
Близ фарватера, у острова Высоцкий, неторопливо дрейфовала старенькая, салатного цвета лодка ПЭЛА, с двумя рыбаками на борту. Ночная охота на судака оказалось неудачной, и они, позевывая, пытались реабилитироваться, поймав хоть какую-нибудь рыбу. На передней банке со спиннингом в руках расположился полный блондин лет сорока. Выгоревшие на солнце прямые и растрепанные светлые волосы, чуть более темные усы и двухнедельная небритость — редактор петербургских «Новостей» телеканала «Федерация» Николай Полуверцев наслаждался последними днями отпуска, с грустью осознавая его стремительно приближающееся завершение. Только здесь, на берегу залива, в деревне Медянка, где находился рыбацкий дом его замечательного тестя, удавалось Николаю расслабиться и отдохнуть от бесконечно сосущего душу солитера самоуничижения. Небольшая должность, небольшая зарплата, неясные перспективы и много терзаний по этому поводу давали ему достаточно пищи.
Непростая жизнь привела Николая в Петербург из Алма-Аты. Он не бежал от политических потрясений разодранного на местечковые суверенитеты Союза, не стремился за длинным рублем или серьезной карьерой. Так уж вышло, что приключилась во вполне устоявшейся жизни алма-атинского телевизионщика, примерного семьянина, отца десятилетней дочери, большая страсть.
А страсть — это тяжелая болезнь с осложнениями. Она заманила его в город белых ночей, измучила и бросила, спокойно удалившись, постукивая каблучками и изящно покачивая красивыми бедрами. А Полуверцев остался у обочины беспаспортным бродягой, без жилья и работы и, главное, без понимания — зачем он все еще продолжает жить на свете.
Но Питер, который, по пословице, слез не вытер, оказался к нему милостив и подарил встречу со спасительницей, ставшей его надеждой и женой. Шаг за шагом, очень медленно Полуверцев начал приходить в себя, избавляясь от уныния и паралича воли.
Тесть, Владимир Николаевич, в свои шестьдесят с хвостиком сохранивший фигуру атлета, в старенькой дырявой тельняшке, рыбацком жилете и засаленных камуфляжных штанах устроился сзади, рядом с укрепленным на транце небольшим движком. Он принадлежал к тем редким людям, которых любят и уважают все, с кем их сводит судьба. Обаяние, мужественность и доброжелательное внимание к каждому не оставляли равнодушными не только нежные женские сердца, но и огрубевшие мужские. Занимавший в советской партийно-хозяйственной иерархии солидную должность, он в массовом послеперестроечном разворовывании не участвовал — похоже, помешали врожденное достоинство и брезгливость. Сейчас, несмотря на пенсионный возраст, он все еще продолжал трудиться. Рыбалка на протяжении многих лет являлась его отдушиной. Все выходные тесть проводил обычно на заливе и даже построил там специальный рыбацкий дом. Он пытался ловить на бортовую удочку, как всегда старательно и мастеровито делая проводки. Но сегодня явно не их день — рыба не клевала.
— Да, Владимир Николаевич, похоже, согрешили мы с вами — выпили ночью. А ведь до первой рыбки нельзя. Вот она и обиделась, — прервал долгое и вполне уютное для обоих молчание Николай, — Давайте, что ли, продолжим грешное дело — пока водка от жары не закипела.
— А что, собственно, нам может помешать? — ответствовал тесть, — Давай, Колька, — крути!
Водку из металлической фляжки набулькали в крышку от термоса. Из рюкзака извлекли пакет с бутербродами.
— Как говорят поляки, ясновельможные паны должны пичь, паличь и пердоличь, — с импровизированной рюмкой в руке Николаич произнес традиционные слова. — Нужно следовать вековой мудрости. Так что — твое здоровье, Николай Васильевич, и зато, чтобы лето не кончалось.
Он с удовольствием выпил и крякнул. Протянул крышку Николаю.
— Владимир Николаевич, ваше здоровье.
Присказку эту Николай уже слышал, как и перевод единственного непонятного слова «паличь» — по-польски — курить. Закусив, они, следуя польским рекомендациям, дружно закурили. И так стало хорошо и покойно, что даже отсутствие клева не могло нарушить гармонию в их душах. Легким ветерком, покрывшим мелкой рябью залив, лодку плавно влекло в сторону берега. Оставшимся позади фарватером проходил большой белый, очень чистенький финский пароход.
Владимир Николаевич приподнял не подававший признаков жизни спиннинг, пару раз резко взмахнул им, чтобы заглубить вяло тащившийся за лодкой воблер, а затем решительно принялся вращать ручку катушки, сматывая снасть:
— Давай-ка мы с тобой устроим перерыв. Высадимся да разомнем члены, а то уж больно затекли. Как ты на это смотришь, Николай Васильевич? Возражений нет?
Запустив движок, они пошли к ближнему острову Стеклянный. ПЭЛА, как будто соскучившись по движению, резво взяла с места и несколько минут спустя, обогнув желто-зеленую стену тростника, осторожно ткнулась в берег неподалеку от сложенного из отесанных гранитных глыб старого причала. Когда-то на острове жили старательные финны, построившие эту причальную стенку и укрепившие каменным бордюром несколько километров береговой линии.
Николай, натянув высокие рыбацкие сапоги, спрыгнул в воду, втащил длинный нос лодки на берег и сразу закрепил на камнях якорь, чтобы не унесло волной. Прецеденты случались — не раз им с тестем приходилось выручать незадачливых робинзонов, оставшихся на островах без плавсредств.
Подхватив рюкзак с провизией, он поднялся клееной поляне, окруженной старыми соснами. Исполняя обязанности ученика рыбака, Николай, лишь три года назад увлекшийся рыбалкой, занялся приготовлением нехитрого застолья. Разложил на видавшей виды пластиковой скатерти нагретый солнцем черный хлеб, нарезанное тонкими пластинками копченое сало, домашние маринованные огурчики, помидоры и зелень, а также обязательные вареные яйца, которые очень любил Владимир Николаевич. Почетное место заняла металлическая фляга с выдавленной на блестящем боку кабаньей мордой.
Закончив приготовления, позвал к столу Николаича, на правах мастера-наставника совершавшего небольшую прогулку по сосновому бору. Придя на зов, тесть доложил, что грибов как не было, так и нет. Засушливое и жаркое лето не способствовало удачной грибной охоте, которой они любили заниматься во время таких вот коротких привалов.
Уже была выпита первая, закушена копченым сальцем с черным хлебушком и хрустящим домашним маринованным огурчиком, когда из прибрежных зарослей ольхи на поляну выскочил Ваня-моторист. Невысокого роста, худой и жилистый, в кирзовых сапогах с обрезанными голенищами, трикотажных растянутых «трениках» и тельняшке, зимой и летом он не расставался с помятой черной морской фуражкой с кокардой-крабом. В советские времена Ваня был уважаемым человеком в деревне Медянка. Он служил капитаном, а заодно матросом и мотористом небольшого катера, развозившего почту в прибрежные поселки. Ванин катер вот уже десять лет догнивал среди таких же ржавых посудин у заброшенного выборгского причала, а сам безработный Ваня пил горькую и браконьерствовал, как и большинство местных деревенских мужиков.
— Здорово, Николаич. — Ваня подошел к импровизированному столу.
— Присаживайся, Ваня, — предложил тесть, пожав пришедшему руку, и, когда тот примостился с краешку, осведомился: — Не желаете ли выпить, милейший?
— Нет, спасибо, Николаич, я в завязке. Я ж нынче в Высоцком работаю — в порту, докером. А что — ничего! Зарплата — сам посуди, семь «косых», выходные опять же. Так что все, с этим делом завязал.
— Так, может, поешь? Бутерброд вон бери, яйцо.
— Да не, спасибо. Слушай, я тут с утреца сетку свою проверял, смотрю — какие-то два чухонца на большом катере в Зиминской болтаются и рыбу не ловят, точно. А когда к острову, к протоке-то, подошел, гляжу — и там, на конце, какие-то нацмены, человек пять, в лесу хоронятся. А один с большого камня — ну есть там такой — вроде с удочкой, но точно рыбу не ловит, а в бинокль зырит. Не знаешь, случаем, кто такие?
— Нет, Ваня, не знаю. Катер-то мы с Колькой видели. Да здесь полно народу болтается — фарватер-то рядом. Ты, может, чаю выпьешь?
— Ну давай, — Ваня взял протянутую кружку и деликатно вытянул из пакета конфету.
— Как рыба-то, есть? — поинтересовался Николай.
— Да так, херня всякая. Пара щучек да окушков несколько. Жарень, вот они и спят, сучары, — громко прихлебывая горячий чай, пояснил Ваня.
Допив, аккуратно выплеснул остатки в траву и сказал поднимаясь:
— Спасибо за угощение, пойду я. Надо все же глянуть — кто такие на острове болтаются.
Ваня с уважением относился к живой природе и хоть и браконьерствовал помаленьку, но хищничества не одобрял и не раз вразумлял заезжих хапуг. Иногда доходило до драки.
Закончив обед, Полуверцев и В. Н. улеглись на траву, давая отдых затекшим от долгого сидения в лодке поясницам. Медленно выдыхая сигаретный дым, Николай смотрел в выбеленное солнцем небо и ленивомечтательно размышлял: «Ловить бы рыбу, собирать грибы, а в перерывах лежать вот так, в траве, бездумно наблюдая сквозь сосновые ветви за вечным небосводом. И пропади они пропадом эти „Новости“ и все, что с ними связано. Все эти тараканьи бега и мышиная возня, все эти якобы важные для зрителей темы, все эти перевертыши, когда скучная тягомотина выдается за аналитику, а откровенная ангажированность и тенденциозность — за объективное отражение реальной действительности».
Повернув голову, он увидел, как деловитый муравей, старательно взбиравшийся на травинку, бодро побежал по тоненькому и узкому боковому стеблю — тот, не выдержав его веса, согнулся. Муравей повис на краю, дрыгая конечностями, и шлепнулся на землю, но тут же резво перевернулся и поспешил повторить попытку.
Муравьиное упорство, хоть и казалось бессмысленным, вызывало уважение. «Признайся, что как раз этого тебе и недостает, — невесело оценил себя Николай. — Упал — и сразу лапки кверху. Привык быть битым и смирился с этим. А отсюда — ощущение себя человеком второго сорта и прочий мильон терзаний. Господи, ну как же тоскливо, что отпуск кончается».
Почувствовав, что активный муравей ползает теперь по его шее, Николай неуважительно стряхнул непрошеного гостя, поднялся и, пока тесть дремлет, без особой надежды отправился на поиск грибов.
Не углубляясь в лес, пошел вдоль береговой линии, где ольховые заросли сменялись ельником. Прошлым летом, вынужденный из-за сильного шторма пристать к Стеклянному, он обнаружил где-то здесь, неподалеку от каменного бордюра, несколько десятков подосиновиков, полностью забив нарядными грибами немаленький рыболовный садок.
Чуть пройдя в глубину острова, он набрел на небольшую поляну. Посередине из травяных зарослей торчал старый березовый пень, из его мощных корней выросло несколько молодых березок. Подле них, заросшая по краям яркими подушками мха, чернела яма. Николай подошел ближе и обнаружил, что это — сохранившийся финский колодец. Надземная часть уничтожена, видимо, еще в военные годы, но сложенная из тяжелых, тесаных камней обвязка стен сохранилась. Сдвинув носком сапога моховую горку, Николай открыл влажные верхние камни, уложенные в несколько рядов и образующие небольшую круглую площадку — фундамент. Один из камней отличался текстурой. Николай разобрал полустертую временем надпись, аккуратно выбитую, видимо, строителем колодца: «Rappala 1891».
«Забавно, уж не тот ли это Раппала, который основал фирму рыболовных приманок? — подумал Николай. — Тут, судя по причалу, каменной дамбе и остаткам фундамента, существовала немаленькая усадьба». Он вспомнил поразившую его старую, заросшую, но все еще сохранявшую изначальную планировку дубовую аллею. Неведомый садовник когда-то умудрился вырастить на острове молодые дубки — в естественных условиях дубы на побережье не встречались.
«Была у залива разумная жизнь, — не впервые подумал Николай, — финны ловили рыбу, строили из камня причалы и колодцы, из дерева — дома, валили лес, доили коров, а по воскресеньям устраивали танцы под аккордеон. Пришли мы, все разрушили, понастроили халуп и наладили жизнь по-своему. Сначала погранзона да рыбколхозы, потом и вовсе — безработица и браконьерство. Финские старики приезжают к уцелевшим фундаментам бывших хуторов, ставят на камни аккуратные свечки в плошках и тихонько плачут. Потом уезжают в свою благополучную Финляндию. А нам — куда отсюда податься?»
Он поднялся и отряхнул руки от влажной земли — пора возвращаться. Проснувшийся тесть говорил по телефону:
— Кого я слышу, вы как, милейший, — клюет ли рыба в озере Сайма?
Выслушав ответ, он воодушевился:
— Профессор, чертов стул, бросьте этот ваш политес. Мы с Колькой на воде, но раз такое дело, поворачиваем к берегу. Подъезжайте.
Закончив разговор, сказал:
— Профессор едет с друзьями из Финляндии и просится на рыбалку. Надо бы их встретить. Ты как, готов? Ну, тогда что нам мешает — вперед!
Август 200… г., Выборгский залив
Ваня-моторист на своей видавшей виды «Уфимке», травившей воздух так, что приходилось подкачивать баллоны прямо на воде, дошел до большого камня, на котором заприметил чужака. Бородатый нацмен находился на прежнем месте и по-прежнему делал вид, что ловит рыбу. Поплавок лежал на боку.
— Эй, мужик, у тебя клюет! — крикнул ему Ваня.
От неожиданности бородач резко развернулся, удочка упала в воду.
— Чего хочешь? — с кавказским акцентом спросил он и грозно уставился на моториста.
— А ты на меня не зыркай. Ты чего тут делаешь, а? А друганы твои чего по лесу болтаются? Нечего вам тут.
Что говорить дальше, Ваня не знал, но чувствовал, что нужно продемонстрировать характер. Бородач пронзительно свистнул, и на берег вышли двое мужчин в камуфляже. «Рыбак» что-то быстро и гортанно проговорил. Тот, который постарше, среднего роста и светловолосый, широко улыбнулся и поманил Ваню к себе:
— Иди сюда, мужик. Чего орешь — водки хочешь? Иди — водку дам.
«Ни фига себе, — поразился Ваня, — нацмен, а белобрысый, красится, что ли?» Он решительно отверг предложение:
— Да пошел ты со своей водкой! Ты зачем сюда приперся, а? Тебя кто тут звал?
— А ты — трус, боишься к нам идти. Ты — баба, а не мужик. А может, ты пидорас, а?
Ваня завелся всерьез. Несколькими ударами весел он направил лодку к берегу. Выскочил и по колено в воде по скользким камням побежал к обидчику. В качестве аргумента он прихватил маленькое дюралевое весло от своей «резинки».
— А ну повтори, что ты сказал, — грозно надвинулся Ваня на старшего.
— Я сказал, что ты сдох уже. — Вышедший из ольшаника третий, голый по пояс, заросший густой черной шерстью верзила, обхватил сзади Ванино горло локтем, сжал и резко надавил мощным плечом. Хрустнули сломанные шейные позвонки.
Старший хлопнул здоровяка по плечу:
— Не теряешь форму, Ча! — и приказал: — Труп и лодку затопить. Ваха, слезай с камня, пора отправляться. Ча, привези сюда тех двоих, что на катере, — убивать не надо.
Белоснежный катер с широкой синей полосой по борту и финским флагом на корме покачивался на мелкой волне в километре от берега. Высокие обводы стремительного корпуса плавно переходили в огороженную никелированными релингами покатую палубу, скошенная рубка дополнялась высокой надстройкой, где помещался пульт управления двумя стодвадцатисильными двигателями. В роскошно отделанной каюте на широком кожаном диване храпели два брата — Юсси и Юхо. Погодки, они работали на ферме отца неподалеку от Миккели, а в свободное от крестьянских занятий время в обществе приятелей из Фронта освобождения Восточной Карелии наливались пивом в баре «Маршал». Или, нацепив на рукава повязки с голубой свастикой-хакаристи, во главе с вожаком Яри Пасаненном маршировали по ратушной площади, громко распевая старые военные песни. Пару месяцев назад, преисполненный важности Яри сообщил им, что, наконец, появилось настоящее дело — теперь они покажут, на что способен их фронт и напомнят русским свиньям Зимнюю войну. Отпросившись у отца на неделю, братья отправились в Выборг. Неподалеку от города в заброшенном доме лесника они пересыпали кем-то завезенный в мешках из-под сахара гексоген в нарядные пластиковые пакеты и под видом финского цемента отвозили в замок на своем маленьком грузовичке. Там несколько парней Фронта освобождения старательно изображали из себя волонтеров, явившихся, чтобы безвозмездно принять участие в реставрации старой цитадели. Они рыли шурфы по сделанной кем-то схеме и укладывали туда привезенную братьями взрывчатку. Ну и потешались же они над этими безмозглыми курицами — культурными выборгскими дамами, сотрудницами музея, которые в них души не чаяли.
Между братьями, разметавшись во сне, посапывала обнаженная девица. Юсси и Юхо, отправляясь накануне, как им было приказано, на встречу с группой Арсена, прихватили ее с собой.
Назвавшаяся Галей яркая брюнетка с сочными губами и тяжелой грудью встретилась финнам в Выборге на Рыночной площади. Приехавшая в Россию на заработки из полтавской глубинки, она торговала с лотка китайским тряпьем, и прирабатывала древнейшим промыслом. Быстро сговорившись и закупив спиртное, троица отправилась на причал. На роскошном катере, пригнанном из Финляндии, сопровождая все навигатские упражнения возлияниями, вышли в Выборгский залив. Порезвившись и чуть не протаранив на фарватере сухогруз под панамским флагом, с борта которого изрядно нетрезвых мореходов через громкоговоритель обложили отборнейшим русским матом, троица завершила морскую прогулку и бросила якорь в небольшой бухте.
Отдельные «дринки» переросли в буйную пьянку, сопровождавшуюся любовными утехами. Галя «делала любовь», как она это называла, с неподдельным усердием и уездила своих финских партнеров основательно. Утром Юсси и Юхо должны были отправиться на остров Стеклянный и перевезти группу Арсена в Выборг, к Замковому мосту. Но после разгульной ночи финны беспробудно дрыхли, давно пропустив назначенное время.
Добравшийся вплавь до катера Ча — так по-чеченски называют медведей — поднялся по кормовому кринолину и заглянул в каюту. Его явно увлекла открывшаяся картина. Арсен приказал доставить финнов, — о девке речи не было. Надо что-то придумать, но думать не получалось — мешали обильные Галины прелести. А тут еще она заворочалась и бесстыдно распахнула полные бедра. В глазах поплыл туман и, сдавленно зарычав, Ча ворвался в каюту. Он схватил храпевшего Юсси и отшвырнул его так, что тот, врезавшись в дубовую панель обшивки, отключился, еще не успев толком проснуться. Сдернув штаны, чеченец навалился на взвизгнувшую от испуга девицу. У стены заворочался и попытался продрать глаза Юхо, но, получив страшный удар в лицо, сломавший ему переносицу, захрипел и затих. Некоторое время в каюте слышались лишь скрип дивана и рычание Ча. Вскоре они дополнились стонами Гали. Остервенело задергавшись, чеченец закатил под веки зрачки, обнажив налитые кровью белки, и, сжав огромными лапами толстые Галины ягодицы, дико завыл.
Отдышавшись, бандит перенес на транцевую площадку безвольно расслабленные, как тряпичные куклы, тела финнов и погрузил их в надувную лодку, привязанную к буксировочному рыму катера.
Когда он вернулся в каюту, Галя забилась в угол дивана и попыталась закрыться скомканной простыней.
— Не бойся, — сказал он ей, — тебя не трону. Тебя трахать буду, — и, захохотав, похлопал здоровенной ладонью по пухлой щеке с подтеками туши. — Если заразила — тогда убью, — добавил он с угрозой. — Давай, прибери здесь все.
Она услышала, как отчалила лодка. Наспех одевшись и вытащив из карманов брюк незадачливых финнов бумажники, Галя выскочила из каюты:
— Ой-ей, мамо моя, — прошептала она горестно. На недалеком берегу, до которого она намеревалась добраться вплавь, грузились в лодку несколько чеченцев, в стороне ожидали своей очереди две женщины в глухих черных одеждах.
Арсен, по кличке Борз — Волк, имел немалый опыт боевых операций, поэтому давно взял за правило всегда готовить запасной вариант. Вчера, когда рано утром его группа приехала на электричке из Питера, он оставил в Выборге для наблюдения латышку Ингеборге. Наемный снайпер, она уже два года воевала в его бригаде. За безжалостность худенькая невзрачная блондинка получила кличку Пантера.
Сейчас она докладывала по телефону, что вокруг замка идет серьезная возня. Подъехали группы саперов. Все пытаются делать скрытно, видимо, готовят им встречу.
— Два автобуса со спецназом — человек сорок, три снайпера, — докладывала она сухо и четко, — в основном, распределяются у моста — ожидают, что придем по суше. Со стороны залива — милицейские посты: у входа в цитадель и у прохода во двор. Пока все. Что решил?
Арсен объяснил, где возьмет ее на борт катера, и закончил разговор. Взрывчатка обнаружена и, судя по всему, обезврежена, а группу ожидает в замке свора спецназовцев. ФСБ пронюхала об операции — ясно, что кто-то предал, а кто — позже будет время выяснить. Иншаалла, у него есть две чеченки, обмотанные «поясами шахидов» до самых ушей и горящие желанием уйти в райские кущи Аллаха, прихватив с собой на тот свет как можно больше неверных. Захват замка щедро оплачен и деньги следует отработать. Борз не собирался умирать — пусть гибнут дураки, такие как Мовсар Бараев. Он оскалился и согнул правую руку в локте: «Вот русские собаки меня получат!» Чеченский суверенитет и прочая политическая чушь его никогда не интересовали. Он воевал за деньги, и ему нравилось это занятие.
Арсен, запустив двигатели, на малых оборотах двинулся к месту встречи с Ингеборге. Катер отзывался на малейшие повороты штурвала, и приятная послушность судна радовала главаря моджахедов. Внимательно разглядывая прибрежные каменные отмели попутных островков, он напряженно обдумывал новый план захвата замка. И когда Пантера, поднявшись на борт, нежно к нему прижалась, все уже просчитал до мелочей.
Август 200… г., деревня Медянка, Выборгский залив
Джип миновал Выборг и лихо покатился по петляющему среди леса Приморскому шоссе. Профессор, знавший дорогу, ответственно подошел к обязанностям штурмана и двадцать километров твердил, что нужно не пропустить маленький указатель «Высоцк». Тем не менее с первого раза его все-таки проскочили: указатель оказался какой-то нештатной беленькой жестянкой. Следуя ему, машина нырнула под железнодорожный мост — сложенную из грубо отесанных валунов арку, еще старой финской постройки. По хорошему шоссе бодро докатили до открывшейся за расступившимся лесом деревеньки. По другую сторону выстроились особняки в новорусском стиле. Среди них приютился небольшой обшитый вагонкой двухэтажный дом, высоким скатом крыши напоминавший скворечник. Анна увидела сначала задорно лаявшего крупного черного кобеля немецкой овчарки — копию Микеля, а выйдя из затормозившего у сетчатых ворот джипа — своего коллегу и друга Николая Полуверцева.
— Анька, привет, ты как здесь оказалась? — Николай удивился не меньше.
— Расскажу позже, — шепнула Анна, потому что началась церемония общего знакомства.
По традиции вновь прибывшим полагалось выпить по этому поводу рюмку. Владимир Николаевич быстро накрыл в сложенной из отесанных бревен беседке стол, а потом повел компанию показывать дом и залив.
Анна и Николай остались в беседке одни.
— У тебя что-то случилось, рассказывай, — велел Николай, сразу заметивший подавленное состояние подруги.
Анна кратко рассказала о своей грустной поездке. Он бережно обнял ее, притянул к себе:
— Знаешь, я давно заметил: когда умирает близкий человек — любые слова выглядят фальшивыми.
Они помолчали.
— Ты, наверное, голодная, давай я тебя покормлю, — Не обращая внимания на протестующую Анну, он поднялся, чтобы сходить в дом за едой: — Я такой лагман сварил — просто как в Алма-Ате.
Анна родилась в Алма-Ате, а Николай прожил там больше двадцати лет. Это землячество и сблизило их в «Новостях». Они обнаружили, что хорошо понимают друг друга, им легко и приятно вместе. Дружба сорокалетнего редактора и молодой журналистки вызывала у падких до сплетен коллег нездоровый интерес. Они сами не могли точно определить, что их связывает — скорее всего, Анна находила в Николае замену погибшему отцу, а Пуловерцев заботился о ней, как мог заботиться о далекой дочери.
Тарелка выглядела почти декоративно. На желтых спагетти аппетитной красочной горкой выложены сваренные в томатном соусе маленькие кусочки мяса, перца, моркови, лука, редьки-лобо и чеснока. Анна вдохнула аромат и, предвкушая удовольствие, по-детски причмокнула. Поев, она удовлетворенно вздохнула:
— Уф, настоящая дунганская лапша, как мамина.
Николай, закурив, кивнул:
— На здоровье.
Анна принесла из машины шкатулку из карельской березы, устроила ее на столе и разложила перед Полуверцевым тетрадь в черном коленкоровом переплете с потрепанным, как будто обгоревшим уголком и несколько старых почтовых конвертов.
— Коля, мне нужна твоя помощь, — кивнув на тетрадь, она пояснила: — Эти документы мне перед смертью передал дед. Здесь дневник азиатского путешествия барона Маннергейма и его письма. Похоже, дедушку убили именно из-за этих бумаг — маршал в сорок четвертом спрятал где-то здесь неподалеку, на островах Выборгского залива, клад, и дед поручил мне его отыскать. Ты мне поможешь?
Она ждала ответа, нервно покусывая веточку малины, густые заросли которой окружали беседку.
Николай осторожно поделился своими сомнениями:
— Ты не сердись, Анюта, но поиск клада — уж больно романтическое занятие. Я, честно говоря, не представляю, как реально за это браться. В общем, это, конечно, не важно, и чем смогу я тебе помогу.
Но… ты уверена, что клад действительно существует?
— Дед знал это точно. Я еще не успела разобраться в бумагах… кстати, может быть, ты оставишь их у себя и посмотришь? А когда вернешься в Питер, все обсудим, ладно? А то мне сегодня еще оперу снимать в Выборгском замке. Всю ночь не спала, — Она зевнула и почувствовала, как от сытости навалилась усталость и закрываются глаза.
— Пойдем-ка, я устрою тебя на втором этаже. Поспишь хоть немного.
— А как же Стасис — им, наверное, надо уезжать?
— Я думаю, они все равно будут обедать. В крайнем случае, что-нибудь придумаем.
Анна благодарно чмокнула Николая в небритую щеку и поплелась за ним в дом. На веранде, где разлегся в теньке черный кобель, она остановилась:
— А как его зовут?
— Его зовут Собака Лир.
— Он очень похож на дедушкиного Микеля. Его тоже убили.
Собака Лир, услышав свое имя, приветливо замахал хвостом, ужал уши и ткнулся Анне в ладонь прохладным влажным носом.
Поднимаясь на второй этаж по крутой узкой лестнице, Анна вдруг перегнулась через перила и строго сказала Полуверцеву:
— Ты не думай — на поиски есть деньги. Я теперь богатая, мне дед наследство оставил, — и показала Николаю язык.
— Ладно, иди спи, миллионерша.
Николай устроился в беседке и, раскурив трубку, извлек из шкатулки дневник маршала. Коснулся кончиками пальцев потертого состарившегося коленкора обложки и, удивляясь собственной реакции, ощутил нечто похожее на благоговейный трепет. Пожелтевшие от времени страницы хранили историю.
Сентябрь 1906 г. — июнь 1907 г., Кульджа
…Резко встав на стременах и обернувшись, я увидел, что в нескольких саженях от нас на тропу рухнула каменная глыба в рост человека. Из-под куска скалы торчали шея и голова лошади, сотрясаемые предсмертными конвульсиями, и человеческая нога в сапоге. Камнем придавило ехавшего прямо за нами солдата Гаврилова. Истошно кричал рядовой Копылов — ему раздробило голень. Нас с Серьгой спасла лишь сверхъестественная чуткость Талисмана.
Солдаты спешились и кое-как успокоили напуганных лошадей. Вооружившись кольями от палаток, мы приступили к камню, и, после неимоверных общих усилий, огромный валун удалось скатить с тропы вниз. Тяжело съехав по осыпи и подняв веер брызг, он плюхнулся в реку.
Серьга проворно вскарабкался на скалу, откуда рухнул камень, и несколько минут спустя вернулся очень встревоженный.
— Ваше высокоблагородие, — зашептал он, оттащив меня в сторону, — там засада была, рычагом раскачали каменюгу-с. Под счастливой звездой вы родились, ваше высокоблагородие. Камень-то для вас готовили, это уж точно-с. Двое там были, ушли вверх лощиной, по виду — кыргизы.
Я собирался немедленно устроить погоню, но Серьга меня отговорил, объяснив, что в ущелье наверху очень много пещер.
— Не найти аспидов там, ваше высокоблагородие, даже и не пытайтесь — самое там разбойничье место-с. А конь-то у вас справный. — Он ласково потрепал Талисмана.
Испытывая стыд, я ругал себя за расслабленность и мечтательные настроения, неподобающие офицеру при выполнении важного секретного задания. Из-за моего легкомыслия погиб солдат, получил ранение другой, а сам я уцелел только чудом. Копылову отрядный фельдшер наложил на раздробленную ногу шину. Раненый лежал на каменистой обочине тропы, по бледному лбу струился пот, и он часто моргал. Его лошадь пришлось пристрелить — несчастному животному сломало позвоночник.
Я отправил двух солдат наверх, откуда просматривался большой участок тропы — дозор, конечно, следовало выставить намного раньше, — и занялся печальным делом. Нужно предать тело Гаврилова земле.
Мы похоронили его тут же у дороги, завалив камнями. По христианскому обычаю установили крест, сооруженный Малоземовым из палаточных кольев. Ротмистр тихо бормотал слова заупокойной молитвы. Стоя с обнаженной головой и мысленно прося прощения у погибшего, я думал о том, как много безымянных могил русских солдат остается на чужбине. Нет им числа в Маньчжурии, вот теперь и здесь, у подножия Божьего трона, появился деревянный крест без имени.
Прервали печальную церемонию дозорные, доложившие, что по тропе в нашу сторону движется отара, сопровождаемая несколькими конными азиатами. Приказав на всякий случай приготовиться к обороне, я забрался на скалу, чтобы рассмотреть в бинокль визитеров. Наверху я понял, почему нападавшие не стреляли: площадка, на которой устроили засаду, не годилась для стрельбы — высокие уступы почти полностью закрывали тропу. Спустившись, я занялся неотложными делами. Предстояло отправить раненого на Кольджатский пост и продолжать столь неудачно начавшееся путешествие. Серьга все вертелся рядом и наконец, решившись, обратился ко мне:
— Так вот, значится, ваше высокоблагородие, — он засопел носом и сокрушенно покачал головой, — чуяло мое сердце — не к добру все это-с. Я вот что думаю: дороги до Кашгара отсель верст двести будет, однако же заблудиться невозможно — одна тропочка-то в горах, да и кыргизы с летовок вертаются — завсегда помогут-с. Так что вы уж дозвольте, ваше высокоблагородие, мне остаться: я вашего раненого на заставу доставлю, а оттуда его в гарнизон к докторам отвезут-с. Так как, ваше высокоблагородие? — И он изумительно честными глазами уставился на меня.
— На ирбиса собираешься поохотиться, а, Сергей Карпыч?
Он усмехнулся, и глаза его привычно хитровато прищурились.
— С умным человеком завсегда дело иметь приятно-с. Ну так как, ваше высокоблагородие?
Я согласился. Серьга, видимо, опасаясь, что потребую вернуть часть выплаченных ему денег, начал торопливо говорить, что «о войне уговору не было-с», но я махнул рукой — сейчас не до мелких денежных расчетов.
Дождавшись отару, я поручил Копылова заботам Серьги и пастухов, дал команду на марш, и вскоре роковой скальный уступ скрылся за поворотом. Отныне отряд придерживался боевого порядка: впереди, на удалении, двигался разведочный авангард. Нам предстояло преодолеть более двухсот верст горной дороги.
Продолжительное путешествие постепенно притупило остроту восприятия величественной дикой природы. Привычными стали скальные стены — чтобы пройти под ними по узкой каменистой тропе, край которой обрывался в скрытое вечной темнотой дно глубокого ущелья, приходилось спешиваться и вести коней в поводу. Уже не восхищали белоснежные сверкающие уступы ледников, днем звенящих капелью и вновь замерзающих ночью; и бесконечный темный небосвод, сияющий мириадами ярких звезд, и изумрудные полосы высокогорных лугов, пестрящих мелкими бело-желтыми звездочками эдельвейсов. Лишь возвышавшийся над горной страной Тянь-Шань пик Хан-Тенгри постоянно менял свой облик. Багровый на закате и розовато-белый, зефирный на рассвете, мрачный, почти черный, когда у подножия бушевали бури, и ослепительно сверкающий ярким солнечным днем — он как будто сопровождал нас, и я не уставал любоваться им.
Путешествие продолжалось без происшествий. Арьергардные солдаты докладывали, что временами видели на большом удалении следующих за нами двух всадников, но предпринятые меры, — боевой порядок на марше и постоянное охранение временных биваков — очевидно, не позволили неприятелю нанести нам урон.
Довольно часто встречались кыргизские отары, возвращавшиеся в предгорья на зимовку. Изредка наш путь пересекался с торговыми караванами, иногда довольно большими, из нескольких сотен вьючных верблюдов. Они везли в Россию чай, шелковые ткани и другие экзотические товары — мы шли по одному из отрезков Великого шелкового пути, существовавшего уже более тысячи лет. С одним из таких караванов пришли два буддийских монаха, в красно-коричневых халатах и остроконечных, желтого цвета шапках. Они не знали русского языка, и нам пришлось объясняться, используя имевшийся в нашем распоряжении скромный запас китайских слов: переводчика для экспедиции предстояло нанять в Кашгаре.
Монахи доставили мне письма. В одном из посланий лама Агван Доржиев предупреждал о возможной опасности. С Доржиевым я имел честь познакомиться год назад, в Петербурге, куда он прибыл в качестве тайного посланника тибетского Далай-ламы. Ему из достоверных источников стало известно, что английская разведка проявляет пристальный интерес к нашей экспедиции и прилагает усилия для того, чтобы помешать отряду. В частности, китайские власти оповещены о том, что нашей основной задачей является сбор сведений о состоянии здешней армии, ее боеготовности и вооружении. Доржиев утверждал, что за передвижениями отряда установлено наблюдение и не исключены попытки нападения. Предупреждение это, увы, несколько запоздало.
К письму ламы приложено второе, подписанное «Федюня», — таков псевдоним, использовавшийся в секретной переписке заместителем начальника Генерального штаба генералом Палицыным. Мне предлагалось по прибытии в Кашгар немедленно встретиться с ламой Доржиевым и уже от Него получить инструкции, касающиеся дальнейшего маршрута экспедиции. «Это отнюдь не снимает с полковника Маннергейма ответственности за выполнение ранее возложенных на него задач» — такими ободряющими словами Федюня заканчивал свое письмо.
Монахи, выполнившие свою миссию, попросили разрешения следовать вместе с отрядом, и несколько дней я с интересом приглядывался к ним. Горная дорога изобиловала трудными участками, люди и лошади были измучены, и лишь тибетцы, казалось, не ведали усталости, бодро шагая в своих деревянных сандалиях. На биваках они просыпались раньше всех, и утро у них начиналось с очень любопытной гимнастики, скорее напоминавшей некую разновидность борьбы. Затем следовала молитва — они расстилали на земле специальные коврики и, сев по-восточному, принимались бить поклоны, распевно и бесконечно повторяя одну, для них священную фразу: «Ом мани падме хум». Питались монахи отдельно, так как совершенно не употребляли в пищу ничего мясного, но с удовольствием пили яблочный кисель — сухой порошок для его приготовления, изобретенный верненцами, мы вдоволь запасли в гостеприимном городе. Утопающий в зелени садов Верный мне часто вспоминался, и тогда пред моим мысленным взором представало прекрасное женское лицо.
Но ни мысли о далекой Екатерине, ни старательная картографическая работа и метеорологические измерения, которые я с тщательностью производил, не помогали отвлечься от тревожных размышлений о ближайшем будущем экспедиции. Когда в Петербурге генерал Палицын предложил чрезвычайно заинтересовавшее меня задание, речь шла о том, что русский Генштаб стремится ознакомиться с современной обстановкой в Китае, где намечаются реформы. Поэтому я отправился путешествовать в качестве подданного Финляндии, а мой небольшой отряд считался вовсе не военным подразделением, а исследовательской экспедицией. Но полученные письма, а еще более — два неудачных покушения поколебали мою уверенность в том, что нам предстоит заниматься исключительно мирными делами…
Однажды вечером произошла удивительная встреча, поразившая меня, человека, не верящего приметам. На закате, преодолев очередной перевал, мы шли узкой долиной, по краю которой в причудливых изгибах русла шумели воды горной речушки. За одним из бесчисленных поворотов долина внезапно расширилась, и мы оказались на круглом плато, окруженным отвесными скальными стенами. В самом центре огромного, созданного природой круга возвышались два холма, сложенные из валунов. Я приказал спешиться и устроить бивак. Когда кашевар готовил нехитрую походную пищу, в круге света, отбрасываемого пламенем костра, возник человек. Судя по оборванной хламиде, чалме и посоху, это невесть как забредший сюда дервиш — нищий мусульманский монах, собирающий подаяния. Он попросил разрешения присесть у костра и с благодарностью принял предложенную пищу. Закончив есть, он заговорил:
— Я надеюсь, что никто не будет обижен моими словами, Аллах всемогущий видит, что в сердце дервиша Искандера лишь добро. Это историческое место — здесь пролегал путь в Европу туменов Тамерлана. Великий завоеватель приказал поставить в этой долине свой царский шатер. День и ночь и снова день по этой дороге двигалось нескончаемое тюркское войско, и каждый воин бросал камень по эту сторону дороги — так повелел Тамерлан Великий. Так возник этот каменный холм. Спустя годы войско возвращалось в родные степи. И вновь Тамерлан поставил здесь свой чертог, и вновь приказал воинам, проходя мимо, бросать камни, теперь — по другую сторону дороги. — Дервиш указал на каменную груду, которая была значительно меньше первой. — На этот раз, чтобы миновать шатер вождя, войску хватило одного дня, и камней набралось в десятки раз меньше. Таков изначально предначертанный воину путь, и мудрый принимает его без страха, с радостным сердцем.
Речь дервиша произвела на меня сильнейшее впечатление. Я отправился на войну добровольцем и видел немало смертей, привык преодолевать страх за собственную жизнь, но никогда не задумывался о том, что к этому можно относиться спокойно и даже радостно. Я хотел расспросить дервиша поподробнее, но он исчез так же внезапно, как и появился.
Той ночью мне снился удивительный сон: горели тюркские костры в густой темноте южной ночи, и в их отблеске на смуглом лице хромого Тимура грозно сверкали сквозь узкие щели век желтые тигриные глаза. А утром, взглянув в рассветное небо, я увидел неподвижно застывшего, охотившегося беркута, и предчувствие скорой беды кольнуло сердце.
На пятый день пути, миновав очередной перевал, мы начали спуск в широко раскинувшиеся долины предгорий, расчерченные правильными зелеными прямоугольниками полей гаоляна. Вдали у горизонта желтели пески пустыни Такла-Макан, а впереди виднелись сквозь дымку строения Кашгара…
И сказал Он: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать истину, ибо Я для того и пришел». И радостно было Фоме следовать за Сыном Человеческим, как и всякая былинка окрест радовалась теплу и расцветала. Проходя же близ моря Галилейского, увидели двух рыбаков с небогатым уловом, собирающих свои сети. И сказал им Иисус: «Вот трудится во все дни бедный человек, взалкал — и нет ему награды — нечем прикрыть наготу его, нечем питать плод чрева жены его. Но блаженны нищие, ибо они Царствие Небесное узрят. Идите за Мною и станете искусны в душах человеческих, как теперь искусны в местах рыбных». А те были — Симон-каменотес и брат его Андрей, и оставили они сети свои и тут же последовали за Сыном Человеческим с радостью. И другие ловцы рыбные — Иоанн и брат его Иаков, сыны Зеведеевы, вышли из лодки отца своего и тоже последовали за Ним. И пришли они в селение Капернаум, и учил Иисус в синагоге и многих больных исцелил, а расслабленная теща Симона, едва Иисус коснулся ее, восстала, взяла одр свой и сама пошла в дом свой. И говорили все люди: «Как это Он так исцеляет? Должно быть, Он сын Божий». А Иисус запрещал им возглашать чудеса сии. Проходя там, Он увидел при дороге сборщика податей мытаря Матвея по прозванию Левий и сказал ему: «Иди за Мной». И молящей о прощении блуднице, которую присудили к избиению камнями, также сказал: «Иди за мной», а приступившим фарисеям отвечал: «Кто без греха, пусть первым бросит в нее камень», и они в смущении отступили от нее. И пришел он в один дом, где было много мытарей и грешников, и возлежал с ними, ибо их было много, и они следовали за ним. А книжники и фарисеи говорили: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Сын Человеческий сказал: «Истинно говорю вам — многие, кто были последними, — станут первыми». И вышел Он тогда и пошел к морю Галилейскому, и ученики Его следовали за ним, и много разных бедных и убогих с ними. И пришли зелоты, мечами опоясанные, и средь них Симон Канаит. И вошел Сын Человеческий в лодку, и учил собравшихся у берега морского. Так говорил Он: «Нет главнее для человека заповеди великой Отца Моего Небесного, чем возлюби ближнего своего, как самого себя. Истинно говорю вам — когда все люди станут как братья — приидет тотчас Царствие Небесное. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам — любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, ибо если вы будете любить любящих вас — какая вам награда?» И внимали Ему с изумлением и радостью великой, и птицы небесные слетались к Нему, и звери дикие выходили из чащобы к Нему, и гады морские приплывали к Нему. И еще говорил Он: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Не заботьтесь о хлебе насущном — ибо каждый трудящийся достоин пропитания». И тишина настала по всей той местности, будто даже ветер и волны боялись нарушить тихие ласковые слова Его. «Не судите да не судимы будете, — ибо какою мерою мерите, тою вам и отмерится. И так во всем — как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Просите — и дано будет вам, ищите — и найдете, стучите — и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему — отворят». И приступили к Нему ученики Его и сказали: «Равви, уже поздно, стемнело, и нечего нам есть». И сказал Иисус: «Пять хлебов и две рыбы есть у меня». И преломил Сын Человеческий хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они роздали, и две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, а было пришедших почти сто человек. И взошел Он на гору, чтобы молиться Отцу Небесному. В это время ученики Его уснули в лодке и оказались унесены на середину моря поднявшимся волнением и сильным ветром. И вот Он увидел их бедствующих в плавании и пошел к ним по водам, как по твердой земле. И стих ветер, и возрадовались они, и сердца их наполнились любовью и верою. И было это на большом полуострове, и пошел Он по водам на восток.
Август 200… г., Выборг
Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, оставив на их попечение лодку и довольного Профессора, Анна и двое мужчин уже в пять часов были на выборгском вокзале. Доктор налегке запрыгнул в вагон модной электрички — с креслами вместо скамеек и баром, где даже разрешалось курить. Весь рыбацкий скарб он оставил в джипе, а Стасису наказал — довезти все в целости. Электричка, задорно свистнув, покатилась по рельсам, а Стасис и Анна вернулись на заставленную машинами и людную привокзальную площадь.
Остановившись у джипа, девушка вновь ощутила себя одинокой, беззащитной и растерянной. Стасис молча курил и не спешил, распрощавшись, умчаться в Петербург. Неловкая пауза затянулась, и Анна, собравшись с силами, улыбнулась, протянула Стасису руку:
— Ну, вот и все. Спасибо вам большое за участие и за то, что довезли. И… — Она запнулась, подбирая слова, чтобы объяснить, как неожиданно тепло ей в компании этого взрослого немногословного мужчины, увлеченного своими лодками и рыбалкой.
— Анна, — перебил ее Стасис, — позвольте мне остаться с вами. Я постараюсь не мешать вашей работе. — Он произнес это, не глядя на девушку, почти отвернувшись, и, казалось, даже его загар стал темнее от румянца смущения. — Ты мне очень нравишься, и я не хочу с тобой расставаться.
Склонившись, он коснулся губами ее ладони.
Анна увидела непокорно торчащий вихор темно-русых, густых волос, и захотелось его пригладить. Стало вдруг очень легко, и даже немного закружилась голова.
Еще совсем недавно Анна боялась подобных сцен и старалась их избегать. Этот страх появился, когда она окончательно распрощалась со своей «большой любовью», как это называлось в разговорах с подругами. Три года «большая любовь» — тридцатилетний преуспевающий банковский служащий — пару раз в неделю с удовольствием занимался с Анной сексом, регулярно и с аппетитом ел — он обожал восточную кухню, а она, готовя для него, всегда радовалась, что может доставить ему удовольствие. Иногда даже оставался на ночь в ее крохотной комнатке в большой коммунальной квартире на Петроградской стороне. В выходные дни он изредка вывозил ее куда-нибудь за город. А будни и отпуска принадлежали другой — его сверх-успешной начальнице, холеной сорокалетней даме, богатой и влиятельной. За три года, когда Анна сначала упивалась своей любовью, а потом — болью, случилось многое: и аборт, и практически заброшенный институт, и алкоголь, и неотвязные мысли о самоубийстве.
Она не сразу нашла в себе силы порвать отношения. Даже когда узнала правду, жалкая и раздавленная, некоторое время продолжала с ним встречаться. А он и не думал с ней расставаться и искренне недоумевал — что за средневековые представления, — ну и что из того, что у него есть другая женщина — ведь это не мешает им по-прежнему любить друг друга.
Боль потихоньку улеглась, и, когда он недавно, увидев в «Новостях» ее репортаж, позвонил, Анна смогла говорить с ним почти спокойно. И даже согласилась встретиться. Иллюзии остались в прошлом — вместе с «большой любовью».
С той поры она стала бояться любых намеков на близость. Традиционные приставания знакомых и не очень мужчин она умело и привычно пресекала, когда же речь заходила о неких чувствах, — такое иногда случалось, — она пугалась. Николай, кстати, придерживался мнения, что любовь столь же материальна, как, например, желудок или печень. И ей, как и прочим внутренним органам, отмерено определенное количество энергии и здоровья. Если запас исчерпан — а большая любовь или страсть — это, понятное дело, просто прорва, — то новое уже не отрастает.
Анна сомневалась в правоте своего сорокалетнего друга, но жила без сердечных привязанностей. И вот, впервые со времен «большой любви», она не только не сжалась в комок, закрыв все створки души, словно испуганный моллюск, а напротив — легко и свободно вздохнула.
Оставив машину на привокзальной площади, Анна и Стасис отправились бродить по выборгским улочкам. Особенно чудесными оказались узкие, с крутыми подъемами и спусками, переулки. Улица Водной заставы привела их к старой часовой башне и собору святого с цветочным именем Гиацинт. Анне казалось, что она чудесным образом перенеслась в Средневековье. Стоит только закрыть глаза — и улицы наполнятся звоном подкованных лошадиных копыт, забряцают латы, а вот из этого подвального окошка повалит едкий дым и раздастся взрыв в лаборатории неудачливого алхимика. А еще она думала о своих бабушке и дедушке. Они, наверное, тоже бродили по старым выборгским улицам в своей счастливой предвоенной молодости.
Стасис многое знал о Выборге, когда-то — второй шведской столице, затем — главном восточном городе Финляндии, кое в чем даже превосходящем Гельсингфорс. В конце концов превратившийся в райцентр Ленинградской области, Выборг все же сохранил немного мрачное очарование скандинавского Средневековья.
Обогнув памятник шведскому маршалу, основателю замка и города — Торгильсу Кнутссону, который, опершись на меч, неотрывно смотрел на залив, быть может, вспоминая свой третий Крестовый поход в Карелию, — они спустились на набережную. Перейдя бухту по Замковому мосту, устроились в летнем кафе.
Набережная постепенно заполнялась дорогими авто, и нарядная выборгская публика с ясно читаемым на лицах ощущением избранности чинно шла в замок. Анна заметила подъехавшую серебристую «девятку» с эмблемой канала «Федерация» на дверцах и со вздохом сказала:
— Мои приехали. Пора браться за работу.
А потом, откровенно кокетничая, томно протянула:
— Ах, спасибо, высокочтимый господин! Вы такой умный и так много знаете. Бедной девушке было очень интересно гулять с вами.
Стасис поддержал игру:
— А я, госпожа, смею надеяться на то, что вы предоставите мне счастливую возможность сопровождать вас и впредь.
В Выборгском замке царило оживление. В Кузнечном дворике на специально сколоченном помосте музыканты прославленного оркестра Мариинского театра настраивали инструменты. В Доме коменданта заканчивали гримироваться солисты и миманс. На круто уходящем вверх каменном подножии донжона в специально выстроенном амфитеатре рассаживались счастливые обладатели пригласительных билетов, приветствуя друг друга и обсуждая выборгские новости. В импровизированном партере — стулья расставили прямо на каменной брусчатке двора — неторопливо занимала места областная элита: губернатор Стрельцов, высокопоставленные чиновники, городское и районное начальство. Багровое солнце тонуло в заливе у берегов Финляндии, и освещенная его прощальными лучами старая башня Святого Олафа, с отметинами былых сражений и пожаров, казалась вновь объятой огнем.
Анна, устроившись у старых проржавевших перил, не отрываясь, смотрела на величественную каменную кладку. Казалось, что башня, накренившись, парит в небе над небольшим Кузнечным двориком. Чудилось, что вот-вот в стрельчатом окне появится юная дама с высоко убранными волосами, в платье с глухим, расшитым стразами воротом. А по галерее, глухо ударяя о настил древком тяжелого копья, в кирасе и шлеме совершит очередной неторопливый круг дозорный ландскнехт.
На импровизированную сцену не попадали солнечные лучи, и техники зажгли мощные софиты. К микрофону вышли губернатор области Стрельцов и художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев. Они странно смотрелись рядом: всегда одетый в мешковатый черный костюм, с хитроватым крестьянским прищуром небольших цепких глаз губернатор и маэстро — во фраке, с небрежно прикрытой редкими прядями волос лысиной, орлиным взором и старательно культивируемой двухнедельной щетиной. Губернатор произнес дежурную речь.
Рядом с Анной, установив камеру на штатив и поглядывая в видоискатель, снимал происходящее оператор «Новостей» Димка Воскобойников. Высокий волоокий брюнет, по которому сохли юные журналистки-практикантки, после одной из «новостийных» вечеринок вызвался проводить Анну домой и, напросившись на кофе, с ходу попытался затащить в постель. Получив категорический отказ, не обиделся. Постепенно они сдружились, и Анна всегда радовалась, когда доводилось с ним работать.
Устроители, загнав на эту высокую каменную площадку всех снимающих и заодно с ними и всю остальную журналистскую братию, о сидячих местах для представителей прессы не позаботились. Наиболее пронырливые коллеги смогли устроиться в переполненном амфитеатре, а преданно сопровождавший Анну Стасис проявил себя добытчиком и притащил откуда-то стопку пластиковых кресел, так что хватило всем, даже объявившемуся в замке шведскому журналисту Свенсону.
Анна, испытывая привычное возбуждение, занялась работой: старательно подмечала любопытные детали, которые помогут сделать репортаж о спектакле живым и интересным. Зрителей собралось много: те, кому не хватило места на скамьях амфитеатра, устроились на покрытых зелено-серым лишайником камнях. Некоторые остались стоять вдоль уходящей вверх мощеной дороги — когда-то она вела к пристани, а сейчас заканчивалась у ворот цитадели.
Раздались первые звуки величественной увертюры — публика затихла. Анна всегда скучала в архаичном, как ей казалось, оперном театре. Но здесь случилось чудо: многовековой замок своей суровой подлинностью выдавил все наносное и ходульное, и оперные певцы превратились в живых людей, страдающих и надеющихся на прощение или удачу в неслыханной авантюре. Увлеченная Анна не могла оторваться от захватывающего сюжета, разворачивающегося в старом Кузнечном дворике.
А в это время со стороны Сайменского канала, дрейфуя на небольшой заливной волне, к замковому острову приближался белоснежный катер. На палубе в шезлонге, пытаясь захватить последние лучи закатного солнца, загорала полногрудая брюнетка, наряд которой состоял лишь из крошечных трусиков. Наверху, у пульта управления, суетилась невысокая стройная блондинка в бикини. Вновь и вновь, она безуспешно пыталась запустить двигатели, но катер неуправляемо и неотвратимо несло на прибрежные камни.
Это заметили милицейские наряды, стоявшие в охране острова со стороны залива. Высокое московское начальство, ожидая, что террористы придут из Выборга по мосту, там и сосредоточило спецназ. Другую группу разместили в цитадели, где в башне Святого Олафа свалены кучей не вывезенные мешки с гексогеном, а периметр острова доверили охранять местной милиции. И сейчас выборгские блюстители порядка с удовольствием разглядывали двух полуголых девиц, которые, судя по всему, решили разбить дорогую посудину о камни.
— Вот это сиськи! — восхищенно причмокнул рыжеватый сержант, весь покрытый мелкими веснушками.
— Ты, Чмуров, губу-то не раскатывай. Сходи лучше узнай, чего чухонкам тут надо, — приказал командовавший милицейским нарядом потный и помятый старший лейтенант. Чмуров и его напарник — худенький деревенский парнишка-ефрейтор, — радуясь развлечению, поскакали вниз по насыпи. Торжественные аккорды Мусоргского, транслировавшиеся из замка, нагоняли на них тоску и клонили в сон.
Девицы на катере наконец поняли, что дело плохо, и бестолково суетились на палубе, мешая друг другу. Блондинка заметила спешащих к ним мужчин в форме и громко залопотала по-английски:
— Help us. Our engine don't movie.
И, сообразив, что вряд ли те ее поняли, повторила на ломаном русском:
— Помогите нас.
Рыжий Чмуров, не отрывая глаз от брюнетки, напрочь забывшей о бюстгальтере, специально отработанным мерзким голосом завел традиционную милицейскую нотацию:
— Что же это вы, гражданочки, нарушаете, а? Почему без разрешения подходите на плавсредстве к охраняемому объекту? Я вот сейчас вас оштрафую как следует, тогда поймете, как положено.
Его напарник, ефрейтор, не стал терять времени: быстро скинув бронежилет и униформу, оставшись в черных сатиновых трусах, прыгнул в воду и поплыл к катеру. Взобравшись на транцевую площадку, бегом поднялся на мостик и обнаружил, что двигатели не заводятся из-за того, что в замке зажигания отсутствует ключ.
— Где ключ? — крикнул он девицам. Те непонимающе переглянулись. — Ключ, говорю, где, дуры чухонские? — с досадой выругался он, спрыгнул на палубу и схватил причальный конец. — Чмуров, держи! — Он точным броском отправил на берег синтетический трос, — Налево оттягивай, носом к камням станови.
Важный старлей, оскальзываясь, неуклюже спустился к воде и принял командование на себя. Бестолково суетящиеся и падающие в воду блюстители порядка после нескольких неудачных попыток, натужно матерясь, все же развернули тяжелый катер и закрепили за стволы деревьев причальные концы. Старлей шагнул на транцевую площадку, намереваясь провести допрос бесстыжих девиц, но выходящая на корму дверь каюты вдруг распахнулась, и путь ему преградил высокий монах, — так вначале показалось милиционеру. Видимо, потому, что здоровенный лоб, выпрыгнувший из каюты, оказался бородат и одет в черный балахон наподобие рясы.
Свою ошибку старлей понял сразу — в его пухлый живот больно уперся ствол автомата Калашникова. Еще двое таких же бородатых «монахов» выскочили на берег и грамотно взяли на прицел побросавших оружие милиционеров. Их, мокрых и перепуганных, со связанными руками, загнали в каюту, заперли, приказав сидеть тихо. Вся группа Арсена, включая так и не одевшуюся Галю, которую тащил за руку Ча, перешла на берег. На катере осталась лишь Ингеборге — она спокойно устроилась в шезлонге на мостике, положив рядом автомат.
К старлею, пинками согнанному на берег, подошел Арсен. Острием охотничьего ножа он легонько ткнул пленника в низ живота. Старлей пискнул и с ужасом почувствовал, как по ноге что-то стекает в сапог. Арсен, заметив это, оскалился:
— Идешь тихо, делаешь, что говорю. А то на куски порежу, шакал, — нарочито угрожающе прохрипел он.
Милиционер быстро и мелко закивал.
Энергия артистов передалась зрителям, и большинство, затаив дыхание, наблюдало за свершавшейся на их глазах трагедией царя Бориса. В тот самый момент, когда тенор в рубище тоненько завыл знаменитое: «Обидели юродивого, отняли копеечку…» — во дворе замка появилась странная группа. Впереди шел спотыкающийся и затравленно оглядывающийся старший лейтенант милиции. За ним спокойно следовало четверо монахов. Пятый, огромного роста, тащил за руку полуголую толстую девицу. Замыкали процессию две монашки, закутанные в черные платки.
Актеры, пораженные их появлением, замерли, остановившись на полуфразе. Монахини быстро направились к зрителям. Одна осталась в партере, а вторая поднялась на площадку и остановилась рядом с Воскобойниковым. Ее сумрачные глаза на мгновение встретились с глазами Анны. Пришелица чуть кивнула какой-то своей мысли и подняла к груди сжатые кулаки. Из правого, едва заметный, тянулся под балахон тоненький провод.
Тем временем Арсен вскочил на помост, где еще продолжал играть оркестр, пристроился рядом с Гергиевым. Зрителям показалось, что монах чуть приобнял его и что-то шепнул на ухо. Оркестр нестройно смолк.
В наступившей тишине оглушительно прогремела автоматная очередь — это чернобородый гигант, держа оружие в одной руке, с азартом всадил несколько пуль в башенную кладку.
Ошеломленные зрители еще не успели опомниться, а коренастый уже вещал в микрофон:
— Все ведите себя спокойно. — Усиленный динамиками гортанный голос заполнил тесный дворик. — Это захват. Мы не хотим причинить вреда простым людям, но если нас вынудят, то сестры, которые находятся среди вас, в любой момент готовы отдать свои жизни Аллаху. Взрывчатки в их поясах хватит, чтобы все присутствующие умерли вместе с нами. Мы заминировали и эту башню и готовы ее взорвать.
Наглый блеф вывел высокое начальство из ступора, и самый старший московский генерал, руководивший операцией, заорал в переговорное устройство:
— Приказ — никому не стрелять! Ждать особой команды, — Отпустив кнопку тангенты, он выматерился.
Арсен явно юродствовал: он достал из рясы несколько смятых листков и водрузил на кончик носа очки, затем постучал пальцем по микрофону, откашлялся и только после этого шутовского вступления зачитал уже ставшие привычными требования: прекращение боевых действий, вывод войск из Чечни и международный трибунал для российского руководства, развязавшего чеченскую войну.
— А для начала, — заявил Арсен, — я даю десять минут на то, чтобы из замка убрали спецназ. Выходить в те ворота с поднятыми руками и без оружия.
Согнав со стула скрипача, он спокойно уселся и демонстративно посмотрел на часы:
— Время пошло.
Август 200… г., Санкт-Петербург
В суматохе первых минут никто не вспомнил о том, что петербургский «Пятый канал» ведет прямую телевизионную трансляцию спектакля. В студийном комплексе на улице Чапыгина тоже не сразу сообразили, что делать. Когда появились террористы, в эфирной аппаратной, куда поступал сигнал передвижной телевизионной станции из Выборга, находился один дежурный техник. Лишь спустя несколько минут в аппаратной появилось паникующее начальство. Срочно дали в эфир заставку и начали готовить экстренный выпуск новостей. Телефоны в редакции «Информ-ТВ» разрывались.
Кусочек трансляции видели и на набережной тихой петербургской речки. Шаховцев, с двумя мобильными в руках, пытался одновременно дозвониться руководителям дирекции, чтобы получить указания, и журналистке Троицкой, чтобы записать так называемую «хрипушку» — телефонный рассказ корреспондента с места событий.
Август 200… г., Выборг
Раздался звонок мобильного телефона. Чеченка дернулась и подошла к Анне.
— Не надо отвечать, — велела она. — Выключи.
Тут же зазвонил телефон оператора — из редакции пытались достучаться до съемочной группы. Анна подумала, что сейчас в эфире последний восьмичасовой выпуск «Новостей», и редакторы стремятся найти хоть какую-то дополнительную информацию, чтобы первыми познакомить с ней зрителей. Чеченка велела Воскобойникову:
— И ты тоже выключи.
Звонки начали раздаваться в разных местах двора. Микрофон к этому моменту догадались выключить, и Арсен закричал, подняв автомат над головой:
— Никто не разговаривает, телефоны выключить! — и, развернувшись к дому коменданта, добавил: — Эй, начальник, — пять минут прошло.
В штабе операции тоже разрывались телефоны, и яро матерящиеся генералы все острее чувствовали, что сегодняшний день не принесет вожделенных наград, — скорее, надо думать о том, как сохранить звезды на погонах. Из низеньких дверей по одному, согнувшись, вышли безоружные спецназовцы, неохотно поднимающие руки. Начальник Выборгского отдела милиции, чьи подчиненные охраняли подходы к острову с воды, пребывал в полуобморочном состоянии. Шутка ли: семь террористов, двое из которых — женщины, умудрились захватить хорошо охраняемый замок. Решили тянуть время и пытаться вступить с бандитами в переговоры.
Вторая шахидка направилась к губернатору Ленинградской области. Когда она приблизилась, губернаторские охранники попытались помешать, но Стрельцов, сообразив, что это за «монахиня», запретил ее трогать. Теперь они стояли плечом к плечу. Губернатор оставался внешне спокойным, только на лбу поблескивали бисеринки пота. Не глядя на террористку, он негромко и ласково говорил:
— Не хорошее ты задумала, дивчина. Посмотри, тут же детей много. Они маленькие, ни в чем не виноваты, за что их убивать? Давай мы с тобой выйдем отсюда, сядем на бережке на травку, будем смотреть на воду и ждать. Я никуда не денусь. Если решишь — погибнем вместе.
Чеченка упорно молчала, прижимая сжатые кулаки к груди. Чуть раньше она сбросила накидку, обнажив опоясывающие ее тело крест-накрест ленты с карманами, наполненными тестообразным пластидом и мелкорублеными гвоздями.
Стрельцов старался говорить не останавливаясь:
— У детишек-то ведь матери есть, у тебя вот есть мать? Погибнешь — она ведь убиваться по тебе будет.
Когда он упомянул про мать, чеченка вздрогнула, глянула на него черными глазами и отвернулась. В этот момент губернатор схватил ее в охапку, крепким борцовским захватом прижал к себе, не давая разжать кулаки. Стиснув так, что у обоих захрустели кости, и задыхаясь от напряжения, продолжал шептать ей в ухо:
— Вот и хорошо, вот и умница. И не надо никого взрывать, сейчас пойдем на бережок…
Арсен заметил, как важный мужик взял одну из сестер Аллаха в объятия, и вскинул автомат. За секунду до выстрела чеченка, пытаясь освободиться из медвежьих объятий Стрельцова, дернулась всем телом, как крупная щука, засекшаяся блесной. Стараясь сохранить равновесие, грузный губернатор развернулся, и очередь прошила спину террористки. Ее тело обмякло. Стрельцова, так и не разжавшего захват, охранники повалили на булыжники двора.
На верхней площадке испуганные корреспонденты жались по углам, стремясь оказаться подальше от черной предвестницы смерти. Анна не видела, что произошло внизу, во дворе, заметила лишь стремительное бегство коренастого террориста, скрывшегося в арке дома коменданта. Она услышала как позади, у башни Святого Олафа, кто-то скомандовал низким, сорванным голосом:
— Держи, б..!
Снова выстрел — на этот раз одиночный и глухой. Стасис и швед мгновенно схватили оседавшую чеченку за руки, не давая разжаться ладоням мертвой женщины. Несколькими секундами позже к ним подбежал спецназовец со снайперской винтовкой в руках.
— Молодцы, мужики, — прохрипел он, тяжело дыша, и, вдавив тангенту, закричал в микрофон переговорного устройства: — «Первый», я — «ноль пятый»! Обе шахидки уничтожены, срочно нужны саперы!
Внизу разгорелась беспорядочная стрельба. Стасис, сидевший у трупа чеченки и судорожно сжимавший ладонями ее мертвые кулаки, обернулся к Анне:
— Ложись на землю, чтоб не зацепило.
Журналистка присела на корточки рядом с Воскобойниковым, который продолжал снимать, стоя на коленях. Анна видела, как пули выбивают искры из старых камней, как мечутся люди, в форме и без, как одиноко и отрешенно сидит за роялем музыкант оркестра.
С крепостной стены сорвались несколько чаек, напуганных стрельбой, и взмыли вверх. Одна птица на секунду зависла и, встретив случайную пулю, медленно кувыркаясь, упала на камни двора, где уже завершился скоротечный бой. И еще несколько секунд вились вверху подхваченные ветром чаичьи перья.
Дворик заполнился бойцами спецназа. Саперы осторожно разминировали мертвых шахидок, отодвинув в сторону добровольных помощников.
На площадку к журналистам ворвалась группа бойцов в камуфляже. Командир, молодой лейтенант, заорал:
— Всем лечь на землю, руки за голову! — и, подскочив к Воскобойникову, ударил тяжелым кованым ботинком прямо в объектив телекамеры. Хрустнуло разбившееся стекло линзы.
Димка дернулся, но камеру из рук не выпустил — осторожно поставил ее на землю и выпрямился, закрывая ладонью правый глаз. Из-под пальцев по щеке бежала тоненькая струйка крови.
Анна вспомнила, что на его камере нет резинового наглазника — Димке он мешал. Острые пластиковые края видоискателя порвали кожу и, судя по всему, повредили глаз.
— Что вы делаете, сволочи! — закричала Анна и бросилась на спецназовца в наивной попытке ударить.
Лейтенант схватил ее за плечо:
— Заткнись, сука… Кто такая, откуда?
Его бойцы скрутили Стасиса, бросившегося на выручку Анне. Лейтенант недобро усмехнулся и приказал:
— В автобус их всех. Там разберемся…
В Кузнечном дворике царили невообразимый шум и суматоха. В поисках потерявшихся родственников и друзей перепугано метались еще не успевшие прийти в себя зрители, деловито сновали вооруженные люди в камуфляже, и конвоирам пришлось пробиваться через толпу, чтобы доставить арестованных к воротам замка. На единственном свободном пятачке, охраняемом милиционерами, Анна увидела тела погибших — огромного бородача и его раздетой подруги, прикрытые небрежно наброшенным одеялом. Журналистку поразили незряче уставившиеся в толпу открытые глаза на застывших, бескровных, с пятнами грязи, уже — не лицах, а посмертных масках, навсегда утративших присущую жизни подвижность.
Неподалеку от трупов, привалившись к стволу клена, сидел молодой парень — спецназовец. То ли ранен, то ли просто отдыхает после короткого сумасшедшего боя. Автомат он держал, как матери держат младенцев, — прижимая к груди. И, казалось, баюкал его.
Выход из замкового двора, сделанный средневековыми строителями в виде узкого и изгибающегося тоннеля, в котором в случае нападения пара солдат могла успешно отражать натиск не одного десятка неприятелей, заблокировали. Рядом с огромным изъеденным ржавчиной морским якорем, давно служившим музейным экспонатом, устроили контрольно-пропускной пункт. Никого из зрителей не выпускали. Охрипший от бесконечных объяснений милицейский капитан монотонно повторял, уже не пытаясь перекричать истерикующих выборгских дам:
— Граждане, проявляйте сознательность и терпение. Пройдите на свои места. Есть приказ — пока никого из замка не выпускать.
Конвоиры что-то объяснили ему, и Анну вместе с шатающимся от боли, практически незрячим Воскобойниковым, Стасисом и шведом выпустили наружу. У моста стоял темно-зеленый автомобиль, с окнами, забранными двойной металлической сеткой. Задержанных сдали с рук на руки сонному сержанту-водителю. Флегматично кивнув конвоирам, он отвернулся, не обращая на арестантов внимания.
— Сержант, покурить-то можно? — поинтересовался Стасис.
Сержант не удостоил его взглядом, лишь вяло кивнул, продолжая разглядывать уже потемневшую в сумерках воду залива.
— О, знакомые лица, а что это вы тут делаете? — весело окликнул их снайпер, застреливший террористку.
— Нас арестовали, господин… не знаю вашего звания, — зло ответила Анна, — а ваш сослуживец покалечил моего оператора и разбил дорогую телекамеру. Я не намерена оставлять это без последствий.
— Звание мое майор, но вы можете называть меня просто Саней. Ну-ка, раненый, дай-ка взгляну. — Он осторожно отвел Димкину ладонь от лица и присвистнул: — Да тебе, боец, нужно срочно к врачу. Значит, так… — Он обернулся к водителю, по-прежнему прибывающему в состоянии летаргического сна: — Алле, ты бы проснулся, служивый, а то, не ровен час, замерзнешь. Этих людей я забираю. Пошли.
Стасис со шведом подхватили камеру и штатив, Анна взяла под локоть Димку, и вслед за майором Саней они пошли к набережной.
Саня, шагая рядом с Анной, казалось, не обратив внимания на ее угрозы, спокойно и рассудительно говорил:
— На товарища моего постарайтесь зла не держать. Не прав он, конечно, но в горячке боя чего только не случается, так что камеру вашу придется списать на боевые потери. Сейчас доктора вашего оператора подлатают — будет как новенький. А жаловаться на нас, конечно, можно, только по большому-то счету виноваты те, кто все это допустил.
Анне стало неловко.
— Простите, — сказала она. — Вы нам жизнь спасли, а я на вас наорала.
— Бывает, — улыбнулся он ей. Анна вдруг заметила, какие молодые глаза у майора Сани. Они как будто светились на перемазанном пороховой гарью лице.
— Вас как зовут? — спросил он.
Она ответила.
— Ну, вот и ладно, Анна Троицкая. Значит, мир? — Журналистка кивнула. — Вот и ладненько. За спасение не меня благодарите — мужчин своих. Это они меня заметили. Я в башне сидел — хорошо, что бойница невысоко расположена, — вот и углядели. И не только заметили, но и сигнал подали, что готовы чеченку держать. Так что это им спасибо. А то бы…. Взрыватели-то нажимного действия, а это страшная штука. Живая ли, мертвая ли тетенька ладонь разжала — и кирдык — все в радиусе пятидесяти метров — уже на небесах.
Шок постепенно проходил, и в Анне заговорило профессиональное любопытство.
— Саня, вы сказали о том, что кто-то виноват. Кто?
— Вряд ли вам позволят говорить об этом в ваших телевизионных «Новостях». Но так, для общего развития, как говорится: еще днем поступила информация, что башня заминирована и готовится захват заложников. Но спектакль не отменили — решили брать «чехов» горяченькими. Прямо во время теракта. Вот и взяли.
— А зачем это нужно?
— Да затем, чтобы отрапортовать о доблестно проведенной операции и награды за нее получить — кому орден, кому звание очередное генеральское, а-а… — Саня досадливо махнул рукой и замолчал.
— А как все происходило? Я почти ничего не видела. Заметила только монахов, а потом сразу появилась эта страшная чеченка. — Анну передернуло от запоздалого ужаса.
— А как у нас все получается? Как обычно — хотели как лучше. Большие погоны, — он указал пальцем наверх, — почему-то решили, что «чехи» в воду не полезут, и поставили охранять бережок простых местных ментов. А они полезли именно с воды. Подошли тихонечко на катере две девки полуголые, о помощи просят, якобы у них движок заглох. Менты рот раззявили — давай помогать, катер к берегу подводить, чтоб не разбило дорогую посудину о камни. А оттуда, как черти из табакерки, монахи полезли. Почти натуральные. Но только вместо кадила у каждого — «калаш», да и вероисповедание подкачало. Заперли олухов милицейских на катере и, хоронясь за стеночкой крепостной, пришли прямиком туда, где их не ожидали. «Чехи» с собой ментовского летеху прихватили — обделался он со страху, — так охрана ничего и не поняла, пока стрельба не началась. Ну а дальше вы и сами все видели.
Они добрались до очередного кордона, перекрывающего въезд на мост. Здесь на набережной выстроилась вереница машин «скорой помощи». Майор Саня открыл дверцу ближайшей:
— Эскулапы, принимайте пациента.
Молоденькая симпатичная девица в белом халатике усадила Воскобойникова на кушетку и захлопнула дверь.
— Врачебная тайна, — прокомментировал, видимо, никогда не унывающий майор Саня. — Ну что, пресса, покурим?
Анна, попробовав прикурить сигарету, попросила это сделать Стасиса — руки дрожали и пальцы не слушались. Мужчины внешне оставались совершенно спокойными — Стасис курил свой любимый «Житан», а швед что-то увлеченно жевал. В разговоре они участия не принимали.
— И что дальше? — спросила Анна.
— А дальше — фокусы. Никто не мог предположить, что к нам заявится Арсен — раньше он только в Чечне работал. Примечательная, надо сказать, личность — в прошлом актер. Не знаю, каким он был актером — на сцене наблюдать не довелось, — но бандит из него получился изобретательный. Всегда что-нибудь неожиданное выкинет. Вот и сегодня — маскарад устроил, бойцов своих в монахов обрядил. И ведь как совпало все: когда они ломанулись в замок, как раз массовая картина была, помните? Там и народ, и бояре, и попы разные. Вот и закосили, похоже, под актеров, да еще этот летеха милицейский с ними, — вроде так все и должно быть. Бабу раздетую с собой тащили: не иначе для пущего эффекта — все на грудь ее голую пялились.
— Их всех убили?
— Нет, к сожалению, Арсена я упустил. Он, когда увидел, что его «живые мины» обезврежены, сразу в арку шмыгнул. А там вход внутрь крепостной стены, в музей, и полно народу — актеры переодеваются и гримируются. Я сразу за ним туда, в толпу. Арсен, волчара, с кого-то шубу боярскую стянул, замаскировался и — на второй этаж. Окно выбил, выскочил. Когда я прибежал, катер уже отчаливал. Милиционеров высадили. Один пытался сопротивляться, так просто бедро прострелили парню. Но одного «чеха» я все же достал: волоком на борт его втягивали. И ушли в залив, на форсаже.
— А их ловят?
— Естественно, операция по перехвату и задержанию проводится. Вон и «вертушки» подняли. — В потемневшем небе действительно раздавался рокот вертолетных двигателей, — А, вот и мои парни посудину достали. Пора мне. Как говорится, дай Бог, не свидимся. Зла на нас не держите, и — удачи вам.
Он легко перемахнул парапет и запрыгнул на борт рыбацкой лодки, где его ожидали бойцы. Натужно и сипло гудя стареньким дизельным движком, посудина двинулась в сторону открытого залива. Анна помахала им вслед и, вспомнив, включила телефон, который будто только этого и ждал, тут же взорвался звонком. Естественно, звонил Шаховцев.
— Анна, где вы? — Голос начальника был строг. — У нас экстренные выпуски, а вы не отзываетесь. В чем дело?
— Дело в том, что нас держали в заложниках и разговаривать по телефону запретили — сначала бандиты, а потом спецназ.
— Вы можете сейчас нам что-нибудь наговорить? У нас очередной экстренный выход в эфир через пять минут.
— Да, могу. Начинать?
— Через паузу, чтобы записать. Кстати, как вы себя чувствуете? — спохватился начальник.
— Спасибо, я чувствую себя нормально, у Воскобойникова травма глаза, камеру разбили спецназовцы.
— Нужно отвезти Диму к врачу. Анна, вы меня слышите?
— Да, слышу, уже у врача…
— Ладно, — перебил он, — об этом позже. А сейчас расскажите, как все происходило.
Анна сосредоточилась и кратко рассказала о захвате замка. Когда она в завершение начала говорить о неоправданной жестокости сотрудников спецслужб по отношению к бывшим заложникам, Шаховцев ее прервал:
— Спасибо, Анна, достаточно. Сейчас запишите концовочку.
Журналистка послушно, с вопросительной интонацией, произнесла имя ведущей — в эфире работала Анжела Курицына. Анна подумала, что сегодня уж Анжела непременно будет «шокирована» — любимое словечко яркой, эффектной блондинки-ведущей. Анжела произносила его, трогательно округляя пухлые губки, — беззащитная очаровательная леди — и наивно хлопала густо накрашенными ресницами. Вновь послышался, на этот раз довольный, баритон начальника:
— Спасибо вам, мы уже отправили в Выборг бригаду с флаем. А вы возвращайтесь. И Диму — непременно в больницу. Я сейчас позвоню в Военно-медицинскую академию, договорюсь. До встречи.
Когда Анна закончила разговор, из машины «скорой помощи» вышли врач и перебинтованный Воскобойников.
— Девушка, — позвала врач Анну и, отведя в сторону, сказала: — Необходимую первую помощь я оказала — вколола обезболивающее. Часа на два хватит. Но нужна консультация опытного хирурга-офтальмолога — похоже, травма серьезная. В Выборге таких специалистов нет.
Анна поблагодарила и вернулась к мужчинам. Прозревший Воскобойников осматривал покалеченную камеру. Стали искать машину и выяснили, что на студийной «девятке» уехать не удастся: все машины, припаркованные вблизи набережной, попали в зону оцепления и должны оставаться на месте до особого разрешения спецслужб.
Это переполнило чашу терпения, и Анна расплакалась, сквозь слезы тоскливо повторяя:
— Ну за что, за что нам все это?
Трое кавалеров бросились ее утешать. Димка и швед сочувственно сопели, а взволнованный Стасис уговаривал:
— Все будет хорошо. Я сейчас сгоняю за джипом — вы только немного пройдите за оцепление, — и поедем домой.
Кое-как успокоившись, Анна, спотыкаясь от усталости, добрела до перекрестка. Минутой позже подкатил джип Стасиса, и, оказавшись в салоне, пахнущем сигаретным дымом и нагретой кожей, она смогла немного расслабиться. Стасис помог Воскобойникову погрузить технику. Сев за руль, он сказал:
— Я позвонил Доктору — он работает в Военно-медицинской академии, — нас там ждут.
Анна благодарно сжала его крепкую ладонь. Ей очень захотелось положить эту надежную большую руку под щеку и заснуть.
Свенсон остался в Выборге — его машина тоже оказалась внутри оцепления. Джип быстро миновал городские окраины, набирая скорость, выскочил на трассу «Скандинавия» и полетел в завесе собиравшегося весь вечер и наконец обрушившегося с небес дождя.
Сентябрь 1906 г. — июнь 1907 г., Кульджа, Китай
В Кашгаре нашему отряду пришлось задержаться под гостеприимным кровом российского консульства. Предстояло получить официальные бумаги китайских властей — без них дальнейшее путешествие стало невозможным.
В этом городе пересекались интересы двух великих стран, и представлявший Британию консул сэр Джордж Маккартни уделил мне немало своего времени. Любезность его была столь велика, что он вызвался сопровождать меня в частых прогулках по городу и окрестностям, в беседах настойчиво повторял, что получение китайского паспорта — очень утомительная процедура и мне предстоит длительное ожидание. Это навело меня на мысль о том, что сэр Джордж чрезвычайно заинтересован, чтобы мой отряд оставался в Кашгаре как можно дольше. Но длительная остановка не входила в мои планы.
За неделю спокойной жизни дисциплина в маленьком отряде ослабла. Целыми днями слонявшиеся без дела по двору консульства или на прилегающих улицах солдаты втянулись в азартные игры — те процветали повсеместно и с полного одобрения властей.
Азарт полностью овладел умами моих подчиненных. Солдат Расторгуев проиграл в кости не только собственную винтовку, но и обмундирование с сапогами и был доставлен в консульство в обнаженном виде китайскими стражами порядка, вооруженными бамбуковыми палками. При этом по пути они затеяли между собой новую игру. Чтобы пресечь пагубное увлечение, я отправил большую часть отряда под командой ротмистра в Кульджу. При себе я оставил лишь испытанного Малоземова.
Стремясь помочь мне, российский консул Колоколов посоветовал оформить паспорт у фаньтая — чиновника, представлявшего в Кашгаре центральную власть. Как считал консул, две первые буквы моей фамилии прекрасно подходили в качестве китайского имени, и это могло иметь значение для разрешения вопроса. Очевидно, еще более веским аргументом послужили переданные фаньтаю сто рублей. Через два дня паспорт был готов. Теперь меня звали Ма-Та-Хан, что означало «Лошадь, скачущая через облака».
Меня уже ничто не задерживало в Кашгаре. Первым испытанием на нашем пути стал покоящийся на высоте четырех тысяч метров ледник Мужар. Я, как и прежде, занялся топографическими работами и метеорологическими измерениями и с помощью Малоземова производил фотографическую съемку горных красот. Наше путешествие осложняли начавшиеся в горах снегопады. Именно здесь я впервые ощутил, что полученный во время боев в Маньчжурии ревматизм обостряется, а состояние моего здоровья оставляет желать лучшего. Напрягая все силы, мы прошли почти семьсот верст по горным перевалам и через тридцать дней прибыли в Кульджу.
Кульджа — довольно большой, нерегулярно застроенный город с населением в полмиллиона человек. Проживают здесь в основном китайцы, но довольно большой процент составляют дунгане и тарачинцы, есть и кыргизы. Примечательны огромные, не мощенные, но чисто выметенные площади, на одной из которых стоит белокаменный яомынь — дворец фудутуна, наместника провинции. Также впечатлили даосские храмы устрашающих размеров, с многоярусными крышами высоко приподнятыми по углам, расписанные яркими красками. Перед храмами и внутри — огромные статуи Будды. Здесь, у величественных площадей, берут начало узкие улочки, хаотично переплетающиеся, застроенные лачугами. Остановились мы в небольшой гостинице, совмещающей в себе собственно гостиницу, харчевню и место петушиных боев по ночам. По-китайски это называется чофан.
Кроме официальной корреспонденции в Кульдже меня ожидало письмо, которое я читал с глубоким сердечным трепетом. Милая Екатерина писала мне о повседневной жизни Верного, о том, что papa болен и они с сестрой ухаживают за ним. Передавала поклоны от людей, с которыми мне довелось там встретиться и которых я успел уже позабыть. И лишь в самом конце письма она осторожно упомянула, что, совершая сейчас — из-за болезни отца гораздо реже, чем прежде, — верховые прогулки в горы, непременно заглядывает на маленький водопад и молится там, прося у Господа поддержки и помощи для меня во всех испытаниях, мне предназначенных.
Я читал эти выведенные аккуратным почерком строчки и вспоминал нашу короткую встречу. Прав верненский живописец — сердце ландскнехта разбито любовью.
В Кульдже я, наконец, встретился с ламой Агваном Доржиевым, который должен определить дальнейшие планы экспедиции — на это недвусмысленно указывали инструкции генерала Палицына. В одну из ночей в дверь комнаты, которую я занимал, постучался уже знакомый мне по совместному путешествию монах Су-ванг и пригласил следовать за ним. Стараясь не шуметь, мы покинули гостиницу и двинулись в глубь темных кривых переулков. Предпринятые меры предосторожности необходимы, — в последнее время я постоянно ощущал пристальное внимание китайских филеров, неотступно следовавших за мной. В лабиринте узких улиц монах отыскал нужный дувал,[7] и мы попали в просторный внутренний двор. Меня провели в помещение, которое тайно занимал Доржиев.
Мы сердечно поприветствовали друг друга. Лама предложил мне располагаться на коврах, устилавших небольшую комнату, и велел монахам приготовить чай. Он вежливо осведомился о нашем путешествии и моем самочувствии. Я поблагодарил его за заботу и, хотя по-прежнему испытывал сильные ревматические боли, предложил вести беседу о том, что ожидает в будущем мой отряд. Лама внимательно, как мне показалось — оценивающе, посмотрел на меня. В этом взгляде читалось что угодно, только не религиозное смирение.
Доржиев, несмотря на традиционные одежды — коричнево-красный балахон и желтую остроконечную шапку, — мало походил на тибетского священника. Это был человек средних лет довольно высокого роста и крепкого сложения. Умное волевое лицо и выразительные глаза красноречиво свидетельствовали, что мой собеседник, облаченный церковным саном, прежде всего — ловкий дипломат.
Он сообщил мне, что намеченный еще в Петербурге маршрут отряда придется изменить — необходимо углубиться в Центральный Китай и выйти к границе Внутренней Монголии, где рядом с небольшим городком Утай проживает сейчас в монастыре изгнанный англичанами повелитель Тибета Далай-лама. Мне предстоит встретиться с ним, и встреча эта должна состояться, в силу ряда серьезных причин, как можно скорее. О дальнейшем Доржиев предпочел не говорить и принялся церемонно предлагать мне чай с китайским печеньем и орехами. Я понял, что судьба нашей экспедиции еще до конца не решена.
Доржиев вновь заговорил о моем здоровье и попросил позволения осмотреть меня монаху — опытному лекарю, объяснив, что традиционно в тибетских монастырях существуют две группы послушников: одни практикуются в изучении священных книг, а другие с упорством осваивают своеобразную тибетскую медицину. Тут же появился невысокий сухощавый пожилой монах, который долго меня осматривал. Самого процесса лечения я не помню: перед тем как заняться этим, лекарь надавливаниями пальцев усыпил меня. Проснулся я на рассвете, и прежний послушник грязными проулками вывел меня к гостинице. К великому удивлению и радости, я перестал ощущать мучительную ноющую боль в суставах и чувствовал себя превосходно.
Через день мы выступили в новый поход. Отряд миновал города и селения густонаселенного Центрального Китая, останавливаясь лишь для ночлега. Великая Китайская стена не произвела на меня особенного впечатления — старинный глиняный вал с редкими полуразрушенными башнями и воротами. Повсюду нас сопровождали: иногда дело ограничивалось парочкой филеров, а временами по пятам следовал целый китайский кавалерийский эскадрон. Переправившись через широкую Хуанхэ — Желтую реку, мы вышли к городу Ланчжоу. Здесь мне вновь предстояло расстаться на время со спутниками и в сопровождении ламы Доржиева направиться в Утай.
По истечении пяти дней путешествия мы достигли монастыря.
«На следующий день Далай-лама принял меня…. В маленькой комнате у дальней стены имелось возвышение, покрытое коврами, и там, в кресле, похожем на трон, сидел Далай-лама. Ему было лет тридцать. Свободный, спадающий складками красный халат, под ним желтое шелковое одеяние, видны рукава с голубыми обшлагами. Под ногами у Далай-ламы была низкая широкая скамеечка. На стенах сутры — развернутые из свитков живописные картины. Рядом с возвышением, по обе стороны от трона, стояли, склонив головы, два безоружных человека в светло-коричневых одеяниях — пожилые тибетцы с грубыми чертами лица.
На мой низкий поклон Далай-лама ответил легким кивком. Он спросил меня, из какой страны я приехал, сколько мне лет и по какой дороге прибыл. После небольшой паузы Далай-лама поинтересовался, не передавал ли Его Величество Император России какое-либо сообщение для него. С явной заинтересованностью он ожидал перевода моих слов. Я сказал, что, к сожалению, перед отъездом у меня не было возможности нанести визит императору. Далай-лама подал знак, и в комнату тут же принесли кусок красивого белого шелка, на котором были тибетские письмена. Он попросил меня вручить этот подарок царю. Когда я спросил, не передаст ли Его святейшество какое-либо устное послание помимо этого подарка, Далай-лама поинтересовался моим титулом. Услышав, что я барон и собираюсь назавтра покинуть монастырь, он попросил меня задержаться еще на один день — к нему должны поступить некоторые сведения, и, возможно, он попросит меня об услуге.
Далай-лама сказал, что ему довольно хорошо в Утае, но сердце его находится в Тибете. Многие посещавшие монастырь жители Тибета просили его вернуться в Лхасу, что он, возможно, и сделает. Я заметил, что, когда Его святейшество посчитал необходимым покинуть свою родину, симпатии русского народа остались на его стороне и за прошедшие годы эти симпатии не уменьшились. Далай-лама слушал мои заверения с искренним удовольствием.
В конце аудиенции я попросил позволения продемонстрировать браунинг, который собирался вручить Далай-ламе в качестве подарка. Когда я показал, что пистолет одновременно заряжается семью патронами, Далай-лама заразительно рассмеялся. Этот подарок весьма прост, сказал я и посетовал, что не могу преподнести что-нибудь получше, ведь за долгое путешествие у меня, кроме оружия, ничего не осталось. С другой стороны, времена такие, что даже святому человеку чаще требуется пистолет, чем молитва».[8]
Покинув монастырь, я в уже привычном сопровождении филера вернулся на грязный, переполненный паломниками постоялый двор, где мне с трудом удалось получить отдельную комнату. Я намеревался переночевать здесь, в надежде получить какие-либо известия о дальнейшей судьбе экспедиции. Среди ночи меня разбудило поскребывание в жалкое подобие двери, сплетенное из сухих стеблей тростника…
Август 200… г., Санкт-Петербург
В приемном покое Военно-медицинской академии, перепоручив Димку заботам дежурного врача, Анна впервые за несколько часов, спрессованных захватом замка в одно бесконечно длящееся мгновение, взглянула на себя в зеркало. Увиденное ей не понравилось — ссадина на лбу, грязные пятна на носу и щеках, растрепанные волосы, тоскливые глаза измученного и загнанного зверька.
— Устала, дочка? — участливо спросила ее пожилая санитарка, — Страшно небось там было? Стреляли? Пойдем, милая, умоешься.
Она отвела Анну к умывальнику и принесла свежее хрустящее полотенце с неистребимым больничным запахом дезинфекции. Вода освежила, и Анне стало чуть легче, а заботливая санитарка предложила ей чаю с сухарями.
Дождь продолжался, и на улице было зябко и темно. Белые ночи покинули город и отправились на север доживать свой короткий призрачный век. Стояла удивительная тишина, необычная для Петербурга, где любой час ночи, особенно летом, заполнен множеством звуков усталого мегаполиса.
У входа в приемный покой, терпеливо ожидая ее, мок Стасис.
— Я отвезу тебя домой.
Он осторожно взял ее ладонь и погладил, тепло и бережно. Анна чувствовала его мужской интерес, ей это нравилось. Но она боялась и не хотела дальнейшего сближения. И не только из-за не располагающих к лирическому настроению событий — смерти деда и жестокого фарса с захватом замка. Страшно разрушать с таким упорством когда-то выстроенную внутреннюю защиту — стеночку, отделившую ее душу от мучительной несостоятельности бывшей «большой любви». «Да и не время сейчас. Об этом я не буду думать сегодня — подумаю завтра». — Анна усмехнулась, поймав себя на цитате из «Унесенных ветром».
Неожиданно и очень вовремя зазвонил телефон. Нервничающий Шаховцев, узнав, что Воскобойникова уже определили в клинику, требовал немедленно отправляться в редакцию — ее выборгский сюжет через тридцать минут должен появиться в экстренном выпуске.
— Дом отменяется. — Анна вздохнула и попыталась сосредоточиться на предстоящей стремительной подготовке материала к эфиру. — Ты не мог бы подвезти меня на студию? Тут недалеко.
В теплом салоне машины она почувствовала, как промокла и продрогла. «Вдобавок ко всему прочему еще и заболею», — подумала она тоскливо. Закрыв глаза, Анна сосредоточилась на тексте будущего репортажа: слова уже выстраивались в законченные фразы, разноцветные осколки трагифарсной мозаики складывались в четкую картину происшедшего. Это маленькое шаманство увлекало — она искренне любила свою работу. Как жаль, что из-за Димкиного ранения не записали ни одного синхрона — так на профессиональном жаргоне называются небольшие интервью. Потихоньку проговаривая про себя, как бы пробуя на слух отдельные предложения, Анна не заметила дороги и вернулась в реальный мир лишь после того, как Стасис затормозил у студийного крыльца.
Извлеченные из багажника штатив и сумку с камерными причиндалами не получалось ухватить одной рукой — другой Анна крепко сжимала ручку телевизионной камеры, которую Димка велел беречь пуще девичьей чести и нигде, ни при каких условиях не оставлять дорогостоящий аппарат без присмотра. Пришлось попросить Стасиса задержаться. Опередив Анну, он распахнул перед ней дверь:
— Можно, я тебе позвоню?
— Конечно, — ответила она на ходу, протискивая увесистую камеру через турникет, — Спасибо тебе за все.
Со всей возможной прытью она вскарабкалась по лестнице на третий, «новостийный» этаж. На площадке уставшие и раздраженные незапланированным ночным бдением молча курили коллеги.
— Ну и видок у тебя, Троицкая, — своеобразно поприветствовала Анну выпускающий редактор Ирина Мадзигон, бальзаковского возраста женщина с красивыми ногами и сложным характером, — Не задерживайся, быстро садись писать, — там Шаховцев весь на гуано изошел, тебя дожидаясь.
— Ребята, — попросила Анна операторов, — спуститесь, пожалуйста, вниз. Там человек дожидается — со штативом и прочим имуществом.
— Все сделаем, не переживай, — успокоил ее Женька Алексеев, забирая камеру, — Ты расскажи, как там Димка?
— С Димкой плохо. Глаз поврежден, будут оперировать.
Тут распахнулась дверь, ведущая в редакционный коридор, и на площадку выглянул сам Шаховцев. Всегда крайне трепетно относящийся к своей внешности, сейчас он был в несвежей белой рубашке с распахнутым воротом, подбородок и щеки покрывала неопрятная щетина.
— Анна, почему вы еще не за компьютером? У нас выпуск через двадцать минут! Давайте-давайте — все остальное потом.
Он схватил журналистку за руку и буквально потащил за собой в тесную комнатенку, которую начальство предпочитало громко именовать ньюс-румом. Там почти насильно усадил на вращающийся табурет перед монитором и, предупреждая возможные вопросы, громко объявил:
— Троицкую — не беспокоить! — и, как бы охраняя, встал у Анны за спиной, интимно положив ладонь на ее плечо — очевидно, чтобы приободрить.
Шаховцевская рука на плече ужасно раздражала. Набирая текст, Анна ерзала, пытаясь робко выползти из-под начальственной длани. Отчаявшись, она нервно дернула плечом. Шаховцев наконец отошел и принялся подбадривать вялых сотрудников:
— Арапова, не спите — лучше помогите, чем можете. Вы перемонтировали сюжет? А видеоряд для утренних выпусков написали? Вот просыпайтесь и пишите. Маргарита Моисеевна, — была у него такая манера — прибавлять к имени собеседника семитское отчество, — что у нас там с Искрометовым?
Заместитель Шаховцева Маргарита Оганесян, оторвавшись от телефонной трубки, пожаловалась:
— Искрометов — как обычно: еще не разобрался в ситуации и «флаиться» пока не готов.
Корреспондент Илья Искрометов, обстоятельный бородатый флегматик, никогда не нервничал и не спешил, чем доводил дам-редакторов до умоисступления. Хотя «флай»[9] позволяет выходить с места события в эфир прямо во время выпуска, «стендап» корреспондента обычно старались записать чуть раньше, дабы избежать возможных технических проблем. Шаховцев выхватил у Оганесян трубку:
— В чем дело, Илья? Вы уже сколько времени находитесь в Выборге? Почему до сих пор не готовы? — Шеф выскочил в коридор, и оттуда донеслись темпераментные эпитеты, которыми Шаховцев пытался расшевелить Искрометова.
Кто-то поставил рядом с клавиатурой кружку кофе. Анна, пытаясь найти точное слово, глотнула обжигающую горечь и невнятно промычала слова благодарности. Она негромко прочитала только что законченную фразу. Из-за этой особенности работы журналистов с текстами редакционную комнату всегда наполняло разноголосое гудение. На неподготовленных посетителей вид двух десятков исступленно уставившихся в экраны мониторов и непрерывно бубнящих корреспондентов производил неизгладимое впечатление.
— Не предавайтесь прекрасным мечтаниям, Троицкая, — дописывайте скорее! — Вернувшийся Шаховцев пристроился рядом и начал читать готовую часть сюжета.
Его отвлекла монтажер Надежда Пикова. Высокая, уже утратившая стройность, но еще сохранившая гордую и независимую осанку, под стать своему характеру, она походила на состарившуюся Анну Ахматову. Пикова являлась настоящей бабушкой ленинградского телевидения — пришла на студию еще в начале 60-х годов. Она славилась прямым и темпераментным нравом. Рассказывали, что в пылу творческих споров при монтаже программ Пикова не только высказывала «творцам» (как полупрезрительно называли журналистов технические и административные работники), что думала об их способностях, но и, обладая недюжинной силой, особо бестолковым или скандальным могла вполне по-мужски дать в ухо. Сейчас силы уже не те, но она по-прежнему пристально интересовалась всеми внутренними делами редакции и с удовольствием опекала совсем юных, только что пришедших на работу корреспондентов, считая своим долгом участвовать в профессиональном воспитании будущих «звезд» петербургского телевизионного эфира.
При тотальной борьбе с курением могла позволить себе дымить в монтажной аппаратной. Вот и сейчас вышла в редакционную комнату с сигаретой, стряхивая пепел в сложенную ковшиком ладонь.
— Мы не успеем собрать сюжет Троицкой к эфиру. Воскобойников наснимал почти две кассеты — сорок минут исходника, — непререкаемым тоном заявила она.
Шаховцев, утративший нынешней беспокойной ночью лоск и вальяжность — даже аккуратно остриженные короткие волосы, окаймлявшие его элегантную лысину, были взъерошены и торчали в разные стороны, — поспешил пресечь пораженческие настроения:
— Вместо того чтобы говорить всякие глупости, Пикова, идите лучше выбирайте куски для монтажа. Мы все успеем. Если, конечно, вы по своей дурацкой привычке не станете бесконечно перематывать исходники туда-сюда. И прекратите здесь курить!
Прерывая разгоравшийся скандал — Пикова уже набрала в легкие воздуха, чтобы достойно ответить, — Анна обратилась к шефу:
— Я закончила.
Забыв о ссоре, Шаховцев склонился к монитору. Прочитав последнюю фразу, он поморщился:
— Финал никуда не годится — нужно переписать. Пустите меня к компьютеру. — Он потихоньку подталкивал ее, пытаясь добраться до клавиатуры. Вращающийся табурет на роликах предательски заскользил в сторону, но Анна крепко вцепилась в край стола:
— Почему не годится? Здесь каждое слово — правда!
— Ах, господи, и за что мне это все? Ну, нет же сейчас времени на дискуссии, ну сделай это для меня, маленький, я прошу. — Шаховцев «включил» мужское обаяние, задействовав бархатистые мурлыкающие интонации. Чувствуя ее заведенность, он попытался договориться по-хорошему.
В любой другой день Анна непременно растаяла бы и безропотно подчинилась. В любой другой, но не в этот. Она молчала, упорно вцепившись пальцами в стол. Терпение Шаховцева сегодня не было беспредельным:
— Что за детский сад, Троицкая? До выпуска — Десять минут. Я вам как начальник службы информации заявляю — в «Новостях» не будет слезливой истории о нашем пострадавшем операторе. Тем более я не позволю дать в эфир ваши безответственные оценки деятельности спецслужб. Я, слава богу, еще в здравом уме пребываю.
На этот раз он решительно откатил ее стул, добрался-таки до клавиатуры и принялся торопливо удалять куски текста. Анна вскочила, чуть не опрокинув при этом скромную практикантку — студентку журфака, тихо сидевшую в углу. Та испуганно пискнула — на ее лице читалось огромное желание немедленно залезть под стол. Анна, до настоящего момента ни разу не смевшая перечить шефу, рванула его за плечо, разворачивая к себе.
— Что, опять кто-то сверху просил не упоминать про отдельные обстоятельства? А как же корпоративная солидарность, о которой вы так любите рассуждать? Воскобойников в больнице, и еще не известно, будет ли он теперь видеть и сможет ли работать, а вы… Как вам не стыдно? Да вы просто трус! — выпалила она, глядя в глаза опешившему руководителю.
Шаховцев тоже вскочил, и на несколько секунд повисло гнетущее молчание — было заметно, с каким трудом он пытается подавить приступ гнева. И все-таки опыт и воспитание — интеллигентная петербургская семья с двухвековой историей — сделали свое дело. Он сдержался. Да и стремительно приближающееся время выхода в эфир не располагало к выяснению отношений.
— Вы совсем уже… Троицкая. Идите монтировать сюжет. И попробуйте только не успеть к эфиру! А после выпуска зайдите ко мне. — Ледяная надменность тона не предвещала ничего хорошего.
Растерянно наблюдавшие развитие конфликта коллеги, стряхнув оцепенение, засуетились вокруг бледной Анны. Закусив губу она судорожно вздохнула, чтобы не разреветься. Кто-то протянул ей листки с распечатанным текстом сюжета, а маленькая и темпераментная Лялечка Крикунова — женщина без возраста, которая, судя по всему, так и останется Лялечкой до глубокой старости, — упорно пыталась всунуть в руку стакан с водой, резко пахнущей валерьяной.
— Выпей, деточка, и успокойся. Ну пожалуйста, — уговаривала она.
Анна мотнула головой — говорить она пока не могла.
Справившись с эмоциями, журналистка начитала закадровый текст и вдвоем с Пиковой судорожно искала нужные кадры на отснятых Димкой кассетах. В дверь аппаратной то и дело заглядывала надменная Мадзигон и с бесстрастностью китайского будильника сообщала, сколько минут у них остается. Экстренный выпуск уже начался, и, доклеивая последние планы, Анна краем глаза наблюдала, как Искрометов, неуловимо похожий на плюшевого медведя, обстоятельно рассказывает, о том, что сейчас происходит в Выборге. Наконец Пикова сделала последнюю склейку, отмотала сюжет в начало, и большая мастер-кассета лениво выползла из магнитофона. Ее подхватила Лялечка и, дробно стуча каблучками маленьких туфелек, стремительно рванула в эфирку.
Несколько секунд спустя кадры захвата Выборгского замка появились на экранах телевизоров. Шаховцев, смотревший выпуск в собственном кабинете, удовлетворенно усмехнулся: «Новости» показали это первыми.
Пикова ушла курить, а Анна еще несколько минут бездумно сидела, привалившись спиной к стеллажам с архивными кассетами. В аппаратную заглянул монтажер Гарик — невысокий, худенький, вечно небритый и растрепанный, похожий на внезапно состарившегося тинейджера, и с видом заговорщика поманил ее пальцем. В своей аппаратной, по соседству, он извлек из-за стойки с магнитофонами початую бутылку водки и развернул на монтажном пульте шуршащую фольгу шоколадки. Трогательная забота Гарика помогла девушке немного прийти в себя. Она отказалась от водки и, благодарно поцеловав его небритую щеку, отправилась к Шаховцеву. Гарик вздохнул, выпил и вновь уселся работать — он постоянно пропадал ночами на студии, кому-то что-то монтируя, почти всегда — бесплатно, увлеченный самим процессом.
Анна плелась по длинному коридору, оттягивая объяснение с начальством. По пути она разглядывала развешанные по стенам дипломы, полученные «Новостями» на разнообразных телевизионных конкурсах и спортивные кубки, заработанные футбольной командой, — любимой игрушкой дирекции. Награды соседствовали с портретной фотогалереей ведущих и корреспондентов «Новостей». Была там и ее фотография — открыто улыбаясь в объектив, Анна чувствовала себя в тот момент абсолютно счастливой — ведь она стала корреспондентом лучшей телевизионной информационной службы Петербурга. Сейчас ей хотелось забиться куда-нибудь в тихий уголок и поплакать из-за так несправедливо устроенной жизни.
Это желание резко обострилось после того, как обиженно поджавший губы Шаховцев унизительно вежливо объяснил ей, что работают они все в компании «Федерация» и что нет ничего удивительного в том, что приоритетом для «Новостей» является взвешенный подход к подаче информации.
— Взвешенный, — повторил он, — и духоподъемный. А смаковать подробности ЧП — это дело наших коллег-конкурентов. НТВ, например.
Наверное, он все-таки надеялся услышать от Анны покаянные слова, но она упрямо продолжала молчать, уверенная в собственной правоте. Да и сил не осталось на выяснение отношений с шефом.
— В общем, так, Троицкая. Если вы намерены остаться в «Новостях», вам предстоит всерьез пересмотреть свое отношение к работе, — закончил он, прозрачно намекнув на вполне реальное увольнение. Только этого Анне и недоставало.
Обиженная и несчастная она отправилась курить на улицу. Но побыть одной не удалось — рядом с ней на скамейку присел Стасис:
— Я подумал, тебе будет нужно добраться до дому…
— Ну вот еще, что я, маленькая, что ли, — сама не доберусь? Да и неизвестно, сколько мне здесь еще пробыть придется. Давай-ка отправляйся спать, — отказалась она решительно, но забота Стасиса обрадовала. Как будто где-то в глубине души, зажгли маленькую свечку. Теплый язычок ее пламени согревал, и тьма вокруг становилась не такой безысходной. Как-то легко, само собой, словно старому приятелю, она рассказала Стасису о конфликте с Шаховцевым. Он внимательно слушал, время от времени, потирая кончиками пальцев лоб, а потом обстоятельно и серьезно принялся ее утешать. Со свободой слова везде проблемы, говорил он, в Литве приятели-журналисты тоже жалуются.
Коллизию сегодняшней ночи обсуждали и в редакции. «Коллизия» — модное словечко, одно из тех, что периодически пополняют политический и журналистский лексикон.
— Молодец, Троицкая, все правильно сказала — совсем совесть потеряли! — безапелляционно заявила Пикова. — Не «Новости», а сплошной политический заказ.
— Ну, ты скажешь тоже, Надежда, — не согласилась с ней отвлекшаяся от написания видеоряда Алена Арапова, — даже я себе такого не позволяю.
Алена в профессии была крепким «середнячком», без журналистских взлетов. Коктейль из скрытого комплекса — Арапова страдала из-за своей полноты, — и буйного природного темперамента волновал кровь и не давал ей жить спокойно. В выяснения отношений Арапова бросалась со всем пылом нерастраченной сексуальной потенции молодой здоровой девушки.
— Правда, правда, — продолжала она, поднявшись и уперев кулачок в крутой бок, — я себе такого не позволяю. А где — я и где — она.
Сказано так, что и самому недогадливому становилось ясно, что Алена на вершине профессиональной лестницы, а Троицкая — где-то у ее подножия.
— Ты-то уж да, — пробурчал обычно молчаливый и серьезно-сосредоточенный оператор Горшков.
Арапова немедленно развернулась к нему, приготовившись к схватке:
— Что — я?
Горшков оторвался от компьютерного пасьянса, встал, оглядел невысокую Арапову и веско произнес:
— Ты, Арапова, — мастодонт, — и неторопливо, не обращая внимания на возмущенные крики обиженной журналистки, вышел из редакционной комнаты.
В одиночестве размышлял о конфликте и Никита Шаховцев. Он прекрасно понимал эту искреннюю девчонку, ее обиду и желание с помощью профессии отстоять справедливость. Конечно, неоправданная жестокость спецназовцев станет предметом специального разбирательства, и шеф службы информации не сомневался, что «Новости» получат официальное письмо с извинениями от ФСБ.
Похоже, юная госпожа Троицкая не понимает главного. Борьба с терроризмом — важнейшая государственная задача. И, рассказывая о терактах в эфире, необходимо учитывать политические реалии. В этом заключается элементарный долг каждого журналиста, который хочет сделать что-то полезное для своей страны. А это — тяжелая и отнюдь не всегда приятная работа. Чистеньким оставаться легко — стоя в сторонке и наблюдая за тем, как другие разгребают грязь и навоз. Работать и, если необходимо, четко выполнять приказы — куда сложнее. Проще — прикрывать собственное безделье разговорами о свободе слова. Никита Шаховцев хорошо понимает, чем одно отличается от другого, именно поэтому ему удалось создать лучшую в Петербурге телевизионную службу новостей.
Резкий тон журналистки и обвинения в трусости можно простить как проявления юношеского максимализма и пережитого ею сильного стресса. Но… Шаховцев снял с полки привезенную из Испании миниатюрную модель «Ниньи» — любимого корабля Кристобаля Колона, запаянную в бутылку зеленого стекла. Любуясь мелкими точеными из дерева деталями, он усмехнулся, представив себя на капитанском мостике каравеллы… Но сам факт бунта должен караться решительно и беспощадно. Как там у Гумилева:
…Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что сыпется золото с кружев, С розоватых брабантских манжет.[10]Черт! Он сморщился и положил ладонь на живот — начался приступ. Результат нервного дня и позабытых рекомендаций врача о необходимости регулярного питания — больной желудок тут же напомнил о себе.
Впрочем, произошедшее занимало далеко не всех, вынужденных коротать ночь в небольших комнатках «Новостей». Женщин-редакторов, на плечи которых ложилась основная нагрузка подготовки выпусков: ежедневная рутина выбивания или выпрашивания информации из официальных и не очень источников, организации съемок, написания и монтажа сюжетов и своевременной выдачи сделанного в эфир, — занимала вовсе не эфемерная свобода слова. Измученные продолжающимся почти сутки бесконечным днем, они думали о том, как бы умудриться хоть немного отдохнуть, чтобы сил хватило на всю рабочую неделю, до следующих выходных.
В эти счастливые дни можно спокойно поговорить с детьми и мужьями. Переделать массу необходимых домашних дел. И даже, если повезет, что-нибудь почитать. Или, — о, счастье! — наконец-то, заняться собственными лицами и телами. Скромные мечты рабочих лошадок о непритязательном отдыхе в привычном теплом стойле. Заместительница Шаховцева Маргарита Оганесян в очередной раз просматривала новостийные ленты информационных агентств в поисках свежих сообщений но, очевидно, все затихли до утра.
Так всегда и бывает при крупном ЧП. Сначала — лавинообразный поток информации. Позже, когда уже увезли раненых, а медэксперты занимаются телами тех, в чьей судьбе случившееся поставило последнюю точку, когда спецслужбы уже преодолели вечный хаос первых минут, а очевидцы, возбужденные и ощущающие свою значительность — «вот же судьба, — мужику, что рядом стоял, полголовы снесло, а у меня — ни одной царапины», — уже разъехались по домам, первый информационный поток превращается в редкие капли отдельных сообщений. Следующий день — это время комментаторов.
— Ну ничегошеньки нового нет! Может, федералы уже успокоятся и нас наконец отпустят домой? — мечтала вслух Оганесян, прихлебывая бог знает какую по счету порцию давно остывшего кофе.
— Ах, Маргоша, как бы это было замечательно! — как всегда эмоционально поддержала ее Лялечка Крикунова, — Мне завтра, то есть уже сегодня, утром маму к доктору везти.
— А мне с сыном надо в университет, — Ирина Мадзигон намеревалась успешно завершить эпопею по превращению сына-школьника в студента.
— А вот в «Ветке сакуры» суши-ланч — всего двести пятьдесят рублей, — меланхолично вставил реплику ведущий Егор Безупреков. У него имелся собственный метод релаксации: он просматривал ресторанные сайты.
— О, только не о еде, — застонала измученная голодом Маркина, явственно сглотнув слюну. — Может, позвонить в Москву — чего они себе думают?
Но осуществить конструктивную идею не успели — появился Шаховцев и сообщил, что московское начальство дало отбой — больше этой ночью экстренных выпусков не будет.
— Ура, ура! Домой, домой… А нас отвезут?
— Да, две развозки — юг и север… а мосты-то — разведены.
Редакция наполнилась оживленным гомоном. Шаховцев остановил убегавшую Маркину:
— Инна Соломоновна, Троицкую в расписание не ставить — только дежурства, впредь до особого распоряжения.
— Хорошо, завтра как раз некому дежурить во второй половине дня.
— Где она, кстати? Уже ушла?
— Вон ее вещи. Курит, наверное.
— Передайте ей, чтобы все свои материалы она оставила Искрометову — Выборгом будет заниматься он. Что у нас, кстати, завтра по этому поводу?
Пришлось возвращаться к доске с расписанием — обсуждать план съемок на завтра, давно превратившееся в сегодня. В замке во время перестрелки погибли двенадцать человек. Четверо — террористы, остальные — зрители и музыканты оркестра Мариинки. Необходимо прямо с утра ехать в театр и добиваться комментариев. Шаховцев, кроме того, настаивал, чтобы журналисты побывали в семьях погибших. Конечно, верх бестактности — лезть с камерой в осиротевший дом, но искреннее горе родственников сильно смотрится в информационных выпусках.
Оживленной толпой новостийщики спустились на крыльцо, обеспокоенные сейчас лишь одним — чтобы микроавтобус-развозка успел проскочить сведенные мосты в небольшую паузу между проводками судов по Неве. Маркина окликнула Анну:
— Троицкая, ты сегодня во второй половине дня дежуришь, и следующая ночь — тоже твоя.
— А сейчас?
— Сейчас все — гуляй, Вася. Только дозвонись Искрометову. Расскажи, где лежат твои кассеты из замка.
— Выборгом завтра будет заниматься он, — вмешалась в разговор явно довольная Арапова, — Вот так вот: с начальством спорить — вредно для здоровья.
— Ну, у тебя-то, Алена, с этим все в порядке. В смысле здоровья, — под общее хихиканье заметил Безупреков, намекая на ее рубенсовские формы.
Круглые щеки Араповой стали пунцовыми, но достойно ответить она не успела: к крыльцу одновременно подъехали два микроавтобуса, и все устремились занимать места.
— Ну вот, ждать меня не придется — я сейчас. — Сказала Анна Стасису и отправилась в редакцию.
Время, проведенное с ним, действовало удивительным образом: все отдалилось, стало не важным. Дышалось ей сейчас легко и свободно. Быстро дозвонившись сонному Искрометову и объяснив, где оставила кассеты, Анна подхватила куртку и рюкзак. Прыгая через две ступеньки, сбежала вниз, вскочила в гостеприимно распахнутую дверь джипа, а когда машина тронулась, сладко зевнула и поняла, что сейчас заснет. До улицы Бармалеева по пустынной в этот час Петроградской стороне — рукой подать, и, когда автомобиль остановился у парадной, Анна по-детски, до слез, зевая, пробурчала:
— Если хочешь, пойдем. Но кофе и чая не обещаю — сил нет.
Потихоньку, чтобы не разбудить соседей, они добрались темной прихожей до ее комнаты. Анна, вернувшись из душа, сунула Стасису чистое полотенце и новую зубную щетку, а когда он привел себя в порядок, свернувшись калачиком, уже тихонько посапывала на расстеленном диване. Стасис осторожно прилег с краю, но Анна, во сне почувствовав его тепло, путаясь в одеяле, повернулась и прижалась к нему.
Он осторожно касался пальцами ее волос, пушистых и мягких, нежной кожи щек и подбородка. Она крепче прижималась к нему и забавно морщилась, когда он ласково целовал ее в нос. То ли сладкий сон это был, то ли — сказочная явь. В их соитии нежность руководила страстью, а та, до краев наполнившись сладкой силой, выплескивалась, чтобы вновь окутать их трепетным покровом нежности. Качаясь на этих волнах, они то просыпались, то засыпали вновь. И когда Стасис, опоздавший на все намеченные заранее встречи, все же решился уйти, чтобы не смущать ее пробуждения, Анна улыбнулась ему во сне.
В коридор, услышав его шаги, вышел щуплый, невысокий паренек с коротко остриженными осветленными волосами в широченных штанах и бесформенном свитере. На нижней губе болтался серебристый шарик, небольшое никелированное колечко украшало левую бровь. Он встал посреди прихожей, вызывающе и выжидательно уставившись на Стасиса. Стояли молча, разглядывая друг друга. Наконец, паренек нарушил молчание:
— Ты, это, боже тебя упаси Аньку обидеть. Она мне как сестренка. Я за нее, в натуре, убить могу. Въезжаешь? Приколись! — Он ловко вытащил из кармана нож и, щелкнув кнопкой, продемонстрировал Стасису грозного вида лезвие.
— Догоняешь? — спросил он требовательно.
— Догоняю, — согласился Стасис и, мягко подвинув паренька, пошел к двери. На пороге обернулся и улыбнулся ему: — Спасибо.
Из кухни раздался голос:
— Тимофей, кто это там пришел?
— Да так, баба Мань, знакомый один. — И Тимофей, в последний раз грозно глянув на Стасиса, удалился на кухню.
А Стасис всю дорогу до Гавани, где располагался выставочный стенд его компании, и потом — в суматошных заботах дня, выпадая на время из реальности, все ощущал губами, как твердеет от прикосновения смугло-розовый нежный девичий сосок.
Сентябрь 1906 г. — июнь 1907 г., Кульджа, Китай
…Стараясь не производить шума, я достал револьвер и, подкравшись к двери, резко ее распахнул. В полутемном коридоре я едва сумел увидеть невысокого старика-китайца. Он низко поклонился и протянул мне листок бумаги, на котором четким почерком выведено: «Привет от Феди».
Старик жестом пригласил следовать за ним и после недолгих блужданий по темным узким улочкам среди глинобитных домиков вывел меня к длинной постройке без окон. Легкий ветерок раскачивал над входом два красных бумажных фонарика, а на глиняной стене, рядом с входом, завешанным тростниковой циновкой, в темноте едва различались иероглифы. Полутемное помещение перегораживали легкие ширмы, разделяя на своеобразные кабинеты. На лежаках в разных позах сидели и лежали азиаты. Одни курили, потягивая дым из длинных прямых трубок, оканчивающихся неширокими чашками, заполненными тлеющими угольками, другие уже пребывали в бессознательном состоянии. Под низким потолком висели густые клубы чуть сладковатого опиумного дыма.
Ко мне с поклоном подошел полуголый служка-китаец и провел меня в самый темный угол этого плохо освещенного прибежища порока. Он отодвинул ширму, приглашая меня подняться на помост, где полулежал, опершись на подушки, человек в китайском одеянии. Лицо смутно белело в полутьме. Как только служка, поклонившись и задвинув ширму, удалился, незнакомец обратился ко мне:
— Полковник, оставьте вы в покое свой наган. Дайте я лучше обниму вас.
Голос показался мне знакомым. Попав в крепкие объятия, я разглядел смеющиеся раскосые калмыцкие глаза и узнал Лавра Корнилова, с которым мы очень сдружились за годы учебы в Николаевском кавалерийском училище.[11] В дальнейшем служба нас разлучила, и с той прекрасной поры нам не довелось встретиться, хотя, я конечно, же слышал о подвигах Лавра в Маньчжурии. После первых радостных и, как обычно бывает, малосвязных слов Лавр, приняв серьезный вид, предложил мне устроиться на лежаке и протянул раскуренную трубку:
— Если не хочешь курить, то сделай хотя бы вид — не привлекай к нашим персонам лишнего внимания. — Поудобнее устроившись на подушках, он продолжал: — Про тебя, Густав, все знаю. Про себя долго рассказывать недосуг. Сейчас служу в Пекине, в военной миссии, сюда направили по твою душу. Как видишь, мне тоже не удалось избежать близкого знакомства с «дядей Федей».
Корнилов, как и я, оказался вовлечен в тайные операции Генштаба, которыми руководил генерал Федор Палицын, «дядя Федя».
— Такие вот «звери» выросли, — сказал Лавр, усмехнувшись.
В Николаевском училище, как, впрочем, и в любом другом военном учебном заведении, существовало негласное разделение. Учащиеся младших курсов именовались «зверями» и не имели права пользоваться лестницами, по которым ходили старшекурсники, к коим следовало обращаться «господин корнет». У нас с Лавром были еще и специальные прозвища: меня из-за высокого роста звали «длинным зверем», а Лавра — «обезьяним царьком», очевидно, за невысокий рост, раскосые глаза и кривые ноги степняка.
Но сентиментальные воспоминания не ко времени, и я дал понять Лавру, что готов говорить о деле. Он странно посмотрел на меня и вновь усмехнулся:
— Пожалуй, изволь. В Тибете сейчас хозяйничает английский экспедиционный корпус. Командует им полковник Френсис Янгхасбенд. При этом дипломатические штафирки — и наши и британцы — делают вид, что ничего не происходит, и только что не лобызают друг друга. Для непосвященных великие державы строго придерживаются договора о нейтралитете в отношении Китая и Тибета. Однако корпус Янгхасбенда в Тибете разбил тамошнее туземное войско, рассадил по крепостям гарнизоны, а сам он обретается в Лхасе, в Потале — дворце Далай-ламы. И не просто так стервец обретается. Как доносят агенты-тибетцы, британцы занялись старательной ревизией буддийских сокровищ, хранящихся во дворце. Сокровища эти, судя по всему, того стоят. Представь себе огромный дворец в пятнадцать этажей, размерами с Дворцовую площадь в Петербурге, кладовые которого забиты золотом и драгоценными камнями — ламы многие века копили добро. Да и книгами инглезы интересуются, в коих вся буддийская мудрость заключена, — тысячи томов, самые древние фолианты, говорят, написаны еще на пальмовых листьях и чуть ли не самим Буддой. В общем, судя по всему, собрались британцы всерьез облегчить монашескую казну. Далай-ламе — не трудно догадаться — это не нравится, и через посла своего в Петербурге, бурята Доржиева — ты с ним уже наверняка успел познакомиться, — так вот, через этого хитрого бурята заручился лама августейшей поддержкой. — Он взглянул на меня, а затем продолжал, и тон его стал почти официальным:
— В Пекине, в русской миссии, получено высочайшее повеление: тайно воспрепятствовать ограблению священных ценностей.
Он замолчал, глубоко затянулся трубкой, так что угольки ярко вспыхнули, бросив блики неверного света на его лицо, и мне почудилось, будто сквозь знакомые черты Лавра проступила зловещая маска оперного Мефистофеля. Громкий шепот Корнилова вновь заполнил тесное пространство клетушки опиумного притона:
— Приказ-то отдан, но как его выполнить? До Тибета почти тысяча верст, и единственная русская боеспособная единица в округе — это твой отряд.
Он опять замолчал. А я, стараясь унять головокружение, откинулся на подушки и закрыл глаза — видимо, спертый, наполненный опиумом воздух оказывал воздействие и на меня. Внезапно я довольно ясно увидел горную дорогу, необыкновенно прямую и ровную. Дорога казалась совершенно пустой, а где-то вдали, за горной цепью, у линии горизонта находился невидимый источник света, который освещал все вокруг. В звенящей тишине отчетливо слышался близкий и неторопливый перестук лошадиных копыт.
Я открыл глаза и увидел склоненное надо мной лицо Лавра. Он несколько секунд пристально смотрел мне в глаза, по его седеющим вискам струились капли пота. Корнилов облизал пересохшие губы и совсем тихо шепнул:
— Ты понимаешь, барон, что дело это безнадежное? Если даже ты сможешь пробиться через пустыню и предгорья, где хозяйничают банды диких кочевников, и дойти до Тибета, то Тянь-Шань, пройденный твоим отрядом, покажется катальными горками в Михайловском саду. А ведь там надо будет воевать с хорошо обученными и опытными горными стрелками. И их больше, много больше, даже если тибетцы помогут твоему отряду. Ты не вернешься оттуда, понимаешь это?
Он все еще смотрел мне в глаза, но уже перестал казаться зловещим: подле меня сидел смертельно уставший человек, честно выполнявший свой неприятный долг.
— Да, — ответил я Лавру и рывком поднялся с циновки, — мне нужен проводник.
Он устало откинулся на подушки, кисть его безвольно разжалась, выпала потухшая трубка.
— А я знал, что ты согласишься. Ты всегда такой был… В училище вечерком — все по девочкам, а ты в манеж или тир, а занятия по тактике и стратегии просто обожал, — ну прямо, будущий Александр Великий…
Язык его заплетался, и речь становилась все менее связной.
— Остальное, — тебе ламы скажут. Доржиев, хитрая бестия, нашел подход к матушке государыне, истеричке немецкой. Ах да! Вернешься живым из Тибета — быть тебе генералом, обещана высочайшая награда. А это хорошо, что ты согласился, дорогой мой барон Карл Густав Эмиль Маннергейм. А то бы, — он наставил на меня палец и сделал вид, что целится, — пиф-паф — и нет барона.
Он захохотал и долго не мог успокоиться, все повторяя свое дурацкое: «пиф-паф — и нет барона». Вдруг, остановившись, поднял на меня совершенно ясный взгляд и трезво произнес:
— Хорошо, что согласился. Иначе тебя пришлось бы убить. Только, тсс, — никому. Служба такая у «Дяди Феди» — тайная: никто ничего не должен знать. А сейчас иди, а я побуду здесь немного. Прощаться не будем. Там — свидимся, там все свидятся. — И он упал на циновки, окончательно отдавшись власти опиума.
Этим странным свиданием мои приключения той ночью не завершились. Давешний монах поджидал меня у выхода и вновь знаками предложил следовать за ним. Окольным маршрутом мы двинулись к монастырю, обходя посты китайских солдат, старательно охранявших монастырские стены. Мой спутник привел меня к тайному лазу, служившему, очевидно, для гостей, визиты которых хотели скрыть от пристального внимания китайских властей.
Запутанными коридорами прошли мы к покоям Далай-ламы. Он встретил меня на этот раз не в зале для приемов, а в маленькой, совершенно пустой комнате — лишь несколько картин на тканых свитках украшали стены. При нашем разговоре присутствовал лишь монах-переводчик. Лама, очевидно уже осведомленный о моем намерении отправиться в Тибет, поинтересовался, окончательно ли мое решение. Я ответил утвердительно, но счел своим долгом предупредить Его святейшество, что с военной точки зрения предстоящая операция имеет скромные шансы на успех.
Он сосредоточенно выслушал перевод, а потом приблизился и дотронулся рукой до моего плеча. Далай-лама был возбужден, и жар его небольшой ладони я чувствовал даже сквозь грубую ткань:
— Я знаю, что вас ждет победа. Вы — воин неба, священный Гэсэр-хан, и сколько бы ни выступило против вас врагов — не имеет значения. Все мои добрые подданные, весь народ Тибета будут вашими помощниками. Но главное, — он выделил паузой важность следующих слов, — главное — вы обрели свой путь. До тех пор пока им следуете — будете непобедимы. А вот это поможет вам. — Он достал из складок одежды шелковый красный шнурок и знаком попросил меня опуститься на колени. Когда я выполнил его просьбу, Далай-лама набросил шнурок мне на шею и завязал сложным узлом. Затем он положил правую руку на мое темя, — ладонь была все такой же сухой и горячей, — наклонился и дунул на узел шнурка. Внезапно он провел рукой по моей голове, словно ощупывая.
— Габала! — воскликнул он и рассмеялся.
— Его святейшество говорит, что ваш череп не имеет шва. Это габала — божественный знак. Вам предначертаны великие свершения. А то, что у вас на шее, называется сунн-дуд,[12] — сказал мне переводчик, низко поклонившись, — теперь вы везде находитесь под защитой ринпоче.[13]
В комнату бесшумной тенью проскользнул высокий молодой тибетец и простерся ниц пред стопами Его святейшества. Далай-лама что-то тихо сказал ему, тот поднялся и с глубоким поклоном приблизился. Меня поразила его внешность: прямым разрезом глаз, красноватым оттенком кожи удлиненного лица он скорее походил на северо-американского индейца, а не на китайца или монгола. Лама, указывая на тибетца, сказал:
— Это Тенцинг — один из лучших воинов Тибета. Он будет сопровождать вас и помогать в вашем достойнейшем деле. Тенцинг соберет в священной горной стране достаточно верных людей для свершения предстоящего вам великого подвига.
Глаза верховного жреца в тусклом свете масляной лампады лихорадочно блестели, он был бледен и заметно утомлен. Закончив говорить, Далай-лама слегка поклонился мне и вышел из комнаты. Отвечая на его поклон, я подумал о том, что этот человек, прибывая в практическом заключении, ведет бесконечную, забирающую все его силы борьбу за независимость своего родного Тибета. И я не мог ему не сочувствовать.
Покинул я монастырь в сопровождении Тенцинга и монаха-переводчика тем же тайным путем. Неподалеку от монастырских стен я с удивлением увидел оседланного Талисмана, оставленного на постоялом дворе. Моим спутникам также приготовлены лошади. Ожидавшие нас тибетцы извинились за то, что сочли возможным, ради соблюдения тайны отъезда, привести коня и забрать мои скромные пожитки.
Ночной сумрак едва начинал сереть, когда мы тронулись в путь. Молчаливые спутники не прерывали моих размышлений. Я всегда отличался большой рассудительностью и отнюдь не склонен, как многие мои русские приятели, выдавать желаемое за действительное. Несколько лет назад, оставив прекрасное место преподавателя в Николаевском кавалерийском училище, я отправился добровольцем в Маньчжурию, затем с увлечением согласился на длительное путешествие по Центральной Азии и Китаю. А сейчас готов преодолеть тысячу верст, чтобы, имея десять штыков и поддержку монахов да пастухов, необученных и плохо вооруженных, противостоять конвою английского колониального корпуса — опытным, участвовавшим не в одном сражении солдатам самой передовой армии мира.
Следовало признать, что я — закоренелый авантюрист, для которого возможность нового приключения дороже самой жизни, и мое приподнятое настроение свидетельствовало об этом. Я ощущал возбуждение и азарт. Наверное, подобные чувства испытывали Писарро и Кортес, отправляясь завоевывать государство инков.
Я не думал о том, чем может обернуться эта военная авантюра. Меня не пугала угроза Лавра — доводилось слышать о жестоких нравах в тайном братстве «дяди Феди». В должной мере обладая необходимым для военного запасом фатализма, я никогда сознательно не искал смерти. Решение идти в Тибет возникло совершенно естественно, без всякой внутренней борьбы. Напротив — я испытывал необоримую уверенность в правильности того, что делаю.
Очевидно, мое видение, как говорят русские, в руку: та пустая горная дорога — символ моего пути, пути воина и полководца. Он предназначен мне, и лучшее, что я могу сделать, — не уклоняться от него. А кто определил для меня этот путь — не все ли равно?
В Кульдже я провел деятельную подготовку к походу нашего небольшого отряда, но прежде я собрал десятерых подчиненных и кратко, без подробностей изложил им то, что нам предстоит совершить.
— Мы были вместе в Маньчжурии, и вы все вызвались добровольцами отправиться со мной в трудную экспедицию. Я горд вашим доверием, — сказал я своим солдатам. — Я говорю вам, что из Тибета вернуться живыми будет очень трудно. Я не могу вам приказать, но я прошу вас отправиться туда вместе со мной.
Ни один из моих людей не воспользовался возможностью остаться, и я, в который уже раз, восхитился мужеством русских солдат, мужеством фатальным, когда люди идут в бой, уверенные в том, что им суждено погибнуть.
Кроме снаряжения, нам предстояло доставить в Тибет сотню винтовок с боеприпасами, под видом геодезического оборудования привезенных из русской миссии в Пекине. Впереди отряд ожидала длинная дорога через пустыню и высочайшие на земле горы. И для меня, дописывающего эти строки в Кульдже, за три месяца до начала весны, было очевидным, что вновь вернуться к дневнику я смогу не скоро.
И пришел Сын Человеческий в город Назарет, где были матерь Его, и братья, и сестры Его. И пришли к Нему фарисеи, и думали в сердце своем: «Как же Он сын Божий? Мы же Его знаем — Он сын Иосифа-плотника. И мать Его тут живет». И не верили, что Он — мессия. И позвали Сына Человеческого и учеников Его в один бедный дом, а там была свадьба. И радовался Иисус жениху и невесте, и говорил так: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. И будут два одною плотью, так что они уже не двое, а как две половины одного яблока». И возлежали они на брачном пиру, и вот закончилось в том доме вино. И сказал Иисус хозяину дома: «Не заботься о том. Возьми мехи и наполни их водой из источника». Тот так и сделал и видит — не вода в тех мехах, но вино доброе. А был день субботний, и пришли фарисеи, а с ними книжники иерусалимские, и укоряли Его за нарушение заповедей субботы. А Иисус отвечал им: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Так вот истинно говорю вам — не человек для субботы, но суббота для человека». И услышав это, фарисеи стали думать против Него, как бы погубить Его, и сказали они людям, что Он не в себе. И пришли к Нему мать Его и братья, чтобы взять Его, и упрекали Его: «Иди, будь плотником, как и был». И скорбела душа Его, и сказал Он ученикам своим: «Истинно говорю вам — не бывает пророка в своем отечестве». А брат Его Иаков говорил много с учениками Его Иоанном и Иаковом Зеведеевыми, и замышляли идти в Иерусалим — изгонять недостойных из храма. И многие 6 Назарете соблазнялись о Нем, и не мог Он там исцелять и совершить чудо по неверию их. И покинул Он город сей, и сказал ученикам своим: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить главу свою». И у гили они в пещеры прибрежные, и призвал Он двенадцать учеников своих и сказал им: «Жалко мне людей, ибо изнурены они и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Жатвы много, а делателей мало». И дал им власть изгонять бесов и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И были там ученики Его Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома, по прозванию Близнец, и Матфей-мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Канаит и Иуда Искариот, единственный иудей среди сынов галилейских. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им: «Ходите же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Даром получили — даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни сумы на дорогу, ни посоха, ни двух одежд. Ибо трудящийся достоин пропитания». И пошли они по городам и весям проповедовать приближение Царствия Небесного. И гнали их многажды, и побивали каменьями, а неразумеющему грамоты Симону Петру говорили фарисеи: «Пришел Сын Человеческий, поста не держит — се просто человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и блудницам», и не знал он, как отвечать им. А Иаков Зеведеев и брат его Иоанн наречены были Воанергес, что значит «сыновья громовы», ибо много пугали людей страшным судом и муками адовыми, и бежали те от них. А Иуде Искариоту, ходившему в города иудейские, надсмехаясь говорили: «Что за пророк из глухомани галилейской чудеса разные творящий и из мертвых воскрешающий? Сказано же: что доброго может быть из Назарета?» А рабу Его Фоме нарекли прозвище Близнец, ибо платье Иисуса было на нем, и лицом походил он на Учителя. Приступали к нему зелоты, с мечами ходившие, — враги кесаря, ищущие устроить смуту и прогнать легионы римские из земли Израилевой, и говорил Фоме предводитель зелотский Варавван, думая, что говорит Сыну Человеческому: «Ты Иисус из колена Давидова есть царь иудейский. Сделаем смуту средь сынов Израилевых, и будешь править в Иерусалиме». А ходили они на восток — через одну землю меж двух вод пролегающую, — на другую, ибо там должно исполниться прореченное.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Николай, затянувшись латакиевым трубочным дымком, отложил в сторону старую тетрадь в черном коленкоровом переплете и задумался. Что означают эти странные вставки в дневнике, зачем они понадобились Маннергейму? Изложенный в стилистике, характерной для евангельских сказаний, текст, тем не менее, не принадлежал ни одному из четырех новозаветных Евангелий. Более того, у автора — кем бы он ни был — иная версия земной жизни Иисуса Христа. Что это — религиозно-литературные опыты самого маршала или все же неизвестный апокриф — древнее Евангелие, не ставшее канонической церковной книгой? В очередной раз посетовав на собственную дремучесть, он пообещал себе непременно заняться историей вопроса. Дым таял вверху и пропадал в солнечных лучах, щедро запивающих маленькую кухоньку однокомнатной квартиры на двенадцатом этаже, где у настежь распахнутой балконной двери устроился Николай. День выдался теплым и по-летнему ярким. В ящиках цветника — отрады Елениной — кивали легкому ветерку нежными оборками фиолетовые и сиреневые колокольцы петунии, россыпью розовых звездочек покрыты флоксы, кудрявились оранжевыми шапками настурция и бархатцы. Но среди разных оттенков зелени появились желтые штрихи засохших стеблей завершивших свой короткий жизненный цикл растений. Солнце уже не ослепляюще-знойное, торжествующее безоговорочную летнюю победу. Теплый свет нес щемящую грусть наступавшей прозрачной осени, — предвестницы долгих зимних сумерек. Обнаженная душа тихо печалилась в унисон последним летним денькам. Николай вздохнул и вернулся к привезенным Анной бумагам. Перечитав письма, он внимательно разглядывал странные рисунки Маннергейма, напоминавшие схематичное изображение снежинок. В письме, адресованном Аниному деду, они выглядели так:
Внимательно присмотревшись, Николай обнаружил, что «снежинки» из письма Инари Висатупа имеют небольшие отличия:
Подобные знаки он уже где-то видел, но никак не мог вспомнить, где именно и что они означают. В письмах менялось лишь имя адресата, и слегка отличались «снежинки», текст же повторялся слово в слово. Маннергейм писал, что втроем его друзья смогут легко разгадать шифр. Может быть, для того, чтобы найти тайник, необходимы все три письма? Если так, то и без того малореальные поиски спрятанного клада превращались в абсолютно бессмысленную затею. Так и не вспомнив, отчего «снежинки» показались ему знакомыми, Николай взглянул на часы над кухонным столом: они показывали полдень. С сожалением он отложил недочитанный дневник Маннергейма.
С самого утра Николай подсознательно оттягивал момент завершения столь желанного и столь короткого отпуска. Острая тоска охватывала его при мысли о необходимости выйти из дому, привычным маршрутом дойти до метро, доехать до «Петроградской» в душном вагоне и дворами пройти на набережную тихой петербургской речки, постепенно теряя чувствительность и легкость и покрываясь защитным панцирем невозмутимости.
Нет, перед столь тяжким испытанием необходима релаксация, решил Николай и отправился в комнату, где с удовольствием растянулся на привычно-уютном диване. Здесь отступали обиды и огорчения, на уставшую душу мягко нисходил мир и радостные мечты, а время тянулось лениво и незаметно. Вот и сейчас, от ожидавших на столе писем с шифром он легко и плавно перенесся на зеленые берега Генисаретского озера — моря Галилейского. Двенадцать бедно одетых мужчин да несколько убогих из соседнего селения внимательно слушали невзрачного молодого проповедника, с рябым лицом и всклокоченной бороденкой, сопровождавшего речь неловкими жестами. Но глаза его сияли светом такой безмерной доброты и любви, что любому, на ком они останавливались, раби казался белоснежным ангелом небесным, воплощением божественной красоты.
Николай вздохнул — полчаса пролетели, как одно мгновение. Затянулся напоследок уже выкуренной трубкой, вдохнув с удовольствием слегка отдающий дегтем дымок латакии. Немного размеренной суеты, и, прихватив сумку с бумагами Маннергейма и шкатулку из карельской березы, он закрыл за собой домашнюю дверь. Все — отпуск кончился, на ближайший год о нем можно забыть.
Улица, как всегда, встретила обилием шума и хорошеньких девушек. Почему-то во времена его юности большинство девушек ничем особенным не выделялось. Попадались откровенные дурнушки, а хорошенькие встречались крайне редко. Сейчас же подавляющее большинство — симпатичные, а некоторые — так и вовсе красавицы. Николай не понимал, в чем причина: то ли девушки похорошели, то ли в его возрасте любая из них уже кажется хорошенькой.
По дороге к метро он завернул в большой книжный магазин. Проходя вдоль стеллажей, плотно заставленных затейливо оформленными томами, привычно сожалел о том, что никогда ему не узнать, какие тайны скрыты под тысячами манящих обложек. Неожиданно он вспомнил — руны! Ну конечно же! «Снежинки» из писем маршала — это один из древних способов рунической тайнописи. Николай попытался разыскать какое-нибудь издание, посвященное руническому письму, но ничего путного не обнаружил.
Зато почти случайно заметил хитроватый прищур темных глаз на изборожденном морщинами худом лице с высоким лбом и крупным костистым носом. С фотографии на него смотрел Маннергейм.
Порадовавшись такому совпадению, Николай заплатил за книгу и, спускаясь в метро, стал нетерпеливо перелистывать страницы мемуаров маршала. Вот черно-белый отретушированный снимок еще безусого кадета, а вот знаменитая фотография — коронация Николая Второго, один из идущих перед императором офицеров-кавалергардов — Карл Густав Эмиль Маннергейм. А вот — Маньчжурия, Маннергейм в полевой форме драгунского подполковника, 1906 год, незадолго до описываемых в дневнике событий. Пока поезд шел до «Петроградской», Николай с интересом просмотрел первые главы и убедился, что азиатское путешествие в мемуарах и дневнике описывается по-разному. Любопытно, почему? Ответ должны дать зашифрованные части писем, и Николай, позабыв послеотпускную тоску, поспешил в редакцию: в интернете наверняка найдется немало информации о рунах.
Торопливо поднимаясь по лестнице, он пожимал руки и раскланивался с коллегами, а на площадке третьего этажа столкнулся с Шаховцевым. Шеф протянул для рукопожатия вялую ладонь, отвел в сторону красные от недосыпа глаза и пригласил к себе в кабинет. В крошечной комнатке с трудом, тесня друг друга, размещались письменный стол, шкаф и солидное кожаное кресло. На стене — большая фотография: Шаховцев и дама-редактор одной из питерских газет в компании президента Путина после интервью. Тут же на полках устроились две нелепые грубые скульптуры: коленопреклоненный мышцастый мужик-«тэфак», — такую статуэтку получал обладатель главной телевизионной премии страны «ТЭФИ».
Николай напрягся: он давно уже не ждал от начальства хороших известий.
— Господи, и за что мне это все, — начал Шаховцев с излюбленной фразы, и в очередной раз не получив от небес ответа, обратился к Николаю: — Вы, наверное, в курсе, что у нас меняется сетка вешания. По настоянию Москвы мы вынуждены закрыть «Новости — 7 дней», и теперь остро стоит вопрос трудоустройства ведущего Пристяжнюка.
Пристяжнюк — незаменимый составитель длинных и скучных политических комментариев, насыщенных ничего не значащими, но модными словами-погремушками, вроде «коллизии», «вертикали власти» и прочего в том же духе. В основном там доходчиво объяснялось бестолковому народу, какая замечательная им правит власть. Почему-то это считалось в «Новостях» аналитикой. Удивительно, но многие искренне сочувствовали расчетливо делавшему карьеру Пристяжнюку. Это же так трудно и скучно: часами общаться с властьимущими и рассказывать о том, как успешно те трудятся ради блага жителей Северной столицы. Сочувствие вызывал и постоянно уныло-несчастный вид ведущего на телеэкране.
— Решено, что он будет теперь вести «Новости вечером»: у него есть интересные идеи, — Шаховцев сделал паузу.
Речь шла об эфирах, которые редактировал Полуверцев. «Похоже, давно не искал я работу, — с тоской подумал он. — Ну, б… ведь начал же писать приключенческий роман, да бросил — лень проклятая. Сейчас, глядишь, уже бы книжка вышла… Как прекра-а-а-а-а-асен этот мир, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля…»
— Это надо понимать как завершение моей работы в «Новостях»? — уточнил он.
— Ну, зачем вы так категорично? Просто вам нужно найти другое занятие. Я готов выслушать ваши предложения.
Николай усмехнулся:
— Вы же не уступите мне свое место?
— Нет, не уступлю. Если серьезно, то у нас появилось четыре новых выпуска — утром в выходные дни. Может быть, вы взяли бы на себя их редактирование? Или все-таки предпочитаете заняться чем-то другим?
Шаховцев вопросительно взглянул на Николая, — Знаете, давайте не будем поспешно принимать решение. Вы все обдумаете, взвесите, а встретимся послезавтра и окончательно обговорим, согласны? — Шеф предлагал взять паузу, для того чтобы подчиненный привык к неприятной правде и смирился с ней. Николай оценил тактичность Шаховцева. Увы, но он хорошо понимал, что лучше где-то в другом месте не будет — он-то остается тем же самым Николаем Полуверцевым, с теми же недостатками. Будут лишние муки привыкания к новым коллегам и работе, которую еще надо найти: что-то не видно объявлений, мол, требуются сорокалетние редакторы телевизионных новостей… «Так что не беспокойтесь, господин начальник, никуда мне не деться», — грустно подумал он. Впрочем, Шаховцев беспокоился о другом.
— Ну а пока, на этой неделе, все остается по-прежнему — «Новости вечером» делаете вы с Безупрековым. И вот, как раз по этому поводу, — На лице шефа обозначилась страдальческая гримаса, — Я вас очень попрошу не увлекаться выборгскими событиями.
— Простите, что значит «не увлекаться»? Захват замка — важнейшая новость…
— Это правильно, — перебил Шаховцев. — Но не стоит педалировать освещение таких… происшествий. Конечно, совсем не упоминать о захвате замка мы не можем, но говорим очень сдержанно: только официальная информация, никаких комментариев. — В голосе шефа появились металлические ноты: ежу понятно — это приказ. — А у вас сегодня гостем программы будет вице-губернатор Филиппов. Он расскажет о параметрах городского бюджета будущего года. Вы не возражаете?
— Как скажете. Вы — начальник, я — дурак.
— Ну, зачем вы так? Я готов выслушать ваши предложения.
— Да какие уж тут предложения, — махнул рукой Николай.
«Любопытно, — подумал он, выходя в коридор, — как Шаховцев, этот сдержанный и расчетливый умница, умудряется договариваться с самим собой?»
Впрочем, самого Николая никогда не прельщала роль борца с режимом. Чего уж там: кто платит — тот и заказывает музыку. Хотя год от года заказ принимал все более отчетливые черты телевидения советских времен. Информационная политика федеральных каналов: и государственных, и якобы независимых, стала столь однообразной, что, если не знать фирменные цвета студий, можно и не понять, чьи именно телевизионные новости смотришь. Уродливый процесс, чуждый изначальному репортерскому духу, — рассказывать правду о том, что произошло. Тревожную, полнокровную картину жизни заменили на успокоительную, выхолощенную эрзац-обманку для дураков. Обманку, так же похожую на правду, как металлический шарнирный протез похож на теплую, стройную женскую ножку.
От невеселых размышлений Николая отвлек Эдик Низамов, примечательная личность. Субтильного роста и телосложения, имеющий очки с большими диоптриями, он отдавал предпочтение подчеркнуто мужественным одежде и аксессуарам. Мачо Низамов был титровиком в эфирной бригаде — его несложные служебные обязанности заключались в том, чтобы в специальной компьютерной программе набирать титры. Единственное, что требовалось, — это внимательность и некоторый уровень грамотности. Как раз этим Эдик похвастаться не мог и регулярно допускал ошибки в эфире. После очередной к нему накрепко прилипло прозвище Экологический член.
А дело было так.
Вечер выдался особенно нервным — окончательно удалось утрясти верстку лишь перед выходом в эфир. Полуверцев прибежал в аппаратную минуты за три до начала выпуска. Титрами в тот вечер занимался Эдик, и даже напрочь лишенный интуиции Николай почуял недоброе.
— Давай-ка по-быстрому проверимся, — велел он.
Эдик, нервно поглядывая на часы, принялся поспешно перелистывать компьютерные страницы с титрами. В выпуске шел сюжет о питерских экологических проблемах. Один из героев был стараниями Эдика представлен так: «Имярек, экологический член некой международной природоохранной организации». Николай опешил:
— Откуда ты это взял?
— Так у автора сюжета, — гордо ответил Эдик.
— Открывай, будем смотреть, — приказал Николай, хотя в эфире уже тикали часы на заставке: до выхода оставалось десять секунд.
Негодующий Эдик все же подчинился и открыл специальную ячейку, в которой журналисты указывали, как правильно представлять участников сюжета.
Там значилось «Имярек, эколог, член некой международной природоохранной организации». Эдик, не вдумываясь в смысл, воспринял точку как сокращение и произвел ни в чем не повинного уважаемого эколога в «экологические члены». Режиссер эфира скомандовал: «Внимание! Мотор» — и после того как пошла начальная шапка петербургских «Новостей», сообщил Безупрекову в «ухо» — небольшой наушник ведущего для связи с аппаратной: «Мы в эфире». Егор кивнул и улыбнулся, приготовившись традиционно пожелать зрителям доброго вечера. А титр все же удалось исправить, но с той поры Эдика за глаза иначе как «экологический член» не называли.
— Привет, — Он протянул Николаю вялую узкую ладонь и строго спросил: — Кто на следующей неделе в эфире — Безупреков или Пристяжнюк?
«Быстро же у нас распространяются корпоративные новости», — удивился Николай, а Низамову ласково посоветовал обратиться с этим вопросом к Шаховцеву. Но Эдик не собирался упускать момент, когда он мог поквитаться с насмешливым Полуверцевым.
— А ты теперь, значит, будешь воскресные утренние выпуски делать? — с плохо наигранным сочувствием протянул он. — Вставать на развозку в пять утра придется. А как же твои рыбалки? Теперь все — прощай клев. — И Эдик нахально, но все же с некоторой опаской захихикал.
— Что ж поделаешь, придется потерпеть. Тебя ведь без присмотра не оставишь — не ровен час, опять какой-нибудь член примерещится. — Ласковость Николая сегодня не знала границ.
Эдик не успел ответить: дверь, к которой он вальяжно привалился плечом, резко распахнулась, и в коридор влетела раскрасневшаяся от быстрого подъема по лестнице корреспондент Анастасия Божественная.
— Пожар, пожар! — кричала она, размахивая зажатой в ладони кассетой.
Она, естественно, не могла видеть Эдика и врезалась в него. Будучи девушкой крупной и высокой, Настя просто опрокинула тщедушного мачо на пол. Но на этом злоключения Эдика не закончились. Едва смущенная Настя помогла ему подняться, как тут же из редакции, привлеченная ее криком о появившихся съемках пожара, стремительно выскочила редактор монтажа Зосенька, не уступавшая Насте в дородности. Она очень спешила: до выпуска оставалось несколько минут — нужно успеть смонтировать видеоряд о пожаре, привезенной Божественной. Пулей вылетев в коридор, она снова уронила толком и не успевшего подняться Эдика на грязный линолеум. Не ожидавший такого коварства, ушибленный и слегка потоптанный «экологический член» громко и обиженно заверещал.
— Ой, извини, Эдик, — бросили девицы на ходу и синхронно припустили по коридору — монтировать видеоряд.
Кроме Николая, за этой полной драматизма сценой наблюдал еще один зритель. У монитора видеомагнитофона просматривал кассету с исходным материалом каких-то состязаний корреспондент спортивных «Новостей» Альбертыч — забавный, с вечно лохматой, непослушной, с ранней проседью шевелюрой. Будучи фанатичным поклонником петербургского «Зенита», он как-то поразил Николая обширной коллекцией шарфов сине-голубой клубной гаммы. Самым удивительным оказалось то, что для домашних «зенитовских» игр нужно использовать одни шарфы, а для выездных — совсем другие. Альбертыч помог страдальцу подняться и сочувственно посоветовал:
— Ты бы, Эдик, шел отсюда — а то, не ровен час, опять кто-нибудь куда-нибудь побежит.
Эдик лишь злобно сверкнул очками и, кое-как отряхнувшись, собрался выйти на лестницу и купировать стресс сигаретой, но его перехватила строгая Ирина Мадзигон.
— Пошли в эфирку — проверим подпечатки, — решительно велела она, и страдалец под бдительным конвоем поплелся на рабочее место.
— Да, не задался у парня день. А летел хорошо, красиво. Как Дасаев в правый угол. — Альбертыч даже причмокнул от удовольствия.
В большей редакционной комнате царила та судорожная суета, которую так любят описывать далекие от телевидения беллетристы, обязательно представляя службу новостей как филиал психиатрической лечебницы на Пряжке, где все мечутся, орут и постоянно стоит невыносимый кавардак. В действительности же судорожные метания возникают на несколько минут непосредственно перед выпуском, и то лишь в тех случаях, когда свежее происшествие не успели толком подготовить к эфиру и облечь в телевизионный новостийный формат. Переполох при подготовке этого дневного, не самого рейтингового выпуска возник из-за внезапно появившегося указания «сверху» по поводу событий в Выборге. Пришлось снимать с эфира большой сюжет Искрометова и ограничиться лишь видеорядом: вся работа корреспондентов, успевших и в Мариинском театре побывать, и навестить семью одного из погибших музыкантов, и много чего еще, пошла «в корзину». В выпуске образовалась трехминутная дыра. Но, похоже, трудности сегодня испытывали не только «Новости» — несколько телевизионных мониторов, подвешенных под потолком редакции для просмотра информационных программ других каналов, демонстрировали завидное единодушие коллег-конкурентов: все лишь коротко упоминали о Выборгском замке. «Кто-то сумел сделать такое предложение, от которого руководители петербургских телекомпаний не смогли отказаться, — невесело вспомнил «Крестного отца» Николай. — В итоге, попытка крупнейшего террористического акта превратилась в эфире в заурядное происшествие в провинциальном Выборге».
В меньшей редакционной комнате царила прохлада. Нервная суета осталась за дверью. Пока есть время, можно заняться письмами Маннергейма. На одном из сайтов любителей игр в кельтов и викингов Николай нашел статью о рунической тайнописи. Рисунки Маннергейма весьма походили на упоминаемую там систему. Этот способ записи назывался «ветвистые руны».
Основной германский вариант рунического алфавита, так называемый Главный Футарк, включает двадцать четыре руны, разделенные на три части — ат-та, в каждом по восемь знаков. Так вот, код оказался прост до примитивности: каждый луч «снежинки» — это отдельная руна, черточки слева — это номер атта, а справа — порядковый номер руны. Николая никто не отвлекал, и десять минут спустя на листке бумаги появилась записанная рунами зашифрованная часть послания Маннергейма:
Николай напряженно вглядывался в странные знаки, — записанное таким образом послание маршала понятнее не стало. Не существовало никаких указаний на то, как использовать этот текст. Зашифровал ли Маннергейм с помощью рун буквы? И если да, то какому языку они принадлежат? Или маршал применил какой-то более изощренный способ кодирования?
Повернувшись на легкий шорох, Николай неожиданно обнаружил, что за спинкой его кресла пристроился незнакомец средних лет, — скандинавского типа блондин при очках и усах, того ухоженно-западного облика, по которому до сей поры легко узнать иностранца даже на многолюдном Невском проспекте.
— Извините, — незнакомец говорил с легким, напоминавшим прибалтийский, акцентом, — я не хотел вас напугать.
«Напугать — это ты размечтался, чай, не девочка», — подумал Николай. Вслух же вежливо поинтересовался:
— Я могу быть вам чем-то полезен?
— О да, видите ли, меня зовут Карлос Свенсон, — очень распространенная шведская фамилия. Как у вас в России — Иванов. Я ваш коллега — журналист. Работаю на крупнейшую вечернюю газету Швеции — стокгольмский «Экспрессен». Сейчас занимаюсь подготовкой серии статей о российских средствах массовой информации. Первая будет о Петербурге и вашей телекомпании. Чтобы иметь лучшее представление, собираюсь пару недель поработать здесь в качестве добровольного, но не бескорыстного помощника. — Швед довольно рассмеялся.
— Вы прекрасно говорите по-русски, — не скрыл удивления Николай.
— О да, я в России живу почти десять лет. Сначала работал на «Си-Эн-Эн», потом — на другие компании, так что — большая практика. Я уже договорился с вашим руководством и вот теперь — хожу, знакомлюсь.
— Меня зовут Николай Полуверцев, я редактор, пока занимаюсь вечерним выпуском «Новостей».
Они пожали друг другу руки. Ладонь шведа оказалась прохладной и абсолютно деревянной на ощупь.
«Тренированный дяденька, — с легкой завистью отметил Николай, — Небось часа по два ежедневно на тренажерах вкалывает — не то, что ты, толстопузый».
Поняв, что от иностранного коллеги так просто не избавишься, Николай решил провести для него маленькую экскурсию. По ходу он придумывал, кому бы сплавить шведа, но везде пустынно, как в Летнем саду — зимой. На первом этаже навстречу попалась Маргарита Оганесян. Перспектива приобщения шведа к редакционным делам ее не слишком обрадовала — хватало иных забот. Слушая Свенсона с вежливой улыбкой, она предложила выйти покурить во двор, видимо, как и Николай, пытаясь придумать, куда бы пристроить нежданного волонтера. Но происходящее на набережной тихой петербургской речки так их поразило, что на некоторое время они позабыли обо всем.
Масштабной и увлекательной получилась картина въезда во двор дирекции вице-губернаторского кортежа. То, что приехал именно вице-губернатор, выяснилось несколько позже. Сперва два больших черных джипа, грозно порыкивая и посверкивая проблесковыми маячками, модно укрепленными на бамперах, перекрыли движение по набережной, взяв въезд во двор в правильную «коробочку». Из подрулившего к крыльцу микроавтобуса посыпались охранники в темных костюмах — всего человек восемь. Энергично вращая короткостриженными головами, они внимательно осмотрелись. И только после этого, тяжело покачиваясь на мощных амортизаторах, во двор вполз бронированный «Мерседес». Охрана со всеми предосторожностями извлекла из сумрачного чрева автомобиля вице-губернатора Филиппова — лысеющего сорокалетнего толстячка в очках в золотой оправе от Картье. Стремительно преодолев несколько ступеней крыльца, охранники провели его в здание.
— Господи ты боже мой, — только и смогла ошарашенно произнести Оганесян.
— Профессионально работают, — заинтересованно отметил швед. — А в Петербурге всех вице-губернаторов так охраняют?
Николай извинился и отправился наверх, чтобы организовать запись интервью важного чинуши. На входе его угрюмо обшарил глазами один из филипповских охранников. «Ну и охрана у вицика — почти как у президента Путина, — изумился он, миновав еще одну парочку в темных, наглухо застегнутых, несмотря на жаркий день, пиджаках.
Похоже, непростой дяденька, этот вице-губернатор, ведающий городскими финансами».
Блестящая карьера Олега Филиппова началась еще в администрации Собчака. Этот «птенец Чубайсова гнезда», в то время как многие его приятели потянулись в Москву, где заняли солидные посты в руководстве страны, остался в родном городе и сохранял свое кресло вот уже при третьем губернаторе. Считалось, что он исполняет функции «серого» кардинала, присматривая за городской властью и контролируя экономические интересы московских петербуржцев. Поговаривали также, что ни один крупный проект с многомиллионными инвестициями, бесследно растворявшимися в пространстве и времени, оставляя городу наследство в виде полуразрушенного скелета дамбы или большой ямы на Лиговском проспекте у Московского вокзала стоимостью без малого сто миллионов долларов, не миновал ловких пальцев финансового престидижитатора.
Когда Николай, преодолев охранные препоны, добрался до «новостийного» этажа, «вицика» уже готовили к записи. Две дамы-гримерши старательно хлопотали вокруг него, пытаясь скрыть обильную испарину на лысине и убрать тональным кремом жирный блеск кожи. У открытой двери гримерки, кроме двух охранников, терпеливо ожидали один из директоров компании и Шаховцев, который укоризненно шепнул:
— Ну, где вы ходите?
— А я встречал его внизу, — беззастенчиво соврал Николай.
— А, это правильно. Проверьте, пожалуйста, все ли готово в студии для записи. Вопросы я буду задавать сам.
Да, не простой фигурой был Филиппов — кажется, даже губернатору не уделяли столько внимания. Но конфуза, как часто и случается в подобных ответственных ситуациях, избежать не удалось. Важных персон, приезжавших в дирекцию, часто снимали во время подготовки к интервью — проходы по коридорам, гримирование и прочие рабочие моменты. Из отснятого материала можно потом сделать небольшой видеоряд и использовать его в качестве подводки к интервью. Дежурный оператор Боря Горшков пристроился в дверях гримерки, выбирая наиболее выразительный ракурс. Филиппов, заметив в зеркальном отражении направленный на него объектив, дернулся и неожиданно тонким для своей комплекции голоском завизжал:
— Это зачем? Убрать немедленно. — В негодовании он сорвал гримировальный фартук, которым его заботливо укутали, и даже попытался вскочить, забыв, что сидит на специальном, высоком крутящемся стуле. «Вицик» потерял равновесие и с глухим стуком столкнувшихся бильярдных шаров приложился напудренным лбом к большому зеркалу. Покраснев от злости, он вовсе безобразно заверещал:
— Убрать немедленно этого х..! Охранники долбанные — я за что, б… вам деньги плачу?!
Тут же на Бориса навалилась парочка охранников. Шаховцев, извиняясь, пытался успокоить Филиппова. Наблюдать за продолжением чиновничьих безобразий Николай не стал. Заглянул в студию — там все приготовили к записи интервью — и, вернувшись к себе в комнатушку, обнаружил сидящую за его компьютером Анну.
— Привет, Коленька. — Она традиционно чмокнула его в щеку. — Поговорить бы. Пойдем в наш закуток?
— Там переполох, и Шаховцев может меня искать. Ну да ладно, пошли. Попросим барышень-редакторов позвонить в случае чего.
Заветную скамейку местные мальчишки для своих серьезных нужд — курения, выпивания и общения с подростками противоположного пола — уютно устроили в глухом закутке, образованном брандмауэрами дряхлых соседних домов. Старая, еще советских времен, с тяжелыми чугунными боковинами, сиденьем и спинкой из деревянных реек, покрытых толстым слоем масляной краски гнусно-синего цвета, скамейка наводила на мысль о нерушимости союза республик свободных, который она благополучно пережила.
Николай внимательно смотрел на Анну, сидевшую, как обычно, подложив под попку левую ладошку, и пытался понять, что с ней происходит. Анькины глаза — теплые ореховые миндалинки — накануне, когда она заезжала на залив, были потухшими и, казалось даже, изменили цвет, подернувшись пепельной дымкой. А сегодня — удивительное дело — они загадочно блестели и искрились легкой сумасшедшинкой, хотя поводов для печали прибавилось. «Черт их, женщин, разберет — что там у них внутри происходит». Николай давно убедился, что простая как палка мужская логика не в состоянии объяснить путаный и внезапный мир женских эмоций.
— Коленька, я хочу отсюда уехать навсегда, — Анна глубоко затянулась тоненькой сигареткой, — А с телевидения, я твердо решила, уйду. Я не борец за свободу слова, но так беззастенчиво врать, как заставили меня врать о Выборге, — нельзя, очень стыдно, — Ее щеки полыхнули гневным румянцем, — Если повсюду так — значит, журналистика не для меня. Ты, кстати, не знаешь подробностей, которые Шаховцев выкинул из моего сюжета. Эти… — она пыталась подобрать слово, — эти… скоты, они ведь знали о том, что может произойти, — было предупреждение, что замок заминирован. Просто чудо, что взрыва не случилось, — мне об этом один спецназовец рассказал. А… — она оборвала рассказ, махнув рукой, и столбик пепла упал на ее обтянутое джинсами колено и рассыпался, — что тут говорить! Ты все это лучше меня знаешь. Скажи — в чем я не права? — Это была привычная реакция на неоднократные попытки Николая объяснить ей, что у любой медали есть аверс и реверс и на всякую ситуацию можно взглянуть иначе.
— Бедненький мой ребенок. — Он попытался погладить ее по голове, но Анна строптиво отдернулась. — Это не высокомерная жалость, а сочувствие, — объяснил он терпеливо, — Если сейчас тобой руководит обида — вполне уместная и объяснимая, — то не стоит решать, пока она не уляжется. Обида плохой советчик, а на обиженных, как известно, воду возят.
— А если — нет? — почти с вызовом спросила она.
— Если нет, то, уж извини за занудство, нужно разделить: мухи отдельно — котлеты отдельно — эмиграцию и профессию. Ну что, занудствовать дальше? — он улыбнулся, пытаясь снять ненужный пафос.
— Да не получается отделить, — неуступчиво возразила она. — Коленька, я не понимаю, откуда у людей такой страх? Какое-то государство бездарных трусов, и, похоже, иного здесь не построить никогда.
— Так, давай по порядку. Страна у нас большая и очень разная. И, кстати, именно в России придумали замечательный способ. Если иначе не получается — нужно постараться не замечать власть и делать все так, чтобы у нее было меньше возможностей испортить тебе жизнь. Мне кажется, что пока это вполне реально. А умение жить параллельно в нас, похоже, на генетическом уровне заложено, иначе бы при такой власти, которая ей упорно достается, нация давно бы вымерла. Теперь о работе. Извини за банальность: журналистику недаром называют второй древнейшей профессией. Прессу — имели, и будут иметь всегда. Тут уж либо — либо. Или постепенно перестать обращать внимание на мелочи вроде правды, или, оставаясь честным, хотя бы с самим собой, бросить всю эту бодягу, пока не затянуло. Непристойное это дело, журналистика. И, с извинительным в моем возрасте занудством, замечу, что неоднократно говорил тебе об этом.
— А я, дура, тебя не слушалась. Это я без иронии, — Она улыбнулась, и разделявший их холодок отчуждения исчез, — Сама еще не очень понимаю, но, похоже, прямо на собственных изумленных глазах меняюсь. После смерти деда многое воспринимается по-другому. Так вот, мне кажется, есть еще третий путь — открытый протест. Забраться на баррикады — не столь уж плохая идея, а? — И Анна ему заговорщицки подмигнула.
Опять удивившись стремительной смене ее настроения, Николай с грустью взглянул на себя со стороны: толстый, преждевременно постаревший, с привычным цинизмом не допускающий возможности сопротивления, о котором Анна говорит с такой легкостью. А ведь когда-то… но подружка уже дергала его за рукав рубашки:
— Коленька, ты ведь поможешь мне с поисками? Я чувствую, что мы обязательно найдем этот клад.
Он усмехнулся:
— «Клад»… Не думаю, что Маннергейм закопал какие-то сокровища в буквальном смысле.
— Наверное. Дед рассказывал, что маршал всегда жил весьма скромно. Зато я теперь богатая. На кредитной карте, которую дедушка подарил, — сегодня в банк заехала, посмотрела — сто пятьдесят тысяч евро, представляешь? И мы можем, если нужно, нанять каких-нибудь специалистов. Ну тех, что разбираются в шифрах.
— Они называются — криптологи. Честно говоря, мне самому стало интересно. Я мало что успел, но уже понял, что значки в конце писем Маннергейма — это руническая тайнопись. Кое-что по поводу рун нашел в интернете. Сегодня уже времени нет, нужно выпуск готовить, а завтра с утра дома займусь. — Он встал. — Ну, а с увольнением-то как — пока откладывается?
— Да, придется потерпеть, — ответила Анна, тоже поднимаясь, — так удобнее заниматься поисками. Теперь будем на работе каждый день встречаться. Я ведь наказанная — Шаховцев распорядился ставить меня только на дежурства.
— Я, похоже, тоже. Сегодня переведен в «обоз», буду заниматься утренними воскресными выпусками.
Когда они поднялись в редакцию, Анна попросила:
— Оставь мне на ночь дневник, а то я его не дочитала. Будет чем себя занять на дежурстве. Только шкатулку забери с собой, ладно? Чтобы мне с ней не париться.
Вечер выдался суетным. Шаховцев долго не хотел утверждать первым номером верстки видеоряд о событиях в Выборгском замке. Николаю стоило большого труда убедить его, что выпуск должен начинаться именно так. И, лишь устав препираться, шеф вяло махнул рукой:
— Делайте, как считаете нужным.
И тут же отправил Анну снимать какой-то пожарчик на Витебском проспекте, где на Богом забытом предприятии загорелась сараюшка с мусором. А потом гордо потребовал вставить оперативную информацию в начало выпуска и все-таки добился своего: сдвинул Выборг вниз по верстке.
Ровно в двадцать три часа, после традиционной и смешной команды режиссера из эфирной бригады: «Мотор!» (какой уж мотор — кругом цифровые электронные блоки), Николай привычно, почти про себя, шепнул: «С Богом» — и тем, кто еще не спал, обаятельно улыбнулся Егор Безупреков.
Через пятнадцать минут вернувшись в пустую редакционную комнату — даже ночная дежурная Анька куда-то подевалась, — Николай, выключив компьютер, испытал острое наслаждение полной тишиной. Захватив шкатулку и сделанные Анной копии писем, он спустился во двор, где уже толпились ожидании развозки коллеги. Как всегда с опозданием подкатила старенькая «Газель» с разукрашенными символикой канала бортами. Приветливый старичок-водитель в очках — дужки их были связаны бельевой резинкой — охотно отзывался на прозвище Дед и обстоятельно ездил по питерским улицам не быстрее сорока километров в час, плохо слышал и, похоже, далеко не все видел. Дед сверил заполнивший машину народ со своим списком, и пенсионная «Газель», покряхтывая и переваливаясь на выбоинах, растворилась в ночном городе.
Белые ночи давно закончились, но их закатные отголоски еще украшали призрачным светом обветшалую мистику петербургских городских декораций. Николай любил эти неспешные ночные поездки — именно ночь, когда размыта отчетливая определенность дня, — подлинно петербургское время. Дома и люди, деревья и каналы — все ночью становится загадочным. Темно-серая река расплескивала легкой волной блестящие отражения желтых фонарей, подмигивала красными светлячками топовых огней никуда не спешащего катера, усталого от дневной туристической суматохи. Всюду лишь контуры, намеки на скрытую подлинную сущность: а есть ли она вообще, бог весть.
В этих зыбких декорациях существовали странные персонажи. Вот, на набережной взмахивает спиннингом, посылая в реку тяжелую джиг-головку с кислотно-лимонным длиннохвостым твистером, преуспевающего вида джентльмен средних лет, в строгом темном костюме и белой рубашке, а его дорогой галстук болтается на боковом зеркале терпеливо ожидающей своего седока сверкающей БМВ. А вот постовой сержантик, облокотившись на парапет вверенного под охрану моста, застыл, приоткрыв рот и мечтательно уставившись в пространство — туда, где река становится заливом. А в нескольких шагах от него изрядно выпивший гражданин, стоя под фонарем, мочится в Большую Невку, и на лице его расплывается невыразимое блаженство. Их много — этих случайных персонажей черно-белого ночного петербургского кино. Темная, едва угадываемая за забором и кронами деревьев, высокая крыша дацана нарушила лирическое настроение. Николай вспомнил о Маннергейме. Перелистывая дневник, он видел упоминание об этом буддийском монастыре, обосновавшемся в столице Российской империи. Вернувшись в унылую действительность полусонной развозки, он ощутил приступ голода: ужин в половине первого ночи — обычное дело, с таким рабочим расписанием ему никогда не похудеть. Впрочем, уже давно он примирился с собственной внешностью, и отросший живот его не очень расстраивал. Хотя, конечно, быть стройным, как Антонио Бандерас, куда лучше.
«Газель» теперь катила по разбитым дорогам окраин, петербургское наваждение пропало. Встречные персонажи, выдавленные из бетонного кишечника скучных прямоугольных кварталов убогих многоэтажек, были незамысловато-приземленными. У дверей травмпункта двое матерящихся и покрасневших от натуги ментов с трудом тащили из «клетки» раздолбанного УАЗа упирающегося пьяного с разбитой головой. Продолжая на мостовой начатый еще в гостях скандал, ловила «тачку» загулявшая парочка, и возле них затормозила дряхлая «копейка», у которой тускло горела лишь одна передняя фара. А на залитом светом фонарей проспекте Просвещения голосовали у обочин хилые проститутки, зарабатывающие на очередную дозу, и даже желтоватый щадящий искусственный свет не мог скрыть вульгарности этих юных, но уже изрядно потасканных обитательниц питерских предместий.
Ну, вот и доехали. Николай поблагодарил «деда» и попрощался с теми, кто еще продолжает путь домой. Прямиком, через трамвайные рельсы, разделяющие проспект, он направился к мрачноватой громаде из красного кирпича, растянувшейся на целый квартал, по пути привычно доставая из сумки связку ключей.
Неподалеку от узкого входа в проходной дворик, у подвального закутка визгливо выясняли отношения два разнополых бомжа — речь шла о пропавшем червонце и о каком-то «Петьке — суке». Николай огляделся, — поблизости никого больше не было. Осторожность стала привычной: бессмысленно-жестокие нападения спасающихся от ломки наркоманов превратились в заурядное, чуть ли не каждодневное городское происшествие. Обаятельному бородачу Колдунову, делавшему для «Новостей» компьютерную графику, жаждущий дозы подросток разбил голову так, что два месяца пришлось отлеживаться в больнице.
Когда Николай завернул под высокую узкую арку, он увидел, что двор дома не освещен. «Опять какая-нибудь авария, — подумал он с тоской. — Если лифты не работают — придется тащиться на двенадцатый этаж пешком, по загаженной лестнице черного хода. Что за невезуха сегодня…» Сзади его сильно ударили по голове. Выронив ключи и зажатую под мышкой Анькину коробку, Николай, пытаясь удержаться на ногах, оперся нататуированную граффити кирпичную стену и медленно сполз на пыльный асфальт. «Все-таки не уберегся, — мелькнуло в, кажется, разорвавшейся пополам голове, — б… как больно…» — И он потерял сознание.
Август 200… г., Санкт-Петербург
На двери общего туалета восторженная практикантка после специально устроенного для прессы рейда по городским общественным уборным укрепила лист бумаги с крупной надписью: «Ретирадник» — именно так именовались нужники во времена основателя Петербурга. Анна тщательно вымыла лицо, руки и шею, но избавиться от запаха гари так и не удалось. Обычное дело при выездах на пожар — возвращаешься в редакцию и пахнешь дымом так, будто неделю ночевала у лесного костра.
Прихорашивание у зеркала сопровождалось ехидным внутренним комментарием — она подсмеивалась над своим волнением перед предстоящей встречей со Стасисом и желанием нравиться. Еще вчера Анна была уверена, что построила в душе если не глухой бетонный забор, то вполне приличную кирпичную стенку, но вот — увы и ах — вновь хочется быть неотразимой. Но исследование сложных хитросплетений женского подсознания она оставила на потом. Завтра встретится наконец с подругой Настей и наговорится всласть. Сокрушенно вздохнув — сударь, нравятся ли вам девушки горячего копчения? — она подмигнула отражению и вернулась в пустую редакционную комнату.
Порывшись в поисковой системе, журналистка открыла страницы сайта, посвященного руническому письму и гаданиям. Форум здесь просто ломился от сообщений: народ, увлеченно играющий в викингов, активно обсуждал тонкости взаимоотношений между самими же придуманными кланами, менялся и торговал самодельным оружием, одеждой, предметами быта древних скандинавов. «Продаю нож „Поцелуй змеи“». «Ну надо же, как интересно, — весело подумалось ей, — всю жизнь мечтала именно о таком ноже! Но придется вернуться к этому позже — пора ехать».
Убрав дневник и письма Маннергейма под замок, в собственную ячейку коллективной новостийной камеры хранения, она отправилась на второй этаж в операторскую. С ней сегодня ночью дежурил оператор Семенов, который, похоже, никогда не покупал сигарет — каждодневно и увлеченно он стрелял курево у коллег.
— О, привет, — улыбаясь встретил он Анну. — Что — куда-то едем? Кстати, понимаешь, перед дежурством совсем забыл купить — не угостишь сигареткой? — и с удовольствием вытягивая из протянутой пачки сразу несколько штук, притворно посетовал: — Я тебе, наверное, уже целую пачку должен…
Подхватив сумку с микрофонами и запасными аккумуляторами для камеры, Анна быстро спустилась вниз, где у крыльца уже ожидала дежурная серебристая «девятка», украшенная логотипом «Новостей». Ехать нужно на Заячий остров, там лагерь гонки «24 часа Санкт-Петербурга», в которой участвовала и лодка Стасиса. До Петропавловской крепости рукой подать, но на то, чтобы приподнятое настроение Анны улетучилось, причем без видимых причин, времени хватило. Сполохами вспыхивало раздражение: и на болтливого водителя, перекрикивающего очередного приблатненного исполнителя шансона, и на жадного оператора, и на себя — вот дура-то, обрадовалась, помчалась, — и на Стасиса, и, с ним вкупе, на все ночное водноспортивное мероприятие. А глубже, под этим раздражением, сдерживаемый волей, рвался наружу дикий крик страха и отчаяния. Так кричал маленький медвежонок в закулисных коридорах алма-атинского цирка, где она была со школьной экскурсией. Взрослых медведей увели репетировать номер на запасной манеж, а медвежонка не взяли из-за юного возраста и бестолковости. Его привязали цепью к бетонной колонне в служебном фойе и оставили в утешение миску с яблоками и ведро с водой, но маленький зверь не обращал на них внимания. Он метался, закручивая цепь вокруг колонны, громыхая опрокинутым ведром и скользя лапами по луже разлитой воды, и кричал. И столько было в этом крике боли, обиды и страха одиночества, что школьники, полные тинейджерского высокомерия по отношению к старомодным и наивным цирковым чудесам долго стояли молча, сочувствуя маленькому, глупому, так открыто страдающему зверенышу. Вспомнив медвежонка, Анна даже инстинктивно сжала зубы, чтобы этот внутренний крик не вырвался наружу. «Ни фига себе, — подумала она, — что же это со мной? И вроде месячные еще не скоро…»
На Заячьем острове, куда они добрались с оператором по деревянному мостику над ревущим мощными лодочными моторами Кронверкским каналом, на небольшом прибрежном пятачке ютились темно-зеленые палатки команд-участниц и судейской бригады. В глубине среди деревьев светился высокий шатер летнего кафе, оттуда доносились музыка и взрывы мужского хохота. Что-то неясно бубнил по трансляции судья-информатор, и по всему берегу шаталось много разнообразного народа, в основном зевак, а Анне пришлось долго упрашивать самодовольного мордоворота в черной униформе, чтобы тот ее пропустил, — куда-то подевалось журналистское удостоверение.
Вызванный по рации начальник охраны приобнял ее за талию и, обдавая свежим водочным запахом, предложил взять у него интервью в интимной обстановке. Ей очень хотелось послать этого толстяка с потными ладонями и маслянистыми глазками куда подальше, но Семенов, стрельнув у охранника очередную сигарету, уже что-то увлеченно снимал на берегу. Получив вежливый отказ, начальник охраны еще некоторое время подталкивая ее большим животом и значительно указывая куда-то вверх маленькими заплывшими глазками, бубнил что-то про знакомство «с та-а-акими людьми!». Наконец ее пропустили, и, двигаясь от палатки к палатке, она принялась искать Стасиса, ругая себя за то, что не догадалась узнать номер его мобильного телефона.
По пути Анна миновала большой ремонтный бон. Там подъемным краном тащили из воды перевернувшуюся лодку, звучало незнакомое, но понятное слово «оверкиль» и крепкие эпитеты по поводу ветра. Нева морщилась волнами с кокетливыми пенными гребнями на верхушках, и ограничивающие трассу ярко-желтые надувные буи, похожие на детские игрушки, весело раскачивались. Палатки команд, освещенные, как магазинные витрины, демонстрировали нехитрый быт гоночного лагеря: пластиковые столы и стулья, кое-где раскладушки для отдыха сменных пилотов и специальные стенды для моторов. В хитросплетении их металлических внутренностей копались техники в ярких комбинезонах и обязательных бейсболках. Среди деревьев, за палатками, отдыхающим табуном расположились лодочные прицепы, жилые вагончики и автомобили.
Анна дошла до стартового бона. От проносящейся мимо с диким ревом группы лодок отделилась одна и, погасив скорость, крутым и высоким надувным бортом ткнулась в настил. Из кресла пилота, укрытого прозрачным пластиковым обтекателем, с баранкой съемного штурвала в руках выбрался молодой парнишка. Сняв шлем и стирая стекающие по щекам струйки пота, осипшим и еще не остывшим от азарта гонки голосом он торопливо рассказывал:
— Волна — просто полный п… а Мишка из «Ямарана» — м… у третьего буя навалился случайно на его спонсон, так он под Иоанновским так прижал меня к опорам, что еще бы чуть-чуть, и все — п…
Он еще что-то продолжал говорить, забавно вращая вихрастой головой, торчащей из толстого ярко-красного воротника спасательного жилета, а двигатель уже тягуче завыл, и лодка, скользнув в коридор между буями, стремительно набрав скорость, втянулась в гонку.
Наконец она нашла палатку команды Стасиса. На синем полотнище за прямоугольничком литовского флага значилось «Aqvanautika» — так называлась его судостроительная фирма. Рядом на трейлерах стояли несколько лодок разных размеров. За пластиковым столом парень в синем с серебристыми вставками комбинезоне что-то говорил в микрофон головной гарнитуры, одновременно занося данные в небольшой лэп-топ. Рядом с ним, закинув на столешницу длинные загорелые ноги, вольготно устроились потягивающие баночное пиво похожие, как близнецы, длинноволосые блондинки. Раскованные девицы не обращали на Анну никакого внимания, что-то с хихиканьем обсуждая. Она решительно направилась в глубь палатки, где у лодочного мотора со снятым кожухом возилась парочка механиков — мрачный седоусый тип и помогавший ему парнишка, у которого темной смазкой были перепачканы не только руки, но и лоб, щеки и даже кончик носа. Он подал седоусому очередной никелированный ключ сложной конфигурации и, вытирая руки ветошью, вопросительно взглянул на Анну. Она неожиданно сильно смутилась, даже слегка покраснела и, запинаясь, спросила, можно ли увидеть Стасиса. Седоусый мрачно посмотрел на нее, заглянул под винт двигателя, потом — под стол и, наконец, под стул одной из девиц, попутно ущипнув ее загорелую ягодицу, игриво открытую высоко обрезанными джинсовыми шортами. Блондинка взвизгнула, шлепнула его ладошкой по руке и зашлась смехом, потому что седоусый, изображая поиски, все время повторял: «Стасис, Стасис». Анна озлобилась и решительно заявила:
— Я корреспондент телекомпании «Федерация», и у меня договоренность об интервью с господином Адомайтисом.
Седоусый механик что-то пробурчал и вернулся к стенду с двигателем. Анна не знала литовского, но смысл сказанного был понятен и без перевода: плевать он хотел на всех корреспондентов всех телекомпаний. На съемках Анне нередко приходилось сталкиваться с хамством, но агрессия седоусого оказалась неожиданной и потому обидной. Сдержав уже готовую сорваться с языка ответную дерзость, она развернулась и быстро пошла прочь от негостеприимной палатки. Ее догнал перемазанный подмастерье и на дикой смеси русского с английским сообщил, что Стасис уехал по делам и вскоре обещал вернуться, а механик просто очень злой сегодня, потому что двигатель, над которым они бьются, никак не желает работать.
— Don’t worry — не грусти, — утешил он ее, как мог. «Be happy», — продолжила она про себя припев известной песенки Бобби Мак'Фарррена.
Ночь выдалась — хуже некуда, а она, если честно, так мечтала побыть рядом с добрым и все понимающим мужчиной. Не вышло. Жаль, но нужно брать себя в руки: работа есть работа, сюжет за нее никто не сделает. Анна решительно направилась на поиски оператора, но ее остановил Стасис. Точнее — сначала перед ней появился огромный букет желтых роз, а потом из-за цветов выглянул смущенный Стасис:
— Прости, я не подумал, что ты приедешь так рано, — Он с опаской взглянул на нее: — Тебя мои не обижали?
Анне сразу расхотелось обижаться и жаловаться.
— Нет, — ответила она.
— Извини, — Стасис смущенно продолжал топтаться рядом и чувствовал себя явно не в своей тарелке. — Гонка тяжело складывается, — объяснил он виновато, — одна лодка сошла, что-то с двигателем, сейчас пытаются починить, а вторая… там пилот, — он поискал подходящее слово, — недостаточно зрелый, большой авантюрист, пока лидирует, но тревожно — как бы чего не случилось…
Он не успел договорить — в кармане захрипела рация. Стасис извинился и ответил, выслушал короткое сообщение, помрачнел и быстро пошел в сторону крепостной стены, но опомнился, вернулся к Анне и, крепко схватив за руку, почти бегом потащил за собой.
— Куда мы бежим? — спросила она, в очередной раз споткнувшись и чуть не упав.
— Извини еще раз, у нас авария — этот юный авантюрист все-таки разбил лодку, — сообщил Стасис, обогнув угол крепостной стены и быстро двигаясь берегом канала. — Так хотел покатать тебя на лодке, посмотреть на разводящиеся мосты. Похоже, не получится…
У Иоанновского мостика собралась уже знакомая Анне команда. На песке, накренившись на борт, беспомощно лежала большая красивая лодка. Рядом топтался юный и совершенно несчастный пилот, смущенно вертя в руках баранку штурвала, на него наседал седоусый механик. Он орал так, что умудрялся заглушать рев моторов проносившихся мимо лодок — гонка продолжалась. Стасис отодвинул седоусого в сторону и, что-то спросив у неудачника, присел у лодки, надувной борт которой, называемый, как помнила Анна, спонсоном, съеживался на глазах. Стасис внимательно осмотрел корпус, сокрушенно покачал головой и начал снимать с пластикового днища травивший воздух спонсон. Остальная команда дружно принялась ему помогать. На минуту оторвавшись от аварийной суеты, он сказал Анне:
— Вот такая неудача. Развил слишком высокую скорость и под мостом допустил ошибку. Видишь, — он кивнул на одну из старых свай, покосившуюся от сильного удара, — чуть зайца не утопил.
От столкновения с лодкой пострадала именно та свая, на которой недавно торжественно поместили бронзовую фигурку зайца как напоминание об исконных обитателях острова, давших ему название.
— Сам Шумахер, слава богу, цел, а вот лодка… Спонсон порван, а самое неприятное — пробоина в корпусе: все-таки это пластик, хотя удара такой силы и металл бы не выдержал. Надо пробовать чинить. Ты, наверное, не сможешь меня дождаться?
Анна не успела ответить — раздался звонок. Сонный «слухач» сообщил, что на Петроградской — уточнит адрес он чуть позже — серьезный пожар в жилом доме.
— Прости, Стасис, не смогу, нужно ехать, — неподалеку дом горит.
Он, боясь запачкать ее грязной и мокрой после возни с лодкой одеждой, все же дотянулся и быстро поцеловал уголок ее губ. Махнув рукой на прощание, Анна пошла через мост к Кронверкской набережной, на ходу набирая номер оператора. Когда подъехала новостийная «девятка», вновь позвонил «слухач».
— Улица Бармалеева, дом шесть, — повторила Анна для водителя, забираясь на переднее сиденье. — Совсем рядом, — и только сейчас осознала, что горит ее дом.
Когда подъехали — полыхало уже вовсю. Верхние этажи Анниной парадной горели открытым пламенем. Из окон квартир, разрывая густые плотные клубы черного дыма, вырывались мощные оранжевые сполохи бешено-злого огня. Пожарные суматошно эвакуировали жителей соседних домов, опасаясь, что пламя доберется и туда. Соседи, кое-как одетые, сгрудились на тротуаре неподалеку. Надрывно кричал чей-то испуганный ребенок, баба Клава с третьего этажа причитала о своем стареньком рыжем коте: «Пуша, мой Пуша, где же ты, бедненький?» Обычно ухоженные и веселые симпатичные сестрички с пятого этажа — их квартира располагалась прямо над Анькиной коммуналкой — были взлохмачены, перемазаны сажей и, надышавшись дыма, все время натужно кашляли. Перебивая друг друга, сестрички рассказывали, что вспыхнуло сразу и мощно, а потом взорвался газ — они с родителями едва успели выскочить по черной лестнице, а потом вернулись в горящий дом, чтобы помочь соседке Лидке, добродушной полной хозяйке среднеазиатской овчарки Лады, вынести на улицу семерых полуторамесячных щенков. Спасенные малыши меховыми комочками копошились на тротуаре и, поскуливая, тыкались мокрыми носами в живот безучастной Лады. Крупная бело-рыжая овчарка сидела неподвижно, неотрывно глядя на пламя, отражавшееся в ее черных зрачках. Время от времени она задирала морду вверх и протяжно выла. Анна расспрашивала очумелых от обрушившегося на их головы несчастья соседей про своих — бабу Маню и Тимофея, но никто их не видел. Плохо соображающая из-за страха за них, Анна бессмысленно тыкалась туда-сюда, как маленькие неуклюжие среднеазиаты. Из ступора ее вывел Семенов. Спокойно и профессионально снимавший, он, заметив ее метания, прервался и посоветовал:
— Ты отвлекись, смотри — лица на тебе нет, пойдем к пожарному начальству — может, они чего-нибудь знают.
Анна послушалась и попыталась унять бушующее внутри дикое беспокойство за судьбу близких, почти родных людей. О том, что сгорела ее комната и теперь негде жить, она в тот момент не думала. Чтобы справиться с надвигающейся истерикой, девушка начала считать. Двадцать машин ярко-красной окраски, экипажи которых из всех стволов поливали пламя, — это значит пожар не ниже третьего номера. По штурмовым лестницам несколько пожарных, прорываясь сквозь огонь, поднялись на крышу и отдирали кровельную жесть, чтобы проливать чердак и деревянные перекрытия старого дома сверху. У штабной машины деловито отдавал распоряжения подтянутый полковник в ярко-желтой каске — руководил тушением сам начальник пожарной охраны Петербурга Александр Чуприян. Узнав Анну, он улыбнулся ей мимоходом и, закончив разговор с одним из пожарных, повернулся к камере:
— Ну что, несколько слов для петербургских «Новостей»? Только коротко, ладно? Видишь, как горит, как бы соседние дома не захватило.
Он четко рассказал о тушении большого пожара: сейчас номер сложности повысили до четвертого. В одной из квартир взорвался бытовой газ, и не исключена версия поджога. Анна спросила о погибших и пострадавших.
— Пострадавшие есть: пятеро с ожогами разной степени тяжести и отравлением продуктами горения госпитализированы. О погибших пока ничего не могу сказать — потушим огонь, осмотрим помещения, тогда станет ясно.
Заработало переговорное устройство. Полковник ответил и знаками показал Анне, что интервью закончено. Погорельцев наконец увели от дома и разместили в спортивном зале ближайшей школы. В школьном коридоре чиновники районной администрации составляли списки оставшихся без крова людей. Усталая женщина записала и данные Анны, но о соседях ничего не знала — ни баба Маня, ни Тимофей в школе не появлялись. Пожар оказался очень серьезным, и в спортзале собрались съемочные бригады всех ведущих петербургских телеканалов. Приехали и «федералы». К Анне подошел и пробурчал несколько утешительных слов, как всегда, предельно мужественный Славка Громов. Не так давно он тоже был корреспондентом «Новостей», а нынче стал «ортом» — так на журналистском сленге, по аббревиатуре ОРТ — Общественное российское телевидение, называли сотрудников Первого канала. Нежадная Анна, оставив себе Лиду с ее щенной Ладой, отдала Славке соседок-сестричек, уже успевших умыться, вновь хорошеньких и веселых. Они, кокетливо поглядывая на серьезного, при бородке и очках, Громова, наперебой рассказывали о ночном кошмаре.
Записав синхроны, Анна и Славка вышли на улицу. Стояли на школьном крыльце, устало курили и наблюдали, как юная, смазливая корреспондентка Пятого городского канала, встав на фоне горящего дома и несколько раз переспросив своего оператора, хорошо ли смотрится в кадре, постоянно запинаясь и начиная вновь, записывала стендап. Мощных огненных сполохов не видно — пожарным удалось их подавить или просто уже догорело все, что могло гореть. Над домом клубами поднимался к рассветному небу густой белесый дым. У Анны перехватило дыхание: зияющие обугленными провалами окна на грязных, в разводах копоти и потоках воды стенах отчаянно и беспомощно напоминали пустые провалы глазниц ослепленного человека. И даже мысль о том, чтобы записывать здесь стендап, казалась кощунственной.
Свой сюжет Анна начала так: «Сегодня ночью на Петроградской стороне сгорел дом, в котором я живу». Сонная утренняя бригада — каждый день подъем в пять утра, а если живешь далеко, то и раньше — еще только начинала постепенно оживать. Маленькая, аккуратная, как скульптурная миниатюра Челлини, ведущая Оленька Притулова, прикорнув у монитора и уткнувшись нечесаной, с торчащими в разные стороны вихрами головой в сгиб локтя — все равно укладываться перед эфиром — пыталась поспать еще хоть несколько минуток. Анна, не дожидаясь Алену Арапову, которая должна ее сменить на дежурстве, вернулась на пожарище, чтобы продолжить поиски бабы Мани и Тимофея.
Пасмурным утром пепелище, оплакиваемое по-осеннему грустным дождем, казалось бесстыдно обнаженным. Тусклый свет, проникая сквозь разобранную крышу, ощерившуюся обломками обугленных стропил, выставлял напоказ руины еще недавно теплых и уютных жилищ — выбитые рамы, опрокинутую мебель, перепачканные и промокшие абажуры, семейные фотографии на отсыревших и отклеивающихся от стен обоях. А в закопченных проемах окон ее квартиры — сплошная чернота. Лишь на стене комнаты бабы Мани, непонятно каким чудом уцелевшие, с выпорхнувшей в последнем отчаянном усилии вырваться из пламени да так и застывшей на перекрученной стальной пружине кукушкой, навсегда остановились ходики. Анна увидела, как на носилках из парадной выносят черные пластиковые мешки, дернулась туда, но ее остановил один из безумно уставших пожарных, которым сердобольные старушки-соседки принесли пирожки и чай:
— Не надо, не подходи, там угольки одни.
От мешков тянуло удушающим смрадом сгоревшего мяса. Анне стало дурно, и, уже ни на что не реагируя, она села на залитый грязной водой и засыпанный сгоревшей рухлядью асфальт и беспомощно разрыдалась. Тут ее и нашла Настя Божественная, увидевшая сюжет в утреннем выпуске «Новостей» и бросившаяся на помощь подруге. Она увезла Анну к себе домой и в качестве восстановительной процедуры засунула ее в теплую ванну, заставила выпить сто граммов коньяка, а потом, обессиленную и все еще хлюпающую носом, уложила спать.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Николая нашла соседка — активная пенсионерка, вечно собирающая деньги на очередное подъездное усовершенствование с разобщенных, отгороженных друг от друга металлическими дверями жильцов. Ее заставил выйти в поздний час на улицу такой же, как и она, старенький кокер-спаниель. Кокер тыкался в лицо мокрым носом, и Николай, приоткрыв глаза, сквозь оранжевые круги различил сперва лишь кусочек асфальта да низко свисающее черное с проседью ухо Мотеньки — так звали пса. Потом услышал голос соседки:
— Господи, ну надо же такому случиться. А у нас с Мотенькой сегодня расстройство, и он меня уже пятый раз за вечер выводит погулять. Решили выйти из двора, а тут такое.
Николай попытался приподняться. Удалось перевернуться на бок, на время избавившись от мокрого носа Мотеньки. Соседка закудахтала:
— Да что же я стою-то — совсем разум потеряла. Сейчас-сейчас, позову Елену.
Несколько минут спустя она вернулась с насмерть перепуганной женой. Николай уже пришел в себя настолько, что умудрился сесть, опираясь спиной на кирпичную стену.
— Как ты? — в сложных ситуациях Елена действовала быстро и решительно, испуг выдавал лишь севший, сдавленный голос. — Дай-ка посмотрю. Так, кровь вроде уже идет меньше. — Она попыталась немного развернуть его голову к свету фонаря, у Николая непроизвольно вырвался стон. — Прости, пожалуйста. — Она подула ему на макушку, как маленькому, плачущему от «зеленки» ребенку. — По-моему, череп цел. Оброс весь, давно постричься нужно.
— Может, лохмы и уберегли, — криво ухмыльнулся Николай, стирая ладонью потеки крови.
— Давайте я вызову «скорую», — предложила соседка.
— Нет, «скорую» не надо — все нормально, — Николай попробовал встать. Получилось неважно, и, если бы не поддержала Елена, наверняка, вновь бы упал.
Вести его домой жена отказалась наотрез и, сбегав за ключами, погрузила Николая в их старенькую «девятку», ночевавшую у подъезда, чтобы ехать в круглосуточно открытый травмпункт на Удельной.
— Что ты все оглядываешься? — спросила Елена, со второй попытки запустив капризничающий двигатель.
— Тебе не попадалась на глаза деревянная шкатулка, довольно крупная, из березы?
— Нет вроде, давай глянем еще раз. — Она поставила машину так, чтобы осветить небольшой проходной двор. В свете фар небольшая лужица крови казалась черной. В самом темном углу валялись пустые стеклянные пузырьки и несколько использованных одноразовых шприцев — этот закуток делили для приема очередной дозы местные бомжи и наркоманы.
— Странно, — сказал Николай, пытаясь устроить на подголовнике разламывающуюся от боли голову, — я уже проверил: ничего не пропало — часы, бумажник, телефон — все на месте, только нет этого ящика.
— Может быть, кто-то этого ублюдка спугнул, — предположила Елена, лихо выворачивая из двора и резко ускоряясь на пустом проспекте. — А что за шкатулка-то?
— Анька попросила забрать — у нее сегодня ночное дежурство, — на более подробные объяснения у Николая сил не осталось.
Елена пристроила «девятку» у обочины, где уже стояли рядом милицейский «уазик» и фургон «скорой». Несмотря на возражения, жена помогла ему выйти из машины и продолжала поддерживать, обнимая за талию. Травмпункт располагался на первом этаже сталинского жилого дома, к двери с тротуара вели высокие и крутые ступени. «Не лестница — дополнительная работа для травматолога, — подумал Николай, с трудом карабкаясь вверх. — Как, интересно, по ней хромые спускаются?»
В коридоре пахло болью. В коктейле запахов различались ноты анестезии, дезинфекции, пота и блевотины. Неподалеку от входа, прикованный наручником к батарее парового отопления, дергался молодой крепкий парень в разодранной майке, с залитым кровью лицом. Он хриплым голосом выкрикивал угрозы, обещая «урыть всех подлюг», и время от времени пытался ударить ногой стоявших на безопасном расстоянии милицейских патрульных. Не достав в очередной раз, он яростно матерился. Милиционеры не обращали внимания на выходки бузотера: они спорили с усталым немолодым врачом в несвежем халате желтовато-серого оттенка. Тот быстрыми затяжками выкуривая сигарету, втолковывал им:
— Ну зачем вы его сюда привезли? Что мне с ним делать прикажете? Он ведь медперсонал покусает — очевидный реактивный психоз на почве алкоголя.
В этот момент прикованный с криком «Балтийца не возьмешь!» попытался снова дотянуться до сержантов, но поскользнулся и упал на спину, с гулким стуком приложившись затылком, однако резво вскочил и вновь зашелся руганью.
— Смотри-ка ты, — удивился врач такой прыти, — мозги, считай, наружу, а все воюет.
— А куда нам его девать? — нудно бубнил один из сержантов. — В «обезьянник» закроешь, а он кони двинет — отвечай потом за этого придурка.
Елене и Николаю, которые никак не могли протиснуться внутрь травм пункта, сидевший тут же, на грубо сколоченных вместе старых деревянных «домкультуровских» креслах парнишка в синей униформе персонала «скорой помощи» со свежим синяком под глазом словоохотливо объяснил:
— Вот нашей бригаде сегодня повезло, блин. Мореман этот, — он кивнул на продолжавшего буянить парня, — из рейса пришел, ну и сразу завалился в кабак, чтобы отметить это дело, как полагается. Чего-то ему там не понравилось, нажрался и давай чудить: бармену в дыню дал, витрину разнес. Ну, его там и успокоили — бутылкой башку разбили и выкинули на Энгельса, кто-то «скорую» вызвал. Мы подъехали — лежит мужик без памяти, башка разбита, весь в крови. Начали его в фургон грузить, — он очнулся и давай опять воевать. Доктору нашему руку сломал, мне вот фейс попортил. Здоровый, гад! Хорошо, милиция подъехала, а то он уже собирался в кабак вернуться, для разборок. Так и с ментами он тоже подрался — сержанту вон руку прокусил. Не, во народ, блин, — просто крейсер «Варяг» какой-то.
— Ладно, поступим так, — подвел итог врач. — Я вызову спецбригаду из Скворцова-Степанова, они его успокоят, а потом мы его залатаем и отдадим голубчика или вам, или им — кто возьмет. А ты, сержант, иди — тебе руку сестрички продезинфицируют.
Уходя, он равнодушно скользнул по Николаю взглядом и остановился:
— Привет телевидению. Ты как тут оказался?
Николай не мог вспомнить, откуда его знает этот врач, — наверное, сталкивались на съемках какого-нибудь сюжета, — но вежливо ответил:
— Привет. Да вот, голову разбили.
— Ну, пошли со мной, посмотрим, что у тебя. Слушай, — втолковывал врач Николаю по дороге, — вот о чем надо сюжет снять. Какая-то эпидемия головоломок. — Он, довольный собственным каламбуром, рассмеялся. — И все — криминальные. Наркоманы — как сдурели. Наркота, что ли, вздорожала?
Николаю быстро сделали рентгенограмму и, дождавшись снимка, врач потащил его в кабинет, на дверях которого значилось: «Операционная».
— Ну, Николай Полуверцев, повезло тебе, череп крепкий — цел остался, даже трещин нет. Хотя удар, — он осторожно ощупывал прохладными пальцами рану, — судя по рассечению, был сильный. Ну, гематома — это обязательно, да и сотрясение наверняка есть. Светочка, давай-ка аккуратно подстриги раненого бойца, — велел он молоденькой медсестре. — Рыбу-то ловишь или времени нет? — поинтересовался хирург, тщательно намыливая и дезинфицируя руки. Пока медсестра выстригала волосы, он с увлечением рассказывал о том, как в прошлые выходные неплохо половил на Ладоге, а главное — у него сошла пятнадцатикилограммовая щука: — Веришь — голова ее уже у меня на коленях лежала, а она как даст хвостом о борт, шнур порвался и — привет Педре!
Именно по этому «привету Педре» Николай и вспомнил, как снимал этого врача-рыболова на одном из соревнований питерского Клуба рыбаков.
— Ты не переживай, акула пера, я тебя аккуратно заштопаю. Спасибо, кстати, твоему грабителю — четко бил, грамотно, видимо, кастетом. Края раны хорошие, ровные, после ударов бутылками сплошные лохмотья получаются. — Продолжая балагурить, хирург быстро вколол анестетик и, подождав несколько минут, принялся зашивать рану.
— Ну вот, — сказал он, завязывая последний узелок, — красота, лучше, чем раньше. Сейчас тебе Светочка ручками нежными повязочку сделает, и все. Тебя есть кому домой-то отвезти?
— Да, жена ждет, спасибо, — и с некоторой неловкостью Николай уточнил: — Я тебе что-то должен?
— Конечно, должен. Я, вообще-то, с рыбаков гонораров не беру, — пояснил врач, — но ты — особая статья. Так что, должен — хорошие сюжеты снимать, а главное — правду народу рассказывать.
— Извини, рад бы пообещать, да не от меня это зависит. Я всего лишь скромный редактор.
— А я — всего лишь скромный хирург-травматолог, и от меня тоже зависит немногое, но, все же, кое-что в моих силах. Вот — голову тебя аккуратно залатал. Уверен, — у тебя тоже так. Ты не отчаивайся, представитель четвертой власти, ты нам — зрителям старайся правду рассказывать. Понятно, что дело это не простое, но свобода слова, как никак, можно сказать — завоевание демократии.
Хирург говорил подчеркнуто иронично, стараясь смягчить пафосность давно вышедшего из моды политического лозунга ельцинской поры, но глаза его оставались серьезными, и Николай почувствовал искреннюю, наивную и очень трогательную убежденность собеседника в том, что вечные ценности — существуют и жизнь должна строиться по законам добра и справедливости. Полуверцеву стало неловко, словно он, не разуваясь, в грубых рыбацких сапогах вломился в чистенький уют недавно убранного жилища, оставляя на светлом ковровом покрытии расползающиеся мокрые пятна, ошметки грязи и засохшую чешую. Готовая сорваться с губ насмешливо-циничная реплика застряла в горле, и он, скрывая смущение, закашлялся.
— А для придания необходимых сил немедленно назначаю лечебную процедуру. ЦИТО, — поднял он вверх указательный палец. — Светочка, сосудорасширяющее и три мензурки.
Тренированная Света проворно извлекла из недр шкафчика для медикаментов бутылку армянского коньяка. Хирург наполнил янтарной жидкостью три стеклянных стаканчика.
— Настоящий, из Еревана, — похвастал он, — пару месяцев назад в драке порезали армянина одного, я его заштопал, а благодарные родственники презентовали за работу целый ящик замечательного коньяка — совсем такого, как в далеком советском прошлом. Ну, — подражая актеру Булдакову пробасил он, — за свободу слова.
Они чокнулись и выпили. Коньяк действительно оказался великолепным — ароматным, мягким и не сладким.
— Извини, друг, с закуской проблемы. У меня, правда, есть чем, — он притянул к себе медсестру и с удовольствием поцеловал ее в упругую щечку. — Вай, ну просто персик, честное слово. Ну ладно, боец видимого фронта, топай домой отлеживаться и давай-ка приходи через недельку — Светочка тебе швы удалит.
Ноябрь 1908 г., Пекин, русская миссия
Почти год минул с той поры, как я сделал в дневнике последнюю запись. И сейчас, когда путешествие наше можно считать завершенным, я, пребывая под радушным кровом российского посольства в Пекине, намерен восстановить, насколько это будет в моих силах, минувшие события. После двухлетних изнурительных странствий я наслаждаюсь комфортом цивилизации и восстанавливаю свое пошатнувшееся в результате тяжелого ранения здоровье под наблюдением милейшего посольского доктора Переяславцева, старательно выполняя все его рекомендации. Однако отказаться от двух нездоровых привычек — курения и употребления леденцов, — удовольствия, предаваться которым я был лишен более года, никак не удается.
Описывать продолжительное путешествие нашего отряда по маршруту Ланчжоу — Тибет я не намерен: это были бесконечно однообразные дни тяжелого пути по заснеженной пустыне. Боевое крещение отряд получил близ озера Кукнор. Мы наткнулись на банду Рабдана. Тенцинг позже рассказал мне, что Рабдан — бывший монах и сейчас он уже очень стар, почти ослеп, но грабежи и убийства не прекращает, а шайка его насчитывает до сотни хорошо вооруженных головорезов. Озеро Кукнор считается у буддистов священным, и мимо него пролегает главный путь паломников в Тибет. Этим и пользуются бандиты. Наш отряд они, очевидно, приняли за научную экспедицию и рассчитывали на легкую добычу.
Дружным и умелым огнем мы рассеяли нападавших и позже насчитали более десятка убитых бандитов. Были потери и с нашей стороны: погибли солдаты Миронов и Афанасьев. И без того маленький отряд еще сократился.
Преодолев первый тибетский перевал, для чего пришлось подняться на четыре километра, познакомившись на личном опыте с высотной болезнью, вышли на широкое горное плато — перед нами простиралась страна кочевников Кам. В этой горной стране, жители которой носят общее название кампа, соседствуют несколько племен. Мой спутник Тенцинг принадлежит к самому многочисленному — дэрэ. Из бесед я понял, что кампа, кстати, внешне не походившие на монголов или китайцев, отличавшиеся высоким ростом и напоминавшие северо-американских индейцев чертами лица, слывут в Тибете воинами и разбойниками.
— Лучшая религия в У-Цзане, лучшие мужчины в Каме, лучшие лошади в Амдо, — не без гордости перевел как-то Тенцинг тибетскую поговорку.
Верхняя одежда кампа чуба — необходимый в суровом климате высокогорья теплый халат из меха яка. Когда становится жарко, его завязывают у пояса. И женщины, и мужчины носят меховые штаны и войлочные сапоги с загнутыми вверх носами. Мужской костюм дополняется фетровой шляпой. Все мужчины вооружены длинными кинжалами местной работы, ножны украшены серебром и камнями, у многих за спиной луки и колчаны со стрелами — кампа искусные лучники.
Как я уяснил, Тенцинг — приверженец буддизма, но здесь широко распространены и древние языческие верования. У него в проколотую мочку уха вставлена крупная бирюзовая серьга — для отпугивания злых духов.
На горных перевалах в стране Кам нам не раз попадались укрепленные камнями шесты — ларце. На протянутых от шестов веревках вывешены разноцветные молитвенные флажки. Тенцинг обязательно останавливался у каждого и добавлял к уже висящим свой флаг. Таков древний обычай этих мест, своеобразная плата за проход по перевалу, чтобы не разгневались суровые горные духи. Иначе они предстанут бесплотными, сотканными из туманами тенями — и горе тем, кто вызвал их гнев.
В языческом пантеоне богов главное место занимает Тенгри — «Вечное небо», присутствуют также духи воды Лу, воздушные всадники Цан, в чьей власти ветры и ураганы, боги земли, дома и очажного огня. И каждый, конечно, требует уважительного к себе отношения и соблюдения многочисленных ритуалов.
— Каждого человека, — говорил Тенцинг, — сторожат духи-защитники. Два самых главных сидят на плечах. Для того чтобы человека поразить мечом или стрелой, нужно их обязательно спугнуть. — При этих словах он присел, растопырил руки, скорчил страшную гримасу и с диким криком подпрыгнул, а потом, довольный собой, пояснил: — Так мы перед боем запугиваем духов наших врагов.
По его мнению, именно из-за того, что тибетцы не успели проделать этот языческий ритуал, они и проиграли британцам битву при Гьянцзе. Я не стал переубеждать гордого и чрезмерно обидчивого Тенцинга. Но из рассказов я заключил, что главная причина поражения — полное отсутствие у тибетских военоначальников представления о тактике современного боя, слабая вооруженность и плохая организация войска. Поэтому, когда английские офицеры, встретившись с тибетскими командирами якобы для переговоров, коварно их перестреляли, пятитысячная тибетская армия стала легкой добычей для экспедиционного корпуса.
В канун Рождества 1908 года мы вышли к главному городу Кама — Кандингу. В широкой горной долине на берегу реки, на высокой скале, возвышался замок традиционной тибетской постройки — резиденция местной правительницы-княгини. В городе пагода да несколько десятков домов. Дома в несколько этажей, сложенные из камня, с белеными стенами, которые имеют отчетливый наклон внутрь. Узкие и глубокие оконные ниши обведены черным контуром — это усиливает ощущение неприветливости и закрытости жилищ. Вокруг города в речной долине раскинулся большой лагерь кочевников. Их черные шатры-палатки из шкур яков установлены кругом, в центре которого сложены из камня невысокие загородки для стада. Мы разместились в таких же палатках. Понизу они обложены камнем для защиты от ветра и снега.
Внутри каждого шатра — каменный очаг, где постоянно поддерживается огонь. Единственный вид топлива здесь — аргал, лепешки из навоза, смешанного с соломой: они налеплены всюду для просушки. Однако тепла и света дают они мало, да и сильно дымят. Дым уходит в специально оставленную в крыше палатки щель. По темным углам расставлены высокие деревянные бочонки — в них хранят сбитое из молока яка соленое масло. У очага два прокопченных котелка, для чая и цзамбы, похлебки из ячменной муки. Похлебка да чай, приготовляемый с маслом, солью и содой, — вот и весь рацион здешних кочевников.
Тенцинг надеялся получить благословение княгини на сбор отряда, а мне предстояло этих людей вооружить и, насколько позволит время, заняться их обучением. Нам передали сообщение лазутчиков из Лхасы: англичане намерены отправить транспорт сразу по завершении монлама — праздничных представлений, посвященных тибетскому Новому году. В Тибете в ходу лунный календарь, и Новый год на этот раз пришелся на начало февраля. От Кандинга до Лхасы 250 верст заснеженных перевалов, на подготовку к операции у нас оставалось не больше двух недель.
Домовитый Малоземов расстарался и устроил нашему отряду незабываемый праздник. С помощью кочевников он совершил вылазку в лес и привез не только сухих дров, но и рождественскую ель местной породы. Ее установили в палатке и сообща украсили тем, что было под рукой: китайскими фонариками и хлопушками, винтовочными патронами, пустыми жестянками от давно съеденных конфет. Венчала елку звезда, вырубленная Малоземовым из патронного цинка.
Весело потрескивали в очаге дрова, и в ярких отблесках пламени наша скромная ель казалась настоящей лесной красавицей. Малоземов, как заправский полковой священник, прочитал молитву, и ровно в двенадцать часов мы дружно сдвинули кружки, наполненные крепким местным пивом, пожелав друг другу счастливого Рождества.
Невозможно описать пронзительную и горькую нежность, владевшую нами в тот миг, — таким трогательным казался здесь, в тибетских горах, за многие тысячи верст от дома, любимый домашний праздник. Я вглядывался в посветлевшие лица своих товарищей — в глазах у каждого стояли воспоминания и слезы. Я тоже вспоминал — родную Финляндию и поход за елью в морозный, пронизанный искрящимся солнечным светом лес, ослепительно сверкающие в черной зимней ночи огни храмов и дворцов праздничного Петербурга, родных и любимых людей, о которых уже давно не имел никаких известий.
Выдумщик Малоземов устроил на улице огненную потеху: запасись в Китае различными фейерверками и шутихами, он малую часть решил израсходовать в честь Рождества. С грохотом и свистом взлетали в черное небо ракеты и рассыпались там сотнями разноцветных искр.
Все окрестное население высыпало поглазеть на невиданное зрелище, и это имело неожиданные последствия: после фейерверка все мы стали пользоваться большим уважением, а Малоземов вызывал у кочевников священный трепет — они сочли его полубогом.
От него же мы с ротмистром получили неожиданный рождественский подарок — чудом сохранившуюся в скитаниях бутылку шампанского. Оставшись вдвоем, мы, с великой аккуратностью откупорив сосуд божественного напитка, присели у очага. Треск поленьев и живой танец воздушных пузырьков в кружках отогрели наши сердца, наполнившиеся сентиментальными воспоминаниями.
— Новый год у нас в усадьбе. На улице мороз, на стеклах фантастические ледяные сады, а в комнатах жарко печи натоплены. Всюду свечи, их не гасят даже на ночь. Maman, такая молодая и красивая в вечернем открытом платье, за роялем и papa с янтарным чубуком. Дымок трубочный так вкусно и заманчиво пахнет заморскими странами, пальмами, индейцами. И мы — дети всюду носимся в праздничных костюмчиках, уже испачканных шоколадом, и никак не хотим идти спать. А рано утром, проснувшись первым, босиком по зябкому полу бегу к елке — искать подарки. А под ней — сбывшаяся мечта — расписной, невероятно красивый каурый деревянный конь и почти всамделишная сабля.
Муравьев залпом допил шампанское и, непривычно, впервые по имени-отчеству, обратился ко мне:
— Густав Карлович, чувствую, не уйти мне живым из этих гор. Когда вернетесь домой в Россию, прошу вас, навестите моих стариков, передайте письмо да расскажите им, как было дело. — Он протянул мне конверт.
Я не ожидал, что услышу такую просьбу от ротмистра — храбреца, весельчака, удачливого ловеласа. Я не стал говорить слов, которые обычно произносят при подобных обстоятельствах, лишь молча взял протянутый конверт.
Меня которую ночь преследовал один и тот же сон. Являлось прекрасное женское лицо, но в красивом изломе черных бровей, в глубине огромных карих глаз столько неизбывной тягостной тревоги и тоски, что чудный лик этот казался застывшей маской горя…
И вернулись в печали ученики к Сыну Человеческому, который был тогда в Капернауме, и оказался там человек, у кого сын слеп, глух и косноязычен. И сказал он Иисусу: «Господи, просил я исцелить моего сына, и ученики Твои не смогли. Смилуйся, Господи. Верю, что будет по слову Твоему». И сказал Сын Человеческий: «Доколе буду с вами, маловерные}». И, вложив больному персты в уши его и плюнув, коснулся языка его и глаз закрытых и взглянул на небо, вздохнул и сказал ему «еффафа», то есть «отверзись». И тотчас прозрел, и отверзлись уши его, и стал говорить чисто. И призвал Иисус учеников, и пошел с ними к морю Галилейскому, и спросил их: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «Кто за Иоанна Крестителя, кто за Илию, а иные — за одного из пророков». И спросил Он: «А вы за кого Меня почитаете?» И сказал Ему Симон по прозванию Петр: «Ты — Христос, то есть Мессия». А сыны Зеведеевы Иоанн и Иаков, прозванные Воанергес, сказали: «Равви, близится праздник Пасхи. Пойдем и мы в Иерусалим, и будешь учить народ в храме, и вступишь в святая святых как Мессия, то есть помазанник из колена Давидова». А Симон Канаит, ходивший с зелотами, мечом опоясанный, сказал: «Ты Иисус из колена Давидова есть пророками заповеданный царь иудейский. Сделаем смуту средь сынов Израилевых, и будешь править в Иерусалиме». И печалился Сын Человеческий речам их, и открыл Он им тогда, что будет предан в руки человеческие, и не разумели они. Тогда сказал Иисус: «Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть у биту, а на третий день воскреснуть». Они стали Ему прекословить и просить не оставлять их. Но Иисус отвечал: «Кто хочет душу свою сберечь — тот потеряет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» И печалились они, и пришли на берег моря Галилейского, и не было у них никакой еды, и забросил невод Симон Петр четырежды и не поймал ничего. И увидел это Иисус и сказал: «Забрось в этом месте еще раз», но возразил ему тот: «Равви, уже делал я это. Тут рыбы нет». И сказал ему Сын Человеческий ласково: «Ах, Симон, Симон, доколе ж ты будешь так маловерен и упрям?» И забросили сеть по слову Его и не могли вытащить — столь было в ней рыбы разной — и крупных было 150 штук. А пока готовили трапезу, удалился Иисус на гору и предавался там молитве. А когда Он вернулся, то застал учеников Своих спорящими и спросил их, о чем они рассуждали между собой. А они молчали все, ибо спорили между собой, кто из них больший есть. И Он, сев среди них, сказал: «Кто хочет быть первым из всех, будь последним из всех и всем слугою. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою во искупление многих». И просили Его Иуда Искариот и Фома, бедный раб Его: «Не пойдем никуда, Господи. Хорошо нам здесь». А стал вечер, и зажгли ученики Его светильник, и сказал им Иисус: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под кроватью? А не для того ли, чтобы ставить ее на подсвечнике, дабы осветила она дом? Истинно говорю вам — нет ничего тайного, что не стало бы явным, и ничего сокрытого, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши, да услышит».
По пути к Иерусалиму, а с ними многие люди пришли в столицу иудейскую, ибо приближался уже праздник Пасхи, вышла навстречу им женщина из селения Вифания и просила Иисуса идти с ней, ибо единственный сын ее лежал в доме при смерти. Ученики же Его возбраняли ей. И сказал Сын Человеческий ученикам: «Идите сами». И пошел с ней в дом ее. И когда приблизились они к воротам иерусалимским, сказал Иоанн Зеведеев Фоме — неверному рабу Господа: «Хотим возвеличить Его, а ты с лица как Он». И привели из соседнего селения белую ослицу с молодым осленком, и накрыли ее одеждами своими. Фома сел на нее, и думали так исполнить пророчество о явлении мессии — нового царя иудейского. Многие же постилали одежды свои по дороге, и зеленые ветви резали с дерев и постилали. И предшествующие и сопровождающие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» И вошел так Фома в Иерусалим, а слепой нищий сидел при дороге и начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И не мог Фома излечить его. И проклинал тот его, думая, что он Иисус, и надсмехался над ним. И тотчас же пошли ученики Его в храм и, придя, изгоняли оттуда торговцев и менял и столы меновщиков перевернули, и скамьи продающих голубей опрокинули, и устроили смуту во всех приделах. И пришел Сын Человеческий, и опечалилось сердце Его, и сказал им: «Не ведаете, что творите. Думал Я, что пришел принести мир на землю, не мир, но меч принес Я. Ибо отныне разделятся люди между собой и каждый дом разделится внутри себя». А ученики Его радовались, как чада неразумные, и говорили: «Учитель, посмотри, какие камни и какие великие здания». И сказал Сын Человеческий: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И так и должно быть — никто не наливает вина молодого в старые мехи, ибо порвет вино мехи и само пропадет. И будет построен новый храм Царствия Небесного на земле. Но до этого срока будет предан Сын Человеческий в руки человеческие, и осудят Его на смерть, и поругаются над Ним, и оплюют Его, и будут бить Его, и убьют Его, и в третий день Он воскреснет». И ужасались бывшие с Ним, и приступили к Нему, и взроптали: «Вот мы оставили все и последовали за Тобой, и Ты теперь оставляешь нас». А неверный раб Его Фома плача молил: «Пойдем с нами к морю Галилейскому — хорошо нам там». И сказал Иисус: «Чадо, не ведаешь сам, о чем просишь Меня. Се путь не Мной, но Отцом Моим Небесным избран».
А вечером вышли оттуда и пошли в один дом в Вифании, и, когда были там, пришла туда красивейшая из дочерей Израилевых Мария по прозвищу Магдалина. Волосы ее мягки и шелковисты, как виссон, а глаза голубые, как небо Галилеи в месяц Нисан, а губы розовые, как коралл, а перси нежны и упруги, как плоды персидского дерева, а два сосца — как двойня молодой серны, пасущаяся среди лилий. И прекрасны ноги ее в сандалиях, округленье бедер, как ожерелье, дело рук искусного художника. И была она наложницею у прокуратора Понтия Пилата, и вместе с ним приехала из Кесарии в Иерусалим на праздник Пасхи. И услышала в храме Сына Человеческого, и прилепилась сердцем к Нему. Принесла она сосуд алавастровый драгоценного миро и омыла ноги Учителя, и умащала их миром, и отирала прекрасными волосами своими. А некоторые из учеников Его вознегодовали, говоря, что миро можно продать за 300 динариев, а деньги раздать нищим. И сказал Иисус: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда». А зелоты на улицах и площадях Иерусалима открыто возвещали, что пришел во славе Сын Давидов, новый Царь Иудейский. А предводитель зелотский Варавван с присными пришел в дом один и убил мечом римского сотника и бывших с ним. И взяли его, и заключили в узилище. А придут они потом на Землю обетованную, и вместо дома там — родное пепелище.
Часть вторая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ
Август 200… г., Санкт-Петербург
…Да, вот они, все три письма Маннергейма, аккуратно разложены на облупившимся пластике кухонного стола убогой, не первый год сдававшейся в аренду квартирки.
Сегодняшняя беспокойная ночь в конце концов принесла результат. Охота, неудачно начавшаяся в Финляндии, благополучно завершилась в Петербурге, и если этот старый маразматик был прав, то очень скоро Монгрел станет обладателем клада Маннергейма.
Сосредоточиться на содержании желтоватых, старомодных листков мешало желание — неожиданно перед глазами возникает раздетая Анна, за которой ему довелось наблюдать на финском озере. «Молния» джинсов вздувается горячим бугорком. Почти физически ощущая мгновения близости, с нарастающим вожделением он представляет небольшие, чудесной формы, ступни и изящные пальчики с аккуратными лунками ногтей — его всегда возбуждают маленькие красивые женские ноги…
Желание пришло сильное и неожиданно нежное — хочется бесконечно и бережно ласкать смуглую кожу, следуя изгибам стройного тела волею судьбы ставшей на его пути журналистки.
«Почти семейное дело», — усмехается Монгрел. И решает, когда все останется позади, непременно осуществит эту фантазию. Секс с жертвой — такого с ним прежде не случалось.
«Похоже, старею», — отмечает он почти безразлично и, чтобы прогнать возбуждение, дышит медленно, ровно и глубоко.
Брезгливо, не снимая резиновых шлепанцев, принимает душ в запущенной ванной — недорогая съемная квартира, похоже, никогда не ремонтировалась. Его жилище вполне устраивает — последний этаж; до сквозного, на все двенадцать парадных, чердака — всего один марш по темной лестнице.
Монгрел возвращается к кухонному столу. С удовольствием отправляет в рот очередную карамельку. Днем приходится сдерживаться — о пристрастии к леденцам наверняка известно идущим по его следу «ищейкам».
Итак, все три письма Маннергейма теперь у него. И в придачу — старая тетрадь в черном коленкоровом переплете. Монгрел просматривает несколько страниц дневника и откладывает в сторону — какие-то финские сантименты…
Ему нужны письма, и сегодня он их получил.
Монгрел вспоминает теплый солнечный день поздней осени. Нарядный в желто-красной листве ухоженный парк одной из швейцарских частных богаделен. И трясущуюся от злобы, брызгающую слюной развалину в инвалидном кресле — его дед Гядиминас Миндаугас был уверен, что ключ к шифру содержится в одном из писем.
Встречу с дедом устроили американцы. Зачем им это понадобилось, он не знал, но чертовы янкесы ничего не делали просто так…
Монгрел равнодушно разглядывал неопрятные живые человеческие останки, а внутри было пусто, как перед выстрелом. Если хозяева надеялись на пробуждение родственных чувств, то они просчитались.
Лишь одна эмоция необходима Монгрелу — чувство уверенного превосходства над живой мишенью, распятой перекрестьем прицела. В такие мгновения власть ограничена несколькими миллиметрами свободного хода спускового крючка.
Впервые он насладился этой властью еще четырнадцатилетним подростком, на биатлонном стрельбище под Красноярском, когда после очередной неудачной серии разгневанный тренер вышел к мишеням и оттуда орал ему:
— Ну ты, чурбан прибалтийский!.. Для чего я, б… вожусь с тобой, уродом тупоголовым?!
Это был краснорожий тридцатилетний мужик, любитель пива и молодых лыжниц с крепкими ляжками. Своих учеников, плохо отработавших тренировку, он хлестал жестким винтовочным ремнем — единственный известный ему педагогический прием.
Тренер не знал, что у оставшегося на огневом рубеже подростка давно припасены несколько неучтенных мелкокалиберных патронов для спортивной винтовки.
Монгрел передернул затвор, спокойно прицелился и прострелил ярко-красную тренерскую шапку — очень модный тогда адидасовский «петушок».
На стрельбище никого, кроме них, нет, и два часа, пока не наскучило, Монгрел держал побледневшего, с трясущимися руками тренера у мишеней — время от времени пробивая в «петушке» очередное маленькое отверстие. А когда он встал на лыжи и забросил винтовку за спину, тренер стащил с враз поседевшей головы изорванную шапку и, сгорбившись, побрел по снежной целине к раздевалке. Больше его Монгрел не встречал…
Там, на стрельбище, он понял — все сложится так, как хочется, нужно лишь быть спокойным и терпеливым.
К американцам он попал в Афганистане. Кураторы из Си-Ай-Эй прозвали его «Монгрел» — «Ублюдок». Сперва ему поручали специальные задания там же, в Афгане, потом — в других экзотических и неспокойных странах. Через несколько лет Монгрел стал крепким «профи» и, намереваясь навсегда расстаться с «хорошими парнями» из Лэнгли, неторопливо готовил будущий собственный бизнес.
По иронии судьбы, первый свой заказ он получил от родного деда. Гядиминас Миндаугас всю войну воевал с красными. Потом, в конце сороковых, партизанил в лесах Прибалтики, став известным своей лютостью командиром отряда «лесных братьев». Он умудрился избежать смерти от рук чекистов и, уйдя за границу, долгие годы возглавлял в Европе литовские эмигрантские центры — до тех пор, пока окончательно не впал в маразм. Так он оказался пациентом тихой швейцарской богадельни.
Рассказанная им история заинтриговала Монгрела.
В 1944 году, в конце войны, когда красные овладели почти всем Карельским перешейком, дед, будучи начальником личной охраны Маннергейма, летал вместе с ним на Выборгский залив. Там маршал в сопровождении своего старого денщика, прихватив старательно упакованный оружейный ящик, ушел по льду в сторону островов. Когда несколько часов спустя они вернулись, ящика с ними не было…
У самолета вместе с дедом дожидались личный пилот маршала Хейно Раппала и снайпер-саам Инари Висатупа. Маннергейм тогда пообещал, что придет время, и он откроет тайну этой маленькой экспедиции.
В 1951 году деду, который только что выбрался из горящих литовских лесов, передали письмо уже умершего маршала…
Тут инвалид трясущимися руками, порывшись в кармане халата, протянул Монгрелу порядком измятый конверт.
— Потом ко мне приезжал этот подонок, — злобно продолжил дед. — Любимчик маршала Раппала. Хотел получить это… — позеленевшим ногтем он ткнул в конверт. — Старый лис Маннергейм придумал, что, только собрав все три письма, можно узнать, где спрятан клад. Но я плюнул в его гнусную рожу!.. Из-за таких, как он, мы проиграли войну красным. Маменькин сынок, он никогда не умел воевать по-настоящему!.. Этих красных нужно резать, как свиней, чтобы они визжали!..
Старик, распаляясь все больше и больше, хрипел и брызгал слюной. Пришлось вызвать сиделку. Когда та, влив в беззубый рот лекарство, взялась за ручки кресла, чтобы отвезти в палату, затихший старик неожиданно ясно и строго посмотрел на Монгрела и сказал:
— Ты найдешь этот клад!..
Со времени встречи в ухоженном парке прошло пятнадцать лет, и только теперь сорокалетний Монгрел решил выполнить заказ деда — свой первый заказ. Пусть он станет последним… нет — завершающим. Сорок лет — хороший пенсионный возраст для наемного убийцы.
Монгрел внимательно рассматривает письма.
Они почти не отличаются друг от друга — небольшая записка трем адресатам. В каждой — упоминание о весне 1944 года и просьба отыскать (непременно втроем!) спрятанное. А ниже — рисунки, напоминающие схематичное изображение снежинок…
Монгрел знает, что так записаны руны — пару месяцев назад он показал письмо специалисту-криптологу. Тогда для разгадки маннергеймовского шифра не хватало данных. Теперь их вполне достаточно.
Монгрел сканирует письма и отправляет графический файл электронной почтой.
Уже сегодня тихий берлинский пенсионер, тот самый специалист-криптолог, который возглавлял когда-то отдел дешифровки в Штази, немецком КГБ, займется разгадыванием рунического кроссворда финского маршала.
А у Монгрела в Петербурге есть еще одно дело.
Необходимо получить старый долг.
Он смотрит на часы — пять утра, самое подходящее время для дружеского звонка.
Набирает номер, пытаясь представить, чем сейчас занимается вице-губернатор Филиппов. Похоже, сладко спит — на вызов долго не отвечают.
Но вот трубка оживает — слышится шорох, стук упавшего на паркет мобильника, матерный шепоток и хрипло:
— Алло, кто это?..
— Привет от Миши, — Монгрел после короткого молчания интересуется: — Узнаешь меня, ублюдок?
Пауза. Видимо собеседник плохо соображает спросонья.
— Алло, алло…
— Ты что, стал плохо слышать? Может, стоит напомнить, от какого Миши привет?..
— Нет, не надо…
Похоже, чиновник наконец осознает всю серьезность происходящего.
— Ты мне должен — и за работу, и за попытку от меня избавиться. Надеюсь, та история чему-то тебя научила?.. Поэтому не делай глупостей, готовь деньги, я тебе сегодня позвоню.
Монгрел решает, что нужно немного поспать — предстоящий день будет насыщенным. Он достает круглый бокал на невысокой ножке (пришлось купить — откуда в этом съемном «гадюшнике» коньячные бокалы?), наливает себе десятилетнего «Хенесси». Согрев в ладонях, делает глоток и ощущает восхитительное ласковое тепло юга Франции…
Август 200… г., Санкт-Петербург
Он глотнул коньяк, поперхнулся и обжег гортань. Б… все кувырком этой недоброй ночью…
Когда Монгрел оборвал разговор, вице-губернатор вскочил и несколько минут метался по спальне. Он не знал, что предпринять. Лишь вскрикивал в полной растерянности: «Ах ты, подлюга…»
Неожиданно он резко затормозил у кровати. Взгляд с ненавистью упал на спящую секретаршу — метр восемьдесят пять сплошных костей, длинные и светлые, как у Барби, волосы; загар из солярия и торчащие, как у козы, маленькие острые сиськи.
Он с брезгливостью посмотрел на крупные ногти пальцев ее ног, выкрашенные ярко-красным лаком. «Ишь, отрастила… Небось сорок второй размер, как у меня».
Ему захотелось немедленно растолкать эту бесстыжую дуру и выгнать вон. Но он сдержался, натянул трусы и, плотно затворив за собой дверь, поплелся на кухню, успокаивая себя тем, что сегодня же эту б… уволит.
Он попытался сварить кофе, но, порывшись в многочисленных шкафчиках, так его и не нашел, да и пользоваться никелированным агрегатом-кофеваркой все равно не умел.
Олег с раздражением вспомнил супругу, которая проводила свой отпуск на очередных тропических островах. Долбаные Алкины вкусы — не кухня, а операционный блок какой-то!.. Не хватает только трупа свежезарезанного больного…
Мрачная ассоциация заставила вздрогнуть. Он вышел в большую гостиную и отыскал недопитую бутылку «Хенесси». Налил полбокала, попытался выпить залпом, но поперхнулся и закашлялся. Потом обессиленно упал в глубокое кресло и отстраненно подумал о том, что один из его постоянных ночных кошмаров стал явью.
«Привет от Миши». Друг дорогой — вице-губернатор Мишенька — уже несколько лет гнил под мраморной плитой на Никольском кладбище. В начале девяностых все они были друзьями и рвались во власть сообща, молодой, но быстро матереющей стаей. А Мишаня вдруг решил, что дальше сможет пробиться сам, в одиночку.
«Нет, ты был не прав, Мишенька». Филиппов сделал еще один глоток. На этот раз получилось удачнее — теплый комок проскользнул вниз по пищеводу. Мишаня теперь на погосте, а он по-прежнему в команде — тогда, пять лет назад, Филиппов выполнял общее решение. И было не страшно — он спокойно разглядывал на Невском пробитую пулями «Вольво» с залитым кровью лобовым стеклом…
Испугался Олег неделей позже, когда ему показали те фотографии — он не сразу понял, что на них изображено. Сфотографировали то, что удалось достать из бетономешалки, куда засунули трех человек. Эту троицу он нанял для охоты за киллером, убившим Мишаню…
Начало знобить… Олег вспомнил последний разговор с убийцей, его нехороший смешок. Этот Монгрел тогда глупо, по-киношному назвался: «Зови меня Джедаем, ха-ха». Вот он и вернулся, Джедай долбаный…
Олег покрылся гусиной кожей. Захотелось немедленно сорваться с места и бежать без оглядки, мчаться в аэропорт, чтобы улететь куда угодно — лишь бы подальше от этого жуткого голоса в трубке.
Вице-губернатор все же сумел совладать с испугом. Но, когда набирал телефонный номер, пальцы дрожали. Он звонил первому среди равных, вожаку стаи, тому, кто над могилой Мишани поклялся найти и покарать убийцу друга.
Железный — такое у него было прозвище — ответил сразу, бодрым голосом. Он что, сука, совсем не спит, что ли?..
— Да, Олег, слушаю.
— Толечка, тут такое дело…
Филиппов сбивчиво рассказал о ночном звонке. Собеседник, как обычно, хранил молчание. Закончил Олег совсем жалко:
— Толечка, ты мне поможешь? А я тут уже очередную посылочку подготовил…
— Олегора, штаны смени! Чего раскис, как брюхатая от механизатора ученица сельской восьмилетки? Не ссы, своих в обиду не даем. Ты сказал, он будет еще звонить? Это хорошо, сейчас отправлю к тебе своего спеца — он твоего кредитора попробует вычислить. Следующее — охрана. Тебя же охраняют?.. Ну ладно, ладно… — перебил он пытавшегося возразить Олега. — Я позвоню в ФСО. Попрошу беречь тебя как золотой запас родины… Да, за посылкой приедут сегодня, порядок обычный. А что там с дамбой?
Они еще несколько минут обсуждали общие интересы в крупных петербургских проектах. Закончив разговор, слегка повеселевший Олег отправился в спальню. Резко дернул за ногу безмятежно посапывающую секретаршу. «Уволю на хрен!» — радостно подумал он и, когда та бессмысленно захлопала ресницами, распорядился:
— Ну-ка, цыпа, бегом на кухню. Быстро кофе, легкий завтрак и — одеваться!..
Фальшиво насвистывая куплеты Эскамильо, он отправился в ванную.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Елена, уходя на работу, не стала его будить, но Николай, всегда рано встававший, не смог долго спать и на этот раз.
Голова болела по-прежнему…
Он с трудом поднялся, поплелся на кухню и проглотил сразу две таблетки анальгина. Умываясь, глянул на себя в зеркало — бинты и бледность придавали ему мрачную романтичность.
Но вид-то — бог с ним, появление на светском рауте не планировалось. Как, впрочем, и съемки в рекламном ролике о здоровом образе жизни. Хуже, что думалось с трудом — а причины для раздумий имелись.
Николай набил трубку — этот неспешный процесс всегда помогал ему сосредоточиться. С удовольствием попыхивая табачной смесью, где было много сирийской черной латакии, почувствовал, что сознание проясняется. Голова кружилась, но мысли стали четкими.
Вчера ночью — он помнил это точно, потому что осматривался, — за ним никто не шел.
Шума Николай не слышал — грабитель был не только стремителен, но и очень осторожен. Не похоже это на наркомана с начинающейся «ломкой». Вот и травматолог упомянул о профессиональном ударе. А самое главное — нападавший не взял ничего из обычного набора уличного грабителя: бумажник, сотовый, часы — ему понадобилась лишь пустая шкатулка.
Вчера Анна сделала копии писем Маннергейма — он собирался заняться ими дома. Николай перетряс свою старенькую сумку, но копий не нашел. Ну что ж, нужно признать, что нападавший охотился именно за документами, привезенными из Финляндии.
Да нет, это просто бред какой-то — он никому не рассказывал об истории с кладом… В конце концов, кто, кроме него и Анны, мог знать про шкатулку и копии писем?
Николай никому не говорил, а Анна?..
Нет, это точно бред. Кому понадобились письма давно забытого на своей второй родине Карла Густава Маннергейма, шестьдесят лет назад что-то где-то закопавшего?..
Если это «что-то» уцелело в жестоких сражениях войны, то наверняка давно уже истлело… Хотя, к примеру, золотым слиткам — время не страшно.
«Нет, Ленин — нетленен!»
Николай хмыкнул, вспомнив старый каламбур, затянувшись, окутался ароматным дымом и внимательно всмотрелся в знакомую фотографию. Ему почудилось, что в темных прищуренных глазах старого маршала жила лукавая полуулыбка, которая чуть тронула губы под седой щеточкой усов… Нет, небогатый барон Маннергейм, который честно жил на офицерское жалованье, даже когда стал правителем Финляндии, вряд ли додумался бы зарыть в землю золотые слитки.
— Но тогда — почему? — спросил Николай вслух.
Все нелепо и абсолютно несерьезно. Тем не менее, по голове его шарахнули всерьез. И не из-за этих ли самых документов убили Анькиного деда?..
«Нужно поговорить с ней», — решил Николай.
— Привет, а я только что собиралась тебе звонить.
Голос у Анны какой-то замороженный.
— Что случилось?
— Ночью случился пожар в моем доме. Квартира сгорела полностью. Баба Маня и Тимка пропали, я переживаю страшно: есть погибшие — два сильно обгоревших трупа. А я еще и снимала все это — я же ночью дежурила…
— Бедненькая моя!.. Слушай, может, ты поживешь пока у нас?.. — предложил он, искренне сочувствуя очередной Анькиной беде. — А мы с Еленой переедем к ее родителям.
— Спасибо, Коля, но жить есть где, меня Настя давно к себе звала, — Анна несколько раз глубоко вздохнула, чтобы унять подступающие слезы. — Бабу Маню и Тимку очень жалко…
— А ты не торопись их хоронить — может, они живы, в больнице где-нибудь…
Николай вдруг запнулся от внезапной догадки.
А что, если все это связано? Два ночных случайных происшествия — это уже закономерность.
— Слушай, а документы, которые ты привезла, — они у тебя дома были?
— Нет, — насторожилась Анна, — а почему ты об этом спрашиваешь?
— А где они?
— В моей ячейке. Я их вчера туда убрала. Только я не понимаю, почему это тебя вдруг так заинтересовало?.. — в ее голосе слышался упрек.
— Я тебе позже объясню. Ты можешь сейчас пойти в коридор и посмотреть — на месте ли они?..
— Ты странный какой-то сегодня…
Не отключаясь, Анна отправилась выполнять поручение. Раздался скрип металлической дверцы, стук упавшей на пол кассеты — в ячейках металлического стеллажа журналисты хранили в основном исходники для будущих сюжетов и личные видеоархивы. Но не только — запасливые держали там кружки и конфеты, рассеянные — забытые еще зимой теплые шарфы.
В трубке послышался растерянный Анькин голос:
— Коленька, я не понимаю, в чем дело, но здесь нет ни писем, ни дневника. Как ты догадался, что они пропали?
— Очень просто. Вчера возле дома меня шарахнули чем-то тяжелым по голове. И, пока я был в отключке, стащили твою шкатулку и копии писем.
Анна попыталась что-то сказать, но Николай ее перебил:
— Нам необходимо поговорить. Ты сможешь ко мне приехать? Я-то сегодня вряд ли смогу выйти из дома.
— Да, конечно, после работы, часов в шесть-семь.
— Буду ждать. И я тебя прошу — пожалуйста, будь осторожна.
Ноябрь 1908 г., Пекин, русская миссия
В один из святочных дней мы с Тенцингом нанесли визит местной княгине. Нам необходима была ее поддержка, чтобы набрать из здешних кочевников отряд для борьбы с англичанами. Я передал верховной правительнице Кама письмо Далай-ламы. Но, по-моему, большую роль в получении ее согласия сыграла не просьба святейшества, а преподнесенная в подарок, по совету Тенцинга, винтовка. Получив оружие, она с азартом его тут же в замке и испытала. При этом продемонстрировала весьма искусную стрельбу — на тридцати шагах без труда гасила выстрелами свечи. Княгиня и внешне напоминала настоящую амазонку — статная, крепкая, с уверенными властными манерами. Впрочем, вряд ли особа слабая и изнеженная смогла бы управлять этим воинственным народом.
Более всего меня поразил ее головной убор — цвета киновари, обшитый бирюзой и жемчугом, он походил на русский кокошник, в которых так любил изображать своих героинь художник Васнецов. Тенцинг позже объяснил мне, что это традиционный праздничный женский головной убор тамошних кочевников.
Получив княжеское благословение, мы с усердием занялись набором нашего войска. Надо сказать, что недостатка в добровольцах мы не испытывали — многих кочевников прельстила возможность получить винтовку, коих мы доставили более сотни.
Две недели, заполненные обучением «новобранцев» и подготовкой плана операции, пролетели быстро. С помощью Тенцинга мне удалось начертить приблизительную карту единственной дороги между Лхасой и Шигатцзе, где нам предстояло устроить засаду. Кроме сотни вооруженных винтовками кочевников, в моем распоряжении также оказалось около двухсот лучников, что, учитывая их природную меткость, было добрым подспорьем.
Утром, в день выступления отряда, все мужчины во главе с княгиней приняли участие в обряде отпугивания злых духов. Подкрепившись крепким здешним пивом, кочевники выстроились полукругом и под завывания шамана пускали стрелы в тростниковые мишени, изображавшие льва и буйвола. Все уходящие бросали но щепотке ячменной муки в очаг покидаемого жилища и затем оглядывались. Если закурился дымок — значит, духи приняли жертву, и все сложится благополучно.
После этого, кажется, со всеми языческими обрядами было покончено, и мы, наконец, смогли отправиться в дорогу. Впереди заснеженными перевалами вздымались к холодным небесам 250 верст предстоящего пути.
До монастыря Брайбун, что по-тибетски означает «горсть риса», наш отряд дошел без потерь на восемнадцатый день пути. В огромном монастыре, настоятелем которого считался сам Далай-лама, проживает больше восьми тысяч монахов — небольшому отряду легко остаться здесь незамеченным. Нас радушно приняли верховные ламы. От них я узнал, что англичане уже заканчивают упаковку дворцовых сокровищ и, судя по донесениям, готовятся выйти в путь после завершения торжеств по случаю главного тибетского праздника ло-сар — Нового года, сразу после того, как схлынут наводнившие Лхасу толпы паломников.
Я решил провести рекогносцировку. Необходимо осмотреть дорогу между Лхасой и Шигатцзе и определить наиболее удобные с военной точки зрения места для будущих засад. Кроме того, не скрою, мне очень хотелось побывать на празднестве в Лхасе и своими глазами увидеть то, о чем читал в докладах Гомбожаба Цыбикова. Несколько лет назад он под видом паломника проник в Лхасу и даже сделал там немало фотографических снимков — для этого камеру пришлось прятать в молельный барабан.
В разведочной вылазке меня сопровождали Тенцинг и несколько доверенных монахов из Брайбуна. Минуя Лхасу, горной тропой мы вышли на дорогу, которая, причудливо петляя по склонам, уходила вверх к перевалу на высоте более пяти тысяч метров. Чтобы не привлекать ненужного внимания, я нарядился настоящим кочевником — чуба, меховые штаны, сапоги и шляпа из войлока. Все это смотрелось весьма кургузо и напоминало маскарадный костюм — из-за моего высокого роста невозможно найти одежду по размеру.
Дорога протяженностью 80 верст делала обширную петлю вдоль обрывистого берега высокогорного озера Ямдок-цо. Повсеместно у дороги встречались развалины древних мандонов — сложенных из камня валов, украшенные молитвенными надписями. Неподалеку от озера, в одной из горных расселин, мы устроились на ночлег. Стоял конец февраля, в Тибете — вполне весеннего месяца, и днем яркое горное солнце прогревало воздух. Однако ночи очень холодны — чтобы не замерзнуть, нужно постоянно поддерживать костер.
К полудню следующего дня мы вышли к долине, по которой от истока несла свои воды одна из величайших рек Азии — Брахмапутра. Обрывистые берега реки соединял шаткий подвесной мост. Сразу за ним дорога пропадала из виду, скрываясь за скальными уступами. В нескольких десятках километров отсюда располагался город Шигатцзе. Вдали виднелась исполинского размера каменная стена, находящаяся на территории монастыря Ташилунпо — резиденции панчен-лам, вторых лиц в религиозной тибетской иерархии. На эту стену в дни больших праздников вывешивали огромную тханку — буддийскую икону из раскрашенного холста с изображением Будды-Майтреи.
Немного передохнув, мы отправились в обратный путь к Лхасе и к вечеру следующего дня благополучно добрались до столицы Тибета. Вышли в долину реки Кичу и увидели раззолоченные заходящим солнцем крыши храмов и дворца Потала — ныне занятой англичанами резиденции Далай-ламы.
Отправив лошадей в монастырь под присмотром одного из монахов, мы влились в толпу паломников, пришедших в Лхасу. Как и многие вокруг, одной рукой я вращал по часовой стрелке молитвенное колесо — металлический барабанчик на короткой рукояти с цепным противовесом, а другой — перебирал четки из 108 бусин. Проделывая эти манипуляции, я неспешно двигался в толпе по кольцевой улице в обход увенчанного солнечным колесом дхармы храма Джокханг.
Над толпою, ни на минуту не затихая, шелестела произносимая тысячами губ вечная молитва «Ом мани пад-ме хум». Крыши Поталы и храма нестерпимо сияли.
Двигаясь, я исподтишка делал наблюдения. Дворец расположился на высокой скале. Вверх к этому огромному, состоящему из трех частей зданию ведут три лестницы, которые начинаются на широкой площади, раскинувшейся у подножия скалы.
Центральная часть дворца — красновато-коричневая, как цвет монашеской одежды. Боковые крылья — белоснежные. От мощного фундамента вверх уходят пятнадцать этажей. Внизу, на площади, разбит большой военный лагерь (я насчитал десять палаток), устроена крытая коновязь, не менее чем на сотню лошадей. Лагерь обнесен частоколом и хорошо охраняется. Внутри периметра заметна неспешная подготовка к отправке транспорта. Несколько тибетских повозок, в которые местное население запрягает яков, уже укрыты грубой холстиной и затянуты веревками, другие продолжают загружать деревянными ящиками.
На площади, заполненной паломниками, солдат не видно, но на крыше дворца и других прилегающих к площади зданий установлены пулеметы, а у ворот лагеря — даже два легких горных орудия.
Вместе со своими спутниками я прошел в тяжелые кованые ворота храма. Перед этим сопровождающий нас лама обмазал мне и Тенцингу лоб и губы топленым маслом из небольшого горшка. Маленькая, замощенная камнем площадка при входе в храм, блестит, натертая миллионами паломников. Здесь они надевают на руки специальные скользящие деревянные накладки и, растягиваясь во весь рост, ползком двигаются к святыне. Многие перед этим связывают себе колени. Тенцинг объяснил — чтобы причаститься, таких падений ниц нужно сделать не меньше десяти тысяч, но я удовлетворился несколькими.
У входа в храм — бронзовые сосуды с благовониями. В стороне, в огромном закопченном котле, варится цзамба, и каждый богомолец может получить свою порцию.
Внутри храма тускло горят несколько светильников на ячьем масле. При входе — страшные изваяния докшитов, защитников веры. Повсюду шмыгают рыжие мыши — молясь о богатом урожае, тибетцы разбрасывают на алтаре ячмень. В глубине храма высится огромная статуя сидящего молодого Будды, сделанная из золота, меди и серебра и богато инкрустированная драгоценными камнями. У Будды несут караул несколько монахов.
Мы покинули храм и в толпе паломников устремились вниз — к площади у подножия дворца Далай-ламы.
С крыши дворца протянуты несколько канатов, на величественных лестницах расположились многочисленные группы ряженых — вот-вот должно начаться представление мон-лам, посвященное новогоднему празднику.
Рекогносцировка произведена, более того — побывав в Лхасе, я составил себе ясное впечатление о численности и вооружении будущего противника. Можно возвращаться в монастырь, но любознательность победила здравый смысл, и я решил задержаться в Лхасе, чтобы увидеть религиозное представление. В самом скором будущем мне придется горько пожалеть об этом решении…
С площади раздаются, сливаясь в единый странный ритм, звуки — это тибетский оркестр исполняет своеобразную праздничную увертюру. Инструменты в основном ударные — среди барабанов попадаются человеческие черепа, по которым бьют с не меньшим энтузиазмом. Ритм дополняется звоном колоколов, цимбалов и различными духовыми, где есть трубы из большой берцовой кости.
Изменяя ритм, оркестр управляет движениями танцоров в центре площади. Тенцинг объяснил, что вот этот — в фиолетовом плаще с розовыми полосами и ярко-красной маске быка с огромными рогами — владыка мертвых Яма. Вокруг него кружатся в неистовом танце властители кладбищ в черных балахонах, на них нарисованы человеческие скелеты. С крыши дворца к площади по натянутым на головокружительной высоте канатам устремляются акробаты, а по ступенькам лестниц спускаются все новые группы танцоров — представление набирает силу.
К тому моменту, когда на импровизированной сцене появился старик в белых одеждах с длинной седой бородой, мы уже успели спуститься на площадь.
Протискиваться сквозь огромную плотную толпу не было смысла, и мы с Тенцингом попытались найти место повыше, пробираясь среди групп паломников. Получив неожиданный толчок в спину, я хотел обернуться, но тут мне на голову набросили мешок. Мокрая ткань издавала удушливый запах. Я, задыхаясь, вздохнул поглубже и потерял сознание.
Aвгуст 200… г., Санкт-Петербург
Анна растерянно стояла в коридоре у распахнутой дверцы своей ячейки. Она ничего не понимала: кто избил Николая, почему пропали документы — все случившееся просто не укладывалось в голове.
Ей вспомнился старый адвокат Фидель, который тоже просил ее быть осторожной.
А пожар? Неужели дом специально подожгли?..
«Слишком много всего сразу для одной глупой девичьей головы…» — подумала она устало.
— Троицкая, тебя к телефону, — в коридор выглянула Инна Маркина. — Тебе, кстати, уже пора на выезд — на брифинг в Смольном лучше не опаздывать.
Анна вернулась в редакцию и запуталась в обилии телефонов. Маркина, заметив это, крикнула из коридора:
— На моем столе, красненький!
В трубке что-то пошебуршало, и раздался тонкий, почти мальчишеский, но старательно официальный голос:
— Гражданка Троицкая?
— Да, — ответила она, слегка растерявшись: надо же — «гражданка».
— Анна Александровна? — уточнил неизвестный собеседник. — С вами говорит дознаватель Петроградского РУВД старший лейтенант Ванькин…
Как ни была растеряна Анна, но все же улыбнулась — очень уж забавно сочетались голос и фамилия собеседника, а он продолжал:
— Значит, так, гражданка Тихорецкая…
— Троицкая, — поправила Анна.
— А, ну да, Троицкая. — Ванькин смущенно откашлялся. — Извините. Необходимо провести следственные мероприятия, и я официально приглашаю вас на допрос. Жду в шестнадцать ноль-ноль в районном управлении на Большой Монетной. Знаете, где это?
— Где находится Петроградское РУВД, я знаю, но сегодня я никак не могу — еду на съемки. В это время брифинг в Смольном.
Старший лейтенант обиделся:
— Мы, между прочим, тут тоже не ерундой занимаемся, а расследуем тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело о поджоге, повлекшем смерть двух человек, и вы являетесь свидетелем. — В слове «возбуждено» он по-милицейски сделал ударение на втором слоге, — Предупреждаю об ответственности за неявку на допрос.
В трубке послышались короткие гудки.
«Мамочка родная, еще и поджог, — тоскливо подумала Анна. — Кто-то явно сошел с ума — или я, или окружающая действительность».
Заинтересованно слушавшая ее телефонные переговоры Маркина, опережая просьбу, заявила:
— Даже не проси. Отпрашиваться — только через Шаховцева. Заменить тебя некем — лето, все в отпусках.
То, что лето все еще продолжается, — Анну удивило. После всех бед ей казалось, что на дворе — холодный и мрачный ноябрь.
После недавнего скандала ужасно не хотелось идти к Шаховцеву, но придется, а то еще рассердится дознаватель Ванькин и объявит ее во всероссийский розыск. Анна представила собственный портрет среди уголовных рож на стенде «В розыске», и это ее немного взбодрило. Но главное — в милиции могут что-то знать про бабу Маню и Тимофея.
Вопреки ожиданиям Шаховцев встретил ее участливо — поинтересовался, как она устроилась с жильем и не нужна ли помощь дирекции. Анну забота растрогала.
— Спасибо, — поблагодарила она, — жить есть где, а помощь, конечно, нужна: не могли бы вы отпустить меня на несколько дней?..
Она заметила недовольную гримасу на лице начальника и торопливо объяснила:
— Во время пожара пропали мои соседи, может быть, они погибли. Насколько я знаю, родственников у них нет. Я должна их найти.
— Да-да, понимаю, очень грустно, — вздохнул Шаховцев. — Ну что же, это, конечно, осложнит нашу жизнь, но деваться некуда. Скажите Маркиной, чтобы она не ставила вас в расписание завтра и послезавтра. Двух дней вам должно хватить?.. И если будет нужна помощь — непременно обращайтесь.
Узнав от Анны, что ту отпустили на два дня, Маркина жутко расстроилась — хоть плачь, но отправлять в Смольный сейчас некого. Она решительно направилась в кабинет Шаховцева — раз отпускает народ с работы, когда такая «засада», пусть сам и решает, кто поедет в городскую администрацию.
Анна, опасаясь, что шеф может передумать, поторопилась поскорее уйти. На лестнице ее кто-то окликнул, она на ходу поздоровалась, занятая мыслями о пропавших соседях и документах. Неожиданно прямо перед ней вырос шведский журналист Свенсон: под густыми пшеничными усами светилась белозубая улыбка.
— Здравствуйте, Анна, — повторил он. — А я собираюсь ехать с вами на съемки в администрацию города. О, эти чиновники, они везде одинаковы! — Он скорчил гримасу, демонстрируя, как неприятны все госслужащие. — Бюрократы и коррупционеры, да? — Он рассмеялся собственной шутке и добавил: — Главное, что можно поехать с вами. Ваш репортаж о захвате замка — это супер! Хочу учиться.
В иной ситуации внимание шведского коллеги было бы Анне приятно. Но сейчас не до мелкого тщеславия: вокруг, как на войне, — погибшие, раненые и пропавшие без вести.
— К сожалению, я не еду в Смольный. Но кто-нибудь из корреспондентов там обязательно будет. Вы поднимитесь в редакцию — девочки вам подскажут. Извините. — И она заспешила вниз по лестнице.
А на улице действительно продолжалось лето. Солнышко ласково пригревало, на теплом асфальте лениво развалилась стая разноцветных помоечных котов. Такие же расслабленные «новостийщики» оккупировали скамейки, старательно оттягивая момент возвращения в душную редакцию, где нужно было пытаться делать что-то полезное.
От тихой петербургской речки пахло застоявшейся водой, но легкий ветерок исправлял положение, принося свежее дыхание недалекого залива, — только всех этих красок погожего летнего дня Анна не замечала.
На ходу ответив на звонок, она услышала в трубке голос Стасиса:
— Анна, где ты? С тобой ничего не случилось? Ответь, Анна!
— Со мной все в порядке. Ты что так разволновался?
— Я только что проезжал мимо твоего дома, увидел это пепелище и очень испугался за тебя. Ты где сейчас? С тобой правда все хорошо?.. Может быть, нужна моя помощь?
«Вот, черт, — подумала Анна, вытирая внезапно покатившиеся по щекам слезинки, — опять… Ну что за плакса такая!»
— Стасис, спасибо тебе, не волнуйся, хотя, если честно, — мне очень приятно, что ты за меня переживаешь. Но я — в порядке, правда. Если у тебя найдется время, давай увидимся вечером.
— Да, конечно, я уже собирался мчаться тебя разыскивать, но раз ты говоришь, что все в порядке, — я тоже пока займусь делами. У меня важная встреча в Смольном. А потом я тебе позвоню, и ты скажешь, где тебя найти, ладно?
— Ладно, целую, до вечера. — Анна вдруг увидела солнышко и, повеселев, заспешила по летней улице на допрос к дознавателю Ванькину.
Август 200… г., Петербург
Быстро и бесшумно он проходит коридором третьего этажа — шаги глушит традиционная бордовая дорожка. Как же без нее — здесь же кабинеты отцов города (хотя применительно к Петербургу необходимо дополнение: отцов и матерей).
Вот нужная ему приемная. Табличка на стене информирует: «Вице-губернатор О. Н. Филиппов».
Аккуратно приоткрыв дверь, Монгрел не торопясь оглядывает просторное помещение. На диване устроились два крепких парня, настолько типичных, что, кажется, на них крупными буквами выведено: «ФСО».
За уставленным оргтехникой столом блондинка-секретарша — искусственный загар и поддерживаемые постоянными клизмами 90x60x90. Она кокетливо хихикает с молодым человеком, чьи неформальные красные джинсы и майка с надписью Fuck Off! явно не вяжутся с официозом приемной.
Парень устроился за отдельным столиком, загроможденным хитрой аппаратурой. Специалист-«слухач» отслеживает его звонок.
«Неплохо подготовились», — оценивает Монгрел.
В коридоре появляется брат-близнец охранников из приемной — только шевелюра у него погуще и подлиннее. Дойдя до двери, он ощупывает Монгрела профессиональным взглядом и, слегка отодвинув крепким плечом, заглядывает в приемную.
«Похоже, длина волос у них определяется чином — чем старше звание, тем длиннее. Но пока доживут до генеральских лампасов, обратный процесс начинается, уже необратимый — лысеют». — Монгрел припоминает виденного вчера в телевизионных новостях директора ФСБ. В коридоре появляются оба охранника.
— Ты, Петро, останься при теле, а ты давай дуй за Гариком, и оба быстро в дежурку на совещание. Какие-то новые указания из «конторы», — распоряжается старший и вновь профессионально недоверчивым взглядом осматривает Монгрела с ног до головы, но, видимо, ничего предосудительного не найдя, удаляется.
Петро с веснушками на курносом носу возвращается в приемную, а второй охранник заворачивает за угол в маленький коридорчик, заканчивающийся тупиком, — туда выходит пара скромных дверей. Постучав в одну из них, он что-то говорит вышедшему на стук — очевидно, Гарику, — и они вдвоем бодро шагают вслед за ушедшим начальником.
«Вот это удача!» — восхищается Монгрел.
Неказистая дверь — явно запасной выход из кабинета вице-губернатора.
Он проходит в маленький тамбур, где едва уместился стул охранника и переносной телевизор, чуть слышно работающий на спортивном канале, и приоткрывает дверь, ведущую в комнату отдыха. Неслышно минует ее и заглядывает в кабинет, и вновь удача — вице-губернатор один. И судя по всему, в прекрасном настроении — он раскачивается в глубоком кожаном кресле и даже потихоньку напевает.
На столе перед ним какие-то служебные, судя по грифам и печатям, бумаги, и, похоже, вице-губернатору они очень нравятся.
Монгрел делает быстрый рывок и оказывается у Филиппова за спиной.
Когда Олег пытается обернуться на неясный шум, в сонную артерию, слегка поцарапав кожу, упирается острое перо его собственного платинового «Паркера».
Вместе с ощущением стекающей вниз по шее крови — он не видит, что это всего лишь несколько капель чернил, — приходит ужас…
— Не шуми — умрешь, — негромко советует Монгрел.
Лихорадочно нащупывая путь к спасению, Олег непроизвольно тянется рукой к ящику своего роскошного, из красного дерева с инкрустациями, рабочего стола — вице-губернатор города на Неве — сибарит.
— Ну, давай, — подбадривает Монгрел. — Делай, что собирался.
Олег нерешительно тянет на себя ящик и левой рукой неумело захватывает широкую рукоятку пистолета.
— «Беретта» — хорошая машинка, — в голосе убийцы слышится одобрение. Он перехватывает руку вице-губернатора и резко, снизу вверх, бьет Филиппова по носу. Боль пронзает череп, в глазах темнеет, а в распахнутый в беззвучном крике рот Монгрел глубоко вбивает массивный ствол пистолета.
Олег безвольно сникает — не пытаясь сопротивляться, лишь хрипло с трудом дышит, периодически сглатывая кровь из сломанного носа.
— Вот теперь совсем хорошо…
Жесткий страшный голос, кажется, бьет по ушам.
— Ты приготовил деньги, дружище?
В сейфе, скрытом большим поясным портретом президента, стоит приготовленный для московского курьера кейс. Там — пятьсот тысяч долларов — доля от питерских проектов для тех, кого принято назвать «московскими петербуржцами». Они не очень доверяют банковским схемам и по старинке предпочитают «кэш», блеклую зелень долларовых купюр.
«Будьте вы прокляты…» — Олег служил им верой и правдой, а они не смогли его защитить.
Свободной рукой он указывает на портрет.
Монгрел подкатывает массивное кресло к стене, позволяя Олегу самостоятельно открыть сейф.
Когда вице-губернатор с трудом, трясущейся рукой, извлекает пластиковый кейс, Монгрел приказывает:
— Открывай.
Оценив содержимое, он уточняет:
— Сколько?..
Олег растопыривает пальцы правой руки — пять. Левая, все также накрытая мощной кистью убийцы, вдавливает ствол пистолета в рот, и обливающемуся холодным потом Филиппову кажется, что его указательный палец все больше и больше выбирает свободный ход спускового крючка. Монгрел вернув кресло к столу, приказывает:
— Выкладывай.
Запечатанные банковские бандероли со стодолларовыми купюрами одна за другой ложатся на край стола, и убийца неторопливо рассовывает их по карманам.
— Достаточно, — останавливает Олега все такой же равнодушный голос. — Финансовые вопросы улажены — сто тысяч за твоего приятеля Мишаню, сто пятьдесят — за тех трех придурков, которых ты послал меня убить.
Олег послушно замирает, готовый исполнить любое следующее задание.
— Только это еще не полный расчет. — Слова падают с неотвратимостью сверкающего лезвия гильотины, — Ничего личного — просто так будет разумнее.
Появившаяся минуту назад безумная надежда на то, что убийца, забрав деньги, уйдет, — исчезает.
Олег понимает, что сейчас умрет, и последнее, что успевает осознать перед тем как слышит хруст собственных шейных позвонков, — яркое воспоминание пионерского отрочества.
Филиппов — четырнадцатилетний активист и отличник. На районных пионерских сборах, оказываясь рядом, незаметно для окружающих гладит под столом полные, обтянутые блестящим капроном и высоко открытые короткой юбкой бедра старшей пионервожатой района, здоровенной рыжей девицы. Она не может не чувствовать прикосновений его дрожащих, влажных от страха и возбуждения ладоней, но почему-то делает вид, будто ничего не замечает. Нравится ей это, что ли? Как же ее фамилия?.. У нее смешная, какая-то лошадиная фамилия — Кобылкина или… Вспомнить он так и не успевает…
Монгрел осторожно опускает на стол обмякшее тело. Его взгляд ненадолго задерживается на вице-губернаторской «беретте».
«Хорошая машинка, но громкая, — думает он. — Жаль. Могло бы получиться классическое самоубийство».
Монгрел с удовольствием оправляет в рот леденец и без проблем выходит в смольнинский коридор — совещание по поводу усиления охраны вице-губернатора Олега Филиппова все еще продолжается.
Он неторопливо идет к выходу по бордовой ковровой дорожке, скрадывающей звук шагов. Неожиданно ему вспоминается прочитанный накануне дневник маршала.
«Забавно, старый лис Маннергейм, оказывается, тоже любил леденцы».
Ноябрь 1908 г., Пекин, русская миссия
Очнулся я после того как, словно куль с мукой, меня бросили на землю. Я успел почувствовать, что конечности крепко связаны, и снова впал в забытье.
Сознание медленно возвращалось. Сквозь мутную пелену, застилавшую глаза, я разглядел источенную временем каменную плиту, чуть позже — почувствовал холод и понял, что лежу на каменном полу. Путы сняли, и я с болезненным удовольствием принялся разминать затекшие кисти рук. Голова болела и сильно кружилась, и лишь с третьей попытки мне удалось сесть, прислонившись спиной к стене.
Теперь я наконец смог оглядеть помещение, в котором очутился. Одна стена небольшого, почти квадратного каменного мешка отсутствовала. Вместо нее устроена решетка из крепких бамбуковых жердей. Никакой двери я не обнаружил — видимо, при необходимости решетка сдвигалась.
Освещенный двумя масляными светильниками, сидел на скамье, поставив винтовку между колен, индус в чалме и военном френче. Караульное помещение значительно превосходило размерами мою темницу — видимо, в этом каземате были и другие камеры. Стены, покрытые влагой и плесенью, указывали на то, что тюрьма находится в подземелье.
Рассматривая узилище, я пытался понять, кто и с какой целью меня захватил. В это время сверху раздался лязг металла и скрип открываемой двери. Я услышал голоса — говорили по-английски. Охранник встрепенулся, подскочил, схватил ружье и вытянулся.
В полосу света вошли, продолжая разговор, двое мужчин и остановились перед решеткой моей камеры. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Наконец тот, что постарше, с нашивками полковника и глубоким шрамом от сабельного удара на загорелом хмуром лице, постукивая по кавалерийской привычке стеком по высокому голенищу сапога, сказал своему спутнику:
— Ваша выходка, Рейли, не скрою, — мне на руку. Но, тем не менее, я не хотел бы иметь с ней ничего общего. Моя задача — без потерь провести караван до Непала. Этот пленный русский полковник не представляет для меня никакого интереса. Вы вольны поступать с ним, как сочтете нужным. Но мне хотелось бы надеяться, что при решении его судьбы вы останетесь джентльменом.
— И не подумаю, полковник! — ответил второй визитер — брюнет среднего роста, с выразительной мимикой остроносого подвижного лица, в мундире майора колониального Бенгальского корпуса. — О каком военнопленном вы ведете речь?.. Перед нами грязный тибетский дикарь-кочевник. Не правда ли, мой друг?.. — обратился он ко мне по-русски.
Полковник пожал плечами и, кивнув на прощание, удалился.
— Вы ведь говорите по-английски, господин барон?.. — вновь спросил тот, кого называли Рейли.
Я кивнул.
— Прекрасно — значит, вы поняли, о чем я говорил с полковником Янгхасбендом. — И он, приказав часовому подвинуть поближе лавку, уселся перед бамбуковой решеткой.
Нас разделяло не более метра, но я, к сожалению, настолько ослаб, что думать о нападении на моего тюремщика не приходилось.
— Не желаете ли сигару? — предложил он, достав из кармана кожаный портсигар. Не курил я уже очень давно — запасы папирос и табака окончились во время путешествия.
Я с трудом поднялся на ноги, при этом обнаружив, что стоять в полный рост не могу из-за очень низкого свода, и сделал два неуверенных шага к решетке. Рейли протянул сигару и, крутнув колесико зажигалки, поднес ярко вспыхнувший на кончике фитиля язычок пламени.
Чуть зеленоватый покровный лист был шелковистым и имел сладковатый привкус. Я с наслаждением глотнул ароматного дыма, и вновь все закружилось перед глазами… Когда приступ слабости прошел, я поблагодарил Рейли — сигара оказалась великолепной.
— Рад, что наши вкусы совпадают. Не понимаю британский истеблишмент — высшее общество вслед за Уинстоном Черчиллем, герцогом Мальборо курит исключительно горькие кубинские «короны». Нет, я предпочитаю куда более нежные и тонкие «тринидады» и «доминиканы»…
Он вдруг резко подался вперед и впился в мое лицо пристальным взглядом:
— А еще я не понимаю любителей, которые лезут в неизвестные им игры с незнакомыми правилами. Шпион-дилетант — что может быть отвратительнее?! Это я про вас, полковник. — Он отодвинулся от решетки и принял прежнюю вальяжную позу. — Скажите, мое лицо не кажется вам знакомым?
Действительно, этого субъекта я где-то уже видел, но вспомнить, где именно, — не мог.
— Помните ли вы затерянный среди гор городок Верный и милейшую Екатерину Михайловну? Там вы, кстати, меня сильно удивили — я не ожидал, полковник, что вы способны так увлечься.
Я вспомнил пыльную Торговую улицу, лысого кыргиза и неприятный колючий взгляд его спутника-европейца.
— Ага, вижу — припоминаете, — прервал Рейли воспоминанья. — Знаете, барон, я — неплохой разведчик и собрал о вас целое досье. Но, честное слово, до сих пор не понимаю, зачем вы — сделавший блестящую военную карьеру офицер, доказавший всем, что не только умеет эффектно носить кавалергардский мундир и красиво сидеть на лошади, но и способен быть мужественным и умелым воином, — так вот, зачем вы полезли в деликатную сферу тайных операций, где не смыслите, извините, ни уха ни рыла?..
Он ожидал ответа. Этот Рейли очень хорошо владел русским языком, но говорил с акцентом, напоминавшем мягкий южнорусский говор.
— Кто вы? — спросил я.
— Называйте меня Сидней Рейли — это имя ничуть не хуже всех прочих. По роду занятий я агент Интеллидженс сервис — разведывательной службы британской короны. Но вы не ответили на мой первый вопрос, а их у меня много. Раз уж вы ввязались в игру на чужом поле, давайте будем придерживаться правил. Вы, полковник, представляете определенный интерес как человек, посвященный в некоторые секреты. Речь, конечно, не только о Тибете, хотя меня томит любопытство — какова ваша истинная миссия в этих диких горах? Где вы расстались со своими спутниками и каковы дальнейшие цели вашего отряда?..
Он внимательно вглядывался в мое лицо, и я постарался ничем не обнаружить охватившую меня радость — англичане ничего не знали о полученном нами задании.
Проницательности агенту Ее Величества явно не хватало — он неправильно истолковал молчание:
— Вы, должно быть, размышляете о воинском долге и чести офицера? Не правда ли, полковник?.. Бросьте! Вам — шведскому барону, родившемуся в княжестве Финляндском, между прочим — колонизированном Россией и по воле ее правителей не имеющем собственной государственности, — это не к лицу. Логичнее задуматься о сотрудничестве с британской разведкой — с вашей персоной связаны определенные планы.
— Почему тогда вы дважды пытались меня убить? — спросил я.
Рейли перестал улыбаться и придвинулся вплотную к решетке:
— Дорогой мой полковник, это сделать никогда не поздно, а сейчас даже проще, чем ущипнуть за зад горничную. Мне бы очень не хотелось, чтобы все сложилось именно так. Но это зависит не от меня — выбор за вами, — и, очевидно, чтобы воспользоваться моей предполагаемой растерянностью, зловещим тоном, приняв вид совершенного Мефистофеля из провинциальной антрепризы, он повторил вопрос: — С какой целью вы прибыли в Тибет?.. Учтите, от вашего ответа зависит очень многое, — с этими словами он извлек из кобуры устрашающего размера «Смит и Весссон» и демонстративно взвел курок. Этот господин явно был любителем театральных эффектов.
— Что со мной произошло на площади? У меня какой-то провал в памяти?
— Современная химия — величайшая из наук. Вас усыпили хлороформом. Однако… — он извлек из кармана кителя часы и, откинув крышку, взглянул на циферблат, — время не ждет, пора заканчивать затянувшуюся беседу. Быть живым или мертвым, как говорят в моем родном городе, — это две большие разницы. Кстати, подумайте, каково будет узнать о вашей безвестной кончине в грязном застенке семье, дочерям, а в особенности — милейшей Екатерине Михайловне, отважной женщине, решившейся родить ребенка вне брака…
Показалось, что каменный пол камеры проваливается куда-то вниз, в голове роились несвязные мысли — настолько сильно поразили меня слова Рейли.
— Я вижу, полковник, вы весьма удивлены. — Он самодовольно рассмеялся. — Могу сообщить: сведения достоверные, получены от нашего агента в Верном — месяц назад Екатерина Михайловна благополучно разрешилась от бремени. Родился, насколько я помню, мальчик. Любопытно, что это событие произошло девять месяцев спустя, как вы побывали в Верном. — И он заговорщицки мне подмигнул.
Предаваться мучительным и радостным переживаниям было бы несвоевременно — под дулом револьвера я решился сделать вид, что готов с ним сотрудничать. Рейли это чрезвычайно обрадовало, он заявил, что «всегда держал меня за умного человека», и даже перестал задавать вопросы. Минутой позже я понял, чем вызвана эта перемена.
— Пока вам, полковник, придется оставаться в заключении. Обращаться с вами будут достойным образом. Но вскоре вы получите свое первое задание. Предстоит серьезная операция. — Он придвинулся вплотную к решетке и заговорил тише. От возбуждения глаза его горели, а лоб покрывала испарина, хотя в каземате было весьма холодно: — Отсюда, из Лхасы, в Непал на днях — ожидают только приказа — отправится караван с грузом сокровищ, веками хранившихся в Потале. Даже если не принимать в расчет историческую и художественную ценность этих буддийских святынь, а оценивать только вес золота и драгоценных камней, то и тогда стоимость всего, что будет в ящиках и тюках, никак не меньше… — Он сделал многозначительную паузу — как я уже заметил раньше, театральные эффекты были его страстью. — Никак не меньше десяти миллионов фунтов.
Он бросил на меня острый взгляд, облизал пересохшие губы и горячо зашептал:
— Но золото и драгоценности — не главное… Отсюда вывозят вещь абсолютно уникальную. Способную, без преувеличения, перевернуть современный мир. Это… — Он вдруг подозрительно взглянул на меня и добавил уже спокойнее: — Впрочем, об этом вы узнаете в свое время… Так вот, милейший барон, в Тибете весьма неспокойно. Случаи нападения разбойников на путешествующих по здешним горным дорогам весьма многочисленны… и успешны. Как вы думаете, полковник, караван, о котором я вам только что рассказал, должен привлечь внимание туземных бандитов, а?.. А если у грабителей будут подробные сведения о времени выхода и маршруте, то и охранный отряд колониального корпуса в сотню сабель вряд ли сможет помешать нападению. Не правда ли?.. — Он рассмеялся и прибавил, поднимаясь: — Я надеюсь, мы поняли друг друга. До скорой встречи, полковник!..
Я в изнеможении оперся спиной о стену и закрыл глаза — сказывались последствия отравления хлороформом. Итак, агент британской разведки Сидней Рейли, большой любитель театральных эффектов, намерен использовать меня для инсценировки нападения тибетских бандитов на военный английский караван. Его планы, по невероятному стечению обстоятельств, до мелочей повторяли полученный мной из Генерального штаба приказ (за исключением, разумеется, последствий нападения) — мне надлежало воспрепятствовать вывозу сокровищ и вернуть их буддийским ламам.
Прежде чем обдумывать детали, я решил удостовериться, что сопровождавшего меня Тенцинга тоже содержат в этом застенке, и довольно громко окликнул его. Он слабо отозвался — видимо, находился в соседнем каменном мешке.
Наш стражник обернулся и на ломаном английском приказал мне молчать. Я подчинился и принялся обдумывать новые обстоятельства, временами невольно сбиваясь на терзавшую душу тоску — всем сердцем я рвался в небольшой, утопающий в зелени садов городок к пленившей меня чудесной и отважной женщине, ставшей теперь матерью моего сына. Как безумно хотелось оказаться подле нее… Измученный перенесенными испытаниями и душевной смутой, я задремал…
В этом узилище под присмотром сменяющих друг друга двух индусов мы с Тенцингом провели трое суток. Каждый день появлялся Рейли, чувствовавший себя уже вполне моим хозяином. Визиты его были краткими, и ничего более существенного, чем указание быть готовым, я не услышал. Четвертой ночью меня разбудил громкий шепот:
— Ваше высокоблагородие, господин полковник, — просыпайтесь! Нельзя нам здесь долго!..
И ходил Он по все дни, и учил в храме, и проповедовал приближение Царствия Небесного. И множество народа слушало Его с трепетом и услаждением. И служитель храма по имени Леви сказал Сыну Человеческому: «Чьей властью Ты проповедуешь в этом, месте для чистых? А ученики Твой даже не омыли грязь с ног своих, а брат Твой Иаков в ветхом рубище, не совершив омовения, вошел во Двор Священников».
И замышлял он против Сына Человеческого, чтобы взять его и вести на суд первосвященников. И спросил Иисус: «А ты чист? Ты омылся в источнике Давидовом и спустился по одной лестнице, и поднялся по другой лестнице. Но омылся ты в стоячей воде, где собаки и свиньи лежат день и ночь. А Мои ученики омылись в живой воде Небесного Отца Моего».
Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Ибо много было пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи и опресноков из разных мест: и из Александрии, и из пределов эллинских, и из Рима. И дивились Ему, и боялись взять Его, чтобы выдать толпе, ибо час тот не настал еще.
И позвал Он Иуду Искариота, и удалился с ним на гору Елеонскую, и сказал: «Лицемерны и боязливы первосвященники и фарисеи иерусалимские, и боятся взять Сына Человеческого по все дни проповедующего в храме. Ты один иудей среди любимых детей Моих, тебе поверят судьи иудейские. Пойди во двор первосвященника Каиафы и проси награду ничтожную, дабы по скупости своей не убоялись дать тебе; свидетельствуй против Меня, будто Сын Человеческий призывал разрушить храм и говорил, что он сын Давидов, новый Царь Иудейский».
И пал ниц Иуда Искариот; и ужасался много, и плакал, и молил Иисуса: «Равви! Избавь меня от страшного бремени сего». И сказал Сын Человеческий: «Авва Отче! Не чего Я хочу, но чего Ты; восстань, чадо, делай, что должно, и пусть будет, что будет».
И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, возрадовались и обещали дать ему тридцать сребреников.
В первый день опресноков, когда закололи пасхального агнца, сказал Иисус: «Приготовьте пасху». И возроптали ученики Его и сказали Ему: «Равви! Время праздничной трапезы не исполнилось еще». И сказал Сын Человеческий: «Сегодня с вами еще. Завтра уже не увидите Меня».
И указал Он, и пошли и по слову Его нашли дом с горницей устланной и приготовили пасху.
Когда настал вечер, Он пришел с двенадцатью; и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам! Ученик предаст Учителя». Они опечалились и стали говорить Ему один за другим: «Не я ли, Господи?» И ответил Он: «Тот, кто обмакивает хлеб в чашу со Мной».
И, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, ешьте; это тело Мое». И, взяв чашу, подал им, и пили из нее все; и сказал им: «Это кровь Моя, что будет пролита за многих; истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». А плачущему Иуде Искариоту сказал: «То, что делаешь, делай скорее». И он тотчас же вышел.
И воспев, пошли они на гору Елеонскую; пришли в сады Гефсиманские и разожгли там огонь, потому что холодно было им. И сказал Иисус: «Чадо, все вы соблазнитесь обо Мне в эту ночь». И Симон Петр сказал Ему: «Если все соблазнятся, тоне я».
И говорит ему Сын Человеческий: «Истинно говорю тебе! Прежде, чем пропоет петух, трижды отречешься от Меня». И скорбела душа Его тяжко; пал на землю и молился Он: «Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты».
И в третью стражу вернулся Он к двенадцати, и нашел их всех спящими. И сказал Он тогда: «Кончено, пришел час; предается Сын Человеческий в руки человеческие».
И тотчас же из темноты выступил в круг огня Иуда Искариот; и подошел к Иисусу и сказал: «Равви, Равви!» И поцеловал Его. И окружило их множество слуг Каиафы с мечами и кольями; и возложили на Него руки, и взяли Его. Тогда бывшие с Ним оставили Его; и все бежали; а раба Его неверного Фому схватил за одежды один из служителей и говорил: «Уж не ты ли сын Давидов?»
И вырвался от него Фома, оставив платье свое, и бежал наг. А Сына Человеческого привели на двор тестя первосвященника Каиафы по имени Анна и искали свидетельства на Него, чтобы передать Его на суд прокуратору Понтию. И сказал Он им, что Он Христос; и говорили те: Он богохульствует. И признали Его повинным смерти, и отдали на поругание слугам первосвященника. Те же плевали Ему в лицо и заушали Его; накрыв главу Его лохмотьями, били по щекам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя».
А Симон Петр, стоявший во дворе, когда приступили к нему слуги Анны и сказали: «Ты из Галилеи, уж не с Ним ли ты?» — трижды отрекся он от Сына Человеческого. А для страждущих учеников путь один от руин дома сего к древу одинокому белому.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Голова болела, и думалось плохо. Но Николай старался — слишком серьезные и неприятные произошли этой ночью события. Разбитая голова, украденная шкатулка, пожар в Анькином доме и пропавшие оригиналы дневника и писем Маннергейма — не много ли случайностей?
Напрашивался вывод: существует кто-то неизвестный, «охотник» — назовем его так, все это устроивший.
Николай никому не рассказывал о письмах, которые привезла Анна из Финляндии, и, если честно, до сих пор относился к этой попытке кладоискательства чуточку снисходительно.
Автор писем — не капитан пиратской шхуны, грабивший в Карибском море испанские золотые галеоны, а потом зарывший награбленное на необитаемом острове, опасаясь, что команда поднимет бунт в жажде добраться до его доли двойных дублонов и драгоценных самоцветов.
Письма своим друзьям-сослуживцам отправил маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм — крупный политик, бывший регент и президент Финляндии, сумевший, находясь в годы Второй мировой между молотом и наковальней — фашистской Германией и Советской Россией, — сохранить независимость своей небольшой страны.
Талантливый полководец и военный стратег, успешно воевавший еще в Первую мировую, он на протяжении пяти лет силами крошечной финской армии сдерживал на Карельском перешейке советскую военную махину.
Возможно, маршал, тихо доживавший свой долгий век в Швейцарии за написанием мемуаров, решил напомнить о себе близким людям и придумал этот своеобразный розыгрыш с кладом. Недаром на фотографии у него такой хитрой прищур. Сразу видно: мистификации ему были не чужды.
Но, с другой стороны, весной 1944 года Маннергейм действительно что-то спрятал на островах Выборгского залива. Да и «охотник» совсем не похож на нелепого чудака, увлеченного разгадыванием старых мистификаций.
«Скорее, — подумал Николай невесело, — похож он на серьезного профессионала. Так много успеть за какие-то пару часов — очень непросто. Откуда ты взялся, такой умелый, на наши головы?..»
Николай разозлился — его всегда бесила невозможность ответить обидчику.
«Ладно, — успокаивал он себя, — что толку злиться. Давай-ка лучше займемся пловом».
Николай неплохо готовил. Его кулинарный репертуар состоял в основном из азиатских блюд, экзотичных для здешних северных мест. А с пловом была отдельная история — он научился его готовить еще подростком, по настоянию отца. Приготовление плова было мужской семейной традицией. И хотя семью жестоко перемололо время, это блюдо осталось своеобразной фамильной ценностью, передаваемой из поколения в поколение.[14]
Первым делом он поставил промываться рис. Это лучше сделать загодя — замачивать в воде его нужно не меньше двух часов. Правильный рис — это главное в плове. Чтобы он не слипся противными крахмальными комками и не напоминал потом детскую кашу, а был рассыпчатым и красивым — зернышко к зернышку, нужен особый сорт. В Петербурге не легко найти девзиру — специальные сорта выдержанного не обмолоченным риса, что продают на азиатских базарах от Душанбе до Алма-Аты. Но нашлась замена — так называемый «Золотистый», обработанный паром. Особенно неплох мистралевский «Индиго». Но даже его Николай предпочитал промывать достаточно долго. Ставил миску с рисом в мойку и включал воду, обязательно холодную, время от времени осторожно перемешивая и сливая крахмальную муть.
Потом достал видавший виды казан — в чугунном горшке, а тем более в кастрюле плов обязательно пригорит. Налив на дно казана немного оливкового масла, он привычно пожалел об отсутствии жирной баранины. По правилам, сначала в казане растапливают немного курдючного сала, впрочем, это уже изыски. Ну что делать — не живут в Петербурге жирные бараны, а раз так — подойдет любое мясо.
Пока калилось масло, Николай нарезал кубиками кусок свиной шеи и порубил несколько хранившихся в морозильной камере бараньих ребрышек — для любителей погрызть, да и с костями — вкуснее, и нарезал полукольцами лук. Убедившись по легкому дымку, появившемуся над казаном, что масло уже перекалилось, сложил туда лук — пусть пожарится до золотистого оттенка. Пропорции необходимого набора продуктов очень просты. Идеальны для плова равные доли мяса, лука, моркови и риса. Ну вот — лук и готов. Достав его шумовкой, вновь раскалил масло и на большом огне стал обжаривать мясо — лучше делать это небольшими порциями, чтобы оно не успело дать сок, а покрылось аккуратной коричневой корочкой. Пока обжаривалось мясо, он выбрал три крупные головки чеснока — чистить не надо, лишь стряхнуть шелуху — и занялся морковью. Поскоблив ножом оранжевые нарядные и сочные морковины, настрогал их тонкими полосками на горизонтальной терке. Правильнее, конечно, нарезать ножом, но уж больно долгая это процедура, на терке значительно быстрее — главное, не увлекаться и беречь пальцы от острых стальных резаков. К тому моменту, когда нашинкованная морковь заполнила миску аккуратной оранжевой горкой, все мясо уже обжарилось. Теперь его вместе с луком нужно вновь загрузить в казан и добавить приготовленные головки чеснока. Именно в этот момент предстояло создать вкус будущего плова — добавить специи и соль. Посолил Николай осторожно — потом можно добавить или при закладке чуть больше посолить рис. Теперь перец — сначала красный, лучше — отламывая кусочки от засушенного стручка, потом молотый черный — и попробовать, помня, что в результате — будет острее. И наконец, главная специя — зира или кумин — его темно-коричневые игольчатые зернышки сообщали плову непередаваемый азиатский тонкий привкус и аромат. Зиры должно быть много — на семилитровый казан Николай добавлял не меньше пяти граммов, или половину маленького пластикового пакетика от рыночных торговцев. Немного молотого кориандра — ему нравился чуть сладковатый вкус семян растения, больше известного как кинза. Можно, если есть, добавить сушеные ягоды барбариса. Со специями покончено — Николай долил в казан кипятка, так, чтобы вода не выступала поверх мяса, а потом аккуратно закрыл булькающее ароматное варево слоем моркови и убавил огонь — перемешивать плов теперь уже нельзя, пусть неторопливо варится — не меньше получаса. Пришла пора риса — слив воду, Николай слегка посолил влажные зерна и добавил куркумы — этот желтый порошок, известный еще как индийский шафран, придаст готовому рису нарядную окраску. «Жаль, нет айвы, — вздохнул он, — с ней аромат плова просто убийственным получается».
Уложенные поверх риса желтые ломтики терпкого кисло-сладкого вкуса создают замечательный контраст острому мясу. Заменить ее нечем — яблоки, даже самые крепкие, развариваются, превращаясь в неаппетитное месиво, но можно добавить изюм — лучше, чтобы он был покислее. Ну вот, зирвак — мясо с луком и морковью — уже готов. Перемешав рис с горстью светлого сушеного винограда, Николай выложил все это в казан поверх уже обмякшей моркови и разровнял верхний слой. Теперь нужно аккуратно, по стенкам казана или установив в центре блюдце, налить горячую воду, так, чтобы она не размывала плов. Важно, чтобы вода стояла над рисом — слой должен быть не меньше двух сантиметров, но больше — тоже не надо, иначе замучаешься потом выпаривать. Николай облегченно вздохнул — теперь все в воле Аллаха, и если Всевышний будет милостив, то получится плов, вкус которого запоминается надолго. А пока на плите творится кулинарное таинство — можно перекурить.
Голова продолжала болеть, и он справедливо решил, что рюмка холодной водки ей уж точно не повредит. Открыл банку домашних маринованных огурчиков — кстати, маринованные овощи — прекрасный гарнир к плову — и «немедленно выпил», как незабвенный Венечка Ерофеев, добирающийся из Москвы в Петушки.
Набив трубку и с наслаждением затянувшись, он щурился, разглядывая залитую солнцем улицу и разомлевших прохожих — для питерцев двадцать с лишним градусов — уже невыносимая жара.
Кто он, этот «охотник»?
Николай понимал, что тот бродит где-то совсем рядом — иначе, откуда такая информированность?
Итак, первое событие в цепочке — убийство Хейно Раппала, неожиданно обретенного и сразу потерянного Анькой деда. Из Финляндии Анна вернулась в обществе трех спутников — литовца-корабела Стасиса, Профессора и Доктора. Все они в момент убийства были на рыболовной базе.
Профессора можно сразу вычеркнуть — Николай знал его не первый год.
Остаются двое. Доктора после встречи на заливе Николай не видел, вроде бы он работает в Военно-медицинской академии и помог устроить туда Димку Воскобойникова. Надо будет расспросить о нем Профессора, с которым они приятельствуют.
Теперь Стасис, он — литовец. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Как же его фамилия… что-то связанное с советским кино… ах да — Адомайтис. У третьего адресата Маннергейма, литовца, фамилия иная. Хотя это тоже не имеет значения — у профессионала, а «охотник» явно профессионал, наверняка, не один комплект документов.
Интересно, где Стасис провел сегодняшнюю ночь? Надо расспросить Анну.
Так, а что у нас там происходит с пловом? Николай заглянул в казан, и его обдало волной горячего ароматного пара. Ага, воды уже нет, верхний слой риса набух, стал рассыпчатым и выглядел вполне готовым. Теперь можно небольшой деревянной палочкой проткнуть его в нескольких местах, чтобы легче выпаривались остатки влаги. Убавив огонь, он накрыл плов большой тарелкой и закрыл крышку — теперь сильный жар плову вреден, рис должен томиться.
Николай взглянул на часы. До прихода девиц еще минут тридцать — он успеет выдержать плов в мягком тепле.
Может быть, «охотник» — Стасис?
Но для серьезных подозрений фактов пока недостаточно. К тому же очень неприятная эта версия — Анька, похоже, успела влюбиться в красавца-прибалта.
Когда затренькал дверной звонок, — оставалось лишь выложить плов на блюдо. Вежливая Анна, с порога учуяв хорошо знакомые ароматы и сглотнув слюну, все же поинтересовалась:
— Ну как ты? Что с головой?..
— Иди мой руки — сначала плов, специально для вас готовил. Настя, проходите, пожалуйста, обувь можно не снимать.
Анастасия несколько церемонно последовала в ванную вслед за подругой. Николай тем временем выложил плов на большое блюдо из оникса. В центре сделал горку из риса, а по краю — бордюр из мяса и моркови. Выглядело весьма аппетитно — золотистый рассыпчатый рис, сочно дымящиеся куски мяса и темные, почти кирпичного цвета, полоски моркови.
— Ну а все-таки, что с головой? — Анна попыталась рассмотреть скрытый белой повязкой шов.
— С головой нормально — череп цел. Барышни, прошу к столу!
Уговаривать себя девчонки не заставили и дисциплинированно расселись, с откровенным вожделением наблюдая, как Николай раскладывает плов по тарелкам. Затем некоторое время на кухне раздавались лишь удовлетворенные междометия и вздохи. Николай давно обнаружил, что голодный мужчина — существо куда более мирное и покладистое, чем голодная женщина. Сейчас он тихо радовался возникшему у девчонок после еды умиротворенному настроению.
— Если хотите выпить — могу предложить водки, ничего иного, извините, нет.
Обе дружно замотали головами.
— Можно мне чаю, а то сейчас засну, — попросила Анна.
Николай, зная ее вкусы, заварил зеленый чай, который она пила помногу, забавно называя этот процесс «чаек швыркать».
Анна тем временем рассказывала о своем походе в милицию на допрос к дознавателю Ванькину. Самое главное: выяснилось, что ее соседи — баба Маня и Тимка — живы. Как оказалось, баба Маня вчера днем уехала к своей подруге в Рощино, о пожаре узнала только из выпуска «Новостей». А Тимофей, оставшись той ночью один в квартире (Анна была на ночном дежурстве), сорвался — вколол себе дозу, припрятанную на случай тяжелой ломки. Он смутно помнил, что приходил какой-то негр. Но из-за того, что он был «под кайфом», менты ему не верили и считали, что именно он в наркотическом опьянении поджег квартиру… Тимка сейчас в больнице — обгорел и отравился угарным газом. Счастье, что вообще жив остался. Сосед из квартиры напротив возвращался из пивной и увидел пожар. Дверь была открыта, в прихожей он наткнулся на Тимку, а квартира уже полыхала…
— А он что, после дозы всегда бродит?.. — уточнил Николай.
— Да нет, обычно запирается у себя в комнате и лежит там тихо, пока не отойдет. Да и не кололся Тимка давно — он твердо решил завязать, мы с бабой Маней, как могли, ему помогали. Сейчас деньги появились, думала отправить его в Киргизию, к доктору Назаралиеву — алма-атинские друзья рассказывали, что он реально помогает… Ой, извини, спасибо тебе большое, вкуснее твоего плова я просто не встречала.
— Да, Николай, спасибо, — поддержала ее Настя. — Вкусно — безумно! Но я буду нескромной — можно мне еще?..
Крупная высокая Настя весело пренебрегала диетами. Анна, закурив, попыталась скрутить собственное ухо в трубочку — верный признак глубокой задумчивости.
— Так ты считаешь, что твое ранение, пожар и пропажа документов — все это взаимосвязано?.. — спросила она.
— А ты полагаешь — нет?
— Я не знаю, — ответила она не очень уверенно.
— Девочка моя хорошая, но… — начал Николай.
— Да понимаю я все, — перебила его Анна. — Мне так стыдно, что я втянула тебя в эту историю. Из-за меня тебе разбили голову, из-за меня Тимка попал в больницу, квартиру сожгли… А сейчас еще и Настю впутываю. Но я не могу это оставить — они убили дедушку, а я ему обещала. Я должна была делать все одна, но я не знала, что будет так плохо и страшно.
— Ну ты и дура! — Настя не на шутку разозлилась. — Мы тебе кто — просто так погулять, что ли, вышли?
— Анька, прекращай заниматься самоедством. Давай лучше попробуем вместе разобраться в наших проблемах. — Николай примял специальной металлической лопаточкой-топтушкой тлеющий в трубке табак: — Итак… По неизвестным причинам убивают Анькиного деда. Но перед этим он успевает рассказать о документах Маннергейма, которые буквально накануне передал на хранение своему юристу. Приехав из Финляндии, Анна рассказывает об этом мне и отдает документы, собираясь на съемки в Выборг. Я привожу бумаги в дирекцию, чтобы отдать их Анне. Она прячет дневник и письма в свою ячейку, чтобы почитать их ночью во время дежурства. Предварительно она делает копии и просит меня забрать шкатулку из карельской березы с собой. Через час, когда я на «развозке» добираюсь домой, меня при входе во двор бьют по голове. При этом пропадают шкатулка и копии писем. Чуть позже кто-то проникает в квартиру Анны и, очевидно, не найдя документы — их там просто нет, не обращая внимания на одурманенного Тимофея, устраивает пожар. Кстати, непонятно, зачем он это сделал — чтобы сильнее напугать нас, что ли?..
— Может быть, — согласилась Анна.
— Далее неизвестный — назовем его для простоты «охотником», — не обнаружив искомое в двух местах, устраивает обыск в здании дирекции, плохо, но все же охраняемом. Он вскрывает Анькину ячейку и, наконец, получает столь желанные документы.
— По-моему, я поняла, для чего этот ублюдок-«охотник» устроил пожар. Когда ночью дежурная бригада выезжает на происшествие — в редакции ведь никого нет, делай, что хочешь. — Анна посмотрела на Настю и Николая.
— А как «охотник» попал в здание компании?.. Тетки-милиционерши, конечно, спят, но дверь-то закрыта. А они спросонья жутко вредными бывают — своих-то не очень пускают, — поделилась сомнениями Настя.
— А зачем ему дверь? — возразил Николай. — С тыльной стороны есть пожарная лестница. Решетки только на окнах первого этажа. Лето, все стеклопакеты настежь открыты. Забраться внутрь — дело пяти минут.
— Но я же никому, кроме тебя и Насти, не рассказывала о документах?..
Анна недоуменно уставилась на Николая. Тот, посасывая трубку, осторожно заметил:
— Хорошая моя, если охотник находится рядом с дичью, ему не нужно ничего рассказывать… Есть некто, кто был рядом с тобой и в Финляндии, и здесь, в Петербурге. Прости за этот вопрос, ты не знаешь, где эту ночь провел Стасис?..
— Стасис? — переспросила Анна растерянно, щеки ее порозовели. — Я знаю, он был на гонках на Заячьем острове. Правда, он куда-то уезжал и привез мне потом букет роз, но… Нет, Стасис не мог этого сделать. Я это не потому говорю, — она еще больше покраснела, — что он мне нравится. Он на такое не способен, он хороший…
Неловкое молчание нарушил Николай:
— Прости меня еще раз, но ты ведь его совсем не знаешь…
Обиженно примолкшую Анну поддержала Настя:
— Женщины чувствительнее мужчин и многие вещи открывают интуитивно. Наверное, Анна права: если она считает, что Стасис — не «охотник», значит, так оно и есть.
— Нет, Стасис не мог этого сделать! — уже увереннее повторила Анна.
Николай внимательно рассматривал темно-вишневый чубук своей трубки. Доводы девчонок не казались ему убедительными.
— Тогда — кто же?
— Я не знаю. Но это не он, — упрямо повторила Анна.
Огорчать Анну ему не хотелось, да и доказательств не было.
— Ладно, неизвестный «охотник» — кто бы он ни был — получил желаемое. А вот оставит ли он нас теперь в покое — большой вопрос.
— А я вообще не могу понять — зачем ему с таким риском добывать эти письма? — спросила Настя.
— Всего Маннергейм отправил три письма, предупредив адресатов, что только вместе они смогут отыскать спрятанное. Два из них Анна привезла из Финляндии, а третье, видимо, уже было у «охотника». Теперь, имея на руках все три, он сможет расшифровать послание маршала и найти место, где зарыто Нечто.
— Господи, прямо «Таинственный остров» какой-то — шифры, сокровища… Не хватает только хромого Сильвера и попугая, который кричит: «Пиастры, пиастры!»
В этот момент зачирикал Анькин мобильник.
— Да, — ответила она и, искоса взглянув на Николая, ушла разговаривать в комнату.
«А вот и хромой Сильвер!» — усмехнулся про себя Полуверцев.
Ну что ж, подозрения по поводу Стасиса придется проверять самому, влюбленная Анька здесь не помощница. Есть у Николая возможность получить исчерпывающую информацию, правда, очень не хочется ею пользоваться.
Продолжая разговор, он объяснил Насте:
— Сокровища-то вряд ли, но, похоже, Маннергейм зарыл что-то очень ценное — судя по тому, как действует этот «охотник».
— Да уж, — поддакнула Настя, воровато подцепив из блюда ложку плова.
— Поешь еще, не мучайся, — предложил Николай.
— Не могу я, — сокрушенно покачала Настя головой, — И так уже… — Она выразительно похлопала себя по бокам.
Николаю нравилась эта очень яркая и талантливая девушка. Еще два года назад она была сущим щенком — умненьким, задорным, неуклюжим. Может быть, ощущая свою женскую непривлекательность, она старательно отодвигала взросление, оставаясь озорным и веселым подростком. И вдруг — это действительно случилось вдруг и сразу — к Насте пришла любовь. Не несчастная безответная влюбленность, а взаимное, полноценное чувство. С Настей произошла удивительная метаморфоза: прямо на глазах из гадкого утенка она превратилась, как и полагается, в красивого лебедя.
Нет, конечно, она не стала похожа на супермодель, но ее проснувшаяся женственность восхищала обаянием и прелестью.
Николай поинтересовался:
— Анна там вас не очень стесняет? Мы с Еленой могли бы пожить в Юкках и уступить ей эту квартиру.
— Нет, что ты! Я так рада, что она поживет с нами, у нас ведь две комнаты, и одна пока совершенно свободна, — как-то чересчур важно и значительно заявила Настя.
«Ага, — понял вдруг Николай, — значит, вот почему мы так похорошели. Да, Насте беременность явно к лицу».
Но с вернувшейся в комнату Анной он благоразумно не стал делиться своей догадкой. Узнав о том, что подруга ждет ребенка, Анька бы точно отказалась от ее помощи.
Анна старательно хмурилась, но оттаявший взгляд и непроизвольно всплывающая на губах улыбка красноречиво сообщали, с кем она только что говорила.
Настя заговорщицки ей подмигнула, а Николай все-таки счел нужным напомнить:
— Анна, я правда рад за тебя, но будь, пожалуйста, осторожна.
Она улыбнулась:
— Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Я же уже взрослая и очень осторожная.
Нетерпеливо, дважды, звякнул дверной звонок — так обычно извещала о своем приходе Елена.
— Фу, как у тебя накурено, — сказала она, отдав ему в прихожей универсамовские пакеты с продуктами, и, заметив чужую обувь, спросила: — У нас гости?
— Да, Анька с подружкой пришли меня навестить.
— А еда-то дома есть, раненый мой? Или девицы сидят голодными?
— Обижаешь, любимая, сделан плов. Кстати, дожидается тебя горячим.
Елена отправилась на кухню поздороваться с девчонками. Те, немного смущенные, засобирались.
— У нашей парадной чуть ли не толкаются бамперами два джипа. Один — старенький «Ниссан», но уж больно гордо поглядывает его водитель на соседа из навороченного «Лендровера».
— Это мой… — счастливо вздохнула Настя, — Без средств, но с амбицией. За это и люблю.
Елена увела Аньку в комнату — обсудить какие-то особые женские секреты.
Настя напоследок вновь запихнула в рот ложку плова.
— Слушай, а что вы теперь с Анькой намерены делать?.. — спросила она.
— Попробую разузнать про третьего адресата Маннергейма — литовца. Есть у меня один очень информированный знакомый. Ну а дальше — война план покажет.
В коридоре Анна, чмокнув Николая в щеку, со вздохом сказала:
— Ну вот, так толком ничего и не обсудили. Не сердись, пожалуйста, но это правда не Стасис. А кто он, этот «охотник», мы обязательно выясним — никуда ему от нас не деться.
«Лучше б не знать этого никогда», — подумал Николай и вернулся к жене.
То, что Елена сегодня какая-то странная, он заметил еще у порога. Обычно, вернувшись с работы, она первым делом забиралась в холодильник, доставала оттуда палку копченой колбасы или кусок вяленого мяса, быстренько отрезала несколько ломтиков, съедала, и только после этого, заморив червячка, могла существовать в привычном вечернем домашнем ритме.
Но сегодня насупленная жена лишь лениво ковыряла вилкой в тарелке с пловом.
— Что случилось, любимая? Ты, часом, не заболела?
Она передернула плечами, как от озноба:
— Да нет, ничего, — и, постепенно втягиваясь, стала рассказывать: — День сегодня какой-то дурацкий. Толпы народу везде, милиции полно, многих останавливают. Что-то в городе случилось, что ли?
— Случилось, — подтвердил Николай. — Вице-губернатора убили прямо в собственном кабинете в Смольном.
— О, господи… Теперь понятен переполох. А ко мне на работу сегодня заходила Танька Степанова, ты ее должен помнить — она к нам в прошлом году, осенью, в Юкки приезжала. Она живет в Италии. Муж у нее итальянец-пенсионер. Там она постоянную работу найти не может — только летом в туристический сезон, в баре официанткой. А муж ее, потихоньку от налоговых органов, туристов на лодочке возит — у них пенсионерам работать запрещено. Ну а осенью и зимой они заработанное проедают. Танька на всякие курсы ходит, много читает, рисует — она в свое время «Тряпочку» закончила. И даже пытается переводить Пушкина на итальянский. В общем, развитая дама. Так вот, то ли достала ее такая жизнь, то ли что еще, но в этот раз приехала она сюда с твердым намерением найти постоянную работу. Видимо, из Италии ей это как-то иначе представлялось. Но здесь сорокалетнюю женщину, хоть и в совершенстве владеющую итальянским, никто, в общем, не ждет. В связи с этими поисками пришлось ей куда-то рано ехать. Попала она в утренний час пик. Пасмурно, говорит, холодно, мерзкий дождь с ветром, кругом на разбитых тротуарах лужи и собачье говно, люди — злые, не выспавшиеся, толкнуть побольнее норовят. И Танька говорит: «Я на все это поглядела и подумала — это же лето, а что будет осенью и зимой? Да зачем мне эта работа сдалась? Поеду-ка я домой, в Италию. Там солнечно и тепло. Чистые тротуары, и до моря десять минут неспешной прогулки». — Елена помолчала, растерянно и грустно пряча глаза. — А я вдруг на нашу жизнь взглянула со стороны. Вроде мы много работаем, сравнительно неплохо зарабатываем, но ни на что толком не хватает. Сами одеты плохенько, машина старенькая, квартира обветшала вся — сто лет не ремонтировали. Самое грустное — выхода не видно. Каждое утро лишь разбитый асфальт, грязные лужи да собачье дерьмо. И такая тоска меня взяла… Безнадега, как у Додина в чеховском «Дяде Ване». Одно-единственное и никому не нужное утешение: «И мы с тобой когда-нибудь отдохнем».
Она горько замолчала, не ожидая ответа. Николай подошел, встал рядом, нежно погладил пушистые короткие волосы и прижал ее — такую по-детски беззащитную — к своему теплому животу.
Можно было бы говорить ей про лес, который Елена очень любила, про обожаемых родителей и живущего с ними в Юкках ласкового здоровенного кобеля Лира. Про многих людей, которые любили ее за доброту и удивительную способность сопереживать и еще про многое, что, может быть, способно отогреть замерзшую душу… Но главного — подарить ей другую, лучшую жизнь, которую мы все, конечно же, заслуживаем, — он не мог и поэтому молчал. Душу разъедала злая, понятная многим мужчинам горечь — наказание за то, что не можешь помочь любимой женщине или ребенку.
Понемногу Елена отошла и даже, прихватив пакет с маковыми сушками и кружку с молоком, отправилась смотреть бесконечный телесериал. А Николай набрал телефонный номер того, кому очень не хотел звонить.
— Привет, — сказал он, — Это — Николай Полуверцев. Извини за беспокойство. Мне нужна твоя помощь.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Анна удобно устроилась на обтянутом бежевой кожей сиденье и погрузилась в уютную атмосферу тепла и защищенности.
Стасис пытался расспросить о пожаре, но ей не хотелось вновь возвращаться к событиям последних дней. Хотелось немного покоя. Двигаться бы по вечерним петербургским улицам в этом большом и надежном, как океанский лайнер, автомобиле, которым так уверенно управляет Ее Мужчина, и чтобы совсем негромко, вот как сейчас, низким завораживающим голосом пела о прекрасной и бесконечно грустной любви «Вая Кон Диос»…
Она не видела луж на разбитом асфальте, вечерние сумерки укрыли щадящим флером обшарпанные фасады. Затейливый архитектурный рисунок улиц Петроградской стороны в стиле русского модерна, в грубоватых мазках реклам и подсветки, украшал обозначенный витринами кафе и магазинов городской фарватер. Этот путь к вечерним терпким радостям уходящего лета был проложен по тротуарам загорелыми и белозубыми петербургскими флибустьерами, и загадочные татуировки на их мускулистых руках создавали причудливые композиции, сливаясь с тату, украшающих юные тела их капризно-кокетливых спутниц. В поисках радостей и удовольствий их вела древняя могучая жажда — они впитывали всеми порами горячей кожи медленно стекающий с вечернего неба в артерии улиц пьянящий и пряный напиток страсти.
— Может быть, остановимся и зайдем в кафе? — предложил Стасис.
— Если тебе не трудно, давай просто поездим по улицам: мне так здесь уютно, — улыбнулась ему Анна.
— Конечно, как хочешь.
Он некоторое время молчал, внимательно вглядываясь вперед, потом решительно произнес:
— Анна, мне нужно с тобой серьезно поговорить.
Немного смущаясь, Стасис сказал, что ему тридцать шесть лет, он был женат, но его супруга-эстонка не смогла смириться с тем, что он вечно пропадает в эллингах, без конца возится со своими лодками и моторами, но что уж тут поделать — это главное в его жизни. Построенные им лодки нравятся людям, их неплохо покупают. Нет, он, конечно, не миллионер, но его небольшое дело приносит достаточно денег, чтобы содержать семью.
Притормозив у светофора на Австрийской площади, Стасис искоса взглянул на Анну, а та смотрела на него во все глаза. «Ой, мамочка, он же пытается сделать мне предложение! А я, наверное, ужасно глупо выгляжу со счастливой улыбкой до ушей».
— Анна, в пятницу заканчивается бот-шоу. Мне нужно уезжать домой, в Вильнюс, и я…
Светофор изменил цвет на зеленый. Сзади заверещали клаксоны вечно куда-то спешащих петербургских водителей, но Стасис не трогался с места.
— Я… Пожалуйста, выходи за меня замуж, — попросил он и наконец отпустил педаль тормоза.
Застоявшийся джип резво рванул вперед, вписываясь в стремительный ритм движения Каменноостровского проспекта. Сердце Анны колотилось в этом же лихорадочном ритме — весело и страшно.
«И что же мне ответить? Наверное, нельзя так просто сказать «да» или «нет»?.. Что же делать?»
Стасис продолжал что-то говорить, но она ничего не слышала. Джип въехал на Троицкий мост, она видела, как рабочие в оранжевых жилетах уже расставляют барьеры. Совсем скоро поднимутся к небу крылья среднего пролета.
«Нет, Троицкий разводится неинтересно, — то ли дело мост Лейтенанта Шмидта или какой-нибудь из малых — Биржевой, например. При чем тут Смольный?.. Это Стасис что-то говорит о Смольном».
— Что? — переспросила она.
— Я говорю: мне нужно обязательно уехать, потому что сегодня в Смольном мы заключили контракт на постройку…
— Ты был сегодня в Смольном? — перебила она. — Когда?
— Днем, я встречался… — но продолжение Анна уже не слышала.
«Господи, господи — он был днем в Смольном — и тогда же убили вице-губернатора. Господи, ну почему же ты, милый, всегда оказываешься там, где происходит что-то ужасное?»
— Останови, пожалуйста, — попросила она.
— Что случилось? — Стасис резко остановил джип посреди моста. Сзади послышался визг тормозов очередного торопыги и возмущенный протяжный гудок.
Анна открыла дверцу и спрыгнула на асфальт, Стасис последовал за ней.
— Я тебя чем-то обидел? — спросил он, взяв ее за руку.
Она отвела глаза и покачала головой.
— Извини, наверное, мне не нужно было делать это дурацкое предложение — конечно, не время и не место, но я не хочу тебя терять. Вот, возьми, пожалуйста.
Он протянул ей маленькую, обтянутую синим бархатом коробочку. Анна машинально взяла ее и сильно сжала в ладони. Так же сильно, как сжалось ее сердце от страшного предположения, что Стасис — убийца ее деда.
— Прости, но мне надо идти. — Она отвернулась и увидела бьющуюся о пыльное заднее стекло джипа большую нарядную бабочку-махаона.
«Бедная», — с тоской подумала она и поплелась назад на Петроградскую сторону. Ее догнал растерянный Стасис:
— Вот, возьми, — он протянул картонный квадратик визитной карточки, — тут адрес, все мои телефоны. Я буду ждать тебя…
Она машинально взяла визитку и, заметив, что по-прежнему сжимает в ладони обтянутую синим бархатом коробочку, остановилась у фонаря. Служитель в оранжевом жилете весело крикнул:
— Барышня, скорее гуляй!..
Анна открыла тугую крышку. На белоснежной тонкой коже сверкнули грани бриллиантовой розы в золотой оправе кольца. Изящную розетку украшали красные, как капельки крови, рубины.
Она спустилась к набережной.
За спиной выросла глухая преграда из металла — разводной пролет Троицкого моста на несколько часов разделил два берега реки и, быть может, навсегда тех, кому не суждено встретиться этой ночью.
Ноябрь 1908 г., Пекин, русская миссия
В тусклом свете чадящего факела я разглядел Малоземова, занятого взломом бамбуковой решетки моего узилища. Наконец вахмистру удалось справиться с запорами, и я смог выйти на свободу. Один из солдат уже успел освободить Тенцинга. Стражник-индус распростерся на полу, не подавая признаков жизни.
Мы не стали терять времени и поспешно поднялись по крутым ступеням. Там, у дверей темницы, поджидал приветливо улыбающийся монах. Сложным и извилистым путем по бесконечным переходам и длинным лестницам он вывел нас к подножию большой скалы, на которой возведен величественный дворец Далай-ламы.
По пути словоохотливый проводник пояснил, что в Потале — несколько тысяч комнат, расположенных весьма запутанно, и до многих британцы не смогли добраться, как и до тайного хода в скале, позволяющего миновать охраняемый главный вход во дворец.
Один из скрытых переходов вывел нас к огромному залу. На величественных погребальных ступах прежних Далай-лам, искусно сделанных из золота, метались тревожные отблески факелов и слышались яростные английские команды — наш побег обнаружили. Погоней руководил Рейли, видимо, явившийся в темницу, чтобы, дав последние наставления, выпустить меня. Но он опоздал.
Я с наслаждением глубоко вдохнул свежий воздух свободы. Черное ночное небо над горной страной было усыпано мириадами звезд, а ниже того места, где мы находились, раскинулся лагерь британского отряда, огороженный частоколом. Там наблюдалась большая суета — солдаты в тусклом свете факелов седлали лошадей, слышались команды офицеров.
— В дорогу англичашки собрались, — шепнул мне Малоземов. — Монахи бают, что выступят они сегодня на заре. Торопиться нам надо, ваше высокоблагородие. Вас на дороге очень дожидаются их благородие господин ротмистр.
Неподалеку, в тупике одной из кривых и темных улочек Лхасы, поджидали лошади. Их морды предусмотрительно замотали мешковиной, чтобы ржанием они не обнаружили нашего присутствия близ лагеря британцев. Я был рад вновь увидеть своего верного Талисмана, к которому сильно привязался за время нашего долгого похода.
Без происшествий мы миновали город и, преодолев шестьдесят верст горной дороги, достигли позиций, устроенных для нападения на британский караван.
Обрадованный нашим благополучным возвращением, ротмистр показал на весьма приблизительной карте местности диспозицию имевшихся в распоряжении сил, численностью немногим более трехсот человек. Я одобрил принятые заместителем меры и дополнительно приказал оборудовать в оставшееся до столкновения с противником время две укрепленные огневые точки.
Первую разместили на верхнем участке подъема, перед подвесным мостом через реку — она служила наблюдательным командным пунктом. Здесь сосредоточилась наша главная огневая мощь — так удачно приобретенный вахмистром пулемет Максима.
Вторая служила аванпостом, там командовал ротмистр. У размещенных за каменными брустверами солдат был приказ пропустить караван, а затем атаковать британцев с тыла. Правый фланг отсутствовал — дорога ограничивалась обрывом глубокого ущелья, а слева, на скальных уступах, расположились воины кампа. Половина — вооружена луками. Туземцами командовал Тенцинг.
К моему удивлению, здесь же находились пришедшие из окрестных монастырей многочисленные монахи. Как пояснил Тенцинг, их вера запрещает брать в руки оружие, но верховные ламы велели спасти и доставить за монастырские стены уцелевшие во время боя святыни.
Едва отряд успел закончить приготовления, как на дороге показался авангард британского каравана. Вначале действия наши были вполне успешными — применив военную хитрость, мы смогли внести смятение в передовую часть британского отряда. Вдоль дороги Малоземов разложил привезенные из Китая петарды и шутихи, соединенные бикфордовым шнуром. Громкие разрывы и снопы искр не могли, конечно, нанести серьезного урона противнику, но изрядно напугали английских лошадей. На дороге началась сумятица, движение каравана замедлилось, и пытающиеся справиться с взбесившимися конями всадники стали удобными мишенями для моих солдат и воинов кампа.
По прошествии десяти минут судьба британского авангарда численностью сорок сабель была решена. Но в дальнейшем ходе сражения успех сопутствовал, увы, нашим противникам.
Не знакомые с воинской дисциплиной, кампа оставили свои позиции и вместе с монахами устремились вниз на дорогу, создав там еще большую сумятицу. Главные силы англичан под командованием полковника Янгхасбенда, спешившись, вступили в бой. Я рассчитывал, что эти, наиболее боеспособные силы противника, удастся отрезать от каравана, скатив сверху на дорогу огромный валун. Но, видимо, группу монахов, которой это поручалось, уничтожили огнем британцы.
В очень тяжелом положении оказался ротмистр Муравьев, который с восьмерыми солдатами противостоял натиску главных сил англичан. Я отправил вестового к Тенцингу с приказом как можно скорее переводить запряженные яками повозки по подвесному мосту на другую сторону ущелья. А сам наблюдал в бинокль за маневрами британского арьергарда, пытаясь найти выход из безвыходного положения, в которое попал мой отряд.
В довершение наших неудач я обнаружил, что британцы доставили сюда из Лхасы пушку. Сейчас они вытягивали ее на огневую позицию, с которой простреливались верхняя часть дороги и мост. Я приказал Малоземову перенести пулеметный огонь на орудийный расчет, и это умерило пыл английских артиллеристов.
На простреливаемой дороге к этому моменту уже началось движение, и одна за другой влекомые яками двухколесные повозки проходили через мост. Тенцинг сумел силами туземцев создать заслон из нескольких опрокинутых повозок — из-за этой импровизированной баррикады воины-кампа обстреливали наступающих англичан. Но силы были явно не равны.
Первым на шквальный огонь британских ружей и пулеметов прекратил отвечать отряд Муравьева — очевидно, все защитники этого «редута» погибли или получили тяжелые ранения. Затем орудийным огнем разрушили баррикаду. К этому моменту опустели пулеметные цинки, и мы с вахмистром, примкнув штыки, приготовились к нашему последнему бою.
Взглянув в бинокль на наступающих британских солдат, я заметил у орудия Рейли — он жестом указывал артиллеристам на нашу огневую точку. Мне даже почудилось, что я разглядел на его остроносом лице хищную улыбку. Прогремел пушечный выстрел, и яркое горное солнце померкло…
Дальнейший ход событий удалось восстановить значительно позже, по рассказам спасшего мне жизнь Григория Малоземова. Выстрел английской пушки оказался точным — наше последнее укрепление перестало существовать. Я получил контузию и раны шрапнелью в грудь. Вахмистр не стал терять времени — с помощью двух кампа он перенес мое безжизненное тело на дорогу и уложил в одну из повозок, сняв с нее часть ящиков с сокровищами Поталы. Погоняя неторопливых яков, он успел переправить меня на противоположный берег, а когда британцы, сломив сопротивление воинов Тенцинга, приблизились к мосту — он уничтожил переправу. Монахи проводили его до монастыря Ташилунпо.
Когда повозка въехала в монастырские ворота, жизнь во мне едва теплилась. Искусные врачеватели-ламы прикладывали все силы для моего спасения, но раны оказались столь тяжелы, что несколько дней я пребывал на грани жизни и смерти. Все это время верный Григорий не отходил от меня ни на шаг. С ним в монастырь пришли двое солдат — все, что осталось от нашего отряда.
Как выяснилось позже, геройская смерть моих товарищей оказалась не напрасной — большую часть сокровищ удалось у британцев отбить. Ящики, находившиеся на повозке, которой меня доставили в монастырь, рачительный Малоземов перенес в отведенное для нас помещение. В одну из бессонных ночей у моего одра, он, чтобы прогнать дрему, заглянул в них. То, что он там обнаружил, совершенно потрясло его. Но еще большим потрясением стало последовавшее после этой ночи стремительное улучшение моего состояния. Не надеявшиеся на выздоровление ламы поразились этому ничуть не меньше — они говорили о карме, небесной энергии и божественном промысле.
Через неделю — я все еще не приходил в сознание — Малоземову пришлось заняться срочной эвакуацией и со всей возможной поспешностью покинуть монастырь. Британцы восстановили мост, и солдаты колониального корпуса ворвались в буддийскую святыню. Но часом раньше небольшой отряд — вахмистр с двумя уцелевшими драгунами и повозка с моим безжизненным телом — в сопровождении проводника скрылся тайной горной тропой.
Минуло пятнадцать дней после сражения, и сознание вернулось ко мне. В тот момент отряд уже покидал горную страну Кам. На ночном привале я проснулся в своей палатке оттого, что стоящий рядом с кроватью Малоземов производил какие-то непонятные действия. И вдруг где-то в глубине сознания отчетливо раздался голос, и, постепенно я осознал, что слышу. На расспросы вахмистр отвечал только, что это внутреннее повествование — одно из удивительных свойств уникальной реликвии, которую он захватил с собой, случайно приметив, сколь благотворное воздействие она оказывает на состояние моего здоровья.
По прошествии еще одной недели я уже мог сесть в седло и надеялся, добравшись до Пекина, найти способ побывать в Утае, чтобы вернуть реликвию его святейшеству Далай-ламе.
Но судьба распорядилась иначе. После двухнедельного пребывания под гостеприимным кровом русской миссии мне — через военного атташе полковника Корнилова — передали приказ от «Феди». Надлежало, прервав составление отчета, отправиться — уже, слава богу, по железной дороге — в порт Владивосток, а оттуда — в Японию.
Тогда же на мой запрос об агенте британской разведке Рейли пришел весьма подробный ответ. Настоящее имя этого уроженца Одессы было Зигмунд Георгиевич Розенблюм. Сбежав юношей из родного дома, он много странствовал и добрался даже до Южной Америки. Позже он женился на британской подданной — ее богатый муж погиб при загадочных обстоятельствах. Рейли поселился в Англии и стал агентом Интеллидженс сервис. Он считался одним из самых успешных шпионов королевства и сыграл большую роль в получении Британией концессий на разработку персидских нефтяных месторождений. В поле зрения русской контрразведки он попал в Порт-Артуре, где появился в 1903 году как совладелец коммерческой фирмы «Грюнберг и Рейли». Будучи весьма обаятельным мужчиной, он сумел завязать более чем дружеские отношения с женами нескольких русских штабных офицеров и с их помощью получил возможность скопировать чертежи всех фортификационных сооружений Порт-Артура. Позже эти чертежи оказались у японцев, что позволило им взять основательно защищенную крепость — видимо, Рейли продал полученную секретную информацию.
Кстати, по сводкам жандармского управления, буквально накануне нашей войны с японцами Рейли несколько раз наведывался во Владивосток. Здесь его знали как совладельца лесоторговой компании. Двухэтажный особняк, который она занимала, выходил окнами прямо на Транссибирскую магистраль. Таким образом, пропускная способность единственной артерии, связывающей сердце империи с ее дальневосточным форпостом, высчитывалась предельно просто. Однако достаточных поводов к задержанию Рейли у контршпионского ведомства не возникло.
Но гораздо сильнее меня огорчило отсутствие известий о месте пребывания Екатерины Михайловны Фольбаум. Я узнал только, что в прошлом году генерал-лейтенант Фольбаум скончался. После его смерти дочери покинули город Верный, и куда пролег их путь — оставалось для меня мучительной загадкой…
Август 200… г., Санкт-Петербург
Когда Николай в начале второго — бесконечная привычка опаздывать всегда и всюду — вошел в уютный зальчик «Роуз Паб» на Фурштатской, Андрей Богданенко, одноклассник и афганский однополчанин, его уже ждал.
Он поднялся навстречу из-за уединенного столика в углу — спиной к стене, лицом к залу.
«Профессия — вторая натура», — усмехнулся Николай.
Выглядел Дюня, как его звали в 10-м «Е» республиканской физматшколы, прекрасно. По-прежнему хорош собой: жгучий брюнет с карими глазами и правильными, тонкими чертами худощавого лица — удачное смешение украинской и татарской кровей.
Дюня сохранил стройность. Юношеская худощавость и гибкость сочетались с широкими плечами и мощными мышцами тренированного атлета. Легкая изморозь седины на висках завершала картину уверенного, знающего себе цену успешного мужчины средних лет.
Темно-серый костюм, светло-голубая сорочка и галстук (слишком консервативный, чтобы быть недорогим) — не Дюня, а просто воплощенная мечта романтических читательниц дамских романов.
Обошлись без объятий, лишь крепко стиснули в рукопожатии ладони. Дюня широко улыбнулся, демонстрируя отличные зубы:
— Сколько лет, сколько зим, БЭС!.. — Он вспомнил школьную кличку Николая. Так Полуверцева прозвал ближайший друг Серега, постоянно поражавшийся широкой Колькиной эрудиции. Отсюда и кличка: БЭС — Большой энциклопедический словарь.
— Привет, Дюня, — в тон ему ответил Николай, — значит, все же помнишь 10-й «Е»? Прекрасно выглядишь, настоящий полковник. Или?.. — поинтересовался он.
— Или. — Дюня, с плохо скрытым удовлетворением, пояснил: — Недавно получил генерала — я ведь боевой офицер, это имеет значение. А 10-й «Е» как не помнить — чудесное время.
«Ни фига себе, — подумал Николай. — Генерал-майор ФСБ — это ведь очень крупная шишка. Как это он согласился мне помочь?»
А Дюня высоким и ломким голосом, почти не изменившимся со школьной поры, продолжал интересоваться:
— Ну, как поживают дорогие одноклассники, встречаетесь небось?
«Да, голос прежний. Как в Алма-Ате двадцать пять лет назад или в Герате — в восемьдесят пятом, а вот глаза другие — эфэсбэшные, недоверчивые, холодные и оценивающие. Настоящий, мать твою, генерал».
Николай коротко рассказал о последних встречах одноклассников.
Дружный и талантливый 10-й «Е» разбросало по всему свету. Большая часть одноклассников жила в бывшем СССР, но были «наши люди» и в Израиле, и в Штатах, и в Канаде, а один умудрился даже попасть в Новую Зеландию.
Расстояния и время, конечно, сказывались, но при малейшей возможности одноклассники старались собираться. Вот как раз этим летом встречались в Москве, отмечали двадцатипятилетие выпуска в новой большой квартире преуспевающей бизнесменши Таньки Гиш.
Дюня мечтательно усмехнулся:
— Помнишь, как Танька объясняла написание своей фамилии новому учителю географии? Старичок был глуховат и никак не мог расслышать странное для советского уха сочетание букв. И тогда Танька транскрибировала: «Г и Ш» без мягкого знака». Да, Танька, Танька, — героиня первых юношеских эротических фантазий. Богиня поллюций!.. Она уже в восьмом классе была вполне оформившейся сексапилочкой. Правда, сама об этом, похоже, не подозревала… С тебя бутылка, — резко сменил он тему, — заказывай.
— Не вопрос. Только, знаешь, на работе я обычно не пью.
— Не переживай, БЭС. Хочешь, позвоню твоему начальству?..
— Обойдемся как-нибудь, — буркнул Николай и направился к стойке.
Обнаружив в карте среди умопомрачительно дорогих «Хенесси» и «Мартелей» скромного «Медного всадника», он попросил принести бутылку и нарезать несколько яблок, с сожалением подумав о том, что в магазине все это стоило бы в три раза дешевле.
Через пару минут хорошенькая официантка принесла заказ. Судя по тому, что дополнительно присутствовал нарезанный тонкими ломтиками лимон, посыпанный сверху сахаром и кофе, Николай понял, что администрация заведения хорошо осведомлена о вкусах Дюни. Тот в качестве коньячной закуски признавал лишь «николаевские» лимончики.
Предупредительная девочка, открыв бутылку, разлила коньяк.
— Ну, давай. — Дюня слегка прикоснулся краем своего бокала к Колькиному. — Со свиданьицем!.. Рад, что все же помнишь меня.
«Тебя забудешь, как же…» — подумал Николай.
Коньяк оказался неплохим. Правда, довольно жестким.
Дюня отправил в рот ломтик лимона и тут же плеснул в бокалы следующую порцию:
— Вторую — молча.
Они выпили не чокаясь.
«Интересно, помнишь ли ты, Дюня, загубленных тобой ребят?»
Они вместе воевали «за речкой», только Николай — рядовым стрелком пограничной мотоманевренной группы, а Дюня — лейтенантом, только что окончившим Высшую школу КГБ, стажером элитного «Каскада». Он любил участвовать в боевых выходах и при этом нередко выполнял обязанности командира группы, в которой служил Николай. Оказался Богданенко не самым плохим командиром, попадались и хуже, но чересчур жестоким и честолюбивым. Для Дюни всегда главным было — доложить об успешно проведенной операции. И ради этого он не жалел никого. Правда, надо отдать ему должное, и себя тоже.
В одном из рейдов в окрестностях Герата они наткнулись на группу душманов человек из десяти. Завязался бой, и «духи», отстреливаясь и скрываясь за невысокими дувалами, разгораживающими большой полузаброшенный виноградник, отступали, а затем — попрятались в кяризах.[15]
В километре от места боя располагался крупный кишлак. Моджахеды наверняка уходили туда. Дюня не стал вызывать подкрепление. Он решил уничтожить «духов» самостоятельно. Боевая группа — двадцать солдат и сержантов, большинству из которых не было еще и двадцати лет, — двинулась по винограднику к кишлаку, рассчитывая перехватить «духов», когда те полезут из-под земли. Два БТР прикрывали их со стороны дороги.
На подходе к кишлаку они попали в засаду. Скорее всего, моджахеды специально отправили небольшую группу, чтобы заманить их в капкан. Не исключено, что главной целью являлся Дюня — за взятого живьем офицера «Каскада» американские советники сулили 100 тысяч долларов. Для афганца — неслыханные, запредельные деньги.
Первый БТР подорвался на фугасе. Сплющенный мощным взрывом, как консервная банка, он опрокинулся в кювет. Николая, ехавшего на броне второго БТР, контузило взрывной волной.
А потом настал ад…
Группу накрыли плотным минометным огнем. Контузия спасла Николаю жизнь. Он слетел с брони и упал по счастливой случайности за одним из дувалов, который прикрыл его от осколков. Вой мин, тяжелый характерный стук АГС — откуда у этих сук АГС?! — дикие стоны раненых — все это обрушилось разом в тот момент, когда после взрыва к нему вернулся слух.
А вот ответных выстрелов он не слышал. Обернувшись к дороге, он увидел объятый пламенем свой БТР и черную куклу, наполовину свисающую из люка, — механик-водитель Юрка Мизин, из деревни Ивня Белгородской области, страшно гордившийся своей золотой фиксой и тем, что служит, как когда-то его батя и старший братан, в погранвойсках.
В принципе, все они гордились тогда своими зелеными погонами, насмешливо называя ровесников из пехоты «шурупами». Но в письмах родным и близким сообщать о своей службе в войсках КГБ строго запрещалось — за этим следил особист. Официально признавалось, что в Афганистане героически выполняет интернациональный долг только Советская Армия…
Николай пополз вдоль дувала туда, где находились остатки группы. За одним из поворотов грубо слепленного саманного забора он наткнулся на Дюню. Тот лежал рядом с мертвым радистом.
Дюня был без сознания — осколочные ранения в ногу. Ошметки его офицерской «эксперименталки» — так называли тогда новую полевую форму — насквозь пропитались кровью.
Раздался последний, мощный взрыв — это огонь добрался до боекомплекта БТР, а потом наступила тишина…
Николай осторожно выглянул из-за дувала. Здешняя, небогатая, каменистая земля изрыта оспинами минометных разрывов. Останки группы безжалостно перемешало с убитой виноградной лозой. Как всегда, очень громко, после того, как смолкала какофония боя, прозвучал в тишине человеческий голос — гортанная команда.
Николай услышал, как бряцает оружие перелезающих через кишлачные заборы «духов». Дюня по-прежнему находился «в отключке». Осторожно пятясь на коленях, Николай стал тянуть лейтенанта к ближайшему лазу кяриза. Дувал прикрывал перемещения. Пот застилал глаза, голова гудела от контузии, ладони и колени изодраны мелкими камнями в клочья, но Николай упрямо волок Дюню к чернеющему в винограднике лазу и каждое мгновение ожидал автоматной очереди…
Но он смог, он дополз, раздвинул перевитые плети винограда — эта часть не обработана, наверное, хозяин погиб — и с трудом запихнул Дюню в лаз и протиснулся сам.
Они оказались в неглубокой норе. Дюня от боли пришел в себя и застонал. Николай зажал ему рот перепачканной землей и кровью ладонью. Вытащил из специального кармана самопального «лифчика» для автоматных магазинов кусок оранжевого резинового шланга и перетянул Дюне ногу у самого паха, чтобы приостановить кровотечение.
Дюня сквозь зубы матерился от боли. Из его офицерской аптечки Николай извлек шприц с промедолом и вколол обезболивающее в развороченное бедро. Лейтенант через пару минут затих — похоже, опять отключился.
Николай внимательно прислушивался к тому, что происходит наверху. Достал из кармана «хэбэшки» гранату, ввернул взрыватель и запихнул ее за «лифчик» — попадать в плен живым нельзя. Не раз приходилось видеть подброшенные душманами истерзанные обрубки солдатских тел. Например, с отрезанным и забитым в рот членом…
Нора была очень тесной, с расходящимися в разные стороны узкими ходами. Развернуться толком не получалось.
Зубами он разорвал прорезиненную оболочку индивидуального пакета и, как мог, перевязал Дюне ногу, всю — от бедра и до голени — иссеченную осколками. Некоторые застряли в кости. Закончив, Николай свалился рядом с прерывисто и тяжело дышащим Дюней. Оставалось только ждать, когда до них доберутся душманы. В том, что это вскоре случится, Николай не сомневался. Ползти по кяризу с раненым Дюней он не мог — слишком тесно. А мысль о том, чтобы уйти одному, — даже не появилась.
Бесконечно тянулись минуты — время от времени Николай приподнимал голову, прислушиваясь. Иногда издали доносилась перекличка афганцев. В промежутках он вспоминал дом, жену, которой вчера отправил письмо с традиционными здесь словами о скуке и полнейшем отсутствии опасности в его солдатской службе. Особенно остро — сжалось сердце — вспомнилась кроха-дочь, он не видел ее уже больше года. А еще думал о том, зачем он вытащил Дюню, зачем он пытается спасти того, по чьей вине погибли сегодня девятнадцать человек — молодых, ничего толком не успевших. Разве что убить нескольких афганцев на этой никому не нужной войне.
Неподалеку прогремела автоматная очередь, потом загалдели «духи». Сюда, под землю, звуки доходили как через вату — глухо и неясно.
— Что ж ты, гад, наделал!.. — яростно шептал Николай. Но добить беспомощного Дюню он не мог.
Минут через двадцать «духи» обнаружили их следы — полосы свежей крови на каменистой дорожке, по которой Николай тащил Дюню. Они весело загалдели — все ближе и ближе.
Николай поудобнее устроил автомат — направил ствол на светлое пятно лаза, удерживая его правой рукой. Указательный палец левой продел в кольцо предохранительной чеки гранаты. В эти, как он считал, последние минуты жизни ему было бездумно и досадно.
Приближающиеся к лазу «духи» неожиданно затихли, потом вновь залопотали, и в этой небольшой паузе Николай расслышал надвигающийся гул, постепенно нараставший и, наконец, превратившийся в вязкий вой.
Содрогнулась земля — с неукрепленного свода посыпались комья и мелкие камни. Пара штурмовиков Су-25 уничтожила ракетным залпом кишлак. Видимо, Дюня все-таки успел сообщить о засаде.
«Грачи» сделали еще один заход — и старый кяриз не выдержал, свод рухнул. Лаз завалило обломками ссохшейся, твердой, как камень, глины. С трудом Николаю удалось выбраться из импровизированного могильника.
Когда, грязный и ободранный, он, отплевываясь, смог оглядеться — все уже было кончено. Пара «сушек» уходила на северо-восток, а на месте кишлака дымились руины… Чудом уцелевшая башня минарета медленно, как в киношном рапиде, накренилась и рухнула, подняв высокий столб пыли. А с дороги доносился божественной музыкой рев моторов БМП — наши пришли.
Позже, когда Дюню грузили в транспортную «вертушку», он потянулся с носилок к Николаю и чуть слышно прохрипел, с трудом разлепляя покрытые кровавой коркой губы:
— Я твой должник, БЭС. Не забуду.
Из госпиталя лейтенант уже не вернулся. Через пару месяцев, как раз под дембель, Николаю торжественно, перед строем, вручили орден Красной Звезды — за спасенного в бою офицера. Вернувшись домой, он убрал орден в темно-бордовую коробку и ни разу его не доставал. С Дюней, до сегодняшнего дня, он не общался.
— Ну, давай по третьей да поговорим о деле. — Дюня все так же открыто и дружески улыбался, но глаза его оставались цепкими. — Много времени уделить тебе не смогу — извини, у нас хлопотно после переполоха в Смольном, — добавил он, имея в виду убийство вице-губернатора.
— Задержали супостата?.. — поинтересовался Николай, не скрывая иронии.
Дюня предпочел на вопрос не отвечать.
— Мне тут по твоей просьбе подготовили справочку. — Он достал из папки листок, но Николаю его не отдал. — Интересный ты задал вопрос. Не расскажешь по старой дружбе, зачем тебе вдруг понадобился этот литовец?..
— Извини, это не мой секрет, но уверяю тебя — ничего противозаконного.
— Как известно, закон, он ведь, как дышло — как бы чего не вышло. Не ровен час — не заметишь, как сам себе создашь большие проблемы. Считай это моим предостережением. Ну что ж… Гядиминас Миндаугас, родился в 1914 году в Вильно, дворянин, из семьи крупного землевладельца, так… учился и прочее — это вряд ли интересно. Ага, вот — при аннексии Прибалтики бежал в Финляндию и воевал с советскими войсками в рядах финской армии. Войну заканчивал начальником личной охраны маршала Маннергейма. После выхода Финляндии из гитлеровской коалиции воевать с немцами не стал. Нелегально вернулся в Литву и вплоть до 1950 года весьма успешно партизанил. Командовал крупным отрядом «лесных братьев». После проведения широкомасштабной операции, когда основные силы националистов уничтожили, ухитрился бежать и вскоре объявился в Западном Берлине. Считался одним из активнейших врагов советской власти в Прибалтике. Сотрудничал с ЦРУ, МИ-6, работал на радио «Свобода», и все такое… Умер три года назад в дорогой швейцарской богадельне. Самое интересное — дальше. В Литве у него оставалась семья — мать, жена и маленький сын. После того как он подался в партизаны, семью сослали в Сибирь. Мать скончалась еще по дороге, а жена и ребенок выжили. В конце пятидесятых после амнистии, выйдя из лагеря, она разыскала сына, определенного в детский дом. Из Сибири они не уехали и до сих пор живут в Красноярске. Сибирские коллеги за ними приглядывали, но связей с заграничным папашей не обнаружили. Там же, в Красноярске, родился и внук Гядиминаса — в 1964 году. И вот тут совсем интересно… Паренек, а звали его Станислав Мажюлис — это девичья фамилия его бабушки, — мастер спорта по биатлону. После окончания школы поступать никуда не стал, и в 1982 призван в армию. Попал в десант, в капчагайскую ДШБ. Оттуда — «за речку», в Мазари-Шариф, снайпером в разведроту. В тех местах, если помнишь, всегда было неспокойно — рядом пакистанская граница, а вокруг «непримиримые» пуштунские племена. В общем, служба там медом не казалась — каждый день война. И вот в одном из рейдов — а он к тому времени — сержант, уже полтора года отслужил, — взвод наткнулся на душманского курьера-казначея, который вез из Пакистана Хекматияру доллары в переметных сумках. И этот гаденыш-сержант перестрелял весь свой взвод и ушел с деньгами к «духам». Выяснилось это не сразу, только через пару лет, когда он с благословения американских инструкторов уже вовсю воевал в Афгане на стороне моджахедов. Появлялся он, кстати, и под Гератом — может быть, и нам с тобой довелось против него повоевать. Помнишь, слухи ходили о каком-то фантастическом душманском снайпере?.. Хотя вряд ли — он был на особом счету и выполнял спецзадания. Целиком его героический путь нам не известен, но с конца восьмидесятых он периодически оказывался причастным к громким заказным убийствам в разных частях света. В том числе, кстати, и в Петербурге. Есть оперативная информация, что именно он пять лет назад расстрелял машину вице-губернатора на Невском. Бывшие хозяева-американцы уже несколько лет как объявили за его голову солидную награду. В СССР за афганские подвиги он был награжден двумя медалями и, заочно, приговорен к высшей мере. Это вот последняя из имеющихся в досье фотографий, — Он протянул Николаю небольшой снимок. — Но рассчитывать на нее не стоит. Известно, что Монгрел — по-русски «ублюдок» — такую веселенькую кличку придумали ему цээрушники — делал себе пластику. При этом он весьма умело изменяет внешний облик.
На небольшом черно-белом снимке, сделанном, видимо, для документов, запечатлен шатен с худощавым, абсолютно не примечательным лицом.
— Тут, скорее, нужно ориентироваться на другие данные, — продолжал Дюня, забрав у Николая фотографию. — На те, которые не так просто изменить. Рост — сто восемьдесят шесть, телосложение плотное, отлично развит физически, двурукий — одинаково хорошо способен использовать и левую и правую. Особых примет вроде родинок, шрамов и кольца в носу не имеет. Есть, правда, одна устойчивая привычка — очень любит леденцы. Ну как, похож? — неожиданно спросил Дюня, внимательно наблюдая за реакцией Николая.
— На кого? — самым невинным тоном поинтересовался тот.
— Ну, зачем-то тебе эти данные понадобились, верно?
— Ладно, Дюня. Спасибо за помощь. Пойду я, а то на работе небось уже с собаками разыскивают.
— Ну давай тогда по последней, — Так и не отдав Николаю досье, аккуратно убрал его назад в папку и разлил по бокалам остатки коньяка, — Давай за удачу! — предложил он и, кивнув на забинтованную голову Николая, предупредил: — Будь осторожнее: этот внучок партизана — очень опасная личность. Ну, а если помощь понадобится — звони, я свои долги помню.
Они попрощались, и Николай заспешил к метро. Вслед за ним бар покинула юная любовная парочка. Дюня набрал номер и распорядился:
— Скажи ребятам, чтоб были поосторожнее и близко не лезли. Если рядом с ним действительно ошивается Монгрел — он твоих в момент срисует. И еще: все телефоны Полуверцева — на круглосуточную прослушку. Докладывать лично мне. Конец связи.
Август 200… г., Санкт-Петербург
…Да, не бывает в этой жизни, чтобы все получалось как надо. А если все же получается — значит, ситуация кем-то умело организована.
Он это понял уже давно. Поэтому, когда письма оказались у него, Монгрел специально перепроверился — не торчат ли где-нибудь нити, ведущие вверх, к умелой руке кукловода.
Обнаружить ничего не удалось, а тут и сообщение пришло, разрушившее иллюзию успеха. Вот он, на экране лэп-топа — текст письма из Берлина. Старик-криптолог сообщает, что присланные документы не содержат единого ключа, который бы позволил расшифровать тайный код Маннергейма.
Вот так — столько возни с этими письмами, а результата нет. Значит, не прав был старый маразматик, его покойный дед Гядиминас Миндаугас. Трех писем оказывается недостаточно. Видимо, этот упрямый финн Раппала перед смертью все-таки успел шепнуть своей русской внучке что-то важное.
Конечно, нельзя исключить того, что задача с поиском клада Маннергейма не имеет решения. Но этот вариант Монгрел принимать в расчет не хотел.
Итак, девице кое-что известно, но что именно — он пока не знает. Самый короткий путь — правильно ее расспросить. Но короткий — не значит лучший. Необходимо обойтись без дополнительного шума — убийство вице-губернатора и так уже подняло сильную волну в затхлом болоте неповоротливых и коррумпированных российских спецслужб. Кто знает, может, там отыщется кто-то, способный связать концы с концами — тогда на Монгрела откроется Большая Охота. Уйти он, конечно, сможет всегда, но какой ценой…
Поэтому беседу с Анной тет-а-тет придется отложить на крайний случай. Сейчас нужно, оставаясь рядом, помочь ей в поисках.
Ну, и немного припугнуть, чтобы не затевала с ним детских игр в «прятки» и «догонялки».
Май 1911 г., Санкт-Петербург
События моего азиатского путешествия три года спустя вновь неожиданно ярко напомнили о себе. В феврале 1911 года я вступил в командование лейб-гвардии Уланским Его Величества полком, тогда же мне присвоили воинское звание генерал-майора свиты. Полк дислоцировался в Варшаве, в районе чудесного старинного парка Лазенки. Это была одна из лучших кавалерийских частей российской гвардии, но она не имела опыта боевых действий.
Я с огромным воодушевлением приступил к тактическому обучению эскадронов полка, используя уроки японской кампании. Все дни заполняла напряженная работа, вечера же были отданы насыщенной светской жизни, по которой я за годы войны и путешествий изрядно соскучился.
Варшавский высший свет ничем не уступал петербургскому. Это сказывалось прежде всего на финансовых делах — все мои деньги уходили на лошадей и красивых женщин. Очаровательные польские дамы дарили меня своим вниманием, и — увы, живой человек, в особенности мужчина, несовершенен — я тоже был увлечен ими, продолжая хранить в своем сердце образ бесследно исчезнувшей Екатерины.
Но, не менее любовных искушений, занимала меня уникальная реликвия, вывезенная из Тибета, — увы, здесь мои поиски не увенчались успехом. Ни книги беллетриста г-на Сенкевича, среди которых особое впечатление произвели романы «Камо грядеши?» и «Крестоносцы», ни эссе последователей весьма модного эзотерического учения г-жи Блаватской, ни беседы с профессорами истории ни дали ни малейшего ответа на вопрос, что вывезли мы с Григорием из Тибета и с тех пор бережно сохраняли.
В начале мая я отправился в Петербург, в Генеральный штаб, где проводилась военная игра, цель которой — познакомить высшее командование российской армии с применением аэропланов для бомбометания, разведки, фотографирования и иных боевых задач на сухопутных и морских театрах.
В прошлом году по Высочайшему приказу Е.И.В. создана Императорская Российская воздухоплавательная служба под командованием Великого князя Александра Михайловича Романова. Он возглавил эти учения в Генеральном штабе. Великий князь говорил, что текущий момент в истории воздухоплавании в высшей степени интересен тем, что аэроплан впервые выступил не как аппарат для забавных опытов или спорта, чем оставался до сей поры, но как средство передвижения и машина, полезная в различных отраслях жизни и деятельности человека. Современный аэроплан больше уже не игрушка, но могучее и всегда готовое, несмотря на погоду, оружие связи, разведки и даже боя. Для современного военного дела он так же необходим, как и пехота, кавалерия и артиллерия.
Для целей практического ознакомления с достижениями отечественной авиации и воздухоплавания выбрана проходившая в эти дни в Петербурге Вторая международная авиационная неделя. В программе предусмотрены полеты аэропланов, дирижаблей, свободных аэростатов, воздушных змеев и даже прыжки с парашютом. Необычное событие привлекло множество зрителей. Как сообщала читателям газета «Новое время», на открытии праздника присутствовало не менее 175 тысяч публики.
Состязания авиаторов имели преимущественно спортивный характер. Демонстрировались полеты и на меткость попадания в цель снарядом с высоты не менее ста метров, и на точность посадки, а также разведка, преследование воздушного шара и полет для связи. В качестве снарядов использовались бумажные пакеты с мелом. Посадку требовалось произвести в очерченный на поле аэродрома контур. Победителем в меткости бомбометания оказался авиатор г-н Ефимов, продемонстрировавший и наилучшую точность посадки.
Проходили соревнования на Комендантском аэродроме, принадлежащем русскому товариществу воздухоплавания «Крылья». Эта петербургская окраина мне хорошо знакома — неподалеку располагались железнодорожная станция Скачки и Коломяжский ипподром, где не раз, будучи юнкером, и позже — во время службы в Кавалергардском полку — я принимал участие в состязаниях и завоевывал призы.
Тогда на Комендантском поле были лишь бедные огороды жителей Петроградской стороны. Сейчас же периметр занимали ангары, а все пространство вокруг заполняла любопытствующая публика. Из пестрой толпы выделялись подчеркнуто мужественные авиаторы в непременных светлых кепи и сосредоточенные механики в котелках. Об опасности их увлекательного занятия красноречиво свидетельствовала скромная мраморная плита с надписью: «На сем месте пал жертвою долга 24 сентября 1910 года, совершая полет на аэроплане "Фармана" Корпуса корабельных инженеров флота капитан Лев Макарович Мациевич. Памятник сей сооружен Высочайше учрежденным Особым комитетом по усилению флота на добровольные пожертвования, членом которого состоял погибший».
Восторженный прием у публики вызвал полет на биплане «Фарман» г-жи Мациевич, вдовы погибшего авиатора, которая, несмотря на трагическую смерть мужа, решила сделаться первой российской воздухоплавательницей.
Один из организаторов недели, г-н Суворин, сын известного русского издателя, владельца «Нового времени», любезно давал нам пояснения о происходящем. Он продемонстрировал первый аэроплан, на котором установлен пулемет. С особым воодушевлением рассказывал и о предстоящем нынешним летом групповом перелете Санкт-Петербург — Москва. По его словам, любой желающий по завершении двухдневных занятий вполне может управлять аэропланом.
В завершение своей небольшой лекции он предложил нам совершить увлекательную воздушную прогулку. Ко мне он обратился особо:
— Господин барон, позвольте передать вам личное приглашение одного из директоров нашего общества «Крылья». Если вы соизволите его принять, прошу пройти за мной — аэроплан уже подготовлен, и пилот ожидает.
Меня это предложение несколько удивило, но желание подняться в воздух и испытать новые необыкновенные ощущения оказалось настолько сильным, что я не раздумывая согласился.
Суворин проводил меня к биплану «Фарман», полотно крыльев которого сверкало сверим лаком. Аэроплан развернули к центру поля. Авиатор уже занял место в открытой кабине, расположенной впереди, перед крыльями и мотором. Наряд пилота — кожаный реглан и шлем, лицо скрывают большие выпуклые очки. Механик помог мне взобраться в миниатюрное кресло, в котором я при моем высоком росте поместился с большим трудом, и, забрав у меня фуражку, дал взамен такие же, как у пилота, кожаный шлем и очки.
— Сильный ветер, ваше превосходительство, — пояснил он.
Подождав, пока я пристегну страховочные ремни, он провернул пару раз винт, и мотор завелся. Вишневые лопасти слились в сияющий прозрачный круг. Машина, раскачиваясь на неровностях поля, устремилась вперед.
Еще мгновение — и мы отрываемся от земли и постепенно начинаем подниматься все выше и выше.
Я быстро привык к треску двигателя за спиной и целиком отдался наслаждению ощущением свободного полета. Впереди и далеко внизу я видел сверкавший на солнце острой иглой шпиль Петропавловского собора, а на другом берегу Невы — облитый солнечным сиянием и возвышавшийся над прочими зданиями огромный купол Исаакия.
Аэроплан резко накренился, я посмотрел на пилота — он с усилием тянул рычаг управления рулями, разворачивая машину. Теперь мы летели к заливу. Разглядев полукольцо песчаной косы, миниатюрные домики, какую-то фабрику, крошечную мачту железнодорожного пути, я спросил у молчаливого авиатора, перекрикивая гул мотора:
— Что это там, вдали?
— Сестрорецк! — прокричал он в ответ.
Сильным порывом ветра аэроплан вновь накренило — пилоту с трудом удалось его выровнять, но нас по-прежнему тянуло к заливу. Мы стремительно неслись к неприветливым серым холодным волнам со скоростью железнодорожного экспресса — шестьдесят верст в час.
Посмотрев вниз, я обнаружил, что под нами теперь только вода. Надежная суша осталась позади.
— Ну что, барон, испугались? — невежливо обратился ко мне авиатор и громко расхохотался.
Я взглянул на него и испытал удивление, куда большее, чем испуг, на который он рассчитывал. Авиатор поднял очки на лоб, видимо, для того, чтобы я мог его узнать. Рядом со мной в пилотском кресле сидел британский шпион Сидней Рейли.
— Я долго ожидал встречи с вами, барон! — тем временем с устрашающей гримасой продолжал он. — И вот час пробил! В Тибете вы похитили принадлежащую мне ценность и за это должны понести наказание.
Окончив эту высокопарную тираду, он извлек из ящика за своим креслом необычной формы ранец со множеством ремней и довольно ловко закинул его на спину.
— Знаете ли вы, что это? — торжествующе прокричал он, заглушив рев двигателя и свист ветра. — Новейшее изобретение — парашют. Сейчас я сделаю разворот и, когда мы вновь окажемся над сушей, покину аэроплан — мое падение затормозится шелковым куполом. А вы останетесь в машине, которой не умеете управлять, и неизбежно погибнете!
Я извлек из кармана шинели небольшой браунинг, привычку не расставаться с которым приобрел еще на войне, и спокойно ответил:
— Мы погибнем оба, вы не успеете воспользоваться вашим парашютом — прежде я вас застрелю.
Судя по его изумленному виду, такого Рейли не ожидал. Некоторое время он сидел молча, мрачно о чем-то размышляя, и, наконец, обратился ко мне:
— Я надеюсь, господин барон, что вы не воспринимаете все произошедшее всерьез. Это всего лишь маленький забавный скетч, шутка. Но у меня есть для вас и серьезное предложение. Вы владеете удивительной ценностью, обладающей, поверьте мне, необыкновенной силой. Но не знаете, как этим пользоваться. В Тибете, три года назад, мне попался древний папирус, который я сохранил и сумел прочесть, — в нем раскрываются некоторые ее тайны. Почему бы нам не объединиться? Вместе мы сможем достичь необычайного могущества, поверьте — мы будем править миром!
Мотор аэроплана неожиданно странно чихнул, прервав свой привычный рев, на мгновение умолк и вновь заработал, но теперь с перебоями. Рейли побледнел, судорожно схватился за грушу нагнетателя в попытке выкачать хоть каплю керосина, но увы — нижний бак был пуст.
— Они забыли долить керосин! — в отчаянии закричал он. — Мы не сможем вернуться назад — топливо на исходе.
Меня давно уже заинтересовал черный угольный дым, поднимавшийся снизу прямо по нашему курсу.
Всмотревшись, я разглядел неясные очертания острова и понял, что это дымят корабли на кронштадтском рейде.
— Хватит ли у нас керосина, чтобы долететь до Кронштадта? — спросил я.
Встревоженный Рейли ответил:
— Не знаю, может быть. Горючего осталось минут на десять полета.
Он судорожно вцепился в рычаги управления и подавленно молчал, пока наш аэроплан, сжигая последние капли топлива, старательно пытался доставить нас к острову. Я думал о том, что если нам суждено благополучно сесть, то необходимо задержать Рейли и передать его офицерам контрразведки, видимо, давно мечтающим о встрече с этим шпионом.
В тот момент, когда мы уже ясно видели корабли на рейде, величественный Морской собор и другие здания города, двигатель нашего «Фармана» смолк окончательно. Но мы уже были над сушей. К счастью, неподалеку обнаружился плац, пригодный для посадки. Авиатор довольно ловко спланировал.
Когда, ударившись колесами о землю, аэроплан подпрыгнул и покатился по траве, Рейли быстро отстегнул страховочные ремни и прыгнул вниз. Неуправляемый биплан прокатился по плацу и зацепил крылом одно из растущих на краю деревьев. Раздался треск лопнувшей обшивки и хруст ломающейся рамы. Когда я, спустя несколько минут, смог самостоятельно выбраться из-под обломков самолета, Рейли успел скрыться.
Дальнейшие поиски в Петербурге ни к чему не привели — он бесследно исчез. В товариществе «Крылья», где он служил одним из директоров, сообщили, что вместе с Рейли из кассы пропали сто тысяч рублей, собранных по подписке на устройство группового перелета Петербург — Москва.
Невыясненным также осталось, каким образом этот разыскиваемый со времени падения Порт-Артура британский шпион мог так уверенно жить в столице империи под собственным именем. А для меня, видимо, навсегда останется загадкой — действительно ли Рейли обладал неким древним папирусом, раскрывающим тайны хранимой мной реликвии, или же его слова в поднебесье только попытка ловкого блефа в поисках выхода из безнадежной ситуации.
Неделю спустя, после завершения военной игры в Генеральном штабе, я вернулся в Варшаву.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Этот город всегда был равнодушен к судьбам своих жителей. Безумный морок царя Петра, навеянный гнилыми испарениями финских болот, он с одинаковым безразличием встречал их первый, младенческий, крик и провожал в последний путь. Но они, его временные обитатели, находили для себя разные поводы любить этого каменного монстра со свинцовым взглядом из-под гранитных век — ведь он — место их единственной, неповторимой жизни, которую никогда не прожить вновь.
Принадлежность к Петербургу создавала ощущение… не то чтобы избранности, но некоторой уникальности, добавляя маленький грузик на чашу весов самоуважения. Из этого странного чувства рождалось особое отношение ко всему петербургскому — к Эрмитажу, Пушкину, белым ночам и даже — к городским телевизионным новостям.
Петербургские выпуски смотрели внимательно и пристрастно. Не только «информзависимые» — те, для кого постоянное поглощение новой информации превратилось в манию, не только одинокие пенсионеры, компенсирующие телевизионным суррогатом недостаток событий в оскудевшей собственной жизни.
Смотрели и те, кто вполне четко осознавал — почти все, о чем рассказывают новости, не имеет ровно никакого отношения к маленьким заботам и радостям их реальной жизни. Смотрели просто потому, что этот бесконечный, давно всем наскучивший сериал был петербургским.
Вряд ли такие мысли занимали Маргариту Оганесян, ведущего редактора «Новостей». Скорее, ее мучил комплекс «кошачьей безысходности», вытекающий из закона Мэрфи: как только кошка уютно устроилась у вас на коленях, вам нужно срочно куда-то идти — к примеру, в ванную.
«Кошачий комплекс» проявлялся в те моменты, когда Марго, улучив свободную минуту, выбиралась из-за опостылевшего компьютера на лестничную площадку, чтобы покурить, прихлебывая давно остывший, невкусный растворимый кофе. Ей никогда не удавалось сделать это без помех…
Она прикурила сигарету и, разглядывая в окно мокрую улицу, подумала о том, как сейчас хорошо в маленьком домике в далекой псковской деревне… Изредка, выпросив дополнительный выходной у Шаховцева, ей удавалось туда выбираться. Ни тебе дурацких новостей, ни крикливых журналистов, а она — просто мама и жена — эти женские роли ей нравились больше всего на свете.
Но так уж вышло, что кормилец в семье — она, безмерно уставшая женщина «за сорок», у которой больной муж с не состоявшейся литературной судьбой и двое детей-школьников. И только ее приличная редакторская зарплата позволяла семье сносно существовать.
Конечно же, и в этот раз спокойно выкурить сигарету ей не дали!..
Внизу, на третьем, «новостийном», этаже раздался высокий голос ее подруги и помощницы — крохотной и всегда, несмотря на возраст — они ровесницы, — взволнованной, как милновский поросенок Пятачок, Лялечки Крикуновой. Не видя Маргариту, расчетливо укрывшуюся за выступом широкого лестничного пролета, она взывала ко всем проходящим:
— Где Оганесян? Кто-нибудь видел Марго Оганесян?..
Естественно, нашлись доброхоты, которые подсказали.
Марго вспомнила единственную известную ей, родившейся и всю жизнь прожившей в Петербурге, фразу на армянском языке, которую она слышала, когда ее в раннем детстве возили в Армению к дальним родственникам: «Инч э патахэл? — Что случилось?» Так к маленькой Марго, опрометью носившейся по старинному дому, строго обращался величественный седой старик, все время неподвижно сидящий в кресле с высокой прямой спинкой.
«И что там случилось, господи…» — раздраженно подумала она, одним глотком допивая кофе. Быстрыми, судорожными затяжками Марго докуривала сигарету, пока Крикунова возмущенно рассказывала ей, как капризничающий корреспондент Петя Петров — волоокий брюнет, старательно опекавший юных журналистов и любивший невзначай намекнуть на своеобразие своих сексуальных пристрастий, — намерен сорвать выход в прямой эфир с «флая».
До выпуска оставалось тридцать минут.
Лялечка уже тащила ее за руку в аппаратную «флая». Передвижная телевизионная станция, приобретенная петербургской дирекцией канала «Федерация», позволяла выходить в прямой эфир с места события.
Сегодня «флай» с утра отправили на открытие очередной пешеходной зоны в историческом центре Петербурга. В аппаратной на мониторах Маргарита наблюдала вымощенный новенькой плиткой двор, клумбы со свежевысаженными цветами, нарядные скамейки и даже временную выставку малой пластики: главную скульптуру — семидесятикилограммового бронзового кабана — в поисках лучшего места несколько часов возили туда-сюда на садовой тачке.
Посреди этого великолепия стоял возмущенный Петров и ругался со всеми сразу, требуя найти Оганесян.
— Да, Петр, я вас слушаю, — сказала она в микрофон.
— Марго, как хотите, — я отказываюсь выходить в эфир. Сами взгляните: все уже разошлись, дождь идет, ветер, я без зонта — весь промок. Как я буду выглядеть в кадре? Я наверняка уже простудился. Вот заболею и умру, будете тогда знать!..
— Ну зачем так трагично, Петр? — С непоколебимым спокойствием Оганесян принялась уговаривать продолжавшего нудеть Петрова.
Заключительное прямое включение из отремонтированного дворика, уже громко названного «петербургским Монмартром» — городские власти намеревались согнать туда с Невского постоянную тусовку уличных художников, — необходимо по логике дневных выпусков. Кроме того, не отличающийся скромностью Петров займет в эфире никак не меньше минуты, а это — при летнем дефиците новостей — совсем не лишнее.
На выходе из аппаратной ее перехватила Пикова. Легенда Ленинградского телевидения, которую когда-то побаивался, говорят, сам Александр Невзоров, была не в духе:
— Маргарита, вы в этом выпуске собираетесь давать сюжет Солнышкиной. А где корреспондент с написанным текстом — до эфира двадцать минут осталось?! Предупреждаю — как попало я клеить не буду!..
Оганесян сказала: «Сейчас, сейчас» — и устремилась в уголок, где с трагическим выражением на лице застыла над компьютерной клавиатурой корреспондент Мария Солнышкина. У трогательной, слегка наивной Марии любая, самая проходная и скучная съемка, вызывала массу эмоций, и она зачастую не успевала оформить их в виде текста.
— Все, Маша, ставьте точку. — Марго согнала с рабочего места что-то лепечущую корреспондентку и лихорадочно принялась править текст.
А вокруг уже царила обычная предвыпускная суета — несколько десятков человек говорили разом в тщетной надежде быть услышанными. Общий гул усиливало бормотание четырех висящих под потолком телевизоров — шли новости конкурентов. Нервный ритм задавали непрерывные телефонные трели — вот и ее трубка ожила.
— Доченька, сейчас разговаривать не могу, перезвоню после выпуска, — виновато сказала Маргарита.
А шум все нарастал, подбираясь к одному из своих дневных пиков. В момент крещендо он подчинил собственному сумасшедшему ритму всех «новостийщиков».
— Мне до сих пор не дали тексты видеорядов про пожар, инвестиции и изменение маршрутов! — перекрикивая всех, сообщила координатор эфира Полина. — И синхрона пожарного тоже до сих пор нет!..
— Забирайте текст пожара — он готов, сейчас отправлю на печать.
— Маша, распечатывайте текст и бегом в монтажку, к Пиковой.
— …А я вам в десятый раз повторяю — звоните в собственную жилконтору. Или как она там у вас называется… Звоните в районную администрацию, в Смольный, наконец, но не нам. Мы новости — понимаете? — телевидение. И фановую трубу вам поменять никак не сможем. А если будете ругаться, я вообще повешу трубку.
— Маргарита, «слухачи» звонят — взрыв в парадной жилого дома. Туда уже выехали шесть пожарных расчетов.
— Лялечка, позвони, пожалуйста, нашему эмчеэснику — проверь информацию по поводу взрыва…
В конце концов, Маргарите удалось добраться до своего компьютера. Открыв чистую word-овскую страничку, она приготовилась печатать, попросив Маркину:
— Давай все, что есть по взрыву, и найди, пожалуйста, Колдунова.
Сбоку, широко улыбаясь, топтался постоянно подкармливающийся в «Новостях» оператор одной из экстренных служб.
— Сейчас не могу, занята, — сказала Оганесян, вчитываясь в сообщения агентств о взрыве, но он, улыбаясь еще шире и прижмуривая глаза от удовольствия, все же попытался привлечь ее внимание:
— Аварию привез — блеск, просто супер. «Ауди» залетела под КрАЗ — два трупа, сорок минут вырезали из сплющенного корпуса…
— Хорошо, но только после выпуска. Сгоняйте материал, и пусть дежурный корреспондент напишет текст, — согласилась, не отрываясь от монитора, Маргарита.
Ей в затылок уже дышал ведающий компьютерной графикой Колдунов — крупный бородатый мужчина с очень тонкой душевной организацией. Как всегда в экстренных случаях, он впадал в волнение, граничащее с паникой:
— Маргарита, по поводу графики для взрыва — это невозможно, вы понимаете, это — элементарно не успеть! Да что же за глупость такая постоянная?! Пусть титровик просто сделает слайд с картой — они же за это получают зарплату!
Поставив точку, Марго попросила выпускающего редактора Ирину Мадзигон:
— Ирочка, заберите, пожалуйста, взрыв и поставьте его в самое начало выпуска.
Встав рядом с Колдуновым и виновато понурив голову, она тихим голоском пай-девочки начала канючить:
— Ну, Валерочка, ну миленький! Это только что произошло… Мы многого не просим — сделайте просто кусочек карты города, где это случилось, и все, а?..
А сама уже осторожно всунула в руки растерянному Колдунову листочек с информацией о взрыве. Взяв его за локоть, Марго сделала несколько шагов к двери, и он послушно пошел с ней рядом, а выйдя в коридор — даже перешел на тяжелый, неуклюжий бег, торопясь к своим навороченным компьютерам.
А Оганесян уже стояла рядом с шеф-редактором и из-за его плеча вычитывала текст ведущей.
— Так, видеоряд про инвестиции удаляйте целиком. Что у нас с хронометражем?
— Перебор намечается, — ответила Мадзигон, старательно просчитывая секунды, — приблизительно одна минута. Что-то надо выкидывать.
«Новости Петербурга» выходили в выделенные в федеральном эфире временные промежутки, так называемые региональные окна. Тяжелейшим редакторским грехом был не точно просчитанный хронометраж выпуска — тогда «Новости» налезали на идущий за ними следом рекламный блок.
— Сейчас — уже некогда, будем сокращаться по ходу. У нас в конце выпуска пара необязательных видеорядов — можно будет их выкинуть…
В редакционной комнате появился режиссер эфирной бригады и возмущенным басом осведомился, принесут ли наконец в аппаратную текст выпуска.
— Все-все, отправляю на печать. Семь страниц, — предупредила Маргарита уже стоявшую наготове у лазерного принтера Маркину. Забрав пачку еще горячих листов, та устремилась в эфирную аппаратную — над дверью уже зажглось табло: «Внимание! Прямой эфир».
Из монтажной выскочила покрасневшая от возмущения Крикунова. Она пребывала в крайней степени ажитации, размахивала руками и даже, кажется, подпрыгивала.
— Маргоша! Это какой-то кошмар!.. До эфира — Две минуты, а эта — мотает туда-сюда!.. Видите ли, ее не устраивает качество съемок!
— Лялечка, иди в эфирную, предупреди Ирину, чтобы приготовились сдвинуть сюжет, — И, решив, что «вот уж — фигушки, пусть с Пиковой разбирается Шаховцев», — Оганесян постучала в дверь кабинета шефа. Через несколько секунд Шаховцев появился в монтажке.
— Все — заканчиваем! — приказал он, — Выпуск уже начался, через две минуты сюжет должен быть в эфире. Пикова, вы что, не слышите меня? Немедленно прекращайте монтаж и давайте мне кассету.
Нервно затягивающаяся сигаретой Пикова стряхнула пепел на пол и, будто не замечая начальника, продолжала вращать ручку быстрой перемотки в поисках нужного кадра. Наконец, обнаружив его, споро поставила электронные метки и сделала склейку.
Из кассетоприемника издевательски медленно выполз крупный брусок 90-минутной «бетакамовской» мастер-кассеты с готовым сюжетом.
Шаховцев, схватив ее, стремительно промчался по коридору в эфирную аппаратную. В редакционной комнате прибавили звук телевизора, — на экране кокетливо улыбалась Курицына.
Маргарита облегченно вздохнула: и Колдунов-умничка сделал карту и даже успел нарисовать на ней маленький взрыв, и сюжет подоспел вовремя, и Петров, как всегда, хорош в кадре — бодро и остроумно рассказал о первом дожде, как добром предзнаменовании для только что открывшегося «петербургского Монмартра».
Получилось почти все. Не выпуск — а просто загляденье.
«И кто решил, что я не люблю эту работу? — подумала довольная Оганесян. — Шеф, конечно, прав: привыкла я к экстриму, без постоянного адреналина жизнь становится скучной».
Выпуск закончился, редакционная комната быстро опустела — следующий еще не скоро, и народ спешил, пока есть свободное время, заняться своими делами — пообедать, покурить, поболтать с коллегами.
— Все, идем в кафе и, как минимум полчаса, — не говорим о новостях! — решительно поднялась Оганесян и вместе с Крикуновой направилась к двери.
— Маргарита, тут звонят из Девяткино, ну помнишь, мы их уже снимали. Там в трех домах нет ни горячей, ни холодной воды, а канализационные стоки скапливаются в подвалах. Они говорят, что если наша бригада приедет, то они перекроют трассу.
Подобные звонки — в «Новостях» не редкость. Народ, возмущенный планами уплотнительной застройки или замученный проблемами коммунального хозяйства, — как эти жители Девяткино, — для того, чтобы привлечь внимание средств массовой информации, устраивал массовые акции, например перекрывал оживленную автомобильную трассу.
— Скажи, что приедем, пусть перекрывают. Только вот — кого туда отправить? У нас сегодня дежурит… ага, Троицкая… вот пускай и едет. Найди ее, ладно? А мы пойдем в кафе, — и быстро, пока их еще кто-нибудь не перехватил, Маргарита и Лялечка заспешили на первый этаж.
Анну искала не только Маркина. Изрядно промокший по пути от станции метро Николай на берегу тихой петербургской речки нос к носу столкнулся со Стасисом.
«Легок на помине», — недобро подумал он.
Стасис поинтересовался, не знает ли Николай, где сейчас находится Анна.
— Должна быть на работе, — неопределенно пожал плечами Николай. — Впрочем, последние дни она постоянно дежурит, а это — бесконечные выезды. Дежурного корреспондента в редакции застать не просто. Если хотите, я могу ей что-нибудь передать.
— Нет-нет, спасибо, — поблагодарил Стасис и для чего-то сбивчиво объяснил, что приезжал в дирекцию по делам, петербургская выставка завтра заканчивается, и ему надо уезжать домой в Литву. Забинтованную голову Николая Стасис будто не заметил — почему это, интересно?
Зато шведский журналист, встретившийся на лестнице, выразил Николаю сочувствие и с серьезной миной принялся рассуждать о том, что состояние борьбы с уличной преступностью в Петербурге оставляет желать лучшего. Впрочем, Свенсона быстро утащил за собой оператор — они уже опаздывали на какой-то выезд.
«Похоже, шведа пристроили к делу, ну и правильно — пусть на практике знакомится с особенностями петербургской тележурналистики».
Выпитый коньяк сказывался — несмотря на неприятности, Николай пребывал в благодушном настроении. Но продлилось это недолго. Добравшись до своего рабочего места и включив компьютер, он обнаружил пришедшее полчаса назад электронной почтой письмо.
Почтовый сервер отправителя находился где-то в домене com.. В графе «тема» заглавными буквами значилось: МАННЕРГЕЙМ.
Николай дважды щелкнул кнопкой «мыши».
«Hi, — прочел он в открывшемся окне. — Надеюсь, твоя голова работает нормально. Бил аккуратно. Напоминаю об этом неприятном инциденте для того, чтобы ты осознал серьезность происходящего.
О деле: документы вернулись туда, откуда взяты, к ним я добавил третье письмо Маннергейма. Мне известно, что покойный Раппала успел сообщить своей внучке ключ к шифру. Будет лучше, если она вспомнит его сама. Без моей помощи.
Не трать время на бесполезные поиски. Через 5 минут после отправки адрес, с которого послано это письмо, перестанет существовать. Я сам вас найду.
Дело это — почти семейное. Участие посторонних только повредит. Причем, так серьезно, что на Выборгском заливе с пожилым рыбаком может произойти несчастный случай. Или на уютный дом в поселке Юкки неожиданно совершат нападение жестокие грабители.
До скорой встречи. Кладоискатель».
«Вот б… — ошарашено подумал Николай, — а ты-то пытался себя успокоить, мол, все уже позади».
Он ощутил, как стремительно поднимается изнутри волна страха. Стало холодно затылку, показалось, что кто-то в упор недобро разглядывает.
Николай резко обернулся — в большой редакционной комнате шла будничная новостийная жизнь, постепенно съезжались со съемок корреспонденты.
«Быстро помаши рукой отъезжающей крыше, — скомандовал себе Николай, — похоже, это сейчас единственное разумное действие».
А он-то, дурень, еще удивлялся — что Стасису здесь нужно, документы-то уже у него?.. Интересно, а он не боится, что я прямо сейчас, просто от испуга или озлобившись, пойду в ФСБ, а? Он-то, кладоискатель херов, должен же предполагать такую возможность?.. Вдруг доблестные чекисты захотят поближе познакомиться с литовским корабелом.
Как это, кстати, он умудряется совмещать лодочный бизнес и карьеру профессионального убийцы? Наверное, есть у него и на случай интереса эфэсбэшников заготовка. Если верить Дюне — действует эта сволочь безошибочно.
Николай вспомнил, что Дюня говорил и о другой особенности Монгрела — никогда не оставлять свидетелей. Даже если он не уничтожает их сразу, обязательно делает это позже, выбрав подходящий момент.
«А мы-то с Анькой — свидетели, сомневаться не приходится. И что же теперь делать? Сложив лапки, терпеливо ждать, когда тебя прирежут, как ничего не соображающего, а потому покорного барана?.. Вот уж х…ки вашей Дунюшке! Не дамся!»
Веселая заводная ярость прогнала липкий страх. Ярость по поводу несостоявшейся жизни, нелюбимой работы и себя самого — стареющего неудачника, давно забывшего сладкий, сочный вкус победы.
Николай вдруг ощутил, как наполняется давно забытой силой, уверенной и спокойной, а потому — очень опасной.
«Значит, говоришь, надо искать? Ну что же, будем искать. Найти клад раньше тебя — это наша единственная надежда».
Его отвлекла Маркина:
— Николай, вы не знаете, где Троицкая? Надо срочно ехать на съемки, а я не могу ее найти, и труба у нее выключена.
— Нет, не знаю, — ответил он, хотя полагал, что Анна скрывается от всех в их закутке.
Так оно и оказалось. Замерзшая Анна, как мокрый воробышек, сжалась в комочек на краешке скамейки.
— Эй, ты что здесь делаешь? — спросил он, присаживаясь перед ней на корточки, — Ну-ка, посмотри на меня.
Она подняла голову — глаза были несчастными и напуганными.
— Я прячусь от Стасиса, не могу его видеть.
— Так он уже давно уехал, — сказал Николай успокаивающе.
Сжав ее замерзшие пальцы своими теплыми ладонями, он подышал на них, чтобы быстрее согрелись.
— Документы достала уже?
— Нет, я боюсь. — Анну ощутимо трясло.
«Бедненькая, — вздохнул Николай про себя, — то ли еще будет». А вслух посоветовал:
— Давай-ка для начала успокоимся и попробуем включить голову.
Анна тряхнула промокшими волосами:
— А ты откуда знаешь про документы?..
— Ну вот и хорошо, похоже, мозги включились. Отвечаю: про документы я знаю потому, что тоже получил послание, — и он пересказал ей текст письма Монгрела.
Внимательно выслушав, Анна кивнула:
— Да, очень похожее пришло и мне. Коль, давай сбежим, а? — Она вновь заговорила лихорадочно. — У меня есть деньги — на карточке, которую мне дед дал. На то, чтобы скрыться на какое-то время, — хватит. Давай уедем куда-нибудь подальше, во Владивосток, а?.. — Она просительно заглядывала в глаза.
Николай вздохнул и ласково погладил ее судорожно сжатый кулачок:
— Я сегодня встречался со своим одноклассником. Он генерал ФСБ. Я просил его найти информацию о третьем адресате Маннергейма — Гядиминасе Миндаугасе, начальнике охраны маршала. Выяснились любопытные подробности. Оказалось, что внук Миндаугаса — очень опасный наемный убийца-профи. Его больше десяти лет безуспешно разыскивают спецслужбы нескольких стран, в том числе ФБР и ФСБ. И даже если нам удастся скрыться от него, нашим близким ведь этого не сделать. Он прекрасно это понимает. Поэтому и написал мне про Юкки и залив. А в твоем письме есть что-то похожее?..
— Да, он упоминает Крым. — Анькина мама и ее второй муж жили в Судаке. — Выходит, он уже взял наших родных в заложники…
Анька так длинно и виртуозно выругалась, что даже Николаю, служившему и воевавшему, такое доводилось слышать нечасто. Заметив выражение его лица, она рассмеялась, а он за ней следом. Они были вместе, и это делало ситуацию не такой безнадежной.
Вернувшись в редакцию и достав из Анькиного ящика документы (в аккуратном бумажном пакете все три письма и дневник Маннергейма), они первым делом сделали несколько копий — на всякий случай, да и завтра они могли понадобиться.
Анна созвонилась с Настей, и та обещала как можно скорее устроить встречу со своим знакомым экспертом-криптологом из Эрмитажа.
Тут их обнаружила Инна Маркина.
— Ты где ходишь, Троицкая? — возмущалась она. — Там жители Девяткино обзвонились уже. Они перекрыли трассу и ждут телевизионную бригаду. Но говорят, что долго им не простоять — водители уже вызвали милицию. Давай, ноги в руки, и дуй туда!
Николай, по ранению освобожденный от работы над вечерними «Новостями», тем временем старательно разыскивал в Сети все, что касалось рунического письма и шифров, распечатывая отдельные фрагменты, чтобы ночью дома без помех заняться письмами и дневником. У него еще теплилась надежда, что ключ к шифру — где-то в записках Маннергейма. Монгрел ошибался. По словам Аньки, дед ей ничего не говорил о коде. Но должна же существовать разгадка этого шифра, будь он неладен…
Николай, уже освоенным способом, перевел «снежинки» третьего письма в руническую запись.
Получилось следующее:
Ничего нового — того, что могло бы указать путь к разгадке. Тот же самый, знакомый по двум письмам текст, отличающийся несколькими рунами.
Николай попробовал тупо подставлять вместо рун соответствующие их порядковым номерам буквы сначала русского, а затем английского алфавита — получалась абракадабра… Да и рун-то всего двадцать четыре, букв в алфавитах — больше.
Руны — система сакральных мистических символов. Викинги считали их даром богов. В одной из древних скандинавских эд описывалось, как верховное божество Один получил знания рун, будучи распятым на священном ясене Игдрасиле. Руническими заклинаниями украшали оружие, могильные плиты, корабли и даже домашнюю утварь. При помощи рун гадали — на сайте модного беллетриста Пелевина предлагались толкования значений выпавших гадательных рунических камней…
Голова, казалось, распухла от большого объема новой информации. Когда Анна вернулась со съемок, Николай рассказал, что успел понять, и сделал для нее копию листка с записанными рунами посланиями маршала — может, завтра в Эрмитаже пригодится.
В ответ Анька поделилась с ним придуманным ею хитрым планом:
— Я сама позвонила Стасису. Мы договорились встретиться сегодня вечером. Я хочу ему рассказать о том, что тебе уже удалось выяснить по поводу писем. Понимаешь, если он будет знать все о наших поисках, может, это удержит его, хотя бы на время, от жестких действий. — Заметив, что Николай посмурнел, добавила: — Не волнуйся, все будет в порядке, я справлюсь, ну чего ты?
Он, понимая разумность ее плана, никак не хотел с ним примириться — ужасно за нее тревожась.
Она быстро написала видеоряд про бунтующих коммунальных страдальцев из Девяткино, и они отправились вместе к метро — до встречи со Стасисом она хотела посмотреть одну из предложенных маклером сдающихся в аренду квартир. Получив письмо Монгрела, Анна первым делом решила снять жилье, чтобы не подвергать опасности Настю и Валерку.
Дождь, ливший весь день, к вечеру прекратился, и закатное солнце устроило неожиданную высокую радугу. Широкой дугой она охватила мокрый и уставший город.
— Это хорошая примета, — радовалась Анна, — я тебе точно говорю. Ничего вы, мужчины, в этом не понимаете. Видишь, какая она праздничная.
У Николая на душе скребли кошки. Он все никак не мог решиться отпустить Анну. Оттягивая неизбежное прощание, затащил ее в демократичную кафешку в узкой стеклянной витрине ДК Ленсовета. Они пили пиво и болтали о неважном. Николай уже собрался взять вторую порцию, но она его удержала:
— Коленька, пора ехать, — и очень серьезно добавила: — Ты не бойся, я не умру, это я знаю точно. Об остальном попробую на время забыть…
Они миновали шумный подземный переход, который облюбовали юные неформалы. В основном грязные и нечесаные, в черных майках и джинсах и таких же черных кожаных куртках с массой металлических заклепок. У кого-то на голове — петушиные гребни невероятной расцветки, кто-то — с африканскими косичками-дредами…
Эти молодые мальчишки и девчонки чувствовали себя в каменном мешке перехода вполне уютно. Рассевшись на заплеванном асфальте, они пили пиво, громко и весело переговариваясь. Надрывно бренчала старенькая гитара — парень в бандане, украшенной соцветием конопли, пел что-то из русского рока. Слушатели, собравшись в кружок, нестройно ему подтягивали. А разбитная девчонка протягивала прохожим старенькую шляпу, собирая гонорар. Она заступила им дорогу, и Николай бросил монетку, но девчонка забежала вперед и потребовала:
— А улыбнуться девушке, мужчина?..
Когда их поезд подошел к станции «Озерки», Анна чмокнула Николая в щеку, с толпой пассажиров вышла на перрон и, встретившись с ним глазами, томно провела кончиком языка по губам, кокетливо ему подмигнув.
«Вот, елки-палки, — подумал он, провожая ее взглядом, — Мата Хари доморощенная».
Aвгycт 200… г., деревня Медянка, Выборгский залив
Бутылку любимого «Henessy» он обнаружил среди немалых запасов хозяина дома.
Арсен с удовольствием прихлебнул из бокала и покатал на языке маленькую порцию божественно-ароматного нектара. Он глотнул и зажмурился от удовольствия. Какие все-таки придурки правоверные мусульмане — добровольно лишать себя такого наслаждения, иншаалла…
Взглянув на обнаженную Ингеборге, нежившуюся в огромной джакузи, он заметил, что струи воды, бьющие из бортиков и дна, явно возбудили бесстрастную латышку. Арсен усмехнулся — несомненно, удача вновь повернулась к нему лицом…
Еще несколько дней назад все было иначе.
Шахидки и трое его людей погибли при неудачном захвате замка. Он с трудом унес ноги. На катер, где их дожидалась Ингеборге, прорвались еще братья Талгаевы — Вахе лишь навылет пробило плечо, а получившего две русские пули Магомета втащили на борт уже без сознания, он истекал кровью.
В продолжение их бед закончилось горючее — проклятые финны во время пьяной морской прогулки сожгли почти весь бак. Бензина на то, чтобы пересечь залив и уйти в Эстонию, как он планировал, явно не хватало…
Арсен уходил от возможной погони на предельной мощности двигателей. Взгляд прищуренных светло-серых глаз рыскал по берегам залива в отчаянной надежде найти выход из западни.
Быстро дойдя от Выборга до острова Стеклянный, он повернул в узкий пролив так круто, что катер почти лег бортом на волну. Иншаалла, похоже, в тот момент его вело само провидение.
Промчавшись мимо причала рыболовецкой бригады, Арсен замедлил ход, чтобы проскочить под мостами.
Взглянув на берег небольшой бухты, которая тянулась по левому борту, он просто завыл от восторга. Пожилой крепкий мужик в рыбацком комбинезоне, загнав в мелкую воду большой джип с лодочным прицепом, втягивал на него с помощью лебедки катер — почти такого же размера, как и тот, на котором пришел Арсен.
Когда подошли поближе, выяснилось, что за рулем джипа сидит какая-то баба — похоже, жена рыбака.
Дальше все было просто — Арсен изрядно повеселился, наблюдая за супругами, далеко не сразу поверившими, что их — таких благополучных и состоятельных — захватили какие-то бандиты. Точнее, уразуметь это никак не мог муж-рыбак, как выяснилось — изрядно пьяный. Он все порывался о чем-то поговорить и разобраться. Резко замахнувшись, Арсен ударил рыбака прикладом. Тот, не удержавшись на ногах, упал в воду, а поднявшись — стоял молча, время от времени сплевывая кровь из разбитого рта.
Его жена отличалась большей сообразительностью. Она вела себя смирно, лишь по-змеиному шипела, понося последними словами рыбалку, пьянство и придурка мужа.
Успокоив рыбака, Борз решительно двинулся к воротам дома, стоявшего метрах в тридцати от воды…
Два дня назад, когда они готовили захват замка, он по своему обыкновению объехал и тщательно осмотрел всю прилегающую территорию. Остановившись неподалеку на шоссе, Арсен долго разглядывал стоявшие на берегу бухты дома. Он тогда уже отметил для себя выгодное расположение одного из них — большого, двухэтажного, сложенного из красивых бревен. Судя по высокому фундаменту, облицованному гранитом, — имевшему приличный подвал.
Щуплый белобрысый парень в рабочем комбинезоне как раз открывал ворота, чтобы впустить во двор большой темный джип. Рядом радостно крутился рыжий боксер. Собака не отходила от одного из приехавших: коренастого, с обширной лысиной, но еще довольно молодого — Арсен понял, что это хозяин.
Лысый повел своих гостей в дом — вверх по широкой каменной лестнице. Вскоре они появились, но уже в резиновых сапогах и камуфляже — похоже, собрались порыбачить.
Арсен не стал дальше наблюдать, но запомнил: хозяева приезжают сюда, чтобы провести выходные дни…
Сейчас он подошел к нижним воротам, ведущим на берег бухты, и, заглянув в щель, внимательно осмотрелся.
Собаку он заметил еще с воды — боксер поднялся на высокое крыльцо и оттуда пристально наблюдал за тем, что происходит в бухте.
Арсен свистнул и указал Ингеборге на пса. Она подняла пистолет. Тяжелая пуля попала боксеру в голову. Безжизненным рыжим комком он скатился по крутым ступеням лестницы.
Белобрысый сторож проводил хозяев и их гостей, а сам отдыхал, попивая холодное пиво. На предельной громкости одновременно орали магнитофон и телевизор — Гена, так звали сторожа, наслаждался лошадиными дозами российской попсы. Он заметил Арсена только тогда, когда тот больно ткнул его в бок стволом «калаша».
С помощью пленников бандиты быстро освободили двор, загнали туда джип с катером на прицепе и перенесли в дом потерявшего много крови Магомета.
Теперь у них появилась база и возможность переждать самый старательный этап розыска. Пускай эфэсбэшники и менты немного остынут, тогда Арсену и его людям будет проще уйти.
Чтобы сбить погоню со следа, Арсен отправил Рамазана, третьего уцелевшего при захвате замка бойца, к противоположному, западному, берегу Выборгского залива. Он отогнал и оставил там финский катер, вернувшись на лодке.
Пока латышка и Ваха устраивали домашний лазарет, Арсен побеседовал со своими тремя пленниками. Рыбак, который вновь обрел дар речи, оказался хозяином крупной торговой фирмы. Он предлагал за собственную безопасность и свободу большие деньги. Но за ними нужно ехать в Петербург. Слишком опасно — трасса «Скандинавия» наверняка перекрыта милицейскими кордонами.
Отпускать одного из супругов, оставляя второго в заложниках, глупо — Арсен, приглядываясь к ним, понял, что чувство, связывающее этих двоих, — застарелая обоюдная ненависть. Оба только обрадовались, если бы опостылевшая половина осталась в бандитском плену. Иншаалла, прямо как тарантулы в банке — зачем так жить?..
От супругов предстояло избавиться. Он забрался в джип и подмигнул сладкой семейной парочке:
— Поедем к вам в гости. Любите гостей, а?..
Трупы он оставил у шоссе в нескольких километрах от Выборга — чтобы быстрее обнаружили.
Вернувшись, загнал джип в гараж. Там обнаружились запасы, видимо не использованной при строительстве, краски, и Арсен заставил Генку покрасить белоснежный красавец-катер. Краска плохо ложилась на пластиковый корпус, образуя потеки и проплешины, и через пару часов на прицепе уже стояла зачуханная старая лоханка.
Арсен похвалил себя за предусмотрительность, когда рано утром в небе над заливом появилась пара вертолетов. На невысокой скорости и малой высоте они облетели острова и береговую линию — его группу старательно искали.
Генка, мучимый раскаянием в собственной беспечной глупости, из-за которой сам попал в беду и не смог сохранить хозяйское имущество, попросил у Арсена разрешения работать на огороде и в парнике. Ему вызвался помочь Рамазан — такой же, как Генка, молодой деревенский парень, тихий и скромный, видимо, за несколько лет войны сильно соскучившийся по крестьянскому труду.
Дни напролет они вдвоем копали, пололи, удобряли и что-то ремонтировали. Доверчивый Генка рассказал Рамазану не только о том, как он после армии не мог найти никакой работы в родной тверской умирающей деревне и вот перебрался сюда, к дальним родственникам, чтобы смотреть за хозяйством, но и поведал немало любопытного о своих хозяевах, не подозревая, что все услышанное Рамазан добросовестно пересказывает Арсену.
Как выяснилось, хозяин Борис — тот самый крепкий, рано полысевший мужчина, которого видел Арсен, — страстный рыбак, поэтому и выстроил дом на заливе. При этом он безумно любит свою семью — жену Татьяну и двоих детей-подростков. Дом он построил большой и основательный, чтоб хватало места и домочадцам, и многочисленным гостям. Ну а самое главное: Борис — глава крупной строительной компании.
В общем, деньги сами шли в руки, и Арсен не собирался от них отказываться.
Он решил дождаться здесь выходных, взять в заложники семью, получить выкуп от любящего отца и мужа, а затем дойти на катере до Приморска, где, как он выяснил, находилась главная база бывшего рыболовецкого колхоза. Основные суда тамошних рыбаков, построенные еще после Второй мировой войны малые тральщики, — латаные-перелатаные неказистые посудины. Но зато их в разных рыбацких хозяйствах так много, что они не привлекали внимания. На такой лоханке вполне можно пересечь Финский залив и дойти до устья Наровы, где проходит российско-эстонская граница. В Эстонии группу уже ждали.
К Генке регулярно наведывались приятели из соседней деревни. Всякий раз он старательно корчил страшные рожи и вращал глазами, пытаясь мимикой сообщить им о захвате дома. Иншаалла, те не отличались большой сообразительностью, простодушно интересуясь, с чего это его так перекосило. Еще сторож придумал шитую белыми нитками историю о какой-то страдающей по нему девице, которой якобы нужно обязательно позвонить, и уговаривал Рамазана потихоньку принести ему мобильник.
Арсену все это окончательно надоело, и он посадил Генку под замок. В углу участка, за домом, в склоне холма находился небольшой железобетонный бункер с тяжелой металлической дверью — как объяснил будущий сиделец, это осталось в наследство от владельцев бывшего здесь когда-то финского хутора. Освобожденный от хозинвентаря бункер стал Генкиной темницей.
Теперь Рамазан, постоянно днем работавший на участке, изображал из себя гастарбайтера-сезонника. С ласковой улыбкой он объяснял всем интересующимся, что Генки нет, его хозяева по какой-то нужде вызвали в город. Появление наемного работника никого особо не удивило — на участке неподалеку трудилась целая бригада турок.
В канун выходных Генкин мобильный ожил. Пришлось извлекать сторожа из темницы. Чтобы он не сболтнул лишнего, Арсен одной рукой держал трубку у его рта, а другой сжимал пистолет, которым ритмично постукивал по упрямому Генкиному лбу.
Звонила хозяйка. Она предупредила, что приедет поздно вечером в пятницу, а муж, вынужденный задержаться в городе, — в субботу утром.
Генка вернулся в бункер, а Арсен занялся приготовлениями к появлению хозяйки.
Август 200… г., Санкт-Петербург
К Эрмитажу Анна приехала пораньше — в половине десятого она уже бодро шагала по камням Дворцовой площади.
Накануне, договариваясь о встрече, она так и не смогла добиться от сотрудницы эрмитажной пресс-службы указаний, куда именно надо подойти. По словам слегка жеманной девушки, представившейся как «рыжая Настя в очках», она готова встретить Анну у любого подъезда, выходящего на Дворцовую площадь.
«Как придете, позвоните по внутреннему телефону. Я вас встречу и провожу к Михаилу Александровичу», — щебетала в трубку рыжая Настя.
У подъезда Анна обнаружила оживленную суету. Судя по всему, здесь выпускали наружу обалдевших от созерцания шедевров искусства иностранных туристов.
Их хищно поджидали уличные торговцы с устоявшимся набором сувениров «а-ля рюсс» — от черных военно-морских ушанок, нелепых в этот жаркий летний день, до вездесущих матрешек (теперь все больше почему-то с иконописным ликом Путина).
Торговцы неприязненно косились на Анну, и ей пришлось невежливо раздвигать их, чтобы пробраться к двери. Изрядно поношенный молодой человек лет сорока даже сообщил, не скрывая разочарования ее дремучестью, что вход для посетителей совсем с другой стороны, и уже собирался пуститься в длинные сентенции о том, какая сиволапость понаехала в культурную столицу, но Анна так выразительно на него посмотрела, что он молча посторонился, позволив ей протиснуться к вожделенному входу. Здесь тоже возникла заминка — из внутренних дверей, подскакивая по ступенькам мелким горохом, посыпались оживленно беседующие японцы, увешанные с ног до головы разнообразными техническими устройствами. В дверях наружных они столкнулись с вальяжной группой финских пенсионеров. В результате на некоторое время вход оказался заблокированным — раскрасневшиеся полные финны тяжело сопели, медленно поводя головами и пытаясь уследить за стремительно кланяющимися японцами. Наконец соединенными усилиями переводчиц затор ликвидировали, и Анне удалось проникнуть внутрь.
Кошмар! Такую сутолоку Анна видела только на столичном Казанском вокзале в летний пик железнодорожных перемещений. Правда, там национальный колорит был иным. Здесь же явно намечалось вавилонское столпотворение. С упорством ледоколов сквозь утомленные группки галдящих на всех языках туристов продирались взмыленные переводчицы, высоко поднимая над головами спасительные для их подопечных маячки разноцветных складных зонтов.
Одна из них во главе испуганной стайки пожилых итальянцев устремилась к выходу. Растерянную Анну прижали к деревянной конторке, за которой она обнаружила невозмутимую, как сфинкс, служащую Эрмитажа.
«Похоже, иначе здесь просто не выжить», — подумала Анна и попросила разрешения воспользоваться внутренним телефоном.
Та экономно кивнула, указывая на висящий на стене телефонный аппарат, вокруг которого — ну конечно же! — толпилось несколько человек.
В конце концов подошла ее очередь, и, как ни странно, «рыжая Настя» оказалась на месте. Прощебетав: «Это со мной», она затащила Анну в какой-то боковой зал и сложными переходами привела к огромной двери, украшенной позолоченной инкрустацией.
Анна постучала, потом еще раз — ощущение такое, словно колотишь по могильной плите. Тогда, решительно надавив на вычурную ручку, она потянула дверь на себя.
— Qu'est-ce que c'est на x**?.. — раздраженно произнес слегка гнусавый мужской голос.
Анна опешила. По правде говоря, ее смутила не столько неприветливая встреча, сколько очень странная лексическая конструкция.
Она робко выглянула из-за стоявшей у двери и перекрывавшей кабинет старинной китайской ширмы, расписанной красно-золотыми драконами. За огромным столом, с тумбами в виде львиных лап, в деревянном кресле с высокой готической спинкой восседал, иначе не скажешь, пожилой мужчина. На длинном, с горбинкой, носу чудом удерживалось пенсне в тонкой золотой оправе. Высокий, под горло, жилет открывал идеальный узел строгого галстука. Пиджак в чуть заметную темно-серую полоску (так и тянуло назвать его «визиткой») украшал воротник из черного бархата, а белая накрахмаленная рубашка, казалось, похрустывает при каждом движении благородной седой головы.
Картину дополняла аккуратно подстриженная бородка и черная трубка с длинным янтарным мундштуком, которым он сейчас нервно постукивал по столу, продолжая слушать своего собеседника. Телефон, кстати, оказался вполне современным — мобильным.
Всюду — на столе, стульях, подоконниках — громоздились альбомы с репродукциями и стопки книг. В дальнем углу возвышались кабинетные часы. Центром и украшением композиции служил огромный малахитовый камин.
Михаил Александрович Мардерфильд счел необходимым привстать, сделал округлый жест, приглашая ее проходить, и, завершая телефонный разговор, жестко резюмировал:
— Сударь, вынужден прервать ваши оправдания. Предупреждаю, что если до завтрашнего дня реставрационные работы не обретут наконец надлежащий характер, то, pardonnez-moi, я умываю руки, а вам предстоит rendez-vous с господином Пиотровским.
Он бросил мобильник и вопросительно взглянул на Анну, которая неуклюже топталась на пятачке перед столом:
— Добрый день, сударыня, чему обязан?..
При встречах с такими все еще изредка попадающимися в Петербурге личностями, культурная рафинированность которых просто ослепляла, она жутко смущалась, ощущая себя неумытой замарашкой.
Анна с трудом подавила волнение и нерешительно напомнила:
— Мы с вами вчера договаривались о консультации…
— Ах да-да, что-то связанное с руническим письмом?.. Итак, вы — Анна Троицкая, корреспондент телевидения, которая почему-то заинтересовалась древнескандинавским алфавитом, я прав?
Память у Мардерфильда оказалась отменной.
— А кстати, нравятся ли вам малые голландцы, в частности Андриан Ван Остаде?.. — Он кивком указал на небольшого размера картину, стоявшую на отдельном подрамнике.
Там, в свойственной этой живописной школе реалистической манере, в мрачно-коричневом колоре изображалась жанровая кухонная сценка. Толстая женщина в высоком чепце (очевидно, кухарка) с видимым удовольствием на глуповатом лице старательно ощипывала грязно-белого и, кажется, еще живого гуся, а у ее ног расположился в ожидании подачки жирный серый кот, очень походивший на хозяйку туповато-ленивым выражением морды. Все это выглядело как-то удивительно противно.
— Нет, не нравится, — честно сказала Анна, несмотря на опасение упасть в глазах собеседника-искусствоведа.
— Ну и правильно, — легко согласился Михаил Александрович, — Тем более что, как выяснилось, это вовсе не Ван Остаде, а подделка. Правда, очень старая и очень качественная.
Эта тема явно доставляла ему огромное удовольствие. Казалось, он сейчас начнет облизываться, как кухаркин кот на картине…
Мардерфильд оторвался от созерцания и, с трудом отыскав место для лежавшей на стуле кипы книг, освободил его для Анны:
— Прошу.
Устроившись за столом напротив нее, поинтересовался:
— Итак?..
Анна неловко потащила из сумки папку с документами, которая все норовила зацепиться за застежку-«молнию». Не зная, куда ее пристроить, она в конце концов разозлилась на себя за неуклюжесть и плюхнула папку на стол, нахально сдвинув роскошный письменный прибор, украшенный бронзовой статуэткой какого-то античного героя.
Достав сразу письма и дневник, она протянула их Мардерфильду. Тот, полистав тетрадь в черном коленкоровом переплете, хмыкнул, раскурил потухшую трубку и с удовольствием окутался клубами дыма.
— Так-та-а-ак… — протянул Мардерфильд, — часть дневника Карла Густава Маннергейма. Судя по всему, не известная биографам маршала. Очень интересно. Видите ли, — отвлекся он на мгновение, — дворянский шведский род Мардерфильдов состоит в дальнем родстве с графами Маннергеймами. Сложно сказать, кем именно я прихожусь великому полководцу, но тем не менее — родство есть. Так, а это, — он вновь вернулся к бумагам, — своеобразное завещание, не так ли? Простите мое любопытство — как к вам попали эти документы?
— Один из адресатов — мой дед, Хейно Раппала, в прошлом — личный пилот Маннергейма. Он, к несчастью, недавно погиб.
— Извините, что неловким вопросом причинил вам боль. Теперь все ясно. Так, а вот и тайные письмена. Угу, угу, — И он, затянувшись, на некоторое время задумался, а потом спросил: — Простите, Анна, знаете ли вы, что такое криптография?
— Ну, это наука о шифрах, так?
— В таком случае, если позволите, я угощу вас кофе, а пока он будет готовиться, немного расскажу о криптографии. Согласны?..
Анна кивнула, и Мардерфильд достал из старинной горки красного дерева какой-то изящный механизм, состоящий из стеклянных трубочек и колб в ажурных металлических футлярах.
— Сейчас, одну минуту, только проверю кое-что. — Он вынул из хитрого прибора маленькую спиртовку, зажег ее и немного подержал над пламенем каждое из писем, затем внимательно рассмотрел их. — Так я и думал, — сообщил он, очевидно, ничего не обнаружив, — Итак, рекомендую — киндер-кафе-машине. — Он вернул спиртовку на место, — Любимая, кстати, игрушка Николеньки Романова, более известного как государь-император Николай Второй. В детстве он изводил всех домашних бесконечными предложениями «откушать кофию». Завораживает, не правда ли?.. — довольный, спросил он у Анны.
Машина действительно завораживала. В большой колбе над спиртовкой крупными пузырями закипала, вода. Под действием образовавшегося пара она поступала через стеклянную трубку в меньшую колбу — перевернутую, где находились молотые кофейные зерна, постепенно заваривающиеся кипятком.
Эта колба была хитро подвешена, и чем больше поступало туда горячей воды, тем больше она наклонялась, пока наконец из носика в подставленную небольшую чашечку из тончайшего фарфора не потек ароматный густой кофе.
В продолжение увлекательного процесса Мардерфильд рассказывал о криптографии:
— Как только возникло имущественное неравенство, у людей появилось что скрывать друг от друга.
Древнейший, если мне не изменяет память, известный шифрованный текст составлен в двадцатом веке до нашей эры, в Месопотамии. На глиняную табличку клинописью нанесли рецепт гончарной глазури — там шифр состоял в том, что пропускались отдельные гласные и согласные, а вместо цифр стояли имена… Но там, так же как и позже, в Древнем Египте, где жрецы зашифровывали религиозные тексты, это было, скорее, баловством — освоить сложную науку клинописи могли единицы!..
А вот с изобретением алфавита и появлением буквенной письменности резко возросло число людей, способных понять написанное, и тайнопись превратилась в насущную необходимость. Для защиты открытых текстов — таков профессиональный термин — использовались разные способы. Сообщения пересылались почтовыми птицами или специально обученными животными, прятались в багаже гонцов или в их телах. В Древнем Китае, например, тайные письма писались на тонких лоскутках шелка. Их сворачивали в шарик и окунали в расплавленный воск, а затем, извините за натурализм, помешали в анус гонца. Кстати, подобным способом до сих пор пользуются перевозчики мелких партий наркотиков.
Были и более изобретательные схроны — широко известна придумка римлян, когда открытый текст наносили на тщательно обритую голову раба и, подождав, когда волосы отрастут, отправляли его к адресату — там, естественно, его вновь брили наголо.
Способы сокрытия постепенно становились все более изощренными — появились так называемые симпатические чернила, надпись которыми проявлялась только после специальной обработки. Я, кстати, нагревая письма, как раз проверял, не написал ли Маннергейм что-нибудь между строк. Например, модным в революционных ячейках девятнадцатого века молоком… Прошу. — Он протянул ей чашечку с кофе.— Кстати, ни молока, ни сливок, ни сахара для кофе не держу, уж не обессудьте…
Он искоса глянул на нее и поинтересовался:
— Не утомила вас моя лекция?
Анна энергично помотала головой.
— Тогда продолжим. Параллельно разнообразной, так скажем, физической защите открытых текстов развивались и способы тайнописи, которые не позволяли прочесть исходный текст даже в том случае, если он попадал в руки непосвященному, то есть — шифры. Кстати, криптография — в переводе с греческого «тайнопись», — она-то как раз и ведает разнообразными шифрами. Один из первых примеров, известный нам благодаря римскому историку Светонию, — шифр Гая Юлия Цезаря. Суть его в том, что использовался алфавит с циклическим сдвигом влево на три знака, — таким образом, в современном русском первой должна стоять буква «Г», а не «А». Буквы открытого текста заменялись соответствующими буквами «сдвинутого» алфавита. Для того чтобы прочесть секретное сообщение, нужно произвести обратную замену. Подобные шифры так и называются — шифры замены. Но римляне здесь, как, впрочем, и во всем остальном, лишь продолжали греческие традиции.
О тайнописи упоминал еще Гомер, а одному из героев его «Илиады» — троянскому полководцу Энею — принадлежит ряд идей, в том числе и первых физических шифроносителей, — например, нити с узелками, завязанными на разном расстоянии. Продернув нить через отверстия шаблона, можно прочесть буквы сообщения.
Древние эллины придумали много чего любопытного. Но нам интересен так называемый квадрат Полибия, который имеет непосредственное отношение к вашему случаю. Играли ли вы в детстве в «морской бой»?.. Ну, знаете, когда на тетрадном листе в клеточку отмечают разного размера «корабли», а потом пытаются угадать, как расположил такие же противник?.. Помните?.. Так вот, эта игра демонстрирует слегка модифицированный принцип применения квадрата Полибия. Суть в том, что в ячейки квадрата вписываются по порядку буквы алфавита и каждая из них при составлении шифра заменяется на две, обозначающие ее координаты. Они могут быть буквенными или цифровыми. Подобный принцип использовали и в рунической тайнописи. Вы что-нибудь слышали о рунах?
Анна, вспомнив рассказы Николая, быстро кивнула.
— Замечательно, тогда позвольте вам только напомнить, что германский рунический алфавит — так называемый старший футарк — содержит двадцать четыре руны. Наиболее полный рунический ряд этого футарка вырезан на готском камне из Килвера, что на шведском острове Готланд… Так вот, этот футарк разделен на три части — они называются атты. Каждый имеет свое собственное имя. Первый — атт Фрея, второй — Хеймдалля, третий — Тюра. В каждом — по восемь рун. Этот порядок, как и положено приличному алфавиту, остается неизменным.
Для сокрытия рунических письмен придумали так называемые разветвленные руны. Иначе — квист-руны. Каждая из них обозначалась вертикальной чертой, у которой число левых «отростков», назовем их так, указывает номер атта, а количество правых — порядковый номер руны. Иногда эта тайнопись имела строчный вид, но чаще вписывалась в какую-нибудь геометрическую фигуру. Скажем, «снежинки» в письмах Маннергейма — это просто отсутствующие круги. И сейчас мы с вами установим, какие именно руны скрыты в этих посланиях…
В одном из шкафов, удивительно безошибочно в царившем здесь хаосе, Мардерфильд обнаружил нужное издание и продемонстрировал Анне затейливо выполненную иллюстрацию с руническим алфавитом.
— Так-так. — Склонившись над рисунком, он выписывал на листок бумаги рунические знаки. Закончив, он победно глянул на Анну поверх пенсне: — Ну-с, извольте, — и протянул ей листок.
Она достала из кармана расшифровку, сделанную Николаем, и положила оба листа рядом на краешек стола.
Мардерфильд озадаченно взглянул на совершенно одинаковые ряды рун и слегка обиженно произнес:
— Что ж вы не сказали, что все знаете?..
— Извините, — смутилась Анна, — но мы знаем только это.
— Чего ж вам еще?.. — Михаил Александрович был явно уязвлен.
— Мы не знаем самого главного: где именно Маннергейм спрятал то, что необходимо найти.
— Ах ты боже мой, современные юные девицы еще верят в клады!.. Видите ли, сударыня, я осведомлен об истории и общих принципах криптографии, и я поделился с вами своими знаниями. Но то, о чем вы просите, — это непростая работа даже для опытного дешифровщика. И, кстати сказать, очень недешево стоящая.
— У меня есть деньги. Я готова заплатить, сколько потребуется…
Но Мардерфильд перебил ее:
— Простите, юная леди, но я не возьмусь за такую работу — не обладаю, увы, достаточной квалификацией.
Заметив, каким грустно-обиженным стало лицо Анны, он поморщился:
— Ну-ну! Вот только расстраиваться, а тем более предаваться греху уныния не надо. Поймите, я не сомневаюсь в том, что вы кредитоспособны и можете оплатить работу. Хотя, если честно, я все еще неловко себя чувствую, когда платит женщина, тем более столь юная и очаровательная — феминистки пригвоздили бы меня к позорному столбу за дремучий мужской шовинизм, но это так — мысли вслух… Для того чтобы расшифровать маннергеймовские послания, надо ответить на уйму разнообразных вопросов. Почему, например, он избрал именно руны?.. И на каком языке написан исходный текст?.. Тут может быть как минимум три варианта. Что, собственно, содержится в этом тексте?.. Есть ли там какие-то цифровые данные — например, указание географических координат или описание точного порядка действий — ну, знаете, как в пиратских романах: «сделай тридцать шагов на юг от гнилого пня и в заброшенном колодце найдешь сокровище» — et cetera, et cetera.
Так вот, для такой работы у меня недостает ни умений, ни времени. Но я вожу знакомство с одним очаровательным стариком — таким, знаете ли, осколком сталинской эпохи. Криптограф от Бога! Сейчас он уже давно пенсионер, но до того, как уйти на покой, более тридцати лет был главным шифровальщиком Большого дома. Он начал там работать еще во время блокады, так что наверняка имел дело и с различными финскими шифрами. Если он согласится, то можете быть уверены — вы узнаете, что скрывал Маннергейм. Конечно, при условии, что эти руны вообще поддаются дешифровке. Однако должен предупредить: плату он берет весьма высокую.
— Это неважно, главное, чтобы он согласился.
— Ну что ж, я сегодня же ему позвоню и, если он возьмется, передам письма. Сообщите мне номер вашего телефона.
Анна продиктовала номер, оставила Мардерфильду копии писем и, поблагодарив, направилась к двери. Он остановил ее:
— Простите, еще одно соображение. Знаете, есть такая старая загадка: длина привязи осла — девять метров, а копна очень вкусного сена находится на расстоянии двенадцати метров от его морды. Тем не менее, не разрывая и не растягивая привязь, он спокойно умудряется лакомиться этим сеном. Почему, как вы думаете?..
Анну вопрос поставил в тупик. Но она не стала сильно напрягаться в поисках ответа, а честно призналась, что не знает, как такое могло произойти.
— Причина, видите ли, в том, что осел не привязан. Ведь слово «привязь» вовсе не указывает на то, что осел к чему-то привязан. Вот и в случае с этими письмами — то, что мы не понимаем написанного, вовсе не означает, что информация зашифрована.
— Вы хотите сказать, что Маннергейму руны потребовались просто для отвода глаз, а место, где спрятан клад, он указал как-то по-другому?..
— Я, сударыня, говорю вот о чем: руны — это не просто алфавит, каждая из них сама по себе — смысловой объект. Как иероглифы. В Средние века на севере Европы руны почитались священными — рунические знаки наносили на корабли и дома, оружие и различные амулеты. Даже на простую утварь — глиняные горшки, в которых варили похлебку. И сегодня есть немало людей, увлеченных сакральным, мистическим смыслом рун.
Мне кажется, что Маннергейм вполне мог использовать именно этот, изначальный, смысл рунических знаков. Кстати, в Германии тридцатых-сороковых годов прошлого века существовала специальная организация — «Анэнэрбе» — «Наследие предков». Это было нечто среднее между научным институтом и тайным обществом. Сотрудники этого заведения занимались изучением разнообразных сверхъестественных явлений. И руны, с их подачи, были очень популярны — этакие государственно-утвержденные мистические символы. Например, войска СС носили в петлицах пиктограмму молний — так вот, это не что иное, как сдвоенная руна «зигель». Знак, как это ни парадоксально, символизирующий победительную, светлую силу Солнца… Финляндия в ту пору союзничала с Германией, существовали разнообразные тесные связи. Поэтому можно предположить, что для финских военных руны тоже не являлись тайной за семью печатями. Почти уверен, что над этим стоит поразмыслить. Вы не находите?..
— Да, наверное, большое спасибо за помощь.
— Э нет, милая барышня, как говорил булгаковский Мышлаевский — «из спасибо шинели не сошьешь». Считаю, что вполне заслужил скромный гонорар. А будет он таким — вы мне даете слово непременно рассказать, чем закончатся поиски маннергеймовского клада. Согласны?
Анна, улыбнувшись, кивнула, и Мардерфильд, прощаясь, поднялся из кресла и даже слегка поклонился:
— Вот и прекрасно, буду с нетерпением ожидать. Au revoir, милая барышня!..
— Merci beaucoup — и до встречи! — гордо ответила Анна, но ее беглый французский остался не замеченным — Мардерфильд, хищно поблескивая стеклами пенсне, уже вновь разглядывал с плотоядной усмешкой высокохудожественную голландскую подделку.
Анна довольно быстро нашла выход из душных эрмитажных коридоров на Дворцовую набережную. Здесь она с удовольствием вдохнула свежий воздух с близкой реки.
Летним Петербургом правили беззаботность и веселье. Маленькие отражения щедрого солнца сверкали повсюду — на свежей зелени лип, в объективах туристских камер, на длинном белом свадебном лимузине.
Анна невольно поддалась этому общему настроению праздника. Смерть деда и непростые отношения со Стасисом, сгоревшая квартира и неприятности на работе — все заботы и тревоги на время куда-то отодвинулись. Она легко вздохнула и пешком отправилась на другой берег Невы, в Военно-медицинскую академию, проведать Димку Воскобойникова.
Накануне прооперированный, он уже вполне бодро передвигался. Правда, пострадавший глаз, а с ним и полголовы закрывала устрашающих размеров повязка. Анне вдруг — ох уж эти женские рефлексы! — до того стало его жалко, что она собралась всплакнуть, но Димка помешал. С неодобрением оглядев здоровым глазом принесенные Анной виноград и йогурт, он тяжело вздохнул:
— Хорошая ты, Анька, и вроде не глупая… Ты только не обижайся, но разве могут раненому мужику доставить утешение йогурт и виноград, а?..
Плакать сразу расхотелось, и она гордо заявила, что участвовать в нарушении лечебного режима не намерена, а потом чмокнула Димку в свободную от бинтов щеку и отправилась по набережным на Петроградскую сторону.
У Сампсониевского моста она на мгновение задержалась. Серый, хищно заостренный корпус крейсера никак не вписывался в плавный изгиб, образованный слиянием Невы с Большой Невкой.
Суровая простота «Авроры» звучала диссонансом строгому великолепию петербургских набережных.
Декабрь 1917 г., Хельсинки
…Я вернулся к дневнику азиатского путешествия, потому что события последних недель связаны со случившимся в Тибете почти десять лет тому назад. Все эти годы служебных странствий — сперва в Польше, где я командовал полком и кавалерийской дивизией, и позже, на фронтах Мировой войны, — меня не оставляла тайная надежда. Я предпринимал попытки разыскать дорогую моему сердцу Екатерину.
Тяжким бременем не уплаченного долга сопровождала меня невозможность вернуть в Лхасу волей случая оказавшуюся у меня реликвию.
Летом 1917 года я получил звание генерал-лейтенанта и был назначен командующим VI кавалерийского корпуса, в который входила и бывшая моя 12 дивизия.
Корпус вел оборонительные бои в Трансильванских Альпах. Обстановка на фронте и в России в целом создалась тяжелая и взрывоопасная.
Революция распространялась как лесной пожар. Повсеместно царствовала анархия. Солдатские советы проводили бесконечные митинги. Командиры, озабоченные порядком во вверенных им частях, подвергали свою жизнь опасности — офицеров арестовывали и даже расстреливали. Дезертирство подтачивало силы армии. Военное руководство бездействовало.
Обнадеживающие перемены появились лишь с назначением моего друга генерала Лавра Корнилова командующим Юго-Западным фронтом. С целью наведения порядка он применил суровые меры — запретил митинги, создал специальные подразделения для отлова дезертиров. Нерешительные командиры безжалостно увольнялись. Восстановили военные трибуналы с правом вынесения смертных приговоров. Это принесло плоды — паническое бегство частей прекратилось, наступление противника остановили.
Но ситуация в войсках ухудшалась с каждым днем, и я все яснее понимал бессмысленность дальнейшего пребывания на службе в российской армии.
Принять окончательное решение помог случай. Однажды во время лихой скачки подо мной убили жеребца. Выстрел раздался со стороны позиции, занятой русскими частями. При падении я сильно повредил ногу и, воспользовавшись этим происшествием, получил направление на лечение в Одессу.
С грустью попрощавшись с наиболее близкими и доверенными офицерами, я поблагодарил их за верную службу и в сопровождении Григория Малоземова покинул фронт.
В шумной и веселой Одессе, как это всегда случается с прифронтовыми городами, собралась самая разнообразная публика. Среди постояльцев гостиницы «Лондон», где я остановился, была представительница британского Красного Креста леди Мюриель Паджет. Она уговорила меня принять участие в сеансе предсказаний своей приятельницы-ясновидящей. С большим недоверием относясь к подобным «чудесам», я все же согласился.
Меня ввели в комнату, где лицом к стене сидела женщина. Я передал записку с вопросами ее ассистенту. Вначале она рассказала о моих дочерях. Анастасия в то время находилась в Лондоне, а Софи — в Париже, и долго я не имел о них никаких известий. Из ее ответа следовало, что у дочерей все хорошо. Зато о моем будущем ясновидящая рассказала немало удивительного:
— В ближайшее время вам предстоит долгий и нелегкий путь. — Голос ее звучал глухо, говорила она отрывисто, иногда надолго замолкая, как будто напряженно стараясь разглядеть нечто скрытое и неведомое. — В конце пути вас ждет краткая встреча с женщиной, которую вы давно и тщетно разыскиваете. Вас будут поджидать опасности, связанные с каким-то очень старым долгом… но на вас — благодать, и их удастся счастливо избежать… однако долг останется. У вас есть нечто, что вам не принадлежит и это… не знаю, как назвать… придает вам дополнительные силы, много сил. Поэтому вы получите высокое назначение и приведете армию к победе. Вас ждут большие почести. Вы откажетесь от высокого поста, но некоторое время спустя вновь займете его…
Я не очень доверял словам ясновидящей. Такого рода сеансы стали очень популярны тогда в Одессе — люди стремились уйти в мистику, спасаясь от острого предчувствия конца света, охватившего все слои общества.
«Мне часто приходили мысли о Судном дне, и я совсем не удивился, когда 8-го ноября газеты написали, что Керенский и его правительство свергнуты. Двое суток в столице шли бои, после чего Ленин и Троцкий, встав во главе большевистского правительства, захватили власть.
Эту новость совершенно спокойно восприняли в Одессе. С друзьями-офицерами мы спорили о том, что следовало бы организовать сопротивление этой диктатуре меньшинства, но мне пришлось осознать, что ни они, ни общество в целом не считали необходимым приступить к каким-либо решительным действиям».[16]
Наконец, получив командировочное предписание, я отбыл в Петроград, куда незадолго до этого отправился генерал Корнилов. Мы надеялись найти там поддержку нашим планам по организации сопротивления большевикам.
Дорога до Петрограда, прежде занимавшая всего два дня, растянулась теперь на целую неделю. По пути на вокзале города Могилева, где располагалась ставка Верховного главнокомандующего, я стал свидетелем убийства армейским сбродом временно исполняющего обязанности командующего генерал-лейтенанта Духонина. Он без охраны приехал туда, чтобы подписать соглашение с только что назначенным большевистским главнокомандующим — бывшим кандидатом в офицеры Крыленко.
Поезд подошел к перрону столичного Николаевского вокзала на рассвете. С большим трудом найденный Малоземовым извозчик — привычных таксомоторов на Литовском проспекте и Знаменской площади не оказалось — долго рядился и запрашивал немыслимую сумму, чтобы отвезти нас в гостиницу «Астория».
Электрические фонари уличного освещения не горели, и обычно шумная площадь выглядела промозглым зимним утром особенно пустынно. Холодный ветер гнал обрывки газетных листов и кучи мелкого мусора. Памятник государю Александру Третьему заляпан белыми кляксами краски, а огромный постамент наспех заколочен досками. На стенах зданий наклеено множество листов серой плохой бумаги с набранным мелким шрифтом текстом. В верхней части каждого крупно отпечатано — «Декрет». Ниже текст — о мире, о собственности на землю, об упразднении сословий и воинских званий. Российские дантоны и робеспьеры таким образом сообщали жителям о своих решениях.
Темный Невский проспект — некогда блестящая главная улица столицы империи — сейчас выглядел очень мрачно и замусоренно. Огромный магазин братьев Елисеевых зиял провалами разбитых зеркальных витрин. Внутри, меж разрушенных прилавков, скользили, как крысы, серые тени мародеров.
Как объяснил мне мой приятель-офицер, остановившийся там же, в «Астории», теперь никто не имел права покидать столицу без разрешения Петроградского совета большевиков.
В Генштабе царила атмосфера тихой подавленности, все офицеры — в гражданском платье, это производило ужасное впечатление.
Я оставил заявление о нежелании более оставаться на службе в российской армии. Шестого декабря Финляндия объявила о независимости, и я решил получить паспорт, обратившись в канцелярию статс-секретаря.
К моему удивлению, большинство учреждений, канцелярий и министерств продолжали действовать, несмотря на повсеместную общую растерянность. Я получил удостоверение, в котором говорилось, что предъявитель сего финн, находящийся на пути в Финляндию.
Агвана Доржиева, на помощь которого я рассчитывал, надеясь вернуть в Тибет волей случая оказавшуюся в моих руках реликвию, найти не удалось. Он исчез в 1916 году, сразу после убийства Распутина, и с тех пор не появлялся. В ожидании известий от Лавра Корнилова я заполнял время ежедневными длительными прогулками.
На улицах не заметно следов боевых действий, лишь изредка попадались пулевые отметины на стенах зданий, да многие полицейские части сожжены. В Зимнем дворце выбиты окна, у входов стоит охрана из матросов с красными повязками на рукавах.
Я с ностальгией вспоминал те дни, когда Кавалергардский полк нес караулы в Зимнем дворце. Офицеры облачались в историческую парадную форму: мундир из белого сукна с посеребренным воротником и галунами, плотно облегающие лосины — их посыпали внутри мыльным порошком и мокрыми натягивали на обнаженного кавалергарда — они идеально высыхали на теле, и на сутки караула о еде и туалете приходилось забыть. В блестящих сапогах гораздо выше колен попытка присесть оборачивалась настоящим мучением. На голову давила каска, украшенная двуглавым императорским орлом, в полку его называли «голубем».
Но неудобства меркли пред ощущением причастности к славе великой империи. Здесь же, в Зимнем дворце, один раз в год императрица Мария Федоровна, бывшая шефом кавалергардов, радушно принимала всех офицеров полка.
Революционный Петроград поразил меня обилием красного — красные банты на серых солдатских шинелях, красные флаги на балконах, вывесках магазинов и ресторанов, даже на фонарях электрического освещения и авто, заполненных вооруженными людьми.
Красный гюйс трепало балтийским ветром и на флагштоке стоявшего в незамерзшей Неве у Николаевского моста старого крейсера «Аврора». Угрюмый вид, серые борта с потеками ржавчины и нацеленные на городские улицы артиллерийские башни — все это выглядело грубым диссонансом строгому великолепию петербургских набережных.
Но жизнь в городе продолжалась — открыты кафе и рестораны, в театрах играли спектакли, в синематографах шла последняя фильма с неподражаемой Верой Холодной, продолжение нашумевшего «У камина» — «Позабудь про камин, в нем погасли огни…».
На Каменном острове, на кортах петербургского лаун-теннис-клуба, еще не укрытых снегом, самые преданные любители этой игры перекидывали мяч через сетку. Здесь в начале века мой друг князь Белосельский-Белозерский после посещения Франции, где он познакомился с конным поло, организовал в устье Невы клуб, и мы много часов посвятили увлекательному виду спорта.
А чуть дальше — на стрелке Елагина острова — располагался, как его называли, пуант — главное место ночных прогулок в обществе дам. Там провожали и встречали солнце короткими белыми ночами.
Я вспоминал ставшую модной в 1914 году фразу одной из русских поэтесс о том, что покидавшие Петербург тем первым военным летом вернулись уже в Петроград. А куда вернулся теперь я? Прежний любимый город, казалось, исчез навсегда — и я со сладкой тоской вспоминал все, что доставляло такую радость прежде. Блестящий ежегодный парад гвардейских частей на Марсовом поле весной, после которого части уходили в летние лагеря в Красное Село, и традиционные скачки, после маневров, завершавших лагерный сбор, на которые съезжалось все петербургское высшее общество. Знаменитые концерты в красносельском театре у Безымянного озера, где в присутствии венценосной четы выступали лучшие силы императорских трупп — Кшесинская, Преображенская, Шаляпин, Ермолова…
Вспоминались простые прелести повседневной жизни — веселый скейтинг-ринг на Каменноостровском и каток с оркестром в Юсуповском саду, вкусные леденцы фабрики Ландрин и горячие филипповские булки. Вспоминались любимые мной пасхальные праздники, когда дворцы и храмы ярко освещены, и веселая суета на улицах не утихает ни днем ни ночью. Бесконечные пасхальные визиты и троекратные, по русскому обычаю, поцелуи. Все это уходило навсегда.
Я встретился в Петрограде со многими прежними друзьями. Офицерами, не раз демонстрировавшими в боях истинное мужество, ныне владел страх — они говорили о полной безнадежности попыток сопротивления и не проявляли стремления к борьбе против нового режима. В столице и Одессе общественное мнение оказалось единым.
Как-то я обедал в Новом клубе. За одним со мной столом оказались двое Великих князей. В этот момент стало известно, что в Охотничьем обществе большевики провели обыск, арестовав при этом несколько человек, в их числе оказались и мои друзья — кавалергард Арсений Карагеоргиевич, брат короля Сербии, и генерал Лавр Корнилов, с которым мне так и не удалось встретиться.
Это происшествие вызвало горячее возмущение у присутствующих в клубе. Воспользовавшись моментом, я попытался убедить Великих князей в том, что именно они должны возглавить вооруженное сопротивление.
«Лучше погибнуть с мечом в руке, чем получить пулю в спину или быть расстрелянным», — сказал я.
Но Великие князья придерживались другого мнения и также, как большинство тех, с кем мне довелось говорить, считали борьбу с большевиками бессмысленным занятием. Они говорили о том, что чрезвычайно заняты. Сергей Михайлович пытался спасти и переправить в Европу банковские авуары госпожи Кшесинской, которая в сопровождении другого Великого князя, Андрея Владимировича, более года назад покинула Петербург.
За соседним столом обедала довольно пестрая компания. Спиной к нам расположился человек в кожаной тужурке авиатора, который, казалось, внимательно прислушивается к разговору. Когда он обернулся, я узнал британского агента Рейли, с которым судьба столкнула меня в Тибете и позже здесь, в Петербурге.
По выражению его лица я понял, что он тоже меня узнал. Рейли встал из-за стола и вышел в холл, а несколькими минутами позже к нам подошел официант и тихо сказал, что вышедший господин сообщает кому-то по телефону о том, что в Новом клубе сейчас находятся Великие князья и высокопоставленные военные чины. Мы не стали терять времени и поспешили покинуть клуб.
В холле я столкнулся со старым приятелем Эммануилом Нобелем, главой крупной промышленной фирмы. Он, узнав о случившемся, предложил воспользоваться его квартирой, чтобы укрыться от преследования. Я горячо поблагодарил его, и мы поспешили уйти.
Извозчиков рядом с клубом не оказалось, пришлось идти пешком — дом Нобеля находился на правом берегу Невы, неподалеку от клиники Виллие. Эта пешая прогулка могла кончиться печально. На Александровском мосту кто-то из бдительных прохожих крикнул: «Вон идет офицер!» — и указал на нас солдатскому патрулю с красными повязками на рукавах. Один из них снял с плеча трехлинейку с примкнутым штыком и направил ее мне в грудь. Другой — очевидно, старший, — в офицерской папахе, потребовал предъявить документы. Нобель протянул ему шведский паспорт и объяснил, что он подданный Швеции и направляется на тот берег — домой. Пока солдаты проверяли паспорт, я имел возможность собраться с мыслями и на вопрос о моих документах ответил, что только сегодня приехал из Финляндии и документы находятся в багаже на Финляндском вокзале. Старший патруля недоверчиво посмотрел на меня, но тут на набережной раздались чьи-то крики, и патруль, оставив нас, поспешил туда.
Квартира Нобелей занимала бельэтаж дома, построенного на территории завода, принадлежавшего их фирме. В доме царил беспорядок — семья готовилась к отъезду из большевистского Петрограда. Нас встретил Эмиль Нобель, который радушно приветствовал меня. Он извинился, объяснив, что появились неотложные дела и им с братом необходимо немедленно уйти.
— Екатерина, у нас в гостях наш друг — барон Маннергейм, — представил он меня вышедшей к нам женщине. В дверях гостиной, бессильно опершись рукой о стену, стояла та, чей образ вот уже десять лет я хранил в своем сердце.
Потом, когда прошло первое смятение, мы говорили разом и разом умолкали, я держал ее руку, не смея прикоснуться к ней губами. Откуда-то из глубины дома раздался звонкий голос, звавший маму, и к нам вбежал высокий худенький черноволосый мальчик, как будто сошедший с моей старой семейной фотографии.
Екатерина рассказывала, что после смерти отца она с сыном и сестрой уехала в Европу. Во Франции встретила Эмиля и, став его женой, вернулась в Петербург.
— Я искал вас все эти годы, — говорил я ей, — и не мог найти.
Она кивала, и глаза ее лучились радостью. Екатерина не решилась искать меня. В годы войны в сообщениях газет с театра боевых действий она несколько раз с замиранием сердца встречала мое имя. Но что же делать — судьба развела нас, и искреннее глубокое чувство, возникшее десять лет назад в Верном, увы, не смогло соединить наши жизни. Так говорила она и нежно касалась губами моей щеки. А я, потеряв голову окончательно, отказывался в это верить и, позабыв про все на свете, звал ее уехать со мной в Финляндию. Душа разрывалась, казалось — я не смогу далее жить без нее. Но она тихо и ласково говорила, что это невозможно, и улыбалась, а из глаз — таких прекрасных и любимых! — катились теплые слезинки.
И вновь на пути встала судьба — испуганная горничная доложила, что в дверь громко стучат какие-то люди и требуют немедленно отворить, утверждая, что в квартире находится генерал. Екатерине, сыну и всем Нобелям угрожала серьезная опасность из-за того, что они меня приютили. На мгновение прижав к себе любимую женщину, я быстро прошел через кухню к черному ходу. Но и в эту дверь уже колотили прикладами. Тогда, открыв окно, выходившее на заводской двор, и увидев, что там еще нет преследователей, я вылез на узкий карниз, добрался до водосточной трубы на углу дома и соскользнул вниз.
Тихими темными улочками Выборгской стороны я отправился в Удельную, где жил мой старинный приятель-финн, так же, как и я, учившийся когда-то в кадетском корпусе в Хамина. В прошлом — офицер русской армии, выйдя в отставку, завел собственное торговое дело и поселился в Удельной. К счастью, он оказался дома и согласился предупредить Малоземова о грозящей опасности.
Я ожидал вахмистра той же ночью у известной «Виллы Родэ». Промозглый балтийский ветер мел по грязной мостовой поземку. Малоземов подъехал с нашим багажом на извозчике, я сел в пролетку, поднял кожаный верх и указал вознице адрес. Тот, опасливо оглядываясь на нас, все же тронул поводья.
Вскоре экипаж остановился возле высокой ограды, из-за которой просматривалась темная, построенная уступами громада дацана. Буддийский монастырь на окраине Петрограда стал последней надеждой вернуть тибетскую реликвию ее законным владельцам. Чуть дальше, у входных ворот, я заметил маленькие, время от времени вспыхивающие огоньки. При сильном порыве ветра они разгорелись особенно ярко, посыпались искры, и я смог разглядеть двоих солдат, курящих самокрутки. Один из них надрывно закашлялся, второй прикрикнул на него:
— Нишкни, рванина, чухна неумытый… Слышь, вроде пролетка подкатила, а?..
Они помолчали, прислушиваясь к шуму ветра в кронах высоких вязов на монастырском дворе.
Я ткнул извозчика в спину стволом нагана и показал знаками, чтобы он сидел тихо. Ночную тишину дацана разорвали звуки выстрелов.
— Вейко, зачем опять пиф-паф? И эта ночь, и другая, и другая снова — всегда пиф-паф. Бог не велит людей убить. Много крови — совсем плохо, — взволнованно заговорил тот, которого его спутник назвал «чухной неумытым». По акценту и интонациям я узнал земляка-финна.
— Вейка, вейка, — передразнил его второй. — Чухна и есть, бестолковый! Слышал, ты, дуролом, что товарищ Троцкий сказал — никакой пощады кровопийцам…
В монастырском дворе раздались голоса, заскрипели распахнутые ворота, раздалась команда: «Заводи мотор!» — ив мерцающем тусклом свете керосиновых фонарей у авто засуетились несколько вооруженных людей. Двое — один в черном матросском бушлате и бескозырке, а второй в кожаном пилотском реглане — отошли на несколько шагов в сторону, приблизившись к нашей пролетке, поэтому я мог слышать их разговор:
— Надо обязательно оставить здесь засаду — он может появиться в любое время, — настаивал «кожаный», но матрос не соглашался, все время повторяя слово «мандат».
Затарахтел мотор, и я уже не слышал их последующего разговора, но когда, прикуривая папиросу, «кожаный» осветил пламенем зажигалки лицо, я узнал Рейли.
В этот момент громко заблажив: «Караул, убивают!» — наш возница кубарем скатился с козел и на четвереньках бросился в придорожные кусты. Малоземов вскочил на облучок и хлестнул вожжами почти заснувшую старенькую кобылу. Пролетка со скрипом развернулась на узкой мостовой. Сзади раздался крик: «Стой, гнида!», бухнул неточный выстрел из трехлинейки, затопали кованые сапоги. Я резко опустил верх пролетки и выстрелил в ближайшего преследователя.
Началась погоня. Я понимал, что большевистское авто быстро настигнет старую лошадь, которую яростно нахлестывал Малоземов. Когда мы проскочили ярко освещенные окна «Виллы Родэ» — изнутри доносились обрывки мелодии, кто-то танцевал танго, — я изготовился к стрельбе и, как только авто появилось в полосе света, несколько раз выстрелил в механика, управлявшего машиной. На этот раз фортуна улыбнулась нам — водитель ткнулся головой в деревянное колесо руля, и неуправляемый автомобиль, резко вильнув, выехал на крутой откос берега Большой Невки и опрокинулся. Преследователи открыли огонь, но нам удалось благополучно добраться до Финляндского вокзала.
Ночью шел поезд на Хельсинки. В карауле стояли солдаты-ингерманландцы, плохо знавшие русский язык. Заговорив с ними по-фински, я убедил их, что удостоверение, полученное в канцелярии статс-секретаря, позволяет ехать в Финляндию. Грустным оказалось бегство на родину — тревога за Екатерину не давала мне покоя.
Через неделю, получив финский паспорт, я вновь вернулся в Петроград. Дом Нобелей встретил меня распахнутыми настежь дверьми и гулкой тишиной опустевших комнат…
Лавр Корнилов по-прежнему томился в большевистских застенках, аресты офицеров продолжались каждый день, власть Ленина и Троцкого укреплялась.
Декабрьский Хельсинки, неприветливо темный, встретил меня пронизывающим ветром и ледяным дождем. Прослуживший почти тридцать лет в русской императорской армии генерал-лейтенант, самовольно вышедший в отставку, встретивший после долгой разлуки единственную любимую женщину и сына лишь для того, чтобы потерять их, теперь уже навсегда, — я, Карл Густав Эмиль, барон Маннергейм, пятидесяти полных лет от роду, вынужден начинать жизнь заново…
И той же ночью по исполнении третьего часа связали Сына Человеческого слуги первосвященника и повели к дворцу Ирода Великого, чтобы предать Его в руки римскому прокуратору Понтию Пилату. И с ними старейшины иудейские и первосвященники, и саддукеи знатные, и замышляли между собой: отдадим Его начальнику римскому, чтобы распял Его. Ибо убоялись судить Его по заповедям своим в храме и побивать каменьями Сына Человеческого, дабы не было смуты великой среди сынов израильских, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи.
И вышел Понтий Пилат и спросил: «В нем обвиняете вы человека сего?» И сказали первосвященники: «Смущал народ и призывал разрушить храм». И спросил Пилат у Сына Человеческого: «Так ли?» И ничего не ответил ему Иисус. Тогда прокуратор римский сказал начальникам иудейским: «Не нахожу вины в сем человеке».
И хотел он отпустить Сына Человеческого, ибо просила о том возлюбленная им Мария Магдалина. Но старейшины и первосвященники обвиняли Иисуса: возмущает народ, уча по всей Иудее от Галилеи до места сего; сеет смуты речами своими и чудесами ложными.
И спросил Понтий Пилат: «Так Он Галилеянин? Отдайте сего человека на суд тетрарха галилейского и скажите, что я не вижу никакой вины на Нем».
А Ирод Антипа, тетрарх галилейский, был в ту пору в Иерусалиме и давно искал увидеть чудеса, свершенные Сыном Человеческим, ибо много слышал о том. И привели к нему Иисуса, и поставили средь флейтисток и танцовщиц, натирающих тела свои благовониями.
И говорил Ему тетрарх: «Яви чудо нам и уверуем, что ты Мессия, судия колен израилевых». И молчал Сын Человеческий.
Тогда повелел Ирод, и одели Иисуса в белые одежды царские и багряницу, и сплели терновый венец, и возложили на Него, и дали Ему в правую руку трость. И вывели Его пред многими званными на площадь у дворца Ирода, и те насмехались над Ним; кланялись и становились на колени, и говорили: «Радуйся, Царь Иудейский! Суди нас». И били Его по голове тростью, и плевали на Него.
И привели Сына Человеческого к Понтию Пилату, и сказал он первосвященникам: «Се человек! Тетрарх не нашел никакой вины в Нем; я отпускаю Его».
Но прекословили первосвященники и саддукеи, и старейшины иудейские, и обвиняли Иисуса: проповедовал и говорил, что Он Христос, Сын Давидов, новый Царь Иудейский.
И спросил Пилат: «Ты Царь Иудейский?» Иисус отвечал ему: «Ты говоришь!» И молчал потом.
И повелел римский прокуратор взять Сына Человеческого; и взяли Его в преторию, но первосвященники иудейские боялись войти, чтобы быть чистыми в субботу.
Был же обычай, что на всякий праздник отпускал римский прокуратор одного узника; и вышел Пилат перед синедрионом и сказал: «Хотите отпущу вам Царя Иудейского?»
Но начальники иудейские и фарисеи стали кричать и просить, чтобы отпустил им Вараввана, который повинен был в убийстве. Пилат же сказал: «Что же хотите, чтобы я сделал с Тем, которого называете Царем Иудейским? Какое же зло содеял Он?»
Но они еще сильнее закричали: «Распни Его!» И Пилат, видя жестокосердие их и смятение, повелел принести чашу с водой; умыл руки свои и сказал: «Не повинен я в крови Сына Человеческого, смотрите вы». И сказали первосвященники: «Кровь Его на нас и на детях наших».
Тогда отпустил Пилат им Вараввана, а Иисуса предал на распятие. Иуда Искариот, видя то, пришел в храм и бросил средь Двора Священников тридцать сребреников, и сказал: «Грешен я! Не по своей воле предал я кровь невинную». Священники же иудейские сказали: «Что нам до того? Смотри сам».
И пошел Иуда в сад Гефсиманский, и нашел там плачущего нагого Фому, неверного раба Господа, и сказал ему: «Помоги мне, брат возлюбленный! А платье мое себе оставь».
И была у Иуды веревка крепкая и нож. И, сняв одежды свои, удавился он на крепком суку. И Фома, как он велел, рассек чрево его, и грянулись о землю внутренности его. И искали ученики пути правильного, и один лишь был верным, как источник воды чистой у одинокого белого дерева.
Август 200… г., Санкт-Петербург
Николай перевернул последнюю пожелтевшую, исписанную четким почерком с ятями страницу дневника.
Удивительная история десяти лет богатой событиями жизни Маннергейма заворожила его. А эти, явно более поздние, вставки незнакомого евангельского текста изумили — теперь Николай уже не сомневался, что это до сих пор никому не известный апокриф.
Первым ученикам Христа приписывалось несколько известных историкам апокрифических сказаний. Но среди них нет ничего похожего на это Евангелие. Такого полного и точного изложения жизни Христа нет и в других апокрифах — ни в найденных в Египте папирусах Оксиринхском и Эджертона, ни в главном открытии библейской археологии — кумранских свитках, обнаруженных в пещерах на берегу Мертвого моря. По крайней мере, в той их части, что уже опубликована.
Как к Маннергейму попало это Евангелие? Может, это и есть тибетская реликвия, о которой упоминает маршал?.. Зачем он поместил апокрифический текст среди глав своего дневника? И как объяснить странность самого этого текста?..
Загадки маршала Маннергейма множились.
Надежда обнаружить ключ шифра в дневнике растаяла. Аккуратно выписанные на бумажном листе руны из писем Маннергейма продолжают хранить свое загадочное молчание. Николай не верил, что специалист из Эрмитажа, к которому отправилась Анна, сумеет его нарушить.
Он вновь просмотрел распечатки фрагментов интернетовских сайтов, посвященных рунам.
Почему Маннергейм выбрал для записи именно руны?..
Популярность рун в гитлеровской Германии должна была распространиться и на союзную ей Финляндию. Недаром эмблемой финской авиации и танковых частей в то время служил хакаристи — та же свастика.
Значит, можно предположить, что руны знакомы хотя бы одному из троих — Хейно Раппала. А одного вполне достаточно — ведь маршал ясно указывает, что лишь втроем они смогут найти спрятанное.
Нет, здесь что-то не так…
А если бы Раппала погиб сразу после получения письма? Двое других не имели бы никаких шансов отыскать клад.
Значит, доверить ключ к шифру одному из адресатов Маннергейм не мог — по той же причине: не ровен час — помрет. Очень похоже на правду.
Но тогда получается, что никакого ключа вообще не существует — ведь двое из троих ничего о нем не знали. Даже если считать, что Хейно Раппала что-то не успел из-за скоропостижной кончины передать внучке (или же она чего-то не смогла понять), то уж сомневаться в том, что Монгрел старательно вызнал все у собственного деда, — не приходится.
Также можно отмести предположение, что маршал использовал шифр, известный всем троим, — тот же Миндаугас давно бы прочел все, что нужно, и постарался откопать спрятанное.
Но ни он, ни его внук почему-то не смогли этого сделать. Даже после того, как у последнего оказались все три письма.
Теперь ясно, что тайник — не мистификация.
Но почему для его нахождения избираются трое, судя по всему, совершенно несхожих друг с другом людей, разных национальностей и разного вероисповедания?..
Раппала — православный, литовец — судя по всему — католик, ну а саам-охотник, видимо, язычник.
А не в этой ли разности как раз и дело?..
Предположим, что Маннергейм не может доверить свою тайну одному — даже самому близкому — человеку. Соблазн в одиночку овладеть кладом может быть слишком сильным, тогда как троим придется искать компромисс.
Хорошо, допустим.
Но что это дает?..
Николай вновь упрямо уставился на листок.
Все три сообщения почти идентичны. Отличаются друг от друга лишь несколькими рунами.
Бессонная ночь, проведенная за перечитыванием дневниковых записей Маннергейма, давала себя знать — очертания рун окрашивались легкомысленно розовым цветом и становились зыбкими — кажется, они готовы пуститься в пляс…
Николай устало поднялся из-за стола. Нужно сделать перерыв — принять душ, поесть, да и на работу собираться пора.
Неприятное предчувствие, интуиция, к которой он наконец научился прислушиваться, вернула его из-за горизонтов чистой мечты в душный полдень петербургского лета.
Он постоял у распахнутой настежь балконной двери, бездумно глядя на скучную прямую проспекта Просвещения, заполненную грязно-бежевыми прямоугольниками типовых многоэтажек.
Привычный пейзаж не успокаивал.
Николай набрал телефонный номер жены, опасаясь, что она, как обычно, оставила трубку в кабинете, а сама ходит по торговым залам. Но, на счастье, застал Елену на месте.
— Привет, твои планы не изменились? — поинтересовался он. Елена сегодня после работы собиралась с Владимиром Николаевичем уехать на залив и выходные провести там.
— Нет, а почему ты спрашиваешь?..
Николай замялся, не зная, как точнее рассказать ей о своих смутных опасениях.
— Давай скорее. У меня масса дел, — поторопила она.
— Ты знаешь, что-то мне тревожно… Может, не поедешь никуда?
Елена заметила, что ночами нужно спать, а не читать до утра, и тогда не будет ничего мерещиться. И вообще, у нее серьезные планы по уборке, как она выразилась, «рыбацкого гнезда», и она не намерена из-за нелепых страхов от них отказываться.
— У тебя все? — закончила она.
— Нет, ты едешь с Владимиром Николаевичем?
— Да, папа за мной вечером заедет домой, а ты когда вернешься?..
— У меня — летучка, так что не рано. Это хорошо, что Николаич будет за рулем…
Елена обиженно фыркнула и заявила, что ей хорошо известен противный мужской шовинизм в отношении женщин-водительниц.
Он в очередной раз объяснил, что шовинизм тут ни при чем, а вот гонять, как она, по перегруженной транспортом трассе «Скандинавия» со скоростью сто пятьдесят кэмэ в час на их старенькой «девятке» — по меньшей мере, неумно.
Елена обиделась уже всерьез — пришлось мести хвостом, приседать и кланяться, чтобы разговор завершился на мирной ноте.
Сигареты, которые он курил одну за одной по пути в редакцию, не успокаивали. Ему толком не удавалось сосредоточиться на дороге, в результате пару раз пришлось резко тормозить, чтобы не въехать в замедляющие ход передние машины. Сзади, естественно, возмущенно сигналили, а самый обиженный — на новенькой сверкающей «десятке», — обогнав его, намеренно несколько раз резко тормозил, подставляя корму для удара.
«Дерганья обиженного "десяточника" с внешностью мелкого бандюгана — типичное проявление петербургских дорожных нравов», — подумал Николай. Северная столица диктовала своим жителям сдержанность, граничащую с холодностью, и эмоциональную закрытость. Но многочисленные стрессы жителя современного мегаполиса требовали эмоциональной разрядки, и, очевидно, сев за руль, петербуржцы в прямом и переносном смысле отпускали тормоза.
Он с трудом разыскал на заднем дворе место, куда приткнуть машину. Привычно погладив руль, сказал «девятке» ласковое слово, поблагодарив за то, что добрались без происшествий. Не то чтобы Николай верил, что машина его понимает, но такие маленькие моменты общения создавали приятную атмосферу дружеской близости и доверия, необходимую человеку и, наверное, автомобилю тоже.
В редакции, несмотря на лениво-жаркий день традиционно бедного на новости августа — все в отпусках и в городе почти ничего не происходит, — царило веселое оживление. В коридоре у просмотрового магнитофона собралась толпа. Руководила процессом корреспондент Слава Елкина, время от времени нажимавшая кнопку «play». Народ веселился вовсю.
Невысокая полненькая Славка прославилась как автор самого знаменитого в «Новостях» стендапа — это когда корреспондент с микрофоном говорит что-то в кадре.
Дело было зимой, в Крещение. В маленькой деревеньке на Онежском озере Славка снимала сюжет о том, что верующие, какой бы мороз ни стоял 17 января, исполняя обряд, непременно окунаются в прорубь.
Елкина, склонная к авантюрам, решила тоже окунуться. Погода подходящая — градусов двадцать мороза, но смелую журналистку это не остановило. Более того, она решила сделать в проруби стендап, и сделала. Вполне духоподъемный сюжет о добрых и хороших верующих заканчивался этим самым стендапом — погрузившаяся в прорубь Славка выныривала, хватала лежащий на ледяном бортике микрофон и слегка дрожащим голосом что-то говорила.
Оператор снимал ее крупно, так что были отчетливо видны капельки воды, стекавшие с шеи в красивую ложбинку, образованную двумя крупными полушариями идеальной формы… Едва прикрытые лоскутками откровенного купальника, они просто царили, занимая половину кадра.
Славкина грудь притягивала зрительское внимание, мешая воспринимать вполне правильные слова и придавая безобидному сюжету фривольное звучание.
После того как репортаж прошел в эфире, в редакцию «Новостей» пришло письмо из петербургского епархиального управления, где осторожно высказывалось сожаление по поводу утраченной ныне культуры костюма, соответствующего религиозным обрядам…
Николай остановился, пытаясь понять суть происходящего на экране монитора. Славка демонстрировала новый, только что отснятый материал. Небольшого роста лысоватый мужичок, по виду — малопьющий, положительный работяга, — боязливо отступал от наседавшей на него крупной женщины средних лет.
— А почему, — визгливо и злобно вопрошала тетка, — почему он назвал меня Бабой Ягой, а? Никакая я не Баба Яга, она уродина, а я — совсем даже наоборот — красавица, — и она картинно подбоченилась, явно рассчитывая на реакцию не попавшей в кадр группы поддержки.
Народ загалдел, и оператор, торопливо сделав панораму, продемонстрировал разновозрастную группу человек в тридцать, кучно стоявшую у двух поваленных секций бетонного забора…
Славка, кивнув на монитор, сказала Николаю:
— Для вас сюжет делаю про уплотнительную застройку.
Прочитав текст, Николай понял, что такой накал страстей, как на Удельной, ему еще не встречался. Сюжет начинался фразой: «Прораб строительного участка Семен Бородавка обвинил сорокалетнюю Марину Тихомирову, мать четверых детей, в том, что она вылила ему на голову поллитровую бутылку крысиного яда».
Далее корреспондент описывала трехмесячное противостояние, за время которого жильцы умудрились разобрать три деревянных забора, а прямо сегодня опрокинули несколько блоков нового — железобетонного.
Прораб Бородавка с негодованием рассказывал, что со стройплощадки регулярно растаскивают материалы, нанятый сторож боится выходить на объект, потому что его травят собаками, а строительную бытовку-вагончик неизвестные злоумышленники дважды пытались поджечь.
Жильцы тоже несли потери — один из главных инициаторов жесткого отпора захватчикам-строителям выбыл из борьбы на неопределенный срок — лежал дома с переломом ноги и множественными ушибами. Протестующие прямо обвиняли в этом застройщика, который, по их словам, нанял бандитов для устрашения и расправы над непокорными жителями Удельного проспекта.
Отправив Славку монтировать сюжет, Николай составил предварительную верстку завтрашних выпусков и собрал в кучу сообщения информационных агентств, чтобы их обработала новенькая ведущая.
Худенькая и маленькая юная брюнетка имела примечательное сочетание имени и фамилии — Мэрилин Стаднюк. Сейчас она прилежно устроилась за компьютером, пытаясь превратить сухой казенный слог информационных сообщений в некое подобие живой разговорной речи.
Зная, что у него есть как минимум час свободного от служебных забот времени Николай, прихватив свои выписки и письма Маннергейма, отправился думать и курить во двор. Там его и обнаружила Анна.
— Привет. — Он глянул на нее, стоящую против солнца и прищурился: — Ну, как дела?
— Привет, все нормально. Побывала сегодня в Эрмитаже и Димку Воскобойникова проведала.
— Я имел в виду твою встречу со Стасисом.
Анна заметно смутилась, отвела глаза и не ответила.
«Вот, едрена корень, она, похоже, действительно умудрилась влюбиться в этого ублюдка. Как же это все не к месту…»
Николай, прерывая неловкую паузу, спросил:
— Ну а в Эрмитаже что?
Она подробно, стараясь ничего не упустить, пересказала ему свой разговор с Мардерфильдом.
— Шифровальщик-пенсионер пока не звонил, — закончила Анна.
Тренькнул мобильник — отзвонилась Елена, сообщив, что они с В. Н. отправляются на залив. Николай закурил, в очередной раз предпринимая попытку успокоиться. Счет выкуренных сегодня сигарет уже перевалил на третий десяток. Однако это не помогало. Лишь начали болеть легкие, да и изо рта разило пепельницей.
— Похоже, мы с Мардерфильдом говорим об одном, — нужно пытаться читать шифр, исходя из сакрального смысла рун. Вот смотри. — Он развернул на коленях свои записи и показал Анне отмеченное зеленым маркером одинаковое завершение всех трех писем.
— Эта руна называется «ман» или «маназ» — фонетически она передавала букву «эм». В сакральном же плане обозначает человеческое существо. Обычно письмо завершается подписью. Может быть, это она и есть: «ман» созвучно фамилии Маннергейм. С этой же руны начинаются зашифрованные части всех писем. И если «ман» — это Маннергейм, то, судя по всему, далее должно следовать какое-то сообщение о его действиях. Приблизительно так: «Маннергейм сделал то-то» или «Маннергейм спрятал нечто там-то».
Правда, рун-то в старшем футарке всего двадцать четыре. Выходит, что Маннергейму при составлении шифра пришлось обходиться двумя десятками слов. Это чуть больше, чем лексический запас Эллочки-людоедки. Здесь неизбежно возникает приблизительность — то есть точной расшифровки просто не существует, возможны лишь толкования. Как он при этом умудрился указать конкретное место тайника — ума не приложу… Что ты по этому поводу думаешь? Эй, ты где вообще?
Анна, судя по всему, уже некоторое время его не слышала. Она бездумно смотрела на купола Иоанновского собора — величественного и необычного для Петербурга храмового здания. Там, сквозь романские арки колокольни, казавшаяся в контражуре заходящего солнца большой черной птицей, монахиня малым звоном призывала инокинь на вечернюю службу.
— Извини, — Анна улыбнулась. — Знаешь, я иногда такой дурой бываю… — И, помедлив немного, добавила: — Я думаю… нет, я уверена, что это — не Стасис.
Николай вздохнул. Он понимал, что Анькины нежные чувства могут дорого обойтись, но не стал в очередной раз переубеждать — просто погладил ее по голове.
— Ладно, девочка, скоро все прояснится. Еще Иисус говорил: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Пойдем, меня там, похоже, новенькая ведущая уже заждалась…
Как выяснилось, Мэрилин Стаднюк совершенно не умела писать телевизионные «информашки», составляющие основу выпуска новостей. Николай усадил ее рядом и заново, подробно объясняя «что», «почему» и «зачем», переписал текст. Закончив правку, Николай отправил до ступора испуганную Мэрилин домой, пожелав ей все же попробовать успокоиться и отдохнуть перед утренним эфиром.
«Завтра обязательно нужно трактовать выпуски,[17] — подумал он, — это поможет девочке хотя бы избежать откровенной паники».
Но эти профессиональные заботы выглядели игрушечными на фоне произошедших за последнюю неделю событий и угрожающего ближайшего будущего…
Он отодвинул компьютерную клавиатуру и разложил на столе листы бумаги с рунами.
Итак, «ман» — это Маннергейм.
Следующая руна «ае» или «ансур» — она определяет божественную принадлежность чего-то. Чего?
Далее следует руна «феох» — буквально означающая «скот», а в переносном значении — вообще любое движимое имущество. Значит, вместе получается некое «божественное имущество». Ну что же, учитывая тибетских лам — очень похоже на правду.
Что дальше? Далее следовали две руны — «гебо» и «элхаз».
Первая имела довольно сложное толкование — это и дар, полученный и отданный, и упоминалась вновь божественная сущность.
Вторая же, без вариантов, обозначала «защиту».
Попытавшись соединить все это, Николай получил фразу — «Маннергейм полученное и передаваемое в дар божественное имущество защитил (укрыл, спрятал?)».
Шесть рун составляли первую «снежинку» письма.
Вторая вновь начиналась руной «ман», и Николай почти уже не сомневался, что так в шифре Маннергейм обозначил себя самого.
Три следующие: «рэйд», «лагу» и «иса» —
легко выстроились в предложение — «Маннергейм двигался по замерзшей воде (то есть по льду)». Пока все правильно.
Следующее предложение заставило его усомниться в этом.
Выглядело оно так:
Если первая руна «тюр» даже своими очертаниями свидетельствовала о направлении поисков спрятанного, то следующие за нею две подряд руны «ур» выдавать скрытый смысл никак не хотели…
Эта руна обозначала дикого быка тура, необузданную силу Вселенной или же, почему-то, мощь коллективной воли. На письме так передавали букву «U».
Следующие знаки ситуацию также не проясняли.
Николай догадывался, что непонятное пока предложение должно дать направление ищущим клад — об этом свидетельствовала первая руна.
Он решил, что «необузданная сила Вселенной», так же как и «мощь коллективной воли», здесь ни при чем.
Оставалось единственное значение — два быка или, точнее, тура.
Какой же реальный географический объект подразумевал Маннергейм?..
Бык — это одиночная скала, крупный камень, возвышающийся над водой. Николай неплохо знал ту часть Выборгского залива — быков там не было. Встречались группы камней, называемые «банками». Там собирались стаи мелкой рыбешки, и за ней регулярно охотилась щука, а иногда туда поднимались из прохладной глубины проголодавшиеся судаки.
Конечно, война и природоубийственные старания человека могли за прошедшие почти шесть десятилетий изменить рельеф заливного дна и уничтожить существовавшие некогда скалы. Но верить в это не хотелось, и Николай решил посмотреть попадавшиеся ему в Интернете финские карты Карельского перешейка тех лет. Может быть, там обнаружится что-нибудь связанное с двумя быками? Кстати, нужно выяснить, как будет бык или тур по-фински…
Карта медленно загрузилась, и он, щелкнув кнопкой «мыши», выбрал нужный участок — район острова Высоцкий. На мониторе появилось изображение черно-белой сильно потертой страницы финского атласа.
Полустершиеся надписи читались с трудом, но ему почти сразу удалось найти разгадку. Ну, конечно же, как он мог об этом забыть — остров Высоцкий до советской оккупации носил название Uuras — вот они, две подряд руны «ур».
Эти и следующие за ними руны легко сложились в предложение: «Направление движения — Уураз — восход (то есть на восток) — два участка замерзшей воды».
Это понятно: Маннергейм имеет в виду проливы между островами. На восток от Высоцка первым расположен остров Долгунец, вытянувшийся почти на половину залива, а следом за ним, отделенный километровым проливом, — остров Стеклянный. Похоже, речь в письмах именно о нем.
Николай вспомнил выложенную из крупных тесаных гранитных глыб пристань, и стенку волнолома, и уцелевшие участки фундаментов — когда-то на острове была большая усадьба. На Стеклянном сохранилась даже старая дубовая аллея, кем-то заботливо выращенная — просто так дубы в том районе не встречались.
Итак, Стеклянный, — первый конкретный результат расшифровки. Однако остров немаленький — нужны уточнения…
Тревога и страх покинули его — Николай увлекся поиском разгадки, предчувствуя близкую удачу.
В следующем предложении попались три ранее не встречавшиеся руны — «нид», «пеорд» и «кен».
Первая означала «потребность».
Вторую с некоторой долей приблизительности можно определить как «поиск правильного решения среди множества случайных вариантов» — толкователи рун утверждали, что ее форма имитирует стаканчик для игры в кости.
Руна «кен» обещала буквально «пролить свет» на нечто, пока не видимое.
В целом предложение можно прочесть так: «Потребность в выборе правильных действий Маннергейм освещает».
«Немного странно это выглядит почти в середине зашифрованного текста, — подумал Николай. — Зачем маршалу упоминать, казалось бы, и так очевидное?»
Внимательно посмотрев на копии писем, он нашел ответ и на этот вопрос: следующие «снежинки» неодинаковы — для каждого из адресатов Маннергейм зашифровал особую информацию и специально указывал на это.
Николай решил начать с письма Хейно Раппала, но его отвлек усилившийся шум — вечерний выпуск закончился, и новостийный народ собирался на летучку. Полуверцев решил прерваться и выкурить сигарету — потом придется часа два терпеть, пока летучка не закончится.
Бессонная ночь сказывалась. Он потянулся, зевнул так, что свело скулы, усилием воли заставил себя не тереть покрасневшие от усталости и напряжения глаза и, с трудом протиснувшись сквозь группки оживленно галдящих коллег, выбрался на лестницу.
Покурив и наполнив кружку остывшим и горьким кофе, он вновь обратился к письмам.
Точнее, к письму, которое Маннергейм написал Анькиному деду.
Первое предложение состояло из девяти рун.
Начиналось оно уже знакомой конструкцией: «полученное и передаваемое в дар божественное имущество спрятано», а далее следовала руна «торн». Она обозначала стойкость — стилизованный шип колючего растения, и еще много чего, в том числе и созидательную энергию мужского начала. Последнее тут вроде ни при чем.
Далее руна «лагу», то есть, «вода» и «беорк» — «береза», которую можно также толковать как «очищение» и «возрождение».
И наконец, две последние руны: «эйхваз» и «одал».
«Эйхваз» считалась руной смерти, а «одал» обозначала «землю предков» или «родовой дом».
Усадьба на Стеклянном когда-то была, это точно. Но при чем тут смерть?..
Может, Маннергейм имеет в виду кладбище?
А как с этим соотносится колючий кустарник, вода и береза?..
Ему вспомнились рассказы медянских мужичков о братской могиле на Стеклянном, где хоронили погибших красноармейцев. Она вроде бы находилась на восточной стороне острова. Вплоть до самого берега там тянулись глухие заросли ельника. Может, именно его обозначил Маннергейм руной «торн»?..
Нет, что-то здесь не так…
Братская могила появилась там, видимо, позже, после тяжелых боев весны 1944 года. Усадьба же находилась на другой, западной стороне острова.
А главное — почему Маннергейм пишет это именно Анькиному деду?
Николай, поглощенный размышлениями, не заметил, как началась летучка, и вернулся в реальность только после того, как перед его глазами оказались две изящные девичьи коленки — это опоздавшая Анна, не обнаружив свободных мест, уселась на высокий подоконник рядом с его рабочим столом.
В большой комнате, скрытый от них стеной, Шаховцев рассуждал об успехах и неудачах «Новостей» на прошедшей неделе, а Николай шепотом рассказывал Анне о том, что уже успел расшифровать. Вдруг на полуслове он замолчал, задумчиво потер подбородок и спросил:
— Слушай, а что там тебе говорил этот специалист из Эрмитажа? Ну, какая-то фраза, что-то связанное с березой и еще чем-то?..
Ответить она не успела, зазвонил его мобильник, и Николай негромко ответил:
— Да? Алло, я слушаю…
Анна расслышала мужской голос и даже вроде бы уловила акцент, но слов разобрать не могла. Мельком взглянув в лицо Николая, она испугалась. Он побледнел и непроизвольно закусил нижнюю губу, судорожно вцепившись в подлокотник кресла.
Собеседник Николая продолжал говорить, и гортанный чеченский акцент, казалось, заполнил все вокруг:
— Слушай внимательно. Твоя жена и ее отец у нас. Если будешь умным, мы их не тронем. Слушай…
Николай услышал очень спокойный голос Елены — так у любимой проявлялось сильное нервное напряжение:
— Коля, у нас с папой все в порядке…
Она продолжала говорить, но трубку уже перехватил прежний собеседник:
— Если будешь дураком, жену получишь по частям. Ты меня понял?
— Да, — подавленно подтвердил Николай.
В душе стало пусто и гулко — как в заброшенном храме.
— Ай, молодец. Завтра привезешь сюда деньги. Знаю, ты — бедный. Поэтому привезешь пятьдесят тысяч долларов. И будь умным — никому не говори.
Раздались короткие гудки. Николай несколько секунд просидел неподвижно, потом поднялся и сказал Анне:
— Мы уходим.
Август 200… г., деревня Медянка, Выборгский залив
В продуманный план захвата заложников и получения выкупа вмешался случай.
Неожиданно под вечер на соседний участок, отгороженный невысоким забором, лихо зарулила «семерка» цвета «баклажан». Приехавшие мужчина и женщина стали бодро разгружать машину. Рядом весело скакал крупный кобель — овчарка черного окраса.
По репликам соседей Арсен понял, что это отец и дочь.
Они открыли деревянные ставни на окнах, из пристроенного к дому сарайчика-эллинга выкатили лодку на самодельном прицепе.
Отец собирался на рыбалку. Дочь — высокая блондинка средних лет, — направилась к калитке в заборе, разделяющем участки. Она пару раз громко позвала Генку, откинула щеколду, но ее остановил Рамазан. Он начал привычно объяснять про уехавшего в город Генку, но отшатнулся, потому что черный кобель грозно зарычал и встал на задние лапы. Опершись передними о калитку, он попытался дотянуться ощеренной зубастой пастью до горла чеченца.
— Фу, Лир!.. Ты что, с ума сошел?! — Женщина за ошейник оттащила пса от калитки. — Извините, — сказала она, — он вообще-то доброжелательный и приветливый, не знаю, что с ним такое. А когда приедет Татьяна?..
Рамазан объяснил, что должна приехать сегодня вечером.
— А где Занги? — спросила женщина.
— Занги?.. — переспросил чеченец и пожал плечами.
Он не знал, что так звали убитого латышкой боксера.
Женщина пристально посмотрела на него и потащила упирающегося кобеля к дому. Она пристегнула к ошейнику карабин длинного поводка, продетого сквозь врытую в землю толстую металлическую скобу, но пес не успокоился — продолжал яростно лаять и рваться, удерживаемый прочной брезентовой лентой.
Арсен и Ингеборге, укрывшись за оконными занавесками, наблюдали, как блондинка подошла к отцу и что-то сказала, поглядывая в сторону соседского дома, — свирепый собачий лай мешал разобрать слова. Старик, отложив спиннинг, решительно направился к калитке.
— Милейший, — обратился к Рамазану сосед, — позвольте мне пройти. У меня тут с прошлых выходных остался кой-какой рыбацкий инвентарь.
— Нельзя, — грубо ответил чеченец, — Генка не велел никого пускать. Он приедет, с ним разбирайся.
— Никаких проблем, — Сосед улыбнулся и достал мобильный телефон, — Я сейчас позвоню Борьке, чтобы он дал разрешение.
У Рамазана явно сдали нервы. Он попытался выхватить мобильник. Но жилистый и подвижный сосед оказался проворнее — перехватил его кисть и резко вывернул. Заметив, что чеченец пытается другой рукой вытянуть из-за ремня пистолет, старик бросился вперед. Распахнувшаяся калитка врезалась Рамазану в грудь — он не устоял на ногах. Сверху на упавшего прыгнул сосед и резко ударил лбом в переносицу. Затылок чеченца глухо стукнулся о цементную плитку дорожки, и он обмяк.
За минуту до этого женщина отстегнула карабин и ринулась вслед за разъяренным кобелем на помощь отцу. Ингеборге выстрелила. Пуля ударила пса в правый бок, он заскулил и закрутился волчком. Потом бросился к забору, проскочил в дыру, скатился вниз и затих…
Арсен, стремительно спустившись во двор, вскинул автомат.
— Оставь его, старик, — спокойно сказал он, стоя над вцепившимся в Рамазана соседом. — Или я убью твою дочь.
Выяснив телефон любящего зятя и мужа, Арсен, утрируя кавказский акцент, побеседовал с Николаем, запросил с него пятьдесят тысяч — что возьмешь с нищего журналиста? — и отправил старика с дочерью в бункер, где томился Генка.
Очухавшийся Рамазан отогнал и спрятал «семерку» неподалеку, у дороги на Высоцк, а ПЭЛу соседа спустили на воду и скрыли в прибрежном тростнике.
Вечером приехала Татьяна с дочерью. Их вытащили из машины, связали и заперли в каюте катера. Осторожный Арсен не хотел складывать все яйца в одну корзину.
Борису он решил сегодня не звонить. Парню будет проще расставаться с большими деньгами, если увидит, что они могут сделать с его любимыми девочками.
А черный пес очнулся в сырой низинке. Его не добили, потому что не смогли отыскать. Он медленно приходил в себя.
Приподняв голову, попытался дотянуться и облизать больное место горячим шершавым языком, но не смог — проснувшаяся в боку боль помешала. Он только заметил, что бок весь мокрый. А еще все вокруг резко пахло — очень знакомый запах. Он вспомнил, что так пахнет кровь.
А еще вспомнил свою кличку — Собака Лир. Так его в раннем детстве называла Елена. А потом так стал называть хозяин, любимый человек Владимир Николаевич. Это он впервые привез пса сюда, где много воды и можно везде бегать, не боясь помять грядки…
Обычно они уезжали в пятницу, а возвращались в воскресенье вечером, и всю неделю пес терпеливо ждал, когда, вернувшись с работы, В. Н. не поставит машину в гараж, а начнет собирать вещи и продукты, и конечно, бидон с его, Лира, похлебкой — вспомнив о еде, он сглотнул. А потом застелет заднее сиденье славно пахнущей собачьей попонкой и строго спросит: «Ну, ты пописал перед дорогой? Тогда — вперед! Вперед, мои храбрые долгоносики!» А кто, интересно, такие эти долгоносики?
Карие глаза пса закрылись, он засыпал. Но какая-то мысль не давала покоя, он что-то должен вспомнить. Лир упрямо поднял лобастую голову и повел крупными ушами. В него стреляли из окна дома, где жил Занги — почему он не почувствовал запаха боксера?.. — стреляла какая-то неприятная женщина с белыми волосами. Странно, у Елены тоже белые волосы, но она такая добрая — собаке понять людей очень нелегко.
Вспомнил! Ну конечно же — его люди, самые лучшие и родные, с мягкими теплыми ладонями и добрыми глазами, — они попали в беду. А он валяется здесь и не спешит им на помощь. Ему стало стыдно — он ужал уши.
Надо вставать и идти к ним. Ему удалось немного приподняться, но сил не осталось, и пес вновь упал. Шумно втянув ноздрями воздух — ох как болит в правом боку — и спугнув какую-то бестолковую насекомую мелочь, он медленно пополз вверх, туда — к калитке.
Он ничего не видел — перед глазами стояла красная пелена и не слышал — в ушах гулко отдавались частые удары сердца. Но запах, запах он чувствовал…
Лир не дополз до калитки полметра. Почему-то совсем перестал болеть бок. Непонятно, подумал он напоследок, откуда здесь так много собак. А вот и Занги…
Август 200… г., Санкт-Петербург
Они протиснулись в большую редакционную комнату, и Николай сказал прервавшемуся на полуслове удивленному Шаховцеву:
— Нам нужно уйти.
На лестнице Полуверцев дал прикурить Анне, которая трясущимися руками никак не могла справиться с зажигалкой.
— Какие-то чеченцы… или кто-то работающий под них… взяли в заложники Елену и ее отца. Они сегодня поехали на залив. Ты говорила кому-нибудь о том, что мы почти разгадали шифр?
Она, с ужасом осознавая, что натворила, нерешительно попыталась объяснить:
— Я хотела… я сказала Стасису, я хотела тебе доказать, что он тут ни при чем. Прости меня, прости… Я и подумать не могла.
— Эх, Анька, Анька… Ладно — сделанного не воротишь. У тебя есть пятьдесят тысяч долларов?
Она кивнула.
— Ты их сними, пожалуйста, с карточки — завтра будут нужны наличные.
— Они хотят выкуп?
— Им нужен я. Ведь они считают, что я уже знаю, где тайник.
Он докурил, издалека точно попал окурком в урну, и эта смешная удача придала ему силы.
— Ну, все, переживать и мучиться будем позже — нужно делами заниматься. Понадобится, наверное, тысячи две, чтобы купить оружие. Они нужны уже сегодня. Съезди на Невский, в дорогих отелях — «Невском Паласе» или «Европе» — можно получить такую сумму в банкомате. А я пока позвоню нужным людям.
Анна заспешила вниз по лестнице.
Николай, справившись с первым шоком, внутренне подобрался и заставил себя не думать о том, что ждет Елену и тестя.
Пытаться воевать в одиночку — это безумие, но еще более безумным выглядело привлечение правоохранительных органов — Дубровка, Беслан, недавний Выборг… Оборони нас, Господь…
Но в одиночку, конечно, не справиться.
Николай раздумывал, кого бы он мог позвать с собой.
Сразу исключил ближайшего друга Серегу, которого знал вот уже тридцать лет. Тот бы пошел до конца, но у него две маленькие дочки. Варьке и Анфиске, случись что, папин подвиг во имя дружбы не заменит живого отца.
Остались двое: генерал Дюня и бывший опер Профессор.
Николай знал, что они не откажутся.
Дюня сам напомнил о своем долге, а Профессор, авантюрный по складу характера, маялся бездельем на ранней милицейской пенсии и был готов ввязаться в любое приключение, тем более ради освобождения друга-рыбака и Елены, которую он обожал и трогательно называл «мама».
Николаю не хотелось впутывать Дюню, но повоевавший и, похоже, не утративший боевых навыков «волкодав» очень пригодится на заливе.
— Можешь говорить? — спросил Николай, после того как одноклассник ответил на звонок.
— Да, слушаю.
— Мне нужна твоя помощь, только твоя, а не твоей конторы. На заливе в доме тестя кто-то захватил его и мою жену. Завтра требуют выкуп. Прогуляешься со мной?
«Прогулками» они в Афгане называли боевые выходы.
— Где и когда? — Дюня не стал задавать лишних вопросов.
— В шесть утра, на Выборгском шоссе у КП «Осиновая роща»…
Потом Николай набрал номер Профессора.
Тот откликнулся с энтузиазмом и пообещал немедленно заняться сбором нужного снаряжения.
Теперь последний звонок. Отыскав номер в записной книжке, он некоторое время слушал длинные гудки, и, когда уже начал терять надежду, ему ответили:
— На проводе, — Собеседник Николая слегка картавил.
— Яков Аронович, здравствуйте. Вас беспокоит Николай Полуверцев, редактор петербургских «Новостей». Мы с вами встречались…
— Я вас прекрасно помню, уважаемый!
— Вы упоминали о неких раритетах, которые имеются в вашей коллекции. Я бы хотел их приобрести.
— Гм, вы имеете в виду… хорошо сохранившиеся раритеты?..
— Да. Причем они нужны сегодня. В расчете на трех человек.
— Боюсь, это будет непросто. Я должен связаться с владельцами этих… экспонатов и обсудить условия.
— Яков Аронович, я гарантирую полную конфиденциальность сделки!
Собеседник Николая помедлил, что-то обдумывая, и наконец сказал:
— Продиктуйте номер вашего мобильника, я перезвоню.
На лестницу высыпал одуревший от долгого сидения в душной редакционной комнате народ. И мигом рассосался по площадкам — курить и обсуждать услышанное на летучке.
Николай обнаружил Шаховцева, как всегда окруженного не успевшими что-то договорить или выяснить сотрудниками. Когда удалось протиснуться поближе к шефу, тот подчеркнуто сдержанно высказался:
— Ну, вы, Полуверцев, даете. Вообще уже…
В моменты раздражения Шаховцев любил продемонстрировать, что сдерживает свои эмоции и не опускается до фельдфебельского окрика на подчиненных. В результате получалось такое вот кокетливое проявление начальственного гнева. Шеф недобро глянул на Полуверцева, несколько секунд размышлял, характерно изогнув бровь, а потом, к удивлению Николая, предложил:
— Может быть, нужна наша помощь? Куда нибудь позвонить, поговорить с кем-то? «Новости» обладают в городе определенным авторитетом.
Николай, не рассчитывавший на такое участие, испытывал признательность и за предложенную помощь и за тактичность шефа, не пытавшегося выяснить, что произошло.
— Спасибо, Никита Александрович. Я не смогу работать в эти выходные. Необходимо, чтобы кто-то меня заменил.
— Так… Печально это, но что же делать… Берегите себя, Николай.
Позвонил Яков Аронович и заговорщицким тоном сообщил, что все в порядке.
Николай обещал приехать в течение часа и предупредил, что с ним будет девушка.
…Они долго плутали в плохо освещенных переулках Петроградской стороны, пока наконец не обнаружили въезд в нужный им проходной двор.
«Девятка» с трудом протиснулась в узкую арку. Здесь Николаю пришлось остановиться. Анна, сбивчиво рассказывавшая, как ей удалось получить деньги по кредитке, удивленно ойкнула. Проезд в соседний двор-колодец перекрывали самые настоящие противотанковые «ежи», сваренные из стальных балок.
Стены домов, замыкавших непривычно ярко для Петербурга освещенный двор, сплошь покрыты граффити в стиле «наци» — изображения свастики, сдвоенной руны «зигель», служившей эмблемой СС, оружия и батальных сцен. Например, такой: тяжелый «Тигр» сминал стальными траками пушечку, явно советскую «сорокопятку».
В центре композиции широко раскинул крылья германский орел. В когтистых лапах надменная птица сжимала не привычный медальон со свастикой, а длинный меч, по которому — снизу вверх — шла неоновая готическая надпись — «Barbaroza».
Николай сдал назад и с трудом приткнул машину в соседнем дворе рядом с проржавевшим до дыр «Москвичом». Он вышел и окликнул Анну:
— Мы уже приехали, пойдем.
Она послушно вышла из машины.
— Коля, я не могу понять, как такое… как вся эта гадость может существовать здесь, в городе, пережившем блокаду?..
Николай досадливо поморщился. Он знал, что это заведение — не единственное в городе. Год от года в Питере становилось все больше юнцов-скинхэдов, которые наголо обривали головы, натягивали черную униформу и армейские ботинки-говнодавы и воспаленно грезили о Священной войне за освобождение Великой Белой расы. Студентов из Африки и Азии теперь убивали чуть ли не каждый месяц…
Но сейчас, когда близкие в заложниках, идейные убеждения тех, кто мог помочь их освободить, не имели значения.
Перед «ежами» дежурил «представитель высшей расы». Разглядывая его, Николай вспомнил: «фашизм всегда паразитирует на низших структурах». Шишковатый череп с узким лбом, мелкие незначительные черты лица, тонкие мокрые губы. На тщедушном тельце — черная униформа, ремень с тяжелой бляхой, украшенной все тем же орлом, в руке — внушительная дубинка.
Нахально разглядывая Николая с Анной, он потыкал дубинкой в табличку, начинающуюся словом «Ahtung»:
— Читать надо, здесь частная территория. Допускаются только члены военно-исторического клуба и их гости. Для остальных вход закрыт.
— У нас договоренность о встрече с Яковом Ароновичем:
Охранник, отойдя в сторону, тихо пробубнил что-то вуоки-токи. Видимо, получив указания, пробормотал: «Яволь» — и неохотно их пропустил.
Открыв тяжелую дверь, Николай и Анна попали в небольшой зал — стойка с пивными кранами и десяток деревянных столов. У входа стену украшал большой портрет рыжебородого рыцаря. Знаменитый покоритель сарацинов Фридрих Первый. Его прозвище — «Барбаросса», то есть «рыжая борода», — стало названием заведения, а много раньше, в 1940 году, Гитлер назвал так свой план нападения на Советский Союз.
Интерьер пивной навязчиво погружал посетителей в атмосферу Третьего рейха. В зале гремел немецкий военный марш, а на большом телевизоре в углу показывали черно-белое кино — присмотревшись, Николай узнал знаменитые кадры «Олимпии» Лени Рифеншталь — документального фильма о всемирной Олимпиаде 1936 года в Берлине.
Наряд официанток, сплошь полненьких блондинок, состоял из короткой черной юбки, белой блузки, черных галстука и пилотки и высоких блестящих сапог. Одна из этих «фройляйн» указала на дверь в конце зала:
— Яков Ароныч там, в магазине…
К удивлению Николая, лишь один из столов занимали бритые юнцы в черной униформе — подняв пивные кружки, они громко и слаженно подпевали гремевшему маршу. За другими разместились вполне респектабельные группы мужчин разного возраста, судя по одежде — довольно состоятельных.
За указанной дверью оказалось помещение поменьше. Традиционные витрины, книжные стеллажи и прилавок с кассовым аппаратом.
Ассортимент товаров напоминал сразу антикварную лавку, где предлагается на продажу все, что выкапывают «черные следопыты», ларек со специализированной литературой — книги идеологов фашизма, прошлых и нынешних, и магазин одежды для тинейджеров-милитаристов — пятнистая униформа, армейские ботинки и прочее в том же духе. Тут же были комплекты немецкой военной формы периода Второй мировой, явно новодельные.
В витрине — трикотажные майки с аппликациями. На одной безобразный черный верзила грубо хватал испуганную полуголую пышногрудую блондинку. Надпись призывала: «Убей черного!»
Относительно политкорректный лозунг «За русских и за бедных» украшал красную тишотку, туго обтягивающую полные телеса пятидесятилетнего мужчины. Яков Аронович кивнул Николаю и указал на обтянутый черной кожей диван в углу, перед которым на журнальном столике лежала стопка периодики. Сам же продолжал вполголоса что-то обсуждать с респектабельным господином средних лет.
Анна прошла к дивану и, не садясь, взяла один из журналов. По тому, как брезгливо она передернулась, было понятно, что содержание соответствует общему духу заведения. Бросив журнал, она шепотом спросила:
— Яков Аронович — еврей?!
Николай уже пожалел, что взял ее с собой. Своим непосредственным возмущением она могла расстроить намеченную сделку. Анна отошла к стеллажам и начала рыться на полках с майками. А к нему, закончив дела с клиентом, направился Яков Аронович, широко, как будто готовясь к дружеским объятиям, разведя в стороны руки, поросшие густой курчавой шерстью:
— Рад видеть, как поживаете, нравится ли вам наш военно-исторический клуб?
Хозяин приветливо улыбался, демонстрируя удачную работу дантиста.
— Что за юное создание вас сопровождает?
Николай не успел ответить — Анька, четко выговаривая слова, представилась:
— Анна Троицкая, корреспондент службы новостей Петербургской дирекции телевизионной компании «Федерация». — И с неприкрытым вызовом спросила: — Яков Аронович, вы — еврей?..
Слащавая улыбка сползла с лица владельца клуба. Он пристально взглянул на Анну:
— А шо, таки телевидение теперь занимается расовыми вопросами?
Местечковый говорок был явно утрированным.
— Национальность не мешает вашему бизнесу?..
Упрямая Анька развернула и приложила к плечам майку с призывом: «Бей жидов — спасай Россию!»
— Понравилась маечка?.. — не смутился Яков Аронович. — Рекомендую — хит продаж, уходят влет. Эксклюзивный товар, и ваш размерчик имеется. Как представителю СМИ могу предложить скидку. Не хотите?.. Ну, дело ваше. А что до моих мальчиков, так они придерживаются общепринятого уровня антисемитизма.
Яков Аронович употребил явно где-то услышанную и понравившуюся формулу и, довольный собой, с гордой ухмылкой победителя разглядывал Анну.
Но та не собиралась сдаваться:
— А как же холокост и блокада? Или это тоже из разряда общепринятого уровня антисемитизма?..
— Ха! Вы, девушка, еще татаро-монгольское иго вспомните!.. — Он сокрушенно покачал головой и тяжело вздохнул, как бы сожалея о недостатке ума и воспитания у современной молодежи, но все же счел нужным поделиться мудростью: — Вы молодая и жизни совсем не знаете, так я вам скажу: среди евреев столько жуликов и подонков, что это просто неслыханно. А вы говорите — антисемитизм!..
Анна собралась возразить, но Яков Аронович умоляюще поднял руки:
— Все-все-все! Извините, но дела бизнеса требуют внимания. Мы с вашим спутником должны кое-что обсудить, — и, уже уходя, мстительно добавил: — А вы можете продолжить спор с моими мальчиками. Я надеюсь, у них найдутся весомые аргументы. Кстати, есть свежайшее немецкое пиво. Попробуйте — не пожалеете.
Николай вслед за Яковом Ароновичем прошел в неприметную дверь и, спустившись по крутой лестнице, оказался в подвале, переоборудованном в мастерскую. Обритому униформисту слегка постарше тех, что встретились наверху, хозяин приказал:
— Гоша, ступай в лавку и поглядывай там. — И, закрыв за ним дверь, подошел к молодому мужчине, копавшемуся в груде железок на верстаке, приобнял его за плечи и горделиво представил Николаю: — Вот он, ваш спаситель. Мишенька Копаев — лучший специалист, великий знаток мест боев всего Северо-Запада и ближайшей заграницы. А скольких людей он сделал счастливыми, дав им те вещи, которые они давно и безуспешно искали, — так просто без счета.
Разглядывая невзрачного парня лет тридцати в потертых джинсах, стареньких стоптанных кроссовках и круглой оправе из никелированной стали, которая, судя по старомодному виду, тоже найдена в каком-то раскопе, Николай подумал, что этому «черному следопыту» очень подходит его фамилия.
Миша вопросительно взглянул на Якова Ароновича. Тот кивнул: можно приступать к делу.
Следопыт достал из-под верстака большую спортивную сумку. Аккуратно развернул холщовую тряпку и передал Николаю немецкий автомат. Взвесив оружие в руках, тот удивился его тяжести. Миша снисходительно усмехнулся:
— Тяжелая машинка. В снаряженном состоянии — почти пять килограммов. Как любят писать в газетах — «шмайссер».
С покровительственными интонациями отличника-всезнайки он продолжил пояснения:
— Настоящее название — пистолет-пулемет МР-40. От исходной модели 1938 года отличается незначительными деталями. Вначале разрабатывался для десантных и танковых подразделений, позже стал основным стрелковым оружием сухопутных частей вермахта. Калибр — девять миллиметров под патрон Люгер/Пара, темп четыреста-пятьсот выстрелов в минуту, эффективная дальность — порядка ста метров. В общем, так себе машинка… Наши автоматы Шпагина и Судаева по всем параметрам его превосходят. Но вещь культовая, и в ближнем бою…
— Простите, что прерываю наивным вопросом, а стрелять-то из него можно?..
Миша забрал автомат, отстегнул магазин, привычно и ловко снарядил его несколькими патронами. Потом закрепил оружие в специальном зажиме и вдвинул ствол в металлическую трубу с резиновым кожухом.
— Глушитель такой, — пояснил он.
У противоположного конца трубы он установил отрезок довольно толстой доски и, спустив затвор, дал короткую очередь. Звук выстрелов действительно глушился, зато отчетливо было слышно, как пули пробивают древесину…
Отстегнув магазин, «черный следопыт» пояснил:
— Машинка с дойчевского военного склада. Только смазку старую снял — и готово.
Он демонстративно передернул затвор. И, посмотрев, как умело Николай повторил его действия, усмехнулся:
— Ну, ты, похоже, человек грамотный, разберешься — куда чего совать. Вот два полных магазина — шестьдесят четыре патрона. Да, смотри во время стрельбы за ствол не хватайся — руки сожжешь.
Миша снова порылся в своей безразмерной сумке и извлек оттуда довольно крупную кобуру из коричневой толстой кожи. Лукаво усмехнувшись, предложил:
— Угадай, что у меня здесь? — и начал понемногу извлекать из кобуры пистолетную рукоять. — Обычно начинают кричать: парабеллум, парабеллум… А это ни фига не «люгер», а совсем другая машинка.
Он показал пистолет, формой действительно напоминавший знаменитый немецкий «Люгер Парабеллум». Николаю вспомнилось, что название оружия повторяло вторую часть известного латинского изречения: «Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь мира — готовься к войне».
Миша продолжал пояснять:
— Это «Вальтер Р-38» — калибр тот же, что и у МР, — девятимиллиметровый. Емкость магазина восемь патронов, вес восемьсот граммов. На вооружении немецкой армии с 1938 года — основной пистолет Второй мировой. Очень надежная, неприхотливая и простая в обращении машинка. Рекомендую. Тут, — он похлопал по кобуре, — две снаряженные обоймы.
Передав Николаю кобуру, Миша присел на верстак, предоставляя разговоры о деньгах Якову Ароновичу. Тот бодро взялся за любимое дело:
— Мишенька забыл добавить, что оба раритета, — он упорно избегал слова «оружие», — в прекрасном состоянии. Более того, совершенно новые. И я вам, Коля, должен сказать, что я сам впервые вижу такие экземпляры.
Николаю хотелось поскорее закончить эту процедуру:
— Сколько? — спросил он.
— Ну, учитывая сложившуюся конъюнктуру и мое к вам хорошее отношение… — Лицо улыбавшегося хозяина клуба подобралось, проступили углы и жесткие линии — хищник сделал стойку на добычу — С вас смешная сумма — пять тысяч долларов.
Николай не ожидал, что запросят так много, — в кармане двадцать стодолларовых банкнот, привезенных Анной. Этого не хватало даже наполовину.
По-своему истолковав его колебания, Яков Аронович сделал знак Мише, и у того в руке оказался длинный черный пистолет — похоже, ТТ с глушителем.
— Не поймите нас неправильно, это необходимая мера безопасности, — вкрадчиво объяснил продавец. — Ну, так что, Николай, вас устраивает цена?..
Полуверцев не успел ответить — распахнулась дверь, и в подвал бодро ворвался Дюня.
— А ну опусти ствол! — заорал он с порога. — Руки вырву!
Его властный напор возымел действие — Миша опустил пистолет. Дюня в своей обычной, вальяжной манере прошелся по подвалу, осматриваясь. Потом остановился рядом с хозяином и укоризненно покачал головой:
— Ай-ай-ай, Яков Ароныч, что же вы — опять за старое?.. А ведь предупреждали вас — не доведет до добра эта торговлишка, чай, не в Абу-Даби, на выставке вооружений.
— Да что вы — какая торговлишка?.. Тут собрались коллекционеры и пригласили меня в качестве эксперта. Я и знать не знал, что эти раритеты могут стрелять!..
— Да ну? А что ж тут так порохом тянет?.. И смотри-ка ты, — он взял у Миши пистолет и выщелкнул магазин, — патроны-то боевые, а?..
Яков Аронович изобразил полнейшее недоумение и даже возмущение столь прискорбным обстоятельством. Николай так и не понял — знаком ли хозяин клуба с Дюней или просто быстро сообразил, кто пожаловал к нему в гости, но вел он себя в сложившейся ситуации, надо отдать ему должное, совершенно правильно.
Миша соображал медленнее, но и он, похоже, «въехал в тему»:
— Пришел мужик этот, говорит — посмотрите коллекцию, оцените, то да се. Я-то, как увидел, что оружие боевое, так сразу ему и…
— Значит, оружие принес он? — Одноклассник указал на Николая. Продавцы дружно кивнули, — Ну что ж, я забираю этого вооруженного до зубов господина с собой. Где его вещи?.. Не в руках же он тащил этот арсенал?
Миша полез под верстак и услужливо подал свою большую сумку. Дюня сложил туда все оружие, аккуратно застегнул «молнию» и сказал Николаю:
— Надо же, какой молчаливый коллекционер попался. Ну пошли, обсудим особенности стрелкового оружия Второй мировой в другом месте.
Яков Аронович осмелел настолько, что предложил:
— Не желаете ли кружечку пивка? Свежайшее, в кегах из Германии возим.
Дюня с любопытством взглянул на него:
— Спасибо, в другой раз. Думаю, что встречу с таким ценным экспертом, как вы, я не смогу отложить надолго.
Проходя через магазин, он бросил крепкому парню, ожидавшему у дверей:
— Уходим.
Задержавшись на мгновение в арке, молодой эфэсбэшник освободил прикованного наручниками к одному из «ежей» охранника, от души пнул его в тощую задницу и дружески пообещал:
— В следующий раз попадешься, фашист убогий, — уши оборву…
Поджидавшая Анна сразу бросилась в атаку:
— Анна Троицкая, корреспондент петербургских «Новостей». Представьтесь, пожалуйста, и объясните, что здесь происходит? И почему задержан мой коллега Николай Полуверцев?..
Дюня сначала опешил, а потом расхохотался:
— Это же она тебя, Колька, защищает!.. Все в порядке барышня, мы за наших…
Но Анна продолжала на него подозрительно коситься даже после того, как Николай подтвердил ей, что с ним действительно все в порядке. Взволнованно дыша, она прошептала ему на ухо:
— Я там не могла находиться, противно, и вышла на улицу. Когда эти двое подъехали и скрутили охранника, хотела тебя предупредить, но твой мобильный не брал. Собиралась уже идти тебя выручать.
— Спасибо, все в порядке, это мой приятель.
Николай подошел к терпеливо курившему в сторонке Дюне:
— Ну что, генерал, у ФСБ не нашлось более подходящего объекта для слежки, чем скромный редактор телевидения?.. Что ж ты, одноклассничек, мы же договорились, что дело это приватное?..
— Узнаю брата Колю! Ты чего, дружок, и вправду такой наивный?.. Рядом с тобой крутится один из самых разыскиваемых в мире террористов, а я, по-твоему, не должен обращать на это внимания? — Он не дал Николаю возразить. — Ладно, все, проехали. Есть у нас более важное дело, чем бакланить по поводу оторванного у ящерицы хвоста. Пока ругаемся — новый вырастет. Давай лучше обсудим планы на… — Он взглянул на часы. — Уже на сегодня.
Николай кратко поделился соображениями. Дюня, внимательно слушавший, подытожил:
— Деньги не нужны. Я из наших спецзапасов добыл тебе «куклу» с секретом. По виду — очень симпатичный «дипломат», набитый «зеленью», но с фокусом — что к чему, объясню на месте. Да и выехать пораньше не мешает — рекогносцировкой придется заниматься в условиях, приближенных к боевым, я прав? Так что давай — до шести утра. Трофеи, — он тряхнул сумкой, глухо звякнул металл, — я захвачу с собой. Не хватало еще, чтобы тебя менты с оружием зацепили…
Анна, ждущая Николая в машине, с ходу заявила:
— Я еду с тобой.
— Куда? — не сразу понял он, а сообразив, только тяжело вздохнул: — Анька, там ты будешь только мешать, потому что мне придется думать еще и о твоей безопасности. Извини, но я тебя не возьму.
Он старался говорить как можно мягче и спокойнее, но Анна все-таки надулась и на обратном пути все время молчала. Николай вернул ей «уплывшие» от Якова Ароновича две тысячи долларов и добавил, что необходимость снимать деньги с карточки отпала.
Довез ее до парадной все такую же надутую и молчаливую.
— Не обижайся, хорошо? — попросил он. — Как только что-то прояснится — я тебе сразу позвоню.
Анька поцеловала его в щеку.
— Знаешь, — сказала она, — у меня предчувствие, что все будет хорошо.
Добравшись до квартиры, она выглянула в окно и неумело перекрестила отъезжающую «девятку». Потом, упрямо сжав губы, набрала номер телефона Стасиса.
Пусть Николай старше, умнее и обычно оказывается прав, но у нее сейчас собственная правда и свои счеты.
Ноябрь 1925 г., Москва[18]
Мрачным и промозглым осенним вечером в пустынной аллее парка в Сокольниках остановился автомобиль «Рено». Из пассажирского салона откинули специальное окошко, медной окантовкой напоминающее корабельный иллюминатор, и сиплый мужской голос с выраженным латышским акцентом поинтересовался:
— Ну что там, Кузьмичев?
Шофер спрыгнул с высокого сиденья открытой кабины, чертыхнулся и доложил:
— Бензопровод опять засорился, язви его в душу…
— Сколько стоять будем?
— Да ремонт небольшой. Минут за десять, товарищ Дукис, управлюсь.
С лязгом открылась дверь. Из машины неловко вылез невысокий, щуплый, круглыми очками в железной оправе напоминавший школьного учителя арифметики, начальник внутренней лубянской тюрьмы ОГПУ Карл Дукис. Заглянув в салон, он сухо предложил:
— «Семьдесят третий», можете пока совершить прогулку, — и отошел к водителю, копавшемуся в моторе при свете фонаря «летучая мышь».
Под номером 73 в тайном списке узников Лубянской тюрьмы значился британский подданный Сидней Рейли. Об этом знало не более десятка сотрудников ОГПУ. Такая секретность вызвана тем, что еще продолжалась хитроумная операция чекистской контрразведки «Трест». Уже схвачен заманенный в Советскую Россию неудавшийся диктатор Борис Савинков, но по-прежнему по всей Европе агенты-нелегалы проникали в русские эмигрантские общества, чтобы разрушать их изнутри, уничтожая наиболее талантливых вождей антибольшевистского движения.
В капкан, расставленный ОГПУ, попался и Рейли. Чтобы скрыть его арест, даже инсценировали перестрелку у приграничной деревеньки Майнила, где при попытке перейти советско-финскую границу он якобы погиб.
После разрешения Дукиса из салона бодро выскочил коренастый широкоскулый крепыш — старший уполномоченный КРО ОГПУ Григорий Сыроежкин. Несмотря на относительную молодость — 25 лет — он являлся одной из ключевых фигур операции «Трест».
Сыроежкин привычно оправил ладно пригнанную по фигуре шинельку, полюбовался начищенными до зеркального блеска щегольскими хромовыми сапогами. Потом извлек из кармана серебряный портсигар с княжеской монограммой и, закурив, предложил папироску неторопливо и уверенно ступившему на мокрый песок аллеи пятидесятилетнему, но еще весьма физически крепкому брюнету с высокомерным выражением смуглого лица.
Заключенного номер 73 в целях конспирации одели, как конвоиров, в форму ОГПУ — шинель с темно-синими петлицами и фуражку с околышем того же цвета. С явным удовольствием он вдохнул сырой, пахнущий лесной осенней прелостью воздух и уверенно зашагал по лужам темной аллеи. За ним пристроились двое чекистов. Один — улыбчивый, рано полысевший здоровяк Федулеев, от скуки развлекавший арестанта тем, что без видимых усилий гнул пальцами из медных пятаков крошечные чашечки. Второй — мрачный и худой кавказец Ибрагим Аббисалов, похоже, больной туберкулезом — он часто и надрывно кашлял.
Странная поломка автомобиля в пустынной аллее и неожиданно увеличившееся число сопровождающих, похоже, не смутили Рейли — он чувствовал себя, впервые за почти два месяца бесконечных изматывающих допросов, вполне уверенно.
«Вижу впереди большие развития, — с неистребимым даже во внутренних монологах местечковым акцентом и характерным мелочным тщеславием удовлетворенно размышлял он. — И я таки вполне успокоился относительно своей смерти».
Теперь он с усмешкой вспоминал мрачную камеру, где его палачи разыграли две правдоподобные и страшные инсценировки исполнения смертного приговора, заочно вынесенного Рейли еще в 1918 году за участие в «дипломатическом мятеже».
Теперь он перестал проклинать себя за то, что два месяца назад в уютном номере выборгской гостиницы «Андреа» поддался уговорам этих лжеподпольщиков, якобы идейных борцов с «красными», а на самом деле агентов ОГПУ Якушева и Щукина, и решился нелегально перейти границу.
Он вспомнил холодную, обжигающую воду реки Сестры, плотный предутренний туман и белобрысого чухонца-пограничника, встречавшего его на российском берегу (кстати, он тоже оказался чекистом).
Воистину, у ГПУ всюду глаза и уши. Рейли, не понаслышке знакомый с деятельностью разведок разных стран, не мог не восхищаться грозным монстром, созданным гением фанатичного большевика, в прошлом захудалого польского дворянина Дзержинского.
Но даже в лубянских застенках судьба хранит Рейли. Вполне возможно, что его звезда вновь взойдет. Из стареющего небогатого коммерсанта с сомнительной репутацией (попросту говоря — международного афериста) он превратится… нет-нет, теперь уже не в «короля шпионов», легенды о подвигах которого он сам старательно сочинял, а в фигуру с серьезным политическим весом, в тайного представителя сильных мира сего. Недаром его информацией так заинтересовались руководители ОГПУ. И очень может быть, что Рейли уже совсем скоро нежно расцелует свою маленькую прелестную женушку Нелли.
Он вспомнил, как на свадебном банкете в чопорном лондонском «Савое» она соблазнительно и игриво задирала стройные ножки в озорном канкане, который прежде лихо отплясывала в парижском кабаре «Мулен Руж» под именем Пепиты Бобадилья.
Рейли прогнал прочь неуместные сейчас сентиментальные воспоминания. Главное, чтобы его нынешние тюремщики захотели того же, чего так нестерпимо и дико жаждет он вот уже почти два десятилетия. Тогда, семнадцать лет назад в Тибете, он почти обладал главной реликвией мира. Если бы не вмешательство этого надутого финского гусака, состоявшего на российской службе, этого правильного ничтожества, полковника Маннергейма, — вполне возможно, что сейчас Сидней Рейли стал бы одним из самых богатых и влиятельных людей мира. И если нынешние хозяева Кремля — не полные шлемазлы, они должны жадно вцепиться в его историю о чудесных свойствах Евангелия Фомы.
Тот же Маннергейм — не без помощи апокрифа, конечно же!.. — успел стать национальным героем и регентом Финляндии. Даже уйдя в отставку, он по-прежнему остается одной из влиятельнейших фигур европейской политики. Ах, как жаль, что он упустил этого проклятого барона в семнадцатом году в Петрограде!..
Но ничего, у него еще будет шанс поквитаться с Маннергеймом — сам Артузов дал понять, что ОГПУ заинтересовано в его, Рейли, услугах. Что ж, он готов служить новым хозяевам. За их спиной, втихомолку, используя громадные возможности большевистской тайной службы, он будет шаг за шагом неуклонно продвигаться к заветной цели.
Даже когда Рейли затылком ощущал смертельный холод чекистских наганов и не мог оторвать взгляд от серой штукатурки расстрельной камеры, где среди пулевых оспин проступали плохо замытые брызги чьей-то крови, — даже тогда, ради спасения собственной жизни, он не раскрыл чекистам эту цель.
Семнадцать лет он хранил свою тайну, не доверяя никому. Это только его, Рейли, персональная концессия, и все прочие богатства мира — нефтяные фонтаны, золотые жилы и алмазные копи — не могут сравниться с ней.
Перед глазами вновь вспыхнули огненные блики на золотых похоронных ступах далай-лам в огромном и мрачном зале мертвых дворца Потала, охраняемом скалящимися изваяниями демонов-докшитов…
Там, в потайной кладовой, английские кавалеристы, бряцавшие шпорами по древним каменным плитам, нашли деревянный футляр с апокрифом. Но только Рейли заметил рядом полуистлевший свиток папируса и, повинуясь мгновенному озарению, проворно спрятал его под мундиром.
Вернувшись в Европу, он узнал, что на папирусе — изложенное по-гречески наставление «О природном естестве и логосе магистериума». Авторство приписывали божественному Гермесу Трисмегисту, книга считалась утраченной.
Рейли проявил осторожность — он заказывал ученым мужам перевод частями, принося небольшие и разрозненные фрагменты, скопированные с оригинала.
А когда впервые прочитал древний текст трактата — был как в лихорадке. Он то возносился на вершину счастья, ощущая себя могущественнейшим обладателем сокрытого тайного знания о том, что представляет собой Евангелие от Фомы, то падал в пропасть отчаяния, понимая, как трудно будет заполучить апокриф.
Унесенный воспоминаниями далеко от мокрой аллеи, Рейли вздрогнул, почувствовав, как с голой ветки ему за воротник упала холодная дождевая капля… Он подозрительно оглянулся на конвоиров, почти всерьез опасаясь, что они могли подслушать его тайные мысли, и вернулся к размышлениям о своем ближайшем будущем.
Да, он готов служить новым хозяевам верой и правдой. Не имеет значения, что буквально два месяца назад Рейли страстно призывал в Европе и в Соединенных Штатах жертвовать средства на борьбу с Совдепией и предлагал устроить тотальный террор против большевистских лидеров — что с того? Умный человек понимает, что правильность политической платформы определяется лишь суммой субсидии, которую под нее можно получить. Все остальное — идейная похлебка для примитивных плебейских масс… таких же ничтожеств, как его охранники — изредка Рейли испытывал к ним нечто вроде презрительно-пренебрежительного сочувствия. Но, в конце концов, крыса ведь не страдает оттого, что она крыса, не так ли?..
Увлеченный раздумьями о вновь обретенной собственной значимости, он не обращал внимания на Федулеева, что-то оживленно рассказывающего… Не заметил и того, как слегка приотстал «ликвидатор» Ибрагим Абиссалов. Кавказец вытащил из кармана наган — клапаны и обшлага рукавов его шинели всегда лоснились от оружейной смазки.
Федулеев как раз закончил рассказывать очередной еврейский анекдот и, как было условлено, громко расхохотался — за визгливым неестественным смехом Рейли не расслышал щелчок взведенного бойка. Приблизившись почти вплотную, Ибрагим поднял револьвер, намереваясь попасть арестанту в сердце, — в пустынной и тихой аллее оглушительно грохнул выстрел…
Лицо Рейли исказила гримаса досады и боли. Он прошептал: «Евангелие…» — и рухнул на мокрые листья.
Федулеев присел и деловито начал прощупывать пульс. Ощутив пальцами легкие, едва осязаемые толчки, он поднялся и виновато доложил подошедшему старшему:
— Живой, товарищ Сыроежкин, пульс есть.
— Что, Ибрагим, рука, что ли, с похмелья дрогнула? — усмехнулся Сыроежкин, сверля кавказца немигающим тяжелым взглядом, — Или пожалел врага трудового народа?..
Ибрагим отвел глаза.
— Мамой клянусь, в сердце попал — такой живучий, шакал!..
— Ну-ну, — неопределенно хмыкнул Сыроежкин.
Откинув полу шинели, он извлек из кобуры именной кольт, приятно ощутив медный овал с гравировкой: «Товарищу Сыроежкину Г. С. за беспощадность к врагам Революции. Пред. ВЧК Дзержинский».
Стоя над Рейли, выстрелил ему в грудь — было заметно, как дернулось тело от удара тяжелой пули.
— Ну-ка, проверь, — велел он Федулееву, брезгливо стирая специальной бархоткой капли крови, брызнувшие на глянец сапога.
— Готов, — доложил тот, тщательно прощупав шею расстрелянного.
Тело завернули в рогожу и погрузили в автомобиль. Не нуждавшийся в ремонте «Рено», развернувшись на тесной аллее, покатил обратно на Лубянскую площадь.
Трясясь на ухабах, Федулеев громко, чтобы перекричать громыхающий всеми металлическими сочленениями кузов, обратился к Сыроежкину:
— Вопрос есть, товарищ Сыроежкин. Вот этот номер 73 говорил вроде, что товарищи Артузов и Стырне по-хорошему с ним беседовали, и скоро полная ему амнистия выйдет. А мы вместо этого «исполнили» его. Не ясно как-то…
— Эх, Гриша, здоровый ты, тезка, пятаки пальцами гнешь, а умом — ну чистое дите… Ты пойми, что можно, например, к арестованному врагу применять методы физического воздействия — бить до потери чувства, добывая правдивые показания. А можно, наоборот, сначала напугать, как следует, а после — приласкать. Тогда он тебе в благодарность все расскажет, до донышка, даже то, чего и не знал никогда… Стырне мастер на такие штуки!.. — усмехнулся он, а потом, склонившись к Федулееву, прошептал: — Товарищ Артузов намеревался задействовать номера 73 в операции «Трест». Но Политбюро приняло другое решение. И Сталин настоял, чтоб расстреляли: как волка ни корми, а все равно в лес глядит… Такая уж у него волчья сущность.
Сыроежкин открыл свою кожаную планшетку и извлек небольшой флакон в шелковой сеточке с присоединенной к нему посредством шланга резиновой грушей. Сжав ее несколько раз, старательно опрыскал себя кельнской водой, брызнул и в лицо Федулееву, который тут же расчихался.
— Одэ колон «Демон» — ваша мистическая неотразимость на амурном свидании! — процитировал Сыроежкин и, попросил: — Товарищ Дукис, вели шоферу здесь остановить.
Когда машина затормозила, он браво выскочил на тротуар и распорядился:
— Федулеев — за старшего. Когда сдадите тело товарищу Кушнеру — проследи, чтобы правильно оформили. В рапорте все подробно опишешь. Засим — прощайте, у меня дела… Уж больно хороши и сговорчивы здесь рабфаковки. — Он подмигнул, вскинул ладонь к козырьку фуражки и удалился легкой походкой, насвистывая мотивчик модного фокстрота.
Тех, кто остался в машине, ждала полуночная суета с передачей тела начальнику медчасти лубянской тюрьмы Кушнеру — санитарам, помогавшим переносить труп, объяснили, что привезли попавшего под трамвай. Потом фотографировали номера 73 — в шинели и полностью обнаженного.
Тут Федулеев снова пришел в недоумение: он и раньше подозревал, что расстрелянный — из жидков, а сейчас убедился в этом, заметив обрезанную крайнюю плоть. Но почему тогда номер 73 вспомнил перед смертью христианское Евангелие — непонятно.
Поделиться сомнениями не с кем — товарища Сыроежкина рядом не было, и он поплелся писать рапорт. Когда, потея от сосредоточенного старания, он выводил на листе бумаги: «Пом. нач. КРО ОГПУ тов. Стырне», из морга вынесли тело Рейли, все так же завернутое в рогожу и с укутанной мешком головой. Его закопали в заранее вырытой во внутреннем дворе тюрьмы яме, потом старательно ее заровняли, чтобы отданные номеру 73 полтора аршина ничем не отличались от остальной, вытоптанной до каменной твердости тюремной земли.
Таким оказалось последнее пристанище одного из крупнейших аферистов XX века, чьи придуманные шпионские подвиги были позже описаны в десятках книг. Созданная их авторами слава «короля шпионов» намертво прилипла к Рейли — именно его образ послужил Иену Флемингу прототипом легендарного Джеймса Бонда.
А в щегольской кожаной планшетке, похлопывающей по крепкому бедру спешащего на свидание старшего уполномоченного Григория Сыроежкина, имеется аккуратно связанная пачка листов тончайшей папиросной бумаги, на которые старательно скопированы все материалы дела Рейли.
Для чего ему это нужно, он пока и сам точно не знает, но на всякий случай осторожно собирает свой собственный тайный архив. Запасливый человек — Григорий Николаевич Сыроежкин…
Август 200… г., Санкт-Петербург — деревня Медянка, Выборгский залив
Николай проснулся с ощущением мандража.
Знакомое и уже почти позабытое волнение перед недалеким боем теперь продлится вплоть до того момента, когда, оставшись в одиночестве, он, успокоив дыхание, шагнет навстречу врагу.
От этого ощущения никуда не денешься — он знал это по опыту, а вот пришедшие заодно запоздалое раскаяние и самоедство необходимо унять. Да, Елена и В. Н. стали заложниками из-за того, что он безрассудно втянулся в поиски маннергеймовского клада, стремясь помочь Анне. Но сказанного не воротишь, а сделанного не исправишь. И на этом точка.
Он вышел на балкон — босые ступни холодил остывший за ночь цемент. Предрассветную смурь августовской ночи разгоняли желтые фонари, а далеко-далеко на востоке, за размытыми силуэтами типовых многоэтажек, робко проглядывала полоска рассвета. Призрачная, как новая надежда, которую она несла всем сущим на этой земле.
Николай быстро собрался, выпил кофе. Заставить себя что-нибудь проглотить он так и не смог. Захватив с собой колбасу и хлеб (может быть, удастся пожевать на ходу), он спустился во двор, ласково провел рукой по крыше своей старенькой «девятки»: «Ну что, дорогая, трудный у нас сегодня денек, но мы прорвемся, иначе — никак».
Забрав Профессора, нагруженного мешком с лодкой, двигателем и чехлом со спиннингами, быстро добрался до места встречи — у КП «Осиновая роща».
Дюня подъехал ровно к шести на неприметной грязно-зеленой «тридцать первой» «Волге». Николай удивился — считал, что его одноклассник-генерал разъезжает непременно на «Мерседесе». Впрочем, «Волга», скорее всего, из эфэсбэшного гаража — наверняка с форсированным движком и прочими хитрыми штуками.
Дюня, как и Профессор, обрядился в камуфляж, на ногах — крепкие высокие кроссовки, а вот на голову напялил бесформенную, сильно помятую панаму — этим он, видимо, пытался сгладить слишком заметный образ готового к бою солдата.
— Ну что, гвардейцы, я думаю, строевой смотр проведем поближе к оперативному району, — предложил Дюня, пожимая им руки.
Профессору тон его сразу не понравился. Он заявил, что на него смотреть нечего, все равно, кроме залеченного триппера, ничего не найдешь, а свое дело он знает четко, главное, чтобы никто под ногами не путался.
Дюня с усмешкой выслушал и едко заметил, что если бы он даже и не знал, что перед ним — бывший мент, то лексика Профессора выдала его с головой.
— И что мы вам, младшие братья, все покоя не даем? Ведь уже на пенсии давно, а все в стойку становишься. — Он укоризненно покачал головой.
Профессор собрался ответить, но Николай его опередил:
— Давайте, мужчины, отложим вашу профессиональную дискуссию до более подходящего времени, идет?..
«Волга» Дюни тронулась первой. Вслед за ней двинулся Николай.
Все полтора часа, которые у них ушли на преодоление пустынной в этот ранний час «Скандинавии», рассерженный Профессор упрекал Николая, что тот не позволил ему дать достойный ответ этому лощеному эфэсбэшнику.
— Подумаешь, узнал он меня по словам!.. Я его тоже сразу срисовал. А знаешь почему? Потому что все они — б… и шутки у них б…
Дальше шел рассказ, не раз уже слышанный, о том, что у славного оперативника Профессора тогдашние коллеги Дюни — кагэбэшники, ни хрена не смыслившие в сыскном деле, не только постоянно забирали раскрученные им дела, присваивая себе все лавры, но и выпили, как он выразился, целую цистерну крови.
Профессор даже забыл про свой штурманский долг — обычно он внимательно контролировал скорость и, если она превышала сто километров в час, начинал требовать ее снижения, упорно и методично, не обращая внимание на возражения и даже ругань водителя, и в конце концов добивался своего. Только Владимиру Николаевичу он доверял безоговорочно и обычно, насосавшись пива, мирно спал на протяжении всего пути.
Ниже ста двадцати стрелка спидометра не опускалась — скорость задавал идущий впереди Дюня. Видимо, действительно у «Волги» — форсированный двигатель — заметно, что может ехать значительно быстрее.
Непростоту авто эфэсбэшника невольно подтвердил и заспанный гаишник, прятавшийся за павильончиком остановки рейсового автобуса. Поймав «Волгу» и на дисплее радара зафиксировав цифры скорости, он выскочил «а трассу, радостно махая полосатым жезлом. Но, когда Дюня притормозил и гаишник разглядел номера его автомобиля, мечты об удачном заработке развеялись, как утренний туман, и придорожный милиционер с не меньшим проворством побежал назад и вновь спрятался в своем укрытии.
Вот и Выборг. Переехав у корпусов судостроительного завода мост через заливную протоку, Николай подъехал к поджидавшей у обочины «Волге». Дюня изучал развернутую на коленях дорожную карту.
— Я думаю, нам не стоит подъезжать сейчас слишком близко. Черт его знает, может, у них достаточно сил, и они контролируют этот участок, — Он показал Николаю линию, обозначавшую отрезок дороги от Приморского шоссе до Высоцка. Именно эта дорога вела к дому В. Н.
— Есть где-нибудь поблизости местечко, где мы могли бы встать, не вызывая ненужного интереса, и все толком обсудить?
Николай сосредоточился, вспоминая участок Приморского шоссе, изобиловавший поворотами.
— Давай проедем немного дальше, — показал он на карте, — до поселка Советский. Поселок большой, там целлюлозно-бумажный комбинат, и места для рыбалки есть хорошие. Это я к тому, что в Советском большой гастроном, он открывается… — Николай взглянул на часы, — через двадцать минут. В восемь утра там обычно закупаются рыбаки, не прихватившие еду и напитки из города. Там-то мы точно не будем привлекать внимание. И оттуда на нужную нам дорогу можно попасть другим путем.
Они доехали до поселка, застроенного многоэтажными домами, и остановились на пятачке перед гастрономом. Там уже стояло несколько машин с питерскими номерами. Рядом слонялись несколько невыспавшихся мужчин явно «рыбацкого» вида.
Николай закрыл «девятку», и, когда собирался втиснуться на заднее сиденье «Волги», рядом лихо затормозил тойотовский джип. Из машины выпрыгнул Борис, сосед и приятель Владимира Николаевича.
— Привет, привет! — радостно закричал он, — На рыбалку? А В. Н. небось уже на заливе рыбу ловит? Так и знай, я сегодня намерен вас обставить. Мне американский партнер таких воблеров привез — обалдеть!.. Вся рыба моя будет!.. Если, конечно, по такой жаре хоть что-нибудь клюет.
Борис заглянул в «Волгу» и вежливо поздоровался:
— Здравствуйте. О, Профессор, и ты здесь!.. У меня такие новые воблеры — сейчас покажу.
— Погоди, Борис, а твоя семья… — начал Николай.
— Татьяна с дочкой еще вчера вечером сюда уехали. А я вот только утром вырвался.
Он внимательно посмотрел на Николая:
— Что-то случилось?
— Случилось.
Профессор и Дюня вышли из машины. А Николай, с трудом подбирая слова — все они получались какими-то несерьезными, — объяснил, что произошло.
— Владимира Николаевича и Елену, здесь, на заливе, взяли в заложники и потребовали выкуп. Мы не знаем, кто это сделал. Судя по акценту, какие-то кавказцы. Моих захватили вчера вечером. А раз твои тоже приехали вчера — участки-то соседние, — то, может быть, и их…
Раздался звонок. Борис достал трубку из нагрудного кармана летней рубашки с коротким рукавом и чуть раздраженно ответил:
— Да, слушаю…
Стоявший рядом Николай не разбирал слов собеседника Бориса, но ему почудилось, что он вновь услышал этот проклятый кавказский акцент. Круглое, открытое и доброжелательное лицо соседа покраснело, и лишь крепко сжатые губы выделялись тонкой бледной линией, и уже не бисеринки, а град капель пота стекал со лба по щекам и капал с подбородка на светлую рубашку. Борис слушал молча, лишь тяжело и шумно дыша носом. В какой-то момент он дернулся, как будто его хлестнули кнутом, но продолжал слушать.
Разговор завершился. Борис долго смотрел на издающую короткие гудки трубку, не понимая, что с ней делать. Свободной рукой он обшаривал карманы.
— И куда, б… постоянно деваются эти проклятые сигареты, — сказал он нервно, а потом, как-то весь съежившись, уткнулся лбом в запыленный бок своего джипа. Он не издавал ни звука, только часто и тяжело вздрагивали его широкие плечи.
Дюня протянул ему металлическую фляжку:
— На-ка, глотни «конинки». И все, хватит народу глаза мозолить! Давай залезай в машину.
Борис сделал крупный глоток, судорожно выдохнул и, утершись предплечьем, забрался на пассажирское сиденье джипа. Они последовали за ним. Все, кроме некурящего Профессора, молча затянулись.
— Извините, мужики, — сказал Борис, — нервы сдали.
— Рассказывай в подробностях, — жестко велел Дюня.
Похоже, звонил тот самый ублюдок. Поинтересовавшись, где Борис в данный момент находится, посоветовал ему поскорее возвращаться в Питер и собирать деньги — полмиллиона долларов. Сумма, конечно, не маленькая, но дочь и женатого стоят. А чтобы никаких сомнений не оставалось, дал Борису послушать, как плачет дочка, и объяснил, что пока они ее лишь напугали, а вот если через шесть часов он не привезет деньги, то дочку и жену, для начала, пропустят по кругу истосковавшиеся по женскому телу воины ислама, а для Бориса запишут кассету — жесткое порно, «три икса». А потом уже начнутся съемки фильма ужасов.
Далее шли стандартные советы не обращаться за помощью в правоохранительные органы…
Рассказывая, Борис постепенно пришел в себя. Первый шок уступил место ярости. Он нашарил на сиденье телефон, но снова отложил его:
— Хотел своего начальника службы безопасности вызвать, да вспомнил — он на Ладогу уехал, на рыбалку, сейчас пьяный, поди. Жаль, мужик он бывалый — и в Афгане, и в Чечне успел повоевать… Ну, так какие наши действия?
— Для начала объясните на пальцах, что у вас где. — Дюня развернул и показал им карту побережья в районе деревни Медянка.
Николай показал, что подъехать к домам по суше можно только одной дорогой, вот тут перед мостом она начинается и, огибая небольшую бухту, на берегу которой и расположены участки, доходит до отделения рыболовецкой бригады. Ворота дома В. Н. и третьего их соседа, выборгского лесного барона, выходят на эту дорогу, отдельный небольшой проезд ведет к дому Бориса и на берег бухты.
— Погоди, — остановил его Профессор, — может, позвонить Грине… ну, этому, третьему, у него-то все в порядке?
— Он с семьей сейчас на Канарах. Охраняет дом и присматривает за кобелем его постоянный сторож Степаныч. Он пожилой и наполовину глухой — вряд ли он что-нибудь заметил, — специально для Дюни пояснил Борис и добавил, сокрушенно покачав головой: — Эх, Генка, Генка, — лопух деревенский.
— Нужен общий план трех участков и подробная схема каждого строения. — Дюня протянул им блокноты и карандаши.
Вычерчивая план дома В. H., Николай пытался понять, почему захватили семью Бориса. Он считал, что Елену и Николаича взяли в заложники из-за поисков маннергеймовского клада. Или эти ублюдки решили заодно подзаработать?
Не очень это вязалось с предыдущими их делами.
— Ну, что думаешь? — спросил его Дюня, внимательно рассматривая рисунки.
— Вряд ли они контролируют дорогу. Со второго этажа дома Бориса она просматривается отлично. Да и не рота же их там, чтобы выставлять заградительные дозоры?.. Думаю, мы вполне можем перебраться в Медянку и оттуда уже начинать действовать.
— Наверное, не рота — обычно такие группы состоят из пяти-восьми человек. И бойцов достаточно, и передвигаться несложно. А откуда нам на них лучше всего посмотреть?..
Склонившись над картой, они наметили точки наблюдения и договорились разделиться — Борис и Профессор на лодке зайдут в бухту, а Николаю с Дюней предстояло осматриваться на суше. Договорились о времени встречи и экстренной связи. Потом поделили оружие — автомат Дюня оставил себе, а пистолеты отдал Профессору с Борисом.
В это же время уточнял свои планы и Арсен.
Выяснилось, что он не учел важного обстоятельства. С раннего утра на берег бухты начали подъезжать машины. Невыспавшиеся мужики с матерком накачивали лодки, загружали в них рыбацкий скарб и отчаливали. А некоторые задерживались, чтобы позавтракать и выпить первую рюмку на суше.
Приезжали и целые семьи — лаяли собаки, орали дети и женщины — весь этот бесконечный галдеж сильно нервировал Арсена. При таком обилии людей, болтающихся вокруг участка, проглядеть возможную опасность очень легко.
Поэтому он изменил первоначальное намерение и решил уходить отсюда уже сегодня к ночи.
Окликнул Ваху, который с раннего утра занял привычный наблюдательный пункт — у окна второго этажа, выходящего на залив, — оттуда прекрасно просматривалась вся бухта и подходы к ней. Тот встал и, совершенно не скрываясь, забросил на плечо автомат. «Еще бы миномет туда затащил», — подумал Арсен неприязненно. Не нравился ему этот грубый, необразованный и фанатично-упертый ваххабит.
— Напугай девчонку, чтобы заплакала, но не трогай, — Он кивнул на каюту катера, а сам, выбрав среди контактов, внесенных в память телефона Татьяны, лаконичную запись «муж», позвонил Борису.
Ваха отменно справился с поручением — девчонка рыдала взахлеб.
После разговора, выждав момент, когда берег бухты освободила очередная рыбацкая компания, выкатили прицеп и спустили катер с пленницами на воду.
Арсен ощущал смутную тревогу. Он привык доверять своему чутью и решил припрятать самую ценную часть добычи — Татьяну с дочкой.
Стеречь пленниц он поручил Ингеборге.
Латышка запустила двигатель и неожиданно, перегнувшись через борт, поцеловала его. Арсена как током ударило — прощальный поцелуй, первый за три года их совместных операций…
Он грубо зажал в кулаке распущенные волосы и, рванув, приподнял ей голову, чтобы взглянуть в глаза.
«Прощай», — тоскливо и безмолвно прошептала ему их выгоревшая голубизна.
«Прекрати, женщина! Никто не победит волка», — приказали его серо-стальные.
«Нет, больше не увидимся…» — Она покорно опустила ресницы и, оттолкнув его, медленно вывела катер из бухты…
Во дворе заложники гулко грохали в металлическую дверь бункера.
— Писать хотят, — сказал Рамазан и, передав Арсену автомат, пошел отпирать дверь.
— Стой! — Передернув затвор «Калашникова», от дома торопливо спускался Ваха. Он отодвинул плечом Рамазана. — Я сам выведу этих свиней — хочу слышать, как они будут визжать.
Арсен встал у него на пути.
— Уйди с дороги, Арсен. Ты — Борз, настоящий волк, тебя уважают люди, но сейчас не мешай мне. Магомет умер, и гяуры должны заплатить за это.
Иншаалла, как не вовремя…
Арсен смотрел в налитые кровью глаза Вахи. Как же он ненавидел этот вечный чеченский страх потерять лицо, показать себя слабым в глазах людей своего тейпа. Умер любимый брат, а Вахе некогда горевать — он идет убивать, потому что его спросят, как он отомстил за брата.
Так принято, так жили предки.
Арсен, сколько помнил себя, всегда восставал против того, что его чувства и желания ничего не значат. Он не хотел быть бараном, пусть даже в родном и уютном стаде. Он сам решает, как ему жить.
Только Вахе этого никогда не понять.
— Я разделяю твое горе и признаю твое право на месть. Но не сейчас. Я отдам их тебе, но только после того как получим выкуп. Я отдам тебе и тех, кто привезет деньги, и ты сможешь выполнить свой долг. И никто не скажет, что ты не отомстил за брата. А сейчас пойдем к Магомету — нужно помолиться о добром пути в рай для его отважной души.
Как ни странно, но строптивый Ваха его послушался и, опустив автомат, направился к дому.
— Только я хочу, чтобы твой цуйцы привел их наверх, — сказал он, задержавшись на крыльце (цуйцы, цыпленком, он пренебрежительно называл Рамазана). — Если что-то пойдет не так — они умрут первыми.
В светлой комнате, рядом с лежащим на кровати телом Магомета, в вены которого еще продолжал течь по прозрачным трубкам физраствор, присев на пятки, они помолились.
Рамазан по очереди отвел пленников к деревянной уборной, а потом, построив гуськом, повел их в дом.
В этот момент по дороге в сторону Высоцка двигалась «Волга» Дюни. Николай заметил пленников. Сердце сжалось. Вот они, совсем рядом, — Елена, долгим взглядом проводившая проехавший автомобиль, В. H., Генка.
— Остановись, — хрипло попросил он, но Дюня лишь покачал головой — нельзя.
Радость — слава богу, живы! — была смята тревогой. Наверняка пленников повели в дом, чтобы прикрываться ими в случае боя.
Николай попытался прикурить сигарету. Крутнув колесико паршивой китайской зажигалки, он выломал кремень и выругался.
— Дыши ровнее, солдат, — чай, не гимназистка, — посоветовал Дюня, — Смотри, — он указал на «семерку», загнанную в овраг у обочины дороги.
Миновав зону, которая просматривалась из окон дома Бориса, он притормозил. Николай, внимательно вглядевшись, сказал:
— Это машина тестя. Готовят варианты отхода.
Дюня согласно кивнул.
— Узнать бы, где жена и дочь Бориса. Похоже, в доме их нет.
— Для начала неплохо бы выяснить, сколько всего чеченцев. Они нас здесь видеть не могут, так? Пойдем осмотримся, — предложил Дюня.
Они поднялись на поросший молодыми березками бугор. На другой стороне, у его подножия, располагался небольшой дачный поселок — десяток домов, а еще ниже — редкий ельник, спускавшийся к берегу бухты.
Рядом с крайним домом возвышались две старые большие березы.
— А ну-ка подсади.
Дюня встал на плечи Николаю и довольно ловко добрался до толстых нижних веток метрах в четырех от земли. Прижимаясь к белому стволу, он начал осторожный подъем к вершине дерева. Минут через пятнадцать он так же осторожно спустился вниз.
— Видел еще двоих, — рассказал он, отряхиваясь. — Оба на втором этаже. Один контролирует бухту. Я его заметил, когда он решил поссать из окна. Особо не прячется: одной рукой свой елдак держит, а другой — автомат. Весь гранатами, б… увешан, как революционный матрос. Второй — с другой стороны, у окон, выходящих на дорогу. Самого не разглядел — прячется за шторами, но линзы бинокля бликуют. Третий, которого мы с тобой видели раньше, во дворе — поливает грядки из шланга, дачник херов. Кстати, на соседнем участке тоже возится какой-то дед, видимо, сторож.
Они вернулись к машине. Николай жестом указал на мост:
— Оттуда можно осмотреть залив.
Точнее, здесь было два моста, расположенных метрах в пятидесяти друг от друга, — автомобильный и железнодорожный. Мосты условно делили залив на две части — северную, простирающуюся до Выборга, и южную, перетекающую в Финский залив.
Николай оперся на изрядно проржавевшую ограду и огляделся.
Прямо перед ним, за почти правильным квадратом небольшого насыпного острова, который местные именовали «тюрьмой», хотя на самом деле там в свое время располагалась финская таможня, протянулся поперек на несколько километров остров Долгунец. В дымке жаркого летнего дня вдали с трудом угадывался фарватер — нарядный с ярко-синими бортами сухогруз неторопливо и важно следовал в сторону Выборга. Даже здесь, на мосту, не ощущалось движения душного влажного воздуха — предгрозовое затишье. С запада, со стороны Финляндии, наползала тяжелая, охватывающая весь горизонт черная туча. А вокруг продолжалась такая милая и беспечная обыденная жизнь, в которой заложники и террористы воспринимались не более серьезно, чем персонажи детских игр «в войнушку». Как водится, атмосферные катаклизмы напрочь лишили рыбу желания питаться, и несколько десятков рыбацких лодок — от самых простых резиновых «гондонов» до навороченных «рибов», что вместе с двигателями стоили, как новенький джип, — активно двигались в поисках хоть кого-нибудь клюющего. У тростниковых зарослей, окаймлявших вход в их небольшую бухту, Николай заметил лодку Профессора. Встав на удобную для наблюдения за домом точку, они с Борисом делали вид, что пытаются блеснами выманить ленивую щуку из зарослей морской травы.
С другой стороны, за железнодорожным мостом, на котором привычно пристроился браконьерствующий медянский мужичок, ловивший проходящую рыбу специальной круглой сетью — «пауком», залив прямой и широкой полосой тянулся до поселка Советский, лишь кое-где отвоевывая у берега полукружья бухт. Ближняя скрыта железнодорожной насыпью. Чтобы заглянуть туда, нужно перебраться через овраг с крутыми склонами.
Николай уже шагнул за парапет, но, взглянув вниз, остановился. Залив, зажатый опорами мостов, в промежутке своевольно расширялся — протока тут образовала небольшое и довольно глубокое озерцо почти правильной круглой формы. Там слегка покачивался на проточной волне крупный катер, в тесном заливчике неуклюжий, как бегемот в ванне. Изначально белоснежные борта и кокпит были старательно заляпаны каким-то оригиналом темно-коричневой, похоже, половой краской. На юте лежала в шезлонге стройная блондинка в бикини. Прикрыв пол-лица солнечными очками, она, казалось, мирно дремала, убаюканная мерным покачиванием катера.
Николай вернулся на мост и во все горло заорал:
— Эй, Дюня, я вижу этих мудил! Иди глянь, вон они из тростника выходят, рыбаки херовы!.. Не, ты иди глянь, мы их обыскались уже, а эти паразиты шляются где попало!..
Дюня с ходу поддержал его игру.
— И главное, говнюки, на звонки не отвечают. Ну-ка сейчас я их еще раз наберу. — Он потыкал в кнопки мобильника и ожидал с глуповато-довольной улыбкой. Ему ответили, и он заорал так, как будто хотел докричаться до мифических приятелей без помощи телефона:
— Ну привет, пьяная морда! Мы вас, мудаков, видим. А мы с Колянычем на мосту стоим. — Он в азарте даже начал подпрыгивать и размахивать руками, — Ну, видишь теперь, а? А ну давайте быстро сюда, водка уже закипает. Куда-куда? — Он почесал пятерней в затылке, похмыкал, изображая почти непосильную работу извилин. — Ладно, теперь уже не возвращайтесь. Ты косу видишь?.. Какую-какую — девичью до жопы. Ослеп, что ли, с похмела? А, увидел… Вот и гребите в темпе туда, а мы с Колянычем к вам подъедем, там есть дорога. — Закончив разговор, он приобнял Николая за плечи. — Пошли, братан, сейчас мы им устроим купание красного коня…
Услышав их крики, блондинка слегка повернула голову. Лениво потянувшись, она подняла с деревянного настила палубы журнал в яркой глянцевой обложке и прикрыла им правую руку, в которой за мгновение до того оказался угловатый черный пистолет.
Дюня нарочито сильно вдавил педаль газа и с визгом покрышек резко развернулся. Они отъехали метров на триста, так, чтобы вооруженная блондинка их уже не могла ни видеть, ни слышать.
— Ну, что скажешь? — у Дюни сегодня это любимый вопрос.
— Ты пистолет заметил?.. Похоже, девица из той же компании.
— Точно, ее морда мне запомнилась. — Дюня скупо пересказал оперативные данные по поводу захвата Выборгского замка. — Это она — помощница, снайпер и любовница Арсена. Питают они слабость к цветистым кличкам: он — Волк, она — Пантера. Ну что ж, теперь мы знаем, с кем имеем дело. Весьма известные личности. Их пятеро, один — тяжелораненый. Наш капитан из «Града» утверждал, что лично всадил в него пару пуль. Единственный вопрос: где они держат еще двоих заложников?
— Они здесь, на катере.
— Откуда такая уверенность?
— Понимаешь, такие мощные движки, какие на этой посудине установлены, немало весят и пригружают корму. Пустой катер должен как бы немного задирать нос. А этот — стоит ровно. Значит, в каюте — груз. Скорее всего, жена и дочь Бориса.
— Ну раз так, давай-ка мы отправим сюда наших друзей. Когда мы начнем в доме, пусть берут катер на абордаж. Эх, маловато нас, еще бы парочку опытных ребят… Ты как — не передумал? Может быть, я все-таки вызову группу захвата?
Николай отрицательно помотал головой.
— Ну нет так нет. Будем использовать имеющийся ресурс.
Дюня позвонил Профессору, четко изложил задачу и не удержался, добавил:
— Смотри, Профессор, будь осторожнее. Любимое развлечение этой снайперши — из мальчиков делать девочек.
Выслушав ответ, Дюня сокрушенно покачал головой:
— Слушай, он такое сказал обо мне грешном и моих коллегах, что я даже стесняюсь тебе это повторить.
Николаю нравилась эта особенность Дюни — в Афгане, перед выходом на «боевые», он всегда шутил, и это помогало солдатам справиться с тягостным ожиданием предстоящей опасности.
— Ну что, боец, на исходную?..
— Давай, генерал, — в тон ему ответил Николай.
«Волга», поднимая облачка пыли, свернула с шоссе на грунтовку. Николай смотрел на дом — сиротливо горел включенный накануне свет, на высоком крыльце остались выгруженные из машины вещи, которые не успели разобрать.
«А Лир? Где же собака?» — впервые за этот день Николай подумал о черном вороватом и очень любимом псе. Он старательно осматривал двор и, лишь когда «Волга», уже миновав их участок, двигалась вдоль забора, увидел…
Лир лежал у зарослей травы в углу, так мирно и расслабленно, что казалось — он вот-вот проснется и с лаем бросится за проезжающей машиной.
Только живой Лир никогда бы не улегся на солнцепеке — он всегда забивался в тень, слишком жаркой для лета была его черная, плотная шуба.
«Ну, ублюдки, держитесь», — мрачно пообещал Николай занавешенным окнам.
Отогнав машину подальше, они осторожно подобрались к вагончику, в котором жил Степаныч с женой.
Женщина захлопотала, предлагая им присаживаться, но они вежливо отказались и вытащили Степаныча наружу.
Николай рассказал ему, что произошло и какая сейчас нужна помощь.
— Вот беда-то… — искренне сокрушался седой, кряжистый, как дубовый комель, Степаныч. — А вы никак воевать собираетесь? — Он цепкими маленькими глазками осмотрел автомат, висящий на плече у Дюни.
— Приходится, — кратко ответил Николай.
— Так, может, и я на что со своей берданой сгожусь, а?
— Давай мы Николая отправим — ему еще в Медянку топать да обратно возвращаться. А потом я тебе, отец, поставлю боевую задачу, — пообещал Дюня.
— Яволь, — Степаныч вроде даже щелкнул подошвами сношенных тапочек и пошел загонять в конуру ротвейлера, который уже почуял чужих и начал проявлять признаки беспокойства.
— Ну что, попрыгаем, солдат?.. — Дюня опять напомнил об Афгане. Традиционная, последняя перед выходом на «боевые» команда — попрыгать, чтобы проверить, не брякает ли что в снаряжении. Слегка стукнув Николая кулаком в плечо, он добавил: — Даст Бог — свидимся.
— Как пойдет. — Николай, не оглядываясь, скорым шагом дошел до «Волги», взял «дипломат» с долларовой «куклой» и сюрпризом — мощным свето-шумовым зарядом.
Лесной тропинкой, минуя открытые пространства, он тяжело побежал в Медянку, где оставил машину, время от времени, когда совсем сбивалось дыхание, переходя на быстрый шаг, — пора, пора, рога трубят…
В этот момент лодка Профессора ткнулась в каменистый предмостный берег. Захватив спиннинги, они с Борисом завернули под мост и, время от времени забрасывая блесны в воду, не забывая громко сокрушаться по поводу отсутствия клева, прошли мимо катера и вернулись обратно.
Борис не мог справиться с возбуждением — его било крупной дрожью. Чуть заикаясь, он твердил:
— Я чувствую: они там, на катере, бедные мои девочки.
Возбужденный Профессор ощущал уже подзабытый азарт предстоящего опасного дела:
— Предлагаю действовать так. Ты идешь так же берегом, только уже по той стороне, а я по воде, продолжаем блеснить. Я заброшу и зацеплю блесну за что-нибудь на катере и попрошусь залезть отцепить — вещь дорогая, цены немалой, так? Должна пустить, куда денется — канючить буду, привлекать внимание, чего ей совсем не надо, так?.. Ну а там, Господи, помоги мне грешному, уж как-нибудь я ее в воду уроню. Ну а ты меня страхуешь на берегу. В случае чего — прострели ей конечность. А то, что эфэсбэшник предлагает — ждать да наблюдать, — это все глупости — она нас за пять минут срисует, и что дальше? Так что давай, не менжуйся… Потому что, сколько волка ни корми, а больше, чем у слона, — все равно не будет. Шутка юмора, — пояснил он и спросил серьезно: — Ты из пистолета стрелял хоть раз?
Выяснилось, что делать этого Борису не приходилось. Профессор показал, как снять с предохранителя, и объяснил технику прицеливания.
— Ты гляди, меня с перепугу не подстрели, а то хотелось бы еще немножечко помучиться. В смысле — пожить. Ну ладно, дай Бог нам удачи, — Он резко оттолкнул лодку от берега.
Дюня устроился в узком промежутке между баней и сараем, откуда лучше всего просматривался второй этаж дома Бориса. К нему осторожно пролез Степаныч со старенькой, но ухоженной тульской охотничьей двустволкой. Голову его украшал пробковый тропический шлем. Дюня шепотом выразил свое восхищение:
— Ну ты даешь, отец, прямо британский экспедиционный корпус. Откуда раритет?
— Косоглазые братья по оружию подарили. Я ведь в прошлом — майор-ракетчик, довелось во вьетнамских джунглях на «Фантомы» поохотиться. Такой фейерверк мы там устроили америкосам — у ихних асов во время полетов постоянно мокрые штаны были.
— Воевал, значит? Это хорошо. Ставлю вам, товарищ майор, боевую задачу. Скрытно переместиться на берег бухты и занять позицию вон за тем большим камнем. Когда заваруха начнется — сильно не высовываться, но обеспечить огневую поддержку, чтобы враг считал, что со стороны залива его тоже атакуют. По второму этажу, — Дюня кивком указал на дом Бориса, — не стреляй. Там эти скоты заложников держат — наверняка будут использовать их как прикрытие. В остальном — действуй по обстоятельствам. Задача ясна, майор?..
— Так точно!
— Выполняйте.
— Есть! — Степаныч вскинул ладонь правой руки к неуставному шлему.
Дюня начал осторожно подниматься на крышу бани, стоявшей у забора на границе участков. Он рассчитывал, что оттуда ему удастся уложить бандита, охранявшего заложников.
Арсен напряженно просматривал из окна дорогу и прочие окрестности. Все вокруг вроде спокойно. Но его обостренное, почти звериное чутье предупреждало об опасности. Он позвонил Ингеборге — там тоже все тихо, лишь досаждали пытавшиеся знакомиться подвыпившие рыбаки, в большом количестве болтавшиеся неподалеку. Он велел ей приготовиться к скорому отходу, решив, после того как приедет этот телевизионщик с выкупом, здесь не задерживаться — богатому хозяину дома придется везти деньги в другое место. Отсюда пора уходить.
Арсен заметил серую «девятку» — в машине только водитель. Когда автомобиль свернул с шоссе, он крикнул Рамазану:
— Встречай гостя!
Надел жилет-разгрузку с запасными автоматными магазинами и парой фанат в карманах, вскинул на плечи рюкзак, в котором всегда хранил необходимое на случай экстренного отступления. Снял с предохранителя короткий АКСУ — не любил крупного оружия — и вышел на высокое крыльцо.
Рамазан аккуратно прислонил к стене бани лопату — он вскапывал очередную грядку, — сполоснул под краном руки и, повесив на плечо автомат, вразвалку пошел к воротам, у которых остановилась «девятка». Он вышел наружу и разрешил въехать во двор только после тщательного личного обыска и досмотра машины.
Николай мельком, стараясь не привлечь внимания, огляделся. Молодой чеченец с покалеченным лицом, на котором навсегда застыла перекошенная глуповатая улыбка, остался сзади.
С крыльца Николая с интересом разглядывал весь увешанный амуницией светловолосый поджарый бандит средних лет. Николай прихватил с переднего сиденья «дипломат» с выкупом, вынул из замка зажигания ключи (к кольцу вместо брелока прикреплен дистанционный пульт подрыва), а потом нарочито неуклюже вылез из машины.
Арсен усмехнулся — герой явно напуган до полусмерти, но страх за родных сильнее, вот и приперся в безумной надежде, что ему отдадут жену и тестя и отпустят на все четыре стороны. Глупец. Борз не собирался убивать этого толстого неуклюжего блондина — пусть этим займется жаждущий крови Ваха, но следовало напугать, лишить последних остатков воли, чтобы без попыток сопротивления шел, как баран на бойню.
Рамазан, повинуясь его жесту, резко ударил приехавшего в спину прикладом автомата. Не ожидавший этого Николай не удержался на ногах. Встать ему не позволили — чеченский Гуинплен наступил на шею.
— Ты привез деньги, это хорошо. Но я хочу знать, что у тебя в голове. Если сделать в черепе дырку — будет видно. — Арсен рассмеялся собственной мрачной шутке.
«Начало многообещающее», — подумал Николай, прижатый щекой к шершавой тротуарной плитке. Он осторожно подтянул ноги, готовый резко рвануться вверх. Неожиданно грубая подошва перестала давить на шею. Рамазан, ткнув его стволом в ребра, приказал:
— Лежи!
Николай приподнял голову и огляделся. На крыльце, вскинув автомат, напряженно застыл Арсен. А по тропинке от дома В. H., распахнув настежь калитку, шла Анька, за ней маячил долговязый Стасис.
В этот момент с той стороны дома, что выходила на залив, раздалась первая автоматная очередь, а чуть позже взорвалась граната — по гранитной облицовке фундамента зацокали, высекая искры, осколки.
… Выстрелы и взрыв донеслись и до маленькой бухты под мостами: вода — отличный проводник звука. Профессор в этот момент ухитрился зацепить блесну за ограждение рубки катера и, довольный, уже собирался потребовать возврата имущества. Но девица его опередила. Одним рывком она оказалась в рубке. Когда Профессор задрал голову, он увидел, что прямо ему в лоб уверенно смотрит черный зрачок пистолетного ствола.
— Отойди от катера, — приказала Ингеборге.
Профессор открыл рот, указывая рукой на блесну, но девица не стала долго уговаривать. Пистолет дважды негромко тявкнул, и через пробоины в бортах надувной лодки с шипением стремительно пошел воздух.
Включив двигатели, девица осторожно вышла из бухты и направила катер в протоку, намереваясь пройти под железнодорожным мостом.
Борис, наблюдавший с берега, позабыв про зажатый в руке ТТ, быстро, как только мог, рванулся на мост, на бегу крича перепуганному медянскому рыбаку:
— Друг, отдай «паука»!.. Заплачу, сколько хочешь!..
Добежав, он оттолкнул пребывающего в ступоре браконьера, резкими рывками за шнур подтянул вверх тяжелую круглую сеть и поднял, удерживая ее на вытянутых руках.
Когда из-под моста показался нос катера, Борис с силой швырнул «паука» вниз. Потом перемахнул хлипкое заграждение и с восьмиметровой высоты прыгнул вслед за сетью.
Он угадал — сперва на Ингеборге внезапно рухнули тяжелые путы, металлический круглый обод «паука» выбил пистолет из ее руки. А затем на палубу обрушился стокилограммовый Борис. Катер от удара резко накренился, скованная сетью Ингеборге, пытаясь удержаться, схватилась за ручку управления газом. Двигатели взревели, катер мощно рванулся вперед, а потом волчком завертелся на месте.
Ингеборге рухнула в воду. Там она попыталась освободиться от пут, но ударилась головой о борт катера и отключилась, оставшись в плену сети.
Конец шнура намотало на один из бешено вращавшихся движков.
Сеть натянулась и потащила безвольное тело террористки прямо под лопасти крупного винта, который яростно взбивал заливную воду.
Пенный кильватерный след окрасился розовым…
Борис сильно повредил при прыжке ногу. Подтягиваясь на руках, он сумел забраться в рубку, перевел движки на малый ход и направил катер к берегу. Там к нему на помощь подоспел Профессор. Вдвоем они взломали дверь каюты… Борис прижимал к себе жену и дочь, и все никак не мог их отпустить, и, отворачиваясь, прятал влажные глаза…
Николай не знал, что случилось за домом, не понимал, как сюда попала Анька, но это был шанс — наверное, единственный.
Рванувшись вверх, он с силой бросил «дипломат» в сторону Арсена и, успев крикнуть: «Анька, ложись!» — упал сам и надавил кнопку пульта.
Мощно грохнуло, прикрытые глаза обожгло вспышкой ослепительного света, в ушах сильно звенело…
Несколько секунд спустя огненные круги исчезли, и он оглянулся.
Посреди двора топтался ослепший и потерявший способность ориентироваться Рамазан. Неожиданно он вскинул автомат и полоснул очередью в сторону дома, едва не зацепив Арсена. Тот скакнул по лестнице вверх, что-то крича по-чеченски. Но Рамазан его не слышал — так же слепо продолжал стрелять в разные стороны.
Николай ухватил его за ноги и резко дернул на себя. Тот потерял равновесие, нелепо взмахнул руками и рухнул, звучно ударившись затылком о каменный бордюр клумбы.
Николай подхватил выпавший автомат, развернулся в сторону Арсена и нажал на спуск, но опоздал. Тот успел выстрелить первым. Левое плечо пронзила острая боль, рука сразу начала неметь… Арсен тем временем перевалился через перила и скрылся за крыльцом.
Воспользовавшись оперативной паузой, Николай взбежал по лестнице наверх и ворвался в дом. Бой со стороны залива продолжался — сверху раздавался сухой треск очередей из «Калашникова», им басовито и гулко отвечал немецкий автомат Дюни.
Николай рванул на себя дверь, которая вела к лестнице на второй этаж. Она не поддалась — заело замок, и это спасло ему жизнь. Через секунду она рухнула, выбитая взрывной волной…
Арсен, спрыгнув вниз, попал под перекрестный огонь. Сверху, с соседнего участка, по нему хлестанула автоматная очередь. Он едва успел укрыться за облицованным мраморной плиткой бордюром небольшого круглого бассейна с фонтаном посредине. Но тут же, сзади, из прибрежных зарослей ольхи, ударило охотничье ружье — сначала небольшим смертельным роем прожужжала дробь, а следом крупный медвежий жакан расколол гранитный валун рядом с его головой.
Единственным укрытием стал бассейн. Не мешкая, Арсен нырнул туда. Водоем оказался глубоким — погрузившись с головой, он высоко поднял руку, чтобы не намок автомат…
Вынырнув и осторожно двигаясь вокруг каменной горки фонтана, чеченец старательно огляделся. Со стороны залива продолжали лупить из охотничьего ружья, не позволяя особо высовываться из бассейна.
Стрелок один. Арсен определил это по паузам, в которые тот перезаряжался.
Как только он, пытаясь рассмотреть автоматчика, неосторожно высунул голову, раздалась короткая очередь, заставившая его всем телом прильнуть к камням. В бессильной ярости он выпустил в ту сторону половину магазина…
Николай, ворвавшись в провал на месте двери, сквозь клубы кислой пороховой гари и поднятой взрывом пыли рванулся к лестнице. Прыгая через ступеньку, преодолел первый марш. Здесь пришлось вжаться в стену — сверху лестничный пролет поливали свинцом.
Он расслышал, как огонь вдруг переместился на улицу, и догадался, что бандит боится без присмотра оставлять окна. А Дюня явно старался отвлечь его внимание и дать возможность Николаю подняться наверх.
— Эй, чурка, — орал одноклассник, — я твою маму е… и папу е… и вонючих дедушку с бабушкой — тоже!
Бандит ответил яростной очередью и попытался достать Дюню гранатой — за стенами прогремел взрыв.
Николай мысленно поблагодарил генерала и рванулся наверх.
У вершины лестницы лежал истекающий кровью Генка — его посекло осколками.
Шагнув в холл второго этажа, Николай увидел своих — они сидели рядышком у противоположной стены. Связанные руки и ноги не позволяли им двигаться, но отец и дочь все же пытались прикрыть друг друга, заслоняя от пуль.
Почуяв чужого, Ваха резко развернулся, одновременно отпрыгивая от окна и стреляя в его сторону. Николай ответил и даже, кажется, попал. Но, переместившись, чеченец встал так, что, стреляя, Николай неминуемо бы задел своих. И тогда, собрав последние силы, он рванулся вперед в яростном желании смести ублюдка. А тот, выпучив налитые кровью глаза, завизжал:
— Аллах акбар!!!
Вместо того чтобы стрелять, он выдернул оскаленными зубами кольцо, но бросить гранату не успел…
Как в юности на зеленом газоне регбийного поля, опрокидывая схватку противника, Николай всем телом врезался в ненавистную плоть врага.
Инерция оказалась такой, что их, сцепившихся в плотный клубок, протащило два метра до разбитого панорамного окна. Задержавшись на мгновение на краю, они рухнули вниз.
«Все, — успел подумать Николай, — сейчас рванет».
Но не рвануло — Ваха не смог сразу разжать пальцы. Граната выпала из его руки лишь после того, как они ударились о землю, и бойко покатилась вниз по дождевому стоку в сторону бассейна.
Видевший все Арсен в невероятном дельфиньем прыжке взвился над водой. Буквально за секунду до взрыва он рухнул за бортик, прикрывший его от осколков. И сразу же вскочил, бросил гранату в ольховые заросли, откуда по нему садили из охотничьего ружья, полоснул на ходу очередью в сторону Дюн и и резво перемахнул забор. Резкими зигзагами он преодолел открытое пространство и скрылся в густых лесных зарослях…
Николай отпихнул хрипящего Ваху и с трудом встал на ноги. Пошатываясь, он побрел в дом, поднялся на второй этаж и помог своим освободиться от туго затянутых веревок.
Елена и Владимир Николаевич какое-то время не могли двигаться — кровь медленно и болезненно притекала к онемевшим конечностям. Он прикурил им сигареты и, затянувшись сам, рухнул у стены рядом — сил на что-то большое уже не осталось. Голова кружилась от кровопотери, плечо терзала боль, но он — чумазый от пороховой гари, в изодранной одежде, перепачканный своей и чужой кровью и совершенно обессиленный — был сейчас счастлив пронзительно и глубоко, до самого донышка.
— Ну что, солдат, живой? — хрипло спросил снизу Дюня, который, тоже жадно затягиваясь, отходил от боя, расслабленно привалившись к стене дома.
— Нормально, генерал. Ты как?
— Хорошо, мы ведь победили, а для мужчины нет ничего важнее победы. — Дюня как бы продолжал их давний афганский спор, но Николай не стал ему возражать — сил не осталось, да и не хотелось расплескать это нежданно доставшееся большое счастье.
А потом пришла гроза. Вода, падающая с неба, смыла грязь и потеки крови, а дождь все лил, оплакивая уже погибших и тех, кто вскоре последует за ними. И не имели капли небесные ни национальности, ни религиозной или политической принадлежности — единые для всех сущих на этой земле…
Удивительно быстро появились две машины «скорой помощи». Раненых — чеченцев и Николая — перевязали. Самого тяжелого, Генку, увезли в реанимацию выборгской больницы. Молодой врач нервно объяснял Борису, что не все в Генкиной жизни или смерти зависит от денег. Но тот, прихрамывая и боязливо наступая на затянутую шиной ногу, провожал доктора до ворот и втолковывал, что такой упрямец и хитрован, как Генка, так просто с жизнью не расстанется, об этом и думать нечего, а вот условия хорошие и светил выборгской медицины надо непременно обеспечить. Врач уехал с пятью сотнями долларов в кармане и глубокой убежденностью в том, что Борис сумеет договориться и с потусторонними силами о цене на продление Генкиной жизни.
Почти сразу после боя, еще до «скорых», прибыли «волкодавы» Дюни, и Николай понял, что держал все-таки его одноклассник-генерал неподалеку «засадный полк» — иначе и быть не могло.
Порыскав в окрестностях, они вернулись назад с неутешительным докладом о том, что бежавшему Арсену вновь повезло — его скрыла от преследователей стена мощного ливня.
Потом эфэсбэшники долго, без посторонних, возились в доме Бориса — там пришлось разминировать труп Магомета. В конце концов уехали и они, прихватив с собой очухавшегося Рамазана и полуживого Ваху.
Уехал Борис с семьей — Татьяна, плача, говорила, что не знает даже, как долго она теперь не сможет бывать в этом так любовно отстроенном доме, но Борис не унывал — уже завтра собирался прислать рабочих и начать ремонт, продумывая, что бы заодно улучшить.
Собрался и Дюня. Он просто и устало предложил Стасису:
— Поехали со мной. Надо кое-что обсудить.
Тот, к изумлению Николая, безропотно согласился и, попрощавшись со всеми, последовал за Дюней в машину.
— Ты чего молчишь? — спросил Николай у Анны. — Или убедилась все-таки, что твой Стасис и есть тот самый убийца?..
— Наоборот, — ответила она спокойно. — Знаешь, там во дворе он ведь закрывал меня собой. Когда узнал, что я его подозреваю, сам решил ехать сюда, а потом в ФСБ.
Анна помогала Елене. Чуть отдышавшись, жена начала хлопотать по хозяйству, готовить, накрывать стол в беседке — старалась выглядеть оживленной и даже улыбалась, подбадривая окружающих. Николай знал, чего ей это стоило, — он чувствовал ее огромное внутреннее напряжение и все болтался рядом с суетящейся любимой женщиной, пытаясь, улучив момент, обнять и шепнуть несколько ласковых слов. И лишь когда проводив всех, они похоронили Лира, выкопав могилу для любимого пса на том бугре, где он умер, Елена расплакалась — горько и неудержимо. Мокрыми стали глаза и у тестя, хотя он держался молодцом. Объединенные горем, они выпили, помянув верную собачью душу.
Незаметно опустился вечер. Николай отвел в дом валящуюся с ног от усталости и пережитого Елену. Потом ушел и Владимир Николаевич. Они остались в беседке втроем.
Взбудораженный Профессор, которого почему-то никак не брал алкоголь, продолжал пить рюмку за рюмкой, пытаясь расслабиться. Они молчали терпеливо и бережно, храня возможность каждого побыть наедине с собой.
Дождь закончился, тучи свежим западным ветерком унесло на юго-восток — к Петербургу. Над заливом широко распахнулся темно-фиолетовый небосвод. От горизонта до горизонта он искрился и пульсировал невероятно далекой звездной пылью. Анна, задрав голову, искала среди серебристой россыпи Полярную звезду.
— Бред какой-то, — сказал Николай, — вокруг бой идет, стрельба, взрывы, а я вдруг понимаю, что точно знаю место, где Маннергейм зарыл клад. Такой вот неожиданный прорыв подсознания. Понимаешь, мне сразу показались странными последние фразы фрагментов Евангелия, а сегодня вспомнил кое-что… Тут недалеко, завтра сходим, проверим. — Он искоса посмотрел на Анну, все так же рассматривающую небосвод. — Похоже, тебя это уже не волнует.
— Если честно — не знаю. Столько всего страшного случилось за эту неделю, что вовек бы не слышать ничего про маннергеймовское завещание… А, вот она — Полярная, смотри, — Она указала рукой на яркую звездочку, и маленькая удача, видимо, придала ей сил. — Прости, это все проявления типичной женской слабости и непоследовательности. И завтра мы, конечно, отправимся на поиски и будем искать, пока не найдем, правильно?
— Правильно, только не завтра, а прямо сейчас…
Неуловимо знакомый голос заставил их обернуться. В беседке за столом все так же кемарил над рюмкой Профессор, а на перилах из цельного бревна сидел, беспечно покачивая ногой, незнакомый высокий мужчина в поношенном рыбацком камуфляже и болотных сапогах. Низко надвинутый козырек скрывал верхнюю часть его лица.
Оценив их изумление, он сдернул бейсболку, демонстрируя коротко стриженные темные волосы, — лишенный раскошной шевелюры, пшеничных усов и дымчатых очков перед ними предстал едва узнаваемый шведский журналист Свенсон.
Он усмехнулся, наслаждаясь произведенным эффектом. Заметив, как Профессор осторожно пытается подвинуть к себе ногой кочергу, Свенсон перебросил тело через широкий стол и вдавил пистолетный ствол в его лысоватый затылок.
— Продолжай, — сказал он спокойно.
Подождав несколько секунд, наклонился и сам поднял кочергу из толстой стальной проволоки. Перехватив двумя руками, обхватил ею горло Профессора, а потом без видимых усилий согнул и завязал узлом сзади на шее, оставляя возможность с натугой дышать. Лицо бедолаги побагровело, он широко открытым ртом хватал воздух и сипел горлом, сдавленным стальным ошейником.
— Меня интересует клад Маннергейма, — все так же спокойно сказал швед.
«Он, конечно же, не швед — литовец, тот самый внук Миндаугаса», — промелькнула в голове у Анны сейчас уже ничего не значащая догадка.
Монгрел положил в рот леденец.
— Если вы будете выполнять мои указания, то никто не умрет. — Он кивнул на дом, где сейчас спокойно спали В. Н. и Елена.
У Анны сдали нервы — она рванулась к убийце, по-кошачьи намереваясь вцепиться ему в лицо. Николай едва успел ее удержать. Она билась в его руках и выкрикивала сквозь рыдания:
— Так это ты, подонок, убил дедушку и устроил все это! Ненавижу тебя!.. Чтоб ты сдох, проклятый!..
Монгрел спокойно наблюдал, как Николай, крепко прижимая ее к себе, пытается успокоить. Наконец она затихла, лишь мелко-мелко продолжали вздрагивать худенькие плечи.
— Твой дед тоже мог уцелеть, но поступил неправильно. Учти это. Пошли, — приказал он.
Вместе с Профессором гуськом, друг за другом, они прошли на участок Бориса, спустили на воду его лодку, загрузили туда пару лопат и лом, раздвижную дюралевую лестницу, а фонарь прихватил с собой запасливый убийца.
Закончив, остановились у бортов — по пояс в прохладной ночью заливной воде.
Монгрел направил фонарь на Профессора.
— Иди сюда, — приказал он.
Николай понял, что за этим последует. Он подошел к Профессору и встал рядом:
— Не тронь его. Или я никуда не пойду. Его можно закрыть в бункере, там держали заложников.
Убийца несколько секунд размышлял.
— Хорошо.
Благодарно сипящий Профессор остался под замком на берегу, а они втроем вышли на темную воду залива. Слева алело зарево морского порта Высоцка и нефтяного терминала. Значительно дальше, на севере, горели огни Выборга.
Монгрел сам управлялся с двигателем, следуя указанным Николаем курсом, посадив их, чтобы все время были на виду, в нос лодки. Дрожащая Анна тесно прижималась к Николаю и, улучив момент, шепнула:
— Как ты думаешь — он нас убьет?
Ничего утешительного сказать он не мог — им никаким чудом не справиться с опытным и осторожным профессиональным убийцей. Но сдаваться он не собирался и шепнул ей:
— Поживем — увидим.
Лучиком последней надежды остались за кормой тусклые огоньки рыболовецкого причала. Лодка вошла в пролив между Долгунцом и Стеклянным.
— А как ты догадался, где? — нарушил долгое молчание Монгрел.
— Наткнулся во время одной из рыбалок на заброшенный колодец. — Николай со щемящей грустью вспомнил тот бесконечно далекий сейчас беззаботный солнечный полдень. — Припомнил — и все выстроилось. Да и фрагменты Евангелия Маннергейм не случайно в дневник вставил. Последние фразы каждого отрывка — путь к тайнику. Здесь была усадьба твоих предков, именно на нее указывал Маннергейм в письме Хейно, — сказал он Анне, кивнув на темную широкую полоску острова, вдоль которого неторопливо двигалась лодка.
С трудом отыскав в темноте место, Николай указал его Монгрелу. Тот, развернув лодку, к берегу, выключил двигатель. По инерции они бесшумно двигались к едва угадываемым береговым валунам.
Нос лодки ткнулся в крупную гальку, и теперь ночную тишину нарушали лишь шуршание тростниковых зарослей да негромкий плеск волн.
— Пошли, — разрушил ночную идиллию Монгрел.
Он следовал за ними, освещая путь фонарем.
Вскоре они вышли на небольшую поляну, окруженную зарослями кустарника и высокими соснами. В центре, рядом с темным провалом колодца, тянулись вверх две молодые стройные березы.
— Соберите хворост — разведем костер, — велел Монгрел.
У запасливого убийцы нашелся флакон с керосином, и скоро ветки занялись ярким пламенем. Устроившись рядом с костром на поваленном бревне, Монгрел передал Анне фонарь, чтобы освещать колодец сверху, и терпеливо наблюдал за приготовлениями Николая, спустившего вниз лестницу и тщательно осматривающего колодезную кладку.
Полуверцев проверял венец за венцом, пытаясь раскачать плиты, и постепенно опускался все глубже. Наконец приблизительно в метре от поверхности один из камней при простукивании издал гулкий звук — похоже, за ним находилось пустое пространство…
Николай стал расширять плотно забитые землей швы и попробовал раскачать камень, поддев его крайне здесь неудобным длинным ломом, который постоянно соскальзывал. Сильно болело раненое плечо.
После нескольких неудачных попыток кладка наконец поддалась. Напрягая до судорог мышцы всего тела, он смог медленно выдвинуть тяжелый кусок тесаного гранита и, задыхаясь, поднял его наверх.
Он отдышался и вытер пот, заливающий глаза, несмотря на промозглую колодезную сырость. Потом вновь спустился к образовавшемуся отверстию. Глубоко просунув внутрь руку, нащупал металлическую скобу и потянул ее на себя, чувствуя, как она поддается.
— Есть, — выдохнул он, и тут стало темно и пронзительно завизжала Анна…
Август 200… г., остров Стеклянный, Выборгский залив
Арсен, укрытый от преследователей грозой, на заливаемой дождем ПЭЛе дошел до Стеклянного, где всего неделю назад располагалась база его отряда. Он решил отсидеться там некоторое время.
В большом шалаше, плотно укрытом ельником, все оказалось нетронутым — лишь зачерствевшую буханку хлеба пыталось грызть какое-то лесное зверье. Он нашел несколько банок консервов и канистру с питьевой водой. Поел, раскопал неподалеку в лесу свой личный схрон — оружие, деньги и документы. Огонь он разводить опасался, сидел в темноте, заедаемый комарами, и невесело размышлял.
В этот раз он потерпел жестокое поражение, потерял всех людей, а главное — свою женщину, Ингеборге. Это, к удивлению, оказалось самым горьким и болезненным. Ему хотелось выть от беспощадной тоски.
Чтобы справиться с душевной болью, он стал думать о мести. Только один человек мог предупредить русских собак о приходе чеченского волка, только один — Монгрел…
Арсен заскрипел зубами и оскалился, представив, как своими острыми клыками будет раздирать на куски мерзкую плоть врага.
«Я найду тебя, Монгрел, — яростно шептал он, — и напьюсь твоей крови!»
Убаюканный сладкими мечтами, он задремал.
Его звериный сон потревожил звук лодочного мотора. Он осторожно вышел из шалаша. Дождь уже закончился, стояла тихая звездная ночь, звук мотора слышался все отчетливее — лодка двигалась к Стеклянному.
Арсен быстро и бесшумно вывел украденную ПЭЛу из плотных зарослей тростника и тихо, на веслах, двинулся вслед за чужой лодкой.
Через некоторое время он заметил неровные отблески костра, а чуть позже наткнулся на пустую лодку.
По приобретенной привычке он спрятал ПЭЛу в тростнике и, осторожно переступая по скользкой мокрой гальке, двинулся к костру. А когда подошел настолько близко, что смог разглядеть происходящее на поляне, едва все не испортил — не сдержавшись, застонал от радости…
Иншаалла, там как раз в этот момент кто-то под землей громко ударил металлом по камню. И сидящий к нему спиной на бревне у костра Монгрел не услышал его стона.
Подхватив удачно подвернувшийся под руку тяжелый, пропитанный водой сук, Арсен осторожно двинулся вперед. И когда их с Монгрелом разделяла пара шагов, напряженно присев, Борз мощно толкнулся и, обрушив дубину на руку врага, сжимавшую пистолет, повис у него на спине.
Удар сломал руку убийце, пистолет выпал из безвольно разжавшихся пальцев.
Услышав шум, Анна повернула голову и, не выдержав кошмарного зрелища, уронила фонарь и истошно завизжала. Повисший на плечах у Монгрела Арсен вцепился зубами ему в горло. Вгрызаясь все глубже, он рвал мышцы и перемалывал сухожилия. Монгрел смог подняться с бревна, нанося Арсену тяжелые удары уцелевшей левой рукой. Но тот, как бультерьер в пылу схватки, не чувствовал боли, упорно добираясь до артерии.
Монгрел резко опрокинулся на спину — так, чтобы разбить череп Арсена об острый угол валуна, — но тот, страшно завывая, продолжал грызть — его собственной жизни уже не существовало, весь мир сосредоточился в ненавистном горле врага.
Наконец киллеру удалось, извернувшись всем телом, навалиться на шею Арсена, раздался хруст позвонков…
Монгрел стряхнул с себя мертвого чеченца. В горле убийцы зияла страшная рана, а из разорванной артерии резкими толчками выплескивалась кровь. Он попытался пережать сосуд, через который уходила его жизнь, но непослушные ноги подломились в коленях — Монгрел упал лицом в траву.
Мертвый Арсен торжествующе скалился ему окровавленным ртом…
Потрясенная Анна несколько минут пребывала в ступоре. Потом отползла к зарослям ольхи, упала на колени и стала отчаянно блевать.
Николай наблюдал схватку из колодца, как из окопа.
Он поднял наверх увесистый и длинный металлический оружейный ящик, тщательно обернутый пропитанной смазкой плотной бумагой, и выбрался сам.
Прихватив фонарь, он склонился над лежащими почти в обнимку телами недавних смертельных врагов. Арсен умер сразу, а вот Монгрел… Но, перевернув на бок безвольно обмякшее тяжелое тело, он убедился, что тот тоже мертв — зрачки не реагировали на свет, пульс не прощупывался, да и кровотечение из артерии прекратилось — похоже, остановилось сердце.
Прикрыв покойникам веки, он забросал их сверху наломанным для костра еловым лапником.
— Коля, а они оба умерли? — издалека, не приближаясь, испуганно спросила Анна.
— Да, не бойся — они не воскреснут.
— Господи, как жутко, — не могу, всю трясет. Они не люди, они хуже диких зверей. Давай скорее уедем отсюда, а?
— Да, конечно, сейчас поедем. Только давай посмотрим, что в этом ящике, — мы столько пережили ради того, чтобы узнать, что там внутри. И еще — есть у меня ощущение, что надо нам туда заглянуть здесь, вдвоем, без свидетелей. Ну успокойся, моя хорошая, самое страшное уже позади. Кстати, телефон при тебе? А то я свой еще во время боя где-то посеял…
Она протянула ему трубку, вытерла ладонями заплаканные глаза и постепенно начала успокаиваться.
Николай звонил Дюне:
— Извини, если разбудил… Еще не ложился? Вот и мы тоже. Хочу тебе сказать, что Стасиса надо выпускать. Монгрел — это совсем другой человек… Да уж знаю — его труп передо мной лежит… Нет, не я — где уж мне с таким справиться. Его загрыз насмерть Арсен… Какие шутки, ты что?.. А этот тоже здесь, точнее, его труп… Да, оба здесь и оба мертвы. Так что отпускай Стасиса и пришли своих ребят — пусть забирают… Нет, не у Владимира Николаевича — на острове Стеклянном. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Ну так что со Стасисом?.. Три часа как гуляет? Что ж ты сразу не сказал? Ладно, спокойной ночи, генерал… и спасибо.
— Ну вот, Стасиса твоего отпустили, — сказал он Анне. — Дюня говорит, он на залив собирался. Наверное, уже добрался и перебудил всех с перепугу, тебя не обнаружив.
Подтверждая его слова, зачирикал телефон. Анна ответила и кивнула Николаю — да, Стасис.
— Не беспокойтесь, с нами все в порядке, мы на Стеклянном, уже собираемся и скоро будем. Вы там Профессора выручайте — он в бункере… А, ну молодцы… Нет, передай всем — нам ничего не угрожает, Монгрел погиб, ну тот, за кого тебя принимали. Ну все, потом расскажу — пока, мы скоро, целую. — И она отключилась, — Говорит, Профессор в бункере наконец ощутил действие алкоголя и мужественно пел «Варяга», да так, что перебудил всю округу.
Николай возился с ящиком. Поддев лопатой, отогнул крышку и с трудом отодрал закисший от времени металл.
Внутри, старательно завернутый в истлевшую уже резину, хранился ящик поменьше, из дерева. Шестьдесят лет назад на совесть упакованный, он не намок и не рассохся, даже прозрачный лак не потускнел.
Николай снял инкрустированную красным деревом крышку, и, опустившись на колени, касаясь друг друга головами, они вдвоем внимательно рассматривали содержимое.
Полуверцев осторожно извлек деревянный цилиндр, сработанный, похоже, из палисандра и украшенный искусной вязью незнакомых знаков. Когда цилиндр осветился отблесками костра, как будто сама собой открылась крышка, и в руку ему скользнул свиток пергамента, плотно намотанный на полированный стержень из матового нефрита.
Ничем не сдерживаемая гладко выделанная кожа развернулась, и сперва они увидели ровные строки незнакомых букв, написанных черной тушью, а потом, замерев на несколько секунд, растерянно переглянулись.
Происходило что-то невероятное, то, во что невозможно поверить…
Окружавшая их ночь по-прежнему хранила свою чуткую тишину, нарушаемую лишь изредка негромким плеском волны да лесными шорохами, а из тайных глубин сознания поднимался и заполнял все их существо голос, нараспев произносивший уже знакомые древние строки:
От Фомы святое благовествование…
Сие есть истинное свидетельство ученика недостойного Фомы Галилеянина, по прозванию Близнец, о жизни, деяниях и воскресении Сына Человеческого Иисуса Христа.
И было так. В Тивериаду Галилейскую в месяц Зиф, когда цвели все деревья, пришел караван с пряностями и благовониями из далеких восточных пределов персидских и индийских. И пришел с тем караваном Человек, светлый ликом. И сердце каждого, кто видел Его, наполнялось радостью и любовью. Было Ему имя Иисус Назорей.
И был там Фома бесноватый, ходивший за верблюдами в ветхом рубище. И пожалел его Иисус, и наложил на него руки не единожды, и запретил бесам, и вышли они вон. И прилепился Фома к Сыну Человеческому, и стал везде за ним следовать. А Иисус отдал ему свое платье, ибо нечем было прикрыть наготу его, и учил много.
И пришли они в день субботний, и вошли в синагогу, и проповедовал там Сын Человеческий, и учил, и говорил им: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие на земле. И нет главнее для человека заповеди великой Отца Моего Небесного: возлюби ближнего своего, как самого себя. Истинно говорю вам: когда все люди станут как братья, приидет Царствие Небесное. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы слышали, что сказано в законе Моисеевом: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю: любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда».
И дивились учению его, ибо Он учил их как власть имущий, а не как книжник. И исцелял Он многих больных и одержимых, и скоро разошлась о Нем весть по всей окрестности Галилейской. И запрещал Сын Человеческий говорить о чудесах сих. Но они, выйдя от Него, возглашали и рассказывали. И Иисус не мог уже явно войти в город. И приходили к Нему отовсюду: из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана.
А Фома недостойный приступал к Нему и спрашивал многажды: «Кто Ты, о Равви? Откуда Ты пришел?» И говорил ему Сын Человеческий: «Как ты сейчас Мой ученик, так и Я был учеником мудрецов великих в стране Кем и в восточных пределах. И познал многое, и обучился наукам разным и врачеванию, но скорбела душа Моя, ибо многие знания были уделом избранных. А простые люди проводили жизни свои во грехе, и много горя и печали терпели во все дни. И не ведали, что, коли поверят и познают любовь, то наступит на земле Царствие Небесное, и всякие печали сменятся радостью великой».
И был голос Ему Отца Небесного, и покинул Иисус чертог светлый, обитель мудрости. И пошел проповедовать по всей земле, дабы приблизилось Царствие Небесное. И пришел Он в Галилею, где в селении Назарете были родители Его Мария и Иосиф-плотник, и было Ему от роду тридцать лет.
Так говорил Иисус Сын Человеческий, и запретил Он Фоме до срока разглашать о том…
Ярко вспыхнула, занявшись пламенем, еловая лапа в костре, осветив вязь арамейских букв на пергаменте. Маленькими костерками отразился огонь в блестящих Анькиных глазах, но была она сейчас безмерно далеко от тихого ночного залива — тесно прижавшись к плечу Николая, заворожено по-детски чуть приоткрыв рот, разглядывала она пыльные улочки маленьких галилейских городков, любовалась утопающими в пышной зелени берегами Тивериадского озера, каменистыми дорогами проходила вслед за двенадцатью бедно одетыми и вечно голодными молодыми мужчинами, следовавшими за своим невысоким и неказистым Учителем, рябое лицо которого так светилось безмерной любовью и добротой, что казалось прекрасным ангельским ликом.
И вздымались вверх стены застывшего в надменном величии храма иерусалимского — его дворы и портики заполняла пестрая разноязыкая толпа иудеев и прозелитов, пришедших в древнюю столицу Израиля на праздник Пасхи, а в ажурной и светлой эллинской колоннаде дворца Ирода Великого застегивали подернутые патиной медные поножи на усталых, с огрубевшими грязными пятками ногах пехотинцев легионеры одиннадцатой италийской когорты — беспокойным выдался в этой варварской провинции месяц Нисан.
…И взял Иисус перекладину креста, и повели Его на распятие, и не мог Он сам нести, и заставили нести крест Его одного встречного Симона Киринеянина. И пришли они на гору Голгофскую. И распяли Его на стволе старой смоковницы, и поставили над головой Его надпись по-арамейски и по-латински, и по-гречески, означающую вину Его: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский». И голени не перебили Его, ибо хотели, чтобы страдал много. А по сторонам от Него распяли двух разбойников Дисмаса и Гестаса, и поносили те Его, и злословили. Пришедшие же из Иерусалима насмехались над Ним, говоря: других спасал, а себя не можешь. Если ты Сын Божий — сойди с креста, и уверуем в Тебя. А стерегущие у ступней его кровоточащих стражники бросали жребий о платье Его.
И был ветер страшный, и занесло всех песком пустынным. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, и выли псы всюду и птицы попрятались. И давали стражники Ему уксус с желчью, но не стал пить Он. Около же девятого часа возопил Иисус: «Сила Моя, для чего ты оставила Меня?» И испустил дух. И разодралась завеса в храме надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и в страхе бежали все с горы Голгофской. Лишь остались стражи Его, да многие женщины падали ниц, рвали волосы свои и плакали. Была там и Мария Магдалина, и мать сыновей Зеведеевых, и другие. А неверного пса Господня Фому били тростями стражники и отгоняли от креста Его. И стала гроза по всей земле, и вода с небес лилась потопом, то плакало Небо о Сыне Человеческом.
Когда же настал вечер, пришел к римскому прокуратору богатый человек саддукей Никодим и друг его из Аримафеи Иосиф, которых просила о том Мария Магдалина, ибо знали они ее. И отдал им Пилат тело Иисусово, и взяли тело, и обвили его чистою плащаницею, и умастили мирром, и положили в новой гробнице в скале у вод Кедронских, и привалили вход камнем большим. И была с ними Мария Магдалина плачущая, и сидела она у гроба Его. На другой же день в субботу пришли к прокуратору первосвященники и фарисеи и говорили: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот прорицал: после трех дней воскресну, прикажи охранять гроб, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых». И послал Пилат с ними центуриона Петрония. На рассвете первого дня недели к ученикам Его, собравшимся тайно в доме одном, ибо искали их слуги первосвященника, пришла Мария Магдалина, бывшая у гроба. И поведала, что Сын Человеческий, как и предрекал до того, на третий день по смерти Своей воскрес. Она была у гробницы и нашла там камень, вход запечатывающий, отваленным, а гробницу пустою, и стражей спящими. И устрашилась она, и пришла в трепет; и явился ей тогда Иисус, и не сразу узнала она Его. И услышав, что Он жив, бывшие с Ним не поверили. Вечером же дня, когда возлежали они в доме том, явился Иисус одиннадцати и говорил им, и поверили тогда. А раба Его неверного Фомы не было с ними, и говорили ему, и не верил он до времени, пока не увидит своими глазами. И сказали о нем: Фома неверующий.
И явился Сын Человеческий вновь, и была с Ним Мария Магдалина, и опирался Он на плечи ей, ибо не держали ноги израненные Его. И сказал Иисус неверному Фоме: «Вот Я; веришь ли, чадо?» И возрадовался Фома, и славил Господа Иисуса Христа.
И явился Сын Человеческий в другой раз ученикам Своим на пути в Галилею, как и предрекал, и говорил с ними. И пошли одиннадцать в разные пределы проповедовать учение Его, как разумели, а пес Господень Фома не мог отлепиться сердцем от Сына Человеческого и следовал по путям Его.
И всюду в восточных пределах и в стране персидской, и других землях встречал свидетельства о Иисусе Христе, что был там, и утешал многих, и исцелял болезни разные, и предрекал приближение Царствия Небесного на земле. И имя Ему там было Исса, и была с Ним Мария Магдалина. И пришел раб Его неверный Фома в страну индийскую, и дошел до пределов тибетских, и…
Чистый и высокий юношеский голос, нараспев читающий древний текст, внезапно оборвался.
В наступившей тишине они явственно услышали смертельную ноту, пропетую спущенной тугой тетивой, и короткий свист стрелы. Зазубренный металлический наконечник, прорвав ветхий коричневый хитон, вошел невысокому худому человеку чуть правее и ниже левой лопатки и, преодолев сопротивление тканей и сердечной мышцы, застрял в пергаментном свитке, спрятанном под одеждой на обожженной солнцем худой безволосой груди.
Стоявший на коленях маленький человек повалился вперед. Испуганная его падением, юркнувшая под камень крохотная черная ящерица, часто подрагивая тонким хвостом и несмело выглядывая из своего укрытия, могла видеть, как на перепачканном дорожной пылью поросшем юношеской редкой бороденкой лице тихо угасала мягкая улыбка совершенно счастливого человека…
Николай нащупал пальцами неровные края небольшого рваного отверстия — самой последней точки незаконченного Евангелия от Фомы — и придвинулся поближе к огню костра, чтобы рассмотреть пергаментный свиток.
Они разглядывали размытый бледно-розовый контур вокруг рваной раны, и древняя кожа пергамента в этом месте еще была влажной от пролитой почти две тысячи лет назад крови. Почему-то это не удивляло.
Николай вспомнил:
— По преданию, один из двенадцати — апостол Фома — был убит стрелой в паломническом путешествии в Индию.
— Подожди-ка, тут что-то еще… — Анна взяла из его рук не до конца развернутый пергамент.
На полированном нефритовом стержне оставался еще один виток. Свиток развернулся, и они увидели на желтоватой коже отпечаток человеческой руки, настолько четкий, что на подушечках пальцев легко различались линии папиллярного рисунка.
На ладони, ближе к запястью, кровавой розой проступал стигмат — рана от большого гвоздя, какими руки распятого прибивали к кресту. А ниже — черной тушью, каллиграфически правильными арамейскими буквами — надпись.
На этот раз не звучал голос, просто Анна и Николай понимали написанное, а как — Бог весть…
Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Чуть касаясь пальцами контура ладони на пергаменте, Анна задумчиво спросила:
— Так, значит, Фома все-таки нашел Иисуса?
— Может быть. Но, похоже, знать нам этого — не дано. А может быть, Евангелие уже после гибели Фомы неведомыми путями попало к Христу.
— Да это, наверное, и не важно. Главное, вот он, отпечаток ладони Иисуса. — Анна говорила лихорадочно, в глазах плясали отблески костра. — Слушай, это же сенсация из сенсаций. Конечно, заставить людей в это поверить будет сложно, но ведь мы с тобой профессионалы и обязательно справимся. Этот пергамент может изменить мир.
— Нет, Анютка, это вряд ли, да и я думаю, что никто, кроме нас двоих, его в ближайшем будущем не увидит. Потому что не нам решать судьбу свитка, — сказал Николай, внимательно вглядываясь в ее лицо.
— Как не увидят, что ты говоришь?! Мы обязательно должны рассказать миру об этом Евангелии! Ведь сколько людей, узнав о его существовании, смогут поверить и стать лучше и счастливее. Ради того, чтобы оно стало известно, погиб мой дед — и, даже не говоря о прочем, только в память о нем, я обязана добиться публичной огласки. — Николай что-то попытался сказать, но она жестом остановила его и, почти высокомерно, закончила: — И я непременно сделаю это, с тобой или без тебя.
Освещенная отблесками огня она была прекрасна — одухотворенная и решительная, с лицом древней амазонки-воительницы, воплощение страсти и силы.
Анна по-своему оценила внимательный взгляд Николая и, крепко прижав к груди свиток, медленно, шаг за шагом, начала отступать от него, торопливо пытаясь что-то разглядеть на земле. Он отвернулся и пошел к костру, устало сел на ствол рухнувшей когда-то сосны и подбросил несколько сухих сучьев на тлеющие угли. Закашлялся от повалившего дыма и негромко сказал:
— Справа, у камня.
— Что? — вздрогнув, переспросила Анна.
— Я говорю: пистолет Монгрела справа от тебя, у камня. Ты ведь его пытаешься найти?
Она подошла к камню и подняла упавший в травяные заросли тяжелый пистолет. Кожу ладони как будто обожгло ребристой поверхностью рукоятки, и Анна безвольно опустилась на влажный от росы мох. Наваждение прошло, а минутой позже нахлынул стыд, такой безжалостный и горький, какой бывает только в детстве, и она расплакалась, громко всхлипывая и шмыгая покрасневшим носом. А когда Николай поднял ее, сжавшуюся в несчастный комочек у старого замшелого камня, она все прятала лицо, уткнувшись лбом ему в плечо, и повторяла:
— Прости меня, мне так стыдно.
Потом, тесно прижавшись друг к другу, они сидели у дотлевающих углей костра, и открытый винтовочный ящик стоял у их ног. На дне лежала аккуратно смазанная, в простых черных ножнах, сабля Маннергейма, поблескивая золотом и белой эмалью ордена Святого Георгия на эфесе, а рядом, завернутые в трогательную белую тряпицу, — четыре солдатских Георгиевских креста — полный кавалерский бант.
В отдельной ячейке покоился древний пергамент в футляре, а в другой — желтела кучка золотых червонцев с двуглавым орлом на реверсе, маленькая, тоже золотая, фигурка Будды и пригоршня драгоценных камней непривычной грубой огранки да еще перетянутая бечевкой пачка старых бумаг.
Искусно сработанная, плотно закупоривающаяся пулей крупнокалиберная гильза — по-солдатски простой почтовый ящик — хранила свернутое трубочкой письмо, написанное на двух языках — финском и русском.
«Дорогие наши друзья!
Мы — маршал Карл Густав Маннергейм и унтер-офицер Григорий Малоземов — обращаемся к вам с просьбой. Судьба сложилась так, что исполнить свой долг и вернуть находящееся здесь Евангелие туда, где ему надлежит быть, мы не смогли. Древний пергамент был украден из дворца Далай-ламы Потала, что в тибетской столице Лхаса. Возможно, вы уже успели понять, что священный свиток обладает удивительными свойствами. Все долгие годы, которые нам выпало быть его хранителями, мы пытались прояснить загадочную судьбу этой реликвии. Но увы! — наши усилия оказались напрасными. Мы уповаем на то, что вам удастся справиться с трудной задачей. Быть может, письма и документы, оставленные нами здесь, помогут вам в этом. Предприятие по возвращению священного свитка может быть непростым, поэтому передаем вам также попавшие к нам вместе с Евангелием тибетские ценности — их реализация и продажа принадлежащих нам золотых монет даст необходимые средства для его осуществления. Здесь же вы найдете мое георгиевское оружие и награды Григория, полученные за честную воинскую службу великой державе. Эти вещи должны навсегда остаться в России — может быть, по прошествии лет они смогут заинтересовать сотрудников какого-нибудь музея.
С благодарностью и любовью,
Карл Густав Маннергейм, Григорий Малоземов. Март 1944 г.»Костер догорел, на востоке, за высокими кронами островных сосен, уже рассветно алело небо, настала пора возвращаться — их ждали любимые люди и важные дела. Они погрузили ящик и тихо отчалили от Стеклянного.
Несколькими сильными гребками Николай вывел лодку из прибрежных камней на спокойную воду залива. Перед тем как нарушить трепетную тишину ревом мотора, он сказал:
— Знаешь, Анька, никто не смог причинить людям больше страданий, чем готовые осчастливить все человечество. Единственное исключение во всей мировой истории — Иисус, никого не убивший, напротив — сам принявший смерть. Видимо, существует непреложный закон: как только человек решил, что знает лучше другого, что этому другому нужно, — любовь в его душе оборачивается жаждой власти, пусть он сам того и не понимает. Вот так вот, Анютка. — Он вздохнул и улыбнулся, — Наивные мечты, конечно, но как было бы здорово, если бы миром правили те, кого эта власть тяготит…
Мощный движок бодро заурчал, а затем взвыл, повинуясь Николаю, резко выкрутившему ручку газа на румпеле. Лодка рванулась вперед, легко выходя на глиссирование, победно задрав серебристый нос. А за спинами возвращавшихся домой мужчины и женщины в пенном кильватерном следе искрились первые блики встающего солнца.
Наступало утро нового дня, летнего воскресенья два тысячелетия спустя от Рождества Христова.
Эпилог
Декабрь 200… г., озеро Сайма, Финляндия
Финляндия праздновала Рождество Христово.
В деревянном уютном доме на первом этаже прямо в центре просторного холла установили нарядную живую ель, усыпанную огоньками гирлянд. На кухне у плиты суетилась принаряженная Васса — боже мой, столько гостей, нужно всех накормить…
Старый камин простуженным баском выводил свою вечную песню, и у его прожорливой теплой пасти устроились за шахматной доской Моисей Фидель и отчим Анны Гамлет Андриасян, который старательно размышлял над следующим ходом. Южный темперамент сказывался — он нервничал, увлекался атакой, забывая о защите, и все никак не мог выиграть партию у сладко улыбающегося дяди Мойши.
Елена вместе с Айгерим — мамой Анны, оказавшейся весьма спортивной, совершали длительную лыжную прогулку. Владимир Николаевич и Стасис на прибрежной банке старательно таскали некрупных окуней, а Николай, гордо заявив, что такую рыбу можно ловить и на Выборгском заливе, отправился в поисках удачи на широкие просторы Саймы, отыскивая по отметкам GPS-приемника большие глубины в надежде на трофейный экземпляр.
Как и следовало ожидать, за дерзновенные мечты полагалось наказание: за весь короткий зимний день — ни одной поклевки. Он облавливал очередную точку, уже не надеясь, что удача улыбнется ему. Вечерело, на нетронутых сугробах появились синеватые тени.
Лихо заложив вираж, подъехала Анна. Остановив мощный «Бомбардье» на расстоянии от лунок — чтобы не пугать рыбу, — она направилась к Николаю.
В белоснежном комбинезоне, высокая и стремительная Анна выглядела эффектно, и он любовался ею. За несколько месяцев разлуки она изменилась — повзрослела, стала более сдержанной и серьезной. В суете большого сбора гостей еще не выдалось возможности поговорить наедине.
— Ну что, рыбак, не клюет чудо-юдо-рыба-кит?
— Не клюет, хозяюшка.
— Тогда, может быть, поговорим?..
— Давай.
Николай устроил мормышечную снасть на рыболовном ящике — а вдруг все же клюнет — и вернулся вместе с Анной к снегоходу. Из-за пазухи он извлек фляжку:
— Будешь коньяк?
— Нет, спасибо, мне же сегодня еще Настю с Валеркой встречать.
— Ну, тогда тебе, как непьющей, полагается субтропический фрукт…
Николай опять полез за пазуху и протянул ей мандарин.
— Ой, какой теплый, — восхитилась Анна.
Он коснулся фляжкой мандаринового оранжевого бока и, глотнув коньяка, спросил:
— Ну как живешь, хорошая моя? Трудно приходится?
Она вздохнула:
— Трудно, Коленька. Особенно на первых порах — просто зашивалась. Когда дедушка был жив, казалось, все здесь идет само собой. Просто и легко. А как стала сама заниматься базой, тут и выяснилось — насколько это сложно, тем более для русской девчонки, даже финского языка не знающей.
— А Стасис?
— А что — Стасис?.. У него — его лодки, живет в Вильнюсе, встречаемся раз в месяц: то он сюда на денек, то я к нему. Замуж зовет, все время уговаривает, чтобы я там осталась — а я не могу здесь все бросить… Ладно, я ведь не плакаться тебе в жилетку собралась. Ты-то как?
— Да все, в общем, без потрясений. Пожалуй, единственная значительная новость — начал я писать, Анька, авантюрный роман. Я привез несколько первых глав, очень хочу, чтобы ты их прочитала.
— Здорово, молодец! Прочитаю с удовольствием. — Она сняла шлем и задумчиво вертела его в руках.
Николай понял, что волнуют ее сейчас отнюдь не его первые литературные опыты, и слегка обиделся. Но Анна этого не заметила:
— Коля, а что с пергаментом?
— С Евангелием все в порядке, благополучно хранится там, где мы его оставили. Что-то случилось?
— Да не то чтобы случилось, но… Последние две недели на мой адрес электронной почты приходят странные письма… Ничего конкретного, лишь в заголовках настойчиво повторяются слова: Тибет, Потала, реликвия, Далай-лама и Маннергейм.
— И тебе тоже?.. Я-то думал, что таким образом Дюня развлекается — он, кстати, недавно звонил мне и намекал, что добровольная выдача неправедно нажитого добра влечет за собой снисхождение. Он ведь, когда передали саблю Маннергейма и кресты Малоземова в Музей истории города в Петропавловке, не поверил, что мы отдали все. А на российской таможне, в Торфяновке, когда к тебе ехали, нас трясли по полной программе — три часа машину обшаривали.
— Похоже, что нас провоцируют — рассчитывают, что мы запаникуем и попробуем вывезти Евангелие из России. Тут-то они нас и возьмут, тепленькими… И я думаю, нам стоит поддаться на провокацию.
Она вопросительно посмотрела на Николая. Он кивнул и ободряюще улыбнулся:
— Молодец, Анька, все правильно. Только вот связи с адресатом у нас по-прежнему нет. Не идти же снова в дацан…
Они рассмеялись, вспомнив, как перемигивались хитрые буряты в петербургском дацане — и слепому стало бы понятно, что монахи что-то затевают. Анна и Николай, так и не сказав им, зачем приходили, поспешно покинули обитель хитроумных петербургских буддистов.
— А зачем нам посредники? Вот закончатся рождественские и новогодние каникулы, рыбаков на базе поубавится, и я смогу позволить себе небольшой отпуск. И отправлюсь в путешествие в жаркие страны к теплым морям. А именно — в Индию, где в штате Химачал-Прадеш в городе Дхармасала находится резиденция тибетского правительства в изгнании и Далай-ламы XIV Тэнзин Гьяцо. Видишь, какая я умная? Надеюсь, что смогу получить у его святейшества аудиенцию. Поехали со мной?
— Нет, Анька, это неразумно. Если нас контролируют, то такая совместная поездка вызовет большой переполох. Я лучше дождусь результатов твоего визита. А там уже решим, что делать дальше, идет? Я ведь тут на досуге наконец разобрал документы, которые маршал оставил в тайнике, и понял, что не был Маннергейм уверен в том, что Евангелие нужно возвращать именно в Тибет… Смотри — клюет!
Николай стремительно рванулся к своей удочке. Засекшаяся рыба стащила легкую снасть на лед. Николай подхватил удильники, пальцами перебирая леску, ощутил внизу, подо льдом, мощные рывки крупной добычи. Проклиная себя за то, что поленился перевязать узлы, и умоляя тонкую леску не рваться, потерпеть еще чуть-чуть, он то подтягивал неизвестный трофей ближе к лунке, то опять давал рыбе волю… Стоя на коленях на льду, он пытался успокоить бешено колотящееся сердце и дрожание рук — адреналин кипел в крови.
Постепенно рывки рыбы стали плавнее и реже — она устала. Медленно и очень осторожно он из глубины подводил ее к яркому конусу света — так сквозь толщу воды должна видеться лунка. Сейчас все зависело от того, удастся ли ему правильно, головой вперед завести туда рыбу. Господи, ты же есть и иногда оказываешь милости своим недостойным чадам! Все получилось, и, когда из заметно приподнявшегося в лунке ледяного крошева высунулась тупая и широкая рыбья морда, леска в конце концов оборвалась. Обдирая кожу ладони об острые грани смерзшейся шуги, Николай впился пальцами в рыбью голову и резко выбросил на лед полуметровый брусок мощного и широкого тела с черно-зеленой спиной и мелким нарядным серебром чешуи.
Анна, настоящая хозяйка рыболовной базы, завопила:
— Ура, лосось! Вот это добыча! Твой портрет будет теперь красоваться на нашем стенде среди прочих самых удачливых рыболовов!..
Николай лишь глупо улыбался и никак не мог прикурить сигарету — дрожали руки…
Они быстро собрались — какая рыбалка после такой удачи?!
Устроившись сзади и крепко обняв Анну, Николай сквозь поземку, поднятую снегоходом, смотрел на яркий желтый свет, льющийся из окон приближающейся усадьбы, такой домашний, теплый и уютный в суровой строгости заснеженного леса. Там, внутри, с писклявым лаем и всамделишным рычанием носились друг за другом и за своими хвостами два черных широколапых вислоухих, очень пока неуклюжих щенка. Почти близнецы, только у Микеля Второго вокруг шеи завязана голубая шерстинка, а у Лира Второго — зеленая.
Послесловие автора
Увы, автор должен признать, что действующие в романе реальные исторические личности, возможно, не были участниками описываемых событий — все это лишь версия, рожденная увлекательным изучением подробностей тех далеких лет, своеобразная попытка преодолеть противоречия существующих трактовок. Сколь убедительной выглядит эта попытка — судить читателю.
Конечно же, все происходящее в романе в дни сегодняшние — порождение авторской фантазии, где любые пересечения персонажей и ситуаций с реальными людьми и событиями — случайны и непредумышленны. Но, не желая выглядеть лишь безответственным выдумщиком, автор гарантирует проверенную вековым семейным опытом подлинность приведенного в тексте рецепта узбекского плова — именно так его готовят в Ферганской долине.
Автор надеется, что читатели разделяют уверенность в том, что неблагодарность — тяжкий грех, и выражает искреннюю признательность всем, кто имел отношение к появлению этой книги. Сергей Печенкин, прекрасный друг и первый читатель романа, оказал мне неоценимую помощь. Забота, любовь и поддержка моей семьи — Елены, Владимира Николаевича и Веры Ивановны Наволоцких, Анастасии Горловой, Анны, Сергея и Глеба Ераковых — бесценна. Автор благодарен коллегам — сотрудникам информационной службы «Вести-Петербург» — за дружеские замечания и советы.
В том, что роман издан, немалая заслуга Натальи Лукониной и Ярослава Алексеева. Благодарю Анну Хореву и Андрея Юдина за профессиональную помощь в работе над текстом.
Автор признателен всем сотрудникам издательства «Астрель-СПб» и особенно — блестяще талантливому Виталию Гришечкину и очаровательной Екатерине Серебряковой — их яркие идеи и предложения сделали книгу лучше.
В. ГорловПримечания
1
Пэск — верхняя меховая одежда.
(обратно)2
Яри — саамская зимняя обувь.
(обратно)3
ВСС — винтовка специальная снайперская.
(обратно)4
Синолог — китаист.
(обратно)5
Богдыхан (устар.) — китайский император.
(обратно)6
Нет!
(обратно)7
Дувал — глинобитный забор.
(обратно)8
Карл Густав Маннергейм. Мемуары. М., 2003.
(обратно)9
«Флай» (от англ. flay-way) — передвижная телевизионная станция.
(обратно)10
Н. Гумилев «Капитаны».
(обратно)11
Автор просит простить за намеренную историческую неточность. В действительности генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов получил образование в Михайловском артиллерийском училище.
(обратно)12
Сунн-дуд — шелковый шнурок, на котором специальным образом вяжутся узелки, почитается тибетскими буддистами как священный оберег.
(обратно)13
Ринпоче — почтенный титул, означающий «драгоценный».
(обратно)14
Здесь приводится рецепт приготовления настоящего узбекского плова. Те, кого кулинария не интересует, могут сразу открыть с. 259.
(обратно)15
Кяризы — древняя афганская оросительная система из подземных каналов, протяженная и запутанная.
(обратно)16
Карл Густав Маннергейм. Мемуары. М., 2003.
(обратно)17
Трактовать выпуски — репетировать.
(обратно)18
Фрагмент из романа-продолжения «Возвращение в Тибет».
(обратно)






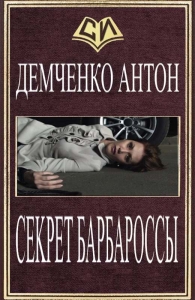

Комментарии к книге «Код Маннергейма», Василий Александрович Горлов
Всего 0 комментариев