Андрей Дышев Горячая тень Афгана
1
«Дорогой Кирилл!
Я получил твое письмо, и оно, честно сказать, меня озадачило. После нашей с тобой последней встречи, когда я предлагал тебе подписать контракт, прошло почти два года. Я, как ты, наверное, знаешь, уже не командую полком, выдвинут на повышение. Мой преемник — человек своеобразный, ты с ним не знаком и вряд ли найдешь общий язык. Изменилась и ситуация в самом Таджикистане, теракты и убийства наших военнослужащих стали привычным делом. Но не это, пожалуй, самое главное.
Если я правильно понял, тобой движет вовсе не мальчишеское стремление нацепить на себя камуфляжную форму, перепоясаться пулеметными лентами, взвалить пулемет на плечо и пойти на засаду. Забавами такого рода мы с тобой насытились под завязку еще в Афгане, войной и смертью тебя не удивишь и тем более не прельстишь. Я помню встречу с твоим другом Борисом, который многое рассказал о тебе, и я теперь понимаю, что ты собрался в Таджикистан не только для того (точнее — не столько), чтобы послужить Отечеству. Мне трудно подыскать подходящее определение тому делу, на которое ты подрядился в наши недобрые края, но хочу предупредить: остановись, трезво и спокойно оцени свои силы и возможности, сойди с небес на землю и подумай о своем будущем. Поверь, что все это не стоит того, чтобы ты рисковал жизнью. Я помню тебя по Афгану: ты был храбрым воякой, но в то же время умел беречь своих солдат. Мне очень хочется, чтобы это качество проявилось снова и ты сберег сам себя. Предоставь заниматься грязной и опасной работой тем, кто в ней более компетентен.
Надеюсь на твой светлый разум и холодную голову. Крепко обнимаю!
Твой ЛОКТЕВ».Я сложил письмо и сунул в нарукавный карман, хотя его следовало бы выкинуть. Четвертый или пятый раз читаю, выучил почти наизусть. Мы с Локтевым служили в одной разведроте в Афгане. Он был командиром, я — старшиной. До сих пор не понимаю, как он выжил. Люди, у которых напрочь отсутствует чувство страха, обычно ловят пули столь же целеустремленно, как теннисная ракетка мячи.
Я опустил руку в сумку, нащупал бутылку с минералкой. Хотел по привычке открыть об угол, но сиденье подо мной, куда я приложил горлышко, имело округлый край. Сосед, сидящий справа, человек зрелого возраста, с зачесанными назад седыми волосами, обратил на меня внимание и протянул складной нож.
— Служить? — спросил он, разглядывая мою камуфляжную форму.
Я кивнул и присосался к бутылке. Этот человек был мне не интересен, а для меня нет ничего более мучительного, чем вести пустые разговоры со случайными попутчиками. Бутылку я осушил в три глотка, и тотчас руки покрылись крупными каплями пота.
Сосед продолжал рассматривать меня, и я понял, что разговора с ним не избежать.
— Гурьев, — представился он и протянул руку. — Анатолий Александрович Гурьев.
Я потрогал его руку, кивнул и сразу же прикрыл глаза. Пусть думает, что я намерен вздремнуть.
— Простите, что отвлекаю вас. Дело в том, что я первый раз лечу в Таджикистан, и, если можете, хотя бы в общих чертах, обрисуйте обстановку… Душа не на месте, не имею ни малейшего понятия, что ждет меня впереди. Все случилось так неожиданно, и не было времени разобраться во всем толком. Этот договор, эти сумасшедшие сборы в дорогу… Куда меня, старого дурака, понесло?
Самолет сделал крен, в иллюминатор брызнул солнечный свет, яркое пятно, словно круг от прожектора, заскользило по борту, раскачивающейся грузовой подвеске, по лицам пассажиров — сонным, хмельным или встревоженным, по ряду сумок, коробок, ящиков, выставленных посредине салона. Гурьев скосил глаза, пытаясь рассмотреть, что происходит за мутным стеклом иллюминатора, ничего не увидел, кроме неба, но вставать не стал.
— Вот посмотрите, — сказал он, вытаскивая из сумки серую папку с надписью «Дело №» и развязывая тесемки. — Что это может означать?
Он надел очки в толстой желтой оправе под янтарь и зачитал мне с листа:
— «Организация обязуется обеспечить специалиста всем необходимым для работы и отдыха в пределах нормы, которая устанавливается в зависимости от результатов труда». — Гурьев поднял на меня глаза и снял очки. — Вы не можете объяснить мне, что это за норма и кто будет ее устанавливать?
— Об этом вам надо было спросить у того, с кем вы подписывали договор, — ответил я.
— Да я все понимаю, — отмахнулся Гурьев. — Но когда все делается в страшной спешке… Или вот еще, послушайте: «Специалист не вправе прерывать контракт по своему усмотрению, равно как и покидать пределы рабочей территории без ведома администрации, вести какую-либо переписку или иными способами связываться с лицами, не имеющими отношения к настоящему договору». Что это? — с нотками возмущения спросил — он, будто именно я заставил его подписаться под этими словами. — Это же концлагерь какой-то! И мы еще смеем утверждать, что живем в демократическом обществе.
— А чего вы возмущаетесь? — пожал я плечами. — Вас разве насильно заставили подписать это?
Гурьев вздохнул и спрятал листы в папку.
— Да, вы правы. Но когда штат института сокращают ровно втрое и тебя, как одряхлевшую собаку, выставляют за порог, подпишешь что угодно.
Во мне шевельнулось слабое любопытство.
— А кто вы по специальности?
— Химик! — Гурьев зачем-то развел руками. — Бывший сотрудник института фармакологии при министерстве здравоохранения. А теперь, значит, лечу неизвестно куда, неизвестно зачем, и одному богу известно, чем я буду заниматься. Жадность наказуема! — добавил он философски. — И в истинности этих слов мне, кажется, придется убедиться очень скоро.
— Вам пообещали хороший заработок?
— Хороший? — Он как-то странно посмотрел на меня. — Хороший заработок я имел в институте. А тут, — он постучат ладонью по папке, — мне предложили просто фантастические деньги! — Гурьев ближе придвинулся ко мне и негромко сказал: — Пять тысяч долларов. В месяц. Плюс бесплатное питание и проживание.
И выжидающе посмотрел на меня.
— Ну что ж, вам можно только позавидовать.
— Да бросьте вы! — махнул Гурьев рукой. — Вы искренне верите, что мне заплатят такие деньги?
— Смотря чем вы будете заниматься.
— Да в том-то и дело, что я не знаю, чем буду заниматься.
Я искренне удивился.
— Даже приблизительно не знаете? Рыть котлованы или продавать бижутерию?
— Насчет бижутерии вы, конечно, утрируете, — усмехнулся он. — Работать я буду по специальности. Как-никак, а двенадцать лет руководил кафедрой.
— Значит, вы будете работать на медицину.
— Возможно, возможно, — пробормотал он. — Но такие деньги! Конечно, я подмахнул договор, особенно не вчитываясь в него. За пять тысяч долларов можно и за колючей проволокой поработать, правда? — Он рассмеялся, промокнул платком лоб.
— А организация, с которой вы подписали договор, — это что же, какое-нибудь государственное учреждение или фирма?
Гурьев отрицательно покачал головой.
— Что вы, голубчик! Какое госучреждение в наши времена отвалит вам такую зарплату? Это какая-то малоизвестная коммерческая фирма.
— И она специализируется на производстве лекарств?
— Полагаю, что да, — кивнул Гурьев.
— На территории Таджикистана?
— Выходит, что так, раз меня отправили туда.
Самолет лег на правое крыло, и солнечный свет ослепил нас. Пошатываясь, через сумки и коробки переступал краснолицый солдат. Он искал в огромной утробе грузового «Ила» туалет и никак не мог его найти. Дружки, похохатывая, указывали ему то на рампу, то на входную дверь, то на пилотскую кабину.
Гурьев, полагая, что исчерпал тему разговора, стал запихивать папку с договором в сумку, но я тронул его за руку.
— Вы позволите мне почитать?
Гурьев кивнул, охотно вытащил папку и протянул ее мне. Я развязал тесемки, вытащил лист договора, отпечатанного на принтере. Вверху слева — логотип в виде пальмы, ветвь которой закручивается буквой «Р». От нее на всю страницу вытягиваются слова, дрожащие, как в знойном воздухе: «Российско-перуанский коммерческий союз „Гринперос“».
Я посмотрел вторую страницу. Внизу — печать. В ее середине — все та же пальма, по окружности — надписи на русском и испанском. Еще ниже фамилия генерального директора, Луиса Маркеса, и размашистая подпись.
— Вы один летите? — спросил я, еще раз просматривая бланки договора.
— Вообще-то нас было трое, кто вместе со мной подрядился на эту работу, но те парни летят через два дня гражданским бортом, а мне удалось сесть на военный.
— Вас будут встречать?
— Надеюсь! Очень надеюсь! В Душанбе у меня нет никого. А ночевать в незнакомом городе опасно… Что вы там увидели?
Я оторвал взгляд от логотипа и протянул листы Гурьеву.
— Где-то я уже слышал об этой фирме, — расплывчато сказал я.
— Надеюсь, хорошее? — спросил Гурьев, заталкивая папку на прежнее место.
— Да, — ответил я, задумавшись. В мыслях кружились смутные воспоминания: «Гринперос». Где-то я уже слышал это слово: — Да, — повторил я. — Надеюсь, что это хорошая фирма и вас не обманут с заработком.
Самолет пошел на снижение. Гурьев боялся полета, и теперь лицо его стало еще более напряженным. Он постоянно вытирал платком лицо и шею, словно хотел отполировать кожу до блеска. Солдаты, не вставая со скамьи, стали разбирать свои выгоревшие на солнце зеленые рюкзаки и закидывать их за плечи.
На выходе я немного отстал от Гурьева, хотя он, спускаясь по рифленой рампе, которая словно от высотного холода покрылась металлическими пупырышками озноба, все время оборачивался, но уже не мог различить меня среди толпы солдат, одетых в камуфляж. Я не спускал с него глаз, когда он сошел на бетонку, от которой тянуло доменным жаром, поставил сумку у ног и стал смотреть по сторонам, выискивая встречающих. Смешавшись с шаркающим пыльными сапогами строем солдат, я шел к крытым брезентом грузовым машинам, курсирующим между аэропортом и штабом дивизии. Если его не встретят, подумал я, придется забрать его с собой.
Солдаты начали грузиться в кузов. Я не спешил, хотя старший машины поторапливал и водитель уже завел мотор. Гурьев топтался у рампы, изнемогая от жары. Не встретят, почти уверенно подумал я, закинул свою сумку в кузов и хотел уже было бежать к самолету, как увидел подкативший к рампе серебристый микроавтобус «Ниссан». Смуглый, с бритой головой человек вышел из машины, подошел к Гурьеву, что-то спросил. Тот с готовностью вытащил папку и протянул человеку договор. Человек кивнул и показал на машину. Через полминуты серебристый «Ниссан» беззвучно развернулся и помчался по рулежке куда-то в сторону.
Встретили, подумал я и ощутил странное чувство скрытой тревоги.
2
Локтев был на совещании у командира дивизии, и я прождал его больше часа. Потом я увидел его тяжеловесную фигуру в конце коридора; он шел в мою сторону, широко размахивая руками, вынуждая встречных офицеров прижиматься к стене и отдавать честь каким-то притесненным нелепым движением, в котором было не столько стремление приветствовать начальника, сколько желание не обратить его внимание на себя. Я подумал, что Локтев не узнает и вообще не заметит меня — начальникам его ранга свойственно не обращать внимания на такую мелочь, как штабные клерки, тенями снующие по коридорам, а я в своем камуфляже вполне смахивал на такую мелочь. Но Локтев, поравнявшись со мной, узнал меня и отреагировал так, словно мы в последний раз виделись только вчера.
— Прилетел все-таки, — пророкотал он, на мгновение остановившись рядом и не подав руки, затем повернулся к двери своего кабинета и бросил через плечо: — Служить хочешь? Не надоело голову под пули подставлять? Зайди, черт тебя подери!
Он вошел в кабинет, воздух в котором от кондиционера был сырым и холодным, сел за стол, наполовину заставленный телефонами, схватил со стола пачку сигарет, но она оказалась пустой, и Локтев со злостью швырнул ее в мусорную корзину.
— Ну зачем ты приехал? — громко спросил он, не глядя на меня.
— У тебя, наверное, неприятности, — предположил я.
— Да какие к черту… — начал было он заводиться, но осекся, поднял трубку, приказал подать к КПП машину, впечатал трубку в гнездо с такой силой, что аппарат чудом не раскололся на части, и, наконец, пристально посмотрел на меня: — Сколько тебе лет, Кирилл?
— Тридцать четыре.
— Тридцать четыре, — повторил он, покачивая тяжелой крупной головой. — Возраст, когда жизненный опыт потихоньку начинает перерождаться в мудрость… Пива хочешь? — Он опустил руку под стол и вытащил оттуда темную бутылку и стакан. — Теплое, правда. Зато «Бавария». Тут все пьют баварское пиво и смирновскую водку. Не то, что мы пили в афганскую войну — вонючую кишмишовку и спирт, который покупали в вертолетном полку. Не забыл?
Я не притронулся к стакану, через край которого медленно переваливала пышная пена.
— Обиделся, — решил Локтев. — А напрасно.
Он поднялся из-за стола, подошел ко мне, обнял за плечи.
— Ты, Кирилл, хороший парень, но…
Он не договорил. Или не подыскал подходящего слова, или не захотел показаться слишком грубым. Мы вышли в коридор. Я шел следом за Локтевым. Встречные офицеры снова шарахались в стороны. Я шел за ним, как за бульдозером.
Во внутреннем дворике Локтева дожидался «УАЗ». Я сел на заднее сиденье. Минут двадцать мы кружили по городу, который отчасти был мне знаком. Дорогой Локтев молчал, лишь изредка и односложно говорил водителю, в какую сторону сворачивать. Машина на высокой скорости покачивалась, будто раскаленный на солнце асфальт стал прогибаться под колесами. Я думал над тем, какие слова готовит мне Локтев и что я отвечу ему. Настроение, с которым я входил в штаб, сменилось чувством легкого разочарования. Я надеялся в лице Локтева обрести союзника, а на деле выходило, что этот человек наверняка станет мешать мне.
Мы остановились у сквера, откуда веяло влажной прохладой фонтанов, рассеивающих между деревьев водяную пыль. Локтев, похоже, был здесь не первый раз. Он снял кепи, кинул его на сиденье и уверенно пошел по тропе к пруду. Мы сели за столик под полосатым зонтиком. Пара лебедей, дремавших на середине пруда, бесшумно устремилась к нам. Пригнув голову, в тень зонта вошел официант.
— Здравствуйте, товарищ полковник! — сказал он Локтеву.
— Привет, Сафар! — кивнул Локтев.
— Кушать будете? Плов, шашлык?
Локтев вопросительно глянул на меня. Я отрицательно покачал головой.
— Не надо, — сказал он официанту. — Только чай и сигареты. У тебя есть хорошие сигареты?
— «Парламент», «Кэмел»?
Я наблюдал за Локтевым. Не знаю, насколько я изменился за время, прошедшее после нашей совместной службы в Афгане, но Володю Локтева трудно было узнать. Годы, трудности, лишения, переживания — ничто так не меняет людей, как власть.
— У меня мало времени, — сказал он, когда официант отошел, — поэтому я хочу, чтобы ты еще раз внимательно выслушал меня, еще раз хорошо обо всем подумал, а потом уже принимал окончательное решение. Мы с тобой два с половиной года утюжили животами афганскую землю, не щадили себя и делали все, что от нас требовалось. Ты помнишь, о чем мы тогда мечтали? Вернуться в Союз и первым делом вымыться в тазу с шампанским. Ты помнишь, какие наивные были у нас мечты? Мы думали, что дома станем национальными героями. А о нас вытерли ноги. То же будет и с теми, кто сейчас подставляет головы на границе. Но этих парней пока еще не предавали по-крупному, и они верят, что вернутся со щитами и пройдут через триумфальную арку.
Он замолчал, ожидая, пока официант расставит на столе чайный сервиз, блюдце с колотым сахаром, массивную хрустальную пепельницу, сигареты, спички. Локтев кивнул, поторапливая, коснулся пальцами его спины.
— Но ты ведь уже не можешь этому верить! — продолжил Локтев, когда мы снова остались одни. — Только кретин может второй раз подряд наступить на грабли. Улетай отсюда как можно быстрее, возвращайся домой, требуй, вырывай, отбирай то, что тебе положено, то, что ты давно заслужил! И ради бога, не пытайся посмотреть на гильотину снизу и тем более смазывать ее шарниры.
Он говорил не о том. Но я молчал, не перебивал, как он и просил. Локтев тоже замолчал. Кажется, он понял, что в нашем случае надо либо говорить откровенно, либо не говорить вовсе.
— Ну, что ты молчишь? — не выдержал он.
— Ты же сам просил.
— Я не о том! Пей чай, а то остынет.
Я плеснул в пиалу немного рыжей водички. Разве это чай, думал я, покачивая пиалу в ладони. И что они находят в этой несладкой горячей воде с привкусом соломы? Часами пьют и ведут разговоры. И Локтев привык к этому обычаю — не мог обойтись без пиалы с чаем. А может быть, этот ритуал — всего лишь вспомогательный инструмент восточной хитрости и лицемерия? В любой удобный момент можешь замолчать, поднести ко рту пиалу, сделав паузу, чтобы обдумать следующую фразу?
Я поставил пиалу на стол. Я мог обойтись и без нее.
— Если тебе неприятно говорить о наркотиках, — сказал я таким тоном, словно речь шла о контрабандных сигаретах, — то каждый из нас останется при своем мнении.
Локтева распирало от возмущения и, кажется, от бессилия. Он, несмотря на то что я говорил довольно тихо, процедил сквозь зубы:
— Ты можешь не орать, как на футболе?
Он закурил, при этом так яростно стиснул зубами фильтр, что тот в конце концов оторвался, и Локтев в сердцах швырнул сигарету на пол.
Я невольно поставил его перед выбором: быть со мной, как того требовало наше боевое братство, или же отказаться. Если бы Локтев сейчас сказал, что, мол, прости, Кирилл, но мне надо подумать о семье, о старшем сыне, которому пришло время поступать в институт, о жене, которой надо лечиться в санатории с минеральным источником, мое мнение о нем не изменилось бы ни на йоту. Собственно, получив письмо, я был готов к такому ответу и хотел от Володи только одного: чтобы он поставил меня на должность в разведроту и предоставил возможность командовать группой солдат на прикрытии границы. Все остальное я сделаю сам.
Локтева терзала совесть. Он машинально выпил весь чай, крикнул Сафару, чтобы тот принес еще, да не эту ослиную мочу, а покрепче, затем повернулся ко мне и неожиданно буднично спросил:
— Тебе жить надоело, Кирилл?
Я отрицательно покачал головой.
— Как раз наоборот.
— Тогда в чем же дело?
— Я хочу, чтобы меня оставили в покое. А для этого надо разворошить весь этот поганый муравейник.
— А по силам ли тебе это, Кирилл? Не много на себя берешь?
— Мне ничего другого не остается.
— Разве ты не можешь вернуться в свой курортный рай и обо всем забыть?
— Не могу. Уж слишком часто они напоминают о себе. Терпение лопнуло.
Локтев смотрел на меня с недоверием.
— Да брось ты! — поморщился он, словно я наступил на его мозоль. — Ну что? Что тебе известно? Что через Пяндж сюда, а потом в Россию идет поток наркотиков? Так об этом всем давно известно!
— Ты знаешь, что я имел в виду не это.
— А что ты имел в виду? Что кое-кто из контингента миротворческих сил замешан в контрабанде? Ты знаешь, кто это? И сможешь доказать?
— Пока не знаю. Но надеюсь в скором времени выяснить.
— Ах, ах, ах! — театрально схватился за голову Локтев. — Этим уже не первый год занимается контрразведка Таджикистана и России, но как раз не хватало Вацуры, чтобы пролить свет на все темные дела, которые здесь творятся.
— Ты можешь иронизировать сколько твоей душе угодно, но это так.
— Ну откуда ты взял, что наши люди работают на наркомафию? Книжек начитался или фильмов насмотрелся?
— Ты очень быстро забыл Алексеева.
Володя набычился, уставился в свою пустую пиалу. Нет, Алексеева он не забыл, и, по-моему, совесть моего собеседника до сих пор неспокойна — ведь он сам «вычислил» Алексеева, когда тот под видом домашних вещей переправлял в Москву военным бортом, минуя таможни, контрабандный груз. Недавно Алексеева убили в собственном номере гостиницы «Таджикистан».
— Алексеев работал в паре с Вольским, — сказал я.
— С Вольским? — недоверчиво усмехнулся Локтев. — Ну ты и фантазер! Вольский давно служит в Москве! — Он помолчал, взвесил то, что я ему сказал, и после паузы продолжил: — Ну, допустим, что наш бывший начальник политотдела дивизии генерал Вольский каким-то образом был причастен к контрабанде наркотиков из Афгана. Допустим! — повторил Локтев, подняв указательный палец вверх и выразительно глянув на меня. — Но теперь он в Москве, рвется в депутаты, а его напарник Алексеев убит при загадочных обстоятельствах. А тебе зачем все это надо?
— Хочу свести личные счеты с наркомафией, — ответил я, улыбаясь.
Локтеву мой ответ не понравился. Он хмыкнул, опустил глаза, стал барабанить пальцами по пачке сигарет.
— На кого ты работаешь, Кирилл?
— На самого себя.
— Тебе за это платят?
— Я же тебе сказал, что работаю на себя.
— Ты получаешь от этого удовольствие?
— Колоссальное! Просто оргазм!
Доводы у Локтева исчерпались. Он сопел и пытался вытрясти из чайника последние капли.
— Ну, хорошо, — сказал он примирительно. — Найдешь ты людей, которые завязаны на наркотиках. А дальше — что?
— А дальше я выйду на тех, кто их скупает в Москве.
— И что? Пойдешь в прокуратуру? В ФСБ?
— Нет, я предпочитаю работать в одиночку.
— Кирилл, ты смешон. Не строй из себя Джеймса Бонда. Мне будет жалко тебя потерять. Нас, афганцев, кто служил в кундузском полку, совсем мало осталось. Ты и так слишком много рисковал жизнью, Кирилл. Не надо снова испытывать судьбу. Поверь, мне будет очень жалко, если ты… если тебя…
Его голос вдруг надломился, и в моей душе что-то шевельнулось. Я улыбнулся и опустил руку на плечо Локтеву.
— Ладно, — сдался я. — Джеймс Бонд и борьба за справедливость здесь, конечно, ни при чем. Все проще, Володя. Я хочу отмстить. Это мое личное дело, можно сказать, сугубо интимное! Здесь замешана женщина, к которой я в некоторой степени неравнодушен.
Локтев кивнул головой, принимая такой ответ, и развел руками.
— И чем я могу тебе помочь? Доверить тебе командование людьми?
— Да.
— Могу предложить тебе должность у нас в штабе. Пойдешь на узел связи?
— Не надо, Володя. Ты понимаешь, о чем прошу.
— Да пойми, чудак! На узле связи ты сможешь прослушивать все телефонные разговоры. Может быть, и контролировать почту.
— Мне кажется, — сказал я, — что мы торгуемся. — Мне нужна граница, Володя! Пяндж! Тропа наркоторговцев! Да не бойся же ты!
Моя последняя фраза его взорвала. Локтев в ярости сжал в кулаке полупустую пачку сигарет и швырнул ее под себя.
— Появился ты на мою голову! — сквозь зубы произнес он. — И лезешь со своими дурацкими интимными делами. Я никого и ничего не боюсь, понял?! И ты это хорошо знаешь! Ты помнишь Афган, Панджшер? А южный спуск с Саланга, когда на нас сверху ссали пулеметным огнем и сожгли полколонны? Ты помнишь, как вся рота лизала пыль и не могла оторвать морды от асфальта? Ты помнишь, сколько нас осталось?.. И было бы еще меньше, — добавил он тише, — если бы ты не вытащил меня из-под обстрела.
Все, подумал я. Нет больше Володьки Локтева, того лихого и отважного ротного, который в апреле восемьдесят четвертого на южном спуске с Саланга показывал чудеса храбрости, который вывел остатки роты из огненного мешка, боевой машиной пехоты расчистив дорогу от полыхающих бэтээров и «КамАЗов». Звание Героя ему не утвердили только по той причине, что у него был выговор по партийной линии. Нет больше Володьки Локтева. Тот, воин от бога, остался где-то в Афгане, в копоти, пыли и зное, наполненном ревом боевых машин и рокотом «вертушек». А полковник, сидящий сейчас передо мной, был всего лишь его искаженной копией, носящей те же имя и фамилию; ему нечем было доказать свое мужество, кроме как воспоминанием о прошлом.
Я встал из-за стола. Локтев, не поднимая головы, рявкнул:
— Сядь, я тебя еще не отпустил!
Он уже разговаривал со мной, как с подчиненным. Я ждал, когда он поднимет глаза. Локтев барабанил пальцами по столу. На глубоких смуглых, почти черных, залысинах блестели крупные капли пота. Он чуть дернул головой, глянул на меня исподлобья. Мне было его жалко, точнее, того юного ротного, который не боялся смерти только потому, что слишком мало с ней встречался и безоглядно верил в свое бессмертие.
Локтев все понял по моему взгляду. Он провел ладонью по седеющим волосам, зачесывая их назад, и глухо произнес:
— Прости…
Мы возвращались к машине молча.
На следующий день он подготовил мне предписание в приграничный полк, сам позвонил его командиру и попросил, чтобы тот поставил меня на должность старшины разведроты. Перед отъездом он подарил мне трофейную финку с тяжелой эбонитовой ручкой, обтянутой кожей и украшенной медными кольцами, и лезвием длиной почти в две ладони.
3
Акации не требуют много воды. Им легко выжить в высохшей земле. Листья мелкие, как монеты в ладони скупца, они почти не испаряют влагу. Но и тени от них никакой. Вроде бы дерево как дерево, а постоишь под ним полчаса, и мозги от зноя плавиться начнут.
Я тряхнул головой, избавляясь от капелек пота на лбу, как от надоедливых мух. Передо мной стоял строй солдат. Эти были не те парни, с которыми я когда-то таскался по Афгану. Они не имели ничего общего с теми худыми мальчиками с комсомольскими значками и фотографиями прыщавых девчонок в нагрудных карманах, которых переполненными самолетами закидывали в пустыню выполнять интернациональный долг. Эти молодые и зрелые люди уже многое успели повидать и испытать в своей жизни. Они знали ей цену и продавали ее, без затруднений подсчитывая выгоду.
Незнакомые лица с вялым любопытством уставились на меня. Белели бритые головы под пятнистыми кепками. Наемники молча ждали команды, отрабатывая свои деньги.
— Моя фамилия Вацура, — представился я. — Пока у вас нет командира взвода, я буду выполнять его обязанности.
Краснощекие амбалы, худощавые парни, измотанные жизнью и алкоголем мужи смотрели на меня почти с безразличием. Несколько ртов ритмично жевали жвачки. От строя несло высокомерием.
Нет, это не то, мысленно повторил я и опустил голову. Я не мог смотреть на этих людей. Они были бесконечно чужды мне.
— Для начала, — не поднимая головы, сказал я, — проведем занятие по физической подготовке. Я бегу первым. Не отставать и не растягиваться по дистанции.
Тропа шла вокруг стадиона, по полю мимо домов офицерского состава, петляла между окопов, отрытых несколько лет назад, в дни кровавых весенних событий. Акации, смыкаясь кронами, закрывали небо, и на этой части трассы было сумрачно. Взвод гремел тяжелыми ботинками за моей спиной; сопели, отхаркивались и сморкались разогревшиеся наемники.
Перед окопами, заросшими высокой травой, я оторвался от группы, вынуждая и солдат увеличить скорость, и стал резко менять направление, петляя между ям-ловушек.
За моей спиной раздались крики, ругательства, несколько человек тяжело упали под ноги своих товарищей, кто-то уже стонал, подвернув ступню, кто-то матерился, посылал кого-то куда-то, просил не толкаться. Одни пытались чаще перебирать ногами, чтобы не угодить в прыжке в окоп, другие, наоборот, прыгали, как козлы на горной тропе. Группа сильно растянулась, и следом за мной на поле выбежало лишь несколько человек. Не снижая темпа, я устремился по изрытому сточными водами, заваленному стволами упавших деревьев, булыжниками, поросшему высокой травой лугу. Здесь бежать было не легче, а может быть, даже сложнее, и на новых препятствиях снова падали солдаты, разбивая себе до крови локти, носы и лбы, и я зло кричал, чтобы включили мозги и думали над каждым движением. Через километр, когда многие безнадежно отстали, а самые стойкие едва передвигали ногами, я свернул на подъем, где не было ни тропы, ни утрамбованного грунта, лишь песок вперемешку с камнями, в которых увязали ноги, и подниматься по которому можно было только на четвереньках, цепляясь руками за ветви хилых кустарников. На верхнюю тропу вместе со мной выбежали только трое. Четвертый, вывалянный в песке, как котлета в сухарях, выползал на край обрыва, тянул на себя клочки пожухлой травы, вырывал их с корнями, царапал землю, стонал, пытаясь забросить ногу, чтобы вытащить себя. Я присел рядом с ним, капли пота с моего лба падали на сержантские лычки наемника.
— Ну что, солдат фортуны, подыхаешь? Немножечко уже навоевался? Как фамилия?
— Герасимов, — с трудом разлепив губы, ответил он.
— Ну что ж, Герасимов, для начала неплохо.
* * *
Вечером меня вызвал к себе командир полка.
— Вацура! — орал он, глядя на меня снизу вверх, так как был почти на голову ниже. — Что ты себе позволяешь? Это не спортрота! Эти парни под пули на границу ходят. А ты кто такой?..
Я не дослушал его и вышел из кабинета, с силой хлопнув за собой дверью.
В комнате на семь человек, где мне определили место, под тусклой лампочкой, едва освещавшей фанерные стены, обклеенные журнальными фотографиями голых женских тел, вокруг застеленной газетой табуретки сидели люди в пятнистых брюках. При моем появлении они замолчали, занялись хлебом и редиской, высыпанной на придвинутую койку. Сигаретный дым смрадным туманом висел под потолком. Потные смуглые торсы с сизыми нашлепками татуировок блестели в тусклом свете. Один из них встал, налил в стакан водки и подошел ко мне. Я узнал сержанта Герасимова. На его шее болтался шнурок с амулетом, а на запястье матово отсвечивала стальная бирка с выгравированной группой крови.
— Выпей с нами, — сказал он.
Я отрицательно покачал головой и лег на свою койку.
— Не хочет. — Герасимов пожал плечами, вздохнул и вернулся к «столу», поставил стакан и снова подошел ко мне. — Не переживай, — сказал он. — Все правильно. Ребята тебя уважают. А кто не хочет уважать, после отпуска сюда уже не вернется.
Пусть не возвращается, мысленно согласился я и провалился в сон, как в яму.
4
Утром в столовой офицеры говорили вполголоса и перебивали друг друга. Никто ничего не знал точно, каждый лишь пересказывал то, что слышал от других. Ночью в очередной раз обстреляли погранзаставу. Сначала «духи» поливали длинными очередями из автоматов и пулеметов, а потом, до рассвета, хлопали одиночными выстрелами и постоянно меняли позиции, чтобы их нельзя было накрыть ответным огнем. Были потери. Одни утверждали, что убито трое, другие — что восемь или даже одиннадцать человек.
Официантка Люся, немолодая, с изношенным лицом женщина, самоотверженно играющая роль девочки, принесла мне холодный комок макарон, политых рыбными консервами, и села за стол напротив. От нее пахло хлоркой. Она оперлась щекой о кулак, и ее правый глаз превратился в щелочку, отчего казалось, будто ей заехали под глаз кулаком. Люся привыкла, что где-то недалеко постоянно убивали наших ребят, и не горевала по этому поводу.
— Добавки принести? — спросила она, улыбаясь, когда я отставил тарелку от себя.
— Разве я сделал тебе что-нибудь плохое? — вопросом ответил я.
Люся уже давно потеряла надежду выйти замуж, но по привычке клеилась ко всем новым мужчинам в полку, пока они, не огрубев на границе, вели себя относительно вежливо.
Днем я видел тех несчастных. Их было семеро — четверо убитых и трое раненых. Их заносили в «вертушки» на носилках. Один раненый шел сам, опираясь о плечо солдата. Вокруг носилок, прикрытых брезентом с бурыми пятнами, прохаживался низкорослый, худой, как подросток, лейтенант с тлеющей папиросой во рту. Несмотря на свой свежий возраст, его темя белело плешью, оттененной черными как смоль волосами. Он морщился, но поглядывал на носилки с профессиональным интересом. Позже я узнал, что это был начальник полевого морга при душанбинском госпитале Эдик Бленский. Пара темно-зеленых вертолетов с большими красными звездами на бортах зависла над футбольным полем, затем задрала хвосты и стремительно взвилась в небо, увозя в себе живых и мертвых в госпиталь.
* * *
Через неделю мы меняли батальон, простоявший на прикрытии границы почти два месяца. Это были почерневшие от пыли и солнца люди, возраст которых теперь можно было определить лишь очень приблизительно. Постоянный дефицит воды и жара высушили их, и кожа на их лицах и руках теперь напоминала коричневый пергамент.
Два месяца они ждали замены, чтобы вернуться в полк, в свои фанерные общаги, которые в сравнении с окопами и десантными отделениями боевых машин могли показаться пятизвездочными отелями, два месяца они думали только о том, как получат деньги — огромные деньги по таджикским меркам, как закупят пива и водки и зальются ими, как потом будет дрожать от разгула пьяных рот ночной военный городок, как жалобно станут подвывать собаки, вторя дикому реву, в котором только при большом желании можно будет распознать песню.
Но все эти глупые, приземленные цели, которые могут быть порождены лишь убогостью фронтовой жизни, за два месяца ожидания потеряли привлекательность, как хронически голодающий человек постепенно утрачивает чувство аппетита, желания перегорели, и вопреки моему ожиданию у заставы, где мы меняли одну из рот, не было ни суеты, ни спешки. Отработавшее свое люди с безразличными лицами грузили на машины одеяла и матрацы, вяло приветствовали замену, обнимались, словно узники концлагеря со своими освободителями, не спешили покинуть окопы, ячейки и блиндажи, с удовольствием фотографировались, позируя на фоне Пянджа, словно сроднились с этой полоской земли, разделяющей стену гор и границу-реку, и теперь грустили по поводу расставания.
Меня тронул за плечо парень в маскхалате, надетом на голое тело.
— Ты командир взвода? — спросил он, покосился на мои погоны, протянул руку и представился: — Игнатенко, начальник заставы. — И без всякого перехода, тоном, каким отдают приказ: — У тебя четыре бээмпэ? Поставишь их по периметру вокруг заставы, стволы вверх до упора, каждому наводчику укажешь сектор в девяносто градусов. Людей раскидаешь по этим трем холмам. Там ячейки отрыты… Имей в виду, — добавил он, — твоя задача — беречь заставу. Нас обстреливают практически каждую ночь.
Собственно, я не был обязан ему подчиняться, и задача моя состояла в том, чтобы прикрывать не столько заставу, сколько границу на участке в несколько километров.
— Что-нибудь не ясно? — вызывающе спросил он.
Новый человек, каким я был для начальника заставы, создавал для него новые проблемы. Он привык к взводу, который мы меняли, он давно нашел общий язык с его командиром, они два месяца вместе отражали обстрелы, они ели из одного котла и пили одну водку. Я был способен понять и пощадить чувства Игнатенко, молча кивнул головой и пошел к технике по мелкой, как сахарная пудра, пыли.
Пока я обошел все позиции, стало темнеть. По склонам пологих холмов, покрытых короткой, выжженной на солнце травой, бренча жестяными колокольчиками, протопало бежевое стадо овец. Солнце скрылось за зубчатой каймой гор, и Пяндж потемнел, из серебристого превратился почти в черный. На афганском берегу, среди лепных сараев-домиков, нагроможденных друг на друга и разделенных дувалами, которые ощетинились торчащими из них во все стороны соломинками, заструились вверх полупрозрачные дымки. С редким лязгом, выдувая из себя клубы выхлопов, вокруг «колючки» кружились боевые машины пехоты, занимая давно отрытые и местами осыпавшиеся окопы. Начальник заставы отправлял на маршрут наряд. Похлопывая себя по бедру нунчаками, он ходил вдоль строя, спрашивал обязанности, останавливал солдата, если тот отвечал быстро и уверенно, и задавал новый вопрос другому.
Через час я вышел на связь с командиром роты и доложил, что взвод занял позиции согласно моему решению. С вершин холмов вниз по тропинкам побрели за водой гонцы.
Ночь прошла спокойно. Никто не стрелял.
* * *
Пастух, белобородый старик, опирался на палку, которая была чуть ли не наполовину выше его, и казался рослым и стройным, а Игнатенко, стоящий рядом в одних брюках, поблескивая вспотевшим торсом, — худым и беззащитным. Я не слышал, о чем они говорили, а когда подошел, пастух уже догонял свое бежевое бренчащее стадо.
— Где он живет? — спросил я, кивая на старика.
— Там, — неопределенно махнул рукой Игнатенко. — В овчарне, километра два отсюда.
Его насторожили мой вопрос и взгляд, которым я провожал стадо.
— Пастуха ты не трожь, — добавил Игнатенко. — Это человек наш. Он мне баранину на заставу поставляет.
— Пусть поставляет, — ответил я.
Игнатенко грыз кончик высохшей соломинки и, щурясь, смотрел на меня.
— Ты здесь человек новый, — медленно произнес он, словно еще не знал, что скажет дальше. — В обстановку еще не въехал. Здесь много нюансов, со временем ты во всем разберешься. А пока сильно не напрягайся, не то дров наломаешь. Ясно?
— Не совсем.
— Ты уйдешь, а мне здесь служить. Сиди на позициях и будь готов дать отпор, если на тебя нападут. За инициативу здесь лишних денег не платят. А подстрелить могут с легкостью необыкновенной. Теперь ясно?
— Где убили четверых солдат?
— Здесь и убили. — Игнатенко повернулся и махнул рукой в сторону берега. — Вот там, рядом с промоиной. Шарахнули по бээмпэ из безоткатки, их всех осколками посекло.
— А зачем? Ради чего?
— Что — ради чего? — поморщился Игнатенко.
— Чего они хотели?
— Кто? «Духи»?.. Послушай, ты с луны свалился? Не знаешь, что они туда-сюда толпами шастают?
— А если бы тебе надо было перейти? Стал бы переправляться рядом с заставой?
— Что?! Ну, бля, академиков прислали! — выругался Игнатенко и развел руки в стороны.
Ближе к вечеру, когда немного спала жара, я взял с собой Герасимова и еще одного солдата и пошел посмотреть на овчарню. Ничего интересного. Старый, зияющий дырами, загаженный овцами сарай. Рядом с ним — ветхая пристройка с крохотным мутным оконцем. Замка на двери не было, и мы заглянули внутрь. Топчан, печка-буржуйка с чайником на чугунной крышке, одноногий стол, застеленный почерневшей от старости клеенкой. Здесь, должно быть, старик изредка ночевал, если по каким-то причинам не уходил в кишлак.
Единственное, чему можно было удивиться, — как старик еще не помер, выкуривая столько сигарет. Земляной пол, как ковром, был покрыт раздавленными окурками. Хорошие сигареты предпочитал пастух — «Кэмэл», «Мальборо», «Парламент».
Во взвод я вернулся один — парни остались ночевать недалеко от овчарни.
Ночью меня разбудили редкие звуки выстрелов. Я спрыгнул с передка бээмпэ, который служил мне кроватью, и взобрался на ближайший холм.
Полная луна висела над Пянджем, освещая холодным светом призрачные горы. Малиновые огоньки трассеров скользили по черному небу со стороны афганского берега, а следом за ними долетала отрывистая дробь. С нашей стороны прозвучала ответная очередь, затем откликнулись пограничники. И снова стало тихо.
На связь вышел ротный, спросил, чем мы занимаемся, усталым и безразличным тоном давая понять, что он и так прекрасно знает, что ничем серьезным.
5
— Человек пятнадцать. Может, восемнадцать. Точно сосчитать было трудно — темно, — рассказывал Герасимов. — Там место для наблюдения неудобное — холм дает тень от луны. Как они пришли — мы вообще не видели. Только шаги, тихие разговоры. Потом огоньки сигарет заметили. Вокруг овчарни три огромных пса носились, нам бы задницы они изорвали в минуту, а этих не тронули, даже лая не было.
Он снял с головы темно-зеленый платок, промокнул им вспотевшее лицо.
— Эти люди были с оружием? — спросил я.
— Не заметил. Кажется, без.
— Что, в руках вообще ничего не было?
— Рюкзаки, мешки были.
— Сколько они пробыли на овчарне?
— Час от силы. Затем по тропе дальше пошли. Сначала одна группа, потом другая. Частями.
— Хорошо. Спасибо, — сказал я Герасимову, пожимая ему руку.
* * *
Люди, окружавшие меня, по сути, мои союзники, единомышленники, ставили передо мной непреодолимые барьеры. И это оказалось самым трудным препятствием в моем деле. Игнатенко невзлюбил меня. Я не страдал от этого чувства, молодой человек был мне безразличен. Но его самоуверенность и высокомерие мешали мне работать. Если бы я мог рассказать ему о своих планах, возможно, он пошел бы мне навстречу, но здесь я вообще не мог доверять кому-либо в полной мере.
Что я хотел выяснить? Что постоянный поток контрабандистов с наркотиками идет через Пяндж. А затем? В Куляб? Курган-Тюбе? Или сразу в Душанбе? Каким образом наркотики попадают на борта военных самолетов? В какой упаковке? В конце концов, кто отвечает за их погрузку?
Пока что я не ухватил даже самый кончик этой нити и еще четко не представлял, как буду это делать. То, что граница во многих местах, образно говоря, «дырявая», я убедился в первую же неделю пребывания на заставе. Катастрофически не хватало людей. Собственно, два взвода, одним из которых я командовал, обеспечивали только оборону заставы. Десятки километров берега влево и вправо пограннаряды были не в силах перекрыть. Я почти не сомневался в том, что группа людей, которую засек Герасимов несколько ночей назад, пришла на этот берег из Афгана и, надо полагать, не с добрыми намерениями.
Я с опозданием клял себя, что как следует не организовал наблюдение за овчарней. Нужна была как минимум двусторонняя радиосвязь, как минимум десять бойцов. Тогда можно было, не выдавая себя, пасти эту группу и выявить механизм передачи наркотиков (или оружия, что тоже не исключено) следующему этапу.
В другой раз буду умнее, думал я, под другим разом подразумевая одну из ближайших ночей, когда заставу снова начнут обстреливать. Обстрел, как я полагал, был всего лишь отвлекающим маневром, который давал возможность контрабандистам спокойно переходить Пяндж на каком-нибудь тихом участке.
Еще я заметил одну интересную закономерность: Игнатенко, что было естественно, инструктировал наряд всегда в одно и то же время, и в это же время, с точностью до минуты, пастух прогонял мимо заставы свое стадо. Маршруты наряда, выходящего на патрулирование, и пастуха на мгновение пересекались. Солдаты приветствовали деда, тот в ответ поднимал вверх свою палку. Я не спешил с выводами, но все-таки при случае сказал об этом начальнику заставы.
— Да что ты к деду привязался, Кирилл! — взмолился Игнатенко. — Угомонись, займись лучше своими бойцами, они по заставе, как у себя дома, шатаются. У меня свой график, у баранов — свой. Я не вижу ничего страшного в том, что наши пути иногда совпадают.
Он был непрошибаем, и у меня начисто отпала охота говорить ему о группе людей, замеченных на овчарне. Он бы тотчас нашел какое-нибудь банальное объяснение этому — приехали гости, пришли колхозники, коммерсанты, шашлычники, сваты, готовящие свадьбу, за баранами — и я со своей гипотезой о нарушении границы выглядел бы в самом деле как идиот.
Я понимал Игнатенко. Человек он, конечно, в меру опытный, несмотря на свои юные годы, и всякие советы со стороны, как ему казалось, унижали его достоинство и ставили под сомнение его компетентность. Пограничники вообще народ особый. Элита армии, они привыкли смотреть на пехоту, «соляру», свысока.
Треть моего взвода, а это человек семь, уже выезжала на прикрытие. Остальные, как и я сам, были на границе впервые, хотя внешне парни выглядели очень воинственно. Рослые, загорелые, бритоголовые, повязанные платками, в черных очках, некоторые вместо поясного ремня носили пулеметные ленты. В этом маскараде было, возможно, больше антуража и показухи, чем естественной необходимости, но, как ни странно, я был уверен, что в бою они будут вести себя соответственно — вызывающе и смело.
* * *
Ночью мне снилось, что я лечу на самолете, как вдруг он с протяжным воем стал падать. В салоне началась паника, крики, толкотня у пилотской кабины. Стюардесса с подносом в руках скороговоркой что-то говорила мне, но я не мог разобрать ни слова. Тогда она кинула поднос под ноги и стала рвать на мне застежку привязного ремня. Я слышал, как трещит обшивка, как взрываются двигатели, разбрасывая вокруг обломки крыльев…
Я открыл глаза, ощутил себя лежащим под одеялом на передке боевой машины, но возвращение в реальность не принесло облегчения. Вокруг меня что-то происходило, в отблесках огня метались тени, раздавались крики, беспорядочные выстрелы.
Я машинально схватил автомат, лежащий под рукой и, как был, босиком, в одних брюках, вскочил на башню. На территории заставы полыхала пристройка к казарме. Огонь только вспыхнул, но разгорался стремительно и уже цеплялся за ветки стоящего рядом дерева, полз по фанерной стене, перекидывался на крышу. Солдаты, беспрестанно горланя по-таджикски, носились по аллее перед пожаром, срывали со щита выкрашенные в красное лопаты, ломики, конусовидные ведра, но не знали, что с ними делать, и принимались давать друг другу указания. Скрестив на груди руки и широко расставив ноги, перед огнем стоял Игнатенко. Он изредка поворачивал коротко стриженную голову в сторону и неслышно о чем-то говорил солдатам. Откуда-то со стороны, с нашего берега, на заставу летели малиновые трассеры. Как неоновые огни, они мельтешили среди плотных крон деревьев, неожиданно уходили рикошетом вверх и там, среди звезд, затухали, исчезали, словно сами превращались в звезды. Рядом с заставой, из окопа, длинными очередями надрывался пулемет, посылая ответные трассеры в темноту.
Громыхнул взрыв, от которого я вздрогнул. По моему лицу прошла горячая волна, по броне защелкали осколки, яркая вспышка выкорчевала маленькое дерево на заставе рядом со спортивным городком. Игнатенко даже не присел, снова крикнул солдатам, и те одновременно побросали ведра и лопаты и кинулись к казарме, а сам он спокойно пошел к выходу, будто ему все надоело, будто он разочаровался в службе, в подчиненных, смертельно устал и теперь шел прочь, чтобы никогда не вернуться.
Я подал руку Шамарину, наводчику бээмпэ, который влезал ко мне на броню. Солдат в отличие от меня был в ботинках и даже пытался застегнуть куртку на ходу. Лицо его мне показалось черным, словно в глазницах зияли дыры, а во рту мерцала сигарета. Он был в солнцезащитных очках, и, наверное, один черт знал, что он видел в темноте.
— Ну-ка, Шамарин, вмочи им.
— Щас сделаем, — кивнул солдат, не вынимая изо рта окурок. — А куда стрелять-то?
— По вершине холма. Чуть правее третьего отделения… Видишь?
— Щас замочим!
Он нырнул в люк. С тонким воем начала вращаться башня. Черный, тонкий, как жало, ствол описал дугу и замер, уставившись квадратной насадкой в пустоту.
Ожила макушка крайнего левого холма, с которого открыло огонь отделение Герасимова. Солдаты стреляли куда попало, они еще не видели цели и вели огонь наудачу.
Шамарин дал первую очередь. Броня вздрогнула под моими ногами, по ушам ударил тяжелый грохот. Мгновение спустя вдруг неожиданно дружным хором затрещала застава, в ночное небо устремился рой малиновых трассеров. Шамарин дал второй залп. Казалось, что от ствола отлетел красный шарик, но уже через мгновение замер, повиснув где-то между небом и землей, словно вишня, затем стремительно взмыл, как капля сока по руке, только снизу вверх, и исчез среди звезд.
— Ты мажешь, Шамарин! — крикнул я.
— Без паники, — отозвался он изнутри. — Щас исправим… Рация, возьми шлемофон!
Из-за грохота стрельбы я не услышал зуммер радиостанции. Нырнул вниз, прижал к щеке наушник.
— Ну что, Лебедь, что у тебя там? — услышал я спокойный голос комбата Рефилова.
— Все нормально, Первый, стреляем.
— Откуда огонь?
— С нашего берега. То ли безоткатка, то ли миномет. На заставе пожар.
— Ну что вы там с ними в пукалки играете? Не можете, что ли, заткнуть их в задницу на хер?! — ни с того ни с сего начал заводиться комбат. — У тебя четыре брони, Вацура! Дай залп со всех стволов, размажь их по горе к ядрене фене! Никакой помощи не жди, раздолбай этих мудаков, и чтобы я эту стрельбу через полчаса не слышал. Ясно?
Я выпрыгнул на броню. За «колючкой», лязгая металлом, двигалось что-то большое и темное. Я уловил запах жженой солярки.
— Какого черта? — невольно вырвалось у меня. — Кто ему разрешил?
Механик-водитель вывел «ноль третью» машину из окопа. Она прогрохотала в тридцати метрах от нас и исчезла в темноте.
— Эй, чурка! — закричал Шамарин, высунувшись из люка, и повернул лицо ко мне. — Он что, шизданулся? Куда его понесло?
Трескотню автоматов разорвали тяжелые удары скорострельной пушки «ноль третьей». Бээмпэ гнала в сторону холма, откуда по заставе били из пулемета. Очередная мина шарахнула на берегу, на мгновение осветив утонувший в деревьях квадрат заставы, похожий на маленький парк. Донеслись крики, матерная ругань. Над нашими головами просвистели пули, и мы с Шамариным, словно он был моим отражением, одновременно пригнулись.
— Подай-ка шлемофон! — попросил я его, поднес микрофон к губам, надавил на тангенту и несколько раз запросил «ноль третьего». Мне никто не ответил.
Я спрыгнул с машины и побежал вдоль заставы. Откуда-то из темноты на меня вылетел Игнатенко.
— Ты что блок снимаешь?! — закричал он, для начала обложив меня матом. — Прислали академиков, мать вашу, творят, что хотят! Сюда же сейчас «духи» вломятся и всем яйца поотрезают!
Я оттолкнул Игнатенко от себя. Объяснять ему ситуацию не было времени. За моей спиной снова тяжело застучала пушка Шамарина, и красные капли налипли на небо. Он уже опасался задеть ушедшую вперед бээмпэшку и стрелял слишком высоко, скорее, запугивая тех, кто вел по нас огонь из миномета и безоткатного орудия.
Несколько раз я споткнулся, упал, ударяя автоматом о землю, ощущая дрожь и вместе с тем силу во всем теле — это почти забытое с времен Афгана чувство близкой опасности и вседозволенности. Я уже видел машину, бесформенное черное пятно, этакого урчащего монстра, который цепко прилепился гусеницами к склону и медленно полз наверх, но еще не думал над тем, как смогу остановить водителя — этого храброго безумца или пьяного дурака. В очередной раз за моей спиной рванула мина, но я уже не оборачивался и не знал, куда она угодила. Краем глаза увидел тень, мелькнувшую слева от меня, но не успел повернуть голову. Мне показалось, что взорвался сам воздух, которым я дышал и который обжигал мне легкие. Оглушительный взрыв заставил меня рухнуть на землю, лицом вниз. Тень упала рядом со мной.
— Вот бли-и-н! Вот ядрена вошь! — услышал я голос Герасимова, поднял голову и увидел его голую спину и плечи, в которых отражалось пламя. — Подожгли-таки!
Боевая машина пехоты полыхала, как свечи на юбилейном торте. Обе крышки люков на башне были сорваны и теперь свисали с брони, как лепестки цветка, на котором гадали. Огонь вырывался из проемов подобно газовой горелке. Машина продолжала двигаться, но теперь уже не вверх, а вниз, беззвучно скатываясь со склона.
Я вскочил, схватил за скользкую холодную руку Герасимова, отяжелевшего от увиденного зрелища, и оттащил в сторону — машина-факел набирала скорость, и мы едва не попали под ее гусеницы. Лицо залило нестерпимым жаром. Я опустил голову, глядя на машину исподлобья, кинул Герасимову свой автомат, он поймал его на лету, не понимая, для чего я это сделал.
— Ложись! — громко зашипел Герасимов, словно опасаясь, что его могут услышать враги. — Стреляют!
Я не понял, как он услышал в таком грохоте свист пуль, но пригнулся. Что это давало, этот жалкий поклон земле, немного укорачивающий фигуру? Освещенный горящей машиной, я оставался прекрасной мишенью, и если бы я перестал двигаться, меня бы изрешетили в считаные секунды.
Машина лязгала в метре от меня. Это была самоходная доменная печь, и мне казалось, что волосы на моей голове уже давно обуглились, скрутились в спиральки и я стал похож на негра. Я подождал мгновение, пока узкий лодочный передок не поравнялся со мной, и, схватившись за крюк, прыгнул грудью на броню, зацепился пальцами за рифленку, подтянулся, оперся ногами о металл и дотянулся до люка водителя. Пули горохом сыпались на броню, но машина двигалась, я двигался, меня обволакивало дымом, превращая в мишень повышенной сложности. Я опустил голову в черный проем, как в бездонный колодец, едва не заорал от жгучей боли в глазах, вдохнул едкого дыма, желудок судорожно сжался, но я подавил в себе тошноту, схватил что-то мягкое, податливое, рванул на себя безжизненное тело, перекинул руку ниже, нащупал брючный ремень, схватился за него. Машина начала давать крен, правая гусеница скатывалась в глубокую промоину. Рядом кто-то истошно кричал. Я не разбирал слов, мне некогда было поднять голову и посмотреть вокруг, но когда машина накренилась еще сильнее и я стал сползать с брони, неожиданно близко от себя увидел перекошенное лицо Герасимова.
— Прыгай, козел! — орал он, размахивая руками. — Перевернешься на хрен! Взбесился, что ли?!
Машина уже не скатывалась, а неслась задом в пропасть. Я собрал остатки сил, встал на ноги, завел руки под мышки водителю и, словно борец, оторвал его от сиденья, выволок на броню и вместе с ним упал с передка в траву.
Бээмпэ тотчас словно сквозь землю провалилась. Я несколько секунд безумными глазами смотрел на дрожащие отблески огня, выбивающиеся откуда-то снизу, потом услышат оглушающий грохот, не думая, сорвал пучок сухой травы, провел им по лицу. Оно онемело, и я не почувствовал прикосновения. Водила стонал. Он стонал давно, но я только сейчас обратил на это внимание.
— Герасимов! — позвал я и удивился тому, что голос мой был таким слабым.
— Я тута, — отозвался он из-за моей спины. — Иду-бегу! Ну, ты циркач!
— Где мой автомат?
— Цел твой автомат. Ты меня заикой сделаешь… Живой этот чурка, в голову трахнутый?
— Стонет.
— Надо его на заставу отволочь.
— Застава горит… Послушай, Герасимов, сгоняй наверх, возьми двух парней понадежнее. Сходим туда, миномет приглушим. И фельдшера разыщи!
— Ладно, — не сразу ответил сержант, поглядывая по сторонам. — А миномет вроде уже и не плюется. Может, свалили?
— Нет, не свалили. Среди вас там никого не задело?
— Нет вроде… Ну, ладно, я мигом.
Он исчез в темноте, а я, лежа на боку, нервным рывком оттянул затвор, загнал патрон в патронник, приподнял голову, глядя на заставу.
«Парк» погрузился во мрак. Пристройка, где начался пожар, то ли уже сгорела дотла, то ли ее все-таки затушили, но пламени больше не было. На заставе погасли все фонари — возможно, перебило проводку или же Игнатенко распорядился отключить питание. Тем не менее над моей головой с сухим шелестом пролетела очередная мина и угодила в спортивный городок, разворотив и сорвав с растяжек перекладину.
Шамарин не стрелял, и башня боевой машины с высоко поднятым стволом теперь торчала над окопом как гигантская курительная трубка, которая давно потухла. Зато проснулась и вступила в бой «ноль седьмая», стоявшая на противоположной стороне заставы, почти на берегу. Только она суетно, захлебываясь от спешки, почему-то стреляла по афганскому берегу, хотя я не видел на той стороне ни одной огневой точки.
Игнатенко предпринял какие-то маневры. На фоне серебряной ленты Пянджа я видел силуэты пограничников. Одна группа в три человека гуськом, низко пригибаясь, пробежала вдоль «колючки» к смотровой вышке и исчезла среди кустов. Вторая — тоже бегом — устремилась по дороге. Такую толпу, грохочущую ботинками по грунтовке, трудно было не заметить даже в темноте, и я не позавидовал ребятам, которых могло накрыть миной в любую минуту.
Герасимов то ли не понял меня, то ли не нашел еще одного добровольца. Ко мне он спустился с белобрысым и долговязым фельдшером из медпункта, прикомандированным на время прикрытия границы к батальону. Увидев раненого, первым делом спросил:
— А шо мне с ним делать?
Вторым был сержант Глебышев, командир отделения, которого лучше было бы не брать с собой, так как теперь на обоих холмах не осталось командиров. Но не было времени что-либо менять, потому что «духовский» миномет продолжал швырять из темноты мины, а беспорядочные автоматные трассеры никак не могли его достать и осыпали склон пулями, как горохом. Фельдшер должен был передать в отделения, чтобы те прекратили бесполезный огонь по минометной позиции, и я, провожая взглядом его нескладную фигуру, подумал, что удивительно легко доверяю свою жизнь совсем незнакомому человеку, из-за мелкой халатности которого могу подставить под свои же пули и себя, и двух сержантов.
Глебышев показался мне слишком самоуверенным, увлеченным собственной персоной позером. Он вел себя так, словно уже несколько часов подряд только и занимался тем, как снимал с вершины холма миномет, да вот некстати привязались мы с Герасимовым, сели ему на «хвост» и теперь мешали своими неуклюжими движениями. Управлять такими людьми трудно и неприятно, каждое твое слово они воспринимают так, словно знали об этом с самого рождения. Глебышев фыркал и морщился, когда я ему объяснял, по какой стороне склона буду подниматься я, а по какой — он и Герасимов.
— Да все ясно, все ясно, — прерывал он меня. — Пошли, чего застряли тут!
Стрельба с наших холмов внезапно прекратилась, кажется, фельдшер догадался воспользоваться связью. Я стал ползком подниматься «в лоб», по южному склону холма, а сержантов отправил по противоположному. Самое главное было — подняться к позиции одновременно и при этом не перестрелять друг друга. Мы договорились, что они будут вести огонь строго перпендикулярно к Пянджу, ориентируясь по отблескам луны на его поверхности. Я же больше надеялся не на автомат, а на финку, подаренную мне Локтевым, которая в кожаных ножнах болталась на боку.
Я полз в кромешной тьме, хватаясь за пучки сухой травы, почти касаясь лицом земли, вдыхая резкий запах диких злаков. Страха не было. Время как бы вернулось вспять, и во мне легко и полностью проснулись все те навыки, которых я нахватался в афганской войне. Мне уже казалось, что двенадцать лет относительно спокойной и мирной жизни, которые прошли с того времени, как я в последний раз посмотрел на желтую кабульскую землю из иллюминатора самолета, увозящего меня из этой жестокой страны, как мне казалось, навсегда, эти двенадцать лет были всего лишь сном или же грезами, которым втайне предавался каждый солдат, одуревший от войны и смерти; и я снова утюжил животом горячую афганскую землю, снова воспринимал хлопки разрывов, вонь жженой резины подбитых боевых машин, автоматные очереди как естественный фон человеческого бытия, его обязательный атрибут; и цели мои были банальны и примитивны, и сводились они лишь к тому, чтобы уничтожать подобных себе людей, объявленных политиками моими врагами, и спасать жизнь тем, кто на сегодняшний день считался моим другом и союзником.
Стало светлее — я поднялся настолько, что попал в свет отраженной в Пяндже луны. Поднял голову. Овальная вершина холма черной дугой закрывала половину неба. Эта картина напомнила мне скалу-стелу под Новым Светом, на которую я взбирался такой же теплой и душной ночью. В тот раз я усердно полз в ловушку.
Холм был намного выше, чем казался со стороны, и я подумал, что прошло уже слишком много времени, как я извиваюсь на склоне, и сержанты, возможно, уже где-то недалеко от вершины. Мне хотелось подняться в полный рост, снять автомат с предохранителя и, как садовник со шлангом в руке, поливать все впереди себя свинцовым дождем. Нервы устали, им, перенасыщенным энергией действия, нужна была разрядка.
Чуть ниже вершины, сидя на корточках и утопая в траве, темнели две фигуры. Эти люди, наверное, прикрывали позицию с южной стороны. Я находился ниже и правее их. Можно было подняться выше, так, чтобы, не слишком размахивая стволом автомата, положить стрелков одной очередью.
Некоторое время я лежал без движения, прислушиваясь к голосу разума. Я напоминал себе юнца, насмотревшегося фильмов-боевиков и изнемогающего от стремления помахать кулаками. Нет, нельзя было выдавать себя раньше времени. Меня сразу бы заметили сверху и пристрелили, как хорька, высунувшегося из норки. А умирать сейчас нельзя. Дело только начато, жизнь надо беречь. Жизнь — это козырная карта, ферзь, которым можно жертвовать лишь при развязке, нанося последний и решающий удар.
Я отполз в сторону, подальше от стрелков. В это время на заставе вспыхнул новый пожар, и, освещенные тусклым розовым светом, стали проступать валуны, которыми был усеян склон, промоины, высокий частокол сухой и жесткой травы. Я вовремя успел уйти из поля наблюдения стрелков, даже в этом скупом свете они наверняка заметили бы меня.
Склон уже порядком надоел мне и начал действовать на нервы. Никак нельзя привыкнуть к особенностям гор, где никогда точно не определишь, сколько осталось ползти до вершины. В горах свое особое измерение расстояний, и лучше пользоваться не метрами и километрами, а минутами, часами и днями.
Неожиданно с вершины донеслась автоматная очередь, раздались Крики. Я пригнулся и замер.
6
До вершины оставалось всего ничего. Я отчетливо видел людей на позиции, наклонную трубу миномета, вспышки автоматных очередей. Стрелки, сидевшие на склоне, тоже залегли, и я некоторое время видел лишь их головы, торчащие над травой, как арбузы.
Кажется, мои парни навели шороху среди минометчиков. Может быть, у них не хватило терпения дожидаться меня, и они открыли огонь первыми.
Я откатился в сторону на несколько метров, так, чтобы не угодить под свои же пули. Сержанты будут стрелять только по направлению к Пянджу, еще раз мысленно повторил я и, поднявшись в полный рост, побежал вверх. Пожар на заставе разгорелся в полную силу. Отсюда казалось, что огонь полыхает прямо у подножия холма. Света было достаточно, и не надо было опасаться принять своего за чужого.
Будто с неба, раскинув руки в стороны, на меня свалился человек. Он прыгнул с позиции в темноту, не видя в плотной тени меня, и я увернулся от этой бомбы, которая запросто переломала бы мне позвоночник, и когда человек неловко покатился кубарем по склону, я выстрелил с бедра. Некоторое время он — еще продолжал катиться вниз, но это уже было обмякшее тело. Я не провожал глазами темное бесформенное пятно, мельтешащие руки, напоминающие матерчатую куклу. Я снова пошел вверх, стараясь не думать о том, что произошло мгновение назад. Тот, кто утверждает, что убить человека очень тяжело, тот ничего не знает о войне. Убить, нажав на спусковой крючок автомата, легко. Несоизмеримо труднее затем избавиться от тягостных мыслей. Я мог бы без труда найти тысячи оправданий, и все они были бы правомерны, но короткая, как вспышка молнии, картинка скатывающегося с холма трупа со шлепающими по земле вялыми руками засела в памяти надолго.
С вершины донеслись крики, глухие удары. Очень похоже, что там пришло время рукопашной. С новой силой подо мной, недалеко от подножия холма, разгорелся бой. Волной накатила трескотня автоматов, неоновыми огнями забегали во все стороны полоски трассеров. Две боевые машины тяжелыми ударами выделялись из общего хора.
Я упал в траву, вовремя заметив стрелков. Низко пригнувшись, они один за другим бежали в мою сторону. Первый пробежит метров пять, опустится на корточки, превратившись в арбуз, махнет рукой второму, и тот побежит следом. Обойти хотят, понял я, вытаскивая из ножен финку. Прижался к земле, сдерживая дыхание, едва приподнял голову, чтобы видеть ноги бегущего. Совсем близко прошелестела трава, я почувствовал движение воздуха, и вместе с этим на меня наплыла сгорбленная фигура.
Я выкинул левую руку вперед, схватился за штанину и рванул на себя. Человек приглушенно вскрикнул и повалился на меня. Я успел выставить оголенное лезвие…
Преимущества ножа — он «работает» бесшумно. Недостатки — слишком близкий контакт со своим врагом. Я с отвращением столкнул с себя горячее, пахнущее потом тело. Лезвие легко выскользнуло, когда я потянул за рукоятку, цокнуло о металлическую пуговицу. Второй стрелок, сидя в траве, вытягивал шею и смотрел в мою сторону.
— Бэ! — негромко позвал он. — Бэ-э!
Что за бараний позывной, подумал я, вытирая лезвие о штанину, потом вложил его в ладонь правой руки, ощущая приятную тяжесть рукоятки.
Мне давно не приходилось заниматься этим делом — метать нож в цель. У себя дома я превратил в щепки дверь комнаты. Кидал с любого положения. Потом поставил новую — со стеклом, и тренировки пришлось прекратить.
Я резко встал на одно колено и с короткого замаха метнул нож под «арбуз». Есть один дурацкий анекдот про Миколу и секиру, совсем некстати подумал я. Нож ушел в темноту, я не видел, сработало лезвие или ударилось плашмя, но человек дернулся, издал протяжное «гы-ы…» — совсем как в анекдоте, и исчез в траве.
Я уже не спешил и поднимался спокойно. На белом валуне, вросшем в тело холма, как зуб, стоял Глебышев. Я узнал его по долговязой фигуре.
— Кирилл? — уточнил он на всякий случай.
— Он самый. Все нормально?
— Геру задело.
Сержант протянул мне руку, помогая запрыгнуть на валун. Герасимов сидел у минометной трубы, держась левой рукой за предплечье.
— Чем это тебя?
— Из «Калашникова».
У меня был перевязочный пакет. Я вытащил резиновый мешочек из нарукавного кармана, зубами отодрал край и наложил повязку на руку Герасимова. Тот сопел, сдерживая стон.
— Сам сможешь спуститься?
— А вы? — спросил Герасимов.
— Мы сбегаем к овчарне, посмотрим, чем в такие душные ночи занимается пастух.
— Ты что, орден зарабатываешь? — спросил Глебышев.
По его тону я понял, что он не пойдет. Собственно, я был не прав. При чем здесь этот парень? Почему он должен был снова рисковать жизнью?
— Ладно, — сказал я, поднимаясь. — Возвращайтесь в отделения.
— Ты меня не понял…
Тон уже совсем иной. Сержант не хотел казаться трусом. Я помог ему:
— Я не подумал о нем, — кивнул на Герасимова. — Его нельзя оставлять здесь одного.
Герасимов не стал возражать. Глебышев охотно подчинился. Я крикнул, уже отбежав на десяток метров:
— Глебышев, остаешься за меня!
— С радостью, — отозвался он.
* * *
Мне показалось, что я с крутого обрыва нырнул в воду. Как только побежал вниз, увлекая за собой булыжники и песчаные оползни, наступила гробовая тишина. Когда мозги пропитываются грохотом боя под завязку, то внезапной тишины пугаешься, как смерти. Я бежал в звуковом вакууме, заполняя его хрипом своего дыхания и частыми ударами сердца.
Медленно и трудно светало. Я уже различал крупные камни, ямы и мог бежать достаточно быстро, без риска сломать себе шею. До овчарни — километра два, а точнее, минут пятнадцать бегом. Но эти минуты пролетели как одно мгновение. Я едва успел привыкнуть к тишине, как оказался на «балконе», нависающем над крутым обрывом, с которого Герасимов следил за овчарней. И сама ночь, и все, что случилось под ее покровом, теперь уже казались сиюминутным эпизодом, наполовину придуманным, почти нереальным. Может быть, это потому, что ночью человек преимущественно живет в мире сновидений?
Я оказался рядом с овчарней вовремя: в плотной тени глубокой ложбины двигалась группа людей. Они уходили по тропе на север, к автомобильной трассе. Минуту я наблюдал за ними, затем группа растворилась в сумерках.
Овчарню я обошел вокруг, заглянул во все сараи и подсобки. Меня облаяли истеричные псы, но тронуть не посмели. Овцы, стуча копытами, толпились в дальнем углу сарая, смотрели на меня черными глазами, нервно дергались от моего малейшего движения. В боковой подсобке, где была ночлежка пастуха, я нашел несколько спущенных автомобильных камер, висящих на гвозде. Камеры были влажными, местами выпачканными в глине.
Все правильно, думал я, одна группа отвлекает, обстреливая заставу, а вторая при этом спокойно пересекает Пяндж.
Я вышел на тропу, пересекающую ложбину, по которой ушли люди, и побежал по ней вверх. Мне казалось, что они ушли недалеко, и я быстро разыщу — их среди холмов, похожих на утратившие грани египетские пирамиды, но контрабандисты оказались резвыми ходоками, и я увидел их лишь тогда, когда они спустились по лугу к шоссе.
Нас разделяло не меньше километра, и без бинокля я сумел увидеть только серые фигуры людей, мешки и небольшие ящики, в каких обычно перевозят сигареты. Люди стояли на краю поля, а когда к ним подъехал зеленый, с крытым кузовом, «ЗИЛ», быстро погрузили свой груз. Я думал, что они тоже влезут на машину, но «ЗИЛ» тронулся с места и поехал по шоссе. Через минуту-вторую я потерял его из виду. Люди стали расходиться по сторонам. Двое пошли по шоссе, один пересек дорогу и направился через поле, еще двое поймали попутку и поехали в противоположную сторону. На моих глазах группа растаяла, как ветер срывает с дерева и раскидывает по лесу опавшие листья.
Я перестал скакать по лугу, как вырвавшийся на свободу конь. Сплюнул, выругался смачнее, чтобы отвести душу, потом остановился, сел на траву.
Ничего нового я не узнал. Все идет своим чередом. Мы ползаем под пулями, пастух пасет овец, контрабандисты таскают через Пяндж травку. Стоило ли оставлять взвод, чтобы еще раз убедиться в этом?
7
Игнатенко с почерневшим лицом, ввалившимися глазами и потрескавшимися губами, похожими на высохшие хлебные корки, стоял передо мной и сжимал кулаки.
— Какого черта?.. Тебе что было поручено? Я, блин горелый, таких «соляриков» еще не видел. Пятеро убитых, семеро раненых, ты оставил поле боя… Я терпеть тебя не буду, имей в виду!
— Побереги силы, — посоветовал я.
— Сейчас твой комбат приедет, с ним будешь объясняться.
Три пограничника и двое солдат из моего взвода лежали на асфальте в тени акации. Пять пар ног в одинаковых, белых от пыли ботинках торчали из-под плащ-накидки. Если война еще не въелась в душу, то убитые люди не воспринимаются сознанием, — и тогда просто недоумеваешь: почему пятеро парней легли прямо на асфальт и накрылись накидкой? Почему не встанут, не устыдятся своих нелепых поз?
Я, приподняв край зеленой ткани в бурых пятнах, смотрел на лица погибших. Игнатенко следил за мной, часто и глубоко затягиваясь сигаретой, потом кинул окурок рядом с дымящимся бревном.
— Всех раненых в казарму! — крикнул он. — Чтоб ни одного не видел на территории!.. Какого черта столпились?! — гаркнул он на солдат, которые подпухшими, словно сонными, глазами смотрели на трупы. — Кто не знает, чем заняться?
Игнатенко схватил палку и принялся яростно размахивать ею во все стороны. Я не думал, что начальник заставы может настолько выйти из себя. Солдаты шарахались от него, как прохожие на улицах от струй поливочной машины.
— А это куда ты понес? — заорал он на солдата, который волок на спине ствол трофейного миномета. Солдат остановился, заморгал глазами. — Ко мне в канцелярию! А плита где?
— Плиту Бабаев нес.
— Разыщи этого Бабаева, или я из него самого плиту сделаю! И треногу мне принести. Мигом!
Проморгал миномет, подумал я. Витаю в облаках, ставлю перед собой какие-то нереальные цели, а люди тем временем ордена зарабатывают на чужой крови.
Ближе к полудню на заставу приехал комбат, а за ним — целая бригада из полка. Ожидали прилета офицеров из штаба дивизии вместе с корреспондентами телевидения. Игнатенко надел какую-то старую, прожженную во многих местах форму, зачем-то замотал бинтом кисть левой руки. Раненым, которые могли передвигаться, он приказал занять позиции вокруг заставы. Получилось очень впечатляюще. Наверное, начальник заставы снимался для телевидения не в первый раз.
Разговор с комбатом был коротким. Он не суетился, молча принял мой доклад, в котором я обрисовал ночной бой, поморщился, вытер платком бритый затылок, а потом спросил:
— Что это Игнатенко бочку на тебя катит? Куда ты убегал?
Я объяснил комбату, что в то время, когда застава отражала нападение, через границу прошла группа людей.
— Ты это видел?
— Да, я следил за группой от овчарни до шоссе. Потом люди погрузили какие-то мешки и ящики в грузовик, а сами разбрелись по кишлакам.
— Ты один следил за ними?
— Один.
— По позициям еще стреляли, когда ты ушел?
— Да.
— Хреново, — поморщился комбат, посмотрел по сторонам и снова протер платком красный затылок. — Ладно. Напишешь объяснительную на имя командира роты, и замнем это дело.
— Я не совсем понимаю, о чем вы.
— Потом поймешь. — Он собрался было отойти, как снова повернулся ко мне и жестко добавил: — А вообще, уж если ты командуешь взводом, то, пока вдет бой, должен быть со взводом. Уясни это как следует, не то будешь очень долго доказывать, что не трус. Это я тебе как товарищ советую.
В полдень рядом с заставой приземлились два вертолета из штаба дивизии. Один из них был пустой и предназначался для отправки трупов и раненых в полк, а на втором прилетела комиссия из штабов дивизии и погранвойск Таджикистана. Комбат доложил полковнику из оперативного отделения, тот, даже не пожав капитану руку и не дослушав до конца, быстро пошел под акации, где лежали убитые, встал рядом с ними, сунул руки в карманы, стал качать головой.
— Игнатенко! — громко позвал он.
Полковник заводился, лицо его покраснело, движения стали резкими. Начальник заставы подбежал к нему, застегивая на ходу свою прожженную куртку, вскинул руку, прикладывая ее к козырьку кепи.
— Отставить! — прорычал полковник, не принимая доклада. — Схему опорного пункта мне сюда, план взаимодействия, все документы по боевой готовности!
Игнатенко исчез в дверях, и в то время, пока полковник, заложив руки за спину, расхаживал рядом с разрушенной и сгоревшей пристройкой, солдаты выносили на асфальт и собирали трофейный миномет.
Начальник заставы появился с бумагами и тетрадями под мышкой, стал вытягивать из стопки первую, но несколько тетрадей выпало из его рук, и он — вприсядку стал их торопливо подбирать. Полковник терпеливо ждал.
— Где позиции прикрытия? — голосом, в котором слышалась скрытая угроза, спросил полковник. — Объясните ваше решение насчет позиций боевых машин.
Игнатенко что-то ответил, показывая рукой на холмы, на Пяндж, а затем на миномет, рядом с которым еще возились солдаты. Полковник искоса посмотрел на орудие, подошел к нему поближе, потом повернулся к Игнатенко.
— Вот за это спасибо, — сказал он.
Ну вот, подумал я, начальник заставы кинул ворованный козырь. Сейчас сдаст меня.
Я не ошибся. Игнатенко продолжал о чем-то запальчиво говорить, размахивал во все стороны руками, поднял, чтобы ее было лучше заметно, перебинтованную кисть и сдержанным движением кивнул в мою сторону.
— Если он тебя позовет, — прошептал мне комбат, — то лучше молчи и не оправдывайся.
Полковник, широко расставив ноги и не вынимая рук из глубоких карманов, смотрел на Игнатенко сверху-вниз, затем слегка повернул голову, искоса посмотрел на меня, и снова на начальника заставы.
— Черт возьми! — прорычал он и посмотрел на комбата. — Рефилов! Батальон офицерами укомплектован полностью или нет?
— Почти в каждой роте не хватает одного-двух командиров взводов. — ответил комбат.
— И что же теперь? Доверим контрактникам командование ротами?
— Взводом. — поправил комбат.
— Подойдите сюда, герой! — сказал мне полковник.
Я встал так, чтобы полковник мог видеть меня, Игнатенко и миномет.
— Что ж ты оставляешь поле боя? — спросил он, рассматривая меня с тем же выражением на лице, с каким смотрел на трупы.
— Вас неправильно информировали, — ответил я.
— То есть что значит неправильно?
— Сначала вместе с сержантами Глебышевым и Герасимовым мы уничтожили минометную позицию противника, а затем я в одиночку, оставив за себя сержанта Глебышева, преследовал группу нарушителей.
— Так миномет, получается, взяла пехота? — спросил полковник, посмотрев на Игнатенко. — Так или нет, отвечай!
— Миномет взяли мы, — твердо сказал начальник заставы, исподлобья глядя на полковника. — А пехота на определенном этапе помогла нам выбить противника с позиции.
— В общем, вы тут сами не разобрались с этим минометом, — умозаключил полковник. — А что касается одиночного преследования нарушителей… — полковник выждал паузу, пристально взглянув на меня, — …то это прерогатива начальника заставы. Он должен был назначить заслон, тревожную группу. Так, начальник заставы? Свои обязанности по уставу помнишь?
— Каждый солдат был на вес золота, товарищ полковник, — ответил Игнатенко, интуитивно чувствуя, что туча над ним потихоньку рассеивается. — Некогда мне было заниматься заслоном. Мои парни дрались как черти. Проявляли образцы мужества и самопожертвования.
Его стало заносить на пафос, и полковник остановил Игнатенко взмахом руки.
— Хорошо. Готовь рапорт на имя начальника погранотряда. Потери, убытки, расход боеприпасов. Список солдат, достойных поощрения и наград.
— Есть, товарищ полковник!
— Рефилов! Сегодня же подобрать толкового парня на взвод. А этого преследователя, — он кивнул на меня, — вернуть в полк, его еще надо долго готовить к границе. Пусть занимается обязанностями старшины.
— Сделаем, товарищ полковник.
— Дайте команду на погрузку убитых и раненых.
Так неожиданно прервалась моя боевая эпопея.
Бог не наделил меня способностями убедительно и ярко говорить о своих заслугах, и я не нашел слов, чтобы доказать полковнику, что потерь было бы намного меньше, если бы начальник заставы обладал большим опытом и умом.
8
Я получил письмо от Анны… Кстати, я еще не рассказывал о своих женщинах? Тогда коротко: несколько лет назад я страстно влюбился в Валери, дочь южноамериканского мафиози Августино Карлоса, и результатом этой любви стало появление на свет прелестной Клементины. Потом судьба раскидала нас, и про Валери я почти ничего не слышал, кроме одного — она делает деньги на производстве и контрабанде наркотиков. Вскоре у меня появилась подруга Анна, с которой, как мне кажется, меня связывает исключительно страсть к приключениям и справедливости. Перед моим отъездом в Таджикистан мы договорились, что она будет держать меня в курсе всех дел, но тем не менее пухлый конверт, который принес мне солдат с узла связи, был неожиданностью. Я уже забыл, когда последний раз получал письма, и с удивлением отметил, что это приятно.
Письмо Анны было длинным и, несмотря на то что было отпечатано на принтере мелким курсивом, заняло четыре листа. Кажется, она писала его с удовольствием, хотя оно носило чисто деловой характер и в нем не было ни одного слова, касающегося наших отношений и каких-либо чувств.
Первую половину письма можно было бы вообще убрать — в ней Анна излишне подробно описала, как блестящее владение испанским языком помогло ей устроиться секретарем в фирму «Гринперос». «Мне предстоит большая работа, — писала Анна. — Как сказал новый шеф, мы будем готовить крупную партию товара к отправке за рубеж, и поэтому мне предложили недели две-три пожить в офисе. Выделили отдельную комнату на втором этаже, от которой я просто без ума. Представь себе: просторная, пятиугольная, в ней два окна с полукруглым верхом. От самого потолка до пола ниспадают тяжелые шторы, подвешенные на карнизе, изогнутом, так же, полукругом, отчего у штор получается объем. Выглядит это в сочетании с огромным, на всю стену, подлинником Глазьева-младшего, на котором Иисус в терновом венке страдает у ног Пилата, просто потрясающе! Такого униженного лица у Христа я не видела еще никогда в жизни». И два листа мелким шрифтом — в том же духе, подробное описание трехэтажного особняка и его комнат. По своей природной недальновидности я мысленно упрекнул Анну в многословии и — неумении сосредоточиться на чем-то одном, самом важном. Но спустя время я добрым словом вспомнил это письмо с пространными упражнениями в словесности.
Вторую часть письма я прочитал несколько раз, пока не запомнил его почти дословно, а затем сжег на пустыре с надеждой, что до меня никто больше не вскрывал конверт.
«Два дня спустя меня пригласили на VIP-прием. Стол был шикарным: сначала „а-ля фуршет“ на газоне перед парадным входом с колоннами, а как стемнело, мы перешли в зал, где вокруг нас крутилось не меньше десяти официантов… (Часть текста, где идет подробное перечисление яств, я пропускаю.) Было человек тридцать пять — сорок, треть из них — дамы всех возрастов и комплекций. Сначала не меньше часа при гробовом молчании звучали только поминальные тосты о недавно застреленном „ведущем специалисте“ компании Серже Новоторове, причем произносил тосты некий господин, которого, как и почти всех остальных, я видела впервые. Все называли его Князем, и я сначала подумала, что это либо титул, либо кличка, но потом выяснилось, что его в самом деле так зовут. Князю — под пятьдесят, он совершенно лыс, даже брови не растут. Был одет безвкусно, как попугай — бежевые брюки, зеленый пиджак, черная рубашка и оранжевая „бабочка“. За весь вечер не выпил ни капли спиртного — только пепси, да сигареты тянул одну за другой.
Я думала, что не выдержу этой гнетущей атмосферы и обязательно подавлюсь куском, но, наконец, спиртное дало свои результаты, настроение у народа повысилось, в угол зала, как с потолка, свалился камерный оркестр, и зазвучали „Времена года“ Вивальди.
Тут-то референт взял меня под руку и подвел к Князю — представлять. Видимо, Князь знал обо мне все, потому как вполне удовлетворился моим поклоном и именем. Он взял меня под руку, подвел к столу, налил шампанского. „Вы близко знали Сержа?“ — спрашивает он. А я не понимаю, что он имеет в виду. Может быть, его интересовало, спала ли я с ним? Я ответила, что видела его, к величайшему несчастью, лишь один раз за несколько дней до его смерти. Князь вскинул вверх то место на лице, где должны быть брови, и спросил с кривой ухмылкой: „Вы сказали — к несчастью? Неужели вам и в самом деле жалко этого подонка?“ Вот такие повороты.
Я моргаю глазками, судорожно пью шампанское, не знаю, как мне отреагировать. Он снова усмехнулся, потрепал меня, как девочку, по щеке. А потом я такое увидела, что едва на пол не села. В дверях появился какой-то клерк, негромко позвал Князя, поднял руку вверх и кивнул, как бы подавая сигнал. И вслед за этим в зал вошел сам папочка твоей красавицы Валери — колумбийский мафиози Августино Карлос!
Мне в руки шел редчайший, уникальный шанс завоевать полное доверие Князя. Нельзя было терять ни секунды, и я даже не подумала о том, насколько это этично и принято ли вообще так себя вести в этом кругу. Князь широкими шагами подошел к Августино, они обнялись. Тот выглядел потрясно — седой, бронзоволицый, с фарфоровыми зубами, одетый в белый костюм-тройку, ворот красной шелковой рубашки отложен, на пальцах — золотые перстни. Князь не стал представлять публике Августино — многие даже не заметили появления в зале нового гостя. Они уже выходили из зала, как я почти бегом рванула к Августино. „Сеньор! — сказала я по-испански, преграждая ему — дорогу. — Я до сих пор не могу забыть того счастья, какое испытывала, работая на вашей вилле в сельве! Как я рада видеть вас в России!“ В общем, что-то в этом роде. На какое-то мгновение по лицу Князя пробежала тень. Он нахмурился, мой поступок ему не понравился. Но Августино вспомнил меня, очень приветливо улыбнулся, ответил, так же, по-испански, что я выгляжу просто очаровательно и он всегда будет рад видеть меня у себя на вилле. Я сделала глубокий реверанс. На том мы и расстались. Потом я встала у окна, слегка сдвинула край шторы и стала следить за парадным входом. Там, в свете фонарей, блестела белая машина, рядом с ней кучковалась группа охранников. Минут через пять к машине по ступенькам сошли Князь с Августино, постояли еще немного, выкурили по сигарете. Затем Августино протянул Князю свой миниатюрный кейс, пожал ему руку и сел в машину. Вот так, нежданно-негаданно, я напомнила о себе своему бывшему хозяину и подчеркнула свою значимость в глазах Князя.
Князь, кстати, все же сделал мне легкое замечание. Позже он подошел ко мне, хитро улыбаясь, погрозил пальцем и сказал: „А вы, оказывается, отчаянная девушка, Анна“.
Ближе к полуночи стараниями Князя и референта, который суетился как официант, я едва держалась на ногах. Оказывается, шампанским можно упиться до свинского состояния. Но все-таки я отдавала себе отчет в том, кто я, где и для какой цели нахожусь. Работать шпионкой в тылу врага, Кирилл, это искусство, которое мне еще постигать и постигать. (В этом месте я подумал, что Анна ненормальная — писать открытым текстом такие вещи, за которые, попади это письмо в руки Князя или референта, раздавят, как божью коровку!). И все-таки я многое узнала. Ко мне приклеился некий Слава, человек, вполне годящийся мне в дедушки. Насколько я поняла, он когда-то работал в партийных структурах и по давней привычке был весьма словоохотливым. Пришлось ему позволить слюнявить мои руки, зато он худо-бедно, но рассказал кое-что о гостях.
Князь, как я уже сама догадалась, после ухода в мир иной Сержа Новоторова взял на себя бразды правления фирмой. В восемьдесят шестом году он работал в Афганистане в качестве советника при первом секретаре провинциального комитета НДПА, по образованию он — востоковед, доктор наук. После Афгана преподавал в МГУ, институте Патриса Лумумбы и, кажется, в высшей партшколе. Потом ушел в коммерцию. Связи у него огромные. Именно он вышел на Августино.
Князь вытащил из Таджикистана в Москву некоего генерала Вольского, фамилию которого ты как-то упоминал. Генерал, кстати, тоже был на поминках, но держался как-то обособленно и особенно на глазах у публики не светился. Его и Князя связывает давняя дружба, когда они оба были в Афгане. Вольский служил в дивизии, а Князь, как я уже писала, работал советником в той же провинции, и они часто встречались.
Словом, это две наиболее влиятельные фигуры, которых я видела на поминках. Еще Слава представил мне нескольких представителей московских фирм и одного владельца ночного клуба. В доме висельника о веревке не говорят, и, естественно, Славик ни единым словом не обмолвился о том, что всех этих людей объединяет. Но я абсолютно не сомневалась в том, что все они сидят на наркобизнесе. И это не просто тупая уверенность школьника в том, что земля имеет форму — шара. В часа два ночи Князь позвал меня в свой кабинет, попросил приготовить кофе и сесть за компьютер.
Сначала он продиктовал мне письмо капитану парома „Пярну“ с просьбой зарезервировать место под коммерческий груз общим весом в тридцать с половиной тонн до Стокгольма. Я должна была перевести письмо на английский, отпечатать на нашем фирменном бланке и отправить с заказной почтой завтра утром. Затем в кабинет пришел Вольский, и Князь попросил меня присутствовать при их разговоре и занести в память некоторые финансовые расчеты.
Говорили они, конечно, полунамеками, в основном о ссудах, отношениях с департаментом налоговой полиции, о расходах и прибыли. Вольский жаловался на то, что слишком мало денег выделено на предвыборную кампанию. Князь не очень убедительно обещал помочь. Затем они перевели разговор на тему Таджикистана и Афгана. Я поняла это по тому, как Вольский сказал. „Сырье из-за речки поступает постоянно, мои люди работают, как рабы Рима“. Я вспомнила, что и ты, имея в виду Афган, всегда говоришь: „За речкой“. Словом, мне трудно передать в точности их разговор, но я четко поняла следующее: из Афгана через Пяндж поступает в самом деле лишь сырье, из которого где-то в Таджикистане же уже начали вырабатывать героин высокого качества. В Москву пошли первые партии готового продукта. Каким образом его перевозят — я не поняла, один лишь раз Вольский сказал, что „с тарой теперь полный порядок, и чем сложнее обстановка на границе, тем нам проще“.
Около пяти утра, когда я уже едва не валилась головой на клавиатуру, Князь отпустил меня. На всякий случай я провела остаток ночи в отдельном флигеле, где была койка, а самое главное — надежный засов, закрывающийся изнутри».
В конце Анна приписала, что пока у нее голова идет кругом и полной картины она не представляет, хотя известно уже немало. Она умоляла меня беречь себя и не гнать лошадей.
Нет, даже по пути к вершине холма, по которому полз к минометной позиции, я рисковал жизнью меньше, чем Анна. Бросил девушку на ржавые гвозди, подумал я. А если с ней что-нибудь случится, как ты будешь жить дальше, Кирилл Андреевич?
9
На второй день после моего бесславного возвращения в полк меня вызвал начальник штаба и велел немедленно отправляться в Душанбе, в штаб дивизии к Локтеву.
При входе в штаб меня остановил дежурный и, спросив мою фамилию, протянул короткую записку от Локтева.
«Кирилл! — писал он своим мелким, неровным почерком, с буквами, валящимися друг на друга, который отличает энергичных, но не всегда последовательных людей. — Я на совещании в штабе МС. В 15.00 жду тебя на том же месте, где мы пили чай. Локтев».
На том же месте, мысленно повторил я и выругался. Локтев полагает, что я свободно ориентируюсь в Душанбе и найти то летнее кафе для меня не составит труда.
До обеда я бродил по центральному рынку, пробовал инжир, яблоки, соленые орешки и, не в состоянии отказать чрезмерно настырным продавцам, — покупал все, что мне навязывали. В итоге я вышел с рынка с двумя большими пакетами в руках.
Мне не трудно было останавливать машины, но значительно сложнее объяснять водителям, куда мне надо.
— Сквер, пруд, — говорил я, — там лебеди плавают. На берегу — кафе, официанта зовут Сафар.
— Не знаю, — отвечал водитель.
— Сквер, лебеди в пруду, — говорил я другому, но и тот отрицательно качал головой.
Только водитель пятой или шестой машины кивнул на сиденье.
— Сейчас найдем!
И мы поехали по всем скверам Душанбе. Естественно, я опоздал почти на двадцать минут, но Локтев не принял мои извинения и признался:
— Да я сам только что приехал. Командующий задержал.
Мы сели, кажется, за тот же столик, за которым пили чай в нашу первую встречу. Локтев подозвал официанта. К нам подбежал босоногий мальчик в замусоленном переднике.
— Это еще что за пионер? — удивился Локтев. — А где Сафар?
— Сафар нет! — ответил юный официант.
— А когда же он будет?
— Никогда не будет. Он здесь не работает. Плов? Шашлык?
— Все неси, — ответил Локтев. — Что-то я проголодался. — И когда мальчик убежал на кухню, сказал мне: — Не нравится мне это… У меня есть одна скверная привычка: я люблю, чтобы меня всегда обслуживал один и тот же официант, стриг один и тот же парикмахер, чтобы в бане подавал пиво и простыни один и тот же банщик. Но здесь, в Душанбе, никак не получается иметь постоянный персонал. Только начинаешь доверять человеку, только налаживаются отношения, а он вдруг — шпок! — и исчезает. И никто не знает, где его найти. Это уже не первый случай… Да-а, — протянул он многозначительно, глядя на кухню, — сначала он разносит еду, моет столы и посуду, потом сам будет готовить и считать деньги, потом научит этому своих детей. А поговори с ним — счастливейший человек! Интересно, ты, Кирилл, счастливый?
— Конечно.
— Надо же, — покачал Локтев головой. — Никогда бы не подумал.
— Ты вызвал меня для того, чтобы поговорить со мной о счастье?
Локтев ненатурально рассмеялся, откинулся на спинку стула, покачался на двух ножках.
— Все разговоры, собственно, сводятся к проблеме счастья. Потому что каждый человечишка на земле хочет, так сказать, его обрести.
— И альтруисты?
— В первую очередь альтруисты! Делая бескорыстно добро другим, они получают от этого удовлетворение. По сути, они те же эгоисты, но лишь в извращенной форме.
— Я двумя руками за такой эгоизм.
— Я тоже. — Локтев протянул мне свою крепкую ладонь и неожиданно поменял тему разговора: — А ты, значит, уже успел отличиться? Я читал рапорты командира полка и начальника заставы. Завтра персонально по тебе буду докладывать комдиву.
— Я стал такой заметной фигурой в дивизии?
— Случилось чепэ. У пограничников и у нас есть потери. К сожалению, так было когда-то давно заведено: командиры в большей степени виновны в гибели солдат, чем противник, им и отвечать.
— Значит, ты считаешь, что я виновен в гибели солдат?
— Пока я ничего не считаю. Я хочу выслушать тебя.
— Я не хочу оправдываться.
Локтев усмехнулся и положил мне на плечо свою тяжелую волосатую руку.
— Ну-ну, не надо эмоций и обид. Мне вовсе не нужно твое оправдание. Я выслушал одну сторону, теперь, чтобы докопаться до истины, я хочу выслушать тебя.
— И ты мне поверишь?
— Естественно.
Я рассказал Локтеву о прибытии на границу, о конфликте с начальником заставы, о пастухе, его овчарне и людях, которые появлялись там в те ночи, когда заставу обстреливали.
— С двумя сержантами я снял миномет. Боя, как такового, уже не было, выстрелы почти затихли. За тот час, пока меня не было, на границе ничего существенного не произошло.
— И что ты выяснил?
— Что обстрелы застав — отвлекающий маневр.
— Это не бог весть какая новость.
— Граница во многих местах дырявая.
— И это, к сожалению, нам известно. Больная тема.
— Пастух работает на контрабандистов. Я думаю, что он выясняет и сообщает моджахедам, на какие участки выставляются пограннаряды.
— А вот это интересно. Но эта информация для таджикской службы безопасности. Все?
— Нет, не все.
Мальчик принес тарелки с пловом, шашлыками и несколько лепешек. Мы одновременно принялись за еду и некоторое время молчали.
— Ну так что еще? — спросил Локтев, вытирая губы платком.
— Я пытался выследить, куда от границы переправляется контрабандный товар, но группа оторвалась от меня.
Локтев подносил ко рту очередной кусочек мяса, но рука его остановилась на полпути.
— Ты все еще думаешь, что они переправляют его сюда, в дивизию?
— Да, я предполагал это.
— Ну и голова у тебя! Бог с тобой, Кирилл! — с возмущением прошептал Локтев и, сравнивая мою голову со столом, постучал ладонью по дереву. — И как ты себе это представляешь? Группа бородатых чурок на ослах ввозит на территорию штаба дивизии тяжелые баулы?
— Я не думал, что у тебя такое примитивное мышление, — сказал я тоже не очень вежливо.
— Тогда изложи мне так, чтобы не было примитивно.
— Повторяю: я всего лишь предполагал такой вариант.
— А теперь?
— Теперь я располагаю другой информацией.
— Ты поделишься ею со мной?
— В Москву поставляется не сырье, а готовый продукт. Героин чистейшей пробы.
— Ты хочешь сказать, что наркоделы таскают через Пяндж не соломку, не опий, а героин?
Я отрицательно покачал головой.
— Не думаю, что в Афгане есть условия для производства героина. Насколько мне известно, это довольно сложный процесс.
Локтев курил и постукивал пальцами по столу в такт восточной музыке, которая доносилась из кухни. Я разламывал лепешку и кидал кусочки в воду. Лебеди медленными грациозными движениями вылавливали хлеб и проглатывали, не вынимая его из воды.
— Если твоя информация не ошибочна, — сказал он, — то можно сделать вывод, что героин производится в Таджикистане.
— Я думаю, что так оно и есть. Но меня больше интересует, каким образом наркотик затем переправляется в Москву.
— Забудь о дивизии, — сразу ответил Локтев. Я намекнул на его территорию, его владения, и это его задело. — После гибели Алексеева и моего назначения в Душанбе отправить нелегальный груз военным бортом невозможно. У меня тройная система проверки. Взятки или халатность исключены. Ищи, если хочешь, в другой области.
— А я как раз собирался искать в дивизии.
— Ты не доверяешь мне?
— Я тебе доверяю, — ответил я, но тотчас почувствовал, что сказал это не искренне. Локтев или не заметил, как мой голос предательски дрогнул, либо сделал вид, что не заметил.
— Хотел бы я знать, — сказал он, глядя в пустую тарелку, — как ты намерен выследить контрабандистов в дивизии?
— Пока не знаю. Для начала я должен выяснить, куда перебрасывают сырье с нашего берега. Если найду базу, где производят героин, то выйти на следующий этап контрабанды уже не составит большого труда.
Локтев как-то сдержанно усмехнулся, лицо его исказила гримаса.
— Кажется, друг мой боевой, ты старательно роешь мне могилу.
— В каком смысле? — спросил я, хотя догадывался, что-он имел в виду.
— Ты страшней любой инспекторской комиссии из Москвы. Но с теми можно полюбовно договориться. А с тобой?..
Он поднял глаза. Мурашки побежали у меня по спине от неприятной мысли, молнией промелькнувшей в сознании.
— Володя, — я опустил ладонь на его руку. — Что с тобой? Я перестаю узнавать тебя.
Он вдруг дернул рукой, словно его ударило током, откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и с неприязнью посмотрел на меня.
— Вот что, борец невидимого фронта, — сквозь зубы процедил он. — Я не знаю, кто тебе платит за эту работу, не знаю, чего ты добиваешься, но думаю, что за твоей спиной останется не одна покалеченная жизнь. Ты суешь свой нос в дела, которые тебя не касаются, корчишь из себя героя, комиссара Каттанни, и не думаешь о том, что твои лавры будут сплетены из несчастья других людей.
Такого обвинения мне никто еще не предъявлял. Локтев был не из тех людей, которые в порыве эмоций могли впасть в истерику или преувеличить действительность до размеров абсурда.
— Что?! — едва слышно прошептал я, не спуская — с него глаз. — О чьем несчастье ты говоришь?
— Хотя бы о своем, Кирилл. Мне уже под пятьдесят, большая часть жизни прожита, причем половина ее — на войне. И все эти годы я тянул служебную лямку, как проклятый. Я с лейтенантских лет не знал выходных, не позволял себе полноценного отпуска, я, как одержимый, делал себе карьеру. Где надо было хитрить, сгибаться перед начальством, я высоко поднимал голову и подчеркивал чувство собственного достоинства. Меня обходили по служебной лестнице генеральские сынки, лизоблюды, умеющие громко щелкать каблуками, подносить начальству подарки и преданно заглядывать им в рот. Я думал, что все это временно, что тупицы и болтуны, годами протиравшие штаны в штабах, рано или поздно займут свою, самую низшую, ступень в иерархической лестнице, а офицерские достоинство, честь и благородство будут цениться более всего. Но годы прошли, Кирилл, прошли безвозвратно, и что я вижу? Это шакалье стадо, которое всегда крутилось при львах и подбирало за ними объедки, оказалось у власти. Подонки, отказавшиеся в одно мгновение от своих идеалов и убеждений, предавшие всех, кого можно было предать, чтобы остаться у кормила, взлетели вверх. И меня, добившегося хорошей должности в штабе дивизии, вот этими руками, этим лбом, этим горбом, теперь инспектируют холеные уроды, и достаточно одного их поганого рапорта, одного звонка своим хозяевам, чтобы меня уволили из армии, выбросили за борт без квартиры, без права вернуться в Россию, потому что и там я чужой, лишний человек, и меня будут презирать жена, дети, потому что я не смог обеспечить им достойную жизнь, которую они заслуживают.
Он замолчал. Его ноздри еще широко раскрывались, он еще тяжело дышал, словно только что пробежал стометровку. Потянулся за новой сигаретой, задел край стола, на пол полетела тарелка. На звон из кухни выскочил мальчишка с веником и совком, подбежал к нам, быстро сгреб осколки.
Передо мной сидел глубоко несчастный, в мгновение постаревший человек, мужеством и молодецким безрассудством которого я когда-то так восхищался.
— Прошу тебя, — добавил он тише, не глядя мне в глаза, лишь нервно перекатывая в пальцах сигарету. — Не копай здесь ничего. Хочешь служить — служи. Я поставлю тебя на любую должность. Не хочешь — сегодня же расторгнем контракт, и я лично провожу тебя на самолет. Только не копай. Я дослужу, уеду отсюда в Россию — и тогда делай тут, что хочешь.
Мне не было его жалко. Этого человека, оказывается, я никогда не знал, и его судьба меня не затрагивала. Он был неприятен мне. Я встал, но Локтев неожиданно сильно схватил меня за руку. Казалось, что он до деталей повторяет те же движения, что и в первую нашу встречу за этим столом.
— Сядь! — громко сказал он своим прежним волевым голосом. — Я все-таки пока еще твой начальник, и хотя бы формально подчиняйся мне.
— Слушаюсь, — ответил я и снова сел.
— Что ты хочешь? — спросил Локтев.
Я понял его вопрос. Полковник предлагал мне сделку.
— Взамен чего? — уточнил я.
— Взамен того, что ты уедешь отсюда.
Я помолчал. Локтев выжидающе смотрел мне в лицо. Шел естественный процесс торга. Услуги, совесть, спокойная жизнь, амбиции, жажда мести переплелись между собой и породили странный симбиоз, ставший товаром.
— Я уеду через три дня, от силы — через пять. Но до этого ты дашь мне пять человек, отправишь на границу и дашь возможность, ни с кем не согласовывая свои действия, заниматься разведкой и поиском. Подчиняться я должен только тебе. И чтобы ни один начальник заставы, ни один ротный, комбат или клерк из штаба дивизии не указывали мне, что можно, а чего нельзя делать.
Локтев полулежал на столе, глядя на желтого верблюда с пачки сигарет.
— Нет, — глухо ответил он, не поднимая головы. — Это невозможно.
— Почему?
— Во-первых, такого подразделения по штатному расписанию не существует.
— Назначь его своим приказом.
— Это бред. Ты требуешь невозможного. Такие полномочия имеет только охрана президента.
— Ты пойдешь на доклад к командиру дивизии. Вот прекрасный случай рассказать ему о контрабанде, о базе по производству героина. И сразу же выдвигай предложение о создании спецгруппы по борьбе с наркобизнесом во главе с Вацурой!
Я сам рассмеялся своему же предложению. Локтев не разделил моего юмора.
— Бред! — повторил он жестче. — Командир дивизии отправит меня в госпиталь, чтобы убедиться, здоров ли я… Ты должен улететь немедленно, ни о каких спецгруппах не может идти и речи.
— Боюсь, мы не договоримся.
— Я тебя уволю.
— Это даже в какой-то степени развяжет мне руки.
— А если посажу? — Локтев слегка приподнял голову и посмотрел на меня исподлобья. Мне трудно было сказать определенно, плохая ли это шутка или хорошая угроза.
— За что посадишь, Володя?
— За то, что добровольно оставил поле боя. Знаешь, как это называется? Дезертирство в условиях войны. Вплоть до расстрела… Ну? Устраивает?
Нет, он уже не шутил. Он открыто угрожал. Пластиковый стаканчик лопнул в моей руке. Локтев лишь на мгновение прикрыл глаза, когда капли пепси-колы попали ему на лицо. Он провел рукой по лбу.
— Мог ли ты предположить тогда, десять лет назад, что у нас состоится такой разговор? — спросил я.
Локтев замер, лицо его исказила судорога боли, словно вдруг дала знать старая рана. Он понял, о чем я ему напоминал. Афганистан. Южный спуск с Саланга, где я волочил его с простреленной ногой по обочине, а за нами, чуть ли не обжигая пятки, текла река горящего бензина из пробитого трубопровода. Что бы он ответил мне тогда, если бы я был пророком и сказал ему, что десять лет спустя он будет угрожать мне тюрьмой?
Локтев вдруг застонал, закрыл лицо ладонями.
— Уходи, — сказан он глухо, не опуская рук. — Уходи и сделай так, чтобы мы никогда больше не встречались.
Я уже вышел на шоссе, когда Локтев неожиданно догнал меня. Он улыбался краешком губ, лоб полосовали волны морщин, взгляд блуждал, словно он следил за белкой, летающей с ветки на ветку.
— Да, я твой должник, — сказал он, как ни в чем не бывало. — А долг, как известно, платежом красен. Во-первых, я хочу, чтобы ты жил долго, а поэтому сегодня же подпишу приказ на твое увольнение. И во-вторых… — Локтев оглянулся и повторил: — И во-вторых. Я предвижу, что увольнение не остановит тебя, и ты все равно потащишься на границу, где стопроцентно поймаешь пулю. И поэтому хочу предостеречь тебя от лишнего и очень рискованного круга… Сырье, путь которого ты хочешь проследить от Пянджа, вывозят из приграничной зоны военными грузовиками с опознавательными знаками узбекского миротворческого подразделения. Ты его не выследишь никогда, потому что к машине тебя близко не подпустят. Наши посты такие машины не останавливают и не проверяют, хотя сигнал уже был… Там взаимная договоренность, и ее лучше не нарушать, потому что завязаны большие деньги и чины… Грузовик идет транзитом через Душанбе куда-то в горы, в сторону Нурека. За самолет я клянусь своей честью, если… если ты, конечно, еще способен мне верить. В Москву увозят все: раннюю клубнику, зелень, овощи, гранаты. Ящиками везут, даже контейнерами — каждый московский генерал считает своим долгом килограмм двести-триста продуктов увезти. Но наркотики и оружие пронести на борт невозможно. Голову даю на отсечение. Не трать время, не кидай тень на дивизию. Ищи в другом месте… И последнее.
Он смял в кулаке рукав моей, куртки, глядя прямо в глаза.
— Ты должен помнить каждую минуту: раз ты занялся этим делом, то жизнь твоя отныне не стоит ничего.
10
Время прилета самолета из Москвы я узнал по справочному телефону, хотя звонил туда трижды, и каждый раз мне называли другое время. Самолет летал по особому графику и отправлялся из Домодедова по мере заполнения пассажирами. В третий раз девушка сообщила мне, что самолет только что вылетел из Москвы, и я сразу же поехал в аэропорт, хотя располагал минимум четырьмя часами.
Я велел таксисту развернуться у здания аэропорта и подъехать к контрольному пункту. На летное поле, как я и ожидал, нас не пропустили, хотя я пытался дать дежурному взятку. Таксист пожимал плечами и утверждал, что за свою жизнь не припомнит случая, чтобы к нему обращались с такой просьбой. Война войной, подумал я, рассчитываясь и выходя из машины, а порядок иногда соблюдают.
Потом я долго скучал и дурел от жары, сидя на лавке — единственной, которая была свободной, потому что стояла не в тени, и даже задремал на короткое время. В реальность меня вернул голос дикторши, объявившей о прибытии самолета из Москвы.
Обмахивая лицо газетой, я прогуливался недалеко от контрольного пункта, не выдавая своего любопытства, проводил глазами серебристый микроавтобус «Ниссан», который остановился перед дежурным лишь на мгновение и бесшумно покатил по асфальту к самолету. Я кинулся к стоянке такси.
— Куда едем? — спросил водитель.
Я кивнул на ворота контрольного пункта:
— Пока не знаю. Куда шеф поедет, туда и мы.
Водителю такой ответ не понравился. Он не мог сориентироваться и рассчитать, сколько бензина растратит и сколько взять с меня денег.
«Ниссан» выскочил из ворот, сверкнул в солнечных лучах и вырулил на магистраль.
— За ним!
Водитель что-то пробормотал по-таджикски и завел мотор. Он едва шевелился — или жара так на него подействовала, или он побаивался «садиться на хвост» иномарке.
— Побыстрее, — попросил я, видя, что «Ниссан» стремительно набирает скорость.
Водитель надавил на педаль акселератора с такой осторожностью, словно это была лапа любимой собаки.
— Это все? — удивился я.
— Старий машина, да? — ответил водитель и прибавил еще чуть-чуть.
Между нами и «Ниссаном» встали два «жигуленка». Я уже начал беспокоиться, что потеряю микроавтобус из виду.
— Это куда трасса ведет? — спросил я.
— На Нурек, куда же еще!
Мы безнадежно отставали. «Ниссан» проскочил на желтый свет, перед нами вспыхнул красный, и водитель, конечно же, послушно притормозил. Я понял, что прежде чем сесть в такси, надо было посмотреть на километраж пробега и возраст водителя.
Когда загорелся зеленый и мы тронулись с места, микроавтобуса уже нигде не было видно.
— Молодец, спасибо! — хлопнул я по плечу водителя. — Разворачивай назад. В гостиницу «Таджикистан».
* * *
Я сидел у себя в номере и, склонившись над журнальным столиком, рисовал пальму. Стройную, изящную пальму, членистый ствол которой выгибался дугой, а большие овальные ветви, заостренные внизу, как пики, фонтаном выбивались из верхушки ствола, словно копна нечесаных волос на голове хиппи. Правую ветку я нарисовал неправдоподобно огромной, и теперь она вместе со стволом образовала большую букву «Р».
Я кинул карандаш на стол и откинулся на спинку кресла. Не помню, деталей не помню. Зрительная память у меня хорошая, легко вспоминаю лица людей, с которыми встречался много лет назад, причем эпизодически. И все-таки глаза — не фотоаппарат. Стираются в памяти особенности шрифта, а это очень важно.
Снова взял карандаш, на глаз рассчитал ширину букв, чтобы слова уместились в одну строку на всю ширину листа, и едва заметными линиями набросал: «Российско-перуанский коммерческий союз „Гринперос“». Отодвинул лист подальше от глаз, прищурился. Похоже, но не то. Те буковки дрожали, как если бы на них смотреть через разогретый тропический воздух.
Засечки, которые я накидал на буквы, сделали их похожими на стадо пьяных ежей, и пришлось все стирать резинкой. Попытался рисовать буквы волнистой линией, но получились вообще какие-то трудночитаемые аморфные пятна.
М-да, подумал я, художник из меня никудышный. Разорвал лист и кинул его на кровать. Потом ходил по комнате из угла в угол, пока не стемнело. Включил бра, достал из холодильника бутылку минералки, осушил ее залпом и снова сел в кресло.
Тут мой взгляд упал на обрывки бумаги. Я взял их, разложил по линии разрыва на столике, а затем слегка сдвинул в сторону каждую полоску бумаги… Буквы задрожали, словно в знойном мареве!
Я вытащил из тумбочки чистый лист бумаги и снова принялся рисовать пальму с гипертрофированной ветвью в виде буквы «Р». До полуночи, склонившись над столом, я рисовал логотип фирмы «Гринперос», и когда уже карандаш вываливался из моих рук, а глаза слипались от усталости, на листе бумаги появилось что-то похожее на логотип, украшающий договор, который мне показал Гурьев.
На отдельном листе я стал по памяти записывать текст договора. «Организация обязуется обеспечить специалиста всем необходимым для работы и отдыха в пределах нормы, которая устанавливается в зависимости от результатов труда… Специалист не вправе прерывать контракт по своему усмотрению, равно как и покидать пределы рабочей территории без ведома администрации, вести какую-либо переписку или иными способами связываться с лицами, не имеющими отношения к настоящему договору…»
Осталось найти адрес какой-нибудь организации, оказывающей полиграфические услуги. Я пересмотрел стопку местных газет, нашел то, что мне было надо, и обвел рекламный «кирпич» карандашом.
На сегодня все, подумал я и, не раздеваясь, упал на кровать.
11
С утра я позвонил в строевой отдел штаба дивизии, но мне сказали, что приказ на увольнение уже подписан, выписку я могу забрать у дежурного по контрольно-пропускному пункту, но вот проездные документы будут готовы не раньше, чем дня через три. Когда я попытался выяснить, чем вызвана эта волокита, женский голос коротко и грубо ответил мне:
— Когда будет готово, вас вызовут.
Я подумал немного, глядя на пикающую трубку, и набрал номер Локтева. На другом конце провода трубку долго не брали, наконец я услышал незнакомый голос:
— Слушаю!
Мне полковника Локтева.
Молчание. Приглушенные голоса, кашель, шорох.
— А кто его спрашивает?
— Кирилл Вацура.
— Э-э-э, а по какому вопросу вы звоните?
— По личному.
— Обратитесь в отдел по воспитательной работе.
И короткие гудки.
В лифте я случайно услышал от офицеров штаба миротворческих сил дикую новость: вчера поздно вечером, в своем кабинете, застрелился полковник Локтев.
Я забыл, куда собирался идти, несколько минут топтался в фойе гостиницы, мешал людям, меня толкали в дверях, как колхозника с мешком картошки в метро в час пик. Локтев застрелился, думал я, а точнее, просто повторял эту фразу, прислушиваясь к своим чувствам. Он застрелился. Не захотел больше жить. Почему? Я виноват в этом? Совпадение, что это произошло сразу после нашего разговора?
В штаб дивизии меня не пропустили. На контрольном пункте я спросил о выписке из приказа о моем увольнении. Сержант долго шарил в пустых ящиках стола, потом хлопнул себя по лбу и вытащил выписку из-под стекла, которое лежало на столе под телефонами. Приказ на увольнение был подписан сегодняшним днем исполняющим обязанности командира дивизии полковником Локтевым. Я спрятал выписку в нагрудный карман и попытался пройти на территорию, но дежурный молча преградил мне путь и показал на выход. На «пятачке» перед штабом суетились офицеры, люди в штатском, милиционеры. Я видел из-за ограды, как вынесли носилки, покрытые простыней, закатили их в зеленый фургон медицинского «УАЗа». Машина развернулась, выехала через КПП и под вой сирены сопровождающей милицейской машины помчалась по улице.
Я брел к гостинице, стараясь в точности вспомнить последние слова, сказанные Локтевым вчера в кафе. После внезапной смерти человека именно к последним словам его относишься по-особенному, будто в них заложен некий мистический смысл. Сырье из приграничной зоны вывозят на военных грузовиках, мысленно повторял я слова Локтева, транзитом через Душанбе и в горы, в сторону Нурека… В военные самолеты наркотик пронести невозможно… Не надо кидать тень на дивизию…
Мне уже никогда не узнать, насколько искренне говорил об этом Локтев.
* * *
До госпиталя я доехал на троллейбусе, затем долго бродил по тенистым аллеям между корпусов, спрашивая у больных, одетых в единообразные пижамы, как пройти к моргу. Мой вопрос нагонял на людей суеверный страх, они пожимали плечами, отрицательно крутили головами и спешили отойти от меня. Странно, отчего люди так относятся к этому естественному для госпиталей и больниц заведению? Как вообще можно лечиться, не зная, куда будешь перевезен в случае чего?
В конце концов я сам нашел маленький скорбный домик с плоской крышей и окнами, замазанными известью. На ступеньках при входе сидел до пояса раздетый солдат, стругал палку и, увидев меня, спросил: «Чего надо?»
— Мне начальник назначил встречу.
— Сейчас спрошу, — делая мне одолжение, ответил солдат, поднялся на ноги и исчез в дверях, откуда струился слабый запах хлорки.
Вскоре ко мне вышел худой, лысеющий лейтенант с остатками черных лохматых волос над ушами — Эдик Бленский, которого я как-то видел в полку. Не вдаваясь в подробности нашей эпизодической встречи и стараясь не подчеркивать, что мы совсем не знакомы, я протянул руку, приветливо улыбнулся как своему давнему приятелю.
— Привет! Что-то ты похудел.
Бленский, пожимая мне руку, силился вспомнить мое лицо, но это ему не удалось. Впрочем, он легко скрыл это, кивнул мне, приглашая войти. Мы прошли по коридору, где, по моему представлению, должны были валяться трупы, и свернули в открытую дверь кабинета.
Бленский сел за стол, застланный застиранной, в желтых пятнах, скатертью, на котором стоял лишь мутный стакан, полный карандашей с обломанными грифелями, водрузил на него локти, зевнул и спросил:
— Ну, как жизнь?
Ответ на этот вопрос, как он полагал, должен был помочь ему вспомнить меня.
— Моих привезли? — спросил я.
Бленский провел по влажной лысине, приклеивая к ней нависающие над ушами длинные пряди.
— Твоих? — переспросил он. — А кто это?
— С границы, — пояснил я. — Два моих солдата, и еще трое — пограничники.
Бленский долго смотрел на меня с отсутствующим выражением на сонном лице. Наконец, до него дошло.
— Ах, да! — сказал он, заглянув зачем-то под стол, потом вытянул из стакана карандаш и принялся обгрызать его наконечник, сплевывая щепки на стол. — Нет, еще не привезли. Они пока в полку. Чай будешь?
Я молча кивнул. Раскрыть рот в этот момент у меня не хватило сил. Я не представлял, как буду пить чай, если Бленский вместе со своим заведением вызывал у меня крепкое отвращение.
— Бошляев! — крикнул лейтенант удивительно тонким и визгливым голоском. — Два чая!.. С сахаром? — уточнил он у меня. Я отрицательно покачал головой. — Один без сахара, Бошляев!
— Ну, как там? — спросил Бленский, почти наполовину раскрошив карандаш. Ему никак не удавалось обнажить грифель.
— Где — там?
— На границе.
— Стреляют, — односложно ответил я. — А у тебя?
— А мы запаиваем в гробы и отправляем.
Губы и мелкие зубки Бленского стали серыми от грифеля. Убедившись, что заточить карандаш таким способом не удастся, Бленский собрал ладонью мокрые щепочки и вытряхнул их в стакан. Я почувствовал, что если сейчас не выйду на воздух, то меня стошнит. Но надо было терпеть.
Вошел голопузый солдат. Морщась, он нес горячие стаканы в руках, поставил их на стол и тотчас принялся дуть на пальцы.
— Который с сахаром? — спросил Бленский.
— Этот, — показал Бошляев обожженным пальцем.
Лейтенант не поверил, поднял стакан, отхлебнул и поморщился.
— Соврал, пес, — лениво укорил он солдата. — Этот без сахара. Это товарищу, — и придвинул стакан мне. — Угощайся, пока горячий. А я люблю с сахаром. Я вообще люблю сладкое.
Черные пряди снова отклеились от его лысины и стали свисать, как уши спаниеля.
— А почему они еще в полку? — спросил я, поглядывая на чай, как на трупный яд.
— Вертолета пока не дают. Да все равно «Черный тюльпан» вылетает только по четвергам.
— Так ведь… — начал было я, но замолчал, потому как страшно было произнести «так ведь жарко». Но Бленский понял.
— А это ничего, — ответил он, низко склонившись над стаканом, так, что его спаниелевы уши коснулись стола, и стал шумно отхлебывать чай. — В медпункте все знают… Печенье хочешь?.. Там сначала надрезают все крупные артерии в коленных и локтевых суставах, — Бленский провел ладонью по сгибу руки и ног, — и закачивают туда большим шприцем формалин. Под давлением. Когда капельки покажутся в глазах — ну, будто труп плачет — значит, полна коробочка. И жара уже не страшна.
— А цинковые гробы… — едва слышно произнес я.
— Цинковые гробы — это уже наша работа. Их нам по спецзаказу готовит одна крутая фирма. Да, Бошляев? — крикнул он, словно солдат стоял под дверью, но, как ни странно, Бошляев утвердительно отозвался. — Получаем, одеваем в новую форму — если, конечно, есть, на что надевать — кладем, запаиваем и — домой!.. Слушай, я все никак не могу вспомнить твою фамилию.
— Вацура.
— Вацура? — Он наморщил лоб. — Нет, не припомню.
— Так я ведь еще вроде как живой, — очень нехорошо пошутил я. — Откуда тебе знать мою фамилию?
— Не надо! — погрозил мне Бленский тонким пальчиком с синеватым ноготком. — Я очень многих знаю камээсовцев. У меня хоть должность еще та и пить спирта приходится много, чтобы мозгами не поехать, но со мной многие хотят иметь отношения. Так зачем пришел, Вакула?
— У меня несчастье, — сказал я, и голос, как ни странно, звучат искренне и трагично. — Погиб мой сослуживец по Афгану.
— Кто такой?
— Локтев.
— Ах, Локтев! Не знал я, что вы служили вместе в Афгане. Там он, — сказал Бленский и кивнул на стену.
— Можно взглянуть?
Бленский оторвался от стакана и с любопытством посмотрел на меня.
— А в обморочек мы не хлопнемся? У нас нервишки крепенькие?
Мы вышли в коридор, пошли в его самую темную часть. Бленский провел рукой по стене, нашел включатель, зажег тусклую лампочку и открыл металлическую дверь.
Зал немного напоминал душевую, потому как был отделан белым кафелем. Вдоль стен стояли каталки, под потолком висел мощный светильник, посредине стоял стол с никелированными инструментами.
Локтев лежал у окна на каталке, накрытый пожелтевшей простыней. Простыня была коротка, ее не хватило на ноги. Комок застрял у меня в горле. Хотелось откашляться, но я боялся нарушить тишину. Покойник в морге — совсем не то, что на поле боя.
Бленский подошел к телу, приподнял простыню. Иссиня-белое лицо, полуоткрытый рот, полуприкрытые глаза. Казалось, Локтев что-то не договорил, что-то не доделал.
— А куда… он стрелял?
Бленский обнажил грудь. Под левым соском чернела дырочка.
— В сердце. Из табельного «Макарова».
— Навылет?
— Нет. Так и лежит с начинкой. Судмедэксперт еще не работал… Здоровый мужик был, да?
Здоровый — не то слово, подумал я. В Афгане выжил, на берегу Пянджа выжил. Выбрался в Душанбе, куда доносятся лишь отголоски войны и где, казалось бы, можно планировать свою жизнь на годы вперед. И вдруг — выстрел в сердце.
— А это не ошибка? — спросил я.
— В каком смысле? — не сразу понял Бленский. — Что он сам себя?.. Нет, исключено. Я хоть и не спец, но скажу: таких ран я еще не видел. Это не боевая, это рана самоубийцы. Видишь, вокруг отверстия розовый кружок? Это след ожога, он остается только тогда, когда ствол прижимаешь к телу.
А когда стреляют с расстояния, то у пули почерк совсем иной. Да и кабинет был заперт изнутри, внизу дежурный сидел.
«Почему я не хочу поверить в то, что это самоубийство?» — думал я, следом за Бленским выходя в коридор. Может, потому, что мои мозги уже насквозь криминализированы, как у какого-нибудь старого сержанта из Скотленд-Ярда. Если бы его убили, мне легче было бы воспринять эту смерть — логичную, ожидаемую и предсказуемую, и я вновь чувствовал бы себя охотником, окруженным стаей волков. А самоубийство — это что-то непредвиденное, относящееся к совершенно иной области, не имеющей ничего общего с преступностью, на которой я уже просто зациклился. Наверное, это как-то связано с совестью… А этот Бленский, в общем-то, неплохой парень. Зря я так к нему.
Мы вернулись в кабинет. Я сел за стол и залпом выпил остывший чай.
12
Два «ГАЗ — шестьдесят шестых», крытых брезентом, выехали на бетонку и остановились у арыка, коричневая гладь которого морщилась рябью от надрывного стона лягушек. Тент не давал тени и не приносил прохлады, и я спрыгнул с кузова на бетонку, отошел подальше от смрада протухшей воды и, прикрывая глаза ладонью, стал рассматривать самолеты, дрожащие в раскаленном воздухе.
Встречать военный борт — дело неблагодарное. У военной-авиации нет расписания, самолеты взлетают по команде начальников, в полете могут неожиданно изменить курс, приземлиться совсем не в том аэропорту, где их ждут. Я был готов к этому и настроился на долгое ожидание.
В тени широкого крыла припаркованного «Ила» было легче, но из-за шасси неожиданно показался одуревший от жары часовой и издал какой-то отпугивающий звук. Пришлось вернуться к машине и сесть на бетон, напоминающий раскаленную сковородку, в тени колес.
В отличие от взлета посадка у самолетов не сопровождается диким ревом, и я не заметил, как тяжелый грузовой «Ил», напоминающий дельфина, коснулся колесами посадочной полосы, и только когда с тихим свистом он подкатил к стоянке, бросив гигантскую тень на грузовики, я вскочил на ноги.
Несколько офицеров из числа встречающих медленно шли к рампе, открывающейся черным зевом. Под крыльями проскочили два зеленых «УАЗа», с визгом тормознули.
Я тоже пошел к «Илу», оглядываясь на рулежку, по которой к самолету подъезжали автомобили. Серебристого «Ниссана» не было.
По рампе стали спускаться люди: офицеры в камуфляже, великовозрастные солдаты с измученными пьянкой и полетом лицами, гражданские, навьюченные сумками и чемоданами. Расталкивая прилетевших, я поднялся в прохладную утробу самолета, встал с краю, чтобы не мешать.
Своеобразный запах самолета, не похожий ни на какой другой, вызвал в душе букет чувств. Вдруг мучительно захотелось нагрузить себя сумками и чемоданами, зайти поглубже в утробу «Ила», — занять место на скамейке, где-нибудь поближе к иллюминатору и через некоторое время оторваться от этой знойной земли, глянуть сверху на нее в последний раз и навеки забыть — вместе с грохотом автоматных очередей, взрывов мин, со стонами раненых и трупами, завернутыми, как леденцы, в фольгу, и думать уже — только о том, что впереди — о пронзительно-синем море, смехе чаек, визге детей на переполненных пляжах и брызгах пенящихся волн, напоминающих брызги шампанского.
Большая часть пассажиров уже вышла. Техники скидывали крепежные сети с ящиков, стоящих в середине салона, готовили к выгрузке багаж. Беспрерывно сигналя, к рампе задним ходом подъезжал грузовик, солдаты, сидящие в кузове, откинули крышку борта. Кто-то бесцеремонно кинул мне картонную упаковку. Я поймал ее и передал солдатам на грузовике. Одной упаковкой дело не закончилось, и мне, чтобы не привлекать внимание, пришлось некоторое время заниматься погрузкой. Я увлекся и не сразу заметил, как к рампе подрулил серебристый «Ниссан».
— Черт возьми! — закричал какой-то экзальтированный военный с голым торсом, когда я, поправляя на себе куртку, спрыгнул на бетон, — Все на хрен разбежались, а грузить кто будет? Мне, что ли, это больше других надо?
Я обошел грузовик, застегнулся на все пуговицы и вошел в образ только что прилетевшего пассажира, которому все здесь в новинку, и он понятия не имеет, куда идти и что делать дальше.
Дверца микроавтобуса отъехала в сторону, из него показался бритоголовый человек в солнцезащитных очках. Он сам подошел к мужчине с чемоданом, который стоял в тени крыла и озирался по сторонам. И все повторилось, как в прошлый раз: бритоголовый о чем-то спросил, мужчина достал из нагрудного кармана договор, тот просмотрел бумаги, подхватил чемодан и показал на микроавтобус.
Кажется, он больше никого не встречал. Я поторопился подойти. Играть излишнюю нервозность не было необходимости, так как я нервничал сам по себе и вполне естественно, потому как не верил в успех и вынимал из кармана поддельный договор как гранату.
— Секундочку! — крикнул я бритоголовому, который уже поднял ногу, чтобы зайти в «Ниссан» следом за мужчиной. Тот повернулся в мою сторону. — Наверное, мне к вам, — сказал я, протягивая договор.
Я понял, что человек в очках удивлен. Он не спешил взять из моих рук сложенный вчетверо лист, мельком посмотрел по сторонам, затем — снизу-вверх — на меня. Я должен был что-то сказать.
— Наверное, вы меня не ждали. Я должен был вылететь через неделю, но так сложились обстоятельства…
Бритоголовый взял лист, развернул его. Я не видел его глаз и не знал, в каком месте он читает, на каком слове его взгляд остановится. Мне казалось, что он смотрит в договор слишком долго. Это только первый лист, думал я, а он получился лучше, чем второй, где стоит печать. Она-то вышла просто безобразно.
Бритоголовый не стал смотреть второй лист, поднял голову:
— В охрану? — спросил он.
Я кивнул.
Он спрятал договор в карман и показал рукой на дверь автомобиля.
— А ваши вещи?
— У меня нет вещей, — ответил я, заходя в салон и думая о том, когда меня пристрелят: по дороге иди по прибытии на место?
Дверь захлопнулась. Я сел рядом с мужчиной, прилетевшим этим самолетом и, как коллега коллеге, пожал ему руку. Бритоголовый расположился напротив, откинулся на спинку, широко расставил ноги. Как я ненавижу темные очки! Куда обращен его взгляд? Под ноги, в окно или на меня? А может быть, он уже спит?
На окнах дрожали желтые шторы. Я попытался сдвинуть в сторону одну из них, но бритоголовый коротко приказал:
— Не трогать!
Серьезный парень! Я стал смотреть вперед. Часть лобового стекла я видел между спинками кресел и некоторое время пытался запоминать дорогу, но очень быстро понял, что это совершенно бесполезное занятие. В этом светлом пятне я видел лишь серую ленту, мелькающую, как поверхность точильного камня.
Я откинулся на спинку и стал наслаждаться быстрой и бесшумной ездой. Когда я корпел над листом бумаги, рисуя по памяти логотип и печать договора, то совсем не думал о том, как буду выпутываться из той ситуации, в которую так хотел вляпаться. И вот бритоголовый клюнул на мою подделку (или сделал вид, что клюнул!), и мы мчимся черт знает куда. Я кинул себя в неизвестность, не думая о том, в какой степени рискую жизнью. Никто, кроме Анны, которой я несколько часов назад отправил короткое письмо, не будет знать, что я затеял.
— Долго ехать? — спросил я бритоголового.
— Узнаешь, — нехотя ответил он.
Мужчина, сидящий рядом со мной, был не в настроении и недружелюбно косился на меня.
— А вы не знаете, — продолжал я нести какую-то ахинею, — аванс нам выплатят сразу?
Этот вопрос я адресовал обоим, но бритоголовый вообще не отреагировал на него, а недавний пассажир самолета пожал плечами и пробормотал:
— Дай бог, чтобы вообще заплатили.
Вскоре бритоголовый повернулся к водителю и, хлопнув его по плечу, сказал:
— Останови! — Затем повернулся к нам и добавил: — Выходите!
— Разве мы уже приехали? — спросил я.
— Без разговоров! — со скрытой угрозой в голосе повторил он и положил правую руку на бедро, словно хотел показать, что готов вытащить оружие.
Мужчина схватился за свой чемодан, но бритоголовый прижал его ногой к полу.
— Это можно оставить.
Я вышел первым. Машина стояла на обочине дороги. За покрашенным известью ограждением начиналась бездна. Вокруг нас громоздились горы. Я сбросил в пропасть камешек. Мой, так сказать, коллега, вышел из автомобиля лишь наполовину: голова его все еще оставалась в салоне, и он смотрел, как бритоголовый перебирает его вещи.
— Это что?
— Нож. Консервы открывать, да мало ли еще для чего…
— Не положено, — перебил бритоголовый и швырнул нож в открытую дверь. Тот пролетел над моей головой и исчез в бездне.
— Что вы делаете? — начал было возмущаться мужчина, но наш гид поднес к его носу маленькую коробочку.
— А это что?
— Станок для бритья.
— Запрещено! Вас что, не предупреждали?
Коробочка последовала за ножом.
— Э! э! Вы что?! Чем, по-вашему, я теперь должен бриться?
— Отращивайте бороду.
— Это просто какой-то бандитизм! — Мужчина повернулся ко мне, словно искал защиты или, на крайний случай, сочувствия. — Говорили, что солидная фирма, а что позволяют себе!
Бритоголовый закончил обыск чемодана, защелкнул замки и вышел из машины.
— Руки за голову! — рявкнул он и, пока мужчина раскрывал от удивления рот, быстро обыскал его с ног до головы.
Наступила моя очередь. Не дожидаясь грубых слов, я сделал «руки за голову» и широко расставил ноги. Карманы мои были пусты, и бритоголовый долго не задержался около меня.
— В машину!
Мы вернулись на свои места и поехали дальше. Бритоголовый разлегся на обоих сиденьях сразу, и теперь я не мог видеть даже небольшой части лобового стекла. Машину кидало из стороны в сторону, то мой сосед наваливался на меня, то я на него. Похоже, что мы мчались по крутому серпантину горной дороги.
— Вы химик? — спросил я соседа.
Бритоголовому, кажется, не понравилась моя любознательность, и, прежде чем сосед утвердительно кивнул, он поморщился, оскалил зубы и буркнул:
— Много болтаешь.
Он стал меня раздражать. Чувство скованности, которое овладело мною после того, как я сел в машину и за мной захлопнулась дверца, прошло. Я освоился, успокоился, и этот невежливый надзиратель уже не внушал опасения. Я понимал, что это опасное заблуждение, что человек в черных очках, сидящий напротив нас, наверняка вооружен и наделен большими полномочиями, что мне, имеющему такое слабое прикрытие, как грубо подделанный договор, следовало бы вести себя более смирно, но тем не менее с трудом подавлял в себе желание назвать бритоголового каким-нибудь непечатным словом и въехать ему по самоуверенной физиономии.
— А мы разве уже перешли с тобой на «ты»? — спросил я.
Он несколько мгновений пускал солнечные зайчики своими дурацкими круглыми очками, двигал желваками, потом ответил:
— Если тебе что-то не нравится, могу высадить.
— Мне не нравится, что ты все время хрюкаешь, будто много лет провел в свинарнике.
— Привыкнешь, — убедительно сказал бритоголовый и криво усмехнулся.
Я уже всерьез обдумывал вариант, как двинуть ему в челюсть. За оружие он не схватится, в этом я был почти уверен. Мимо нас все еще часто проносились встречные машины, значит, мы еще не оказались в безлюдном районе, где можно творить все, что угодно. К сожалению, хорошему замаху мешал сосед, а бить надо было наверняка и серьезно.
Сосед интуитивно почувствовал, что я стремительно распаляюсь и что это может создать угрозу его безопасности, и поспешил развить миротворческую деятельность.
— Господа! — звонко и даже визгливо обратился — он к нам. — Происходит какое-то недоразумение. Наше сотрудничество только началось, а мы уже начинаем конфликтовать. — Он повернулся к бритоголовому. — Мы очень благодарны, что нас, специалистов, вы встретили, везете к месту работы на такой прекрасной машине, и сразу чувствуется почерк солидной и серьезной фирмы…
— Заткнись! — очень конкретно прервал его представитель серьезной фирмы.
Миротворец так и застыл с открытым ртом. Он покраснел, потом побледнел, и на его лбу выступили капельки пота. Химик одним словом! А «фирмач» тем временем вынул из кармана голубенькую коробочку со жвачками, щелкнув пальцами, ловко подкинул белую подушечку и поймал ее ртом.
— Запомни, — сказал он, чавкая и перекатывая жвачку по рту, — что ты не специалист, а лошадь бельгийская, и будешь делать все, что я тебе прикажу.
— Позвольте, — попытался возмутиться специалист, — но в договоре четко расписаны все права и обязанности сторон…
Бритоголовый неожиданно и довольно ловко выхватил из-за пояса длинноствольный револьвер, ткнул им специалиста в горло и, приблизившись к нему, с садистским наслаждением проговорил:
— Свои права, урод, можешь засунуть себе в задницу. Все твои права остались в самолете. Здесь я определяю, что ты будешь делать, а что нет. Ты хорошо меня понял?
Я, закинув ногу за ногу, спокойно наблюдал за этим банальным проявлением современного хамства. К счастью, я и не ожидал ничего другого, затевая всю эту авантюру с подделкой договора. Этот несчастный химик, как и Гурьев, будет наказан за жадность, потому как не уяснил, а точнее, не захотел уяснить окончательно и бесповоротно, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке. Если бывшему и довольно посредственному сотруднику какого-то затхлого НИИ вдруг предлагают пять тысяч долларов в месяц за неизвестно какие заслуги, то надо быть готовым к тому, что вместо выплаты долларов будут бить морду.
Химик сник, голова его безвольно упала на грудь. Вид пистолета одномоментно лишил его не только красноречия, но и дара речи вообще. Представитель солидной фирмы, очень довольный собой, сунул пистолет за пояс и снова откинулся на спинку, а ноги на этот раз положил на наше сиденье рядом с химиком.
Минут десять мы ехали молча. Химик вообще перестал подавать признаки жизни. Его самолюбие было растоптано, и он ушел в себя, отыскивая в глубинах души остатки собственного достоинства. Мне стало жалко этого человека. В отличие от него я давно привык к криминальной морали и соответствующему образу жизни и относился к подобным демонстрациям силы уже спокойно. Химика же наверняка в ближайшем будущем ожидало нечто ужасное: унижения, побои, полное разочарование в жизни. Подписав договор, он, должно быть, возвращался домой словно на крыльях, счастливый, довольный собой, уверенный в завтрашнем дне, свысока поглядывая на своих сограждан, толпящихся в метро. Он уже планировал будущее и видел себя за рулем новой машины, и в дверях новой квартиры, и на крыльце загородной виллы. Он мысленно повторял себе: «Я верил, верил, что меня заметят и по достоинству оценят! Такие специалисты, как я, на дороге не валяются». Эта вера умрет последней.
— Мне надо выйти, — сказал я.
Бритоголовый поморщился.
— Приспичило?
— Ага.
Не поворачиваясь к нам спиной, он откинул руку назад и хлопнул водителя по плечу.
— Тормозни! Тут у одного недержание.
Водитель прижал машину к обочине. Бритоголовый сдвинул дверь в сторону и кивнул головой. Я вышел, посмотрел по сторонам. Под ногами лежала серая грунтовка, извилистой лентой поднимающаяся в горы. Безжизненные, голые горы, похожие на гигантские кучи строительного мусора, возвышались со всех сторон.
Я встал у сдвинутой в сторону двери. Мотор урчал на холостых оборотах. Водитель нетерпеливо постукивал ногой по педали акселератора, и меня обволакивало удушливым угаром.
— Ты там что, умер? — раздался из салона голос бритоголового.
Я промолчал. Он высунул голову из машины и посмотрел на меня.
— Сколько можно, ишак?
Я толкнул дверь влево. Она, словно шторка фотоаппарата, заскользила по пазам, ударила бритоголового в грудь и прижала его к борту. Он успел подставить руку, защищая от удара горло. Его зажало, как волка из мультфильма дверями троллейбуса. Он захрипел, попытался сдвинуть дверь, но я налег на нее всем телом, вдобавок схватил представителя серьезной фирмы пальцами за нос, и лишь потом отпустил дверь, и когда тот стал вываливаться наружу, ударил его головой о борт.
— Я привык, чтобы со мной разговаривали вежливо, — сказал я ему, придавив его локтем к машине, и, не давая опустить руку к поясу, выхватил пистолет. — Ясно?
Бритоголовый послушно кивнул. Я отвалился от него, выковырял из барабана патроны и выкинул их в пропасть.
— Возьми свою игрушку, — сказал я, протягивая бритоголовому пистолет.
Он поправил очки, съехавшие на нос, выхватил у меня револьвер и затолкал его за пояс.
— Я очень не завидую тебе, — сказал он, заходя в машину.
Химик смотрел на меня тяжелыми от ужаса глазами. Ну вот, подумал я, кажется, я подписал себе смертный приговор. Но, видит бог, я не мог сдержаться.
13
Еще не меньше часа мы тряслись по полному бездорожью и время от времени припечатывались макушками к потолку кабины. В чемодане химика разбилось все стеклянное, и на каждой колдобине доносилось звяканье осколков.
Мы остановились у шлагбаума. Открылась дверь, и в салон заглянул здоровенный детина, упакованный в бронежилет. Держа автомат в левой руке стволом вверх, он пожал руку бритоголовому, кивнул на нас и спросил: — Оба спецы?
— Этот в охранку, — ответил бритоголовый, показав на меня.
Детина вскинул белесые брови и наморщил лоб.
— Откуда? Почему один?
— Не знаю, — пожал плечами бритоголовый. — По договору.
— Ну ладно, вези, там пусть с ним разбираются! — И задвинул дверь.
Мы миновали шлагбаум и выехали на ровный асфальт. Водитель переключил скорость, и машина плавно, как по воде, заскользила между скал. Через несколько минут будет ясно, как долго я еще проживу, подумал я, поглядывая на злую физиономию бритоголового. Одного врага я уже заполучил, и он при первом удобном случае сделает из меня дуршлаг.
Плохо, что у охранника я уже вызвал подозрение, хотя наивно было бы надеяться на иное развитие событий. То, что я почти приехал к месту назначения, — редкая, невероятная удача.
«Ниссан» остановился. Я убрал с окна занавеску и увидел бетонный забор, поверх которого бежала спираль Бруно. Справа и слева — вышки. Лязгнул замок, и массивные глухие ворота медленно разошлись в стороны. Мы въехали на территорию зоны.
Химик взялся за свой чемодан. Я заметил, что руки его дрожат, а взгляд бегает от окна к окну. Он отодвинулся от меня, боясь моей непредсказуемости и обреченности, не смотрел на меня и не хотел никакого общения. Он уже был готов к унижениям, к подзатыльникам, к пистолетному стволу, прижатому к голове, и намеревался всеми доступными способами выпрашивать пощаду и надежду на жизнь.
Бунтарство типа моего он исключил сразу, безоговорочно и навсегда.
Мы развернулись вокруг клумбы, где стояла группа людей в белых халатах и шапочках, и остановились. Дверь распахнулась. В салон заглянул толстый господин, посмотрел на нас с химиком, губы его растянулись в улыбке, и он приятным голосом сказал:
— Добро пожаловать! Милости просим!
Химик, обрадовавшись тому, что вместо окрика к нему обратились вежливо, заторопился с чемоданом наружу. Бритоголовый, тарабаня пальцами по подлокотнику, ждал, когда я последую за химиком.
Яркий свет на некоторое время ослепил меня, и я не сразу рассмотрел то, что меня окружало. Клумба, дорожки, присыпанные гравием, чахлые деревья, капитальные и сборно-щитовые строения, с окнами и без них, напоминающие ангары и блиндажи. А вокруг — бетонный забор, «колючка», вышки.
Толстяк взял химика под руку и повел к группе людей в белых халатах, стоящих поодаль. Химик бросил на меня прощальный взгляд, в котором опять светилась надежда и немой укор: «Вот видите, я не ошибся, здесь хорошие люди, и меня ценят, а вы только провоцируете их на грубость».
Бритоголовый подвел меня к человеку в униформе. Черные очки, усы и бородка прикрывали часть его лица. На черном берете тускло сияла какая-то эмблема, похожая на разбившуюся о пол и застывшую каплю олова. Человек скрипнул портупеей и протянул руку в сторону бритоголового, не поворачивая головы. Представитель серьезной фирмы дал ему мой договор.
— Фамилия? — спросил человек, мельком взглянув на договор, на печать и подписи.
— Вацура.
— Откуда прибыл?
— Из Крыма.
— С кем подписывал договор?
— Я не запоминаю фамилий всех клерков и слуг, которые подают мне перья и бумаги.
— Я спрашиваю, кто взял тебя на работу?
— Князь.
Человек в униформе сделал паузу. Лицо его, гладко выбритое, но исполосованное глубокими складками, похожими на многочисленные шрамы, оставленные саблей, оставалось неподвижным, в его солнцезащитных очках отражалась моя небритая физиономия, похожая на мохнатую грушу. Я чувствовал себя стрелком-спортсменом. Выстрел я уже произвел, но попал ли в «десятку» — мог узнать лишь несколько секунд спустя.
— Где рекомендация?
В эти минуты я врал как никогда ловко и снова ответил, почти не задумываясь:
— Рекомендацию дал мне Серж. Но… но по известным причинам она уже не актуальна. Князь предложил мне работу, когда мы встретились на поминках Сержа. Вас должны были известить о моем приезде. Договор, естественно, — филькина грамота, он был нужен лишь для этого олуха, — и я кивнул в сторону бритоголового.
— Дед, он позволяет себе слишком много! — прорычал бритоголовый, делая шаг в мою сторону и сжимая кулаки. — Разреши отбить ему селезенку!
— Стоять! — коротко приказал Дед, и бритоголовый застыл в метре от меня. — Рекомендации нет, — вкрадчивым голосом произнес он, — договор фиктивный… Откуда мне знать, кто ты?
— Свяжись с Князем, — вздохнув, ответил я и подумал, что если Деду это сделать несложно, скажем, при помощи космической связи, то мне пора уже подумать о том, как дороже продать свою жизнь.
— Свяжусь, — ответил Дед и повернул голову к бритоголовому: — Отведи его в пятый корпус.
Я мысленно вздохнул с облегчением и поплелся за бритоголовым. Значит, Дед — мой новый начальник. Сколько начальников у меня было только за последний месяц — со счета сбиться можно. И каждый руководил мной, демонстрировал свой опыт и ум, принимая меня всего лишь за скромную скрипку в оркестре, которым дирижировал.
Мы прошли по дорожке, по краям которой засыхали от безводья жалкие кустики. Бритоголовый, не рискуя идти впереди меня, старался держаться плечом к плечу, но для двоих дорожка была слишком узка, и его постоянно сносило к обочине.
— Я тебе вот что скажу, — произнес он вполне миролюбиво. Полагаю, что он демонстрировал свою прыть и грозился что-то мне отбить не столько от личной неприязни, сколько от желания покрасоваться на глазах у начальства. Оставшись наедине со мной, он сразу вспомнил, как больно быть зажатым дверью. — Я тебе вот что посоветую, — повторил он. — Здесь платят большие деньги за то, чтобы помалкивали, меньше совали свой нос в чужие дела и делали то, что приказывают. А кому не нравятся наши порядки, тех уносят отсюда ногами вперед.
— Послушай, — ответил я ему, широко зевнув. — Я болен СПИДом, жить мне осталось всего месяц. А ты пугаешь меня какой-то ерундой.
Бритоголовый шарахнулся от меня в сторону, налетел на куст и пропустил его у себя между ног. Он испугался слишком явно, и ему стало стыдно.
— Понаставили тут кустов! — выругался он, отряхивая ширинку, утыканную рыжими иголками. — Пройти невозможно…
Больше он мне ничего не советовал, молча кивнул на щитовой домик с плоской крышей и зарешеченными окнами и круто повернулся в обратную сторону.
Это был гибрид казармы и закусочной. В большой комнате, напоминающей спортзал, вдоль стены стоял ряд коек. Часть из них была застлана синими одеялами, на других лежали горы одежды, автоматы, бронежилеты и каски вперемешку с пустыми бутылками. Коечный ряд был отделен невысокой — до пояса — фанерной переборкой. Вторая половина «спортзала» была заставлена столами на кривых ржавых ножках, без скатертей, с остатками пищи и неимоверным количеством пустых банок из-под пива. Вдоль стены размещалась стойка. За ней — стеллажи с коробками и ящики с бутылками. В зале раздавались крики, выстрелы и громкий гнусавый голос синхронного переводчика — по видео шел фильм, и в креслах напротив экрана, потягивая пиво из банок, сидели мужчины с загорелыми, изрисованными татуировкой торсами. Над ними вился сигаретный дымок.
Я прошел вдоль стойки. Под руку попалась тяжелая, невскрытая банка «Колы», и я прихватил ее. Один из мужчин повернулся, встал, подошел ко мне. Он был очень коротко подстрижен, его худощавое, но мускулистое тело блестело от пота, на левом плече синела татуировка в виде орла, меча и аббревиатуры «ОКСВА» — ограниченный контингент советских войск в Афганистане.
— Новый? — без особого любопытства спросил он меня.
Я кивнул.
— Меня зовут Рэд, я твой командир группы, — сказал он быстро и монотонным голосом, будто произносил заученный текст. — Вопросов не задавать, все, что тебе будет надо, ты узнаешь. Сутки дежуришь на выносных постах, двое суток отдыхаешь. Все, что в баре, — он кивнул на стойку, — твое. Занимай свободную койку. Ходить можешь до отбоя и только от спортивной зоны до клумбы. Все.
Рэд повернулся и снова упал в кресло напротив телевизора. На экране мускулистый мужик, перепоясанный пулеметными лентами, поливал огнем какой-то офис, и мужики в костюмах с дикими криками разлетались во все стороны, словно ими, а не пулями, был заряжен пулемет супермена.
Я выбрал койку поближе к выходу, скинул с нее одеяло, чтобы ее никто больше не занял, хотя вряд ли сегодня можно было ожидать прибытия новых «химиков» или охранников.
Я вышел на воздух, потягивая колу, посмотрел по сторонам и свернул в сторону спортивной зоны. Два десятка перекладин, тренажеры, боксерские мешки и мишени для стрельбы; среди снарядов гнулись, прыгали и размахивали руками люди. Я дважды прошел мимо «качков». Никто не обратил на меня внимания.
Так здесь принято, думал я, это обязательная манера поведения — никто ничем не интересуется. А если попытаться самому пойти на контакт?
Я встал напротив коротышки с узкими, как у корейца, глазами, который подтягивался на перекладине и при этом делал такое мученическое лицо, словно перекладина была под напряжением.
— Сколько? — поинтересовался я, когда он спрыгнул на землю.
Кореец поднял голову, подозрительно посмотрел на меня и ничего не ответил. Я не унимался.
— Ты давно здесь?
Кореец почему-то усмехнулся, посмотрел куда-то в сторону и принялся натирать ладони магнезией.
— Тебя как зовут? — продолжал я.
Молчание.
— Слушай, у меня был один знакомый рыбак, Ким его фамилия. Ты случайно не его родственник? Похожи как две капли воды.
Кореец сплюнул себе под ноги и пошел к брусьям.
М-да, поговорили, подумал я, провожая его взглядом. Эдак я ничего здесь не выясню, и через пару-тройку дней вынесут меня отсюда ногами вперед.
Я вернулся к модулю-казарме и пошел по дорожке дальше, к клумбе, возле которой остановился «Ниссан». Оттуда я увидел главные ворота, перед которыми расхаживали два охранника с автоматами на изготовку. Я не стал к ним приближаться, чтобы не давать повод этим церберам проявлять свои худшие качества, и стал кружить вокруг клумбы, рассматривая все, что мог оттуда увидеть.
Для начала я попытался определить размеры этой базы или лагеря, куда меня занесла судьба. Я находился в середине, но ближе к главным воротам метров на сто-двести. Зона, которую мне отвели для прогулки, занимала от силы двадцатую часть от общей территории. Слева, окруженное двумя рядами колючей проволоки, возвышалось серое строение из бетонных блоков. Венчала его черная металлическая труба на растяжках, из которой струился беловатый дымок. Окон и дверей в строении я не увидел. Вокруг него, по периметру, двигались охранники. Рядом с «промзоной», как я назвал это строение, жались друг к другу три фанерных модуля, в которых, возможно, проживали «химики», хотя ни одного человека рядом с ними я не увидел. Дорожку, ведущую от клумбы в «спальный район», пересекал невысокий заборчик, рядом с калиткой стоял охранник. Двое мужчин — один в белом халате, а другой в костюме, вышли из калитки, показав охраннику документы.
Значит, «промзона» вместе с модулями «химиков» отделена от казарм охранников, и контакт невозможен.
Почти каждую свою версию я привык перепроверять и не спеша пошел к калитке. Пока я шел, охранник, казалось, не замечал меня, но едва я прикоснулся рукой к калитке, как он тотчас повернулся лицом ко мне и, вскинув автомат, с бесстрастным лицом направил ствол мне в лоб.
— Назад!
Ага, подумал я, все-таки предупреждает. Это намного лучше, чем если бы он сразу выстрелил.
Я не стал усугублять свой эксперимент и, развернувшись, пошел обратно. Когда я выходил из машины, вспоминал я, у калитки, на другой стороне, стояла группа людей в белых халатах. Они смотрели, кто приехал на «Ниссане». Может быть, это был обеденный или, скажем, производственный перерыв, когда им разрешается выйти из «промзоны» и подойти к забору.
Я пошел по дорожке, идущей вдоль забора, отделяющего жилые модули «химиков». Вообще-то, здесь я не имел права ходить, но коль рядом не было ни охранников, ни Деда, ни Рэда, то почему бы не рискнуть?
Забор низкий — препятствие для дошкольников. Перед ним, с моей стороны, плотные кусты. Если была бы ночь, то перемахнуть на ту сторону — раз плюнуть.
Очередной пост преградил мне дорогу. Охранник, плавящийся на солнцепеке, бродил между припаркованных автомобилей — синим автофургоном, серебристым «Ниссаном» и многочисленных «легковушек». Увидев меня, молча вскинул автомат.
Я поспешил развернуться. Круто их поднатаскали. Без лишних разговоров — выстрел в лоб.
Рэд сказал мне, что я буду дежурить на выносных постах. Что это значит? За пределами зоны, на ее дальних подступах? А почему не на территории зоны? Или здесь доверяют только охранникам со стажем?
Я вернулся к клумбе, посмотрел на «промзону» и увидел, что мимо охранника к жилым модулям идет группа мужчин в белых халатах. Человек десять. Молча, опустив головы, словно их вели под прицелом оружия, они плелись по дорожке. Последнего, кто замыкал группу, я сразу узнал. Гурьев!
Охранник, увидев, что я начал быстро ходить вокруг клумбы, как зверь в клетке, уставился на меня, нервно клацая прицельной планкой автомата. Я не мог крикнуть Гурьеву — неизвестно, к чему бы этот окрик мог привести. Я кашлял, плевался, шаркал ногами, но «химики» не смотрели в мою сторону. Проклятие, какой редкий шанс встретить знакомого человека, и он уплывает из моих рук!
Я остановился, сел на землю и уставился на охранника. Ну, жаба пучеглазая, подумал я, сейчас будем играть в глазелки.
Увидев, что я не предпринимаю больше никаких действий, охранник потерял ко мне интерес и стал бродить вдоль забора. Как только он отвернулся, я, словно пружина, которую накрутили и кинули на стол, подскочил, одновременно подняв руки вверх. Такой пируэт нельзя было не заметить даже краем глаза.
Гурьев посмотрел в мою сторону и, не узнав в первое мгновение, снова уткнулся взглядом себе под ноги. Я в сердцах врезал кулаком по ладони. Но Гурьев снова вскинул голову, замедлил шаги, остановился, повернулся ко мне лицом.
Охранник пылил ногами между нами, поглядывая по сторонам. Нас с «химиком» разделяло не более пятидесяти метров, но это было слишком много, чтобы быстро и негромко обменяться словами. Мы стояли и смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Его глаза молили о помощи. Боль, тоска, страх застыли в них.
Он не мог долго стоять — кажется, «химики» пользовались еще меньшей свободой, чем охранники вне служебного времени, и, все еще глядя на меня, сделал робкий шаг вперед, словно спрашивая: то ли я делаю?
Я вдруг вспомнил о записной книжке и ручке, вынул их из нагрудного кармана, вырвал листок и быстро написал на нем то, что мог придумать в первое мгновение:
«ЖДУ ВАС ПОЛЧАСА СПУСТЯ ПОСЛЕ ОТБОЯ В КУСТАХ, КОТОРЫЕ НА 100 М ПРАВЕЕ ВАС».
Охранник снова уставился на меня. Я сел, незаметно скрутив листок на манер папиросы и, зажав его между пальцев, поднес к губам. Охранник не отрывал от меня взгляда. Я «покурил» еще немного. Гурьев медленно брел по дорожке. Черт возьми, куда его несет! Я опустил руку вниз, делая вид, что тушу окурок о камень, и незаметно затолкал первый попавшийся камешек в «папиросу», загнул края бумаги. Долетит, подумал я, взвесив свой снаряд на ладони.
Гурьев, кажется, понял, что я хочу сделать, остановился и вприсядку стал завязывать шнурки. Охранник начал пасти его. Я быстро осмотрелся по сторонам. Кажется, поблизости никого.
Я несильно размахнулся и запустил камень в обертке через забор. Не дожидаясь, пока тот приземлится, быстро пошел по дорожке к своему модулю. Через десять шагов остановился и оглянулся. Охранник провожал меня взглядом. Гурьев за его спиной лихорадочно заталкивал записку в карман брюк.
14
При входе в модуль я едва не налетел на Рэда. Широко расставив ноги и сунув руки в карманы, он стоял перед молодым охранником и не очень приятно улыбался.
— Ситуация изменилась, — говорил охранник Рэду. — И я плевал на ваши порядки.
— Ты подписал договор, — пророкотал Рэд.
— Твой договор — бумажка, которой нельзя воспользоваться даже в сортире! — Охранник сжал кулаки. На его оголенной груди подрагивала кожа — в том месте, где билось сердце. Кулончик на черном шнурке раскачивался, словно маятник Фуко.
— А вот это ты напрасно. Мужчина должен отвечать за свои слова и поступки, — ответил Рэд, взглянул на меня и пожал плечами, мол, не принимай близко к сердцу наши производственные споры.
— Я еще раз предлагаю тебе разойтись по-хорошему. Меня здесь все равно не удержишь. А будешь наглеть — я про ваше так называемое оборонное предприятие сообщу журналистам. Они разберутся, кто вы такие и чем здесь занимаетесь.
— А языком не подавишься, мальчик?
Охранник вместо ответа схватил Рэда за горло, подтолкнул к стене и, удерживая его на вытянутой руке, произнес:
— Слушай меня внимательно, дерьмо! Я не люблю, когда со мной такие шутки шутят. И слов на ветер я не кидаю. Будешь стоять на моем пути — придушу, как щенка. Хорошо меня понял, вождь краснокожих?
Рэд открыл рот, напряг шею, попытался выкрутить руку, но хватка у охранника была мертвой. Вдобавок он с короткого размаха ударил Рэда в солнечное сплетение.
Я прыгнул на охранника, наваливаясь на него корпусом, и он разжал пальцы, отступил на шаг от Рэда, но тотчас заехал мне кулаком по носу. Я не ожидал такого стремительного и точного удара, и на мгновение потерял ориентировку. Охранник обязательно бы добавил слева, но Рэд почувствовал свободу и двинул охраннику ногой в пах.
Парень сложился вдвое, и мы с Рэдом уже без особых усилий повалили его на пол, скрутили руки и связали их за спиной брючным ремнем, который Рэд мгновенно стянул с себя.
— В умывальник его! — хрипло скомандовал Рэд, и мы поволокли обмякшего охранника по коридору, заливая пол кровью, которая, как из крана, хлестала из моего разбитого носа.
— Ну что, мальчик, очухался немного? — спросил Рэд, склонившись над охранником, которого мы затащили под раковину, и теперь он лежал на кафельном полу, поджав к животу ноги.
Я плеснул ему в лицо воды. Охранник дернулся и процедил:
— Уроды! Вы у меня до конца своей жизни кровью мочиться будете.
— Пусть поваляется и остынет немного, — сказал Рэд, затем, склонившись над охранником, ощупал его карманы и вытащил связку ключей. Хлопнул меня по плечу: — Идем со мной!
Я намочил под краном платок, прижал его к носу и вышел вслед за Рэдом. Мы зашли в его канцелярию, представлявшую собой убогую комнатушку, стены которой были обклеены вырезками из журналов с различными частями женского тела; на спинке койки висел «Калашников» с укороченным стволом и складным прикладом; на столе — папки, полевой телефон, стопки бумаг, пепельница, доверху наполненная окурками; в форточку был врезан кондиционер, а на нем, охлаждаясь в потоке ледяного воздуха, дрожали винные бутылки.
Рэд запер дверь на два оборота, кивнул на койку:
— Садись. Сухого винца выпьешь? Ты, насколько я понял, тоже в Афгане служил? В какой дивизии?.. Слушай, но этот парень — подонок, да?
Он задал мне сразу столько вопросов, что я не знал, на какой отвечать, и вообще промолчал. Рэду, собственно, ответы и не были нужны. Он встал на стул, снял с кондиционера начатую бутылку и поставил ее на стол.
— Он захотел на волю, а отработал только месяц, — говорил Рэд, расставляя рядом с бутылкой стаканы. — В семье у него вроде бы непорядок. Но мне плевать на его семью! Есть договор, он обязан его выполнять… Будешь печенье?.. Это уже не первый случай, когда он на меня наезжает. Поганый тип! Я предупреждал его по-хорошему — не понимает… Так в какой ты, говоришь, дивизии служил?
— В Кундузе.
— А, прославленная двести первая? А я в автомобильной бригаде.
— Кабул?
— Он самый… Ну, давай, за то, чтобы мы, афганцы, держались здесь друг за друга. Будешь мне помогать, я тебя не обижу. Договорились?.. Чего молчишь?
— Хочу задать вопрос, но ты запретил.
— А ты думаешь, я сам много знаю? — Рэд выпил, покрутил носом, вытер губы ладонью. — Я сюда сам устроился только ради того, чтобы тюряги избежать — менты уже давно пасли за рэкет. Тогда здесь еще только модули возводили, и меня поставили на охрану строительства. И так же предупредили: меньше знаешь, лучше спишь. Это военный объект повышенной секретности, и всякое любопытство будет расцениваться как шпионаж… Давай, закусывай, бери печенье!.. А мне что еще надо? Жрачка есть, выпивон есть, бабки хорошие платят… Я тебе, парень, вот что скажу: я не знаю, что здесь происходит, кто эти люди в халатах, которых мы пасем. Меня это меньше всего интересует. Но я знаю другое: здесь всем заправляют люди с огромными бабками и связями. У них все схвачено, и местная милиция в этом районе даже носа не показывает. Меня это устраивает. Пока.
— Почему пока?
— А потому, что за все то время, пока я здесь, ни один охранник или «химик» из зоны по своей воле не вышел. Все договоры подписывают на девять месяцев, а первая партия, включая и меня, еще и пяти месяцев тут не отпахала.
— Ты говоришь — по своей воле не вышел?
Рэд понял мой вопрос, но ответил не сразу. Он покрутил стакан в пальцах, уронил его и несильно ударил кулаком по столу.
— Да, это так. Отсюда можно уйти только ногами вперед.
— И многие уже так ушли?
Рэд поднял глаза. Рот его скривился.
— Слушай, парень, а надо ли тебе это знать? Тебя что больше интересует — количество бабок, которые ты здесь заработаешь, или количество трупов, которые отсюда вынесли? Выкинь из головы эти мысли — вот тебе мой совет.
— И его вынесут?
Рэд — это было заметно по его лицу — понял, что я спрашиваю о парне, которого мы кинули в умывальник, но вместо ответа взялся за бутылку, наполнил стаканы и буркнул:
— Давай! За удачу! И чтобы ночи были темней!
Когда я подошел к двери, Рэд остановил меня.
— Возьми! — сказал он, кидая мне связку ключей. — Теперь ты будешь отвечать за продуктовый склад. Он между нашим и четвертым корпусом. Продукты и воду завозят через день, будешь принимать по накладной… Чего ты не радуешься? Знаешь старую солдатскую поговорку — поближе к кухне, подальше от начальства?
* * *
Ночь накрыла зону внезапно и стремительно, как если бы вдруг вырубили освещение. Модули, производственные корпуса, серая стена, увитая «колючкой», вышки с охранниками растворились во мраке, и по земле заструился стылый холод, словно где-то рядом открыли настежь дверь гигантской морозильной камеры.
Я смотрел в окно и монотонно жевал почти безвкусные баночные сосиски «Хот дог». Насколько я понял, лагерники, во всяком случае охранка, питались консервами. Маринованные огурцы, маринованные грибы, консервированные сосиски, баночные голубцы, ветчина, салями, галеты, пепси-кола, пиво… Эти деликатесы могут радовать желудок человека очень недолгое время, после чего к консервам появляется стойкое отвращение. Это я испытал еще в Афгане на собственной шкуре. До сих пор не могу есть сгущенное молоко и кильку в томатном соусе. Перекормили. А вот «Хот дог» надоел мне уже после первой сосиски.
Я взглянул на часы: 23.20. Рэд провел контрольную проверку ровно в двадцать три, и с этой минуты выход из модуля без особой причины был запрещен. Несколько человек, как и я, что-то жевали, сидя за столами или облокотившись о стойку бара, другие сидели у телевизора, дымили сигаретами и смотрели боевик, кое-кто уже спал. Лысый затылок Рэда закрывал мне телевизор, и я никак не мог понять, о чем фильм, и почему его герои все время так пронзительно кричат.
Я выудил из банки третью сосиску, с ненавистью посмотрел на нее и опустил обратно. Нет, этим крахмалом впрок не наешься. Салями неестественно красного цвета тоже не вызывала у меня положительных эмоций. Что-то вы, Кирилл Андреевич, начали перебирать харчами, подумал я и встал из-за стола.
По коридору я старался идти беззвучно, но подошвы ботинок липли к влажному линолеуму, и получался чавкающий звук. Я прошел мимо умывальника. Громко фыркая, над раковиной обливался водой изрисованный татуировкой человек. Следующая дверь — канцелярия Рэда. Я остановился посреди коридора, обернулся. Над бритыми затылками по-прежнему покачивалось облако дыма. На экране телевизора злоумышленники расстреливали заложников и копов. Бритые затылки перед телевизором замерли и подались вперед. Боевик достиг своей кульминации.
Я сделал шаг к двери канцелярии. В конце коридора двигалась тень дежурного. Он караулил входную дверь и следил за работой двух уборщиков, один из которых мыл пол, а второй набивал мусором полиэтиленовый мешок.
Взявшись за дверную ручку, я открыл дверь и проскользнул внутрь. Свет не стал зажигать, чтобы не привлечь внимание охранника, который мог находиться снаружи, под окнами модуля, подошел к кровати, пошарил руками по одеялу, ощупал холодный металл спинки, присел, провел рукой под койкой. Автомата не было.
Я сел на койку, качнулся на пружинах и сразу почувствовал его. Нет, Рэд не оригинален, если прячет оружие под матрацем.
Короткий, похожий на игрушку автомат я затолкал в брюки за спину. Холодный металл уперся мне в позвоночник, идти было неудобно, не говоря уже о том, чтобы согнуться или присесть.
Я повернул к выходу. Охранник уже сидел в кресле, положив ноги на стол, и перелистывал журнал.
— Куда? — спросил он, не поднимая головы.
Я вынул из кармана ключи и звякнул ими.
— Тебя что, не предупредили? — спросил я.
— Насчет чего?
— Мне надо на склад.
— А-а, — протянул он. — Ты теперь вместо этого… Ну, валяй!
Я потянул на себя засов. Он заскрежетал, и этот звук могли услышать в зале, если в этот момент телегерои прекратили стрельбу и вопли. Надо было торопиться. Я толкнул дверь, но она не дрогнула.
— Шпингалет! — подсказал охранник.
Чтобы поднять шпингалет, наполовину утонувший в бетонном полу, надо было нагнуться, чего я сделать не мог — мешал автомат. Тогда я попытался подцепить его ногой.
— Ну, ты нажрался, парень! — сказал охранник.
После недолгой борьбы со шпингалетом я вышел на воздух. Асфальтовая дорожка, ведущая к центральной клумбе, была ярко освещена фонарями, и я метнулся в сторону, в плотную тень, перебежал ближе к кустам, упал в сухую траву и пополз на огни жилых корпусов «химиков», а когда ближайшая наблюдательная вышка скрылась за рядом деревьев, темной стеной выросших передо мной, снова поднялся на ноги и побежал к тому месту, где назначил Гурьеву встречу. Он не придет, он не сможет, думал я, пригибаясь под ветвями деревьев и высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться в кромешной темноте, и все-таки зацепился за что-то и повалился в сухую траву, машинально вытянув руки впереди себя.
— Что вы гремите ботинками, как конь, черт вас подери! — услышал я рядом голос Гурьева и почувствовал его руку на своем плече.
15
— Идите за мной! — прошептал он. — Выбрали же вы место…
Мои глаза еще не привыкли к темноте настолько, чтобы я мог отчетливо видеть Гурьева, как наверняка видел он меня. Черное пятно, каким он казался мне, двинулось куда-то через заросли кустарника. Одному богу известно, как он ориентировался в полном мраке, и, чтобы не потерять его, я схватил Гурьева за плечо.
Мы спустились в какой-то овражек или промоину, плотно заросшую колючими худосочными деревьями, которые нещадно царапали кожу и цеплялись за одежду. Гурьев сел на землю, потянул меня за штанину. Только сейчас я стал различать отдельные черты его лица и одежду. На нем был темный спортивный костюм и вязаная шапочка.
— Ну вот, — прошептал он. — Здесь намного спокойнее, хотя и не совсем безопасно для здоровья. Но, как говорится, когда рубят голову, не плачут по волосам.
— Что вы имеете в виду?
— В эту яму мы сливаем всевозможные отходы, в том числе соляную кислоту и реактивы, содержащие ртуть. Зато охранники стараются держаться подальше от этого места… Простите, я до сих пор не знаю, как вас зовут?
— Кирилл.
— Кирилл, — повторил он, словно прислушиваясь, как звучит имя на слух. — Что ж вы, Кирилл, такой неосторожный? С ума сошли, что ли — записки перекидывать через границу поста? Эти парни могут выстрелить без предупреждения и на поражение.
— Это был единственный шанс как-то связаться с вами.
— Ну, это вам так кажется. Есть много вариантов. Дождались бы, например, когда вас поставят в производственный цех — там бы мы могли незаметно перекинуться несколькими фразами.
— Вы считаете, что я приехал сюда надолго?
— А вы думаете, что через неделю вас отпустят?.. Эх, дорогой мой! Когда мы встретились с вами в самолете и я стал жаловаться вам, что вынужден подписаться под драконовскими условиями, то даже не предполагал, что ждет меня здесь… Чувствуете резкий запах?.. Это то, о чем я вам говорил. Но не волнуйтесь, это не смертельно. Старайтесь дышать ртом.
— Чем вы здесь занимаетесь?
— Производим героин высочайшего качества! Возрождаем, так сказать, отечественную фармакологию, — он усмехнулся. — А вы давно здесь? И вообще — как вы сюда попали? Если не ошибаюсь, вы собирались служить в армии.
— Планы изменились, — ответил я уклончиво.
— Ну да, конечно, — задумчиво произнес Гурьев. — План не догма, а руководство к действию.
Он замолчал, задумавшись о чем-то своем. Я понял: он насторожился, не зная, можно ли доверять мне, потому как мое появление в зоне, в самом деле, выглядело достаточно странно.
— Анатолий Александрович, — сказал я, опустив — ладонь ему на плечо, но Гурьев не дал договорить:
— Вы помните, как меня зовут?
— У меня хорошая память. Это профессиональное качество.
— Так кто же вы на самом деле, загадочный Кирилл?
— Можете считать, что я работаю на службу безопасности в отделе борьбы с наркобизнесом.
— Ежели это в самом деле так, — ответил Гурьев, — то вы попали в самую «десяточку».
— Ошибаетесь, — поправил я его. — Это — не «десяточка». И даже не «восьмерочка».
— А что ж в таком случае «десяточка»? — удивился Гурьев.
— Руководящее звено, у которого в руках связи, деньги и власть.
Гурьев усмехнулся.
— Вот вы куда нацелили! Но мне кажется, что вы никогда не доберетесь до таких вершин. Вы сказали — звено. Но зона — не звено в том смысле, как мы привыкли это понимать. Это остров в океане, а все связи с большой землей такие призрачные и невидимые, что вам вряд ли удастся их нащупать.
— Почему вы так решили?
— Потому что отсюда невозможно уйти, следовательно, и проследить связи.
— Но я же смог проникнуть сюда.
— Вы говорите о совершенно разных вещах. В концлагерь попасть всегда проще простого. А выйти живым — почти невозможно. Я боюсь думать о будущем. Договор будет действовать в течение девяти месяцев, и даже если предположить, что я выдержу это время, то кто гарантирует мне свободу и безопасность в дальнейшем?
— Вы сказали, что занимаетесь производством героина. Вы прослеживаете весь производственный цикл?
— Что вы, Кирилл! Я сижу, так сказать, на выходе, на приемке порошка, и моя задача — контроль качества, чтобы не допустить бракованной партии или наркотика низкого качества. Но даже если я предстану перед судом, то не смогу доказать, что имел дело с героином.
— Я вас не совсем понимаю. Вы сомневаетесь, что производите наркотик?
— Ничуть! Не умаляйте мой профессионализм, я все-таки химик и имею ученую степень. Я говорю вам с точки зрения судопроизводства. Все мы вместе — химики и охранка — легко докажем суду, что занимались производством героина, потому что обрисуем цельный производственный цикл. Кто-то расскажет о доставке сырья, кто-то — о его первичной обработке, кто-то — о первичной очистке, следующий — о гидролизе, пятый — о синтезе, я — о проверке качества, и так далее. Понимаете? Но каждый в отдельности не скажет ничего.
— Неужели так трудно доказать, что вы проверяете качество не зубного порошка, а героина?
— Трудно, мой дорогой, а точнее — почти невозможно. Это только я знаю, что в стальную посудину из форсунки сыплется героин. Но судья этого ведь не видел! Нужна независимая экспертиза, химический анализ, порошок нужно взять, так сказать, на месте выработки — при свидетелях.
— По-моему, вы все усложняете.
— Нет, это вы упрощаете.
— Но разве вы сидите один на приемке?
— Представьте себе, один.
— Сутки напролет?
— Нет, не сутки, а восемь часов. Затем меня сменяет другой контролер. Всего нас двое.
— Вот вы вдвоем и можете доказать, что сидели на приемке героина.
— Вам покажется это невероятным, но мы никогда не видели друг друга и вряд ли когда увидим. На производстве — две смены, и каждая смена живет в отдельных модулях, отдельно питается, отдыхает и идет на рабочие места своим маршрутом. Контактов химиков с охранкой, чтобы доказать единый процесс производства, обеспечения безопасности и транспортировки наркотиков, насколько вы уже поняли, нет. Охранка, как нетрудно догадаться, тоже разрознена на мелкие группы. Вот, к примеру, вас, как новичка, сначала поставят на какой-нибудь выносной пост. Вы будете поднимать и опускать шлагбаум и проверять пропуска. Что вы сможете потом доказать? Тысячи фирм имеют свои охраны и контрольно-пропускные пункты. Наличие службы безопасности вовсе не говорит о криминале и преступном бизнесе.
— Я не совсем вас понимаю, Анатолий Александрович, — прервал я химика. — Кажется, вы изо всех сил стараетесь убедить меня в том, что мне совершенно нечего здесь делать.
— Господь с вами, Кирилл! Я просто поясняю вам ситуацию. Неужели вы не поняли, что я ваш союзник? Рядом со мной работают разные люди. Многим из них совершенно наплевать на то, что именно они производят, — главное, что им платят большие деньги. Я же не могу опуститься до того уровня, где меркантильные цели перекрывают мораль. Я ученый, а не наркодел, вся моя жизнь до недавнего времени была посвящена здоровью людей, а не наоборот. Но пока я не вижу пути, как выбраться отсюда и развалить этот заводик по производству отравы, и потому вынужден работать на мафию… Тсс! Вы слышите?
Я прислушался. Откуда-то сверху доносились равномерные шаги. Двое или трое людей медленно шли по асфальтовой дорожке.
— Это охранка?
— Вряд ли, — так же, шепотом, ответил Гурьев. — По этой дорожке ни патрули, ни часовые не ходят. Она ведет к сырьевым боксам и к гробовому цеху.
— К какому цеху?!
— Это мы, химики, так называем его между собой. Там бригада рабочих клепает цинковые гробы для миротворческих сил. Реальный оборонный заказ. Этими гробами, мне кажется, производство наркотиков и прикрывается… Куда вы, сумасшедший?!
Хватаясь руками за траву и ветви кустарника, я осторожно полез наверх, медленно приподнял голову над краем ямы. Метрах в двадцати от меня, залитая бледным светом неоновых фонарей, блестела дорожка. По ней шли двое, и я без труда узнал их: Рэд и охранник, который расквасил мне сегодня нос. Рука командира группы лежала на плече парня; он о чем-то негромко говорил ему, но до меня доносилось лишь невнятное бормотание.
«Конфликт исчерпан?» — с удивлением подумал я. Рэд казался спокойным, двигался расслабленно, вразвалочку, как бывает после ста граммов. Когда у человека из-под носа уводят автомат, так себя не ведут. Значит, он даже не заглядывал в канцелярию.
Они прошли до конца дорожки и остановились перед металлической дверью. Стоя друг против друга, еще минуты три выясняли отношения. Рэд сунул руку в карман, что-то вытащил, возможно, ключи, и стал ковыряться в двери. Ему не хватало света, и он попросил охранника посветить спичками. Дрожащий на слабом ветру огонек на мгновение выхватил из темноты их лица. Тихо скрипнула дверь. Рэд распахнул ее шире и сделал рукой жест, предлагая охраннику войти во дворик, а сам опустил руку с ключами в задний карман брюк. Охранник зашел, сразу утонув в плотной тени. В это же мгновение Рэд плавно взмахнул рукой, будто хотел коснуться затылка охранника указательным пальцем. Я не сразу заметил в его руке пистолет. Приглушенно щелкнул выстрел. Охранника толкнуло вперед, он упал на асфальт лицом вниз и замер.
Неторопливым движением Рэд спрятал пистолет с массивной насадкой на стволе, вышел со двора, прикрыл дверь и запер ее на замок.
Я оглянулся. Гурьев на корточках поднимался ко мне.
— Что вы здесь застряли? — шепотом спросил он.
Пришлось прижать его голову к земле — Рэд в это время уже сунул ключи в карман, достал сигареты и, глядя прямо в нашу сторону, вытаскивал из коробка спичку.
— Он только что пристрелил одного нашего охранника, — одними губами ответил я. — Не высовывайтесь, ради бога!
Рэд чиркнул спичкой, прикурил, посмотрел по сторонам, повернулся и медленно пошел в сторону модулей охранников. Удобнее момента нельзя было и придумать — глаза Рэда, ослепленные огнем спички, некоторое время уже не могли видеть в темноте столь отчетливо.
Низко пригнувшись, я выскочил из укрытия и беззвучно побежал к Рэду, спокойно идущему по дорожке. Когда нас разделяло не больше трех шагов, я, уподобляясь его тени и сдерживая дыхание, стал идти в такт его шагам, быстро сокращая расстояние и вытаскивая из-за пояса автомат, который уже успел содрать мне кожу на спине. Звякнул карабин на ремне, Рэд не мог не услышать этого звука, остановился, словно налетел на невидимое препятствие, но обернуться не успел. Я приставил к его бритому затылку холодный ствол и прошептал:
— И часто ты так расправляешься со своими подчиненными? Руки за голову!
Упреждая возможную попытку Рэда вытащить из-за пояса пистолет, я провел ладонью по его спине и нащупал оружие. Массивный «магнум» с глушителем я взял в левую руку и ткнул стволом в спину.
— Достань ключи и брось их под ноги! — приказал я.
— Ты кто? — спросил Рэд, медленно опуская руку в карман.
— Сейчас узнаешь.
Звякнув, связка ключей упала у ботинка Рэда.
— Шаг вперед!
Он шагнул. Чтобы поднять ключи, мне пришлось сунуть пистолет за ремень. Когда я присел, Рэд стал медленно опускать руки.
— Руки на место! — сказал я, водя ладонью по асфальту и на ощупь отыскивая ключи.
Я был в очень неудобном положении — отбить автомат в сторону и свалить меня на землю ударом ноги смог бы даже неопытный человек, но Рэд не захотел рисковать понапрасну. Он снова завел руки за голову, но предупредил:
— Ты все это зря делаешь. Повсюду посты и телекамеры.
— Молчать, — приказал я, выпрямляясь и снова касаясь стволом автомата его затылка. — Иди к кустам!
Рэд медленно повернулся и, узнав меня, приоткрыл рот.
— Кого я вижу! Что это с тобой, браток? Ты не пьян? Не кололся?
Пришлось мне слегка двинуть автоматом по его голове, чтобы убедить в том, что я не пьян и не кололся. Рэд замолчал, лишь громко засопел и пошел к кустам. На краю ямы он остановился и повернул голову, как бы вопрошая — куда дальше?
— Вниз!
Он стал спускаться. Вдруг случайно или нарочно поскользнулся на влажном грунте, сел на задницу и съехал вниз, ломая под собой ветки. Я мысленно выругался, прыгнул к Рэду, который сидел на земле, по-прежнему не опуская рук, схватил его за ворот и заставил заглянуть в ствол автомата.
— Какой ты, однако, неосторожный, — прошептал я. — А не подумал о том, что у меня могут не выдержать нервы и я нечаянно пристрелю тебя?.. Гурьев! — позвал я, озираясь вокруг. — Гурьев, где вы, черт вас подери!
— Да-да, Кирилл! Иду! — услышал я голос химика и увидел его темный контур на фоне зарослей. — Я смотрел, нет ли кого поблизости… А ловко вы сработали, — стал он хвалить меня, хотя в данный момент я меньше всего нуждался в похвале и вообще какой-либо оценке своей деятельности.
— Возьмите пистолет, — сказал я химику и протянул ему «магнум».
— Ого, тяжелая штучка, — не совсем искренне удивился он. — Послушайте, но я все-таки до сих пор не понимаю, что вы задумали?
— Вы очень громко говорите… Нарвите травы.
— Что?!
— Травы нарвите, черт возьми! — едва не взорвался я. — Что вы переспрашиваете по сто раз?
Пока химик с недовольным бормотанием копошился в темноте у моих ног, я заставил Рэда подняться на ноги и подвел его к стволу дерева.
— Я хочу тебя предупредить, — сказал Рэд, глядя на то, как я снимаю с себя ремень и сворачиваю его петлей. — Ничего у тебя не получится. И все твои старания напрасны. В принципе, ты уже покойник. Но если ты поведешь себя благоразумно, то я постараюсь тебе помочь.
— Заткнись, — посоветовал я, крепко связывая руки Рэда, заведенные за ствол дерева.
— Через пять минут мне в канцелярию должен звонить комендант лагеря, — привел Рэд новый аргумент. — Если я не возьму трубку, он объявит тревогу.
— Вы знаете, Кирилл, — отозвался из темноты Гурьев, — мне кажется, что к его словам следовало бы прислушаться.
— Вам очень страшно? — поинтересовался я у химика.
— Не в страхе дело… Хватит? — Он протянул мне охапку сухой травы.
— Вполне! — Я взял траву в горсть, сколько смог ухватить, и поднес к лицу Рэда. — Рот открой!
Он подчинился лишь только после того, как я ударил его стволом по губам. Рэд предпочел иметь во рту кляп из соломы, чем не иметь зубов. Я заталкивал ему в рот траву большим пальцем, командир группы хрипел, стонал, пытался вытолкнуть ее языком или укусить меня, и мне в целях собственной безопасности пришлось вставить ствол ему между зубов. Когда рот был набит травой настолько плотно, что Рэд не мог даже слегка пошевелить челюстью, я снял с него портупею и, накинув ее на кляп, как уздечку, связал узлом на затылке.
Недолгая борьба со мной утомила Рэда, и он уже стоял спокойно, только вращал зрачками, и во мраке, усиленном тенью от кроны дерева, блестели два глазных белка.
— Анатолий Александрович, — шепнул я Гурьеву. — Давайте на минуту продолжим нашу беседу.
Мы отошли на несколько метров — настолько, чтобы Рэд не мог нас подслушать. Когда его силуэт растаял в темноте, мной овладело странное ощущение, будто я очень слабо привязал его и этот человек через минуту-другую бросится на меня и вцепится сильными пальцами в горло.
— Скажите мне однозначно, — сказал я, озираясь по сторонам. — Вы со мной или нет?
— То есть? — переспросил Гурьев, хотя я был уверен, что он прекрасно меня понял.
— Зачем вы переспрашиваете?
— А вы извольте излагать свои мысли ясно и четко.
— Я хочу выйти отсюда. Живым. И помочь выбраться вам. Заодно выяснить, какой машиной, в какой таре увозится порошок.
— А прихватить с собой парочку килограммов героина не желаете? — иронически хмыкнул Гурьев. — А вы, оказывается, довольно наивный человек.
— Я повторяю свой вопрос. Вы идете со мной или остаетесь?
— Ну, допустим, иду. Но как вы намерены перескочить через забор? Проволока, которая протянута поверх него, между прочим, под напряжением.
— Давайте сейчас воздержимся от вопросов, ответить на которые я пока не могу, и поторопимся.
— Ну, хорошо, хорошо, — нервно ответил Гурьев. — Ведите!
— Надеюсь, пистолетом вы умеете пользоваться?.. Идите за мной, старайтесь не шуметь и делайте только то, что я вам скажу. Договорились?
— Вы затянули свой инструктаж.
Я покачал головой и, закинув автомат за спину, стал снова выбираться из ямы. Из-за ломаного среза далекой горы, которая, казалось, выточена из темно-синего хрусталя, показалась желтая луна, и от кустов на асфальт легли плотные тени, напоминающие взвод стрелков, лежащих на дорожке, как шпалы. Я долго не решался полностью выбраться из своего укрытия, и несколько минут вслушивался в ночные шорохи.
16
— Ну, что вы там застряли? — поторопил меня Гурьев.
«Он смелый или просто глупый?» — мимоходом подумал я, вставая на ноги, но не выпрямляясь в полный рост, обернулся, махнул ему рукой и показал на двери сырьевой зоны.
Гурьев бегать не умел и, неуклюже пригибая плечи к земле, тяжело побежал за мной. У дверей, пока я искал замочную скважину, он часто и шумно дышал, держался за сердце и вытирал со лба пот.
— Куда вы дели пистолет? — шепнул я, с трудом проворачивая ключ в замке.
Химик показал на карман брюк — оттопыренный, будто там была спрятана бутылка, которую мы намеревались распить в темной подворотне. Я медленно отворил железную дверь. Она не скрипнула. Я подтолкнул Гурьева, зашел следом за ним во дворик и закрыл замок изнутри.
— Осторожнее, не наступите! — предупредил я его, показывая на темный продолговатый предмет, лежащий на асфальте.
Химик вовсе не испытывал патологического ужаса к трупам и даже присел возле него, рассматривая изуродованную пулей голову, увязнувшую в клейкой крови. Мне пришлось едва ли не насильно оттаскивать его в сторону.
— Послушайте, сейчас не время любоваться покойником… Вы говорили, что это сырьевые боксы? Не знаете, есть ли здесь охранка?
Гурьев отрицательно покачал головой.
— Нет, ни разу не видел. Соломку привозят сюда мешками на военных грузовиках, и она сразу же идет в переработку.
— Ее здесь перерабатывают? — Я показал на приземистый ангар, покрытый серебристым листовым железом.
— Да. По-моему, ее размалывают, и она по конвейерной ленте поступает в производственный цех. Сырье никогда долго не хранится в боксе, поэтому здесь нечего охранять.
— А кто обычно занимается помолом? Химики?
— Нет, рабочие. В основном они занимаются строительством и уборкой территории, а как приходит машина с соломкой, кого-то из них ставят на помол.
Я подошел к двери бокса, провел по ней рукой. Навесной амбарный замок. Задача для первоклассника.
— Скажите, Анатолий Александрович, а производственный корпус охраняется?
— А вы думали, нет? — Гурьев подошел ближе и выразительно посмотрел мне в глаза. — Кирилл, вы очень рискуете. Ситуацию всегда надо оценивать адекватно. Забудьте о производственном корпусе. Три четверти всей охранки пасут его круглые сутки. Они вооружены снайперскими винтовками с ночными прицелами.
— И внутри?
— Что — внутри?
— Внутри есть охранка?
— На ночь все цеха опечатываются, ставится сигнализация, и все двери корпуса запираются на замки. Но проблема не в замках. Вы не успеете даже шага сделать по производственной зоне, как станете покойником.
— Вы опять говорите слишком громко.
— А вы говорите слишком наивные вещи.
— Послушайте, Гурьев, — сказал я, приблизившись к химику едва ли не вплотную. — При всем своем врожденном оптимизме я могу дать не больше одного шанса из десяти, что мы сумеем выбраться отсюда живыми. Я отлично понимаю, какому риску мы подвергаемся. Но другого выхода нет ни у меня, ни у вас. Вы проработаете здесь еще месяц, два, ну пусть полгода. Но все это рано или поздно кончится. Ваши хозяева переведут последний доллар на зарубежные счета, после чего устроят вам всем — химикам и охранке — красивую и быструю смерть, а комплекс взорвут, подожгут и сровняют его с землей. Вы это понимаете?
По глазам Гурьева, в которых отражалась круглоликая луна, мне стало ясно, что он не совсем верил в то, что я ему говорил. Я сплюнул, подавляя в себе желание выругаться, подошел к пожарному щиту, снял с него традиционно красный ломик.
— Безумец, — прошептал Гурьев.
— Если вы струсили, — сказал я, заталкивая ломик под замок, — то еще не поздно вернуться. Осторожно пройдете по дорожке до ямы, затем… — я потянул ломик на себя. Замок скрипнул, но выдержал первую атаку. — Затем доползете до забора. Подождете, пока охранник встанет к вам спиной, и перелезете на свою родную территорию. Только не забудьте вернуть мне пистолет.
Я затолкал ломик поглубже, надавил на него всем телом. Ушко замка лопнуло с коротким щелчком.
— Вы хотите меня унизить? — спросил Гурьев, поднимая замок с асфальта и кидая его в траву.
— А вам не кажется, что сейчас не время выяснять отношения? — грубо ответил я. — Сейчас надо только принимать решения и выполнять их… Возьмите ломик и суньте его себе за пояс.
— Зачем он нам нужен?
— Я не уверен, что это последняя дверь, которую нам придется сегодня взламывать.
Мы вдвоем взялись за дверь, которая оказалась достаточно тяжелой и двигалась на петлях с большим трудом, открыли ее ровно настолько, чтобы можно было протиснуться в образовавшуюся щель. Я отошел на пол шага, давая понять Гурьеву, что жду от него последнего решения. Из черной щели тянуло приятным запахом свежих древесных опилок, скошенной травы.
Гурьев помедлил, усмехнулся и первым вошел в проем. Я шагнул в темноту следом и, насколько мог плотно, закрыл за собой дверь и стал шарить рукой по стене.
— Вы что ищете? — спросил химик.
— Рубильник.
— Не сходите с ума, Кирилл! Какой может быть свет? Сюда тотчас примчится дежурная рота и превратит этот бокс вместе с нами в дуршлаг.
— Я осмотрел его снаружи. Здесь нет окон. А без света мы здесь до утра будем тыкаться по всем углам, как слепые котята.
— Ну, ладно, ладно! — нервно оборвал меня Гурьев. — Поступайте, как знаете. Вы же считаете себя очень умным, вы же борец, куда мне против вас.
— Анатолий Александрович, не могу поверить, что вы оказались таким ворчуном! — сказал я, нащупав пластмассовую коробку рубильника, и надавил пальцем на цилиндрическую кнопку. — Первое впечатление было несколько иным…
Господи, а разговоров-то было сколько! В дальнем углу цеха загорелась одна-единственная тусклая лампочка, и ее света с трудом хватило на то, чтобы рассмотреть все помещение. Наполовину оно было пустым, на пыльном бетонном полу, словно гигантские черви, извивались следы от колес грузовиков, по сторонам, у наклоненных стен, лежали мешки, замасленные канистры, ржавые мосты, покрышки, радиаторы и прочие детали — похоже, что этот бокс использовался также в качестве авторемонтной мастерской. В дальней части стоял агрегат, чем-то напоминающий типографский станок. Основной частью его был внушительных размеров котел, висящий в двух метрах над полом, днище котла плавно переходило в медную трубу и терялось среди деталей и опор агрегата.
Я подошел к этой странной мельнице, встал на подножку, провел ладонью по внутренней поверхности котла.
— Трава! — сказал я, сдувая опилки. Под полусферическим потолком звонко отозвалось эхо.
— Было бы странно, если бы вы нашли здесь муку, — ответил Гурьев, косясь на агрегат. — И что вы намерены делать дальше?
Я подпрыгнул, ухватился руками за край котла, подтянулся и влез в него. Гурьев, поджав тонкие губы, наблюдал за мной.
— Не думаю, что администрация очень обрадуется, когда найдет в наркотическом порошке ваши кости и волосы, — мрачно пошутил он.
Устройство машины было настолько элементарным, что на изучение ее я потратил не больше трех минут. Котел, вращаясь по оси, отсеивал крупные элементы от мелких и поочередно подставлял их под ножи, которые проводили грубую рубку. До этих ножей, очень напоминающих гильотину, я добрался по внутренней части трубы. В рабочем состоянии ножи опускались попеременно, чередуясь друг с другом. Сейчас они застыли в том положении, когда один нож был опущен вниз и наглухо перекрывал дальнейший путь сырья, а второй был поднят вверх максимально. Я постучал по гигантскому лезвию ногой и полез обратно. Когда моя голова показалась над срезом котла, Гурьев недовольно чмокнул губами.
— И ради того, чтобы полазить по этой машине, вы и затеяли всю эту рискованную ночную прогулку?
Я перевернулся через край и спрыгнул на пол.
— Вы нигде здесь не заметили пусковой кнопки?
— Что?! Пусковой кнопки? Вы хотите запустить машину?
— Вы догадливы.
— Кирилл, может, будет достаточно на словах объяснить вам процесс выработки героина, и мы не будем запускать конвейерную линию?.
Я рассмеялся, похлопал химика по плечу.
— Ну-ну, Гурьев! Не упражняйтесь в остроумии. Я тронут тем, что вы так печетесь о моей осведомленности в области производства наркоты. Но запускать машину я буду с другой целью… Осмотрите корпус справа, а я — слева.
— Хорошо, хорошо, я осмотрю корпус справа. Я сделаю все, о чем вы меня попросите, — проворчал Гурьев и пошел между стеной и агрегатом. — А чего тут, собственно, осматривать? Вот она, ваша кнопка.
Весь фокус заключался в том, чтобы врубить машину на долю секунды, прогнать четверть фазы, в которой первый нож приподнимется, а второй только начнет опускаться.
— Тсс! — засвистел Гурьев и показал мне кулак. Я замер и прислушался.
— Что вы все время цыкаете? — спросил я после паузы. — Нервы не выдерживают?
— Вы хорошо закрыли входную дверь?
— На ключ.
— Я не о той. Дверь в бокс!
— Извините, но мне никак не удалось навесить снаружи замок. Дверь руку защемляет.
— Не старайтесь, все равно не смешно.
— А зачем вы задаете глупые вопросы? Разве вы не видели, как я закрыл дверь? Чего вы беспокоитесь?
— Мне показалось, что где-то там, — он неопределенно махнул рукой, — крики и топот.
— Даже если сюда уже бежит дежурная группа, то поздно переходить на шепот и прятаться. Давайте не будем отвлекаться на всякую ерунду! — Я подпрыгнул, ухватился за край котла и снова полез в него. — Когда я дам команду, включите машину на мгновение и тут же выключите красной кнопкой. Потом снова включите и снова выключите. И так до тех пор, пока я не крикну вам.
— Мне думается, что вы крикнете сразу, — угрюмо заметил химик. — Причем очень громко. Но последний раз в жизни. И утром контролер, мой напарник обнаружит ваши косточки в героине… Вы не знаете, который час?
— Четверть третьего. Поторопимся.
Я опустился на дно котла, влез в трубу, где мне пришлось согнуться вдвое и упереться в стенки ногами и руками, чтобы ненароком не соскользнуть под ножи, и крикнул Гурьеву:
— Запускайте!
Он не рассчитал и продержал машину включенной слишком много. Ножи с тяжелым грохотом тронулись с места и замелькали перед моими глазами. Над головой с нарастающей скоростью начал вращаться котел. Когда Гурьев нажал «стоп», проход на этот раз закрыл второй нож.
— Вы представляете себе, что такое четверть секунды? — крикнул я, и медная труба загудела от моего голоса.
Гурьев не ответил, ножи снова загрохотали, первый пошел вниз и в сантиметрах десяти от плахи замер. Перебор!
Я пригнул голову, посмотрел одним глазом в черную щель. Был бы тараканом — пролез. Черт подери, эдак мы здесь до рассвета можем воздух рубить.
С пятой попытки оба ножа зависли сантиметрах в сорока над плахой. Боясь, что химик снова запустит мотор и все испортит, я закричал и стал выбираться на край котла.
— Вы удовлетворены? — спросил Гурьев.
— Вполне. Сможете взобраться сюда сами или вам помочь?
Химик вздохнул, с опаской посмотрел на агрегат.
— Интересно, а он сам не может врубиться?
Я подал ему руку. Гурьев пыхтел, кряхтел, смешно дрыгал ногами, и мне пришлось попотеть, прежде чем он оказался рядом со мной.
— Господи, прости меня! — взмолился он, глядя на черную дыру под ногами.
— Одолжите на минутку ваш пистолет, — попросил я его.
— Вы хотите избавиться от меня? Сделайте милость! — ответил он и за глушитель вытащил из кармана «магнум».
Я выстрелил по главному рубильнику. Пистолет глухо щелкнул, свет погас, в темноте что-то звякнуло.
— Ползите за мной, здесь достаточно просторно. Только под ножами придется лечь на живот, — сказал я, возвращая Гурьеву оружие.
— И пригнуть голову, — добавил от себя химик. — Надо было предварительно воротник у куртки отрезать, — забормотал он изменившимся голосом. — Исповедаться, выпить водки, выкурить сигарету. Такую традицию до сих пор свято соблюдают все смертники во Франции, приговоренные к гильотине… Вы мне ботинком заехали прямо в лоб, между прочим.
— Извините. Тут очень темно, и я не знал, что это именно ваш лоб… Я не ошибаюсь, что, подумав о гильотине, вы невольно стали вспоминать все свои грехи?
— Вы ошибаетесь, — язвительным голосом отозвался Гурьев. — И к чему вообще эта дурацкая дискуссия в такое время и в таком месте?.. Чего вы застряли?
Я пролез под ножами, нащупал резиновую ленту конвейера. Она обрывалась на краю колодца, о глубине которого я мог только догадываться. Достал спички. Гурьев шумно задышал над левым ухом.
— Почему стоим?
— Вы мне посветите, а я попытаюсь спуститься вниз… Вы чего смеетесь?
— Я подумал о том, что сейчас мы напоминаем каких-то жалких насекомых, ползущих внутри мясорубки. Правда, смешно?
— Очень.
Я лег на живот и стал медленно съезжать ногами вниз, повис на руках, но дна так и не достал. Прыгать в кромешную тьму, не зная, на что там можно напороться, было бы неразумно. Гурьев чиркнул спичкой. Я с трудом различил под собой матовый блеск каких-то крупных металлических деталей.
В альпинизме есть удобный способ передвижения по узким вертикальным каминам, я им и воспользовался. Опустился в нишу, напоминающую гигантскую чашу, в центре которой на оси была закреплена центрифуга с острыми лопастями. Ощупал ее рукой, легко провернул. Что ж, ничего удивительного, в предназначении этой штуки можно было не сомневаться. Мощные лопасти центрифуги крошили здесь соломку до состояния пыли. А потом она должна поступать по конвейерной ленте в производственный корпус, в цех первичной обработки.
— Я уже сжег полкоробка! — донесся до меня голос Гурьева. — Вы хоть насвистывайте, чтобы я был уверен, что вы еще живы.
Я просвистел похоронный марш. Гурьев негромко выругался.
— Спускайтесь, — позвал я его. — Я вас поймаю.
— Как же, поверю я вам! Вы мне в совершенно безопасном месте по лбу ботинком заехали, а хотите, чтобы я прыгал в эту черную яму и надеялся, что вы меня не пропустите.
Он все-таки начал спускаться, я поймал его ноги и поставил их себе на плечи.
— Вместо того, чтобы выбираться на волю, — бормотал Гурьев, — вы лезете в производственный корпус, который страшнее любой тюрьмы. Там же все внутренние двери поставлены на сигнализацию!
— А мы поползем по конвейерной линии.
— Зачем вам это надо, Кирилл?
— Я вам уже объяснял. Зачем мне вообще надо было подделывать документы, пасти «Ниссан» в аэропорту, влезать в зону?
— Я вам не верю.
— Чему именно не верите?
— Что вы сотрудник службы безопасности. Вы всего лишь авантюрист. Псих-одиночка. Только я никак не могу разгадать ваши цели.
— Разве у психа бывают цели? Он должен действовать в высшей степени нелогично.
— Приблизительно так вы и действуете.
— Ну, спасибо вам, Анатолий Александрович, утешили! Разгадали. Раскусили… Придержите, пожалуйста, эту штуковину.
Я оттянул в сторону толстый резиновый лист, пошарил рукой впереди и нащупал лапку распределительного механизма. Все верно, так и должно быть. И вовсе не обязательно заканчивать ПТУ, чтобы это предвидеть. Измельченное сырье ссыпается под лапку, она отгребает необходимую порцию и заполняет тару.
Я продвинулся дальше. Поверх конвейерной ленты тянулся ряд пластиковых коробок. Сырье катилось в этих коробочках по транспортеру к химикам, которые затем превращали его в наркотик.
— Мы на верном пути, — поддержал я почти сломленный дух Гурьева.
— Это только вы на верном пути, — уточнил он из-за спины. — У авантюристов все самые идиотские пути — верные. Будь то коммунизм, будь то капитализм, будь то поход на Южный полюс или полет на Луну. Сами спокойно жить не можете и другим не даете… Ах, черт! Голову сломать можно! Вам надо работать шахтером. Или чистильщиком канализаций. Вот где вдоволь наползаетесь по темным тоннелям!
— Гурьев, вы мне нравитесь, как нравится всякий остроумный человек. Мне будет очень приятно посидеть с вами, скажем, в каком-нибудь уютном московском кафе. Представьте, за окнами льет дождь, над маленьким столом висит бра, над кофейными чашками вьется дымок, а мы вспоминаем эту шахту, этот гнусный лагерь…
— Не травите душу! — перебил он. — До уютного московского кафе нам с вами еще как до Пасхи. Куда ближе до морга…
17
Мы ползли на четвереньках по резиновой дорожке внутри трубы, диаметра которой хватало только на то, чтобы ползти на четвереньках. Мне трудно было судить о том, где была проложена эта конвейерная труба — под землей или же над ней, во всяком случае снаружи не доносилось ни звука. Химик приумолк, его красноречие иссякло, как, впрочем, и силы. Он часто останавливался, чтобы отдышаться, и просил меня не гнать так сильно.
— Вы не находите странным, что еще не забили тревогу? — полюбопытствовал он.
— Неужели вас это волнует больше, чем если бы тревогу действительно забили?
— Этот человек, которого вы привязали к дереву… Не верю, что за час он не смог отвязаться.
— Это смотря как привязать… Здесь будьте осторожны, конвейер закончился!
Я сидел на краю ленты, свесив ноги в пустоту. Кожей чувствовал движение воздуха, какое бывает в большом помещении. Глаза постепенно освоились, и я стал различать контуры больших предметов, поначалу казавшихся бесформенными и лишенными объема. На руках опустился ниже и сразу же почувствовал под ногами опору.
— Опускайтесь, я вас поддержу, — сказал я Гурьеву, и мой голос неожиданно отозвался эхом.
Оказавшись рядом со мной, он неожиданно крепко схватил меня за локоть, как бы призывая напрячь внимание. Мы минуту стояли в полной тишине, боясь дышать полной грудью.
— Цех первичной обработки, — шепнул мне химик. — Идемте!
Он пошел первым, огибая котлы и прямоугольные низкие шкафы, напоминающие печи, свернул вправо, по линии конвейера, и подошел к двери.
— Она на сигнализации? — спросил я.
Гурьев пожал плечами.
— А в прошлый раз вы утверждали, что на сигнализации, — усмехнулся я. — Вам очень хотелось меня остановить?
Я провел по двери ладонью. Обычная дверь, обитая листовым железом, без проводков, кодовых замков и прочих наворотов. Я взялся за ручку, нажал на нее. Дверь тихо заскрипела и открылась.
— Видите, как все просто? — шепнул я.
— Я всего лишь предполагал, что она на сигнализации, — стал оправдываться Гурьев и показал рукой на табурет, стоящий у двери. — А здесь, между прочим, сидит охранник.
— Где ваш цех?
— Следующий.
Мы прошли по кафельному полу второго цеха, посреди которого стоял даже в темноте сверкающий никелем агрегат, напоминающий огромный самогонный аппарат.
— Никогда бы не поверил, — бормотал Гурьев, — что окажусь здесь ночью и без охраны. Когда привыкаешь к одной и той же обстановке, то небольшое изменение в ней представляется почти невероятным. Признаться, мне все еще совершенно неясно, каким образом вы думаете выйти отсюда, а затем и за пределы лагеря.
— Признаюсь, и мне пока это неясно.
Без проблем мы прошли и через вторую дверь. Гурьев, почувствовав знакомую обстановку, оживился.
— Вот входная дверь, — махнул он в сторону непрозрачного окна, выложенного из стеклянных изоляторных кирпичей. — А это мое рабочее место.
Он сел на крутящийся стульчик, опустил руки на оцинкованный стол, над которым нависал металлический конус, напоминающий лейку. Неожиданно цех наполнился матовым призрачным светом, и я успел отчетливо увидеть все предметы, находящиеся здесь. Затем так же быстро стало темнеть, и все снова погрузилось во мрак.
— Луч прожектора прошелся по окнам, — догадался Гурьев, переведя дух после короткого шока. — А я уже грешным делом подумал…
— Вы можете показать, куда уносили порошок после контроля? — перебил я его.
— Конечно, могу. — Гурьев поднялся и медленно пошел в темный угол, куда не попадал даже скудный свет из непрозрачных окон. — Отсюда мне выносили никелированную коробочку, вроде той, в которой стерилизуют шприцы, и я наполнял ее порошком. Когда она заполнялась доверху, я накрывал ее крышкой и нажимал кнопку вызова… Да-да, именно эту. Снова выходил человек, забирал полную и ставил передо мной пустую коробку. Так что я даже не вставал со своего места.
— Этот человек тоже химик?
— Нет, я думаю, что он всего лишь курьер. Ни разу не видел его в нашем жилом корпусе.
Я подошел к металлической двери, в середине которой было вырезано окошко, закрытое металлической шторкой.
— Он подавал коробку в это окошко?
— Нет, сам открывал дверь и заходил внутрь.
— Посветите мне спичкой.
При тусклом мерцающем свете огня я стал осматривать дверь. Кодовый замок — с ним можно месяц трахаться, и все равно не откроешь; два параллельных проводка по периметру с переходом на дверной косяк — откроешь дверь, цепь разомкнется и сработает сигнализация; толстая металлическая обивка, какую и пулей не возьмешь.
— Похоже, что здесь склад, так сказать, готовой продукции.
— Очень может быть, — скучным голосом подтвердил Гурьев. В отличие от меня он не испытывал ни малейшего любопытства к двери.
— Если смотреть снаружи, в этом месте у корпуса нет пристройки?
— Пристройки нет, но подойти к стене или окнам невозможно.
— Почему?
— Этот торец корпуса отделен от остальной «промзоны» забором.
— А что там — вы не знаете?
— Понятия не имею.
— Надеюсь, вы не выкинули ломик по пути? Дайте-ка мне его.
Я взял ломик, вернулся к рабочему месту Гурьева и стал водить рукой под столом.
— Что вы там ищете?
— Проволоку.
— Так спросили бы, а то шарите, как у себя дома. Вот подсветка, можете оторвать отсюда кусок.
— Вы обиделись так, будто намереваетесь продолжать здесь работать.
Гурьев промолчал, не отреагировав на мое замечание. Я перетер проволоку о край стола и обгрыз изоляцию. Чтобы цепь не размыкалась при открытии двери, надо в эту цепь включить дополнительный провод. Чем он будет длиннее, тем шире дверь можно будет раскрыть. Задачка для юного техника.
Гурьев молча наблюдал за моей работой. Люди его склада, думал я, вечные завистники и мечтатели. Они годами могут хаять и проклинать условия, в которых живут, но тем не менее пальцем не пошевелят для того, чтобы эти условия как-то изменить. Ради приличия спросил бы, чем помочь. А может быть, ему и не нужна эта свобода?
— Отойдите на шаг, — сказал я и, замахнувшись ломиком, ударил острием по клавиатуре замка. Если бы ломик не был покрыт толстым слоем краски, меня наверняка бы ударило током. Клавиатура брызнула красными искрами, словно была начинена огнем, и оголился замковый язык. Мне хватило еще десяти ударов, чтобы выбить замок вместе с шурупами из дверного косяка.
— Я не могу поверить, что все это происходит незамеченным для охранки, — .признался химик и поежился. — А у вас нет ощущения, что за нами давно следят и наши безумные головы вертятся в окулярах оптических прицелов?
— У меня уже давно нет никаких ощущений. Я им не доверяю… Придержите на всякий случай провода, чтобы не отошли контакты… Так, хорошо, открываю.
Дверь открылась, образовав щель, в которую, как мне показалось, мы сможем протиснуться без особого труда.
— Вы первый, — сказал я, принимая из рук химика провода.
Он встал к щели боком, но ему, наверное, показалось, что находиться ко мне спиной неэтично, и Гурьев стал разворачиваться лицом. При этом он делал массу совершенно лишних и опасных в нашей ситуации движений.
— Эй-эй! — негромко прикрикнул я, почувствовав, что химик, оступившись, слишком сильно налег на дверь, и я едва успел поставить ногу. Провода в моих руках натянулись, но контакты не разорвались. — Осторожнее! Вы, простите, как бегемот!
— Это нечаянно, — запыхтел Гурьев. — Черт возьми, темнотища какая!.. Ну вот, можно считать, я пролез.
Я проскочил следом за ним и плотно прикрыл дверь за собой.
— Мне кажется, здесь нет окон, — шепнул я, пытаясь хоть что-нибудь, хоть самый слабый отблеск разглядеть вокруг себя, но тщетно. Пришлось воспользоваться спичками.
Мы находились в маленькой комнате, напоминающей кладовку, в которой, в самом деле, не было ни одного окна и дверей, кроме той, через которую мы вошли. У стены, покрытой черной кафельной плиткой, стоял большой стол со стеклом, на нем — три пары аптечных весов, миниатюрные гирьки в коробках, ложечки, пинцеты, никелированные коробки и стопка полиэтиленовых пакетов. Рядом — стол поменьше, покрытый коричневым пластиком. На нем был закреплен рычаг, похожий на резак для бумаги.
— Фасовочная, — вслух подумал я. — А дальше? Дальше куда?
Я несколько раз обошел тесную комнату, рассматривая стены, освещенные огнем спичек.
— Путь замкнулся! — Я повернулся к химику. — Получается, что расфасованный порошок выносят через эту же дверь.
Гурьев отрицательно покачал головой.
— Нет! — твердо сказал он. — Вы ошибаетесь. Ни разу за все то время, пока я работаю здесь, через эту дверь ничего не вынесли. Только заносили.
— Может быть, выносили не в вашу смену?
— А чем моя смена отличается от второй?
— Тогда получается, что фасовщик жрет все пакеты и выносит их в своем желудке.
Химик внимательно рассматривал стол и стену, рядом с которой стоял.
— А посмотрите-ка сюда. Вас ничто не удивляет?
— Вы об этой картине? Да, «Рожь» Шишкина смотрится здесь по крайней мере дико.
Я подошел к репродукции размером с форточку, обрамленной двумя горизонтальными реями, попытался ее приподнять, но оказалось, что рама жестко прикреплена к стене. Тогда я попытался сдвинуть картину в сторону, и, к моему удивлению, она поддалась и легко заскользила вдоль стены, открывая прямоугольную нишу.
— Микролифт! — воскликнул Гурьев.
Я провел рукой по нише. Она была пуста. От моего прикосновения кабинка легко закачалась на тросе и опорных колесиках с амортизаторами.
— Боюсь, что эта кабина для меня слишком маловата, — произнес я упавшим голосом.
— А вы думали, что вам будет везти бесконечно? — отозвался Гурьев. — Хочу вам сказать, что спичек осталось не больше десятка.
— Поищите где-нибудь выключатель.
Гурьев заглянул под стол и тотчас нашел кнопку. Над столом вспыхнули неоновые лампы. Несколько минут мы щурились и прикрывали ладонями отвыкшие от света глаза. Гурьев с сочувствием поглядывал на меня и качал головой.
— Кажется, Кирилл, вы проиграли.
— Нет, я выясню, куда ведет этот лифт.
— И как вы это сделаете? Уменьшитесь до размеров кошки?
— Подождите! — нервно прервал я его, отодвинул стол в сторону, чтобы было удобнее подойти к нише. — Какая длина кабинки?
— Не больше полуметра.
— А ширина? Смотрите, до локтя рука входит.
— Ну, и о чем это говорит?
— О том, что плечи пройдут.
— Я не понял вас! — развел руками в стороны Гурьев. — А голову, грудь, ноги и все прочее вы брать с собой не будете?
— Гурьев, я думал, что ученые более догадливы! Дайте ломик!
Производственный корпус, перегородки между цехами, как и модули, строились наскоро, отнюдь не на века, и я, загнав ломик между стенкой шахты и кабинкой, без особых усилий сорвал ее с рельс, рванул кабинку на себя и втащил ее вместе с подъемным тросом в комнату.
— Вот видите, — сказал я, прерывая слова частым дыханием; и сердце в груди вдруг зачастило — не столько от физической работы, сколько от волнения. — Вот видите, как все, оказывается, просто.
Просунул голову в шахту, буркнул «Отлично!», хотя ничего хорошего в кромешной тьме не различил, и принялся отвязывать трос от кабинки. На лице Гурьева появилось нечто, напоминающее удивление, но глаза его по-прежнему излучали скептицизм, и он ничего не предпринял, чтобы мне помочь.
Я довольно долго провозился с тросом, исцарапал в кровь руки, но все же отвязал его и размотал всю катушку на электромоторе, подвешенном у потолка шахты. Нижний конец троса, когда я скинул его, упал на металлическую поверхность. Метра три, не больше, подумал я. Это пустяк, это задачка для юных скалолазов.
Я хотел обойтись без угрозы, но голос меня выдал:
— Анатолий Атександрович, — сказал я, подходя к нише. — В ваших глазах я уже не вижу желания бороться за свободу. Может быть, я ошибаюсь? Но как бы то ни было, в эту шахту, если очень захотите, вы влезете.
— Главное — вылезть, — вздохнул Гурьев.
— Я жду вас внизу. Но недолго. Если вы надумаете вернуться, постарайтесь пройти через дверную щель аккуратно, чтобы не сорвать сигнализацию.
Он не смотрел мне в глаза. Влезать в нишу, а затем в шахту, пришлось ногами вперед. Я слишком поздно подумал о том, что трос предварительно надо было протереть от смазки, и практически съехал по нему до дна шахты, вконец ободрав ладони.
Я, как оловянный солдатик, стоял в узком пенале, где не мог ни присесть, на нагнуться, ни ощупать стены вокруг себя. В первое мгновение ужас холодной волной сковал мой разум — достаточно было лишь на мгновение представить себе, что я не смогу выбраться из этой черной ловушки и останусь тут до своего последнего дня. Даже воспользоваться тросом я уже не мог, и не потому, что он был скользким, как бычьи жилы, а потому, что не было достаточного пространства для работы руками.
Холодный пот покрыл тело. Я изо всех сил зажмурил глаза, до боли прикусил губу. Никогда еще со мной не случалось, чтобы я терял самообладание.
Как внезапно нахлынуло, так и отлегло. Я встал поудобнее, нашел место, где можно было развернуть плечи и вздохнуть полной грудью. Сверху на меня посыпался песок, и я услышал голос Гурьева:
— Ну, как вы там? Мне уже можно спускаться?
— Ну да, — сквозь зубы ответил я. — Только вас здесь не хватало.
Я постучал носком ботинка по стене. Кирпичная кладка. Значит, лифтовые люки находятся не друг над другом. Постучал справа и слева. Опять кирпич. Надо было опускаться головой вниз, подумал я. Это хоть и не так удобно, но надежнее.
Не рассчитав удара, я изо всей силы врезал пяткой по стене, находящейся за спиной. Загремела металлическая дверца. Я ударил еще сильнее, надеясь выбить ее вместе с запором или замком, но она не поддалась.
— Вы с ума сошли! — зашипел сверху Гурьев. — Зачем вы так гремите?
С трудом подавляя в себе желание обложить химика матом, я стал двигать пяткой из стороны в сторону, пытаясь сдвинуть дверь, если, конечно, она была устроена по тому же принципу, что и картина наверху. Это была долгая, адская работа. Сантиметр за сантиметром я сдвигал дверцу в сторону, и когда открыл ее полностью, то ноги онемели уже настолько, что я не чувствовал их и проталкивал в проем словно два тяжелых и неповоротливых бревна.
Я выполз из шахты в какой-то уродливой, неестественной позе. Ноги не держали меня, и я тяжело сел на пол. Подо мной загремел какой-то изогнутый жестяной лист или цинковое корыто — я не разглядел. Из ниши доносился голос Гурьева.
Я подполз к нише, просунул в нее голову.
— Алло, Гурьев! — откликнулся я. — Все в порядке. Можете спускаться. Только заползайте в шахту не на животе, как я, а на спине. Это немного сложнее, зато вам будет намного проще здесь, внизу.
Гурьев минуту помолчал, оценивая, должно быть, степень риска. Потом ответил:
— Хорошо. Принимайте!
Он грохнулся о дно шахты с такой силой, что я испугался — не поломал ли он себе ноги. Проклиная вслух меня, себя, такого нерадивого, свою маму, которая произвела его на свет, Гурьев выполз из ниши, наступил на то же корыто, которое загрохотало подобно раскатам грома в июльскую ночь, и стал отряхиваться. Он занимался этим делом слишком долго, будто назло мне, и я уже начал было заводиться, как вдруг Гурьев поднял голову, посмотрел по сторонам, потом на меня, потом снова по сторонам и тихо произнес:
— Этого не может быть… Мы, собственно, сделали гигантский круг… Но этого быть не может!..
Я тоже посмотрел по сторонам, но едва различимые силуэты грузовой машины с брезентовым навесом, каких-то станков, стопок листовой фанеры или жести и высоких, под самый потолок, металлических стеллажей ни о чем мне не сказали.
— Вы знаете, куда мы с вами приползли? — спросил Гурьев и неприятно, тоненьким голосом рассмеялся. — Я вам рассказывал. Это гробовой цех.
18
Я никак не мог отделаться от чувства, что все произошедшее со мной этой ночью было одним крупным розыгрышем. Некто хитрый нарочно погнал меня по кругу, заставил ползать по трубам и шахтам, и в итоге я вернулся почти в то же место, откуда вышел. Производство порошка заканчивалось маленькой фасовочной комнатой, откуда он уходил в никуда.
Я бродил по цеху, присматриваясь к темным силуэтам станков, на которых режут цинковые листы, затем сгибают их, придавая форму гроба, и запаивают щели. Оборонный заказ. Увы, война требует не только производства техники и снарядов. Ей нужны и цинковые гробы — жуткий символ войн, катастроф, трагедий, где люди гибнут массово и очень далеко от того места, где будут захоронены.
Я подошел к грузовику, откинул брезентовый полог, заглянул в кузов. Полумрак не помешал мне увидеть несколько готовых гробов, накрытых крышками, аккуратно сложенных на полу-кузова. Страшно, подумал я. Люди еще живы, еще несут службу, сидят в окопах на границе, ходят на патрулирование, а тара для них уже приготовлена. И где-то, когда-то пути их пересекутся, и судьба уже навеки станет единой.
«Тара», мысленно повторил я, как бы прислушиваясь к звучанию этого слова. Кощунственно так думать, если речь идет о погибших. Но точнее определения не подберешь, пока эти ящики, горьковато пахнущие металлом, лежат в кузове грузовой машины.
Я вернулся к нише, рядом с которой безмолвно сидел Гурьев. Удобно, черт возьми, думал я, опускаясь рядом с нишей на корточки. Удобно, остроумно и безопасно.
Оттащил в сторону подготовленный к загрузке гроб и увидел необходимые инструменты: паяльную лампу, большой, похожий на молоток, паяльник, банку с маслянистой жидкостью, возможно, соляной кислотой, моток припоя.
— Фантазия человека безгранична, — сказал я Гурьеву, рассматривая паяльник. — Вариантов масса. Это все равно, что игра двух королей на пустом шахматном поле. Можно загонять своего противника в угол до усрачки. А он будет придумывать новые ходы и избегать нападения… Какое сегодня число? Уже двадцать второе, среда. Среда, вы слышите? А «Черный тюльпан» вылетает из Душанбе по четвергам. Значит, завтра.
— О чем вы? — не понял Гурьев.
— О том, что мафия бессмертна, дорогой Анатолий Александрович! Я нашел последнее звено, и цепочка замкнулась. Но легче от этого мне не стало. Голову распирает осознание, если хотите, чудовищного цинизма, вселенской подлости и низости… А впрочем, все разговоры о морали ныне смешны и бессмысленны.
— Вы так считаете?
— Я в этом уверен… Вы видите этот самосвал с гробами, будь он неладен? На нем мы пробьем себе путь к свободе. Надо только протаранить двое ворот — что может быть проще?
Я снова подошел к грузовику, взялся за ручку двери, и она, к счастью, поддалась, дверь раскрылась. Но встать на подножку я не успел.
— Стоять! — услышал я за своей спиной голос Гурьева и почувствовал, как к затылку прикоснулся холодный ствол. — Руки вверх!
Это было настолько неожиданно, что я даже не подумал о том, что такие команды лучше выполнять беспрекословно, хотел было повернуться, как ствол еще сильнее вжался мне в затылок. Щелкнул затвор.
— Не делайте глупостей, Кирилл, — предупредил Гурьев. — Иначе мне придется выстрелить. Снимите с плеча автомат и положите его на землю. Живо!
— Вот тебе раз! — недоуменно произнес я, опуская оружие к своим ногам. — Послушайте, Анатолий Александрович, а может быть, вы переутомились? Вы меня ни с кем не путаете?
Я услышал, как он подобрал автомат и закинул его себе на плечо.
— Повернитесь! Опустите руки!
Нет, Гурьев не был похож на человека, внезапно потерявшего рассудок. Он, держа пистолет в вытянутой руке и направив его мне в грудь, смотрел спокойным и совершенно ясным взглядом.
— Никуда мы не поедем, — сказал он.
— Разве вы решили остаться?
— Не только я. И вы останетесь.
— Нет-нет, благодарю. Но мне здесь больше нечего делать.
— На кого вы работаете?
— На Фемиду, Анатолий Александрович, на нее, родимую.
— Перестаньте паясничать. Сейчас я вызову охранку, и они легко вытянут из вас правду.
— Почему вы решили, что я говорю неправду?
— Я вам не верю, — помолчав, ответил Гурьев. — Но в любом случае вы — мой враг.
— Кажется, до недавнего времени мы с вами были союзниками.
— Это вам так казалось. Я просто контролировал ваши действия.
— Так вы вовсе не собирались бежать со мной? — искренне удивился я.
— Бежать? — усмехнулся Гурьев. — Куда?.. Сядьте. Отдохнем. Теперь уже некуда торопиться.
Он, не опуская пистолета, сел на гроб, перевернутый днищем кверху. Я лишь прислонился спиной к крылу машины.
— Значит, вы все это время просто шпионили за мной? — спросил я.
— Я назвал бы это другим словом. А вот вы как раз и шпионили.
— Гурьев, я вас не узнаю. Вы ли тот запуганный интеллигент, который летел со мной из Москвы в Душанбе и жаловался на сокращение штатов в НИИ?
— Можете не сомневаться. Но вы правы — я действительно сильно изменился.
— Короче говоря, вам здесь понравилось?
— А вам бы не понравилось. — повысил голос Гурьев, — если только за один месяц получили семь тысяч долларов, включая премиальные и подъемные? Я, наконец, почувствовал себя человеком, понимаете? После нескольких лет унижений, постоянного страха, что окажешься на улице без средств к существованию, старый, не нужный никому со своим кандидатством, со своей кафедрой, я вдруг снова почувствовал себя ученым — человеком сильным, — способным использовать свои знания и опыт во благо самому себе. И ни один человек на свете не убедит меня в том, что это плохо.
— Анатолий Александрович, — сказал я, покачивая головой. — Но ведь вы не лекарства от СПИДа производите, а наркотик. Что ж вы свою такую умную голову на такое грешное дело используете?
— Да бросьте вы! — поморщился химик. — О каком грехе вы говорите? Что теперь грешно, а что нет — вы можете определенно сказать? Но даже если можете, то кто наделил вас правом судить о грехах? Все кончено, Кирилл! Нет больше морали. Ее отменили.
— Разве мораль можно вводить или отменять?
— Увы, мой дорогой! Я когда-то тоже думал, что нельзя. Оказывается, можно. И это прерогатива тех, кто стоит у власти. Завалили страну отравленной водкой, выпустили на экраны педиков, садистов, совершенных кретинов, расстреляли из танков депутатский корпус и объявили — это нормально, это цивилизованно. А если вы посмеете смотреть на все это дикими глазами, то про вас скажут, что вы дебил, сталинист и совок… Я долго сопротивлялся, Кирилл, доказывал, что я ученый и не могу опуститься до уровня спекулянта, торгующего в заплеванных переходах пивом. А годы тем временем шли, и моя семья забывала вкус фруктов и нормальной колбасы, и моя дочь возненавидела меня за то, что я, полжизни проведший в химических лабораториях, сделавший несколько научных открытий мирового уровня, не в состоянии купить ей модные джинсы!.. Но я дождался своего часа, Кирилл! Господь услышал мои молитвы! Меня заметили, меня оценили, и за мой ум, а не за унижение у пивных ящиков, стали платить хорошие деньги, и я начал выползать из нищеты. Вы понимаете меня?
— Понимаю.
— Да что вы понимаете! — с возмущением сказал он. — Авантюрист! Вы скачете с места на место, ищете место для подвига, как юный пионер тридцатых годов! Вам плевать на человеческие судьбы, вы готовы крушить мнимое зло, подминая под себя десятки, сотни жизней ни в чем не повинных людей… С какой радостью вы нашли последнее звено в этой цепи! У вас даже голос дрожал от возбуждения. И вы снова готовы идти напролом, таранить ворота, вызывать спецназовцев, ОМОН и громить, громить. А вы не подумали обо мне? О десятках ученых, которым эта работа дает кусок хлеба? Вы не подумали о том, что это наш последний шанс устоять в жестокой жизни и не дать погибнуть семьям?.. У вас самого, кстати, семья есть?
— Нет.
— Вот видите. Потому вы неспособны меня понять, а можете лишь талдычить заученные фразы о морали и совести. Плевать мне на вашу мораль, ясно?
— Ясно. В таком случае мне плевать на ваш последний шанс… Дерьмо вы, Гурьев, а не ученый. Вы не первый, до вас уже много было подонков с учеными степенями, деятельность которых изрядно подсократила население Земли. Все это человечеству знакомо. Нет смысла долго разговаривать — вас надо просто давить вместе с вашими гениальными мозгами, как тараканов.
Гурьев усмехнулся. Ствол пистолета задрожал.
— Что ж, вот и объяснились, — произнес он. — Теперь мне легче будет вас убить или сдать охранке. И никакого пятна на совести.
— Давайте, давайте, урод. Выслуживайтесь! Да повнимательнее будьте на приемке — не дай бог, к потребителям пойдет героин низкого качества!
Лицо Гурьева исказила гримаса. Наверное, он хотел иронически улыбнуться в ответ на мои слова, но не получилось. Злость, охватившая меня, мешала сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию. Я едва сдерживал себя, чтобы не броситься на химика, не вцепиться обеими руками ему в горло — пусть даже с пулей в груди!
— Ладно. Ладно, — зашептал Гурьев, вставая с гроба. Он взялся за пистолет обеими руками. — Сейчас мы увидим, кто из нас урод… А ну, идите к воротам! Живо!
Шесть на восемь — сорок восемь, принялся я считать в уме. Таблица умножения обычно помогала мне сбросить напряжение и сосредоточиться на чем-то одном. Шесть на шесть — тридцать шесть. Семь на семь — тридцать семь. Семь на восемь — тридцать восемь… Тьфу! Сплошной кавардак в голове!
Я медленно шел к воротам. Он профан, разиня и мямлик, думал я. Химики, физики, ботаники — все они одного поля ягоды. Я просто обязан легко и бесшумно вырубить его. Будет очень стыдно, если я не сумею сделать этого и получу пулю.
Справа от меня темнела груда фанерных ящиков. От них на бетонный пол падала плотная тень.
— Я хочу закурить, — сказал я, останавливаясь.
— Обойдетесь.
— Не будьте извергом. Я и без того весь в вашей власти.
— По-моему, я вам и так позволил слишком много.
— Гурьев, вы же ученый, а не конвоир и не палач! Не позорьтесь, хватит падать! Иначе этот процесс-примет необратимый характер.
— Черт с вами, курите! Даю две минуты.
Я не спеша достал из кармана спички, тряхнул коробком, открыл его — осталось всего две. Усмехнулся про себя. Стою на краю обрыва, причем не первый раз. А не оказалось бы спичек, что придумал бы взамен?
На мгновение поднял глаза. Гурьев стоял в метре от меня, пристально наблюдая за моими руками. Так-то лучше. Я плотнее закрыл глаза, чтобы огонь не ослепил меня так, как должен был ослепить Гурьева, и чиркнул спичкой о коробок.
Три секунды, и хватит. В темноте эффект получается поразительный — проверено на практике. Я кинул спичку под ноги, беззвучно присел и, распластавшись, как паук, нырнул в тень ящиков.
Гурьев выстрелил прямо перед собой. Пуля рикошетом отскочила от бетона, выбив искру, и звякнула где-то под железной кровлей. Химик смешно крутил головой, пытаясь найти меня.
— Кирилл, вы пожалеете об этом! — испуганно забормотал он, энергично размахивая пистолетом в вытянутой руке, словно поливал из шланга воду вокруг себя. — Имейте в виду, я буду стрелять без предупреждения!
Он замолчал, замер, как восковая фигура, превратившись в слух. Я наблюдал за ним через щель между ящиков. Олух, подумал я. Клюешь на дешевую приманку. А еще за оружие хватаешься, путать пробуешь.
Взял кусок дощечки, который попался под руку, и с короткого замаха кинул его поближе к входным воротам. Она описала дугу над головой химика и брякнулась на пол. Химик вздрогнул, выдал какое-то нервное междометие, повернулся на звук и выстрелил. Одновременно с выстрелом я достал его ногой, ударив с прыжка в спину. Химик мешком повалился на пол. В течение последующих пяти секунд я заломил его руки за спину и аккуратно изъял из потной ладони «магнум».
— Вот видите, как это делается, — сказал я, садясь на химика верхом. — А вы: «Пожалеете!», «Стреляю без предупреждения!» Не сильно ушиблись?
Гурьев был настолько подавлен таким неожиданным поворотом, что не смог ничего ответить. Я пошарил вокруг в поисках какой-нибудь веревки, но нашел только кусок стальной проволоки. Это было жестоко, проволока глубоко впилась в запястья химика, но я не испытывал жалости к нему, к тому же у меня не было ничего более подходящего, даже ремня, который я использовал на Рэда.
Связав руки химику, я минуту вслушивался в тишину. Глушитель на «магнуме», кажется, спас меня — из-за ворот не доносилось никаких тревожных звуков.
— Ну-ка, дружище, вставайте! — сказал я, похлопав химика по спине.
— Лучше сразу пристрелите меня, — невнятно пробурчал он.
— Что вы! Я не палач, связанных и безоружных людей не убиваю. Мало того — я постараюсь вывезти вас на свободу.
— Зачем вам это надо?
— Понимаете, меня с детства терзает обостренное чувство справедливости, и мне очень хочется, чтобы вас судили, и чтобы вы рассказали на суде, как контролировали качество героина.
Гурьев усмехнулся.
— Я же вам объяснял: ни мне, ни вам не поверят.
— А мы с вами очень постараемся, чтобы нам поверили. Так ведь, Анатолий Александрович?
— Даже если сюда нагрянет батальон омоновцев, то в считаные минуты конвейерная линия переделывается в мини-завод по производству хлористого натрия, а героин вместе с сырьем уничтожается в серной кислоте.
— Спасибо за информацию. Я предупрежу об этом своих коллег.
Химик поднялся на ноги. Проделать это без помощи рук ему было непросто, и я помог ему.
— Мне больно, — сказал он и повел плечами.
— Я знаю, — сочувствующим голосом ответил я, — но придется немного потерпеть. Попрошу в машину!
Гурьев долго прицеливался к высокой «зиловской» подножке, и я понял, что он убьется, но в кабину сам не влезет. Пришлось его туда попросту закинуть, как багаж. Он заворчал, устраиваясь удобнее на сиденье, потом выдал тираду проклятий в адрес авантюристов, «у которых ни кола ни двора», и тупо уставился в лобовое стекло.
Я захлопнул за ним дверцу, обошел машину, сел за руль и завел мотор. Бензиновые баки полные, антифриза под завязку. Приятно, когда техника исправна и готова к эксплуатации.
— И как вы думаете отсюда выехать? Насквозь через ворота? — усмехнулся Гурьев.
Я вынул из кармана спичечный коробок, открыл его и показал химику последнюю спичку.
— При желании и она может стать ключом.
19
Из куска ветоши, который очень кстати попался под руку, я сделал что-то вроде повязок, намочил их под краном и спрятал в карман, а еще один кусок тряпки окунул в бензобак и кинул на фанерные ящики. Гурьев догадался, что я собираюсь сделать, и заерзал на сиденье.
— Вы безумец, — сказал он, и в его голосе уже слышались истерические нотки.
— Проверим бдительность пожарной команды, — сказал я и, чиркнув спичкой, кинул ее на тряпку.
Пламя вспыхнуло моментально, заурчало, словно изголодавшийся зверь, и, облизывая ящики, стало стремительно увеличиваться в объеме. Сизые струи дыма взвились под потолок, и там, набухая, покачиваясь, как низкие дождевые тучи, постепенно стали закрывать кровлю. От пламени сразу стало светло, как днем; нестерпимым жаром мне обожгло лицо и, прикрыв глаза рукой, я стал отступать к машине, заскочил в кабину, захлопнул дверь и до упора поднял стекло.
Рыжие блики скользили по кабине, по лицу химика. Он онемел, глядя на пламя широко раскрытыми глазами. Огонь тем временем добрался до самых верхних ящиков первого ряда и, ударяясь о кровлю, расползся во все стороны, подобно гигантской кисти, которую с силой ткнули в холст. Дымовая туча, переполняя пространство под крышей, опускалась все ниже и ниже и уже покачивалась над самой кабиной грузовика.
— Вы понимаете… — взвизгнул Гурьев. — Вы понимаете, что вы натворили! Пожарная команда может прибыть с опозданием… Всего на несколько минут опоздает, и мы сгорим заживо…
Я вытащил из кармана мокрые тряпки. Одну из них повязал на рот и нос химика, что заставило его на некоторое время замолчать.
Пламя гудело, словно линия высокого напряжения, во все стороны от огня разлетались искры. Тлеющие угли сыпались на лобовое стекло. Почти одновременно мы с химиком почувствовали запах гари. Он посмотрел на меня широко открытыми глазами, в которых плясало пламя, и я, несмотря на ситуацию, в которой было мало смешного, едва не рассмеялся. С белой повязкой, закрывающей половину лица, химик сейчас очень напоминал хирурга, который обнаружил в груди пациента второе сердце.
Дым качался на уровне лобового стекла, и огонь мы видели как будто сквозь густой туман. А ведь в самом деле сгорим, подумал я, глядя на то, как на капоте начинает пузыриться краска. Еще немного, и взорвутся бензобаки.
Химик заметался, застонал. Он не хотел умирать. Еще совсем недавно, минувшим вечером, он был полон планов на будущее, он подсчитывал заработанные им деньги и планировал покупки для дочери и жены. И вдруг все рухнуло, и судьбу его круто изменил авантюрист, лишенный чувства страха, безумец, маньяк, поставивший перед собой несбыточную цель победить наркомафию.
— Выпустите меня отсюда!! — закричал он и стал биться головой о дверное стекло. — Мне уже обжигает лицо!! Я задыхаюсь!! Откройте дверь, мерзавец, душегуб!!
Мне было неудобно разворачиваться и бить с левой, но даже слабого удара оказалось достаточно, чтобы химик на некоторое время успокоился. Он уронил голову на грудь, стиснул зубы, закрыл глаза и тихо заскулил.
Я рванул рычаг скоростей, дал задний ход и, насколько мог, отъехал от пламени. Впрочем, это мало помогло, потому как уже начала гореть кровля, а пирамида из ящиков, обрушившись, покрыла огнем весь пол вокруг «ЗИЛа». Дым просочился в кабину, и Гурьев кашлял, мотал головой и давился спазмами.
И тут я увидел людей. Сначала людей, а потом только различил сквозь густой дым черный проем между створками распахнутых ворот. Пришло время действовать.
Сбросив сцепление, я вдавил педаль акселератора в пол, и «ЗИЛ» с диким ревом ворвался в бушующее пламя, раскидывая во все стороны горящие ящики. Тугая струя пены из брандспойта ударила в лобовое стекло — кто-то из пожарных, должно быть, сделал это машинально, пытаясь остановить летящий на него факел, и на мгновение я ослеп, направляя машину невесть куда, ожидая удара, который сразу подвел бы черту под моей жизнью, но тотчас ожили стеклоочистители, и в окне мелькнули створки ворот, люди, размахивающие руками, темные пятна кустов, и я понял, что инстинкт сработал быстрее разума, и «дворники» я врубил раньше, чем подумал о них. Гурьева кидало из стороны в сторону, ему, в отличие от меня, нечем было держаться, и он то валился на меня, то бился головой в дверное стекло. Я гнал по ровной дороге на полной скорости, и хотя фары были выключены, асфальт впереди был освещен слабым красным светом.
Крутить ручку, чтобы опустить стекло, у меня не хватило терпения — одна секунда сейчас стоила часа обычной жизни, и я открыл дверцу, высовываясь наружу, оглянулся назад, подставляя лицо доменному зною — кузов полыхал ярким факелом, развевались на ветру куски горящего брезента, и гробы, словно в мистическом сне, подпрыгивали в огне, как живые, отбивая чечетку сатанинского танца. Я снова вцепился в руль обеими руками, захлопнул дверцу, и вслед за этим лобовое стекло вдруг помутнело, покрылось паутиной трещинок, и моей первой мыслью было, что я слишком сильно хлопнул дверцей; стекло на моих глазах стало осыпаться, в лицо ударил тугой холодный ветер, и я увидел трассеры, несущиеся, как мотыли в свете фар, нам навстречу.
— Гурьев!! — заорал я, не глядя на химика, раскачивающегося из стороны в сторону, как болванчик. — Пригните голову!! Лягте, черт вас возьми!! — И, ударив его по затылку, прижал его голову к приборной доске.
Не снижая скорости, я объехал вокруг клумбы, и «ЗИЛ», встав на два боковых колеса и едва не опрокинувшись, скинул с себя, как необъезженный мустанг, несколько гробов, которые загрохотали за нами гранатными разрывами. Еще сто метров, и я остановил полыхающую машину у ворот контрольно-пропускного пункта.
— Открывай, твою мать!! — диким голосом закричал я закованному в бронежилет и каску охраннику, высунувшись из окна.
Тот принялся размахивать автоматом:
— Назад!! — приказал он. — Шиздуй отсюда! Разворачивайся, кретин!..
— Ты что, дубина, совсем отупел у своих ворот?! — оборвал я его и постучал кулаком по лбу. — Мне приказано вывезти снаряды из склада. Сейчас так рванет, что дерьма от себя не найдешь! Убирай ворота на хрен!!
Я сочинил довольно убедительно, и охранник стал пятиться от полыхающего кузова, потом повернулся и не очень решительно коснулся кнопки электропривода. Ворота тронулись и стали медленно разъезжаться в стороны. Я нервно затарабанил пальцами по рулю, добавил газу, и машина подкатила к воротам еще ближе. Сзади раздались выстрелы — по кабине выстрелили из автоматов, и несколько пуль, выбив заднее стекло, оставили строчку на потолке. Охранник у ворот заметался, схватился за автомат, и я понял, что он сейчас остановит ворота.
— Ложись!! — крикнул я ему. — Это омоновцы!! Прикрой нас, братан!!
Чем невероятнее, тем лучше — это я тоже не раз проверял на практике. К тому же охранник попался вполне глупый. Он послушно залег и, кажется, дал короткую очередь по клумбе. Впрочем, за последнее я не ручаюсь, потому как, едва ворота разъехались на достаточную ширину, погнал машину по разбитой дороге к шлагбауму. Останавливаться у него было бы уже непростительной ошибкой, и я впервые в жизни пошел на таран. Крик охранника, выстрелы, затем удар, треск, обломки шлагбаума, свалившиеся на капот, и мы покатили по серпантину вниз. Неосвещенная дорога ослепленными пламенем глазами воспринималась как черная бездна. Я снизил скорость, едва ли не высунул голову из разбитого окна, но это мало помогло. Фары не зажигались, должно быть, по той причине, что были разбиты при ударе о шлагбаум, и ехать приходилось, образно говоря, на ощупь.
Потом я стал различать на фоне темно-фиолетового неба ломаные углы скал, нависших над дорогой, бетонный бордюр, выкрашенный известью, худые деревья на обочине. Светало. Я стал расслабляться и откинулся на спинку сиденья. Машина покатила резвее.
— Ну вот, — произнес я осипшим голосом. — А вы боялись.
Гурьев не ответил. Голова его лежала на груди и безвольно покачивалась. Я похлопал его пальцами по щеке. Никакой реакции.
— Гурьев, вы проспите свободу! — громче сказал я и только потом понял, что он мертв.
Я прижался к обочине, дернул рукоятку стояночного тормоза и откинул химика на спинку сиденья. Две пули вошли ему в шею, с правой стороны, потому я и не увидел крови.
Я вытащил его на камни, отодрал от тлеющего борта небольшую доску и снял машину с тормоза. Провожал ее взглядом до тех пор, пока она не рухнула с обрыва в пропасть. Потом, когда снова наступила тишина, освободил коченеющие руки химика от проволоки, снял с его лица высохшую и пожелтевшую от жара повязку и, судорожно сглатывая комок в горле, от которого тяжелели переполняющиеся слезами глаза, стал обкладывать его камнями. Сначала по бокам, потом на грудь, потом на лицо… Был человек — нет человека.
Сломал тонкое дерево, растущее на обочине, оторвал ветки, одну из них прикрутил тряпкой поперек ствола. Не знаю, был ли он христианином — ученые, они почти всегда без бога в душе, — но могила должна быть как-то обозначена. Достал из кармана шариковую ручку, которой вчера днем написал роковую записку о встрече, и вывел на доске:
«ГУРЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ХИМИК».
Подумал и рядом со словом «химик» приписал: «Фармацевт».
20
Я не рискнул спускаться по дороге, шел по руслу реки и каким-то звериным тропам. К полудню я выбился из сил и, укрывшись от знойного солнца в тени скалы, поспал часа два, подложив под голову обмотанный курткой автомат. Ближе к вечеру, пошатываясь от усталости, я добрел до небольшого селения Зеравшан, где в первом попавшемся дворе попросил еды и ночлега, представившись солдатом миротворческой дивизии, отставшим от колонны.
Спал я плохо, чутко реагируя на малейший шорох, и до рассвета не выпускал оружие из рук. Хозяева, несмотря на мою явную нервозность и диковатый внешний вид, отнеслись ко мне очень мило, утром накормили шурпой и помидорами и наотрез отказались взять деньги.
Из Зеравшана до Душанбе я доехал на попутке, ввалился в гостиничный номер, где отсутствовал всего два дня, с каким-то благоговением оглядел чистую комнату с кроватью, застланной белоснежным бельем, креслами, журнальным столиком, на котором еще лежали мои черновики с рисунками гринперосовского логотипа, с желтыми шторами, плывущими по волнам теплого сквозняка, идущего из приоткрытой балконной двери.
Я стащил с себя одежду и надолго застрял в душевой. Потом, отмытый, посвежевший, гладко выбритый, я сидел в кресле и любовно протирал детали «магнума», собирал и снова разбирал его, любуясь черной тяжелой игрушкой. Из куска веревки я связал что-то вроде уздечки, в которую вложил пистолет и подвязал к куртке под мышкой. Осмотрел себя в зеркале, поднял руки вверх, опустил, присел, наклонился, лег на пол. Пистолет держался в веревочной петле достаточно надежно, и достать его было легко.
Я придвинул к себе телефон, начал накручивать код Москвы и домашний телефон Анны, но в последнее мгновение передумал и опустил трубку в гнездо.
В дверь постучали, и, прежде чем открыть, я спрятал под подушку пистолет и автомат, смахнул со стола промасленную ветошь. На пороге стояла сухощавая женщина, одетая в какое-то странное платье до самого пола, очень напоминающее рыболовную сеть.
— Вы Вацура, я не ошиблась? — спросила она, протягивая мне бумажный квадратик. — Тогда срочно позвоните по этому телефону.
Я осмотрел ее с ног до головы.
— А вы, простите, кто?
— Дежурная по этажу, — ответила она таким тоном, словно мой вопрос ударил по ее самолюбию.
Я глянул на листок. Шесть цифр телефонного номера. Ни имени, ни фамилии.
— А кто вас просил об этом? Кому звонить? Я здесь, собственно, уже никому не нужен.
Дежурная пожала плечами.
— Не знаю, кому вы нужны, а кому не нужны. Можете не звонить, мне все равно.
Она повернулась и пошла по коридору, громко цокая каблуками. Рыболовная сеть колыхалась за ней, как фата.
Я закрыл дверь, снова сел в кресло и минуту рассматривал номер телефона. Не нравятся мне подобные записочки, мимоходом подумал я. Похоже, это штабной номер. Что им от меня нужно? И, собственно говоря, кому — им?
Интуиция подсказывала, что ничего хорошего звонок по этому номеру не принесет, но я уже взялся за трубку. В конце концов, придумал я оправдание, это может быть строевой отдел. Может быть, мне положена какая-нибудь страховка или справка об участии в боевых действиях.
Мне ответил незнакомый мужской голос:
— Полковник Довгий… Я слушаю вас!
— Вы просили позвонить… — начал было я, но меня перебили.
— Это Вацура? А-а, на ловца и зверь бежит! — обрадовался полковник Довгий. — Да-да, я очень жду вашего звонка. Что ж это вы пропали, а?
— В каком смысле? — уточнил я.
— В прямом, милый мой, в прямом. Давайте, рулите прямо ко мне! Сейчас я закажу вам пропуск. Записывайте адрес…
— Вы полагаете, что в этом есть необходимость?
— Полагаю, что да. И чем быстрее вы придете, тем будет лучше для вас. Уж поверьте мне.
Я опустил трубку, некоторое время смотрел на аппарат, словно он сейчас олицетворял полковника Довгого, и попытался разгадать намерения этого человека. Потом подошел к кровати, откинул подушку, сгреб оружие и, приподняв матрац, положил автомат и пистолет под него. Заправил постель, утрамбовал матрац, чтобы не было бугра.
Я уже подошел к входной двери, взялся за ручку, но что-то удержало меня в последний момент. Было такое ощущение, словно я собирался выйти из номера совершенно голым.
Вернулся в комнату, снова разворошил постель, взял «магнум» и вложил его в веревочную петлю под мышкой. Застегнул куртку, одернул ее на себе. Сунул в карман паспорт с выпиской из последнего приказа Локтева. Ну вот, так-то будет лучше, подумал я, выходя из номера. Мной вдруг овладело странное чувство, словно я последний раз в жизни шел по этому коридору.
* * *
Меньше всего я ожидал, что окажусь в военной прокуратуре. Пока мне оформляли пропуск, я, как всякий в меру законопослушный гражданин, думал о том, какое обвинение сейчас мне могут предъявить. Скорее всего, Довгий начнет припоминать недавние события на границе, когда я оставил поле боя. Кто-то, значит, оказал мне недобрую услугу и накатал донос. Кто? Игнатенко? Комбат? Командир полка?
Но то, что на самом деле сказал мне Довгий, шокировало меня своей неожиданностью и кажущейся абсурдностью.
— Заходите, — пригласил он меня в кабинет. — Садитесь.
Это был совершенно лысый, но с густыми черными бровями полковник, роста выше среднего, смуглый, сухощавый, движения его были плавными и, как мне показалось, таили в себе скрытую угрозу.
Я сел в кожаное кресло по другую сторону стола и ждал, пока полковник оторвется от своих бумаг. Наконец, он поднял свои мохнатые, как гусеницы, брови, снял очки в тонкой оправе и пристально посмотрел на меня.
— Ну, что? — задал он вопрос, на который я даже при большом желании не мог ответить.
Полковник, впрочем, удовлетворился моим молчанием, зашнуровал папку, которую изучал, отложил ее в сторону, а перед собой положил еще совсем новый, плохо разработанный на сгибе, скоросшиватель, раскрыл его и стал перелистывать бумаги. Я не мог прочесть ни слова, но заметил, что там было три документа, написанных от руки, разными почерками и чернилами, предписание и еще какие-то бумаги.
— Неважны ваши дела, — сказал Довгий. — Видите? — И он постучал рукой по скоросшивателю. — На вас заведено уголовное дело.
Круто он начал. А вдруг я человек нервный, сердце слабое, и после таких слов — хлоп! — и готов? Я не сводил взгляда с его черных мохнатеньких глаз. Довгий выжидал паузу, рассматривая мое лицо. Это, должно быть, профессиональная привычка, особая манера поведения — говорить не совсем приятные вещи и при этом наблюдать, как меняется физиономия у собеседника. Наверное, полковнику было приятно.
Он не дождался от меня града вопросов, невнятной, рваной речи и восклицаний, и вбил гвоздь по самую шляпку:
— За самовольный выезд из Душанбе. Иными словами — за уклонение от службы. Статья оч-ч-чень серьезная.
Нельзя сказать, что у меня гора свалилась с плеч, но некоторое напряжение спало. Я тотчас усмехнулся. Эх, родная армейская бюрократия! И здесь все напутали и перевернули с ног на голову.
— Чего это вы головой качаете? — удивился полковник. — Будете отрицать, что… — он нацепил очки и посмотрел в папку. — Что двадцатого числа самовольно покинули пределы гарнизона, в данном случае — Душанбе?
— Нет, это отрицать не буду, — ответил я. — И все-таки уклонения не было, потому что двадцатого я уже был уволен из армии.
— Что вы говорите! — покачал лысой головой полковник. — Снова обратимся к делу. Вот выписка из приказа. Цитирую: «М-м-м… на основании Закона о прохождении контрактной службы… так… так… считать контракт — номер, дата — недействительным и полагать Вацуру Кирилла Андреевича уволенным со службы по статье такой-то на основании приказа командира части от двадцать второго сентября сего года. Подписано: врио командира войсковой части, заверено: начальник строевого отдела». От двадцать второго, — повторил он, поворачивая папку так, чтобы я мог увидеть выписку.
Я не поверил своим глазам.
— Да, это действительно любопытно, — признался я, доставая из нагрудного кармана выписку из приказа, подписанного Локтевым. — А как тогда объяснить вот это?
— Что это? — Довгий взял у меня выписку, положил ее на стол рядом с той, которая была подшита, стал крутить головой, сличая документы.
— Странно, — пробормотал он. — Вы меня озадачили. Это что же получается? Два приказа на увольнение? Но какому верить?
— На этот вопрос нетрудно будет ответить, если вы скажете мне, кто дал вам команду завести на меня уголовное дело.
— А вот это, гражданин Вацура, уже не ваше дело, — сухо ответил Довгий.
— Хорошо. Тогда позвоните в строевой отдел, пусть там отыщут приказ, подписанный Локтевым, и зачитают его от начала и до конца.
— Давайте позвоним, — на удивление быстро согласился Довгий, поднял трубку, попросил телефонистку соединить со строевым отделом, когда ему ответили, представился и попросил поднять все приказы об увольнении за двадцатое сентября. Что ему ответили, я, естественно, не услышал, но лицо полковника вытянулось.
— Вот как, — растерянно ответил он. — И как долго они там пробудут?.. Ах, вот как!.. Ну что ж, извините.
Он положил трубку и развел руками.
— Неувязка, Кирилл Андреевич. В связи с самоубийством Локтева в штабе работала комиссия из Москвы, ворошила всю его служебную деятельность, и приказы, которые он подписал за последнюю неделю, увезла с собой в Москву.
Я повторил вопрос, который полминуты назад задал Довгий в телефонную трубку:
— И как долго они будут ворошить его служебную деятельность?
— Пока не будут выяснены мотивы и обстоятельства самоубийства.
— А на это уйдет неделя…
— Может быть, неделя.
— Или месяц?
— Все возможно, — охотно кивнул полковник.
— И как в таком случае вы намерены поступить со мной?
Полковник вздохнул, стал щелкать замком скоросшивателя, передвигать папки, тетради, авторучки, лежащие на столе.
— Вы должны меня арестовать, — помог я ему.
— Видите, как хорошо, что вы сами все знаете.
Я невольно привстал. Полковник насторожился. Улыбка, застывшая на его лице, вмиг слетела, скулы напряглись. Он оперся руками о край стола, будто тоже намеревался вскочить со стула. Переборов нахлынувшее на меня волнение, я сказал:
— Тогда я вам вот что скажу, полковник. Я скажу вам, что будет дальше. Вы отправите меня в следственный изолятор, и пока я буду там сидеть, приказ, подписанный Локтевым на мое увольнение, бесследно исчезнет. Я потребую, чтобы вы допросили двух работниц строевого отдела — ту, которая печатала приказ, и ту, которая носила его на подпись Локтеву вечером двадцатого, но обе женщины в один голос скажут, что не помнят такого, чтобы Локтев подписывал приказ на увольнение Вацуры. Адвокат ничего не сможет сделать, чтобы оправдать меня, но до суда дело не дойдет. При невыясненных обстоятельствах я повешусь в камере на альпинистском шнуре, который невесть каким образом попадет в капэзэ.
— Кирилл Андреевич! — Довгий откинулся на спинку стула и стал теребить дужку очков. — Во-первых, сядьте и не волнуйтесь. Во-вторых, ответьте мне, почему у вас такие мрачные прогнозы? Если вы уверены в своей правоте, то вам нечего волноваться. Я немедленно пошлю запрос в Москву, наличие или отсутствие приказа Локтева подтвердят мне буквально через два-три дня.
— Этого приказа не окажется в папке, — твердо повторил я.
— Вы хотите сказать, что какой-то злоумышленник вытащит его из папки? Но зачем? Кому надо сажать вас в тюрьму?.. Что вы молчите? А насчет свидетельских показаний служащих — полный абсурд! Женщин, в самом деле, я допрошу, заранее предупредив об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
— За большие деньги, полковник, не то что какого-то Вацуру — родину не задумаясь продадут.
— Вот что! — Довгий посуровел. — Хватит мне здесь предположения строить! Меня интересуют только факты. Я не могу сделать вывод об отсутствии состава преступления, исходя из ваших глупых гипотез. — Он поднял трубку телефона. — Алло! Коммутатор?.. Комендатуру, пожалуйста… Кто спрашивает? Полковник Довгий из военной прокуратуры. Мне нужен наряд патруля…
У меня не было времени на раздумья, отчаяние едва не парализовало волю, казалось, что я уже не в силах найти выход из создавшегося положения, но рука будто сама расстегнула пуговицу куртки, скользнула внутрь и нащупала нагревшуюся от моей груди рукоятку «магнума». Я вытащил пистолет (не так красиво, как получалось в гостинице — слишком узкая петля не сразу отпустила ствол), глушителем прижал клавишу на телефонном аппарате и, вытянув руку, нацелил ствол в середину лысого черепа.
Он на секунду застыл с трубкой в руке, затем, бледнея, медленно опустил ее в гнездо телефона.
— Ну, Кирилл Андреевич, — изменившимся голосом произнес он. — Это вы зря. Об этом вы очень пожалеете. Считайте, что вы сами закопали себя по горло в дерьмо.
— Пусть будет так! — Я попятился к двери, не опуская пистолета, закрыл дверь на замок, подошел к полковнику. — Сейчас вы заведете новое уголовное дело. Только не знаю, хватит ли у вас на это скоросшивателей. Томов двадцать обещаю. Поднимайте трубку, звоните коменданту аэропорта.
— Безумец, — прошептал Довгий, протягивая руку к телефону. — Мне вас искренне жаль… Алло, коммутатор! Коменданта аэропорта… — Он прикрыл микрофон ладонью, поднял на меня глаза. — Что вы хотите? Говорите сразу!
— Сегодня должен взлететь «Черный тюльпан». Поинтересуйтесь у коменданта, есть ли у него заявка или накладная из госпиталя на груз «двести». Пусть зачитает вам фамилии погибших.
Полковник думал над тем, что я ему сказал, пронизывая меня своими черными глазами, потом перевел взгляд на ствол пистолета.
— Хорошо, — кивнул он. — Только уберите пушку. У вас дрожит палец, и мне не хочется, чтобы произошел случайный выстрел. Хватит одного, так сказать, самоубийства.
— Что?! — выдохнул я. — Что вы сказали? Еще одного самоубийства? На что вы намекаете?
— Ни на что! — зло ответил полковник. — Мне говорить с комендантом или нет?
Я до боли сжал зубы и опустил руку с пистолетом. Губы Довгого перекосила короткая усмешка. Он прижал трубку к уху.
— Алло, Саша? Здравствуй, дорогой, это Довгий тебя беспокоит.
Быстро взял себя в руки, с некоторой долей зависти подумал я. Даже голосом не выдает волнения.
— Скажи мне, пожалуйста, «Черный тюльпан» в плане на вылет стоит?.. Сегодня в семнадцать ноль-ноль? Хорошо… Нет, нет, бога ради, мне никуда лететь не надо, тем более таким бортом. Меня интересует, что там в заявке из госпиталя?.. Семь гробов. Понятно. А фамилии можешь назвать?.. Так, Локтев, это само собой. Умаров… Ниязов… Сапармуратов… Откуда эти хлопцы? Погранцы? — Полковник выразительно посмотрел на меня, мол, запоминай. — Так, еще трое. Гусев… Искренко… Марыч… Откуда они? Двести первая. Это в ту ночь, когда «духи» заставу жгли?.. Ага, понял! Ну, спасибо, Саша.
Я снова нажал клавишу на телефоне. Пальцы, в самом деле, у меня дрожали. И дышал я так часто и глубоко, словно только что пробежал стометровку.
— Ну, вот мы и приплыли! — с трудом произнес я. — Вот теперь все ясно.
— О чем вы? — поморщился Довгий.
— О том, полковник, что в «Черный тюльпан», кроме мертвецов, сегодня загрузят мертвую душу… Господи, все гениальное просто! Это один из тех немногих ящиков, которые ни одна таможня в мире не проверяет. И почему я не догадался об этом раньше?
— Вы бредите? — участливо спросил Довгий.
— Никакого Гусева, понимаете, ни живого, ни мертвого, в моем взводе не было, и в ту ночь погибло только два солдата из двести первой! Я собственными глазами видел убитых!
— Должно быть, вы сильно заблуждаетесь.
— Если бы вы почаще так заблуждались, то, может быть, они не чувствовали бы себя хозяевами положения. — Я взглянул на часы. — Скоро полдень, у нас не так много времени. Вызывайте машину к подъезду. Сейчас мы с вами поедем в госпиталь, и я покажу вам нечто любопытное.
— По-моему, мы несколько отклонились от темы, — сказал полковник, откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу за ногу, показывая тем самым, что не намерен куда-либо ехать. — Ваши мертвые души к делу не относятся. Вынужден повторить: на вас заведено уголовное дело и до окончательного расследования всех обстоятельств вы обязаны находиться под стражей. Одумайтесь, сдайте оружие — эго в ваших же интересах. Если вам в самом деле известны какие-либо факты правонарушений, то об этом можете подробно написать на мое имя.
Затрещал телефон, полковник протянул руку, но я опередил его и прижал трубку к аппарату.
— Не трогать!
Довгий пожал плечами, мол, ваша воля, и закурил. Звонки раздражали. Я поднял трубку и тотчас снова опустил ее.
Довгий явно тянул время. Он успел представиться дежурному по комендатуре и попросил выслать патрульный наряд. После этого связь оборвалась. Не из комендатуры ли сейчас пытались дозвониться? Как бы в самом деле не выслали наряд.
Полковник с удовольствием демонстрировал мне свое спокойствие. Он считал, что уже полностью овладел ситуацией, а я проиграл по всем статьям. Когда он затягивался, то прикрывал рукой усмешку. Он не боялся меня и, должно быть, предвкушал громкий процесс.
У меня оставалось всего пять патронов, их надо было экономить, но для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, пришлось выстрелить. Я нажал на курок в тот момент, когда Довгий коснулся сигаретой края пепельницы. Пистолет глухо щелкнул, тяжелая хрустальная пепельница брызнула во все стороны осколками, Полированная щепка, оторвавшаяся от края стола, упала на подоконник. Полковник, вздрогнув, с опозданием отдернул руку, растерянно провел ладонью по щеке, оцарапанной стеклом. Я сделал шаг, встал за его спиной и приставил ствол к затылку.
— Вы сами понимаете, что мне уже нечего терять, — сказал я. — Поэтому иду ва-банк. Если вы сейчас не выполните мои требования, я вас убью.
Ну вот, стоило всего лишь раз продемонстрировать возможности «магнума», как человека словно подменили.
— Хорошо, — быстро ответил полковник. Я заметил, как напряглись мышцы его шеи. Он поверил, что я могу выстрелить в него. — Вызывать машину?
— Да. Потребуйте срочно, немедленно.
— Хорошо, я все сделаю. — Он взялся за телефон, попросил соединить его с парком. — Немедленно машину к подъезду! Я уже выхожу.
21
Вопреки моим ожиданиям машину из прокуратуры на территорию госпиталя не пропустили. Может быть, Довгий схитрил и не показал дежурному пропуск-«вездеход».
— Пусть ждет на стоянке, — сказал я, кивнув на водителя. — А мы с вами пойдем пешком.
Пока я сидел в машине, то время от времени незаметно для водителя касался стволом пистолета спины полковника, чтобы тот не забывал об убойной силе пули и не вздумал шутить. Когда же мы вышли, мне пришлось спрятать «магнум» под куртку. Полковник почувствовал себя в большей безопасности и стал слишком активно крутить головой из стороны в сторону. Как нарочно, он шел очень медленно, и мне приходилось едва ли не подталкивать его.
С главной аллеи к моргу надо было свернуть сразу же за фонтаном, но полковник пошел прямо, к хирургическому корпусу. Я не успел его предупредить, как он, увидев впереди себя офицера, участил шаг, замахал рукой. Вокруг было слишком много людей, чтобы я мог достать пистолет.
— Остановитесь! — зашептал я. — Не заставляйте меня…
— Геша! — крикнул полковник, не обращая на меня внимания. — Лаврентьев!
Офицер, которого звал Довгий, остановился, близоруко прищурился, улыбнулся и тоже взмахнул рукой.
— Здорово! — отозвался он. — Только вчера вспоминал тебя, да все никак не собрался позвонить. Какими судьбами в наши края? Хвораешь?
Они быстро шли друг к другу, и я начал отставать от полковника. Все, подумал я, судорожно стискивая рукоять пистолета под курткой, я его упустил. Хитрая крыса, он сделал так, чтобы машину не пропустили, и повел меня пешком по центральной аллее, где наверняка можно было встретить знакомого.
— Слушайте меня, полковник, — зашептал я Довгому со спины. — Я даю вам пять минут. После разговора останетесь на месте и будете ждать меня до тех пор, пока я сам не подойду к вам. Если попытаетесь уйти — я не промахнусь, даю вам слово. Наблюдаю за вами из кустов.
Я не был уверен, что это предупреждение изменило ситуацию в мою пользу, но, уходя, надо было что-то сказать. Довгий обнялся с Гешей, они похлопали друг друга по плечу, а я, не снижая темпа, свернул на тропу. Перед тем как скрыться за кустами, на мгновение оглянулся и поймал взгляд Довгого.
Даже если он сейчас поднимет тревогу, думал я, бегом пересекая лужайку, разделяющую главную аллею и хирургический корпус, то отыщет меня не сразу — я ведь ничего не говорил ему про морг, а сказал лишь, что мы едем в госпиталь.
Еще издали я увидел, что у входа в морг стоит автофургон с красным крестом на борту. Ни водителя, ни кого-либо другого рядом не было, и я зашел в двери незамеченным, закрыл их за собой и через ручку просунул доску, запирая, как на засов.
— Бленский! — крикнул я, и мой голос разнесся по коридору эхом. — Бленский, черт тебя возьми, куда ты пропал?
Начальника морга, повидавшего на своем веку многое, начальственный окрик не испугал. Он лишь вяло отозвался из своего кабинета, и я расслышал что-то вроде: «Кого еще там принесло?»
Я открыл дверь его кабинета ногой. Начальник морга сидел за столом и пил чай. Рядом со стаканом пестрела этикетками горка конфет. Увидев меня, Бленский сгреб конфеты в ящик стола, закинул черную прядь на лысину и разочарованным голосом сказал:
— А, это ты, Вакула. Громко очень. Чай будешь?
Я стремительно подошел к столу, смел с его поверхности на пол чашку, книги и журналы, схватил Бленского за горло и тотчас приставил к его голове ствол пистолета.
— Прощайся с жизнью, — сказал я голосом, не сулящим ничего хорошего. — Ты будешь восьмым, кого сегодня погрузят в «Черный тюльпан».
Бленский стал энергично дожевывать конфету. При этом он медленно вставал из-за стола. Чуб снова свалился с лысины и закрыл ему пол-лица. Я оттянул пальцем ударник, и «магнум» очень впечатляюще клацнул.
— Что я тебе сделал? — прохрипел Бленский. — Не надо стрелять, давай объяснимся…
— Давай! — Я оттолкнул его от себя, и Бленский ударился спиной о металлический сейф, стоящий позади него. — Где гробы?
— Какие гробы? — Бленский еще приходил в себя, крутил шеей, массировал ее рукой и не понимал, о чем я его спрашиваю.
— Которые будут отправлять «Тюльпаном»!.. Быстро отвечать! — Я сунул ствол ему под нос. — Все делать быстро и четко, ты меня понял?
— Да, да, да! — закивал Бленский. — Гробы в преисподней.
— Где?
— Ну, там, у входа, комнатушка. Я ее так называю.
— Веди!
Задевая угол стола, стулья, Бленский выскочил в коридор и, оглядываясь на меня, засеменил к входу.
— Где водитель фургона?
— Пошел за солдатами. Чтобы помогли загрузить… Вот здесь гробы.
— Открывай!
Он стал хлопать себя по карманам, будто отряхивался от пыли, вытащил ключи, дрожащей рукой долго ковырялся в замке и, наконец, открыл дверь. Я по-джентльменски пропустил его вперед и, закрыв за собой дверь, знаком показал ему, чтобы он заперся.
Мы стояли в маленькой комнате, в которой из мебели находился лишь стол. На единственном окне висели жалюзи, оттого в «преисподней» было сумрачно. На полу, перпендикулярно к стене, стояли одинаковые ящики, сколоченные из неотшлифованных и плохо подогнанных друг к другу досок. Сквозь щели проглядывал белый металл.
— Накладные!
Голос невольно стал тихим — почти шепот. Говорить громко в присутствии покойников было кощунственно.
Бленский метнулся к столу, сгреб с него бумаги и принес их мне.
— Тут накладные, разрешение и остальная документация.
Я опустил глаза и посмотрел на накладную, лежащую сверху. Груз, учетный номер, получатель, а ниже — наименование груза: «Локтев Владимир Данилович. Вскрытию не подлежит».
Я судорожно сглотнул. «Наименование груза»… Что ж это за дебил такой, окончательно отупевший бюрократ, которому пришло в голову оформлять на погибших — на войне или нет, неважно — такие накладные?
Следующий — Умаров, затем Марыч, Сапармуратов, Искренко… Двое последних, как и Локтев, адресованы на Москву. И гробы так же не подлежат вскрытию. Значит, тела изуродованы сильно. Мальчишки, мальчишки, упаковали вас, пронумеровали, превратили в груз, и к вашим светлым именам цепляют мертвые души.
Накладная на Гусева Анатолия Ивановича была последней. Учетный номер — 37/99. В графе «Получатель» — «Москва, Волзов Игнат Юрьевич (по требованию)».
Бленский заметил, что я долго рассматриваю накладную на Гусева, и стал волноваться. Его руки пришли в движение: он то почесывался, то теребил свои редкие волосы, то поправлял на себе рубашку. Я пошел вдоль ящиков, сверяя номер. Вот он, крайний справа, 37/99.
Если я ошибаюсь, подумал я, то душа этого мальчика меня до конца жизни в покое не оставит.
— Отрывай доски! — сказал я Бленскому, чувствуя, как у меня начинает предательски дрожать голос.
— Какие доски? — глаза начальника морга наполнились ужасом.
Я кивнул на ящик.
— Зачем? — едва слышно произнес он.
Я не знал, что ему ответить, смог лишь взмахнуть пистолетом и произнести:
— Ну!
Бленский нерешительно подошел к ящику и встал над ним, не зная, за какую доску хвататься.
— Да проснись же ты! — взорвался я и толкнул его в спину.
Бленский рванул на себя одну доску, вторую.
Они были прибиты короткими гвоздями и отдирались легко.
— Хватит? — спросил он.
— Весь верх отдирай! Время, Бленский, время!
В «преисподней» стоял жуткий треск и скрип, словно ожили все покойники и стали ломиться на волю. Меня трясло, как в лихорадке. Я начал ходить по комнате взад-вперед, поглядывая на согнувшегося Бленского, на обнажившееся нутро ящика, в котором матово поблескивала крышка цинкового гроба.
Он полностью разобрал верх ящика и, повернувшись ко мне, выпрямился. На его лбу выступили капельки пота, черная прядь налипла к румяной щеке, почти закрыв собой один глаз.
— Теперь открывай крышку гроба, — едва слышно сказал я.
Бленский судорожно сглотнул, машинально потянулся рукой к воротнику, но там пуговица была уже расстегнута, и тогда он начал нервными движениями зачесывать волосы на лысину.
— Тут дело… вот в чем, — произнес он. — Этот гроб вскрытию не подлежит.
— То есть? Что это значит?
Бленский развел руками в стороны.
— Там мало что осталось от человека. Труп обезображен… Надо щадить нервы родственников.
— А ты сам видел этот труп?
Бленский не совсем уверенно кивнул, точнее, просто склонил голову на бок.
— Я подписал заключение патологоанатомов… — начал было он, но я оборвал его.
— Бленский, я спрашиваю тебя, видел ли ты своими глазами этот труп?
— Н-н-нет, — с трудом выдавил он из себя.
Я глубоко вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Рука с пистолетом отяжелела, я уже с трудом держал «магнум», будто это была десятикилограммовая гантель.
— Значит, так, — сказал я, не скрывая угрозы в голосе. — Выбирай одно из двух: либо ты отправляешься на «Черный тюльпан» в этом ящике с дыркой в голове, либо рассказываешь все про этот гроб. Все, что тебе известно. Считаю до трех…
— Я расскажу! — охотно согласился Бленский, не сводя глаз с черного цилиндра глушителя. — Этот гроб я получил с завода, где их клепают. Пришла очередная партия гробов, а вместе с ними — этот.
— И тебе заплатили, чтобы ты отправил его в Москву?
— М-м-м… Да.
— Что в нем?
— Клянусь, я не знаю! Я его не пытался вскрыть, а окошко изнутри замазано известью.
— Ты даже не догадываешься, что там?
Бленский пожал плечами.
— Меньше знаешь, лучше спишь… Наверное, какая-нибудь контрабанда.
— А ты не боишься, что кто-нибудь проверит накладные? Откуда ты взял этого Гусева?
— Сделать липовую накладную несложно. В комендатуру аэропорта я отправляю заявку только на количество гробов, фамилии там никого не интересуют. А если меня проверит какая-нибудь комиссия из штаба миротворцев, я объясню, что Гусев погиб десять дней назад, но так как долго выясняли личность погибшего, отправляем гроб только сейчас.
— Но реально тело Гусева уже было отправлено?
— Конечно. Две недели назад. Но, повторяю, комендатура не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть, что я отправил именно его.
— А заявка? Ты ведь указываешь в ней точное количество гробов.
— В прошлый раз я указал пять, включая гроб Гусева, но если меня сейчас о нем спросят, скажу, что в тот раз отправил четыре, потому что не успел выяснить ни личности погибшего, ни адреса родственников. А у комендатуры документации никакой — я лично убедился.
— Ну ты жук! — покачал я головой. — И сколько таким образом ты уже отправил мертвых душ?
— Пять, — опустив глаза, ответил Бленский.
— И все — на одно и то же имя?
— Да.
— А как получаешь гонорар?
— Его привозит водитель грузовика вместе с гробом.
— Неужели грузовик с гробом так просто пропускают на территорию госпиталя?
— Это камээсовский грузовик. У него пропуск-«вездеход».
Я сел на крышку гроба, расстегнул куртку, подул на взмокшую грудь.
— Умница ты, Бленский, — сказал я. — Пожалуй, я не стану тебя убивать. Тебя убьют те, кто тебе платит. Не сегодня-завтра, но тебя обязательно хлопнут — на том свете вспомнишь мои слова. И правильно сделают, что хлопнут, потому что ты жадный человек и зарабатываешь деньги на погибших ребятах. А это большой грех.
22
Фельдшера Бошляева в «преисподнюю» Бленский не впустил, лишь слегка приоткрыл дверь, взял у него паяльную лампу топор, ломик и снова запер дверь на ключ.
Гроб был очень тяжелый, я едва смог приподнять одну его сторону. Бленский же со своими зеленоватыми и тонкими ручками вообще чуть не помер над ним.
— Наплодили задохликов, — вполголоса ругался я, переворачивая ящик на бок и вытаскивая гроб на цементный пол. — Не стой как столб! — крикнул я ему. — Разжигай паяльную лампу, или это ты тоже не можешь сделать?
Он встал на колени и принялся подкачивать воздух в бачок лампы. Я искоса наблюдал за ним. С гулом из форсунки вырвалось пламя. Бленский принялся его регулировать и нечаянно загасил.
— Тебе только с покойниками общаться! — покачал я головой. — Быстрее, Бленский, времени нет!
Он, конечно, не понимал, почему времени нет, он не мог знать о том, что я почти довел до дверей морга прокурора, но тот, подлая душа, сумел вывернуться и сейчас наверняка поднимает по тревоге роту спецназа, требует обыскать всю территорию госпиталя и найти особо опасного преступника.
Бленский стал обжигать тонкую полоску спайки, а я, пока металл был мягким, отрывал крышку ломиком. Мы возились с гробом минут десять или даже больше. «Преисподняя» наполнилась удушливым запахом горячего металла. От огня лампы воздух в ней нагрелся, как в парной. Я уже стащил с себя куртку, но крупные капли пота продолжали стекать по груди, падать на пол, и цементный пол вокруг гроба покрылся темными пятнами.
— Готово, — сказал Бленский, закручивая пламя.
— Тогда хватайся за крышку, — сказал я. — Чего уставился на меня? Страшно?
Мы взялись за крышку и стали ее поднимать.
Бленский кряхтел, прикусывал губу, показывай язык, словом, трудился вовсю. Крышка, наконец, оторвалась от гроба. Мы опустили ее на пол. Я выпрямился, посмотрел в гроб и едва не вскрикнул от неожиданности. Мертвец!
— Черт вас подери! — с облегчением выругался я мгновение спустя, присмотревшись внимательнее. — И тут не могут без конспирации обойтись.
В гробу лежало пухлое чучело человека, точнее, пятнистая форма — куртка и брюки, — туго набитая начинкой.
— Ну-ка, давай этого парнишку вытащим, — сказал я Бленскому, который от удивления никак не мог закрыть рот и оторвать взгляда от чучела. — И отнесем его в туалет.
— К-куда? — не понял Бленский.
— В туалет!! В сортир, черт тебя подери! — крикнул я. — Проснись, включи мозги, пока я тебе их не продырявил!
Я взялся за «ноги», Бленский — за «плечи». Чучело тянуло не меньше, чем килограммов на пятьдесят. Пятясь спиной, я вышел в коридор. Бленского заносило, ноги его подкашивались, и он принялся обтирать собой покрытые побелкой стены. Перед самым туалетом чучело выскользнуло из его рук, и к унитазу я дотащил его один.
— Чудеса, — пробормотал Бленский, глядя, как я, расстегнув несколько пуговиц на куртке, вытащил из нутра полиэтиленовый пакет с сероватым порошком, подкинул его на ладони и поднес к лицу Бленского.
— Вот так-то, некрофил, — сказал я. — А знаешь ли ты, что это такое?.. Нет, не стиральный порошок и не удобрение. Это героин, Бленский. Чистейший героин.
Я вогнал пальцы в пакет, разорвал его и высыпал содержимое в унитаз.
— Не стой, помогай мне! Раз-два, вскрыл, высыпал, взял новый. Ясна задача?.. Кто это там гремит?
Мы оба замерли, прислушиваясь. С противоположного конца коридора доносился громкий стук.
— В дверь ломятся, — прошептал он.
— Это прокуратура, — убедительным голосом ответил я. — Все, Бленский, твоя песенка спета. От наркотиков ты не отмоешься до конца своей жизни, учитывая, что она будет чрезвычайно короткой.
— Дверь заперта? — спросил он меня и посмотрел так, словно молил о пощаде.
— Да, но это не остановит солдат, если они начнут брать морг штурмом.
— Что же делать? — плаксивым голосом произнес он.
— Иди к двери, требуй, чтобы не мешали работать.
Он выскочил в коридор, подбежал к двери, откашлялся и, стараясь говорить сердито, спросил:
— Кого там принесло?
— Это полковник Довгий из прокуратуры, — услышал я голос из-за двери, — Откройте, пожалуйста!
— Посторонним вход воспрещен!
— Мне надо только спросить у вас…
— Не мешайте работать! Мы готовим к отправке тела убитых. Зайдите через три часа.
— Я хочу вас предупредить, — не унимался Довгий, — что у вас могут быть неприятности, если вы не откроете мне.
— Я занят! — отчаянно крикнул Бленский и, повернувшись, посмотрел на меня. Я кивнул, мол, правильно говоришь, продолжай в том же духе.
— У вас нет посторонних? — спросил Довгий и снова ударил по двери, похоже, ногой.
— Нет, одни покойники, — ответил Бленский. Вот жук, подумал я, еще шутить пытается.
— Я сейчас позову начальника госпиталя, — пригрозил Довгий. — И нам придется говорить в иной обстановке.
Голос за дверью смолк. Похоже, Довгий в самом деле пошел за начальником госпиталя. На цыпочках подлетел ко мне Бленский.
— Господи, я пропал! — заскулил он. — Если он приведет начальника, я не имею права не открыть. Что же делать? Что делать?
Он заламывал руки и с надеждой смотрел на меня, как обвиняемый на судью, которому предстоит вынести окончательный приговор. Я оттолкнул его, подошел к двери, пригнулся и посмотрел в щель. Метрах в двадцати от входа стоял солдат с повязкой и штык-ножом на поясе.
— Так я и знал, — вслух подумал я, зашел в «преисподнюю», сдвинул край жалюзи в сторону. Еще один солдат сидел на корточках в тени дерева. Рядом со мной засопел Бленский.
— Видел? — спросил я его. — Обложили. Уйти уже невозможно.
— Надо быстрее выкинуть весь порошок! — взмолился Бленский. — Пожалуйста, давай выкинем его к чертовой матери! Сейчас припрется начальник госпиталя.
— Да, — кивнул я. — Мне кажется, что ты сразу же отправишься за решетку. Что касается меня, то я врать прокурору не буду и честно расскажу им все, что мне известно.
К моему величайшему изумлению, Бленский грохнулся передо мной на колени, сложил свои синие ладошки и плачущим голосом заговорил:
— Умоляю! Умоляю! У меня двое детей, нам сейчас квартиру в Подмосковье дают. Я завязываю с этими делами! Никогда в жизни больше заниматься этим не буду. Я умоляю тебя — не выдавай! Что для этого надо сделать? Я все сделаю, все что захочешь.
— Ну ладно, вошь ползучая, — примирительно сказал я. — Согласен. Но если меня возьмут — я расскажу все.
— Да, да! Хорошо, хорошо! — Бленский так энергично закивал головой, что у него, как мне показалось, непременно должны были обломаться шейные позвонки. — Я тебя спрячу. Тебя никто не найдет.
— Ты меня спрячешь в гроб.
Бленский вытаращил на меня свои и без того выпученные глаза, приоткрыл рот.
— Куда-а-а? — одними губами прошептал он.
— В гроб, — повторил я. — На место этого чучела. Накроешь крышкой, заколотишь ящик и отправишь на «Черный тюльпан». Чего ты вылупился на меня? Что тебе не понятно?
— Все понятно, просто… я подумал… в гробу прятаться…
Все правильно понимал Бленский. Ложиться живому человеку в гроб — дело не самое приятное, но я решил играть до конца в эту дикую игру.
Мы вложили гроб в ящик. Я с содроганием посмотрел на цинковое ложе, выбил ногой маленькое стеклянное окошко, вырезанное сбоку, перекрестился и встал обеими ногами на дно гроба.
До нас снова донесся грохот из коридора. Кажется, уже несколько человек били ногами во входную дверь.
— Старший лейтенант Бленский!! — орал кто-то за окном. — Немедленно откройте дверь, иначе я прикажу ее выломать!
Я лег. Плечам, оказывается, было тесно, и мне пришлось чуть повернуться на бок. Зато по росту гробик был в самый раз.
— Ну-ка, Бленский, принеси мне одну пачку героинчика. Буду в дороге тащиться.
Начальник морга сбегал в уборную и принес мне пакет. Я кинул его себе под ноги.
— Закрывай! — сквозь зубы произнес я, потому что мне было страшно. Ну что такое гроб? — успокаивал я сам себя. Обыкновенный ящик. Похож на лодку. Мне ведь не страшно будет лечь на дно лодки.
Бленский, кряхтя, подтащил крышку.
— Имей в виду, Бленский, — напоследок предупредил я. — Если ты что-нибудь не так сделаешь — я тебя из гроба достану и не промахнусь.
Входная дверь визжала, скрипела, от грохота, казалось, содрогались стены. Крики на улице утихли. Пришло время решительных действий.
Крышка грохнулась на гроб и едва не достала меня по носу. Я на всякий случай подставил руки. Бленский придавил крышку, похоже, сев на гроб верхом.
— Нормально? — услышал я его приглушенный голос — уже из внешнего, далекого мира.
Потом я слышал, как он приколачивал к ящику оторванные доски.
И все стихло. Меня похоронили.
23
Я лежал минут пятнадцать в полной тишине и не двигаясь, пока у меня не начала ныть спина. Пришлось перевернуться на бок, что было не так просто сделать. Лежа на левом боку, я мог смотреть в окошко, и хотя доски ограничивали поле зрения, все же можно было определить, где я нахожусь и есть ли кто-нибудь рядом.
Потом до моего слуха долетел звук открываемой двери. Я затаил дыхание. Забубнили голоса. Слов я разобрать не мог, но мне показалось, что задает вопросы Довгий, а Бленский оправдывается, но полковник прерывает его и снова о чем-то спрашивает.
Это продолжалось недолго. Голоса стихли, дверь захлопнулась. Я перевернулся на живот, а руку с пистолетом положил под голову. М-да, покойникам, оказывается, не так-то сладко лежать в этих корытах. Тесно, скучно, тоскливо. А с другой стороны, их уже ничто не волнует, не тревожит, они надежно отгородились от пакостного, порочного и продажного мира цинковыми или деревянными стенками, и им уже нет никакого дела до того, что там, в наружном мире, творят политики, насколько возросли цены, когда наступит экологический и энергетический кризисы. И самое главное — уже нет страха перед будущим, таящим в себе мрачную неизвестность. Покойник — сама вечность. Его будущее безгранично. Он — тлен, частица строительного материала, из которого сделана земля — самое великое творение природы.
Эти размышления несколько успокоили мою экзальтированную нервную систему, и я пришел к выводу, что если к смерти относиться с подобных позиций, то найдешь в ней столько плюсов, что она может стать почти что приятным и желанным событием.
Между тем время моего загробного, а точнее, — внутригробного существования бежало стремительно. Я поднес руку с часами к окошку. Шестнадцать десять. Значит, до отлета «Черного тюльпана» оставалось меньше часа. Снаружи опять заскрипела дверь, раздались звуки шагов, голоса.
— Поехали! Дружненько! О-о-оп!! — сказал кто-то. — Только не ронять!
Началась погрузка. Я лежал на спине, как положено всякому порядочному покойнику, только одежда на мне пропотела насквозь. Пистолет я держал на уровне груди, направив ствол в крышку. Произойти могло все, что угодно, даже самое непредвиденное.
— Последний! Поехали! — скомандовал тот же голос.
Краем глаза я увидел сквозь щели в досках ботинки на высокой шнуровке, переступающие с места на место, и почувствовал, как взмыл вместе с гробом вверх и закачался на солдатских руках.
Выносили меня, засранцы, небрежно. Трижды задевали стены и косяк двери и вдобавок накренили гроб, и только благодаря тому, что вовремя уперся локтями в стенки, я не съехал на крышку, которая неминуемо открылась бы под моей тяжестью.
Меня втащили в фургон. Странное чувство испытываешь в те минуты, когда слышишь вокруг себя надрывное сопение, стоны, ругань, когда покачиваешься, как на волнах, на руках людей, и ничем, даже слабым движением пальца, не пытаешься им помочь, хотя здоров и силен, и вместе с этим приходит осознание собственной исключительности, своего особого положения, возвышающею тебя над остальными людьми, во всяком случае, над теми, которые в этот момент надрываются под тяжестью твоего тела. Должно быть, что-то похожее переживали восточные цари, египетские фараоны и иные правители, которых рабы носили на руках.
Захлопнулась дверь фургона. Машина тронулась. Я постепенно свыкался с новой для себя обстановкой, постепенно угасал шок, вызванный моей безумной выходкой, напоминающей затяжной прыжок, когда в первые секунды свободного падения ничего не соображаешь, лишь слышишь нарастающий свист в ушах, чувствуешь дурноту, пустоту в животе и видишь только беспорядочную смену земли, неба и облаков перед глазами; затем тело расслабляется, мысли приходят в порядок, мозг начинает воспринимать ситуацию и адекватно реагировать на нее.
У меня появилось время спокойно подумать о том, в какую очередную авантюру я влез и что может ждать меня впереди.
Очень скоро «Черный тюльпан» должен оторваться от земли и увезти меня в Москву. Четыре часа полета, и мы приземлимся в одном из столичных аэропортов. Что потом? Потом гроб под номером 37/99 получит некий Волзов Игнат Юрьевич, погрузит, надо полагать, в грузовик или катафалк и куда-то повезет. Затем я услышу, как со скрипом и треском отрывают доски от ящика, как поддевают крышку гроба и — привет из Таджикистана!.. Можно представить, как вытянутся рожи у тех, кто собирался увидеть в гробу набитое героином чучело.
Я хрюкнул от смеха, повернулся на другой бок и стал дальше предсказывать свое будущее.
Можно, конечно, ради прикола как следует припугнуть этих мафиози, скажем, завыть дурным голосом, закатить глаза, привстать из гроба. Все это, конечно, будет очень смешно. А потом… А потом они, естественно, убьют меня по-настоящему, для начала разогрев утюг на моем животе и отбив почки, вытягивая из меня признание, куда я дел героин. Вполне возможно, что еще полуживого опустят в этот же гроб и зароют где-нибудь в лесу. Приблизительно так оно и будет, в этом можно не сомневаться.
После такой перспективы мне уже не хотелось смеяться. Я поднес к лицу пистолет, отстегнул магазин. Четыре патрона. Фактор внезапности, конечно, давал мне большое преимущество. Когда люди открывают гроб и видят нацеленный в лоб ствол пистолета, состояние полного оцепенения можно гарантировать. Если вскроют гроб, скажем, два человека, то справиться с ними мне будет несложно. А если пятеро? Или целая банда, обвешанная оружием?
Я, конечно, здорово рисковал, и степень риска до конца осознал только сейчас. Этот цинковый снаряд, бесспорно, забросит меня в самое осиное гнездо, проникнуть куда я давно пытался. Но что я смогу сделать там один?
Я лежал в душном гробу и нервно гладил ладонью рифленую рукоятку пистолета. Я отдал себя в руки судьбы, и сейчас она определяла мою дальнейшую жизнь. Я сделал шаг, ступил на конвейер, который потащил меня в неведомую и опасную даль. Четыре патрона в пистолете, крепкий кулак да голова на плечах — вот все, что я мог противопоставить своему врагу, которому давно объявил беспощадную войну.
В самолете я умудрился заснуть, и, хотя сон был чутким и тревожным, мне приснился кошмар, будто я проспал прилет, выгрузку и открыл глаза только тогда, когда гроб с почестями закопали в землю. И вот я пытаюсь открыть крышку, бьюсь в нее головой, кричу в окошко, через которое внутрь засыпается влажная земля, задыхаюсь, но все тщетно — там, сверху, уже отгремел оркестр, уже возложены цветы, и люди в черном медленно расходятся, и никто не слышит жалкий вопль, доносящийся из-под земли.
Наверное, я проснулся от собственного крика и несколько минут лежал неподвижно, прислушиваясь к бешеному стуку сердца. Мерно гудели моторы самолета, сквозь щели ящика пробивался тусклый свет дежурного освещения. Я поднес руку с часами к глазам: десятый час вечера.
Тело ныло, словно меня долго били, и я мечтал только о том, чтобы встать, помахать руками и согнуться до хруста в суставах. И еще очень хотелось пить. Я облизнул пересохшие губы и повернул голову к окошку — оттуда слабо веяло прохладой.
Провести несколько часов в тесном цинковом ящике — настоящая пытка. Я больше не мог думать ни о чем другом, кроме как о свободе. Теснота душила меня, давила на психику. Я начал ерзать и ворочаться, ударяясь коленями и локтями о стенки, и затих только после того, как совершенно выбился из сил.
Самолет шел на снижение. Я считал секунды. «А если получатель приедет только завтра утром?» — думал я. Тогда придется провести в гробу всю ночь. Или же, в точности следуя манерам вампиров, выбивать крышку, выламывать доски и ночевать рядом со своим цинковым футляром на полу какого-нибудь аэрофлотского склада.
До той минуты, пока самолет не коснулся колесами бетонки, не вырулил на стоянку и не раздался протяжный вой, с которым опускалась рампа, я так и не придумал, что буду делать, если получатель не приедет до утра. К счастью, мои мрачные прогнозы не сбылись. Я услышал, как к рампе подъехала машина, потом кто-то хлопнул ладонью по доскам моего ящика и сказал:
— Вот он. «Тридцать семь — девять девять». Вытаскивайте. В накладной не забудьте расписаться…
И я снова закачался на руках грузчиков. Было уже темно, но откуда-то падал бледный свет неоновой лампы, и я рассмотрел, что меня загружают в фургон «Газели». Лицо человека, который приехал за гробом, я не разглядел. Это был сутулый мужчина неопределенного возраста, одетый в джинсовый костюм.
Дверь фургона захлопнулась, и мы поехали. Где-то я читал или видел в кино, как в машине везли человека с завязанными глазами, и он тем не менее исхитрился определить направление движения. Я же не мог даже приблизительно сказать, в каком аэропорту мы приземлились, потому ориентировался в пространстве не лучше, чем знаменитые Белка и Стрелка, которых в свое время закинули в космос.
Жажда овладела мной настолько сильно, что я не мог уже думать ни о чем другом, кроме воды. Липкое тело каждой клеточкой молило о тугой ледяной струе, о душе, бассейне, реке или даже о лужице на живописной лесной полянке. Я представлял, как ныряю со скалы в голубую бездну Байкала, опускаюсь на самое его дно, открываю рот, и вода начинает заполнять меня. Я пью, нет, жру, гидравлическим насосом втягиваю в себя воду до тех пор, пока не превращаюсь в круглый кожаный мешок, и медленно растворяюсь, превращаюсь в солнечные блики, скользящие по волнистому песчаному дну, в куст лохматых водорослей, покачивающийся в такт слабому течению; я превращаюсь в Мировой океан, в тяжелые волны, накатывающие на берег, в пенящиеся брызги, напоминающие игристое шампанское. Да, шампанское из холодильника — это что-то! От него запотевает бокал, налипают на стекло мириады пузырьков, покалывает язык и выступают на глазах слезы. Я выпил бы сейчас три бутылки залпом, а потом еще пять… нет, десять — врастяжку, в удовольствие; я бы забросил все свои глупые и никчемные дела и до конца жизни только бы и делал, что пил шампанское…
Я судорожно сглотнул, облизал пересохшие губы, напоминающие хлебные корки, закрыл глаза и стал в уме считать. Я дошел до тысячи, а потом стал сбиваться. Цифры путались в моем сознании, это был плохой признак. С такими пересушенными мозгами тягаться с мафией не стоило бы.
Трудно сказать, сколько продолжалась эта пытка. Возможно, часа два или три. Вконец одуревший от навязчивых мыслей о воде, я почувствовал, что машина, наконец, остановилась, через минуту раздалось жужжание электромотора, заскрипело что-то громоздкое, металлическое, возможно, ворота, и машина снова тронулась вперед, но очень скоро остановилась окончательно. Мотор затих. Хлопнула дверка кабины.
Мое изможденное сердце, с трудом качавшее загустевшую кровь, забилось в учащенном режиме.
Я вытер влажную ладонь о куртку, взял пистолет, скрестил руки на груди. Сейчас держись, Вацура, говорил я себе. Включай все мозговые извилины. От того, насколько быстро и правильно я отреагирую на ситуацию, будет зависеть, выпью ли я еще в своей жизни ледяного шампанского, которое так обжигает горло бурлящей пеной…
Открылась дверь фургона. Я услышал приглушенные голоса. Ящик потянули по жестяному полу волоком, накренили так, что мне пришлось расставить в стороны руки и ноги, как пауку на своей сетке, а затем, что было неожиданно для меня, уронили одну сторону на землю — по закону подлости ту, где была моя голова. Удар был несильный, я лишь поморщился, но на всякий случай подложил под голову кулак. Мои носильщики не отличались особой прилежностью в работе.
Некоторое время до меня доносился негромкий мат, из которого я смог разобрать лишь то, что какой-то козел уронил ящик другому козлу прямо на ногу. Затем меня снова понесли.
Выставив губы в окошко, я вдыхал прохладный ночной воздух, напоенный запахом скошенной травы. Трудно определить, где предел возможностей человека, подумал я. Еще полчаса назад я думал: все, кранты мне, еще чуть-чуть, и отдам богу душу. Ан-нет, не отдал. Мало того, сейчас я почувствовал необычный прилив сил. Во мне было столько внутренней энергии, словно гроб был большими механическими часами, а я — до упора заведенной пружиной. Стоит открыть крышку, как вся энергия мощным взрывом выплеснется наружу.
Меня стали заносить в какое-то помещение, причем вниз по ступеням, и моя голова снова оказалась ниже ног. Главное, мимоходом подумал я, чтобы эти идиоты не поставили гроб на торец.
Движение прекратилось. Сквозь щели пробивался тусклый свет. Я увидел кирпичную стену, мотки веревок, автомобильные покрышки на вбитых в нее крючьях. Похоже на гараж или ремонтный цех. Рядом с я шиком двигались тени.
— Будем вскрывать? — услышал я голос. — Или подождем до утра?
— Вскроем, — ответил второй.
Двое, подумал я, стараясь силой воли успокоить бешеный стук сердца. Кажется, всего двое. Это сущие пустяки. Это ерунда. Задачка для пионеров, играющих в «Зарницу».
Гроб вздрогнул от удара. Похоже, по ящику шарахнули топором.
— Аккуратнее! — сказал второй голос. — Монтировочкой. Зачем греметь?
Заскрипели гвозди.
— Все на соплях держится, — сказал первый голос. — Как он только по дороге не развалился?
— Ты спутал, это не мебель, чтоб ее красиво сколачивать… Убери доску из-под ног, а то ненароком на гвоздь наступим.
Я поднял ствол «магнума» и нацелил его в крышку гроба.
Снова заскрипела доска, потом треснула. Мужики с ящиком не церемонились. Еще несколько ударов потрясли гроб. Они взломали верх и принялись за боковые доски. Я отвернул лицо от окошка и закрыл его плечом. Гроб раскачивался, словно стоял на столе с тонкими шаткими ножками.
— Порядок, — сказал первый голос.
— Я же тебя просил — сложи доски у стены. И разжигай лампу, — отозвался второй.
Я опустил руку с пистолетом, беззвучно затолкал, «магнум» под поясницу и, прежде чем сложить руки на груди, зачесал на лоб челку.
— Э-э, вот это фокус! — протянул первый голос. — Посмотри-ка сюда!
— Ну и что?
— Гроб-то не запаян!
Некоторое время было тихо, я слышал лишь сопение. Мужики, должно быть, рассматривали линию Спайки.
— Не понял, — пробурчал второй голос. — Как это понимать? Ну-ка, давай крышку поднимем.
Я закрыл глаза настолько, чтобы из-под ресниц мог видеть, и стиснул зубы. Кажется, пальцы рук мелко дрожали. Я умер, мысленно внушал я себе, я покойник…
Крышка поехала вверх, и на меня упал красноватый слабый свет. В первое мгновение я почувствовал себя рыцарем без лат, кольчуги и щита. А потом — каким-то ужасным, омерзительным монстром из фильма ужасов, и, признаться, это было приятно.
Оба мужика издали возглас ужаса. На фоне ламп я не видел выражения их лиц, но вполне мог это представить. Состояние шока, в котором они пребывали, длилось несколько мгновений. Крышка с грохотом вернулась на прежнее место.
— Покойник!! Чтоб их всех перевернуло!! — заорал первый и стал плеваться. — Что они нам подсунули?
— Вот это дело! — более сдержанно сказал второй и неожиданно расхохотался. — Слушай, этот дебил получил не тот гроб! Нет, я сейчас умру от смеха! А порошок, значит, тю-тю? Его закопают вместо покойника?
— Сначала водилу закопают. Ему на этом свете уже не жить. Хозяин такие шутки не прощает, — мрачным тоном отозвался первый. — Давай выйдем отсюда, меня от вони уже тошнит.
— Надо доложить хозяину. И чем быстрее, тем лучше для нас.
Я слышал, как они пошли к выходу, и бетонный пол гудел под их тяжелыми ботинками. Потом все стихло.
24
Они прикрыли крышку неплотно, и я без проблем приподнял ее край, сдвинул к ногам и вышел из гроба. Если бы не дикая боль во всех суставах, отчего движения мои напоминали танец паралитика, то глухим красным стенам я продемонстрировал бы классическое, не уступающее библейскому, воскрешение. К счастью, оно было первым в моей судьбе и, к несчастью, последним.
Первым делом я кинулся по углам и сразу же нашел чайник, наполовину заполненный водой. Не в силах сдержать блаженный стон, я мгновенно опустошил его содержимое, вытряхнул на лицо последнюю каплю и поставил чайник на прежнее место. Желудок был уже полным, но жажда еще не прошла, и я поискал еще. Ничего интересного мне больше не попалось, если не считать нескольких запечатанных бутылок с зеленоватой жидкостью внутри, пить которую я не решился, и телефонного аппарата без наборного диска, провода от которого тянулись к выходу.
Жизнь полноводной волной возвращалась ко мне. Я снова был готов к риску, опасности и приключениям. Тяжелый «магнум» в руке придавал уверенности в своих силах. Странное, почти мальчишеское веселье вдруг охватило меня. Невероятно, но факт — то, что я задумал, сбылось. То, что еще месяц назад казалось совершенно несбыточной мечтой, стало реальностью. Я сумел проследить путь наркотиков от Афгана до этого гаража-мастерской, находящегося либо в Москве, либо где-то недалеко от нее. Я все еще жив, несмотря на то что уже долгое время стою на самом краю пропасти и черная бездна все сильнее и сильнее притягивает меня.
Однако, сказал я себе, хватит упиваться собственными достижениями. Недолго совершить какую-нибудь маленькую ошибку, и тогда придется снова лечь в гроб, на этот раз — навсегда.
Я подошел к своей недавней камере, в которой пробыл почти восемь часов. Что делать дальше, как поступить? Оставить гроб открытым, чтобы на несколько минут ввергнуть мужиков и хозяина в транс суеверного страха? Но что это мне даст? Через минуту-другую, если они не полные идиоты, им все станет ясно, и на меня начнется дикая охота с очень тяжелыми для меня последствиями. Если я закрою крышку, результат будет почти тот же — наверняка хозяин захочет лично взглянуть на «труп».
Я не стал прикасаться к крышке и, неслышно ступая, пошел к ступеням, ведущим наверх. Массивная металлическая дверь была приоткрыта, черная полоса ночи заполняла щель. Над дверью разливала молочный свет лампочка, окруженная мошкарой, как Сатурн кольцами. Этот подвальчик, если сюда регулярно привозят гробы, доверху набитые героином, должен очень хорошо охраняться, подумал я. У двери я буду освещен как актер на сцене — слепой увидит.
Приподнялся на цыпочках, дотянулся до матового плафона, снял его с крепежных болтов и, обжигая пальцы, на пол-оборота отвернул лампочку. Стало темно, перед глазами поплыли зеленые пятна. Я поставил плафон на место, сел на ступеньку, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, и тотчас услышал шаги. Мне больше ничего не оставалось, как вскочить на ноги и прижаться к стене, подняв к лицу стволом вверх «магнум».
Дверь со скрипом отворилась, и я увидел на пороге темный силуэт. Мгновение он закрывал собой весь проход, потом шаркнула обувь, зашелестела одежда. Я с опозданием понял, что человек на ощупь проверяет, цела ли лампочка, и приставил ствол к его спине в ту же секунду, когда свет вспыхнул снова.
Он стоял на две ступени выше меня, и потому показался особенно высоким. Ствол пистолета, соответственно, пришелся не в спину, как мне показалось, а на поясницу, перетянутую толстым кожаным ремнем с подвешенной к ней укороченной кобурой.
— Не оборачивайся, — предупредил я и совершил первую ошибку. Вместо того чтобы развернуть громилу лицом к подвалу и подняться выше его, я стал снимать с его плеча «Калашников» с укороченным стволом. Ремень зацепился за лямку амуниции, и я переключил все внимание на нее. Громила, не видя меня, легко определил мои габариты и, стремительно развернувшись, отбил мою руку с пистолетом в сторону. Он ударил плафоном, который все еще держал в руке. Раздался звон битого стекла, острая боль обожгла запястье, но пистолет я удержал. Второй удар ногой сбросил меня вниз. Я грохнулся спиной на ступени, поехал вниз, с ужасом глядя, как громила поднимает автомат и передергивает затвор. Я опередил его на долю секунды. Стрелять было неудобно — пулю пришлось посылать между собственных ног, и промах стоил бы мне жизни. Я даже не обратил внимание на тихий хлопок и не был бы уверен в том, что выстрелил, если бы громила не согнулся пополам. Автомат выпал из его рук и заскользил ко мне. Я вскочил на ноги, не опуская пистолета, поднялся на несколько ступенек, готовый добить бандита, но человек лежал лицом вниз на осколках плафона уже без движения.
Плохая работа, сказал я себе мысленно, так нельзя. Он едва не отправил меня на тот свет. Наверное, от долгого лежания в гробу мозги стали неважно соображать.
Я попытался вытащить тело наверх, но это было непросто сделать, и на это ушла бы уйма времени. Отволочь его вниз было намного проще, к тому же у меня появилась идея.
Я затащил громилу в подвал, снял с него ремень и портупею, после чего неимоверными усилиями взвалил его на себя, выпрямился и опустил труп в гроб. Еще минута у меня ушла на то, чтобы выровнять его ноги, сложить руки на груди и зачесать челку на лоб, как делал я перед «воскрешением». Большое красное пятно на груди несколько портило антураж, но в целом, если не присматриваться, этот покойник вполне мог заменить меня. Пакет с наркотиком, который я прихватил с собой, я затолкал в штаны охраннику. Теперь труп вместе с порошком представлял из себя уже не просто улику, а бомбу замедленного действия. Прикрыл гроб крышкой, перекрестился и надел на себя амуницию.
Надо было уходить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Я сгреб ногой осколки стекла, чтобы они не хрустели под ногами и не привлекали внимания, и опять вывернул лампочку. Будет лучше, если лужу крови заметят только утром.
Дверь пришлось открывать медленно, чтобы она не скрипнула. Вдохнул всей грудью, и меня повело от чистого воздуха, пахнущего мокрой свежей травой и цветами. По листьям близлежащего кустарника тарабанил тихий дождь. В белом свете фонаря, стоящего под разлапистой елью, они отливали серебром. Стояла глубокая теплая ночь.
Я ушел в тень кустов и от прикосновения к мокрым ветвям вздрогнул. Несколько капель попало мне за ворот куртки. Я сидел на корточках и смотрел во все стороны. От гаража, в подвале которого я только что был, в глубь парка вела асфальтовая дорожка, в лужах отражались фонари, стоящие по обе стороны. Чуть подальше от гаража стояла «Газель» с выключенными фарами и темной кабиной. Было совершенно тихо, и мне казалось, что поблизости от меня никого нет.
Не выпрямляясь, я перешел под дерево. Мокрая трава газона засвистела под подошвами моих ботинок. Пришлось идти, высоко поднимая ноги.
Из-под дерева я видел дальнее окончание асфальтовой дорожки. Она, полого опускаясь, упиралась в узкий, взмывающий вверх, подобно ракете, трехэтажный особняк. Окна на всех этажах светились разными цветными пятнами. С фасадной стороны под полукруглым окном, закрытым витражным стеклом с изображением черного цветка, прилепился маленький балкончик, украшенный витиеватыми перилами из чугунной ковки. Вход в особняк находился в глубокой овальной нише, которую предваряли многогранные колонны, украшенные сверху крупными цветками из черного металла. У самых дверей, на мраморном полу, лежали два коричневых ротвейлера, положив тяжелые тупоносые головы на передние лапы. Дождь загнал псов в укрытие, и они предпочли нести службу в сухом месте.
Краем глаза я заметил слабое движение. Перед особняком, посреди цветочной клумбы, возвышался металлический шест, напоминающий флагшток. Метрах в четырех над землей к шесту была приварена полочка, на ней — телекамера. Аппарат, сверкая оптикой, медленно крутился на оси из стороны в сторону. Все ясно, со стороны фасада к особняку незамеченным не подойдешь. Впрочем, такие же штучки наверняка установлены с торцов и тыла дома, и кто-то из охранки сидит сейчас перед мониторами и не сводит глаз с экранов.
Я потуже затянул на груди ремень автомата, прижимая оружие к спине. Теперь он не будет бить по позвоночнику и звякать карабинами, если придется немного побегать. А побегать, видимо, придется.
Посмотрел на гараж. Дверь оставалась в том же положении, в каком я ее оставил: косая тень все так же рубила ее по диагонали. Доклад хозяину о покойнике вместо порошка, надо понимать, затянулся.
Дождь пошел сильнее, зашумел по листве, вздулся пузырями на асфальте. Я машинально поднял уже намокший воротник куртки, привстал и, делая большие шаги, устремился к «Газели». Скошенная кабина быстро надвигалась на меня. Я не сводил глаз с темных стекол. На сиденьях мог спать водитель.
Я заглянул в кабину, убедившись, что она пуста, присел у колес машины и потянул ручку двери. С щелчком она открылась, и на меня пахнуло теплым запахом бензина, смазки и металла. Перевести рычаг передач в нейтральное положение и отпустить стояночный тормоз — дело трех секунд.
Прикрыл дверь. Захлопывать ее на замок не стал — от этого звука стекла бы в особняке задрожали. Положил ладони на левую фару, поднатужился, и «Газель» беззвучно тронулась с места. Главное теперь — не перестараться, не разогнать ее до такой скорости, какая показалась бы неестественной.
Необходимости толкать машину больше не было. Теперь она сама катилась под уклон, приближаясь к особняку. Фургон закрывал меня от стеклянного глаза телекамеры. Маленькие колеса в резиновой обувке слегка вспенивали воду в лужах. Капли дождя, разбиваясь о крышу кабины, брызгали мне в лицо. От моего дыхания запотело боковое окошко, и я перестал видеть то, что находилось по другую сторону «Газели». Вдобавок к этому неуправляемая машина постепенно скатывалась на обочину, и оба правых колеса уже шуршали по траве. Скорость стала падать. Верхний край фургона задел низкую ветвь вяза, и «Газель» непременно остановилась бы под деревом, если бы я снова не приналег на нее. Ботинки скользили по мокрому асфальту, машина уже почти наполовину съехала с дорожного полотна, с каждым метром толкать-ее было все труднее, но маневрировать рулем я не мог, присутствие человека сразу стало бы заметно со стороны.
Я хрипел, как загнанная лошадь, упираясь в передок «Газели» плечом. Пот вперемешку с дождевой водой заливал глаза, но мне нечем было вытереть лоб, и я тряс головой, сдувал капельки с кончика носа и прижимал мокрую голову, от которой валил пар, к холодному лобовому стеклу.
Машина выкатилась на площадку с цветочным островом посредине. Камера теперь находилась левее, и я, продолжая толкать фургон, сдвигался к правому борту. Наконец, машина наехала задними колесами на бордюр клумбы, качнулась и замерла. Я услышал, как лениво тявкнули псы и открылась входная дверь.
— Э-эй, чучело, — услышал я негромкий мужской голос. — Ты машину на тормоз ставил?
— Естественно, — ответил ему второй голос.
Я сидел у заднего колеса и, содрогаясь от озноба, осторожно выглядывал из-за края фургона. Под балкончиком стояли двое мужчин. Один из них был дебелый, в расстегнутой до пупа черной рубашке. Брюки на его вздутом животе держались при помощи подтяжек. Он зевнул, посмотрел по сторонам, высунул руку из-под навеса, поймал тонкую струйку воды, падающую с балкончика. Второй — молодой, тощий, с копной кучерявых волос, надевал джинсовую куртку, и в этом одеянии я узнал в нем водителя «Газели», Волзова Игната Юрьевича, несчастного получателя гроба, на голову которого теперь посыпятся все шишки, причем свинцовые, с мощной убойной силой.
— Тебя убить мало, — устало сказал дебелый. — Столько проколов за один день.
— Мамой клянусь, ставил на тормоз! — неуверенно, с вялостью обреченного ответил Волзов.
— Отгоняй ее отсюда к чертовой матери!
— Сейчас, за зонтиком схожу.
Псы крутились вокруг дебелого. Он, не опуская круглого, хорошо выбритого лица, трепал их обеими руками.
— Какой, к черту, зонтик?! — вспылил дебелый. — Беги к машине, чучело! Не растаешь!
И толкнул кучерявого в спину. Волзов накрыл голову курткой и зашлепал кроссовками по лужам. У меня осталось несколько секунд. Дебелый смотрел в сторону, псы впали в экстаз и облизывали ему руки, Волзов топтался на раскисшей клумбе, подбираясь к дверце кабины, камера продолжала осматривать дальние подступы к особняку.
Улучив момент, я метнулся в тень, падающую от высокой березы, растущей перед торцовой стеной, в пять прыжков добежал до ее ствола, обнял его, ухватился за нижнюю ветку и змеей скользнул в пышную крону. Здесь я перевел дух.
Для лазания береза не очень подходит. Дерево хрупкое, мягкое, становиться можно только на самое основание ветви. К тому же подошвы скользили по гладкой бересте, и я поднимался вверх практически на одних руках. Я слышал, как завелась машина, потом увидел ее бегущей вверх по асфальтовой дороге. Ветки легко сотрясались от моих движений, и с листьев сыпалась роса. На одежде не осталось ни одного сухого места. Меня трясло сильней с каждой минутой, подбородок прыгал, как игла швейной машинки, и зубы выбивали дробь.
Я заглянул в окно первого этажа. Полусумрак. С карниза на подоконник волнами спадает тюль. От пола до потолка — стеллажи с книгами. По полу бегают красные блики. Наверное, в комнате горел камин.
Я прижался к стволу и замер, потому что из дома вышли люди и быстро двинулись по дорожке наверх. Первым шел высокий человек в черном длинном плаще-накидке, напоминающем монашескую рясу. Собственно, я больше ничего не видел, кроме этого плаща, но, судя по походке, это был мужчина. За ним, сунув руки в карманы черных курток и подняв плечи, плелись двое. Навстречу им спускался Волзов, только что поставивший машину на прежнее место. Где-то на середине дорожки они сравнялись и остановились. Человек в плаще говорил лающим голосом, Волзов, все время размахивая руками, визгливо отвечал. Я разобрал не все, о чем они говорили.
— …что это тот самый номер?.. Копия… посмотреть, для этого окошко имеется…
— …слепой, что ли? Всегда все было нормально… сличил… напутали сами…
— …дерьмом делать буду? Назад везти? Сотни вопросов…
Человек в плаще пошел дальше нервной походкой. Два дебила в куртках последовали за ним. Я следил за троицей до тех пор, пока они не дошли до гаража и не исчезли за железными дверями. Наружу они вышли очень скоро — намного скорее, чем я предполагал. Видимо, человеку в плаще достаточно было всего лишь взглянуть на труп, лежащий в гробу. Оттягивая ветку в сторону, я всматривался в фигуры людей. Заметили ли они подмену?.. Не похоже. Слишком неторопливы, почти спокойны. Идут медленно, человек в капюшоне показывает куда-то в сторону, в заросли кустов, дебилы кивают головами, отстают и возвращаются в гараж. «Монах» остался один. Остановился посреди дорожки, кинул в рот сигарету, поднес к ней голубое пламя зажигалки, затянулся и, подняв лицо к черному мокрому небу, выпустил тонкую струйку дыма. Кто он? Человек, который отвечает за транспортировку порошка на своем участке, или же главный скупщик? И главное — куда отсюда ушли пять гробов из Таджикистана, заполненных героином? Их продали мелкими партиями в Москве или погнали дальше? Если погнали, то куда?
Я начал увязать в вопросах, тряхнул головой, которая болела все сильнее, и переключил внимание на окна. Поднимемся еще выше. Ветка за веткой, плавно, бесшумно, не делая резких движений. Я опустил голову и посмотрел вниз. Земли уже не видно, ее закрыла листва. Верхушка раскачивалась на слабом ветру, кидающем дождевые брызги в окно второго этажа. Я чувствовал себя матросом на мачте в штормовую погоду. Надо высмотреть землю в этом плотном тумане, во что бы то ни стало надо увидеть землю. В ней — спасение, смысл всех потуг, лишений и испытаний, выпавших на мою долю.
Взялся за ветку, закрывающую обзор, и оттянул ее в сторону. Окно было черным, в нем отражался фонарь и скользили темные силуэты ветви березы. Я, переступая с места на место, вглядывался в стекло, но ничего не мог рассмотреть. Между рамой и подоконником — тонкая щель. Похоже, окно открывается, как в вагонах, только снизу вверх. Я еще сильнее оттянул ветвь в сторону. Листья скользнули по стеклу, как мокрая швабра. Пара зеленых сердец прилипла к нему.
Я поднял голову. Тонкая верхушка, освещенная окном третьего этажа, раскачивалась, как, в самом деле, стеньга в трехбалльный шторм. До нее я не доберусь, на этом прутике воробей не удержится. Куда в таком случае дальше?
Снова посмотрел на черное окно. Опасно, черт — возьми. В детстве не раз падал с деревьев вместе с обломанной веткой в руках. Здесь же ушибом или переломом дело не ограничится. Сначала со мной побалуются псы, потом присоединится охранка. Ну, а дальше… О том, что будет дальше, лучше не думать. И все же…
Я встал удобнее, упираясь подошвой в ствол, постучал ногами по суку, проверяя его на прочность. В принципе, такой прыжок — не самый смертельный номер, а упражнение для начинающего каскадера. На высоте десяти метров прыгнуть с дерева и ухватиться руками за подоконник. Остальное — пустяки.
Я приучил себя не раздумывать на краю пропасти — будь то рампа летящего самолета, прыжковый мостик над бассейном или скала над морем. Чем больше готовишься к прыжку, тем труднее потом прыгнуть. Сказал: раз, два, три — и полетел.
Перекреститься не успел. Только поправил быстрым движением автомат за спиной и сильно оттолкнулся от ветки. Крона березы зашелестела уже сзади меня. Окно надвинулось на меня слепым гигантским глазом. Я вцепился мертвой хваткой в горизонтальный деревянный брус, под которым крепился лист подоконника. Лакированное, мокрое дерево сразу же стало уходить из-под ладони, и я впился в него ногтями. Хуже всего пришлось коленям, которые я выставил вперед, чтобы смягчить удар о стену. Потом от страха похолодела спина.
Я висел на руках, держась за ненадежную опору, и медленно, без рывков, подтягивался, приближаясь головой к стеклу. Оттуда, с березы, этот трюк выглядел более простым. Но я не подумал, как буду поднимать оконную раму, когда обе руки заняты.
Я коснулся грудью подоконника, закинул локоть за брус и перенес на него вес тела. Теперь можно было на мгновение отнять одну руку и приподнять окно. Коротким толчком просунул пальцы в щель и потянул вверх. Рама была страшно тяжелой и не фиксировалась. Я просунул руку глубже, ухватился за внутренний подоконник и, наконец, тихо ввалился внутрь темной комнаты.
Окно за мной опустилось, и я окунулся в мир тишины. Дождь приглушенно барабанил в стекло, за ним черным флагом развевалась на ветру ветка. Я, сидя на корточках, всматривался в очертания предметов. Запах табака висел в воздухе. Я различил высокие напольные вазы, стулья и большой диван с цилиндрическими подушками; в противоположной стене комнаты тускло светились два окна с полукруглым верхом, разделенным рейками, как паутинка. С потолка струились светлые шторы, закрепленные на полукруглом карнизе, отчего они напоминали массивные колонны.
Что-то очень знакомое показалось мне в этих шторах, хотя, я был уверен, раньше никогда их не видел. Поднялся на ноги, осторожно, чтобы не скрипнули половицы, вышел на середину комнаты. Почти всю боковую стену занимала темная картина в тяжелой золоченой раме.
Я опустил руку в карман. Спичечный коробок промок почти насквозь, но все же я смог зажечь одну спичку. Она лишь на мгновение вырвала из темноты гигантское полотно и тотчас погасла, но я успел увидеть то, что ожидал.
Худой, изможденный Иисус с израненной терновыми ветками головой смотрел на розовое лицо Пилата по-собачьи, снизу вверх, и в глазах полубога не осталось ничего, кроме сломленной воли, страха и готовности отдать за жизнь все, что у него было…
Это была комната, в которой жила Анна.
25
За окнами шарахнула молния, череда вспышек осветила раскачивающуюся под резкими порывами ветра березу, ее дрожащие, переливающиеся тусклым серебром листья. На подоконник с бешеной силой посыпались крупные градины. Они катались по оцинкованному листу, как жемчужины и, слипаясь, с потоками воды срывались вниз. Эпицентр грозового фронта находился где-то над особняком, и вспышки молний сразу же сопровождались мощным треском. Мистический свет от разрядов разгулявшейся стихии освещал комнату короткими эпизодами, словно перед моими глазами медленно прокручивали киноленту, и я улавливал каждый кадр, высвечивающийся на экране. Сейчас гроза стала моим союзником. Я мог без опаски ходить по паркетному полу, не боясь, что скрип половиц привлечет внимание хозяев особняка.
«Почему комната пуста?» — думал я, внимательно рассматривая диван, будто Анна могла затеряться в его складках. Она писала мне, что будет жить в офисе, то есть здесь, довольно долго, вплоть до отправки партии товара за рубеж. О какой партии шла речь? Не о той ли, которую поставляли сюда в цинковых гробах?
Я подошел к трюмо. Из зеркала на меня надвинулось какое-то мокрое, небритое чудовище с мрачным лицом и горящими глазами. Я с каким-то мазохистским наслаждением рассматривал себя. Низко же ты опустился, Кирилл Андреевич, сказал я себе, касаясь щеки рукой. На кого похож? Глаза ввалились, щеки впалые, и складки на них — словно глубокие сабельные шрамы. Это хорошо, что Анны не оказалось здесь. У нее наверняка бы помутился рассудок при виде такого красавца, пришедшего из грозы. Фильм ужасов, да и только!
Выдвижные ящички трюмо скользили по полозьям легко и без скрипа, что было верным признаком хорошей и дорогой мебели. Нижний был пуст, в среднем лежали цветные полиэтиленовые пакеты, мягкие на ощупь. Я не стал проверять их содержимое — наверняка это было белье Анны. Верхний был заполнен косметикой. Горьковатый запах французских духов, смешанный почему-то с резким запахом ликера, пощекотал мне ноздри, и перед глазами сразу всплыло милое лицо моей отважной разведчицы. Крым. Моя дача. Крыша, утонувшая в зарослях виноградника и вишни. Анна, одетая в короткий сарафан и пляжные тапочки… Как давно это было, как мало я ценил то время, когда она была рядом и, казалось, ничто не омрачает наш союз…
Я сдвинул в сторону пудреницу, коробочку с набором теней, и под ладонью оказался овальный бархатный валик. А-а, заколка для волос, моя старая знакомая! Помню, помню, как ты лежала на заднем сиденье темно-синей «Вольво», выдав свою хозяйку, как говорится, с головой.
Я взял заколку, поднес ее к лицу. Бархатная сторона ее была непривычно жесткой, будто в чем-то выпачкана. Я повернулся к окну. Снарядом разорвалась над особняком очередная молния, и я успел увидеть, что заколка выпачкана в засохшей крови.
Тревога заполнила мою душу намного быстрее, — чем я успел придумать какое-нибудь банальное объяснение этому. Я бросил заколку на трюмо и снова полез в ящичек. Флакон духов, расческа, шелковый платок, который Анна повязывала себя на шею… Стоп! И здесь кровь. Много крови.
Развернул его, поднес к окну. Нет, никаких сомнений быть не может. Это кровь. Эти бурые пятна я никогда ни с чем не спутаю.
Я Скомкал платок и затолкал его себе в карман. Нехорошо, думал я, снимая автомат из-за спины. Нехорошо получается. Нельзя так обращаться с девушкой, чтобы ее вещи вдруг ни с того ни с сего оказались выпачканными в крови. За каждую капельку будем наказывать. Будем жестоко наказывать…
Подошел к двери, надавил на ручку. Дверь была заперта, но автоматический замок, естественно, находился изнутри. Красивый, позолоченный, сработал надежно и бесшумно. Сверкающий никелем засов скользнул вправо, дверь приоткрылась. Узкий изогнутый коридор со стенами, обитыми рейками красного дерева, на них — макраме и пеньковая плетенка, изображающая дракона с тряпочным языком, зеленая ковровая дорожка… Обо всем этом Анна подробно писала в письме, почему же я так невнимательно читал!
Я медленно пошел по коридору. Не пригибаясь, не озираясь по сторонам. Прятаться есть смысл там, где есть за чем укрыться. Здесь же всевозможные телодвижения были бессмысленны. Узкий коридор, две стены. Если кто-то появится впереди меня, достаточно будет лишь поднять автомат к бедру и нажать на спусковой крючок. И потому я шел по самой середине коридора, как бродил из угла в угол своей судакской квартиры в часы одиночества и тоски. Мои жизненные цели почти всегда определяло чувство к женщине. Всякий раз оно становилось первопричиной моих авантюр, хотя я усердно убеждал себя в том, что это не так. Еще полчаса назад я играл в лазутчика, проникшего в глубокий тыл врага, и, казалось, нет цели более достойной, чем узнать, кто крутит этими героиновыми делами и куда перепродают порошок. Теперь все это казалось мне глупой мышиной возней, на которую не стоило тратить столько усилий, и все мысли уже были заняты судьбой Анны.
Дошел до деревянной лестницы, спиралью уходящей вверх, на третий этаж, и вниз. Перегнулся через перила. Снизу доносился негромкий разговор. Если только они сделали с ней что-нибудь плохое, думал я, медленно, шаг за шагом, спускаясь вниз, если только они посмели причинить ей вред, я разнесу этот офис в щепки. Я устрою им здесь такой фейерверк, о котором преступные кланы будут с содроганием вспоминать десятки лет.
Я накручивал себя. Только слепая злость способна подавить страх. Ковровая дорожка приглушала мои шаги. Я спустился настолько, что через фигурные стойки перильных ограждений увидел ярко освещенный широкий холл. Зеркала на четырехугольных колоннах отражали все, что в нем находилось. Уже знакомый мне дебелый мужчина, разделенный пополам зеркальным стыком, сидел в глубоком кресле перед светящимися экранами мониторов, положив ноги на стол. В его рту дымилась сигарета, в безвольно висящей руке покачивалась маленькая бутылочка пива. Мужчина таращил сонные глаза на экраны и постоянно делал маленькие и частые затяжки, отчего его волосы насквозь пропитались дымом и, казалось, дымились сами по себе. В противоположной стороне холла, за колоннами, виднелись распахнутые настежь стеклянные двери. За ними — большое темное помещение, при вспышках молний там на миг проявлялись белые колонны, похожие на гигантских шахматных ферзей. Между колонн стоял большой стол с аспидно-черной поверхностью. Кажется, это был тот самый зал, где состоялся VIP-прием.
На столе перед дебелым дежурным заплясал мобильник. Тот вздрогнул, с грохотом сбросил ноги на пол и поднес трубку к уху.
— А-а, — невнятно промычал он. — Понял… Сейчас сделаем, шеф… Эй, чучело! — крикнул дебелый, опустив трубку. — Поднимись к хозяину.
Я не заметил, что в холле, кроме дежурного, был еще и водитель «Газели» Волзов. Наверное, он дремал, сидя на диване. До меня донесся тяжкий вздох. Похоже, Волзову предстояла очередная взбучка. Я бесшумно поднялся на второй этаж, свернул в коридор и прижался к стене. Волзов поднимался медленно — не за премией шел человек, понять можно. Достигнув второго этажа, он остановился, пробормотал что-то насчёт того, чтобы все гробы сгорели синим пламенем, и стал подниматься выше. Я дождался, пока водитель не поднимется на пролет выше, и, синхронно с его шагами, тоже стал подниматься наверх.
На третьем этаже не было узкого коридора. Лестница оканчивалась маленьким холлом, даже площадкой, на которой была одна-единственная дверь. Он встал перед ней, поднял кулак, но сразу постучать не решился, подумал, покачал головой, потоптался и, наконец, несильно стукнул в дверь два раза, уставившись на глазок маленькой телекамеры, встроенной в стену. Клацнул тяжелый автоматический замок. Волзов взялся за ручку, открыл дверь и вошел в кабинет. Дверь тотчас захлопнулась за ним.
Я, переступая через ступени, поднялся к двери хозяина, стараясь как можно плотнее прижиматься к стене, чтобы не попасть в поле зрения камеры, хотя именно сейчас шеф вряд ли смотрел на монитор — перед ним стоял провинившийся подчиненный, и Князь наверняка уже обрушил на него весь свой гнев. Приблизившись к двери почти вплотную, я стал прислушиваться, но из-за двери не доносилось ни звука — изоляция была полной.
Я едва успел вернуться на второй этаж, как дверь наверху открылась и захлопнулась вновь. Уж слишком театрально вздыхая, Волзов загремел по ступеням. Он прошел в метре от меня, и мне не понадобилось даже выходить из своего укрытия — достаточно было выставить вперед руку, и ладонью, как крюком, закрыть ему рот, откинуть к стене и показать ему дульную воронку автомата.
На Волзове можно было демонстрировать студентам мединститута объективные проявления стресса. Зрачки его стремительно расширились, превращая глаза в две темные капли, на лбу выступил пот, словно голова его была мочалочной, пропитанной водой, а розовое лицо в одно мгновение побелело до синевы.
— Веди себя хорошо, малыш, ладно? И я тебя не обижу, — шепнул я ему на ухо и, опасаясь, что для этого слабонервного наркодела встреча со мной может стать последней каплей и он грохнется в обморок, поспешил затолкать его в узкую дверь с рисунком джентльмена в цилиндре и с тросточкой.
Дверь уборной запиралась на защелку, и здесь я — мог быть уверенным, что врасплох меня не застанут. Я подтолкнул Волзова к стене, приставил к его животу автоматный ствол и спросил:
— Где Анна?
— Хто?! — на выдохе произнес Волзов, вздрагивая от каждого моего движения.
— Да что ты дергаешься все время? И как такого неврастеника взяли в наркомафию работать? — покачал я головой. — Я хороший, я добрый. Я убью тебя в случае, если ты не будешь меня слушаться и не ответишь на мои вопросы. Ясно, малыш?
— Мммгы! — с готовностью кивнул он.
— Так вот, я хочу узнать, где Анна? Девушка у вас здесь с недавнего времени работает. Секретаршей у шефа, у Князя. Ты понимаешь меня, лупоглазенький?
— Не! — Он покачал головой, глядя то на меня, то на автомат. — Не видел… Бог свидетель!
— Что не видел? Вообще здесь девушки не видел?
— Девушку видел.
— Блондиночку?
— Ну… — снова закивал он. — Блондиночку! Работала. В кабинете Князя. За компьютером сидела.
— Ну вот, очень хорошо, — похвалил я Волзова и потрепал его по щеке. — А теперь скажи, где она сейчас может быть.
— Не знаю. Дня три уже не видел. Или четыре.
— Неужели вот так тихо исчезла, и все?
— Как тихо? А что должно быть?.. Шеф ее сильно ругал. И охранка между собой про нее плохие слова…
— Когда ты это слышал?
— Я ж говорю, дня три назад. Это не мои дела, я не знаю, что там было. Меньше знаешь, дольше живешь.
— Ишь ты, какой мудренький, — сквозь зубы произнес я, в одно мгновение возненавидев этого жалкого мокренького человечка, которому было ровным счетом наплевать, что сделали с Анной. — А ну-ка припомни, какие слова о ней говорили, за что ругали?
Волзов стал пожимать плечиками, как заводная игрушка.
— Трудно припомнить… Три дня уже прошло.
— Страдаешь провалами в памяти? — Я вдавил ствол ему под ребра, и Волзов часто задышал. — А ты очень постарайся.
Волзов стал стараться. Его пальцы нервно перебирали волосы на темени. Он морщился, скрипел зубами, наконец, выдал:
— Шеф говорил: стукачка, шпионка и добавлял очень много матом. И охранка — матом.
Я не сдержал какого-то утробного звериного стона, вырвавшегося из моей глотки.
— Ну, что с тобой делать? — произнес я, с отвращением глядя на Волзова. — Дать веревку, чтобы ты удавился над унитазом?.. Что ты пялишь на меня свои поганые глазенки, вошь червивая? Слова плохие говорили, и тебе стыдно повторить их? А гробы с наркотой возить не стыдно? На именах погибших парней зарабатывать — не стыдно?
Волзов принял эти слова за смертный приговор, и его стала колотить крупная дрожь. Этот готов, подумал я. Плохо, что в таком состоянии он неуправляем и не соображает ничего. Может заорать или кинуться в окно.
— Что тебе сказал Князь?
— Когда сказал?
— Вот что, дубина стоеросовая. — Я начинал терять терпение. — Ты не переспрашивай и не прикидывайся полным идиотом. Ты только что был у Князя.
— Я дал ему московские адреса родственников погибших в Таджикистане.
— А зачем они нужны шефу?
Волзов молчал.
— Не хочешь говорить? — У меня невольно сжимались кулаки. — Ты еще лелеешь надежду, что я не убью тебя, и ты, выяснив даты и места похорон, отыщешь гроб с порошком и искупишь свою вину перед шефом, он тебя простит, и над тобой снова будет ярко светить солнце? Увы, дружок. Ты не найдешь то, что ищешь, даже если перероешь все могилы Москвы. Потому что наркотик на этот раз до Москвы вообще не доехал. Я вместо него.
Мне показалось, что глаза Волзова стали наполняться слезами. Зрачки его двигались, будто водитель внимательно рассматривал мое лицо.
— Но Князь этого не знает, — продолжал я. — Он решит, что ты что-то напутал с адресами, с могилами, кладбищами, и накажет тебя. Полагаю, что очень жестоко… Здесь подвал есть? — спросил я, щелкнув Волзова по подбородку пальцами, чтобы привести в чувство.
— Хто?!
— Подвал или погреб?
— Нету. Подвала нету. Есть гараж.
— А кладовые, темные комнаты? Не замечал, куда Князь последние три дня заходил?
— Ну… — кивнул он и облизал губы. — Там, в торце, в левом крыле, подсобка. Генераторная.
— На каком этаже?
— На нашем.
— Охранка в коридоре есть?
— Не видел. Я все больше в холле сижу. Охранка на улице. Вокруг дома, вдоль забора…
— Ладно, — похлопал я его по плечу. — Извини, что я испортил тебе настроение. Если надумаешь уносить отсюда ноги, скажи мне — побежим вдвоем. А пока… — Я втолкнул Волзова в кабинку. — А пока посиди здесь, да только запрись и никому не открывай.
Влево от лестницы, как и вправо, коридор шел дугой, и я не видел, есть ли кто-нибудь в его конце. Я словно шел по большому барабану. Из-за поворота показывались белые двери комнат, в мягком свете навесных бра сверкали золоченые ручки. Коридор казался бесконечным, я как будто ходил кругами.
Внезапно он закончился. Я стоял перед узкой торцовой дверью, покрытой черным пластиком. Уверенный в том, что дверь надежно заперта, я чисто машинально взялся за никелированную ручку, нажал на нее, и, к моему удивлению, дверь приоткрылась.
26
Напрасно, подумал я, оглядываясь и прислушиваясь к бормотанию приемника, доносившемуся из холла на первом этаже. Напрасно я потратил время.
Здесь не может быть Анны, это обыкновенная подсобка, которую нет смысла запирать на замок.
Я приоткрыл дверь сильнее, чувствуя, как она упирается на мощной пружине, и заглянул внутрь. Луч света скользнул из коридора в подсобку, и я с трудом различил какой-то крупный агрегат, покрытый металлическим кожухом, видимо, автономную станцию электроснабжения. Я уже готов был сделать шаг назад и тихо прикрыть дверь, как уловил слабый парфюмерный запах — то ли дезодоранта, то ли духов, то ли косметики, словом, тот запах, который безошибочно говорит о присутствии женщины.
Рука скользнула по стене, щелкнул выключатель. Щурясь, я смотрел на бетонный пол, голые серые стены и низкий потолок, по которому скользил клубок толстых проводов. Затем шагнул вперед, все еще сдерживая спиной натиск двери, и невольно вздрогнул, хотя был готов увидеть Анну. Между стеной и корпусом генератора белели оголенные ноги в черных бархатных туфлях. Подол платья прикрывал колени девушки, руки были прижаты к груди, словно Анна хотела спрятать что-то очень ценное. От моего голоса она вздрогнула, повернула бледное, со следами крови лицо и неожиданно пронзительно крикнула:
— Дверь!!
Я не успел обернуться и увидеть, что ее так напугало. Тяжелая дверь за моей спиной захлопнулась с металлическим лязгом. Анна простонала и в бессилии опустила голову на пол. Я упал перед ней на колени, схватил за плечи, прижал ее голову к своей груди, чувствуя ладонью склеившийся от крови комок волос на затылке.
— Анна! — бормотал я. — Что они с тобой сделали?
Я чувствовал, как вздрагивают ее плечи от странного бесслезного плача.
— Ну как же ты… — сдавленным голосом произнесла Анна. — Она не открывается изнутри. А я не успела…
Я вскочил на ноги, шагнул к двери и толкнул ее. Дверь не дрогнула. Ровная металлическая поверхность, усыпанная по периметру шляпками крепежных болтов. Ни ручки, ни замочной скважины. Дверь-ловушка.
Идиот! Кретин! Надо было предвидеть это! Так уж заведено — пленников сажают в помещения, куда войти намного проще, чем выйти. Всякий ребенок осведомлен об этом.
Я в сердцах двинул кулаком по двери. Анна все еще сидела на полу, прислонившись спиной к генератору.
— Кирилл, — прошептала она, и губы ее дрогнули. — Откуда ты? Как ты сюда попал? Я уже не верила, что увижу тебя.
— Нет, — бормотал я, рассеянно осматривая дверь. — И не надо было верить. Видеть таких болванов, как я, — наказание, а не благо… Хоть бы монтировочку какую оставили.
— Подожди, — шептала она. — Хватит метаться. Я до тебя уже все здесь осмотрела. Бесполезно. Подойди ко мне. Сядь рядом. — Анна коснулась верхних пуговиц платья, расстегнула их, опустила пальцы ниже, в то место, которое женщины многие века по своей наивности считают самым надежным местом для тайных писем и денег, вынула и положила мне в ладонь теплый пластиковый цилиндрик флэшки. — Спрячь ее, если сможешь.
— Что здесь?
— Это тот самый случай, когда говорят: лучше бы я никогда не знала, что здесь, — болезненно усмехнулась Анна. — Не задавай больше никаких вопросов! Говори о себе, я буду слушать. У нас мало времени.
Я переводил взгляд с флэшки, которую дала мне Анна, на ее глаза, в которых уже не было того прежнего азарта, любви и жажды к приключениям.
— Анна! — прошептал я, потрясенный изменениями, произошедшими в ней. — Что ты говоришь? Какие, к черту, рассказы о себе?! Мы должны выйти отсюда. У меня автомат, два «рожка», набитых патронами, «магнум», и на последний случай, два кулака, которыми, клянусь, я сверну как минимум еще одну челюсть.
Она прикрыла глаза, почувствовав мои пальцы на своем лице. Я осторожно провел ладонью по ее волосам, спутавшимся, слипшимся в тонкие темно-бурые веревочки.
— Ты ранена?
Анна отрицательно покачала головой.
— Но ты же вся в крови!
— Это чужая кровь. Я разбила бутылку ликера о голову одного охранника. А меня били намного аккуратней — только синяки по всему телу. Хорошо, что ты не видел меня раздетой.
— Встань! — коротко приказал я. Ее воля была надломлена, и я вынужден был обращаться к ней жестко. — Надеюсь, с этой штуковиной ты умеешь обращаться?
Анна опустила глаза, растерянно глядя на «магнум», который я вложил ей в ладонь.
— Кирилл, — прошептала она. — Я боюсь…
— И я боюсь, это нормально. — Я взял ее за плечи и легко встряхнул. — Чего это у тебя глазки повлажнели? Что за беда приключилась? Дверь захлопнулась? И из-за такой ерунды — сразу в слезы?
Я вытер ладонью ее щеки. Анна попыталась улыбнуться. Я подвел ее к двери.
— Колоти в нее руками и ногами, зови охранника, кричи, что хочешь сказать Князю что-то важное.
Анна, покусывая губы, в нерешительности смотрела на дверь, потом несильно стукнула по ней кулаком. Рука скользнула по металлической поверхности вниз.
— Нет, Кирилл, это не то, — сказала она, повернулась к двери спиной, оперлась о нее и скрестила на груди руки. — Это все уже было. Я кричала, стучала, притворялась, что лежу без сознания. Охранник только слегка приоткрывал дверь, а внутрь не заходил.
— Этого достаточно.
— Ты хочешь выстрелить в него? Но на выстрел сюда примчится вся охранка. Это человек двадцать, не меньше. Мы сумеем только геройски умереть.
— Черт возьми! — сквозь зубы процедил я, понимая, что мой наигранный оптимизм ничем не подкреплен, и стал ходить по камере. — Я уже готов поверить в то, что фокус с захлопывающейся дверью придуман для того, чтобы поймать меня, как на приманку. Они знали, что рано или поздно здесь появится твой сообщник.
Я встал рядом с генератором, минуту смотрел на него, как дикарь на микроскоп, раздумывая, как эту штуковину можно применить, потом снял жестяной кожух и проверил двигатель. Машина была ухожена, смазана, заправлена соляркой под завязку. Удобна и незаменима на тот случай, когда по каким-либо причинам обрывается централизованное электроснабжение. Запустил движок — и обеспечил особняк своим током. Вольт триста восемьдесят выдает, не меньше. Вольт триста восемьдесят…
Анна смотрела на меня, не понимая, зачем я вешаю кожух перед дверью на крюк, обрезаю куском бутылочного стекла кабель, зачищаю контакты, оголяя толстую медную проволоку.
— Помоги мне, — сказал я, протягивая конец кабеля. Она положила пистолет на пол, взялась за один провод, я — за другой и, орудуя стеклом, как ножом, стал срезать между ними изоляцию. Анна не понимала, зачем я это делаю, ее глаза все еще были полны безразличия к своей судьбе.
Я отделил провода друг от друга. Один прикрутил к висящему над дверью кожуху, другой — к шляпке ближайшего болта, ввинченного в дверь. Подергал провода, проверяя на прочность.
— Я спросил электрика Петрова, — бормотал я какую-то чушь, заглядывая в потроха двигателя. — Отчего, Петров, у тебя на шее провод? Ничего Петров не отвечал… Ну-ка, Анюта, отойди от двери подальше, на всякий случай… Только ножками тихо качал…
Мотор генератора затарахтел лишь от одного сильного рывка за тросик. Я ослабил подачу топлива, вытер руки о тряпку, которая валялась под ногами, и взял в руки автомат.
— Ну вот, Анюта, — сказал я, предвкушая бурные события, которые должны были хорошенько пощекотать нам нервы. — Теперь подойди к двери. Только не близко, не близко… Хорошо, хватит. Теперь сядь на пол, чтобы тебя можно было увидеть из-за кожуха. И кричи. Не жалей горла, вопи так, чтобы у меня уши заложило. Если спросят из-за двери, что случилось, скажи, что почему-то завелась машина и тебе страшно. Хорошо?
Анна все сделала так, как я просил, и, действительно, я едва не оглох от пронзительного писка. Должно быть, природа компенсировала у женщин недостаток физической силы способностью резать слух высокими нотами. Я морщился, закрывал уши, вздрагивал от волн озноба, катившихся по спине; понимая, что Анна кричит всего лишь по моей просьбе, я не мог избавиться от ощущения какого-то дикого кошмара и едва сдерживался, чтобы не кинуться к ней и не закрыть ей рот.
Она уже почти сорвала голос, когда, наконец, из-за двери раздался окрик:
— Чего орешь? Тебя что там — насилуют?
— Машина завелась! — хрипло крикнула она. — Дым идет!
Спрятавшись за генератором, я наблюдал за дверью. Несколько секунд снаружи было тихо, затем дверь дрогнула, приоткрылась. Сквозь узкую щель я увидел тугой живот, обтянутый черной майкой, подтяжки и пистолет в волосатой руке. Все остальное закрывал лист кожуха. Но я узнал дежурного.
— Что у тебя там? — крикнул дебелый с порога.
Анна, сидя на полу, уронила голову на колени.
— Эта машина… Здесь пахнет горелым… Выруби ее скорее!
«Я спросил электрика Петрова…» — мысленно произнес я, не сводя взгляда с двери. А вдруг не сработает?
Дебелый взялся за дверь и приоткрыл ее шире.
— Что это за хреновина? — с подозрительностью в голосе пробормотал он и ткнул стволом пистолета в кожух. Раздался треск, словно под дебелым сломалась половая доска; его передернуло и откинуло назад. Анна, не поднимаясь на ноги, кинулась на дверь, как волейболистка за мячом, и успела подставить руку, не давая ей захлопнуться. Я заглушил двигатель, оборвал кабель и, придерживая дверь, помог Анне подняться.
— Быстрее! — сказал я, выталкивая ее в коридор. Она едва переставляла ноги и не могла оторвать взгляда от тучного тела, распростертого на полу. Лицо дебелого покрылось красными пятнами. Он, кажется, не дышал. Пистолет оставался в ладони, словно рукоятка приварилась к коже. Я взял его за ноги и втащил в камеру, что стоило мне огромных усилий. Конечно, было бы неплохо его обыскать, но у нас не было времени.
— Рация! — простонала Анна.
— Что? — не понял я ее.
— У него на поясе рация!
Кажется, моя девушка постепенно начинала соображать. Я склонился над телом и отстегнул от пояса черную портативную радиостанцию.
Анну пришлось вести по коридору под руку. Казалось, что она разучилась ходить за те три дня, которые провела в заточении, или же находилась в состоянии прострации и слабо понимала, что происходит.
Оставив ее у лестницы, я заскочил в уборную. Анна, несмотря на свое состояние, не преминула пошутить: «Вот-вот, самое время!» Волзов послушно сидел в том месте, где я его оставил, и, кажется, дремал, привалившись плечом к перегородке. Но едва я протянул руку, он открыл глаза, вскочил и нервно вскрикнул:
— Что?! Что?!
Пришлось закрыть ему рот ладонью. Над рукомойником я ополоснул его лицо и вежливо вытолкнул в коридор. Когда водитель стал способен понимать меня, я шепнул ему на ухо:
— Сейчас пойдешь к своей «Газели», снимешь ее с тормоза и тихо подкатишь к входу.
— А Бэшан? — пролепетал Волзов.
— Какой еще Бэшан?
— Дежурный.
— Я буду вместо него. Давай, малыш, не робей.
— Он нас продаст, — вдруг вмешалась Анна. — Я этого шакала хорошо знаю. — И с завидной решительностью поднесла к лицу водителя пистолет. — Может, это ты настучал Князю, что я передала письмо?
— Я? — захлопал глазами Волзов. — Кому я настучал?
— Не ори! — зашептал я и повернулся к Анне: — Не время сейчас это выяснять. У него уже была возможность продать меня, но Игнат Юрьевич честно отсидел положенное время на очке. Да, малыш? Спускайся первым.
Волзов взялся обеими руками за перила, словно был сильно пьян, и стал медленно сходить по лестнице, оборачиваясь и кидая взгляды на ствол автомата. Я ободряюще покачивал оружием. Следом за Волзовым мы с Анной спустились в холл. Водитель растерянно остановился у двери.
— Выходить?
Анна едко усмехнулась. Она оживала прямо на глазах, превращаясь в ту самую Анну, которую я знал по Южной Америке и Судаку. Махнула пистолетом у лица Волзова и сказала:
— Ты предпочитаешь, чтобы мы тебя отсюда вынесли?
Что делает оружие с женщинами!
Волзов кинул на меня взгляд, просящий защиты. Теперь он боялся Анны больше, чем меня. Я ободряюще похлопал его по плечу, и Волзов вышел на улицу. Анна встала у двери, наблюдая за водителем через окошко, а я подошел к мониторам. Один из них показывал, как по мокрому асфальту бредет маленький человечек в джинсовом костюме, висящем на нем, как на спинке стула. На экране второго монитора между темных пятен мокрых кустарников взад-вперед ходил человек с автоматом, вскинутым на плечо. Прожекторы освещали бетонный забор с «колючкой», высвечивающийся на экране белой полосой. На третьем экране — что-то очень похожее: забор, кусты, охранник. Четвертый монитор задержал мое внимание. На нем происходило нечто неординарное. Камера наплывами показывала темный участок парка, крепкие стволы вязов, дымчатые лиственницы. Две согнутые фигуры орудовали лопатами. Один из землекопов стоял в яме по грудь, второй — по пояс. Землю они откидывали на край ямы, и там уже вырос бруствер. На заднем плане матово поблескивал хорошо знакомый мне предмет — цинковый гроб.
Чудеса, подумал я, не веря своим глазам. Они хоронят труп своего охранника, не заметив подмены.
Я не мог оторвать глаз от экрана. Собственно, хоронили меня, а собственные похороны, надо признаться, зрелище не столько интересное, сколько, мягко говоря, редкостное. Вот так, Кирилл Андреевич, сказал я себе и грустно вздохнул, ни музыки, ни трогательных речей, ни прощального салюта — ночью, под дождем, на территории какого-то мафиозного притона.
— Он едет сюда, — сказала Анна.
Я посмотрел на первый монитор. Не включая фар и мотора, по дорожке медленно катилась «Газель».
— Через ворота нас выпустят? — спросил я.
Анна пожала плечами.
— Думаю, что нет. Меня не выпускали. Я могла ходить по всей территории, но как только я приближалась к выходу, охранник сразу же закрывал его своей широкой грудью. Кажется, нужен звонок лично от Князя, чтобы открыли ворота.
— Даже ночью?
— Особенно ночью!
Я взял в руки радиостанцию, которую снял с пояса дебелого.
— У охранника, стоящего на воротах, тоже радио?
Анна недолго подумала и утвердительно кивнула. Она смотрела на меня и покачивала головой.
— Это авантюра. Охранник сразу поймет, что говорит чужой.
Я хотел сказать ей, что не вижу другого выхода, «Газелью» стальные ворота не протаранишь, но промолчал и провел пальцем по овальным пронумерованным клавишам на корпусе радиостанции. Каждая из них посылала вызов конкретному абоненту. Не думаю, что Бэшан отличился оригинальностью, организуя офисную связь, и пронумеровал своих абонентов вопреки общепринятым правилам. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что под цифрой «1» значился шеф. А дальше? По степени значимости?
Я нажал на кнопку с цифрой «4». Один из охранников на экране монитора остановился, опустил свободную руку к поясу, поднес к губам небольшой черный предмет, и я услышал из динамика радиостанции шелестящий голос:
— Слушаю тебя, Бэшан!
Я дал отбой и нажал на «3». На этот раз на связь вышел охранник со второго монитора. Теперь я знал наверняка, что охранник на проходной значится под цифрой «2». Странно только, что этого второго по значимости объекта не было на мониторе.
Анна смотрела на меня покусывая губы. Я гладил пальцем поверхность клавиши, похожей на черную арбузную косточку. Если охранник распознает, что с ним говорит вовсе не шеф, то он наверняка поднимет тревогу. Начнется стрельба, особняк обложат со всех сторон. Взять в заложники Князя, чтобы вместе с ним выехать за ворота, мне также не удастся — он не откроет свою бронированную дверь незнакомому человеку.
— Черт возьми! — невольно выругался я, впервые за долгое время не зная, что делать. На ум не приходило ни одной спасительной мысли. Мы слишком долго торчали здесь, рискуя быть замеченными охранниками, шерстящими территорию. Анна держала пистолет стволом вниз, как бесполезную вещь, и кидала тревожные взгляды то на окно, то на меня.
— В машину! — сказал я. Остроумной идеи все еще не было. Но надо было что-то делать. Анна с готовностью и облегчением кивнула. В безвыходной ситуации подчиняться — приятное дело. Она вышла первой, следом за ней — я, попутно выдернув из розеток кабели мониторов.
Анне я приказал сесть в фургон и, тихо прикрыв за ней дверь, подошел к Волзову, который, вцепившись обеими руками за руль, словно его «Газель» мчалась по бездорожью на огромной скорости, затравленно косился на меня.
— Ну что, малыш? — ласково спросил я. — На волю выберемся?
Волзов ничего не ответил. По-моему, он вообще не понял сути вопроса. С того момента, как с ним неласково поговорил Князь, а затем он просидел полчаса на унитазе, воля его была основательно надломлена, и теперь, скорее всего, его мыслями и поступками правили страх и безумная жажда выжить, что, как ему казалось, зависело только от меня. Прикажи я ему под дулом автомата прыгнуть в пропасть, он, во имя спасения своей жизни, сделал бы это моментально, не задумываясь, хотя прыгал бы в могилу. Я понял, что ждать от Волзова чего-нибудь, кроме бараньего послушания, какой-либо инициативы или идеи, бесполезно. Он пальцем не пошевелит ради своей жизни.
Я сел в кабину рядом с ним. Потянул на себя дверь, и в этот же момент увидел, как из-за угла дома показался человек. Глядя на нас, он участил шаги, взял автомат, который сначала нес на плече, обеими руками и что-то крикнул. Я вяло помахал ему, стараясь не суетиться и удержать от падения в обморок Волзова. В тех, кто суетится, стреляют в первую очередь.
— Заводи, малыш. Нам с этим парнем не по пути.
Подогнув ноги, я втиснулся в узкое пространство впереди сиденья, чтобы меня не было заметно со стороны. Волзов нервно тронулся с места, и я едва не расквасил себе нос о перегородку.
— Гони к воротам. И слушай меня, тогда все будет хорошо.
А сам подумал: кажется, никогда еще не было так плохо, как сейчас.
27
Мы взлетели на горку к гаражу, свернули влево. Фургон «Газели» задел ветку осины, растущей у самой дорожки, и на лобовое стекло обрушился самый настоящий водопад вперемешку с мокрыми листьями. Волзов потянулся к включателю стеклоочистителя, но я перехватил его руку.
— Не надо!
Жесткий штырь антенны радиостанции, которую я затолкал в карман брюк, уперся мне в живот. Я принялся вытаскивать аппарат и случайно нажал на одну из клавиш. Рация зашуршала в моей руке и сказала:
— Слушаю тебя, Бэшан!
Кажется, вышел на связь один из охранников. Я не удержался от телефонного хулиганства — любимого занятия детства. Нажал на тангенту и прохрипел:
— Какого черта ты меня слушаешь, козел безрогий?! Неизвестно кого там пасешь в своих кустах! Я на втором этаже, в генераторной, захлопнулся и не могу выйти! По коридору чужие «быки» шастают! Бегом сюда!
— Не понял! — отозвалась рация. — Повтори, где ты?
— В заднице! — уточнил я и сунул рацию в нагрудный карман.
Свет фар уперся в серый металл ворот. Отбрасывая жуткую тень, перед машиной выросли двое охранников. Оба — при оружии, в бронежилетах. Ослепленные, они не могли видеть, как я аккуратно выпихиваю Волзова наружу, а сам переползаю на его место.
— Скажи им, что Князь велел тебе срочно поехать в аэропорт, — шепнул я.
Волзов вылезал из кабины, словно безногий. Один из охранников, прикрывая глаза ладонью, крикнул, чтобы Волзов вырубил фары. Тот, уже опустив одну ногу на асфальт, в нерешительности остановился и, не зная, что делать, посмотрел на меня. Я уже почти занял его место и снова подтолкнул в плечо, чтобы он не топтался здесь, а быстрее отошел от машины. Как назло, ремень автомата запутался на рычаге скоростей, и мне пришлось на ощупь распутывать его, не сводя глаз с охранников. Мотор тихо булькал на холостых оборотах. Я торопился, и у меня ничего не получалось — автомат оказался накрепко привязанным к рычагу. Я взялся за круглую пластмассовую рукоятку рычага, и она заскользила под моей ладонью. Это провал, подумал я словами Штирлица и поставил вторую скорость. Один охранник с автоматом на плече, расставив ноги, стоял лицом к машине. Его тень, падающая на ворота, напоминала мишень на стрелковом поле. Второй вразвалку, словно делая одолжение, шел к Волзову, лениво обкладывая его матом. Водитель, ожидая физической расправы, топтался на месте и не знал, куда деть руки — то ли прикрывать ими живот, то ли лицо.
Затрещала в моем кармане радиостанция, кто-то хрипло позвал: «Бэшан! Ты меня слышишь? Прием, Бэшан!» Охранник, подваливающий к Волзову, повернул голову и посмотрел на кабину. Он услышал голос. Волзов стоял в луже. Трудно было сказать, от дождя она образовалась или от чего-либо другого.
— Чи-иво-о? — протянул охранник, снова поворачивая лицо к Волзову. — Какой, к херам, аэропорт?
Волзов что-то пролепетал. Охранник, наконец, приблизился к нему и приставил ствол автомата к водительскому впалому животу.
— Никакой команды от Князя не было. Сейчас я проверю. Если врешь (глагол был другой), то снова сделаю так, что будешь писать кровью.
Он оттолкнул со своего пути джинсовый костюм вместе с Волзовым внутри его и той же небрежной походкой, выбрасывая вялые ноги вперед себя, подошел к машине. Я уже не дергался. Радиостанция шипела на груди, как клубок встревоженных змей. Моя правая нога лежала на акселераторе, левая — на сцеплении. Я смотрел вперед и, как нетерпеливый водитель перед светофором, тарабанил пальцами по баранке.
В окошко просунулась лысая башка охранника. Он, естественно, не ожидал увидеть за рулем незнакомого человека и издал возглас удивления:
— Мать моя женщина!! А это еще что за мудило?
Не поворачивая головы, я изо всех сил въехал левым локтем в подбородок охраннику, задирая его голову кверху, и, когда его затылок уперся в крышу кабины, тремя молниеносными оборотами рукоятки поднял до упора стекло. Я не услышал, как охранник захрипел, заглушая шипение рации, и сбросил сцепление. Раздался визг колес, «Газель» рванула с места. В свете фар мелькнуло перекошенное лицо охранника, стоявшего перед воротами, затем раздался глухой удар, и узкий передок машины, как свирепый бычок, протаранил охранника в пах, согнув его пополам, а со вторым ударом прижал его к воротам, бросил страшное, с выпученными глазами лицо на лобовое стекло. Мотор заглох, повисла жуткая тишина, и мной овладело оцепенение. Я не мог оторвать глаз от жуткого зрелища. Передо мной еще корчился человек, облизывая сизым, неимоверно раздутым языком лобовое стекло, оставляя бледно-красные следы и царапая стекло скрюченными пальцами, потом голова его стала заваливаться набок, ладони поползли вниз, и он лег грудью на скошенный передок.
Потом я посмотрел на боковое окно. Голова второго охранника, зажатая стеклом, была неестественно вывернута набок, похоже, с переломом основания черепа, зубы оскалены, языка не видно — глотка быстро заполнялась кровью. Голова напоминала жуткий талисман, подвешенный на веревочке под потолком кабины.
Я опустил стекло, и охранник мешком повалился на асфальт. Вместо него я увидел зеленоватое лицо Волзова.
— Открой фургон, — сказал я ему, но водитель даже не шелохнулся, глядя на трупы. Я вполголоса выругался и выскочил из кабины. Анна, как только я распахнул дверь фургона, нацелила мне в голову пистолет, потом с облегчением выдохнула и опустила руку. Она ни о чем не спрашивала — за это я ее очень люблю, — кинула быстрые взгляды на трупы, потом на Волзова, тенью стоявшего рядом с машиной, и махнула стволом перед его лицом.
— Ну-ка, дай задний ход!
Она была права, прежде чем открыть, надо было освободить ворота. Я снова нырнул в кабину, легко и быстро отвязал ремень автомата от рычага и кинулся к приборному щитку ворот. Две кнопки, красная и черная. Все просто.
Волзов отъехал на метр назад, и я нажал на красную. Тихо зажужжал мотор, ворота дрогнули, и правая створка стала медленно отъезжать в сторону.
— Кирилл! — вдруг крикнула Анна и показала куда-то вверх. Я поднял голову. На фонарном столбе, подмигивая красной точкой, покачивалась на оси телекамера. — Она только что включилась, — шепотом добавила Анна. — Красная лампочка до этого не горела.
Я попятился спиной к машине, не сводя глаз с объектива камеры. Похоже, что она включилась автоматически, одновременно с мотором ворот. Кто сейчас на нас смотрит? Не сам ли Князь?
— Прыгай в кабину! — сказал я Анне, передергивая затвор на автомате.
Внезапно створка ворот, которая, словно издеваясь, едва ползла по рельсе, остановилась, будто уперлась в препятствие. Я кинулся к кнопкам, нажал на красную, на черную, снова на красную. Тщетно! Мотор продолжал работать, а ворота стояли как вкопанные. Я протиснулся в щель, попытался сдвинуть створку, но она даже не дрогнула, как если бы я пытался сдвинуть с места бетонный забор. Волзов нервно стучал ногой по акселератору, «Газель» подвывала на холостых оборотах, покачивалась на рессорах, а я надрывался между дверью и забором и ничего не мог сделать.
— Проклятие! — крикнул я. — Князь, должно быть, заблокировал ворота.
Вскинув автомат, я дал очередь по приборному щитку. Пластиковый корпус лопнул, оттуда брызнул фонтан искр, голубым пламенем вспыхнул многожильный провод. Я снова попытался сдвинуть створку с места, но и это не помогло. Тогда я подскочил к машине, схватил за руку Анну, растерявшуюся от неожиданности, и едва ли не выволок ее из кабины.
— Бегом! За ворота! — торопил я ее.
Икнув, заглох мотор машины. Я обернулся и увидел через заляпанное стекло лицо-маску Волзова. Он смотрел на меня, как смотрят дети на родителей, когда они оставляют их в саду-пятидневке.
Где-то слева затрещали ветки. Я присел у колес, всматриваясь в темные силуэты кустов, ничего не заметил и на всякий случай дал короткую очередь.
— Игнат Юрьевич! — с жутким сарказмом в голосе произнес я. — Вы там что, к сиденью приклеились? Вылезайте из своей дурацкой машины, иначе я не ручаюсь за вашу глупую голову!
— Хватит! Уходи! — кричала Анна из-за ворот.
И тут началась бойня. Не знаю, сколько человек вели по нас прицельный огонь, но вокруг защелкали выстрелы, замелькали вспышки, лопнуло лобовое стекло и тотчас осыпалось белым песком, машина снова закачалась, словно страдая от боли — пули в несколько секунд изрешетили ее дверцу. Я инстинктивно упал рядом с колесами автомобиля, откатился к двери и одним рывком выдернул ошалевшего Волзова на асфальт.
— Ползи за мной, дистрофик! — с бешенством крикнул я, с трудом преодолевая желание кинуться самому к воротам, бросив водителя на произвол судьбы. Ползать по-пластунски Волзов совсем не умел. Он по-бабьи раскачивал своим тощим задом, приподнимал его, оттопыривал локти, и одному богу известно, как его не пристрелили.
Я посмотрел наверх. Телекамера уже не раскачивалась, а уставилась своим стеклянным глазом прямо на меня. Красная лампочка подмигивала, словно издеваясь. Я поднял автомат и нажал на спусковой крючок. Брызнули во все стороны стеклянные осколки, красная лампочка потухла. Оглянулся. Волзов, высунув от усердия язык, покорял отделявшие его от ворот метры. Я, не жалея патронов, поливал огнем все близлежащие кусты, посылая длинные очереди туда, где видел вспышки. Анна, эта бестолковая девчонка, пыталась мне помочь, стреляя из пистолета по одной ей известным целям.
Я надеялся, что через секунду-другую мы выберемся за пределы ворот, как вдруг створка снова дрогнула и медленно поехала в обратном направлении. Я кинулся к щели, которая сокращалась с каждым мгновением, оттолкнул Анну, уперся спиной в забор, вытянул руки впереди себя, сдерживая страшную силу мотора.
— Волзов, хрен собачий!! — прохрипел я, чувствуя, что долго не продержусь. — Бегом! Подо мной!
Анна что-то закричала мне на ухо и, кажется, попыталась вырвать меня из щели. Мне казалось, что у меня хрустят суставы. Шершавая поверхность бетонного забора вдавилась мне в спину. Холодный металл с тупой настойчивостью продолжал давить на руки, и я сантиметр за сантиметром уступал, и мое короткое сопротивление было тщетным и смешным, как если бы я пытался сдержать тепловоз. Огненные нити заскользили вокруг забора, пули с визгом рикошетили о мокрый асфальт и с жужжанием майских шмелей уходили в черное мокрое небо.
Страшная боль охватила всю грудную клетку, на которую пришлась наибольшая нагрузка, и я не сразу почувствовал, как плечо обожгло острой болью, и вся левая рука начала стремительно неметь, терять чувствительность, как будто ее вмиг подменили протезом. Я стиснул зубы, но протяжный стон вырвался из моего рта. Волзов копошился где-то под моими ногами, я не мог опустить голову и посмотреть вниз, тем более что Анна вдруг схватила меня за волосы и рванула на себя. Руки согнулись в локтях, словно сломались и, падая в темноту, я едва успел отдернуть ногу — сразу за мной створка закрылась, как двери в метро, громыхнув железом, что на мгновение заглушило хруст кости и дикий, нечеловеческий вопль.
— Бежим!! — умоляющим голосом крикнула Анна и потянула меня за онемевшую руку куда-то в темноту, где была высокая трава, достигающая едва ли не до груди. Но я, спотыкаясь, слабея, все же обернулся и успел увидеть в тусклом свете уцелевшего фонаря темную фигуру Волзова, распластавшегося на земле, корчившегося, как червь под подошвой; створка закрылась неплотно, ей помешала его нога, захваченная, как в тиски. Стальная громада, должно быть, раздробила ему кость, но даже не это обрекало его на погибель: Волзов был в капкане, и я мог освободить его, лишь отрубив ногу до колена.
Я рванулся в слепом стремлении помочь человеку, который шел с нами — вольно или невольно — к одной цели. Этого требовала старая, как хроническая болезнь, привычка, вынесенная с давно прошедшей войны. Разумом я понимал, что у меня нет ни возможности, ни времени освободить его, что я только погублю и себя, и Анну, но власть боевых законов, выше которых не было ничего на свете, потащила меня назад, к воротам.
Анна прыгнула на меня, как львица, защищающая детей, повалила на землю и несколько раз наотмашь ударила меня по лицу. Мы не удержались на мокром склоне и покатились куда-то вниз. Теперь уже мокрая трава хлестала меня по лицу; раненое плечо ныло от острой боли, я выронил автомат, ударился о него головой, сделал кувырок и, наконец, свалился в ручей лицом вниз. Задыхаясь, с хрипом втягивая воздух, я поднял голову, как мне казалось, вверх, но почувствовал темечком землю. Мир перевернулся. Меня качало, как на яхте в жуткий шторм, я ослеп. Отплевываясь, судорожно давя в кулаках вязкую глину, я все-таки пытался подняться на ноги.
Чья-то рука вдруг крепко схватила меня за волосы, выдергивая голову из тины, и я почувствовал, как к виску прижался холодный пистолетный ствол.
— Ну все, Вацура, — услышал я спокойный голос Анны. — Поиграли в благородство, и хватит. Если ты еще раз попытаешься вернуться к воротам, я тебя убью.
Никогда еще Анна не говорила со мной таким тоном, и я поверил ей.
— Хорошо, — с трудом произнес я и все никак не мог отдышаться. — Только убери, пожалуйста, пистолет. В нем все равно нет патронов.
Потом к ней пришел запоздалый страх. Она плакала и смеялась, а я сидел рядом и не мог утешить ее. Благородство, думал я, она сказала — поиграли в благородство? Нет, нет. Это была отчаянная попытка сохранить свою совесть чистой, чтобы не забивать память тем, что болит вечно, как незаживающие раны… Этого Волзова я теперь буду мучительно вспоминать всю жизнь.
28
Мы забрались в какое-то болото, где не было ни кусочка сухой земли, и там, стоя по щиколотку в ржавой холодной воде, дождались рассвета. Автомат я утопил в черной жиже, а пистолет спрятал под ремнем брюк.
Анна отодрала подол платья и перевязала мне предплечье. Кажется, рана была неопасной, во всяком случае, мы знали точно, что пуля лишь содрала кусок кожи, и кровотечение быстро остановилось. Потом еще часа два или три мы продирались через колючие кустарники, и платье Анны превратилось в лохмотья. На ее некогда изящные туфли жалко было смотреть, один каблук отломался, и теперь она хромала, опираясь о мое плечо. Как назло дождь не прекращался. Анна дрожала так, что не могла говорить — зубы отбивали дробь, и я не мог ничем облегчить эти страдания, кроме как накинуть на ее плечи свою насквозь промокшую куртку.
Мы выбрались на шоссе и шли по нему, не задумываясь о том, куда оно нас приведет — лишь бы подальше от страшного места. Опасаясь преследования, мы не останавливали попутки и прятались в кювете всякий раз, когда замечали легковую машину. Так мы добрели до какого-то поселка, где сели на рейсовый автобус до Москвы. Водитель, видя, в каком мы бедственном положении, тем не менее потребовал заплатить за проезд. Мы уже устроились на сиденьях, прижавшись друг к другу, и выходить из автобуса не собирались. Водила открыл обе двери и сказал в динамик, что автобус не тронется с места до тех пор, пока мы не выйдем. Мы сидели с закрытыми глазами, и нам было наплевать на его условия. Но водила попался сволочной и терпеливо дожидался развязки. Пассажиры стали ворчать. Тогда Анна сняла с пальца тонкое кольцо и швырнула им в водителя.
— Заткнись только, — устало сказала она.
Водитель не только заткнулся. Он высадил на конечной остановке всех пассажиров и повез нас в Бирюлево, по адресу, который назвала ему Анна.
— Это моя подруга, — сказала мне Анна, когда мы поднимались по лестнице старого дома. — Я ее люблю за то, что она никогда не задает ненужных вопросов. И у нее есть компьютер.
Любимая подруга открыла только после того, как Анна, устав давить на кнопку звонка, стала бить в дверь ногой. В проеме показалось сонное пухлое личико, наполовину прикрытое спутавшимися волосами.
— Ой, — сказала она, едва открывая роток, запахивая на груди мохеровый халат. — Анюта с мужиком! Девятый час утра, я тащусь от тебя, милочка. Вползайте:
Она впустила нас в квартиру, пиная раскиданные по прихожей туфли и тапочки, потом прошаркала босыми ногами в одну из комнат, вынесла оттуда два полотенца, кинула их на табурет.
— Ванная вот, кухня — там, — сказала она тягуче-напевно. — Кофе на плите, сыр в холодильнике. Я пошла спать. Чао!
На пороге своей комнаты обернулась, скользнула взглядом по платью Анны.
— Нет, я тащусь от тебя. Ты в какой канаве валялась, милочка?
И, не дожидаясь ответа, закрыла за собой дверь.
— Все, — сказала Анна, сползая по стене и садясь на пол. — Больше сил нет.
Я отнес ее в ванную и прямо в одежде, а точнее, в том, что от нее осталось, поставил под горячий душ. Не открывая глаз, подставляя лицо под тугие струи, Анна раздевалась, срывая с себя лоскуты, словно старую изношенную кожу, обнажая чистую, гладкую, с бронзовым отливом. Вдруг она открыла глаза и вскрикнула:
— Флэшка!! Где флэшка?!
Я не ожидал такого эмоционального взрыва и даже вздрогнул.
— В куртке. Вроде бы.
— А куртка?
— В прихожей. Ты же сама ее там бросила.
Голая, мокрая, Анна выскочила из ванны и кинулась в прихожую, схватила куртку и принялась обыскивать ее многочисленные карманы, облегченно вздохнула и двумя пальцами вытащила флэшку.
— Возьми, — протянула она ее. — Положи на полку в кухне.
Мы мылись с Анной, толкая друг друга в борьбе за место под душем, потом боролись за место на диване, пока, наконец, не уснули в каком-то невероятном, неземном блаженстве. Как мало надо человеку, подумал я, проваливаясь в бездну.
* * *
Мы вернулись в реальный мир только к вечеру, после того, как подруга трижды заглядывала к нам в комнату, чтобы убедиться, что мы живы и дышим. Когда захлопнулась входная дверь и мы остались в квартире вдвоем, Анна встала с постели, поставила рядом с диваном табурет и стала раскладывать на нем ножницы, бинт, вату, какие-то баночки с мазями.
Боли в руке почти не было, но кожа вокруг раны сильно покраснела, что взволновало Анну.
— Не хватало еще заражения, — сказала она, накладывая мазь.
Я полулежал на сложенных горкой подушках, искоса наблюдая за тем, с каким старанием Анна перебинтовывает мне руку. Все, что случилось с нами, сейчас казалось дурным сном. Жизнь была светлой и прекрасной, и впереди, в обозримом будущем, плескался океан счастья. Улыбка блуждала по моим губам, когда я чувствовал нежное прикосновение пальцев девушки. Но эйфория длилась недолго. Закончив с моей рукой, Анна сказала:
— А теперь накинь халат и пойдем в другую комнату.
Я вздохнул — возвращение в реальную жизнь радости не приносило, потому что реальность была грустной. Мы вошли в гостиную, сели в кресла. Анна включила компьютер, стоящий на маленьком столике у окна, воткнула в гнездо флэшку и села напротив меня.
— Начинай с самого начала, — сказал я ей, видя, что девушка не знает, что сказать в первую очередь.
— С начала! — вздохнула она. — Если бы я знала, где начало всей этой истории и будет ли у нее когда-нибудь конец.
Я внимательно слушал ее несколько путаный и многословный рассказ и не перебивал, хотя кое-что мне было не совсем ясно. Но в итоге глобальная картина манипуляций с наркотиками, которые проводила российско-перуанская фирма «Гринперос», проявилась вполне отчетливо.
Я знал о злоключениях Анны до того момента, когда она неожиданно встретилась с Волком Августино, что подняло ее авторитет в глазах Князя на небывалую высоту. Впрочем, она несколько завысила значение того короткого разговора, который произошел у нее с перуанцем в присутствии Князя. Шеф лишь еще раз убедился в том, что у Анны остались давние связи с Южной Америкой — и не более того. Анну же понесло на подвиги, и она с удвоенной энергией стала собирать любую информацию, касающуюся наркотиков.
Однако в ее присутствии никто не говорил открытым текстом о наркотиках. Князь намекал, что готовится к отправке за рубеж большая партия дорогого товара, но какого именно — не пояснял. Анна, естественно, не спрашивала. Задавать вопросы было бы некорректно с ее стороны, и она всячески демонстрировала свое равнодушие к тайнам бизнеса.
Наступил день, когда Князь предложил ей на время переселиться в офис и поручил кому-то из клерков готовить для Анны визовые документы для поездки в Стокгольм. Сроки и цель этой поездки Князь держал в тайне, и Анна начала беспокоиться, что может неожиданно улететь в Швецию, оборвав все связи со мной. И тогда она начала форсировать события.
Ее работа в основном заключалась в составлении различных документов, связанных с торговлей оргтехникой, которой попутно занималась фирма «Гринперос». Почти все документы, что нетрудно было определить, оказывались липовыми и служили, должно быть, маскировкой, прикрывающей истинные дела. Анна по несколько часов в день проводила у компьютера в кабинете шефа. Князь при этом всегда находился при ней, ни на минуту не оставляя Анну в кабинете одной. Часто к Князю приходил генерал Вольский, и тогда Анна уходила к себе.
Ни подслушать разговоры Князя, ни просмотреть какие-либо документы ей не удавалось — шеф держал ее на дистанции и в тайны не посвящал. Он либо проверял ее, либо попросту не хотел до поры до времени раскрывать перед Анной все карты. Она спокойно ходила по территории, легко отшивала навязчивых охранников, изучала систему связи и охраны виллы, но не могла найти ни одной зацепки, которая бы впрямую доказывала то, что «Гринперос» занимается наркотиками.
Такая размеренная и относительно спокойная жизнь в значительной степени притупила ее бдительность. Анна, как я понял, стала слишком доверять окружающим ее людям, полагая, что давно находится вне всяких подозрений. Вот тогда-то она совершила непростительную ошибку: написала мне второе письмо, в котором с присущей ей подробностью обрисовала все внутреннее устройство виллы и поделилась своими предположениями относительно торговли наркотиками, идущими через офис Князя из Южной Америки от Августино (что, конечно, было ошибочной версией). Сунула письмо в обычный конверт, подписала адрес и попросила шустрого парня, который раз в три дня завозил в офис продукты, опустить его в ближайший почтовый ящик. Тот охотно согласился, и, может быть, все бы обошлось, если бы свидетелем этого разговора случайно не оказался Волзов.
Анна не придала этому большого значения. Она чувствовала себя опытной разведчицей и была абсолютно уверена, что никто даже не догадывается о ее намерениях. Письмо же, как потом выяснилось, очень скоро легло на стол Князю. Анна считала, что он вряд ли воспринял все как есть и поверил в то, что двое сумасшедших, действуя по своей воле и исключительно из благородных побуждений, пытаются выявить каналы, по которым наркотики идут из Афгана в Европу. Скорее всего Князь заподозрил в измене Августино, который нарочно подкинул своего человека в офис Князя, чтобы держать перуанскую сторону в курсе всех дел. По словам Анны, Князь оказался очень хитрым и осторожным человеком. Естественно, он не хотел разделить участь Сержа Новоторова и до поры до времени не делал никаких резких телодвижений. Ни словом, ни намеком он не показывал, что знает о письме, и каждое утро встречал Анну с приятной улыбкой и справлялся о ее самочувствии. И Анна, как она сама образно сказала, отпустила все тормоза.
Она обратила внимание на то, что Князь часто сам работал за компьютером, запираясь в кабинете. При Князе она не могла просмотреть содержание всех файлов — шеф запрещал ей выходить в какую-либо другую директорию, кроме той, которая была определена ей, и, находясь за ее спиной, все время следил за экраном.
В один прекрасный вечер Князь, как всегда, сидел в глубоком кресле перед журнальным столиком и, дымя сигаретой, просматривал прессу. Анна составляла в графике какие-то справки и попутно наблюдала за шефом, силуэт которого отражался на экране.
«А не попить ли нам кофейку? — спросил Князь, потягиваясь. — Приготовь, пожалуйста, чашечку, только не надо сливок».
Анна встала, вышла из кабинета и спустилась на второй этаж, где находилась кухня. Это шанс, подумала она и, поставив джезву на огонь, прошла в свою комнату. Она взяла из шкафа косметичку, раскрыла ее и, мгновение поколебавшись, достала оттуда пачку феназепама, который иногда принимала, чтобы лучше выспаться, и флэшку.
Она вернулась на кухню, приготовила кофе, вместе с сахаром растворила в чашечке четыре таблетки снотворного и пошла наверх. Князь отворил ей дверь. Анна вошла и сразу же почувствовала, что Князь смотрит на нее как-то иначе. Интуиция подсказывала ей, что Князь если и не разгадал ее замысел, то, во всяком случае, стал относиться с настороженностью, и надо было бы ей прислушаться к внутреннему голосу, остановиться, уронить «нечаянно» кофе на пол. Но Анна — человек в некотором смысле инертный, привыкла идти до конца, коль цель уже определена и первый шаг сделан. Князь придвинул кофе к себе, с полуулыбкой рассматривая чашечку. Холодея от предчувствия чего-то недоброго, Анна снова села за рабочее место.
Дальше все пошло точно по ее сценарию. Князь выпил полчашки кофе с коньяком и, уронив журнал себе на грудь, задремал. Некоторое время Анна продолжала составлять справки, оборачиваясь и поглядывая на спящего шефа. Убедившись, что он спит крепко и не реагирует на щелчки клавиш, Анна быстро достала из женского тайника флэшку, загнала ее в компьютер и открыла единственную директорию, которой пользовался шеф.
К ее разочарованию, директория была пуста, то есть в ней не было обозначено ни одного файла. Некоторое время она смотрела на пустые колонки, высвеченные на экране, как смотрел бы на пустые полки сейфа взломщик, а потом догадалась, что Князь попросту «спрятал» файлы, чтобы посторонний не смог открыть их. Задачка показалась элементарной, и в разделе «Конфигурации» Анна дала команду «Открыть спрятанные файлы».
Чуда не произошло. На экране вспыхнул красный прямоугольник с короткой фразой: машина потребовала указать пароль на допуск к файлам.
«Чтоб ты перегорела!» — почти беззвучно выругалась Анна и в сердцах дала щелбан монитору.
Время шло. Князь тихо посапывал, развалясь в кресле. Компьютер уставился на Анну красным глазом-заставкой, требуя пароль. Эту бесчувственную машину, лишенную сердца и нервов, невозможно было подкупить, уговорить или пугнуть.
Пароль, думала Анна, нужно назвать пароль. Это может быть слово или комбинация из цифр. Гадать можно столетия, так и не вычислив его.
Анна без всякой системы пробежала пальцами по клавишам. Машина ответила: «Пароль не определен».
Она поняла, что проиграла. Машину можно было взломать, разбить, залить коньяком из бутылки шефа, но невозможно было открыть файлы, не зная пароля.
На руке Князя внезапно замурлыкали часы, напоминая, что сейчас двадцать один ноль-ноль. Анна встала, на цыпочках подошла к Князю и осмотрела его одежду. Бежевая шелковая рубашка, черные брюки в стиле «Испанский тореадор» с широким поясом. Ни одного кармана, где можно было бы носить ключи или записную книжку.
Анна вернулась к компьютеру. Какое слово могут использовать люди в качестве личного пароля? Какое невозможно забыть. Это должно быть слово-символ, олицетворяющее самого себя. Сгодится имя, фамилия или кличка.
Анна набрала «KNIAS». Машина ответила все тем же: «Пароль не определен». А если фамилию? Господи, да она фамилию шефа не знает! А кличка?
— Какая у него кличка?
Анна усмехнулась, оттолкнулась от стола и закружилась на офисном кресле. Дурочка, думала она, надеялась, что все просто. Но люди, подобные Князю, умеют хранить свои тайны.
Она снова набрала его имя, изменив одну букву: «KNIAZ». Опять пароль не определен! Анна придвинулась к экрану, глядя на него, как на врага. Ах ты упрямая игрушка, подумала она со злым азартом, не хочешь открываться?
Третий вариант — «KNJAZ». Тот же результат. Набрала «KNJAS» — снова отказ! Машина словно издевалась над Анной.
Это бесполезно, подумала она. Сначала надо было определить пароль, а потом уже подсыпать в кофе снотворное.
Она встала с кресла и прошлась по кабинету, бросая взгляды на шефа. Ей показалось, что его веки дрожат. «Неужели просыпается?» — подумала она, подходя к нему на цыпочках. Князь дышал спокойно и глубоко. Его руки безвольно лежали на коленях, голова слегка запрокинулась набок.
Взгляд Анны упал на кейс, стоящий у ног Князя. Хорошо бы этот чемоданчик вскрыть, подумала она, но замки на нем кодовые, отгадать шифр так же трудно, как и пароль на компьютере.
И тут совершенно неожиданно Анна увидела подсказку. На кейсе, под ручкой, краснел пластиковый прямоугольник с выпуклыми литыми буковками: «KNEZ».
«Вот он как себя обозначает!» — подумала Анна и, боясь поверить в удачу, подошла к компьютеру и по-новому набрала имя шефа. С последней «зеро» табличка с предупреждением исчезла, и по сетке побежали имена файлов. Дальше — дело нескольких секунд: «засветить» все файлы и сбросить их на флэшку. Компьютер заурчал, будто был недоволен, что ему приходится делиться секретами, и Анна услышала, как шеф зашевелился. Опасаясь, как бы он не проснулся, она вытащила флэшку и сунула ее за глубокий вырез на платье, двумя щелчками по клавишам вышла из директории Князя, но «спрятать» файлы не успела. Шеф сделал какое-то движение, звякнул бокал на его столе. Анна замерла, чувствуя, как немеет ее спина, и вздрогнула, почувствовав руку Князя на своем плече.
«Шпионим, девочка?» — спросил Князь.
Он повернул ее лицом к себе. Глаза шефа были красными, полуприкрытыми. Казалось, что он борется со сном, и, чтобы не упасть, не закрыть глаза, ему приходится мобилизовать всю свою волю.
«Что тебя интересует? — продолжал Князь, едва заметно улыбаясь. — Ты хочешь узнать, где, почем и как мы покупаем героин и куда затем его продаем? Тебя интересует, сколько я сумел заработать на последней сделке?»
Анна молчала, глядя в черные глаза Князя и каменея от страха. Он коснулся пальцами ее подбородка, приподнял голову.
«Это простое любопытство или же шпионаж? — продолжал Князь допрос тихим вкрадчивым голосом, поглаживая двумя пальцами щеку Анны. — На кого ты работаешь? Может быть, на своего прежнего шефа? Не на Августино ли, а?»
Внезапно Князь дал Анне пощечину. Как ни странно, то чувство животного страха, которое испытывала она, сразу исчезло. Волосы закрыли ей лицо. Анна медленно приподнялась со стула, с удовольствием замечая, что ее начинает переполнять чувство злости и желания заехать по физиономии Князя кулаком. Наверное, Князь догадался об этом и предусмотрительно отошел к креслу. Он нажал кнопку вызова, дистанционным управлением открыл входную дверь охраннику.
«Выведи отсюда эту дрянь, — сказал Князь, кивая на Анну. — И запри в генераторной. Еды и воды не давать».
Охранник, к своему несчастью, слишком рьяно принялся выполнять приказ и, как объяснила мне Анна, «решил попутно изучить мое тело». Это оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. Когда охранник толкнул Анну в грудь, она схватила со столика бутылку ликера и шарахнула ею по лысой голове охранника. Бутылка разбилась вдребезги, ликер, смешавшись с кровью, брызнул во все стороны. Озверев от боли, охранник завопил благим матом и попытался повалить Анну на пол, но ей удалось вывернуться и ударить охранника запястьем по носу. Платок, который она носила на шее, и заколка упали на пол. Потом, должно быть, уборщик, ликвидируя следы драки, подобрал их и отнес в комнату Анны, где я их и увидел.
Князь спокойно следил за ними, и, казалось, эта сцена ему нравилась. Наконец, охранник, с залитым кровью лицом, скрутил Анне руки, выволок ее на лестницу, а оттуда — на второй этаж и в генераторную. Отводя душу, он еще несколько раз пнул ее, лежащую на полу, норовя попасть в живот.
Через день или два в генераторную зашел Князь. Анна сидела на полу, прислонившись к стене. Князь, сунув руки в карманы, ходил по цементному полу, и его шаги отдавались гулким эхом.
«У меня в подвале завелись крысы, — сказал он спокойным, почти миролюбивым голосом. — Огромные, в черных пятнах. Мутанты, что ли?.. — Он повернулся лицом к Анне. — Ты не боишься крыс, девочка?.. Про них говорят всякие небылицы, что, дескать, могут сожрать человека целиком и обглодать его кости. Все это вранье. В худшем случае они прыгают на лицо и обгрызают только уши, нос и губы. Ничего страшного, так ведь? Я закрою тебя в подвале на несколько дней, а потом отпущу на волю. Тех денег, которые ты заработаешь на шпионаже, вполне хватит на пластическую операцию. Нос тебе сделают из куска кожи, который отрежут с живота. Губы, прошу прошения — из гениталий, а вот уши придется заменить протезами из латекса. Уши, девочка, косметическая медицина пока не научилась делать».
Потом он достал из кармана лист бумаги, сложенный вчетверо, развернул его и прочитал: «Кирилл, дружочек, здравствуй! В офисе у Князя я уже вполне освоилась, хотя, как и прежде, от меня тщательно скрывают все, что в какой-либо степени связано с наркотиками. Это слово здесь — табу. Официально фирма занимается продажей оргтехники…» Князь усмехнулся, сложил письмо и сунул его в конверт, а затем зачитал адрес: «Полевая почта ноль пятнадцать сорок шесть. Вацуре Кириллу Андреевичу…» М-да. Этот парень погибнет в бою, защищая южные рубежи нашей родины. Или его посадят в тюрьму за какое-нибудь воинское преступление, а там его повесят на собственном ремне зэки, предварительно изнасиловав. Я еще не придумал, какую смерть даровать твоему дружочку.
Анна молчала и ничем не выдавала себя, хотя ею овладело чувство ужаса и полной безысходности. Со слезами на глазах она рассказывала мне, как в те минуты мысленно проклинала свою самоуверенность, которая, как она считала, обрекла меня на гибель. Князь ушел, и еще два дня никто не показывался в генераторной, пока, наконец, жуткой ночью, когда за стенами дома громыхала гроза, на пороге камеры не появился я. Первой мыслью Анны было, что меня схватили и насильно привезли сюда из Таджикистана…
Она заливалась слезами, рассказывая мне о своих злоключениях.
— А ты? — спросила она, сморкаясь в платочек. — Как ты попал туда? Что за фокус?
Щадя ее нервы, я постарался не слишком драматизировать свою историю и подал ее в виде забавного и даже веселого путешествия в гробу. Но мой мрачный юмор Анна не оценила. Она положила ладонь на мой рот, прикрывая глупую улыбку, и прошептала:
— Кирилл, это чудо, что мы еще живы. Теперь каждый прожитый день мы должны воспринимать, как подарок от бога.
Мы, повинуясь единому порыву, обнялись. Ее влажные щеки коснулись моего подбородка, мягкие, пахнущие шампунем волосы легли мне на плечи.
— И зачем мы ввязались в это дело? — шепнула Анна.
— Ты жалеешь?
— А если бы не ввязались, то что еще бы соединило нас? — вместо ответа спросила Анна.
Я целовал ее глаза и думал над ответом. Анна отстранилась от меня и усмехнулась:
— Ну ладно, не мучайся, не надо подбирать слова о нашей дружбе и верности друг другу, которые нас связывают крепче цепей и эпоксидного клея. Любовных признаний от тебя не дождешься. — Она подняла руки над головой и стала сплетать волосы в косичку. Ее руки оголились, и я заметил на них темные следы от ударов. — А может, это и хорошо, — добавила Анна, зажав в губах красную резинку. — Во всяком случае, честно. Ты мне никогда не лги, ладно?
— Ладно, — охотно согласился я, с облегчением понимая, что трудный для меня разговор закончился быстро и благополучно.
Мы еще раз поцеловались, но этих ласк нам обоим явно оказалось недостаточно, и мы, путаясь в полах, поясах и рукавах, стали торопливо освобождаться от халатов. Должно быть, я плохо усвоил хорошие манеры и сделал какое-то резкое движение, отчего кресло вместе со мной и Анной упало на пол. После пережитых потрясений это падение было настолько пустячным, что мы не обратили на него внимания, продолжая заниматься своим делом на полу, задевая при этом подлокотники руками, отчего старое кресло надрывно скрипело и трещало.
Мы снова парили где-то высоко-высоко над грешной землей, испытывая счастье от близости и нежности, забыв на время о немом, бесстрастном мониторе, на экране которого, словно первые звезды на вечернем небе, слабо светились буковки секретных файлов Князя.
29
Я вел пальцем по экрану. «kz1.doc», «kz3.doc», «kz4.doc»…
— А где файл под номером два? — спросил я. — Почему он пропущен?
— Разве? — не совсем искренне, как мне показалось, удивилась Анна и подсела ближе к экрану. — В самом деле, пропущен. Первый, потом третий… Как было, так я и переписала, — добавила она. — Будем довольствоваться тем, чем располагаем.
Она щелкнула пальцем по клавише, и на экран лег текст. Это было письмо, написанное Князем:
«Дорогой друг! Рад сообщить тебе приятную новость. Консенсус найден, и зона „Янтарного треугольника“ по общему решению отныне становится главной перевалочной базой. Переговоры шли трудно, чеченская сторона ставила нам кабальные условия, но мы смогли убедить их, что политическая обстановка в Ичкерии настолько нестабильна, что может обернуться трагическими последствиями для нашего общего дела. Теперь они озабочены не столько героином, сколько оружием, боеприпасами и наемниками. Никто не решится ставить на Ичкерию как на главную перевалочную базу. Рассматривался вопрос с Эстонией, но большой процент русскоязычного населения в этой республике также создает нестабильную ситуацию. Все сошлись в едином мнении, что преемником Ичкерии должен быть „Янтарный треугольник“.
Что касается партии героина, то все приготовления к ее отправке закончены. Ждем последней передачи. Большой привет миссис Гроулис. Крепко жму руку. Князь».
Прочитав письмо, мы с Анной переглянулись.
— Но здесь же ничего нет, — разочарованно произнёс я. — Ни адреса этого «дорогого друга», ни даты и маршрута переброски героина. Кто такая миссис Гроулис? И не фальшивка ли это письмо? Почему обо всем — открытым текстом?
— Подожди! — отмахнулась от меня Анна. — Ты хочешь узнать все сразу. Скорее всего Князь потом закодировал письмо на компьютере, переведя его в символы, и отправил по факсу. А куда — мы еще выясним. Адресату оставалось лишь сканировать письмо и при помощи ключа перевести его в нормальный вид. Смотрим дальше.
Анна открыла файл под цифрой «3». На этот раз мы увидели таблицу, лишенную каких-либо комментариев:
60 % Грузия (2\3) + Абхазия (1\3) Румыния Мексика + Куба USA (По каналу калийского картеля, Августино) Исланбаев, Вольский 10 % Азербайджан Турция Босния (мусульманский анклав) Европа USA «Серые волки» 10 % Вильнюс Таллин «Пярну» Скандинавия USA миссис Гроулис 20 % Шяуляй Клайпеда Англия Германия Австрия Глеб— Да, — протянул я, почесывая затылок. — Целая география. Надо понимать, это структура развоза продукции «Гринпероса». Направления и ответственные. Все четко, ясно и конкретно. Как в армии. — Я ткнул пальцем в экран. — В письме, похоже, речь шла о партии наркотиков, которую отправят по этому каналу: Вильнюс, «Пярну», Скандинавия… Послушай! — воскликнул я. — Ты говорила, что тебя готовили к отправке в Стокгольм. Не для того ли, чтобы контролировать передачу этой партии?
— Наверняка для этого, — согласилась Анна.
— А почему «Пярну» — в кавычках?
— Должно быть, это не город, а название, скажем, ресторана, казино или санатория. Смотрим дальше.
Анна открыла следующий файл, и нам стало ясно, что такое «Пярну». Мы «пролистали» несколько договоров, заключенных между морской компанией, владеющей паромом «Пярну», и фирмой «Гринперос» о перевозке из Таллина в Стокгольм тридцати тонн цветных металлов. В договоре была обозначена дата отхода парома из таллинского порта.
— Через четыре дня! — воскликнул я. — Надо быть полными идиотами, чтобы не понять, что этим паромом, под прикрытием цветных металлов, повезут ту самую партию героина, о которой шла речь в письме. И сопровождать ее будет миссис Гроулис!.. Анюта, а вот это уже, выражаясь языком моего приятеля, полковника ФСБ Валеры Нефедова, до-ка-за-тель-ства. Я продам всю эту поганую мафию в фээсбэ, и рука моя не дрогнет, и плевать буду на стены Бутырки, куда их посадят!
Я потер руки, вскочил с кресла и от волнения стал ходить по комнате. Анна как-то странно смотрела на экран и покусывала губы.
— Что с тобой? — спросил я. — Тебе нехорошо?
Анна тряхнула головой, легкие волосы взметнулись, как на ветру. Она зажмурила глаза, словно пыталась взять себя в руки.
— Уже прошло, — ответила Анна глухим голосом. — Открой, пожалуйста, бар. Там, кажется, была бутылка с сухим вином.
Мы выпили по глотку «Рислинга». Я наблюдал за Анной. Что с ней было? Приступ мигрени? Или ее почему-то испугало то, что она увидела на экране?
Мы продолжили просматривать файлы. Там были всевозможные таможенные документы, списки и адреса людей в Душанбе, Таллине, Грозном, Баку, Тбилиси, пароли, клички, астрономические суммы в валюте, банковские счета, что, собственно, меня уже не так сильно интересовало. Это был прекрасный рабочий материал для службы государственной безопасности.
— Начать надо с фирмы «Гринперос», — сказал я, покачивая бокалом в руке. — Уголовное дело против Князя и его компании можно завести уже по одному факту: на территории офиса закопан труп охранника с пачкой героина в штанах. Лучшего компромата не найти. Представляю, как будет хлопать глазами Князь, когда увидит, кто на самом деле лежит в гробу. Ведь он до сих пор считает, что по оплошности Волзова в офис просто привезли не тот гроб, а другой, набитый героином, передали кому-то из родственников.
— Они будут искать «свой» гроб, — сказала Анна.
— Вне всякого сомнения! Три московские семьи в ближайшие дни будут хоронить погибших в Таджикистане, и они об этом знают. — Я сделал паузу, почувствовав, как внезапно горло свело судорогой. — Да, — добавил я. — Будут хоронить в том числе и моего несчастного друга, Владимира Даниловича Локтева. А какая-то погань придет на могилу ночью и станет выкапывать гроб, а потом вскрывать его…
Я отпил глоток и подошел к окну. Я не слышал, — как ко мне приблизилась Анна, лишь почувствовал ее руку на своей спине. Она ничего не сказала, и я был благодарен ей за это безмолвное участие и сострадание.
— Нужна машина и патроны для «магнума», — сказал я.
— Зачем?
— Поедем ночью на кладбище, ляжем в кустики, и я стану рассказывать тебе страшные сказки. Когда могилу начнут раскапывать, ты тихонечко вызовешь милицию, а я постараюсь сделать так, чтобы искатели клада не разбежались слишком далеко.
30
Локтева хоронили на Митинском. Шел дождь, он стучал по желтеющим листьям и приглушал и без того негромкие голоса выступающих. Вокруг могилы было тесно, и солдаты почетного караула не могли изобразить строй. Они разошлись среди оград соседних могил, и оттуда, салютуя, вразнобой выстрелили в воздух. Гроб опустили в яму, вдова, высвободившись из рук офицеров, которые ее поддерживали, наклонилась и кинула в яму горсть земли. Я смотрел на ее лицо. Оно казалось безучастным, даже равнодушным, словно женщина не понимала, что происходит. Анна, наполовину прикрыв лицо черным платком, держала меня под руку. В ее больших солнцезащитных очках отражались надгробные плиты.
Народ тронулся по кругу, кидая на гроб землю. Гробовщики энергично взялись за лопаты. Прошла минута — и вырос холмик, покрытый венками и цветами.
Я оказался рядом с вдовой. Она глянула на меня серыми равнодушными глазами.
— Мы воевали с Володей вместе, — сказал я. — В тот день, когда это случилось, за несколько часов… мы сидели с ним в чайхане…
У меня свело горло, будто я глотнул горсть горячего песка. Вдова едва заметно кивнула. Я молча стоял перед ней, судорожно сглатывая, и сжимал ее холодную ладонь.
— Не надо, — едва слышно сказала вдова. — Не надо говорить соболезнований… Ваша фамилия — Вацура?
— Да, — удивленный этим вопросом, ответил я.
— Позвоните мне завтра. Или лучше послезавтра. У меня письмо Володи для вас.
Грянул оркестр. Испуганная гимном, с деревьев взметнулась стая ворон. Офицеры вытянулись и приложили руки к козырькам фуражек. Вдова пошла к машине.
Меня тронул за плечо Валера Нефедов, офицер ФСБ, с которым нас связывала служба в Афгане, и протянул пол стакана водки. Я даже не заметил, когда он появился здесь. Рядом с ним стояли офицеры. Некоторых я знал по Афгану.
— Вы позволите увести на минутку вашего друга? — вполголоса спросил Нефедов у Анны, улыбнувшись ей краем губ, и положил мне руку на плечо. Мы пошли по дорожке, присыпанной гравием, вдоль могильных оград.
— Так и думал, что встречу тебя здесь, — сказал он, глядя себе под ноги. Казалось, Нефедов мерзнет. Воротник плаща поднят, шляпа надвинута на лоб, руки — в карманах, и сам весь напряжен, скован. — Ты что там начудил?
— Где — там?
— Ну вот что! — неожиданно грубо ответил Нефедов. — Не надо прикидываться дурачком. Ты прекрасно знаешь, о чем я тебя спрашиваю.
— Это допрос, Ватера?
Он остановился, повернулся ко мне и, глядя на мокрые желтые листья, глянцевой полосой покрывшие дорожку, долго думал, что ответить.
— Я хочу тебе помочь, — наконец сказал он.
— Не сомневаюсь в этом. И очень жду помощи.
— Тогда, значит, без нервов, амбиций и обид, — жестко сказал Нефедов. — Ты был в Таджикистане. Служил по контракту. Один раз покинул поле боя, второй раз, не дождавшись увольнения, самовольно оставил место службы. Было это?
— Валера, фээсбэ теперь занимается самоволками?
Нефедов сжал зубы, скулы его обострились.
— Ты напрасно иронизируешь. Твои дела на контроле у весьма влиятельных лиц.
— У генерала Вольского, к примеру? — подсказал я.
— Допустим. Только мне не совсем ясно, чему ты так радуешься?
— Я тебе объясню. Подробно. С необходимыми доказательствами, о которых ты мне говорил в нашу первую встречу. И тебе сразу станет ясно, зачем я покинул поле боя, в каком направлении дезертировал и в какой таре прилетел в Москву.
— Хорошо, — кивнул Нефедов. — Едем на Лубянку.
— Нет, не сейчас. Завтра утром.
— Не в твоих интересах тянуть, Кирилл.
— Я понимаю. Но мне хотелось бы остаться сегодня у могилы боевого друга, выпить водочки, погрустить, повспоминать…
— Странный ты человек, — задумчиво произнес Нефедов.
— Думаю, что завтра, после нашей встречи, у тебя сложится другое мнение.
— Ну-ну, — ответил Нефедов.
Мы повернули обратно.
— Кто эта дама? — спросил Валера, показывая глазами на Анну, которая стояла недалеко от могилы, прислонившись к дереву.
— Так, одна знакомая.
— Она знала Локтева?
— Никогда раньше не видела и не слышала о нем.
— Зачем же ты ее сюда привел?
— Она высматривает здесь тех типов, которые… Словом, делает то, что должны были делать вы.
— Ну-ну, — снова повторил Нефедов и, подавая мне руку в тонкой кожаной перчатке, скороговоркой сказал: — Завтрашний день у меня загружен до предела, но ты все-таки обязательно меня найди. Можешь уже с восьми утра стоять у подъезда на Лубянке. Пока!
Не вынимая рук из карманов, Валера быстро пошел по дорожке к выходу. К нему присоединились еще двое в штатском и один полковник. Они сели в машину и уехали.
Черной тенью ко мне приблизилась Анна.
— Только не оборачивайся, — прошептала мне она. — За нами, метрах в тридцати, стоит парень под зонтиком. Я узнала его. Он крутился в офисе Князя.
— Он тебя не узнал?
— Не думаю, что он узнает меня в таком виде.
— С кем-нибудь общался?
— Нет. Уже минут десять стоит один и курит…
Пошел к выходу… Сел в «БМВ»… Поехал.
— Он убедился, что похороны Локтева состоялись, и узнал номер участка. Думаю, что сегодня ночью можно ждать эксгуматоров.
— Ты не передумал, Кирилл?
— О чем ты говоришь, Анна!
— А если их будет много? Все-таки они придут за пятьюдесятью килограммами героина. Носильщики, охрана, машина.
— Тем проще милиции будет взять их на месте преступления.
Мы подождали, пока вокруг могилы Локтева не осталось ни одного человека, подошли к засыпанному цветами холмику. Я вынул из сумки бутылку водки и пластиковые стаканчики.
— Пусть земля тебе будет пухом…
31
Анна позвонила какому-то своему давнему поклоннику, и тот к семи часам вечера подогнал к подъезду побитый, но еще пригодный для перемещения в пространстве и заправленный под завязку «Москвич».
Часа два мы с Анной кружили по городу, приближаясь и удаляясь от кладбища, потом заехали во двор новостройки, где при выключенных огнях, под тихую музыку магнитолы пили горячий кофе из термоса и дожидались полуночи.
Мы оставили машину на обочине, где она была малозаметна, сливаясь с кустарником в большое темное пятно, и закоулками приблизились к кладбищу. Начал моросить мелкий дождик. Молочный свет фонарей отражался на мокром, с приклеившимися листьями клена асфальте, серебрил блестящие, словно покрытые лаком, ветви деревьев. Через чугунную ограду Анна перелезла первой, спрыгнула на кучу опавших листьев и сразу же растворилась в темноте. Перед тем как последовать за ней, я огляделся по сторонам. Яркий фонарь не столько давал света, сколько слепил глаза, и я поднес ладонь к лицу, закрываясь от него. Мне показалось, что за углом дома, стоящего напротив, быстро скрылась фигура человека. Мало ли кто может здесь ходить, подумал я, подавляя в себе желание проверить, не следит ли кто за мной из-за угла, и перемахнул через ограждение.
Мы ходили среди крестов, надгробных плит, поминальных скамеек и ограждений бесшумно и медленно, как духи, стараясь не делать резких движений и не производить звука. Когда до могилы Локтева осталось не больше ста метров, я взял Анну за руку, потянул ее вниз, чтобы она присела в плотной тени двух памятников, и шепнул ей:
— Когда услышишь шум — возвращайся к машине и гони в милицию.
Анна крепко сжата мне руку повыше локтя. В этом была ее немая просьба беречь себя. Мне хотелось добавить ей что-нибудь ласковое и веселое, но в голову лезла лишь какая-то постная банальность, и я поспешил нырнуть в темноту. Низко пригибаясь к земле, я переходил от могилы к могиле, двигаясь параллельно тропинке, ведущей к последнему пристанищу Локтева. Стая ворон вдруг сорвалась с дерева и с частыми хлопками, напоминающими аплодисменты, устремилась в ночное небо. Я подумал, что это мое неосторожное движение спугнуло птиц, и несколько секунд замерев сидел под деревом, дожидаясь, когда опять станет тихо.
Мне предстояло спуститься с пригорка и обойти еще несколько оград. Кроны деревьев, растущих внизу, мешали мне увидеть могилу Локтева издали. Надо было днем подыскать удобное место, подумал я, силясь рассмотреть проходы между гранитных плит.
Дождь пошел сильнее, и подошвы кроссовок стали скользить на влажном грунте. С пригорка я буквально съехал на ногах, наделал много шума и искусал себе губы. Обхватил замшелый ствол дерева, прижался к нему и, сдерживая дыхание, долго вслушивался в ночь. Как тут разберешь, то ли дождь стучит по листьям, то ли ветки трещат под ногами людей?
Я отнял щеку от ствола, пахнущего прелыми листьями и лесом, и медленно заглянул за дерево. Пробивая черный обвал ночи, на слабом ветру дрожал язычок красноватого пламени. Я прищурился, протер глаза.
На могиле Локтева горела свеча. Высокая, фигурная свеча, воткнутая в свежий грунт на верху холма. Единственный носитель живого огня на всем кладбище, эта свеча словно дразнила и манила меня к себе. Она не могла долго гореть, подумал я, ее зажгли всего несколько минут назад. Свеча только-только стала оплавляться и отекать.
Мне стало жутко, и все же я шагнул к свету. Свеча слепила, и теперь я плохо видел то, что находилось вокруг меня. Мне показалось, что за моей спиной кто-то сдавленно дышит, обернулся, но ничего не увидел, кроме своей пляшущей тени. Меня стало раздражать, что я позволил вселиться в себя мистическому страху, резко выпрямился в полный рост, нащупал правой рукой рукоятку пистолета, спрятанного на груди, и стал приближаться к могиле. Деревья расступились, ушли во мрак, и я оказался на освещенном пятачке рядом с могилой, обложенной со всех сторон венками.
Огонек свечи затрепетал на ветру, и, словно чувствуя его близкий конец, темнота приблизилась ко мне почти вплотную. Я не мог оторвать глаз от свечи. Я стоял перед могилой, словно оцепеневший. Это для меня, подумал я с каким-то странным равнодушием, даже не пытаясь осмотреться по сторонам или кинуться в тень ближайшего надгробия. Эта свеча зажжена для меня…
Среди венков с искусственными пластиковыми цветками, траурных лент со словами соболезнований, хвойных веток, сплетенных в толстую косу, рядом со свечей, словно выросший от тепла огня, стоял на тонком стеклянном стебле черный тюльпан. Ферзь, поставивший мне мат!
Порыв ветра ударил по дрожащему пламени, оторвал его от фитиля, раздавливая, замазывая чернотой его слабое тепло и свет. Мрак окутал меня со всех сторон, исчезли могила со стеклянным цветком, деревья, надгробия, ограды. Я с опозданием рванул в сторону, судорожно расстегивая пуговицу на куртке, но нарвался на сильный удар по голове и успел почувствовать, как в лицо брызнула едкая ледяная струя…
* * *
«Что ж ты так его боишься? — думал я. — Почему пресмыкаешься? Ведь у тебя есть все — вечная жизнь, безграничная власть, покровительство самого Творца… Тебе, самой популярной личности на земле, нельзя себя так вести. В твоих глазах не должно быть страха, лишь снисхождение, понимание и сострадание…»
Иисус в терновом венке плыл перед моими глазами, и мне казалось, что он все ниже и ниже склоняет голову перед Пилатом, и его лицо, исполосованное глубокими, как шрамы, морщинами, все больше искажает гримаса боли. Он боялся наместника, боялся пыток. Он боялся смерти, что было самым диким откровением картины. Ни отблеска веры в могущество своего покровителя, ни намека на попытку сохранить человеческое достоинство. Ничего божественного.
Могущество, осознание своей уникальности, значимости, своей непревзойденной ценности для человечества — все блеф, выдумка, одежка, которую можно на некоторое время напялить на себя и носить до тех пор, пока плетью не пройдутся по твоим ребрам. Боль, которую уже неспособно вынести тело человека, легко превратила даже полубога в униженное, жалкое существо. Это оно, легкоранимое, подверженное болезням тело, определяет качество души… Господи, помоги быстрее умереть, чтобы не чувствовать этой острой боли в голове, этих мучительных спазмов в желудке, этого жжения в легких!
Я с трудом приподнял голову, скосил глаза вниз и увидел, что лежу на диване в сумрачной комнате, всю стену которой занимает картина. Правее — ампирный туалетный столик, напольные вазы. Французские шторы волнами спадают с полукруглых карнизов. За тонированными оконными стеклами раскачивают мокрыми лапами деревья, дождь барабанит по подоконнику.
Все это уже было, подумал я. Не так давно все это было. Я запрыгнул в окно этой комнаты с дерева. Потом… потом я обыскал туалетный столик и нашел в нем вещи Анны. А дальше — нагромождение, хаос событий. Наш с Анной побег, стрельба, приезд в Москву, просмотр флэшки, похороны Локтева…
Чем ближе были события, тем более смутно я помнил их. Похороны Локтева и разговор с вдовой едва отпечатались в памяти. За ними — полная темнота, в которой на мгновение появлялись могильные кресты, мокрый асфальт в трещинах кленовых листьев, лицо Анны, слабо освещенное светом приборного щитка, — все очень похоже на сон.
Я попытался повернуться на бок, но тотчас почувствовал, как обе руки, заведенные за спину, пронзила острая боль. Я вернулся в прежнее положение и несколько минут лежал неподвижно, глядя на Иисуса и приводя в порядок мысли.
Дождь полил сильнее, и подоконник стал содрогаться от ударов тяжелых капель. Я почувствовал на лице легкое движение влажного прохладного воздуха: должно быть, окно было приоткрыто. А может быть, думал я, ничего этого не было — ни побега, ни стрельбы, ни подружки и секретных писем на экране компьютера? Я запрыгнул в окно, и здесь меня двинули по голове.
Странное, неприятное чувство — потеря ориентации во времени и в пространстве, когда не можешь точно отличить реальность от бреда и тяжелые сновидения принимаешь за действительность. В науке, кажется, такое явление называется конфабуляцией, и лечат ее в психиатрических заведениях. М-да…
Кажется, я снова впал в забытье, а когда открыл глаза, в комнате было совершенно темно, лишь узкая полоска света из открывшейся настежь двери лежала на паркете. Потом надо мной ослепительно ярко вспыхнула массивная люстра с хрустальными подвесками, и я невольно прикрыл глаза.
На меня упала тень, и я увидел рослого немолодого господина, с совершенно лысой, блестящей, как бильярдный шар, головой, морщинистым, но холеным, тщательно выбритым лицом, лишенным какой бы то ни было растительности, даже бровей. Широко расставив ноги, он потягивал сигарету, стряхивая пепел на паркет, и без интереса разглядывал меня. Я узнал его сразу — Анна очень точно описала его портрет в письме.
— Добрый вечер, Князь! — не совсем внятно произнес я.
По губам лысого скользнула усмешка. Он выпустил дым через ноздри, опустил руку в карман шелковых бежевых брюк и отошел к картине. Его череп заблестел как раз под изображением лица Пилата.
— Кажется, портрет наместника рисовали с вас, — снова сказал я.
На этот раз Князь посмотрел на меня с любопытством, с каким посмотрел бы зоолог на говорящего червя. Он кивнул кому-то, кого я не видел, и со стороны дверей ко мне подошли два крепких парня, рывком подняли и посадили на стул с фигурными ножками из красного дерева.
— Если ты сравниваешь меня с Пилатом, — сказал Князь, глядя на меня сквозь облачко дыма, — следовательно, себе ты выбираешь роль Христа?
— Нет-нет! — От безысходности меня потянуло на философию. — Ни его роли, ни судьбы, ни креста не хочу. Но всякая пара людей, олицетворяющая противоборство добра и зла, чем-то схожа с персонажами этой картины.
— Добро, разумеется, олицетворяешь ты?
— Безусловно. У вас же на физиономии написано, что вы профессиональный злодей.
— Наглец, — устало констатировал Князь и, глянув на «быка», слабо качнул головой.
Удар кулаком сбоку свалил меня на пол. В ухе зазвенело с такой силой, словно в него поместили церковный колокол. Я смирно лежал, дожидаясь продолжения экзекуции, которую заслужил, но меня подняли и снова усадили на стул.
Князь ходил по комнате взад-вперед. Выкурив одну сигарету, он принялся за другую.
— Ты напрасно веселишься, — сказал он, хотя мне было вовсе не весело. — И напрасно считаешь себя борцом за справедливость. Ты блоха, которой до поры до времени удавалось ловко прыгать с места на место. Теперь тебя придавили, но ты еще дергаешь лапками. Так бывает. Но когда тебе отобьют почки, селезенку, переломают суставы пальцев, ног и рук, ты переоценишь себя. Поверь мне, это обязательно произойдет.
У меня еще звенело в ухе, но я смог расслышать негромкий голос Князя. «Бык» слева от меня нервно переступил с ноги на ногу и скрипнул половицей. Ему не терпелось отбить мне почки и переломать кости.
— Ты сорвал поставку очередной партии порошка из Душанбе, — продолжал Князь. — Убытки не катастрофичны, но ощутимы. Ни твоя жалкая жизнь, ни квартира в Крыму вместе с сараем эти убытки не покроют. И с этим нам, к сожалению, придется смириться. А тебя, сам понимаешь, ждет безрадостная судьба.
Князь остановился, посмотрел на собачьи глаза — Иисуса и выпустил в него струйку дыма.
— Ты прав, сейчас вы похожи. Он был слабым человеком, потому что зависел от отца. А всякая зависимость есть несвобода. — Князь повернулся ко мне, медленно прошелся взглядом по связанным ногам, брюкам, куртке, покрытой бурыми пятнами. — Если бы этот мессия мог импровизировать, действовать так, как ему подсказывала фантазия, если бы он мог умно распорядиться деньгами и властью над людьми, которой обладал, то перевернул бы мир и стал бы величайшим мировым правителем… Да, парни? — Князь взглянул на «быков». Те одобрительно засопели. — Но Иисус был подвластен богу, а его поступки предопределены. И все закончилось очень печально… Печально и, в общем-то, банально. Так и ты, голубчик. Видишь перед собой только красную тряпку и бодаешь ее до исступления. А тряпочкой этой помахивает ловкий тореадор, издевается над тобой и готовит пику для красивого и точного удара… Собственно, уже приготовил.
— Послушайте, — пробормотал я, — мне приснилось или нет, что я был на кладбище ночью?
Князь долго переваривал мой неожиданный вопрос, не зная, как его расценить — то ли как бред обреченного человека, то ли как желание узнать какую-нибудь тайну.
— Тебе удалось запутать нас, когда ты вместо себя затолкал в гроб несчастного охранника, — сказал Князь. — Это был ловкий ход, прими мое восхищение. Мы в самом деле уже были готовы искать порошок в оставшихся трех гробах, но ты наделал слишком много шума, освобождая Анну, к тому же засветился на моем мониторе у въездных ворот. Посторонний человек на моей территории — это нонсенс, и я дал команду выкопать и вскрыть гроб. Тогда-то мне стало ясно, что никакой ошибки или преднамеренной подмены гроба не было, а просто какой-то авантюрист или мент прибыл к нам вместо порошка.
Князь снова стал ходить из угла в угол, оставляя за собой сладковатый дымок. Я не мог понять, как он еще не умер от такого безудержного курения.
— Тогда я решил тебе подыграть и посадить на тот же крючок, который ты приготовил нам. Мы дали вам с Анной уйти, а позже мои люди засекли вас на похоронах Локтева. А дальше — все просто. Ты очень любопытен и самоуверен, коль сунулся в наши дела, и ты не признаешь мистику и суеверие, раз не побоялся лечь в гроб и войти в роль покойника. Я сыграл на этих качествах. Черный тюльпан и горящая свеча тебя не отпугнули, а наоборот — привлекли. Ты попался в свой же капкан.
Он ничего не сказал про Анну, подумал я. Ждет, когда я сам спрошу? Но если я спрошу, то тем самым выдам, что ничего не знаю о ее судьбе.
Князь сверлил меня своими змеиными зеленоватыми глазами. Я почувствовал: он ждет вопроса об Анне. Но если у него есть козырь, он выложит его сам. Какой смысл ему скрывать, что Анна тоже в их руках?
Мы молчали. Князь не выдержал первым.
— Где баба? — не вынимая сигареты изо рта, спросил он.
— Какая баба?
Его голое лицо исказила судорога. Князь не сразу ответил:
— Анна.
— А который сейчас час?
— Не прикидывайся кретином.
— Это принципиальный вопрос, — настаивал я.
— Четверть восьмого.
— В таком случае она уже в кабинете у Нефедова.
— Кто такой Нефедов?
— Офицер службы безопасности.
Князь скрипнул зубами, мотнул головой и сжал кулаки с такой силой, что хрустнули суставы пальцев. Очередной удар в голову снова свалил меня на пол, а следом за ним пошла серия ударов в живот, по почкам и в голову. Я скрючился, как еж, которого столкнули с горки. «Быки» били меня профессионально, силы не экономили, и я вполне отчетливо понял, что долго не выдержу.
— Мне наплевать, если Анна и в самом деле пошла в фээсбэ, — сказал Князь, когда меня снова усадили на стул. В голове у меня гудело, внутренности ныли зубной болью, и я, озабоченный состоянием своего несчастного тела, не совсем хорошо воспринимал слова Князя. — Ты понял меня? — зашипел он, приблизив к моему лицу свои маленькие зеленые глазки. — Она ничего не сможет доказать! Ее домыслы и предположения никто не воспримет серьезно. Но даже если она натравит на нас ментов, мы для начала сдадим им тебя, как убийцу охранника нашей фирмы. Доказать это, сам понимаешь, очень просто. А потом пусть менты перекопают здесь весь парк — ни наркотика, ни тары они не найдут. Гробы утоплены в болоте, порошок поехал по этапу. Все, дружок, все! Мы проверили — ты не мент и не гэбэшник. Не знаю, кто ты и зачем все это затеял, но знаю точно, что там, за забором, тебя ждет камера смертников. А здесь — плавный переход в состояние трупа под ногами этих парней.
Он еще не знает о флэшке, подумал я, но тут же прикусил язык. Этот последний козырь, на который я еще мог в какой-то степени рассчитывать, нельзя было сейчас запускать в игру. Вероятнее всего, Анна еще не вышла на Нефедова и, быть может, переоценивая свои возможности, попытается отыскать меня в одиночку. Эта взбалмошная девчонка, любительница приключений, наверняка так и поступит. От нее можно ожидать самых невероятных, непредвиденных поступков. И все же, пока Князь не знает о флэшке, жизнь Анны в относительной безопасности.
— Собственно, — добавил Князь более спокойным тоном, — мне от тебя ничего не надо. Баба твоя пусть бесится и сходит с ума — она безопасна для нас. Ты преподал нам хороший урок, и мы обязательно его учтем в дальнейшей работе. А теперь мы с тобой расстанемся навеки. Ты умрешь плохо, но этой смерти ты сам заслужил.
Он кивнул «быкам», и те столкнули меня со стула и поволокли к двери. Мы оказались в знакомом мне дугообразном коридоре. «Быки» разогнались, и в ушах у меня засвистел ветер. Сейчас как шарахнут башкой о стену, подумал я с вялым страхом. Мы миновали сортиры, лестничную площадку, двери комнат и остановились перед железной дверью генераторной.
Все вернулось на круги своя. Лязгнула тяжелая ручка, дверь отворилась, и я полетел на каменный пол.
— Молись, — сказал один из «быков», прежде чем захлопнуть дверь. — Утром ты подохнешь.
Ну вот, разочарованно подумал я, ничего оригинального, все как в дешевых исторических романах. Если казнь — то обязательно утром. А ночью, естественно, герой совершает побег.
Побег совершить мне не удалось. Я даже не смог освободить связанные за спиной руки, и в перерывах между побоями, которые «быки» совершали с педантичной регулярностью, лежал без сознания и изредка, разлепляя склеенные кровью губы, произносил матерные слова в свой адрес.
32
Часы с меня сняли, и я не знал, наступило ли уже утро стрелецкой казни. Я не мог посмотреть на свет божий даже через окно, так как окон в генераторной не было вообще. И только когда меня вытащили в фойе, я увидел в окнах яркий солнечный свет.
Мимо мраморных колонн, центральной клумбы меня потащили через кусты в какой-то глухой угол парка, где, как мешок с макулатурой, кинули на траву. Сплевывая землю, я приподнял голову и увидел в метре от себя двух омерзительных мужиков, усердно копающих яму.
— Кончай работу, — сказал один из «быков».
— Так ще не глыбоко, — просипел мужик с синим лицом.
— Сойдет… Взяли его!
Мужики побросали лопаты, вылезли из ямы, отставили подальше ржавые ведра с белым порошком, похожим на негашеную известь.
Меня стало трясти с такой силой, что связанные ноги заходили ходуном. Не так часто меня казнили, не успел привыкнуть. Что еще сказать об ощущении, когда видишь собственную могилу? Мрак.
Мужики, кряхтя и распространяя вокруг зловонный перегар, попытались поднять меня, но у них ничего не получилось. Тогда они покатили меня, как бревно, и свалили в яму.
— Мужички, — с трудом произнес я. — Вы что, охренели? Живьем закапывать будете?
— Заткнись, — оборвал меня «бык» и негромко приказал «синяку»: — Двинь его лопатой!
— Я? — просипел «синяк» и стал пятиться назад. — Мы так не договаривались.
— Давай я, — проявил инициативу второй дебил и схватился за лопату.
— У тебя ж, ублюдок, руки дрожат, — прохрипел я. — С первого удара не убьешь, мучиться заставишь.
— Заткнись, — повторил «бык», но уже другим голосом. Похоже, и у него нервы не выдерживали.
— Бей по сонной артерии, — добавил я, леденея от своих же слов, и попытался поднять подбородок повыше. — Так, чтоб одним ударом ее насквозь перерубить. Только не стой близко. Кровь фонтаном пойдет…
«Бык» поморщился и отвернулся. Дебил стал топтаться на краю ямы с поднятой вверх лопатой.
— Землю очисти! — страшным голосом закричал я. — Чистая лопата легче войдет…
Дебил пробормотал что-то, опустил лопату и стал возить ею по траве. «Синяка» вдруг прорвало, и он скороговоркой засипел:
— Ну вас на хер, я у такие игры не граю, сказали яму выкопать, а шо делать заставляете, сами тут лопатой по живым людям махайте, а я сваливаю к херам собачьим…
— Хайло прикрой, скотина! — крикнул «бык». — Не то сейчас рядом с ним ляжешь… Высыпай известь, урод!
«Синяк» взялся за ведро, но тотчас выронил его, и известь рассыпалась на краю ямы.
— Цыть! — крикнул «бык», повернувшись к яме спиной.
Я различил чей-то отдаленный крик. Потом я почувствовал, как земля содрогается от тяжелых шагов. Кто-то подбежал к месту казни и, задыхаясь, сказал:
— Давай его назад, в генераторную!
— Кто сказал? — спросил «бык» с явным облегчением.
— Князь.
Они меня разыграли, подумал я со странным чувством — полуоблегчения, полуразочарования. Они запугивают меня, они не станут убивать, это всего лишь психологическая пытка. Но, надо признать, мастерски сыграли, продрало до самых нервов, чуть заикой не сделали, мать вашу за ногу!..
Я напрасно пытался успокоить себя, потому что не верил тому, о чем мысленно говорил.
«Быки» вытащили меня из могилы и попытались поставить на ноги, но тело не слушалось меня, и я, словно лишенный костей, мягко осел на их руки.
— А с ямой шо робить? — спросил «синяк».
— Посадить в нее свою задницу и ждать, когда прорастет! — рявкнул «бык».
Меня снова втащили в фойе, оттуда, по лестнице, на второй этаж и по коридору в торец. Я повалился на бетонный пол. За мной грохнула железная дверь. И стало тихо.
Не успел я осмыслить того, что произошло, как дверь снова открылась, вошли уже хорошо знакомые «быки» и, орудуя ножами, стали быстро отвязывать веревку на руках и ногах.
— Сам идти сможешь? — спросил один.
— Это смотря куда, — ответил я и попытался встать.
— В баню, — усмехнулся другой.
Они вели себя удивительно миролюбиво, и этого нельзя было сразу не заметить.
Один из «быков» подставил мне свое плечо, но я не унизился до такой степени и пошел к выходу сам. Я никак не мог понять, что еще задумал Князь, на какую хитрость он пошел, да и вообще, к чему ему эта хитрость по отношению к человеку, от которого уже вряд ли можно было извлечь какую-нибудь выгоду.
Выйдя из генераторной, я остановился.
— Куда?
— Прямо, прямо, — ласковым голосом ответил «бык».
У лестницы я нос к носу столкнулся с Князем. Он как-то странно взглянул на меня, потом развел руки в стороны, пожал плечами и сказал:
— Нет слов! Нет слов!
И пошел вверх по лестнице, все еще пожимая плечами.
Мы спустились в фойе, свернули под лестницу. «Бык» подвел меня к двери и, к моему величайшему изумлению, обратился ко мне на «вы»:
— Там шампунь, мыло, мочалка, новое белье — все вам приготовлено.
Я повернулся, чтобы посмотреть в лицо человеку, который еще несколько минут назад был готов закопать меня живьем, но «бык» молниеносно повернулся ко мне спиной и быстро пошел к лестнице. Я взялся за ручку двери, все еще интуитивно ожидая какой-нибудь пакости — автоматной очереди в спину, удара арматурным прутом по голове или короткого, приглушенного выстрела из пистолета в затылок. Но за дверью в самом деле оказалась душевая с чистым, обшитым деревом предбанником, с зеркальным полом из черного кафеля, с зеркалами, журнальным столиком, на котором стояли запотевшие банки с пивом и лежали пестрые целлофановые упаковки с новыми носками, трусами, майкой. Увидев пиво, я сразу почувствовал нестерпимую жажду и залпом выпил две банки. Потом вытер ладонью губы, сел в кожаное кресло и задумался. Попытка найти всему этому логическое объяснение провалилась с треском, и, пробормотав «Бляха-муха!», я стал с остервенением стаскивать с себя влажные, выпачканные в глине и собственной крови куртку, брюки, швырнул их в угол и, на ходу снимая то, что еще было на мне, встал под лейку и опустил вниз никелированный рычаг.
Нет, душевая не стала заполняться ядовитым газом, и на меня не обрушился поток серной кислоты. Я стоял под упругими тонкими струями теплой воды, чувствуя себя обманутым. «Черт знает что!» — пробормотал я и вылил себе на голову полбутылки зеленого, как изумруд, шампуня.
В дверь постучали. Я не успел промыть глаза и, страдая от жгучей рези, смотрел, как в предбанник вошел незнакомый мне «бык», извинился, повесил на крюк светлый костюм под полиэтиленовой накидкой и поставил на пол пару белых лакированных туфель.
— Черт знает что! — повторил я. — Неужели меня решили закопать в землю вымытым и в белом костюме? Мафия! — развел я руками, кривляясь перед зеркалом. — Во всем должен быть шик. Так-то, Кирюша.
Только некоторая доля юмора могла сохранить мой рассудок в здравом состоянии. Думать серьезно обо всем, что сейчас происходило, — лишь себе во вред. Напевая какую-то легкомысленную мелодию, я с наслаждением помылся, чувствуя, как силы быстро возвращаются ко мне, опорожнил еще одну банку пива, причесался, с некоторым содроганием рассматривая свое побитое, в ссадинах, лицо, щеки, покрытые, как черной дымкой, щетиной, раздумывая, стоит ли ее сбривать. Когда же я надел смоляную шелковую рубашку и белый двубортный пиджак, то увидел, что небритость прекрасно довершает имидж этакого излишне самоуверенного, хоть и побитого пижона, и невольно рассмеялся, но бриться не стал, лишь сполоснул лицо французской туалетной водой.
Перед тем как выйти, я проверил карманы куртки и брюк, брошенных в угол предбанника. Пистолета, как и следовало ожидать, уже не было, как, собственно говоря, и других вещей — складного ножа, записной книжки, авторучки. Я словно начинал жизнь сначала, выходил из душевой, как из крестильни — чистым, бедным и почти безгрешным.
Молоденький «бычок», сидевший в кресле напротив, вскочил при моем появлении, изобразил на лице какую-то искусственную, совершенно омерзительную улыбку, похожую на гримасу, с которой тужатся, и знаком предложил мне пройти за ним по коридору. Он взялся за ручку двери и открыл ее.
Яркий свет, ослепительная улыбка девушки в ярко-синем бархатном платье, едва прикрывающем трусики.
— Прошу вас! — сказала девушка, показывая рукой на кресло, стоящее перед макияжным столиком с овальным зеркалом, оснащенным подсветкой.
Я сел в кресло, изо всех сил борясь с выражением недоумения, парализовавшим мою физиономию. Девушка надела на меня фартук, взяла фен, расческу и за минуту сотворила на моей голове пышную прическу. Отключила фен и придвинула к себе коробочку с косметикой.
Не волнуйтесь, — шепнула она и мазнула у меня под глазом мягкой беличьей кисточкой. Высунув от усердия кончик языка, она дышала на меня запахом мяты и старательно реставрировала мое лицо, закрашивала синяки, тонировала ссадины, а когда, наконец, отошла в сторону, я увидел свое отражение и не узнал себя. Киноартист! Бельмондо, черт возьми!
— Ничего? — спросила девушка.
— Вообще-то в жизни я немного не такой, — признался я.
— Это не страшно, — с легким придыхом ответила девушка, глядя на меня томным взглядом. — Все мы в жизни другие. Вы думаете, я на самом деле такая? — И она медленно провела ладонью по своему бархатному платью, плотно облегающему ее рельефное тело. — Это все внешняя оболочка. Человек становится самим собой, когда раздевается…
Она положила кисточку на столик и коснулась пальцами моего подбородка.
— Голову немножко повыше. Не надо напрягать губы. Не морщите лоб… Так, хорошо. А руку, — визажист взяла мою ладонь и прижала ее к своей гладкой атласной ляжке, — руку настоящий мужчина должен класть сюда…
— Боюсь, — признался я, отдергивая руку и приподнимаясь с кресла.
— Чего? — тонкие брови девушки взметнулись вверх, ярко-красные губы слегка приоткрылись, обнажая край неестественно-белых зубов.
— Боюсь размазать вам макияж и выпачкать свой белый пиджак, — ответил я. — А вообще, конечно, вы страшно сексуальная.
— Так что же вы… — томно простонала девушка.
— Я от природы очень нетерпелив, — объяснил я, пятясь спиной к двери, — не хватает, так сказать, усидчивости пройти всю вашу программу. Бьют по морде, хоронят, моют, причесывают, учат, куда руку надо класть… Долго, очень долго! А хочется узнать, чем весь этот дурацкий спектакль кончится. Свой телефончик, разве что, оставьте на всякий случай.
Визажист усмехнулась и ответила уже другим тоном:
— Телефонов не будет.
— Тогда считайте, что вы меня потеряли навеки.
— Придурок! — услышал я прощальное слово уже за своей спиной.
«Бычок» словно вырос из-под земли.
— Прошу на выход!
Он распахнул передо мной дверь, у колонн обогнал, подскочил к стоящему у клумбы белому «Мерседесу» и открыл заднюю дверь. Я сел на мягкий кожаный диван и словно утонул в нем. Машина бесшумно тронулась с места и сразу набрала большую скорость. Кроме меня и водителя, в салоне больше никого не было.
— Далеко едем? — спросил я водителя.
Тот оказался на редкость немногословным и никак не отреагировал на мой вопрос.
Мы доехали до кольцевой дороги, вырулили на нее и понеслись по третьей полосе, обгоняя все машины подряд. Водитель явно лихачил, рисковал, хотя я не видел причин для этого. Он вез относительно здорового человека, который не умирал, никуда не опаздывал и вовсю радовался жизни, и я, недавно вытащенный из могилы, не надеющийся даже на быструю и легкую смерть, теперь мысленно обкладывал водителя матом за его неосторожность на трассе. Что было и что будет — меркнет перед тем, что есть сейчас. Хорошо сказал поэт: жизнь — это миг между прошлым и будущим.
Через четверть часа мы свернули с кольцевой, проехали с километр, затем еще один поворот под «кирпич» — и машина остановилась перед воротами, за которыми, среди пышных сосновых крон, проглядывала остроугольная черепичная крыша белого особняка с массивной вывеской из рубленых золоченых букв: «Банк „Эспаньо“».
Охранник проверил ксиву водителя, мельком взглянул на меня и открыл ворота. «Мерседес» припарковался между сверкающих иномарок. Я не успел взяться за дверную ручку, как к машине подскочил юноша в костюме, открыл дверь и спросил:
— Кирилл Андреевич?.. Прошу за мной. Вас ждут. Наберись терпения, сказал я сам себе, едва подавляя в себе желание схватить клерка за ворот, прижать к стене и выпытать у него, кто и для какой цели меня ждет. С невозмутимым видом, насколько невозмутимым смог казаться, я зашел в здание, прошел через фойе к лифту. Двери бесшумно открылись. Мы зашли в зеркальную кабину. Несколько Вацур в белых костюмах и черных рубашках со смуглыми, местами припудренными липами, окружили меня. Нас много, сотворил я в уме заклинание, мы сильны и выносливы, мы отважны и умны, мы готовы к бою…
Ожидание чего-то загадочного, неизвестного становилось почти невыносимым. Я чувствовал, как меня начинает колотить дрожь. Куда меня ведут?
К чему весь этот маскарад? Если это очередной розыгрыш — то какой в нем смысл?
Мы вышли из кабины, клерк довел меня до двери, обитой коричневой кожей, взялся за золоченую ручку.
— Прошу!
Дверь открылась. Я вошел в комнату, показавшуюся мне в первое мгновение складом мягкой мебели. Тяжелые бархатные шторы на окнах, широкий диван с замшевой обивкой в складках, множество кресел с высокими спинками, полированными деревянными завитушками, ковры на полу и стенах. Дверь за мной тихо закрылась.
Напротив меня за детским столиком сидела маленькая смуглая девочка в белом пышном платье, напоминающем подвенечное, украшенное матерчатыми розами, алыми лентами, кружевами на рукавах и вороте, пронзительно пищала и, ударяя зажатым в кулачке карандашом о поверхность стола, пыталась сломать грифель.
Я не мог узнать ее, но я догадался. Это была Клементина, моя дочь.
33
Хорошо, что сзади меня оказалось кресло. Я медленно опустился в него, словно в голодном обмороке, не сводя глаз с дочери. Девочка все-таки доломала грифель, швырнула карандаш на пол, и тот подкатился ко мне. Я поднял, протянул ей. Клементина посмотрела на меня, голубые глазки ее хитро сузились, она открыла ротик, блеснув крохотными передними зубками, рассмеялась и тотчас заехала мне ладошкой по носу.
— Вот это правильно, — прошептал я. — Это папочка твой заслужил… А где же мама?
Я почувствовал на себе взгляд и поднял голову. Валери смотрела на меня из полуоткрытой двери, ведущей во вторую комнату. Белый брючный костюм с золоченым пояском, черные как смоль волосы, спадающие тонкими стружками на плечи, изящные губы, покрытые перламутровой помадой, тонкие ниточки бровей, черные виноградины глаз, полные слез…
Не помню, как мы кинулись друг к другу, и Валери оказалась в моих объятиях. Я неистово целовал ее лицо, волосы, шею, прижимая ее к себе, и чувствовал, как она дрожит, как ногти вонзаются мне в спину.
— Проклятый! — сдавленно шептала она. — Ты убиваешь меня… Ты медленно разрываешь мое сердце… Зачем тебе все это?.. Что ты с собой делаешь?..
— К черту, Валери, к черту все проблемы! — прорычал я, не отпуская ее. — Не хочу говорить об этом. Пусть все горит синим пламенем. Есть ты, есть я, есть наша дочь…
Она кивала, соглашаясь со мной, потом отстранилась, взглянула на меня, провела ладонью по лицу.
— Бровь разбита… И здесь, и здесь… Ты попался в руки к людоедам. Я сердцем чувствовала, что с тобой беда. Кирилл, это чудо, что ты остался жив. Если бы… если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы сошла с ума. Я бы не пережила…
Я коснулся пальцами ее губ. Валери замолчала.
— Не надо. Расскажи лучше о дочери. Сколько ей?
— Год и два.
— Совсем большая. Говорить умеет?
— Говорить? — Валери улыбнулась. — Еще рано… Ну подожди, дай посмотреть на тебя.
Она усадила меня в кресло, а сама села напротив, спиной к окну. Яркий свет мешал мне отчетливо видеть ее глаза.
— Ты совсем не изменилась, — сказал я. — Стройная, красивая, женственная. Как была.
Она отрицательно покачала головой.
— Нет, я изменилась. Я постарела, поправилась. Я совсем не слежу за собой… Все больше за тобой.
— Валери, ну как же вы живете? Клементина не болеет?
— Она болела зимой. Схватилась ручкой за ядовитого ежа. Была высокая температура, пришлось отвозить ее в Ла-Пас… Ты помнишь Ла-Пас, Кирилл? А испанский еще не забыл? Ты можешь устроиться на хорошую работу, у тебя есть все данные для этого. Но зачем ты полез на завод, где делают героин? Чего ты добиваешься?
— Валери, а ты научишь ее разговаривать по-русски? Интересно, в Южной Америке дают отчества? Она у нас Клементина Кирилловна?
Каждый из нас гнул свою тему. А девочка тем временем принялась пробовать карандаши на вкус, и ее губки выкрасились во все цвета радуги. Потом в комнату зашла пожилая женщина, улыбнувшись, поздоровалась со мной, и я мысленно отметил, что она немного похожа на увядающую Софи Лорен. Женщина повернулась к Валери, сказала по-испански, что девочку пора кормить, и взяла Клементину на руки. Валери кивком головы показала на меня и сказала также по-испански:
— Кстати, познакомьтесь. Это Кирилл, отец Клементины.
Мы остались вдвоем. Валери подошла к входной двери и заперла ее на ключ. Сняла с меня пиджак, кинула его на кресло. Расстегнула несколько пуговиц на рубашке. Потом медленно легла на ковер.
— Иди ко мне, — прошептала она.
* * *
Мы лежали на мягком ковре с длинным пружинистым ворсом, накрывшись пледом. Валери дремала, положив голову на мою руку. Я рассматривал ее лицо. Солнечные блики пробивались через щель между шторами и скользили по комнате.
Жена моя, думал я, глядя, как подрагивают ее ресницы. Такая чужая и такая родная. Вечная загадка, бездна тайн. Удивительное сочетание лукавства и естественности, отваги и женственности, пороков и святости. Кто же ты на самом деле? Ангел или сатана? Падший ангел?
— Мне горячо от твоего взгляда, — пробормотала Валери, не открывая глаз. — О чем ты думаешь?
— Давай поговорим о будущем.
— А будущее пока в тумане. И вообще, о чьем будущем ты хочешь поговорить? О своем? Моем?
— О нашем.
— Ты считаешь, что у нас одно будущее?
— Я уверена в этом. У нас с тобой уже давно единая судьба. И будущее одно. Рассказать, что нас ждет?
— Не надо. Это будет очень мрачный рассказ.
— Ты меня по-прежнему любишь, Кирилл?
— Я предпочитаю не говорить о любви, когда меня о ней спрашивают.
— Ты не изменился. Ты все тот же.
— Ты тоже. Что ты делаешь в России?
— Разыскиваю тебя.
— И для этого ты сюда приехала?
— Нет, не только для этого. Я строю дом для Клементины. Когда она вырастет, она сможет приезжать сюда. Здесь наша с тобой родина, и дочь должна знать эту землю… Сейчас покажу.
Валери встала, беззвучно ступая босыми ногами по ворсу, подошла к столику, вытряхнула из сумочки конверт и достала из него небольшую пачку фотографий.
— Вот, — сказала она, садясь рядом со мной и протягивая один снимок.
Клементина в зеленом костюмчике, украшенном большим розовым бегемотом на груди, стояла рядом с маленькой голубой елкой, а на заднем плане возвышался красивый особняк, похожий на миниатюрный замок — с башенками, увенчанными лазурными конусами, с зубчатой верхней каймой, с овальными окнами, застекленными цветными витражами, и серыми крепкими стенами.
— Как красиво, — произнес я. — Где это находится?
— Недалеко отсюда, — уклончиво ответила Валери. — Тебе в самом деле нравится?
— Я в восторге! Такого чуда я не видел нив Южной Америке, ни тем более в России.
— Я рада, что тебе понравился дом нашей девочки.
— Ты купила уже готовый?
— Нет. Его построили всего за четыре месяца. Первые два этажа уже отделаны, остался третий и мансарда.
— Подари мне этот снимок, — попросил я.
— Зачем он тебе? — Валери осторожно потянула карточку на себя.
— У меня нет ни одной фотографии дочери, — сопротивлялся я.
— Есть снимки и получше.
— Но я хочу этот.
— Ладно, — уступила Валери. — Забирай.
Я спрятал снимок в нагрудный карман пиджака. Валери подошла к холодильнику, вынула оттуда бутылку мартини, пакет с соком и бананы, расставила все это на нашем ложе.
— За тебя, любимый, — сказала она, поднимая рюмку.
Я одобрительно промычал и залпом выпил. Валери проследила за мной, пригубила свою рюмку и поставила ее на пол.
— Ты мне изменял? — спросила она.
Я чуть не поперхнулся бананом.
— Как тебе сказать…
— Хватит, не продолжай! — перебила она меня. Лицо ее стало жестоким, взгляд — потуплен. — Ты все время ждешь какого-то подвоха, ты совсем не веришь мне и только делаешь вид, что принимаешь и меня, и каждое мое слово, но я вижу, что ты играешь!
Я тщательно пережевывал банан и запивал мартини, как компотом.
— Ответь мне, у тебя есть другая женщина? Ты не ждал меня?
Я отчаянно крутил головой, работая челюстями. Проклятый банан залепил все горло, и я не мог ответить.
— Видишь ли… — наконец произнес я, — мы с тобой… собственно говоря… ничего не обещали друг другу.
Во мне шевельнулось чувство жалости. Я взял Валери за плечи, приблизил к себе.
— Валери, — сказал я, заглядывая ей в глаза. — Ты богатая, красивая, молодая. У тебя в руках безграничные возможности. Твое окружение — люди влиятельные, сильные…
— Ну хватит! — прервала она меня. — Я знаю, что ты хочешь сказать. Как это я такая распрекрасная миллионерша могла полюбить и сохранить чувство к бедному русскому авантюристу… Ты меня еще плохо знаешь, Кирилл! Если я дала слово — то выполню его во что бы то ни стало. Если я поставила перед собой цель — то обязательно добьюсь ее. Если я полюбила — то навеки.
Она улыбнулась, провела рукой по моей голове.
— Ты говоришь о моем окружении? Золотоискатели, плантаторы — те злые, грубые и жестокие. Клерки, работающие на нас, — холеные мальчики, любящие в жизни только богатство и себя. Они могут упасть у моих ног, завалить розами, читать до полуночи стихи. Но все это лицемерно, потому что обращено не ко мне, не к моему телу, характеру, душе, а к моему состоянию, наследству, к моим возможностям. С этими людьми я не страдала, не радовалась, у меня нет ничего общего с ними. Они мне надоели. Единственного, кого я по-настоящему люблю, — это своего отца. Он — бог, и мне очень жаль, что вы с ним враги.
— Ты давно в России?
— С июля. Я хотела приехать к тебе в Крым, но у меня были важные дела в Стокгольме, а потом я узнала, что ты уехал в Таджикистан, — На некоторое время я потеряла твои следы и очень беспокоилась за тебя. На границе постоянно стреляют, по телевидению сообщают о жертвах среди пограничников.
— И как же ты меня нашла?
— Когда ты сунулся на героиновый завод! — зло ответила Валери. — Ну скажи мне, зачем ты это сделал? Ради любопытства? Сказал бы мне, и я тебе устроила бы туда экскурсию.
Я почувствовал, как испарина выступила у меня на лбу.
— Ты и этим заводом владеешь?
— Ну что ты! — улыбнулась Валери. — Зачем мне этот подпольный химкомбинат, к тому же еще на территории Таджикистана? Мы лишь покупаем его продукцию, а владеют им какие-то крупные военные чиновники из России и Таджикистана. Клянусь, я не знаю ни фамилий, ни имен. Это меня вообще не интересует. Сожги ты его синим пламенем — мы быстро найдем другие источники сырья и готового порошка.
— Неужели это так просто, Валери?
— Теперь просто. У России дырявые границы, совершенно продажные таможни и государственные чиновники, которые отвечают за ввоз и вывоз товара. Россия — это уже не страна, а экономическое пространство, где за короткий срок можно добыть невероятно огромные деньги. Мой отец насколько уж был увлечен Приамазонией, считал ее неисчерпаемым кладом, но и он переключился на Россию.
— Валери, ты понимаешь, что говоришь о моей родине?
— О нашей родине, — поправила она меня. — Только не надо сейчас устраивать сцен и закатывать патриотическую истерику. Мой отец, как и сотни других иностранцев, — рабочая пчелка. Он профессиональный бизнесмен. У него отработанный рефлекс на выгодные сделки, и он следует этому рефлексу, не очень-то задумываясь о политике, национальной гордости и какой-то морали. Пчелы ведь не виноваты, что где-то недалеко от их пасеки вылили на землю бочку сахарного сиропа? И они, что вполне справедливо, летят туда и работают. Не их надо проклинать и наказывать, а тех, кто так расточительно вылил сироп на землю. Разве нам насильно навязали нынешнюю власть? Нет, мы ее сами избрали, сами, своими руками разлили сироп по земле. И нечего теперь обижаться, что природа, экономика и законы общества берут свое. Свято место пусто не бывает. Так ведь, милый?
— Как ты меня нашла потом? — мрачным голосом спросил я.
— Когда я узнала о ночной суматохе и пожаре на заводе, я догадалась, чьих рук это дело. Но ты пропал. Наши агенты утверждали, что тебя нет ни среди убитых, ни среди раненых, а вырвавшийся на волю грузовик ушел в пропасть. И вдруг — чудо! Даже я была удивлена твоей находчивости и смелости: ты объявляешься в офисе у Князя, прибыв туда вместо очередной партии порошка. И опять у меня конфликт с отцом — он не захотел усложнять отношения с Князем из-за тебя. Но ты меня знаешь, у меня хватка мертвая. Отец позвонил Князю и попросил отпустить тебя.
— Меня буквально из могилы вытащили, — сказал я.
— О, ты не знаешь этого Князя! — Валери разговорилась, ее понесло. Прикурила сигарету, налила себе вторую рюмку. — Князь вдруг начал подозревать отца в измене. Приплел твою белокурую кошку, которая случайно встретилась с отцом на каком-то банкете…
— На VIP-приеме, — поправил я.
— Или на приеме — неважно. «Ты подсунул мне шпионку!» — сказал он отцу. Тот — всегда спокойный, интеллигентный, вдруг как рявкнет в трубку: «У тебя начался маразм, старина!» А Князь: «Вацура с ней заодно! Ты засылаешь ко мне своих людей!» Этот разговор я слышала краем уха, но ясно одно: отношения отца с Князем из-за тебя сильно осложнились. Они перестали доверять друг другу.
— Как же теперь твой отец будет без компаньона?
Валери махнула рукой.
— Не на одном Князе все держится. Он без отца — ничто. Максимум, на что он способен, — это перебросить порошок или сырье из Афгана в Москву. А Москва наркотиками уже насыщена под завязку, большую партию героина здесь не продашь, несмотря на то что есть богатые люди, владеющие ночными барами и клубами, где порошок обычно и распространяется. Князь не может выйти на европейский рынок и тем более «отмыть» баксы — это ему не под силу.
— Этим занимается Августино?
— Да, это его область.
— А твоя?
— Моя? — Валери часто заморгала, глядя на меня невинными глазками. Артистка! — А я шью детские платьица, покупаю памперсы, варю кашку.
— Не можешь признаться?
— Не хочу признаваться, — поправила меня Валери. — Ты ведь сразу все перевернешь с ног на голову. В наших отношениях и без того много проблем. Зачем тебе знать, чем я занимаюсь? Я не убийца, не проститутка — этого, кажется, мужчины боятся больше всего? Рядовой сотрудник фирмы «Гринперос» — достаточно?
Мы снова лежали на полу под пледом, глядя, как по потолку медленно растекается оранжевый отблеск заката.
— Валери, скажи, что впереди?
— Все будет хорошо.
— Что такое — хорошо? Новая партия порошка, новый рынок сбыта, новые «окна» на таможне?
Она коснулась пальцами моих губ.
— Нет. Не то. Остался один маленький последний штрих, и я умываю руки. Мы уедем с тобой во Францию или Италию, заживем нормальной жизнью, и никогда больше не будем говорить о наркотиках. Будем растить дочь, путешествовать, кататься на лошадях, плавать под парусом… Помнишь, как ты катал меня на яхте в Крыму?
— А на что будем жить, Валери?
— Об этом мы никогда не будем говорить. Деньги есть, и не думай об этом, милый.
— Эта жизнь — она наступит скоро?
Валери приподнялась, встряхнула головой, стянула волосы на затылке тугим узлом.
— Я съезжу на несколько дней к брату в Прибалтику, — сказала она, протягивая руку к креслу, где лежало ее белье, и стала одеваться. — А ты пока побудешь здесь. Тут много книг, тебя будут поить и кормить. Отсыпайся, залечивай раны. А завтра вечером тебя выпустят.
— Но почему я должен сидеть здесь до завтрашнего дня?
— Потому что завтра вечером ты уже не будешь опасен. Я, конечно, не думаю, что ты захочешь помешать мне, и все же… Мало ли что взбредет в твою горячую голову, так ведь?
— А Клементина?
— Клементина поедет в свой маленький замок. И мы поставим точку на всей нашей долгой и грустной истории. И начнем с тобой новую жизнь.
Я смотрел, как она одевается.
— Валери, а зачем тебе была нужна эта встреча? Завершила бы все свои дела, потом приехала бы ко мне в Крым…
— Я хотела еще раз убедиться, — сказала она, надевая белую туфельку и морщась, словно ноге было тесно. — Я хотела убедиться, что не потеряла власти над тобой.
— Убедилась?
Вместо ответа Валери склонилась надо мной, поцеловала, затем взяла со стола мобильник, нажала кнопку и сказала:
— Машину!
На моих глазах она превратилась в деловую жесткую женщину, на лице которой не осталось и намека на сентиментальность. Она вышла из комнаты не обернувшись, словно меня здесь не было.
34
Сутки я провел в диванном плену. Большую часть времени я лежал, глядя на потолок, пил мартини, гонял по всем программам телевизор и думал о Валери. Точнее, я просто мысленно рисовал ее образ, даже не делая попытки найти логическое объяснение ее последним словам. На душе моей было пусто и уныло. Я чувствовал себя в роли спортсмена, который из кожи вон лезет, чтобы прийти к финишу первым, а когда, наконец, пересек заветную черту, то увидел, что судьи и зрители давно разошлись, соревнования отменили, и все результаты и достижения уже никому не нужны. И я, обессиленный, ходил вокруг развевающихся на холодном ветру знамен, пустых пьедесталов, сваленных в кучу барьеров и лавровых венков, пиная ногами брошенные на битум нагрудные номера и листы ведомостей.
* * *
Поздно вечером следующего дня дверь отворилась, незнакомый молодой господин, вооруженный радиоаппаратурой, молча пригласил меня на выход, проводил вниз и показал на стоящую у парадного входа иномарку.
— Вас отвезут.
Повернулся и молча пошел в офис.
Я сел в машину рядом с водителем. Тот, следуя профессиональному этикету, даже не повернул голову в мою сторону, молча ожидая приказа. Я же молчал, думая о чем-то своем, забыв, что уже свободен, что моей судьбой теперь распоряжаюсь сам. Водитель, наконец, вежливо напомнил:
— Куда едем?
— Что вы говорите? — вернулся я из мира грез в кабину машины. — Ах, да! Надо же куда-то ехать… М-да, если бы я знал — куда.
Водитель сохранял железное спокойствие.
— В любом случае в Москву? — уточнил он и тронулся с места.
Я помнил адрес подруги, у которой мы остановились, но что-то удерживало меня от встречи с Анной. Как только я начинал думать о ней, так сразу накатывала мучительная боль. «Разве я в чем-то виноват перед ней? — спрашивал я сам себя. — Разве я что-то обещал ей? Я ее предал? Я продался?..»
Вопросы плавно переходили в утверждение.
Я попросил у водителя телефон.
— А-а, это ты! — почти безразличным тоном сказал в трубку Нефедов. — Все нормально, твоя девушка передала мне информацию. Да, подкинул ты нам работенки.
— С ней все в порядке?
— Конечно! Я ей говорил, что с тобой ничего серьезного не может случиться, а она не верила. Очень мнительная и нервная девушка… Ладно, старина, извини, времени нет. Позвони завтра. А лучше — послезавтра.
Он даже не спросил, что со мной было и какой ценой эта «информация» нам с Анной достагась, подумал я, возвращая мобильник, но подумал уже без злости и почти равнодушно.
Можно поехать на вокзал. Там много лавочек и кресел. Лягу в своем белом костюме рядом с бомжами — пусть народ потешится. Бомжи — народ гостеприимный. Не только местом поделятся, но и стакан какого-нибудь пойла натьют и таранкой угостят. Ночь будет веселая. А Анна тем временем будет медленно сходить с ума оттого, что ничего не известно обо мне. А я тем временем буду веселить народ…
— В Бирюлево, — сказал я водителю.
* * *
Было уже без четверти одиннадцать, когда я позвонил в квартиру, и тотчас, словно этого звонка ждали под дверью, лязгнул замок, дверь распахнулась, и я увидел Анну. Мне трудно передать, сколько боли, любви, слез было в ее глазах. Она сделала движение ко мне, но взгляд ее скользнул по моему костюму, лакированным туфлям, и Анна замерла, подняв на меня кричащие глаза. Губы ее дрогнули.
— Кирилл, — шепотом произнесла Анна. — Где ты был?
В лучшем случае она была готова увидеть меня полуживым, избитым, лежащим на полу в луже крови. Она надеялась, молила бога, чтобы было хотя бы так — ведь кровь отмывается, раны Заживают, боль утихает. Но мой вид просто потряс ее.
Я зашел в прихожую. Анна отступила на шаг от меня. В ее широко раскрытых глазах заплясали огоньки бесовского смеха. Я молчал. Сейчас любая моя фраза, любое слово будут выглядеть как оправдание, а слова утешения — издевательски.
— Кофе есть? — спросил я, сняв пиджак и закинув его на холодильник. В нем я чувствовал себя как клоун. — Умираю, хочу кофе.
Анна растерянно кивнула, прошла на кухню, убрала со стола телефон, лист бумаги, исписанный телефонными номерами больниц и моргов, скомкала его, кинула в ведро. Взяла джезву, встала у плиты.
Я мог позвонить ей по телефону Валери, подумал я, глядя на хрупкую, скованную фигуру Анны, на легкомысленный халатик, одолженный у подруги, на изящные руки, на ее тонкую, кажущуюся слабой шею, и, отпустив волю, позволял терзать себя чувству жалости; и у меня сдавило в горле и стало тяжело в глазах. Я мог позвонить ей, сказать, что со мной все в порядке. Она умирала здесь, сходила с ума по мне, часами накручивала диск телефона и дрожащим голосом, полным слез, называла работнику морга мою фамилию, прислушивалась к шелесту учетных журналов, холодела от ужаса, ожидая услышать подтверждение страшной истины, а я в это время, напрочь забыв о ее существовании, целовал тело Валери.
Кофе вылилось на конфорку, залило огонь. Анна все еще стояла ко мне спиной, сглатывая невидимые слезы. Их теперь будет много, подумал я. Когда отпускает, когда самое страшное остается позади, слезы ничем не удержишь в себе, и напрасно она старается.
Я встал, взял джезву, налил в чашку остатки густого кофе.
— Ты флэшку давно отдала Нефедову? — спросил я.
Анна кивнула, вытерла платком под глазами.
— Этой же ночью, когда ты пропат. Я позвонила ему домой. Мы встретились на Варшавке.
— Мы ему больше не нужны? Он ничего не говорил?
Анна отрицательно покрутила головой.
— Ничего. Я думала, Нефедов поднимет всю районную милицию, чтобы найти тебя, а он сразу кинулся тормозить контрабанду.
— Наркотик важнее. За него звания и премии дают.
Анна кивала головой, глядя в темное окно. Ничтожество, подонок и тварь безмозглая, думал я о себе, отпивая кофе маленькими глотками. Предатель, иуда! Зачем заставил девчонку страдать? Зачем режу на куски ее сердце? Она же видит, что моя харя счастьем сияет. На ней же написано, что я сытая, удовлетворенная скотина!
Я даже не заметил, как Анна вышла из кухни. Я сидел один, склонив голову над пустой чашкой, и в ней было так же черно, как и в моей душе. «Она мне не жена! — оправдывался во мне разум. — Моя вина только в том, что я не позвонил ей из банка. А позвонить, собственно, было невозможно. Валери пользовалась радиотелефоном, который унесла с собой». — «Дерьмо ты, — усталым голосом возражала совесть. — Пусть она не жена тебе. Но вы с Анной столько времени были вместе, вы столько пережили, у вас уже одна судьба. Вы ближе друзей, а по отношению к друзьям так не поступают». «Я был в шоке, — оправдывался разум. — Меня чуть не похоронили живьем, потом этот маскарад с белым костюмом и встреча с Валери. У меня голова пошла кругом. Я плохо соображал, что со мной происходит». «Да ладно врать-то, — отвечала совесть. — Все ты соображал — и когда Валери целовал, и когда говорил ей о любви, и когда спал с ней. Просто тогда тебе было хорошо, и ты не захотел думать о той, которой было плохо».
Я услышал сдавленный плач, идущий из комнаты. Она обо всем догадалась, подумал я. Она поняла, что только Валери могла сделать такое чудо — помиловать меня, вынуть из петли, помыть, побрить, освежить французским одеколоном, приодеть и отпустить на все четыре стороны — как доказательство своей безусловной победы, как последняя точка в недолгой конкуренции с Анной, как победный залп.
«Иди к ней и утешь ее, — сказала совесть. — упади к ней в ноги, проси прощения, рви на себе волосы, плачь вместе с ней». «Не пойду, — угрюмо отозвался разум. — Надо рубить сплеча. Так будет лучше. Мы разойдемся как в море корабли».
…Кажется, я задремал и потому вздрогнул, когда на кухню вдруг влетела Анна. С ней что-то случилось. Я не мог узнать ее. Ее глаза блестели странным блеском, на губах играла жестокая полуулыбка. Она подошла к маленькому телевизору, стоящему на рабочем столе, и включила его. Шли последние новости.
— Все! — сказала она, не отрывая взгляда от экрана. — Бог услышал меня. Все, отлеталась…
Я хлопал глазами, глядя то на экран, то на Анну. Диктор, сидящий на фоне карты Балтийского моря, передавал какое-то важное сообщениё. Я еще не понимал смысла его слов.
— «…по предварительным данным, погибло не менее восьмисот пассажиров. В настоящий момент над местом гибели парома ведут поисковую работу вертолеты ВВС Швеции и Эстонии, но из-за плохой видимости и низкой температуры воды результаты этой работы вряд ли могут быть удовлетворительными. Как передал наш специальный корреспондент из Клайпеды, сухогруз, принадлежащий финской мореходной компании, в момент гибели парома проплывал в непосредственной близости от него и смог принять на борт единственный спасательный плот, на котором находилось семь человек, среди которых нет ни одного пассажира. Список уцелевших членов экипажа уточняется».
Анна ударила кулаком по столу, достала из шкафа ополовиненную бутылку водки, налила в стакан, выпила и вышла из кухни.
По телевизору пошли спортивные новости.
Кажется, произошло что-то ужасное, но я не мог понять, что именно. Я вскочил из-за стола, кинулся вслед за Анной, схватил ее за руку и повернул к себе.
— Что там случилось? Затонул паром? Что с тобой, Анна?
Она смотрела на меня, все еще улыбаясь краем губ. Глаза ее плыли.
— Теперь ты можешь меня убить, — сказала она, растягивая слова. — Миссис Гроулис… помнишь?.. Ну что у тебя такое недоуменное лицо?
Я взял ее за плечи и как следует тряхнул.
— Говори нормально! Ты сошла с ума?
— Я? — Она отрицательно покачала головой, вырвалась из моих рук, подошла к бару и достала оттуда какую-то бутыль. — Я в здравом уме. И ты в этом скоро убедишься… Поухаживай за дамой, Кирюша. Будь добр, свинти эту крышку, у меня руки скользят…
— При чем тут миссис Гроулис? — зло крикнул я, выхватывая бутылку из рук Анны. — Что ты несешь?
Анна перестала улыбаться. Лицо ее стремительно помертвело. Прядь светлых волос упала на глаза. Девушка тяжело дышала, глядя на меня таким взглядом, от которого по спине поползли мурашки.
— Ты хочешь знать, при чем тут миссис Гроулис? Я тебе скажу… — Между каждым предложением она делала невыносимо длинные паузы. — Я скажу тебе! Ты наверняка сразу вспомнишь все ее недавние ласки…
— Дура!! — вскипел я. — На что ты намекаешь?
— А я не намекаю, — сквозь зубы произнесла Анна, прожигая меня своим взглядом. — Я тебе прямо отвечаю. Миссис Гроулис — это твоя Валери!
Минуту я соображал, что означают слова Анны. Я вспомнил документ, записанный на флэшку, где была строка: «Вильнюс — Таллин — „Пярну“ — Скандинавия — USA», а под ней: «Миссис Гроулис», а затем — письмо об отправке партии цветных металлов паромом «Пярну»…
Я еще не понял главного, но на лбу выступил холодный пот, и мне показалось, что мое сердце сжала чья-то сильная, холодная как лед рука.
— Паром… какой паром затонул?
— «Пярну»!! — крикнула Анна, отворачиваясь от меня.
Не помню, как я схватил ее за плечи и со страшной силой затряс ее.
— Ты врешь, ты врешь, дрянная девчонка! Ты врешь… — бормотал я, подталкивая ее к стене. Анна вывернулась, отскочила от меня в сторону.
— Дурак! Садист! Дурак!! — кричала она, уже со страхом глядя на меня. — Я не вру! О том, что Валери и миссис Гроулис — одно лицо, я прочитала в письме, которое было записано во втором файле Князя. А потом его стерла, чтобы ты не узнал об этом раньше времени. Поэтому его не было на флэшке. Понял, придурок?! Утонула твоя Валери. Пошла ко дну вместе с наркотиками! Не успела сожрать! Подавилась!
Я тер лоб ладонью. Мне казалось, что я сейчас сойду с ума.
— Уйди, — попросил я. — Пожалуйста, уйди куда-нибудь.
— С удовольствием, — ответила Анна. — И навеки. Чтоб не видеть тебя, не слышать тебя, не знать тебя, не помнить тебя… Предатель! Бабник! Блядун…
Она ходила по комнате и собирала раскиданные книги, одежду подруги и складывала их на диване. Я следил за ней. Перед глазами мелькали мутные цветные пятна.
— Это ты ее убила, дрянь, — прошептал я. — Знала, но молчала…
Я двинулся на Анну. Она взвизгнула, кинула в меня свитер и попыталась выскочить в коридор, но я успел поймать ее за руку.
— Ты ее убила, — как заведенный повторял я. — Она тебе мешала. Ты не с наркотиками боролась. Ты с ней, как с женщиной, счеты хотела свести… Ты думала только о том, как отбить ее и выйти за меня замуж…
Анна лупила меня кулаками по лицу.
— Господи, да убери же ты от меня этого шизофреника! — кричала она. — Замуж за тебя?! Я сейчас умру от смеха! Да кто ты такой? Кому ты нужен? Ненормальный, все психушки России по тебе плачут! Я тебя ненавижу!! Я всегда тебя ненавидела!!
Я дал ей пощечину. Анна сразу ослабла и прекратила сопротивляться. У меня тотчас угасла злость. Я разжал руки, и Анна, прикрывая лицо ладонями, опустилась на пол.
Слезы душили меня. Я, шатаясь как пьяный, побрел на кухню, задевая двери и косяки плечами. Судороги сотрясали меня, глаза уже не могли удержать в себе влагу, и слезы вылились на щеки. Я допил все, что осталось в водочной бутылке. «Нет, нет, — бормотал я. — Этого не может быть. Это просто ошибка. Время такое, сейчас все ошибаются…»
35
Сон это был или же глубокое забытье, похожее на смерть, — не знаю. Я еще не открыл глаза, а гнетущее чувство безысходности, страшной, невосполнимой потери уже накатило, заполняя каждую клеточку мозга и отравляя мысли, и было оно упаковано в пасмурное тяжелое утро с кленом, ободранным дождем и ветром, шатающимся как призрак за запотевшим окном, со стремительным полетом низких грязных туч, с мутными желтыми лужами, покрытыми рябью, похожей на старческую кожу…
Я полулежал в кресле, наблюдая, как по сумрачной комнате, из угла в угол ходит Анна, собирает раскиданные вещи, заталкивает их в ящики платяного шкафа, выносит рюмки, бутылки и тарелки на кухню, потом торопливо подметает веником ковер, задевая мои ноги. Я не подавал признаков жизни до тех пор, пока Анна не вышла в прихожую. Лязгнул замок — она открыла дверь.
Я успел схватить ее за руку, когда Анна была уже на пороге.
— Останься, — сказал я.
— Нет.
— Останься, — повторил я.
Она помолчала, глядя себе под ноги, потом спросила:
— Зачем я тебе нужна?
Я понял, что она останется.
Мы молча пили кофе, сидя по разные стороны стола. Оцинкованный подоконник вибрировал под натиском дождя. Молочный белый свет падал на лицо Анны, и оттого оно казалось бледным и безжизненным. Ей трудно было переносить мой пристальный взгляд. Она боялась поднять глаза, пила неестественно быстро, обжигаясь, почти не отрывая губ от края чашки.
— Ну, все, хватит, — сказал я, поднялся с табурета, подошел к ней, заставил привстать и крепко обнял.
И снова слезы. Осень — время слез.
* * *
— Может быть, она еще спит?
Я отрицательно покачал головой, прижал палец к губам и позвонил в дверь еще раз.
Дверь слегка приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Из темноты прихожей выплыла женщина в черном. Она не сразу узнала меня, потом ее бесцветные губы дрогнули.
— Это вы? — тихо спросила вдова. — Заходите.
Мы с Анной зашли в прихожую — тесную, еще сохранившую сладковатый запах цветов и хвойных венков, заставленную коробками, чемоданами, снарядными ящиками, которые военные часто используют для перевозки домашних вещей. Вдова не стала приглашать нас в комнату, вынесла незапечатанный конверт, на котором было написано: «Вацуре К. А.», протянула его мне.
— Я прочла это письмо, — сказала она. — Простите, если вы меня осуждаете. У моего мужа не было тайн от меня… Собственно, здесь нет никакой тайны. Предсмертная исповедь.
Она потянулась рукой к замку.
— Прощайте.
Я спрятал письмо в нагрудный карман и почувствовал, как сильно бьется сердце. Мы спустились в подъезд. Анна зачем-то поддерживала меня обеими руками, словно опасалась, как бы мне не стало плохо.
Моего терпения хватило только до ближайшей лавки. Анна раскрыла зонтик и держала его над нами, пока я вслух читал письмо:
«Дорогой Кирилл! Пойми меня правильно. Не хотел бы, чтобы ты расценил этот поступок, как проявление моей слабости или трусости. Скорее — это самосуд над моей тенью, от которой мало было проку в этой жизни; она лишь чернила мое имя и память обо мне. Считай, что я погиб давно, на южном спуске с Саланга. Ты вынес меня раненого с поля боя, но я скончался на твоих руках от потери крови… Как жаль, как жаль, что не случилось так!!
Нищие, одинокие и несчастные — самые сильные и смелые люди на земле. Я был таким в Афгане. Жизнь свою ценил дешево, а оказалось, что тогда она стоила намного больше, чем моя нынешняя жизнь. Я ничего не боялся не потому, что от природы храбр, а потому, что мне нечего было терять. Я взрослел, у меня появилась любимая жена и дети, но все еще по инерции рвал на груди тельняшку и, открывая ногами двери, шел туда, куда ходить уже не следовало. Жизнь еще не научила меня, что чрезмерное любопытство почти всегда наказуемо. И когда меня впервые предупредили, чтобы я не слишком интересовался грузовыми перевозками камээсовских машин по Таджикистану и не проявлял излишнего усердия, контролируя авиационные грузы, я не сумел подавить в себе чувство страха. Это было похоже на внезапную болезнь: то, что вчера не составляло для меня никакой проблемы, сегодня стало непреодолимым. Этот страх был похож на рак — он давал метастазы. Короткий испуг перешел в испорченный вечер, затем — в тяжелые сны, все сильнее и сильнее опуская меня в трясину сплошного кошмара. Они давили на психику, убирая знакомых мне людей, словно пешек вокруг короля. Помнишь, как нас обстреливали из миномета под Багланом? Мины ложатся все ближе, ближе, метр за метром приближаясь к твоему окопу. Нетрудно рассчитать, какая угодит точно в цель и станет для тебя последней. И я залег на дно, заткнулся, захлебнулся страхом. Я поднял руки, замахал белым флагом и упал перед ними на колени. Они сломали меня, заставив отречься от своей боевой молодости, от наших традиций. Я предал все свое прошлое, нашу молодость, нашу дружбу. Потом появился ты. Я смотрел на тебя, как на ископаемое, как на троянского коня, принесшего в своей утробе мину замедленного действия и, не колеблясь, предал тебя. Я отрубил все, что было за мной. Жизнь моя превратилась в уродца, безнадежного калеку без прошлого и с туманным будущим, до звона накачанным страхом. И я решил пристрелить ее, чтобы не мучилась.
Я дописываю письмо. Передо мной лежит пистолет. Самое время говорить напутствия и советы. Но я этого делать не стану. Нет у меня на это морального права. Нет и желания. Умоляю только простить меня и не забывать своего боевого отчаянно-смелого друга Володьку Локтева, который когда-то давно умер на твоих руках».
Дождь все шел и шел, и не было ему ни конца, ни края.
36
В первое мгновение мне показалось, что рядом произошла авария: дико взвизгнули автомобильные тормоза, воздух разорвали частые оглушительные хлопки, и широкое стекло продуктового магазина, брызнув осколками, с вибрирующим гулом полетело вниз, как нож гигантской гильотины, и шарахнуло — об асфальт. Анна толкнула меня в первый попавшийся подъезд, но я успел заметить, как серый джип круто вырулил на встречную полосу и, стремительно набирая скорость, скрылся за поворотом.
Мы тяжело дышали, глядя то друг на друга, то на улицу, откуда доносились крики.
— Этого следовало ожидать, — произнесла Анна.
— Кажется, из машины дали очередь по витрине, — сказал я, вытирая ладонью щеку, оцарапанную, по-видимому, осколком стекла.
— Не по витрине, — мрачно усмехнулась Анна. — А по нас.
— Что ж они так плохо стреляют?
— Самое паршивое во всей этой истории то, — сказала Анна, намочив языком кончик платка и вытирая им мой лоб, — что ты разбаловался, привык к вездесущему ангелу-хранителю, и в тебе притупился инстинкт самосохранения… Не крути головой!.. А сейчас нам дали ясно понять, что уже никто не может помешать размазать нас с тобой по стенке, как дождевых червей по асфальту.
— Круто они начали охоту.
— Могу представить, с каким азартом они ее продолжат… Пойдем, что ли? Вон, милиция, как всегда, приехала вовремя.
Озираясь по сторонам, мы вышли из подъезда. Анна взяла меня под руку, и мы учащенными шагами направились к ближайшей станции метро, нырнули под землю и немного расслабились только тогда, когда вошли в переполненный вагон.
— У твоей подруги нам больше нельзя появляться, — сказал я Анне на ухо. — Они к чертовой матери взорвут квартиру.
Анна кивнула и ответила:
— Едем ко мне.
Мы сошли на «Автозаводской» и в потоке людей двинулись к эскалатору. У входа на ступени образовалась толчея. Бабуся с мешком за плечами загородила мне дорогу, оттолкнула от Анны, и она первой встала на ступени. Я глянул на нее, улыбнулся и развел руками в стороны, мол, разлучили, и пока не могу подойти к тебе. Анна тоже улыбнулась, встала ко мне спиной — по ходу движения, как вдруг резко обернулась и что-то крикнула. Я не расслышал ее — в это мгновение диктор громогласно объявлял о наборе в милицию метрополитена. Анна, расталкивая людей, пыталась протиснуться ко мне. Я стал сдвигать бабушку с мешком в сторону, чтобы сделать шаг наверх, но она крепко застряла между целующейся парочкой и пузатым мужиком. Анна снова закричала; лицо ее было перекошено от ужаса:
— Ложись!! Падай!!
Я слегка присел, не понимая, откуда исходит угроза, и только в последний момент увидел на параллельном эскалаторе, идущем вниз, человека в сером плаще и черных очках, который, по мере приближения ко мне, разворачивался в мою сторону и поднимал в вытянутых руках пистолет. Я не услышал выстрела, полетел лицом на ступени, толкая и сбивая собой толстяка с газетой… Женский голос, усиленный эхом, приглашал в туристическую поездку в Анталию всех желающих, и люди, стоящие вокруг меня и надо мной, тесня друг друга, как пингвины на краю льдины, кинулись наверх, словно спешили в турагентство за путевками. Я подхватил за талию Анну, которую едва не сбила с ног любвеобильная парочка, и краем глаза увидел, как человек в сером быстро бежит во эскалатору вниз, смешиваясь с толпой.
Нас выкинуло на мраморный пол вестибюля, словно вынесло сильным течением в устье реки. Паника быстро затухала среди встречного потока людей, которые не были свидетелями стрельбы. Наверное, закончилась смена на ЗИЛе, и рабочий класс своим мощным наездом погасил страсти, раздробил группы паникеров, рассеял, растворил в себе эмоции страха.
Я все еще крепко держал Анну за руку, хотя мы были уже на улице, и нас не толкали.
— Послушай, — бормотал я, пытаясь шутить. — Кто учил их стрелять? Двоечники проклятые! Только панику наводят… Нет, милая, к тебе домой мы не пойдем. В подъезде, наверняка, безоткатное орудие уже на прямой наводке установлено…
Я тащил ее против потока рабочих. Анна едва поспевала за мной. Кажется, она сломала каблук и потому прихрамывала.
— Вот что, — сказал я, озираясь по сторонам. — Эти заячьи бега от стаи волков закончатся тем, что нас хлопнут. Два промаха — это уже почти для Книги рекордов Гиннесса. Третьего раза мы не должны допустить.
— Ну что же делать?! — едва не плача спросила Анна.
— Во-первых, успокоиться. Здесь полно народу, выстрелить неоткуда.
— На эскалаторе тоже было полно народу. А он стрелял!
— Возьми себя в руки.
— Какие наглецы! Среди бела дня, не таясь!
— Анна! — прикрикнул я. — Замолчи. На нас уже озираются.
— Давай уедем куда-нибудь!
— Куда?
— К тебе. В Судак.
— Хорошо, уедем, но не сразу. Мы поступим иначе. Проведем, так сказать, сицилианскую защиту. Лучшая оборона — это наступление… Да не крутись ты, как юла!
Я вынул из внутреннего кармана фотокарточку ту самую, которую подарила мне Валери, и протянул ее Анне. Она долго всматривалась в снимок; не понимая, что на нем изображено и для чего я его показываю.
— Кто это?
— Моя дочь.
— Понятно. Очень похожа…
Я глубоко вздохнул, сдерживая себя от вспышки раздражения.
— Посмотри на дом.
— Да, смотрю, — пролепетала Анна.
— Ты не знаешь, где он находится?
— Не знаю… Похож на старинный замок.
— Анна, подумай, в каком месте стоит этот дом? — тверже повторил я.
— Москва огромна, Кирилл, — ответила Анна и снова взглянула на снимок. — Может быть, это в Подмосковье?
— Может быть.
— Ну вот видишь, — устало протянула она. — Круг поиска расширяется. Ты хочешь найти иголку в стоге сена.
— Я сумел найти виллу Августино в приамазонских джунглях. Нет ничего невозможного.
— Дай сюда! — Анна постепенно приходила в себя и вновь обретала свои лучшие качества. Она взяла снимок из моих рук, приблизила его к лицу. — Прямо авангард какой-то. Но это лучше, чем если бы ты показал мне снимок типового жилого дома…
Слава богу, подумал я, ожила!
Сначала она позвонила какому-то Славику и попросила у него номер телефона Льва Яковлевича Вальтера. Лев Яковлевич, насколько я понял, трубку не взял, и Анна поговорила с кем-то из его родных:
— Простите, а где его можно сейчас найти? В Доме архитектора?.. Благодарю вас.
Она повесила трубку, щелкнула пальцами и сказала:
— Это уже что-то! Лев Яковлевич — директор строительной фирмы. Когда я работала секретарем, мы возводили пристройку по индивидуальному проекту. Фирма Вальтера строит все — от бань до особняков. Может быть, он чем-нибудь нам поможет.
37
Секретарша не впустила Анну в кабинет Вальтера.
— Я позову его, — сказала она и скрылась за массивными дверями, а через полминуты следом за ней выкатился невысокий, очень подвижный мужчина в огромных очках, неимоверно уродующих глаза и брови, светлом пиджаке, на лацкане которого сверкал какой-то замысловатый значок, и черных брюках, которые не доходили до ботинок и обнажали тонкие лодыжки.
— А-а-а, — пропел он, увидев Анну, тотчас подбоченился и выставил вперед свой животик, словно он был беременным от Анны и хотел преподнести ей сюрприз. — Опять вы! Не помню вашего имени, но неважно! Какие проблемы? Что строим? Где это вы так загорели? Сочи? Анталия? Или, может быть, Эмираты? Я прав?..
Он не давал ей рта раскрыть, и я забеспокоился, что Анна не сумеет остановить этот словесный понос и мы не решим проблему. Анна поступила умно, она не стала отвечать на льющиеся рекой вопросы, а молча протянула Вальтеру фотографию.
— Что это? Ваш дом? Чудно! Восхитительно! Так сказать, материализация ностальгии по Средним векам, рыцарям и крепким стенам, которые, ха-ха, не под силу взять даже нынешним взломщикам. Я прав?
— Нет, — наконец вставила Анна. — Это не мой дом, Лев Яковлевич.
— Но вы мечтаете иметь такой. Я прав?
— Ну-у, в какой-то степени. Мне хотелось бы взглянуть на него вблизи.
— Так в чем же дело, голубушка? Поезжайте туда и смотрите.
— Вся беда в том, что я не знаю, где он находится.
— И я не знаю.
— Но, может быть, вы знаете архитектора, который этот дом спроектировал?
— Вы же знаете, голубушка, что мы работаем по своим личным, отработанным и проверенным временем проектам. А это наверняка фантазия заказчика. — Вальтер повернулся ко мне. — Как вы считаете, молодой человек? Я прав?
— Безусловно, правы, — подтвердил я, и директор удовлетворенно кивнул.
— Вот что, — сказал Вальтер, возвращая снимок Анне. — Я дам вам телефон Кислевича. Это мой ученик, так что можете смело ссылаться на меня. Он как раз и занимается подобной ерундой — замками, крепостями, башнями.
Мы позвонили из приемной, причем Вальтер в это время откровенно подслушивал из своего кабинета, оставив дверь незакрытой. Кислевич был дома, он неважно себя чувствовал, но согласился принять нас с Анной, «коль уж сам Вальтер рекомендовал».
Мы, стыдясь своей скованности и осторожности, выходили из Дома архитектора по одному, оглядываясь по сторонам и подозревая едва ли не в каждом прохожем наемного убийцу. Через полчаса мы благополучно добрались до квартиры Кислевича.
— Я знаю этот особняк, — сказал он осипшим голосом, едва глянув на фотографию. — Проект чертил мой приятель по рисунку одной очень экспансивной дамы. Она очень хотела, чтобы стены были возведены не из кирпича, а из шлифованного булыжника, которым мостят улицы. Мой приятель очень долго убеждал ее, что это невозможно и стена из булыжника рухнет еще до конца строительства… Кажется, она очень неплохо ему заплатила.
— Где это? — в один голос спросили мы.
— Жуковка, — подумав, ответил архитектор. — От Ильинского шоссе вправо, к лесу. В новом коттеджном поселке. Там ищите.
* * *
— Где, ты говоришь, живет твоя бабушка? — шепотом спросил я, осторожно отодвигая тяжелую от влаги ветку сирени в сторону. Капли веером прошлись по нашим с Анной плащам.
— В Рязанской области, — так же шепотом ответила Анна.
— А район?
— Сараевский.
— Ну, это то, что надо. По названию видно, что дыра приличная.
— Ты безумец, — сказала Анна, поднимая воротник. — Это преступление. За это нас будут судить, невзирая на все наши заслуги.
— Свое украсть невозможно, — отпарировал я, сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть особняк, но угодил в лужу, и ботинок медленно наполнился водой.
— Надо еще доказать, что это твое, — ответила Анна. Помолчала, покусывая губы. Потом добавила: — Кирилл, она еще очень маленькая.
— Не говори глупости. Я ее видел. Взрослая девочка. Уже вполне прилично рисует.
— Ты понимаешь, что с тебя уже никогда не слезут? Они тебя из-под земли достанут!
— Чушь собачья! — Я чувствовал, как начинает давать течь и второй ботинок. — Зачем им маленький ребенок? Ее, как сироту, сдадут в детский дом. Но она ведь не сирота. У нее, черт возьми, есть отец.
— Господи, какой же ты дурак! — вздохнула Анна. — Как ты докажешь, что она твоя дочь? Где документы, где свидетельство о рождении, где выписка из роддома?
— У нее мои глаза… Тссс! Третья «тачка» выезжает! И снова полна людей. Похоже, они всех «быков» кинули на меня… А может быть, Нефедов стал ворошить весь муравейник, вот и забегали. Как бы нам не опоздать. Пошли!
Анна плелась за мной через кусты безвольно и покорно, как идут на плаху давно обреченные на смерть люди.
— Кирилл! — позвала она, снова пытаясь остановить меня. — Ее надо кормить, одевать… Ребенок — это море проблем. Как ты с ней справишься?
— Найму для нее няню… Стоп! — скомандовал я.
Меня трясло от возбуждения и предчувствия риска. Я осмотрелся. К воротам особняка-замка вела асфальтовая дорожка, тянущаяся через коттеджный поселок к шоссе. С нее некуда свернуть, и если мы поедем по ней, то нас легко будет перехватить. Пешком через лес, в сторону Рублевки — безопаснее. Через деревья и кусты, пока они еще не облетели, легко уйти незамеченным, хотя, конечно, земля мокрая и скользкая, элементарно можно вляпаться в грязь по колено, но ребенок будет на моих руках. А это все равно, что в танке. Спрячу девочку под плащ — там ей будет сухо и тепло.
— Господи, прости меня, грешную… — молилась Анна. Я тряхнул ее за руку.
— Возвращайся назад через лес. Выйдешь на дорогу. Встань на обочине и останавливай любую машину — грузовую, легковую — неважно, только не иномарку. Скажешь водителю, что поедем на Казанский вокзал, только, дескать, сейчас муж с дочерью придут. И ждите меня. Все поняла?
— Господи, господи… — шептала Анна. Пришлось снова ее встряхнуть, как пакет с кефиром. — Да поняла я, поняла, не тряси меня, голова отваливается…
Минуту я провожал ее взглядом, потом повернулся и пошел к особняку.
38
Ворота были распахнуты настежь, на поверхности большой лужи, разлитой на въезде, еще кружились пузырьки, взбитые колесами автомобилей. Никто меня не остановил, не окликнул, и я спокойно вошел во дворик, где гармонично уживались чистые дорожки, ухоженные газоны с клумбами и штабеля стройматериалов, мусора, пакеты с облицовочными плитками и ящики с сантехникой. Главные входные двери в центральной башне были крест-накрест заколочены досками, к тому же заставлены коробками с цементом или побелкой, и я пошел вдоль «крепостной стены», отыскивая другой вход.
Со стороны леса особняк ничем не отличался от фасада, только к дверям в овальном проеме вел маленький декоративный, перекинутый через узкий водосток мост, который можно было поднять при помощи цепей.
Я подошел к двери, сколоченной из крепкого бруса, стянутого медными поясами, взялся за отполированное многочисленными руками кольцо, которое держала в зубах тигровая голова, и два раза постучал им по двери.
Открыл мне невысокий, зрелого возраста мужчина в синем халате, которого я мысленно окрестил «садовником», и я сразу шагнул на него, вынуждая его отступить в сторону, приветственно вскинул руку и сказал по-испански:
— Здравствуйте! А где юная хозяйка?
«Садовник» испанского не знал, но не понятая им фраза подействовала как пароль. Он что-то забормотал, стыдясь своей беспомощности, сказал «Пройдите» и сам провел меня к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Я уверенным шагом поднялся по лестнице, успев заметить, что зеркала на стенах закрыты черной тканью, очутился на втором этаже, кольцевая стена которого была сплошным окном, и потому комната была светла, словно сцена, освещенная множеством юпитеров, и сразу же увидел седовласую женщину, «Софи Лорен», с которой встретился у Валери. Она, одетая в черное, с легким черным платком на голове, сразу узнала меня, сняла очки, встала с кресла, и я прочел в ее глазах сострадание мне.
— Эта ужасная беда, — сказала она, по-мужски пожимая руку и глядя на меня уставшими от слез глазами. — Какое горе! За что бог наказал нас?
Я уже успел утратить навыки беглой испанской речи, потому потратил, как мне показалось, слишком много времени, чтобы понять женщину и объяснить ей, что мне нужно. Ошарашить и закрутить голову няне, как садовнику, не удалось.
— Я должен срочно увезти Клементину в Шереметьево, — говорил я. — Мы сегодня же вылетаем в Таллин. На опознание, понимаете? Девочка должна быть со мной…
Няня кивала головой, показывая, что понимает меня, но, выслушав, развела руками, забеспокоилась.
— Я не знаю, — ответила она неуверенно. — Мне не давали такой команды. Клементина не готова к отъезду. Поймите меня правильно, но я должна связаться с Августино.
Я был уверен, что в доме, кроме девочки, няни и «садовника», больше никого нет. Мне не составило бы большого труда затолкнуть женщину в какую-нибудь комнату, связать ей руки и заткнуть рот кляпом. Но я не мог сделать этого по отношению к ней.
У меня не поднималась рука на женщину, которая во многом заменила Клементине мать.
— Конечно, конечно, — кивнул я. — Немедленно звоните Августино, я подожду. А где, кстати, Клементина?
— В правом крыле, в детской комнате.
Она хотела меня проводить, но я остановил ее:
— Не тратьте времени. Идите и звоните! — И пошел по коридору, попутно открывая все двери, которые попадались на моем пути, уперся в торцовую дверь, ведущую в правую башню, свернул в боковое крыло, пересек роскошный зал, оттуда спустился на полэтажа вниз, и когда понял, что начинаю блуждать в незнакомом доме, неожиданно наткнулся на детскую.
У открытого настежь окна стояла розовая колыбель, прикрытая сверху полувоздушной шелковой накидкой. В комнате было прохладно, и я подумал, что ребенка в таких условиях можно запросто простудить, но девочки не было ни за столиком, на котором лежала смятая и изорванная бумага и обломки карандашей, ни у белого стеллажа, на котором всеми цветами радуги пестрели игрушки, и тогда я понял, что она спит. Стараясь ступать неслышно, подошел к колыбели, убрал накидку. Ребенок глубоко спал, и я, забыв о том, что время бежит с бешеной скоростью, минуту рассматривал смуглые щечки, длинные черные ресницы, маленький ротик, точно скопировавший тонкие губы Валери. Девочка была одета и, кроме того, упакована в теплый спальный конверт — это была удача, мне не надо было тратить время на ее одевание. Я осторожно взял ее на руки. Клементина проснулась, внимательно посмотрела на меня и тотчас заснула снова.
Насколько мог быстро, я шел по коридору, прижимая ребенка к груди, переводя взгляд то на нее, то себе под ноги, неслышно проскочил мимо комнаты, откуда доносился голос няни, говорившей с кем-то по телефону, возможно, с Августино, спустился по винтовой лестнице, кивком головы поблагодарил «садовника», услужливо открывшего передо мной дверь, и вышел во двор. Через минуту я уже хлюпал ногами по мокрому лесу, быстро удаляясь от особняка, и очертания башен и крепостной стены все больше терялись между деревьев, пока не исчезли совсем.
— Ну что, папаша, сбылась мечта идиота? — с горькой иронией встретила меня Анна, принимая ребенка из моих рук и усаживаясь удобнее на заднем сиденье «Жигулей».
Я сел рядом с водителем. Мы ехали молча. Время от времени я оборачивался, глядя, как Анна осторожно поправляет на голове спящей девочки шапочку, рассматривает ее лицо и улыбается своим мыслям.
Я заскочил в ближайший супермаркет, купил там памперсы, набрал сумку детского питания и сложил все в багажник. Ничего, думал я, отгоняя нахлынувший вдруг на меня страх за жизнь ребенка. Все обойдется. Клементина уже взрослая, а Анна умница, каких еще поискать надо. Пусть набирается опыта. Когда-нибудь и она станет матерью.
…Я купил два билета до Рязани в вагоне «СВ» — поезд отходил с минуты на минуту. Клементина проснулась, начала было скандалить, но Анна быстро успокоила ее, дав ей бутылочку с фруктовым соком. Мы стояли у газетного киоска в зале ожидания. Мимо нас плыла толпа. Я всматривался в лица. Нервы были напряжены до предела. Каждая мужская физиономия казалась мне подозрительной. Милиционеры, кидая на нас взгляды, прохаживались по залу из конца в конец.
— Пора на платформу, — сказал я.
Мы вошли в тоннель. Я готовился сказать Анне то, что наверняка шокирует ее.
— Какой у нас вагон? — спросила Анна. У нее устали руки, но я не взял ребенка.
Мы поднялись на платформу, подошли к вагону. Я протянул билеты проводнице. Она долго крутила их в руках, потом оглядела нас с ног до головы. Мне казалось, что Анна сейчас не выдержит и наговорит ей гадостей.
Мы зашли в купе. Анна тотчас положила девочку на диван и принялась ее раздевать. Я поставил пакеты с питанием и памперсами на столик.
— Анна, — сказал я. — В деревню ты поедешь сама.
Она повернула ко мне лицо. Клементина, воспользовавшись ее замешательством, потянулась к пакету и вывалила его содержимое на диван.
— Что значит — сама?
— Я должен еще немного побыть в Москве.
— Но почему?
— Есть важные дела.
— Ты измучил меня своей непредсказуемостью, — голос Анны становился более резким. — Я не могу понять тебя. Кто ты? Чего ты добиваешься?
— Я давно предлагал тебе порвать со мной отношения.
— О чем ты говоришь, Вацура!.. — Она помолчала, пожала плечами, продолжая машинально снимать с девочки кофты и ползунки. — Как я поеду одна? Что скажу бабушке?
— Из Рязани до деревни возьмешь такси. А бабушке скажешь, что ребенка тебе на время дала подружка.
— Бред какой-то, — шептала Анна, качая головой.
Поезд дернулся. Перрон за окном медленно поплыл.
— Я приеду за вами! — крикнул я уже из прохода и, вежливо оттолкнув проводницу, выскочил из вагона.
39
У нее железное терпение, думал я, глядя, как подруга Анны открывает дверь, вздыхает и впускает меня в квартиру.
— Нет, я тащусь от Нюрки, — сказала она, раскидывая ногами обувь, которой прихожая была буквально завалена.
— Я поживу у тебя еще пару дней, — сказал я.
— Да живите, чего уж там, — ответила подруга, стараясь не смотреть мне в глаза и не выдать своей печали по этому поводу. — А Нюра где?
— В деревню уехала.
— Я балдею…
Я вынул из кармана несколько крупных купюр.
— Возьми! За моральные издержки.
— Да вы что! — возмутилась подруга, но по ее глазам было видно, что мое внимание доставило ей удовольствие. — На фига мне бабки? Если бы вы, скажем, шампанского мне предложили и культурный досуг…
Она начала кокетничать, увидев в недалекой перспективе что-то заманчивое.
— Нет, девочка, — ответил я, кладя деньги на столик под зеркалом. — Ни шампанского, ни досуга не будет. — И прошел в комнату, где жили мы с Анной.
Скоро, очень скоро, думал я, ходя по комнате из угла в угол. Сколько им понадобится времени, чтобы выяснить, где я могу остановиться? Час, от силы два… Еще немного, еще самую малость потерпеть…
У меня в самом прямом смысле чесались кулаки. Нервное возбуждение охватило всего. Я предчувствовал огромное удовольствие, которое может получить только человек, которого долго и несправедливо унижали, но пришел час торжества справедливости. Ахилл опустил ноги на землю и снова стал неуязвимым. Я вновь был сильным и смелым человеком.
Несколько часов подряд, ожидая «гостей», я думал только о себе и ни разу не вспомнил об Анне и Клементине.
…Около шести часов вечера в дверь позвонили. Хозяйка, одевшаяся по случаю отсутствия Анны весьма фривольно, первой подошла к двери, но я перехватил ее руку, не позволив ей открыть замок.
— Послушай меня, девочка, — сказал я ей шепотом. — Это наверняка пришли ко мне. Посиди немножко в своей комнате и ничего не бойся, что бы ты ни услышала. Хорошо?
Потом я открыл дверь.
На пороге, привалившись к косяку, стоял рослый мужчина в спортивном костюме и с весьма недоброжелательным лицом. Перекатывая из одного угла рта в другой спичку, он оскалил стальные зубы, резко контрастирующие с его темным от щетины лицом, и выдал:
— Прив-е-ет! Дома сидишь? Макароны жуешь? Щас я тебе настроение испорчу.
Сначала я хотел завести его в прихожую, но в последний момент передумал, вышел на лестничную площадку, прикрыл за собой дверь.
— Что так поздно? — спросил я, чем привел «спортсмена» в некоторое недоумение.
— Прости, — ответил он, снова расплываясь в улыбке. — Больше не буду… Девчонку ты увел?
— Конечно.
«Спортсмен» хмыкнул, покачал головой.
— А не боишься стать инвалидом первой группы?
— Нет.
Он перестал улыбаться и сказал уже другим тоном:
— Короче, через полчаса ты приносишь девчонку к метро «Пражская», правый выход на Варшавку. Это первое и последнее предупреждение.
— Все? — уточнил я.
— Достаточно, — ответил «спортсмен» и, оттолкнув меня, шагнул к ступеням.
Я рывком развернул его к себе и дважды наотмашь ударил кулаком по лицу, чувствуя, как в костяшки пальцев врезаются его зубы, как хрустит перегородка его носа; с чавкающим звуком из-под кулака брызнула во все стороны кровь, «спортсмен» отлетел к противоположной стене, попытался выставить навстречу мне колено, но я заехал ему ногой в пах, заставив согнуться. Он, должно быть, был уверен, что я не посмею поднять на него руку, и потому не успел вовремя прикрыться и приготовиться к драке.
Размазывая по стене кровь, он сполз вниз, на площадке поднялся на ноги, поднял изукрашенное лицо и сказал:
— Теперь можешь рыть себе могилу.
— Бегу за лопатой, — ответил я и вернулся в квартиру. Дверь в комнату хозяйки приоткрылась, и оттуда высунулось перепуганное личико. — Послушай, подруга, — сказал я ей. — А нет ли у тебя куска арматуры или хорошей дубинки?
— Может, лучше вызвать милицию? — предложила она.
— Ты что! — схватился я за голову. — Меня же сразу упрячут за решетку за… как это называется, черт возьми?! — за киднеппинг.
— За что?! — ужаснулась подруга, наверняка неправильно поняв меня.
— Время, девочка! Время! — махнул я рукой и пошел на кухню. Там стал открывать все шкафы подряд и исследовать их содержимое. Нашел кусок бельевой веревки, деревянный молоток для отбивки мяса и эротическую газету годичной давности. — Не волнуйся, — сказал я, вернувшись в прихожую и погладив девушку по пухленькой щеке. — Сегодня звонков в дверь мы больше не допустим.
Я снова вышел на лестничную площадку, поднялся на несколько ступенек, сел и развернул газету. Мне пришлось прочитать ее от корки до корки, когда, наконец, я услышал, как разъехались дверки лифта, и на лестничную площадку вышли двое незнакомцев, одетые, как и предыдущий «гость», в спортивные костюмы. Они, не заметив меня, подошли к двери, взглянули на номер. Один из «гостей» потянулся рукой к кнопке звонка.
— А там никого нет, — сказал я.
Незнакомцы повернули головы.
— Вам кто нужен, ребята? — спросил я.
«Гости» замялись.
— Вацура, что ли? — подсказал я. — Так он переехал этажом выше.
Один из незнакомцев развернул скомканную в руке бумажку.
— А у нас «сто шестидесятая» обозначена.
— Правильно. Была «сто шестидесятая». А теперь «сто шестьдесят пятая».
— Вот как, — произнес «гость» и переглянулся со своим коллегой. Они не знали, что делать. «Засветились», и достаточно отчетливо — а это спутало карты. Теперь не удастся тихо и без свидетелей отбить Кириллу Андреевичу почки.
— Проводить? — предложил я.
«Гости» уже с раздражением посмотрели на меня.
— Обойдемся, — ответил один. — В следующий раз. — И нажал кнопку лифта.
Я поднялся и встал за их спинами.
Открылись дверки лифта. Я с силой обрушил деревянную колотушку на голову стоящего впереди меня. Второй незнакомец, услышав знакомый звук и почувствовав, что его коллега оседает на пол, повернулся ко мне, и в то же мгновение получил удар кулаком по носу. Я добавил левой, потом ногой — уже куда придется, зверея от легкой победы, от ненависти к этим людям, словно возвращал долги, наверстывал упущенное, спешил сделать то, чего не мог сделать раньше, когда били и хоронили меня.
Лифт бережно опустил два тела со связанными руками вниз, а я, испытывая какое-то гадливое чувство к самому себе, вернулся в квартиру. Храбрый, ничего не скажешь, думал я. Прикрылся девочкой — теперь можно кулаками махать и челюсти ломать.
Подруга мыла полы, протирала от пыли стол, подоконник, полки на кухне, а потом взялась чистить картошку. Обуреваемая сексуальным возбуждением, многократно усиленным страхом, она, как могла, сбрасывала излишки энергии и нервного напряжения. Я посоветовал ей заняться аэробикой, положил на место колотушку и уединился в отведенной мне комнате.
Я дал понять Августино, что не боюсь ни его наемников, ни его самого, что ни на какие переговоры ни с кем не пойду, что буду стоять до последнего. Что он предпримет? Убить меня он не может — тогда он навсегда потеряет внучку. Вытащить меня из квартиры, увезти на какую-нибудь садистскую квартиру, а там пытать меня паяльником, утюгом, противогазом — тоже маловероятно. Августино хорошо знает меня. Я думаю, он не забыл, как я прошел приамазонскую сельву в поисках его виллы, он наверняка знает, что я катался в цинковом гробу, что меня опускали в могилу. Он должен понимать, что никакие пытки не сломают меня.
Наверное, я испытывал очень похожее чувство, какое пережил Наполеон, ожидая подношения ключа от Москвы. Но, скорее всего, я глубоко заблуждался — в первую очередь, в самом себе.
40
Около полуночи, когда я дремал в кресле, зазвенел телефон. Я поднял трубку и, не успев сказать «алло», услышал короткую фразу на испанском. Человек, который позвонил мне, произнес ее настолько быстро, что я не понял его.
— Пардон, — ответил я, зевнув. — Можно еще раз, но только по-русски?
Возникла пауза. В трубке раздавался треск, шумы, затем связь оборвалась. Через минуту — второй звонок.
— Кирилл, добрый вечер!
Этот голос, этот низкий тембр, я различил бы в многоголосом хоре. Волк Августино собственной персоной! К тому же говорит по-русски!
— Здравствуйте, Августино, — ответил я.
— Говорите ваши условия!
— Не понимаю, о чем вы.
Снова пауза. Затем:
— Мне очень трудно говорить… Зачем вы делаете вид, что не понимаете? Где Клементина? Что вы хотите от нее?
— Августино, мне приходится напомнить вам, что она моя дочь. И еще хочу сказать, что никаких переговоров с вами вести не намерен. Прощайте!
Я кинул трубку в гнездо и отключил вилку из сети.
До утра я спал спокойно, никто не ломился в квартиру, не кричал под окнами, лишь подруга зачем-то дважды заходила в мою комнату в неглиже и что-то искала в полной темноте.
* * *
Утром, когда я брился, она постучала в дверь ванной комнаты, заглянула ко мне и сказала каким-то странным голосом, пряча при этом глаза:
— Вас там какая-то дама спрашивает.
Я не стал смывать пену и с белой бородой вышел в прихожую. Вот это шляпа! Огромная, ярко-красная, украшенная черными бархатными тюльпанчиками, с широкими, изогнутыми плавной линией полями. Шляпа качнулась, и из-под полей я увидел лицо зрелой и в меру красивой женщины. Она подняла на меня глаза, протянула руку в черной перчатке — слишком высоко для обычного рукопожатия, но я не стал ее целовать, лишь слегка поклонился. Дама, кажется, была разочарована. Она не увидела в моих глазах восторга, переступила с ноги на ногу, посмотрела через мое плечо на дверь, словно подсказывая: пригласите же меня в комнату!
Я часто заморгал своими невинными глазами и сказал:
— Простите, я не успел побриться. Вы подождете или зайдете в другой раз?
— У меня слишком срочное дело, Кирилл Андреевич, — произнесла дама низким грудным голосом. — И ждать, разумеется, я не буду. Я прощаю вам вашу небритость. Одевайтесь, машина внизу.
Они прислали даму, понял я, чтобы на этот раз обошлось без мордобития.
— А вы, простите, кто?
— Я секретарь Августино Карлоса, — сказала она таким тоном, будто была секретарем президента. — Может быть, вы мне предложите сесть?
— Видите ли, в чем проблема, — сказал я, почесывая грудь, на которую медленно сползала мыльная пена, — здесь не я хозяин. А потому могу предложить вам сесть только на пол.
Я откровенно хамил, и у секретарши стали раздуваться ноздри от гнева.
— Августино ждет вас, — повторила она требовательно. — Если вы не цените свое время, то уважайте хотя бы его.
Я протянул руку над ее плечом, слегка задев поля шляпы, открыл замок и отворил дверь.
— Прошу извинить меня, мадам! Я никуда не поеду. Мне надо бриться, завтракать и совершать массу других важных дел.
— Ну что ж, — прошептала женщина, но не закончила фразу, круто повернулась и, щелкая каблуками, пошла к лифту. Закрывая дверь, я заметил, как на верхней площадке из-за выступа высунулась и тотчас исчезла чья-то физиономия. Дама, естественно, пришла не одна.
Подруга накормила меня яичницей с помидорами и салом. Я поинтересовался, почему она не уходит на работу.
— Сегодня суббота, — ответила она. — У меня выходной.
Я, оказывается, потерял счет дням и забыл о том, что люди могут позволить себе отдых.
Ближе к обеду в дверь снова позвонили. Опять какая-нибудь дама, посыльный или суровый «бычок», подумал я. Надоели!
На пороге стоял седой старик, ссутулившийся под тяжестью своего возраста и житейских передряг. На нем было темное пальто, под воротником — белый шарф, оттеняющий смуглое лицо. Старик снял шляпу, судорожно сглотнул, словно у него под языком лежала таблетка валидола, и стал стаскивать с руки лайковую перчатку.
Я не сразу узнал его. Это был Августино Карлос.
41
Я не был готов к визиту столь высокого гостя и несколько мгновений стоял перед ним, не зная, что сказать, затем, опомнившись, отошел в сторону, пропуская Августино в квартиру. Он снял пальто, повесил его на вешалку, причесал седые волосы. Это был не тот Волк Августино, с которым я встречался в Приамазонии — пышущим здоровьем красавцем с ослепительной улыбкой и железным спокойствием. Передо мной стоял глубоко несчастный человек, одетый в черный костюм, черную рубашку и белый галстук. Но не только черная одежда старила его. Если бы мне довелось встретиться с миллиардером, в одно мгновение потерявшим весь свой капитал, то, думаю, он был бы очень похож на Августино, каким он сейчас предстал передо мной. Создавалось впечатление, что в этом человеке обломался, раскрошился или расплавился стержень, который надежно поддерживал его всю жизнь, делал его сильным и всегда уверенным в себе.
Неподдельная скорбь от тяжести утраты, которая в чудовищно короткий срок состарила Августино, передалась мне. Желание злоречиво шутить и говорить гадости сразу пропало.
Я провел Августино в комнату. Он сел в кресло напротив меня и долго молчал, не сводя с меня своих черных глубоких глаз, которые так тонко и изящно скопировала Валери и в которых — я не мог в это поверить! — блестели слезы.
И вдруг мне стало его жалко. Я не мог распалить в себе огонь ненависти к нему, даже перечисляя в уме все самое отвратительное, что пришлось мне пережить по прямой или косвенной вине этого человека.
Мы с ним мучились от одной боли. Гибель Валери сделала нас едва ли не родными. Судьба стегала нас одной плетью, и каждый из нас, даже скрывая страдание, очень хорошо понимал другого.
Августино молчал, и я не находил слов. В дверь заглянула подруга. Она успела привыкнуть, что мое общение с посетителями сопровождается шумом и руганью, и тишина, царившая в комнате, насторожила ее.
— Вам кофе приготовить? — спросила она.
Августино едва заметно покачал головой:
— Не надо ничего…
Я с трудом разжал зубы. Язык отказывался проговаривать эти слова:
— Ее… тело… Валери нашли?
Лицо Августино дрогнуло, по нему пробежала судорога боли. Он прикрыл глаза, скрипнул зубами.
— Нет… Водолазы начали работу только сегодня. Я нанял команду глубинных ныряльщиков, но яхту не подпустили к месту гибели парома… Ждать невыносимо.
Мы снова замолчали. Августино не сводил с меня глаз. Желваки бегали по его небритым щекам, и седая щетина напоминала иней. Я подумал, что если прикоснусь к нему, то не почувствую тепла.
— Скажите, Кирилл, — произнес Августино. — Вы любили Валери?
Я склонил голову перед этим вопросом.
— Да.
— А Клементину?
Я не мог больше сидеть, вскочил с кресла и стал ходить по комнате. Окно, стена. Окно, стена. Августино с каждой минутой, с каждым словом обезоруживал меня все сильнее и сильнее. Он, как мне казалось, с легкостью лишал меня воли, упорства, жажды борьбы. Я не мог уже взять себя в руки. Все теряло смысл.
Он прав. Он прав! — мысленно кричал я и словно хлестал словами себя по лицу. Вся беда в том, что он любит Клементину больше, чем я. Любовь к детям — это нечто иное, чем любовь к женщине… Она не дается в придачу к родственным отношениям. С ребенком надо жить от его рождения, надо болеть его болезнями, надо сострадать ему и радоваться вместе с ним. Разве я люблю Клементину? Просто мне нестерпимо хотелось схватить Августино за ухо. Хотелось видеть его униженным, ощутить себя победителем. А отцовскую любовь я придумал, я просто внушил ее себе… И он это понял. Сейчас он искреннее, чем я, честнее и сильнее меня, несмотря на дикую боль…
— Сколько вы хотите? — спросил он.
— Что? — не понял я и остановился.
— Я могу дать вам пятьдесят миллионов долларов. Только не уверен, что вы сумеете правильно распорядиться этими деньгами. В России с такой суммой трудно долго остаться живым.
— Пятьдесят миллионов?.. — до меня начал доходить смысл его слов. — Вы хотите, чтобы я…
— В вашем положении, — перебил он меня, — лучше приобрести недвижимость в Европе. Я предлагаю вам дом в Париже. Его когда-то купила Валери. Кажется, она собиралась жить в нем с вами.
Он покупал у меня Клементину. Собственно, а чему я удивлялся? Чем еще можно было объяснить похищение Клементины? Какие еще мотивы этого поступка, кроме личной выгоды, мог предположить Августино, прекрасно понимая, что не отцовские чувства владели мной? Естественно, что в его глазах я выглядел человеком, способным продать дочь.
— Прекратите! — крикнул я и встал лицом к окну, чтобы не видеть его бездонных, как ночное тропическое небо, глаз.
— Но что вы тогда хотите?
— Вы думаете обо мне… Не знаю, но может быть, я в самом деле заслужил это. Но поверьте, Августино, вы ошибались во мне. Я не собираюсь продавать свою дочь. Не для этого я забрал ее…
— Вы хотите оставить ее у себя? Будете всю жизнь прятать от меня в гнилых деревнях девочку? А какое, простите, вы сможете дать ей образование? Какое будущее ожидает ее под вашей опекой? Вы хотите, чтобы Клементина осталась жить в этой дикой стране, в которой нет ни одного честного банка, ни одного закона, который бы свято выполнялся, где как минимум еще пятьдесят лет будет продолжаться драка за власть? Где всякий преступник или авантюрист, дорвавшийся до президентского кресла, станет переписывать конституцию «под себя»? Где начинается эпоха междоусобных войн на политической и религиозной почве? Вы хотите наполнить ее жизнь этим кошмаром? Вы искренне желаете своей дочери такой судьбы?.. Поймите, после Валери у меня не осталось более дорогого и близкого человека. Все, что у меня есть, будет принадлежать ей.
— Августино! — взмолился я. — Ну ответьте мне! Есть бог на свете или нет его?
— Бог есть.
— Тогда почему он терпит все это? Почему вы, преступник, мафиози, становитесь в итоге носителем добра, а я, положивший свою жизнь на то, чтобы раздавить вас, не могу сделать счастливым даже одного человека на всей земле — свою дочь? Так бог — это добро или зло?
— А вы точно знаете, что такое добро, а что — зло? — спросил Августино.
Я покачал головой.
— Уже нет. Уже нет… Августино! — добавил я твердо. — Я отдам вам Клементину.
— Вы согласны на дом в Париже?
— Нет, Августино. Мне надо намного больше.
— Что же вы хотите?
— Я хочу, чтобы вы дали мне слово, чтобы вы поклялись своей честью, чтобы вы поклялись жизнью Клементины…
— Что вы хотите? — прервал он меня.
— Поклянитесь, что вы воспитаете Клементину так, чтобы она никогда не знала о ваших темных делах, не соприкасалась с наркобизнесом, чтобы подробности жизни и гибели ее матери для нее всегда остались тайной, чтобы девочка никогда не знала той грязи, в которой вы, Августино, обитаете.
Августино опустил глаза, сцепил руки в замок. Некоторое время он молчал, словно прислушивался к своим ощущениям.
— А вы можете дать мне слово, что никогда не будете искать встречи с Клементиной?
— Нет, Августино. Не могу. Не забывайте, что сейчас я вам ставлю условия, а не вы мне.
— Когда-то давно, в сельве, на моей вилле, вы уже пытались ставить мне условия, — задумчиво произнес он, резко поднялся, подошел ко мне, протянул руку: — Кирилл! Я клянусь жизнью и здоровьем Клементины, я клянусь памятью Валери, что выполню вашу просьбу. И еще я клянусь, что оставлю вас в покое. Никто из моих людей никогда не причинит вам вреда.
Я пожал его руку. Кажется, впервые за все время нашей долгой и драматической борьбы.
Он ушел. Я следил за ним из окна. Августино, вопреки моим ожиданиям, не сопровождал кортеж автомобилей с охранниками. Седой Волк сел за руль одиноко стоящего во дворе «Мерседеса» и уехал.
Больше я его никогда не видел.
Послесловие
В начале ноября, когда в Крыму догорал бархатный сезон и отшумевший за лето Судак обезлюдел, меня вызвал в Москву Валера Нефедов.
— Садись, — сказал он мне, указывая на стул, положил передо мной чистый лист бумаги и ручку. — Пиши!
— Ага, пишу, — ответил я, склонившись над столом.
— «Начальнику…» Тут сделай пропуск, номер отдела я поставлю сам. «Начальнику отдела Федеральной службы безопасности». Точка. Ниже: «Прошу вас принять меня на службу в органы…»
Я отложил ручку и выпрямился.
— Валера, — произнес я, с удивлением глядя на бывшего сослуживца. — Но я не хочу служить у вас!
— Что значит — не хочешь? — удивился Нефедов.
Я пожал плечами.
— Зачем служить? Какой в этом смысл? Да и не смогу я.
— Ерунду говоришь! — нахмурился Нефедов. — Я о тебе уже доложил начальству. Никакие отговорки не принимаю! — Он склонился надо мной и громким шепотом сказал: — Чудак! В Москву переберешься, хату получишь. А делать будешь то же, что делал до этого. Ты же самородок, талантище! От твоих подвигов весь отдел тащится!
Но я вновь покачал головой, еще дальше отодвинул от себя ручку, а лист на всякий случай скомкал и сунул его в карман.
— Нет, Валера. Не хочу я служить у вас. Какой я самородок, что ты говоришь? Баб я люблю, вот в чем весь фокус. А вот форму и начальников над собой на дух не переношу… Так что, прости, друг.
Валера закурил, с прищуром глядя на меня.
— А ты сильно рискуешь, старичок.
— Почему?
— А потому.
Он не договорил, но от его слов у меня пробежал холодок между лопаток.
— Слышал такое: меньше знаешь — дольше живешь? — спросил он.
— Ты считаешь, что я много знаю?
Нефедов опять не ответил, а я обозвал себя в уме за свою неумеренную болтливость. Как только мы с ним встретились, я тотчас понес:
— Валера, что творится у нас в стране? Ты слышал новость? Наш бывший начальник политотдела генерал Вольский создал свою партию! Человек рвется к власти так, что треск стоит. — И неудачно пошутил: — А вы до сих пор чешетесь, будто не знаете, что он замешан в делах Князя…
Нефедову, естественно, не понравились мои слова. Он нахмурился, ничего не ответил и переменил тему разговора.
Он проводил меня на поезд. По пути на Курский вокзал мы свернули в тихий сквер, сели на лавочку, блестящую от наледи, и Валера рассказал мне о судьбе Князя. Он был взят органами госбезопасности и посажен в следственный изолятор месяц назад. Там стал требовать к себе представителей прессы и телевидения для сенсационного заявления, но внезапно скончался от сердечного приступа.
Рассказал мне Нефедов и подробности гибели парома «Пярну».
Героин, который Князь получил в цинковых гробах из Таджикистана, был переправлен сначала в Литву Глебу, а затем — в Эстонию. Сопровождала его Валери. После того как Анна передала Нефедову флэшку с информацией, ФСБ, не теряя времени, немедленно связалась с ЦРУ — паром уже отчалил, и взять наркотик можно было только в Швеции.
Центральное разведывательное управление сработало плохо, и информация о готовящемся в стокгольмском порту обыске «Пярну» каким-то образом попала к Глебу. Тот сразу же связался по радио с Валери и предупредил ее.
Валери пошла к капитану «Пярну», который, естественно, был в курсе дел и имел свою долю, и потребовала, чтобы тот избавился от наркотиков, в том числе и от нескольких десятков тонн цветных металлов, под прикрытием которых перевозился героин. Капитан сначала возражал: отправить за борт десятки тонн груза, когда в ночном море бушует шторм, было крайне рискованно, но его быстро «уломал» Августино, вышедший с ним на связь.
В грузовом отсеке парома началось маневрирование грузовиков, загруженных металлом и героином. За несколько минут до начала гибели парома они съехались в носовую часть. Экономя время (при выгрузке пришлось бы остановить движение парома и, как результат, опоздать с прибытием, что вызвало бы лишние вопросы), капитан увеличил скорость парома до пятнадцати узлов и заблаговременно ослабил фиксацию механизмов подъема носовых ворот. Несколько минут спустя их сорвало с корпуса, и в образовавшуюся гигантскую дыру хлынула вода. Перевернувшись на бок, паром быстро пошел ко дну, унося в себе почти девятьсот жизней, в том числе и жизнь Валери.
Я тяжело переживал ее гибель. Анна, насколько у нее хватало такта и терпения, старалась не трогать меня и не докучать своим присутствием. Мы встретились лишь на Рождество: я сам позвонил ей в Москву и предложил распить бутылку коллекционного новосветского шампанского в полночь на Девичьей башне. Анна не стала демонстрировать свою гордыню и заставлять упрашивать себя. Она прилетела в Крым в тот же день, и мы неплохо провели с ней остаток недели. Перед расставанием Анна уточнила, помню ли я, как в разгар нашего веселья на берегу моря я признался ей в любви и сделал предложение.
Я ответил ей честно: не помню, хоть убей. Может, и в самом деле говорил нечто подобное. Но чего только не скажешь красивой девушке, выпив полдюжины стаканов массандровского портвейна рядом с бушующим зимним морем.

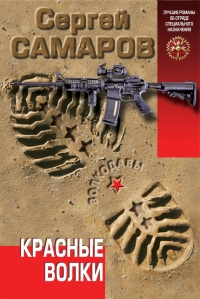



Комментарии к книге «Горячая тень Афгана», Андрей Михайлович Дышев
Всего 0 комментариев