Николай Стародымов Братишка, оставь покурить!
Часть первая Охота на человека
1
Луна здесь не такая, как у нас. Не луна — лунища, на которой прекрасно виден весь рельеф, моря и материки — разве только кратеров не разглядеть! И звезды крупные, будто на них, как на исполинских золотых гвоздях держится густо-синий бархат ночного небосвода. Может быть именно потому существует древнее алтайское поверье, что все мирозданье держится на четырех звездах?.. У нас, в привычно-родимой среднерусской полосе, такого неба не бывает даже в самые ясные и умытые ночи. У нас звездочки мельче, будто с трудом протискивают лучики света сквозь толщу земной атмосферы.
Когда-то давным-давно я уже видел такое же близкое и непривычно бархатистое глубокое, усыпанное мириадами звезд, небо. Бесконечно давно и не менее бесконечно далеко отсюда. Будто на другой планете, с которой я прилетел сюда вместе с очаровательным беспомощным Маленьким Принцем, будто все это было в какой-то иной, не мною прожитой жизни. То небо надо мной сияло крупной россыпью звезд на другом конце нашего земного шарика, в Афганистане. Именно там оно меня впервые поразило своей бездонной глубиной.
Ну а рубежом между тем, среднеазиатским, небом и похожим на него небом нынешним пролегла студеная Сибирь, где небо тоже другое, не такое, как там или тут. Да и не то, какое было дома, в Подмосковье. Правда, на то, сибирское, небо мне доводилось смотреть нечасто — под недремлющим оком лагерной охраны бесконечностью не залюбуешься.
Удивления достойно: окружает наш крохотный мирок одна и та же атмосфера. 60 процентов азота, пятнадцать кислорода, толика углекислого газа и других примесей, замкнутая спасительным для всего живого и в то же время таким ранимым озоновым слоем — а свет звезд пробивается на разных широтах по-разному.
…Странно, почему я так люблю глядеть в ночное небо? Что меня так тянет туда, в эту бесконечность мирозданья, в эту вселенскую пустоту, космический холод, пронизанный всевозможными излучениями и лишь слегка разбавленный эфемерным эфиром, по божественному недогляду не приспособленные под среду обитания человека? Что стоит за этой моей подспудной тягой ввысь? Мистическое ожидание, что со временем именно там, в неком неведомом эфирном блаженном эмпирее, навеки, растворившись, упокоится моя душа, не имеющая покоя в этом мире? Или же наивная мечта о том, что хоть там, в беспредельной вышине, за хрустальным небосводом, нет той липучей грязи и смрадной мерзости, что окружают нас в этом бренном мире, которые попросту затапливают нас и из которых мы не в силах ни выбраться, ни избавиться от них? Право же, не знаю.
Да и плевать мне на все эти философские разглагольствования, если честно. Я особенно не задумываюсь над этим, лишь очень люблю глядеть в ночное небо. Быть может, просто-напросто потому, что когда глядишь в него, чувствуешь себя освобождающимся от земных проблем и забот. Даже там, в лагере, и то я становился свободнее, когда глядел в звездную россыпь неба… Хоть немного, а свободнее. Пусть тело мое по-прежнему оставалось облаченным в арестантскую робу, пусть меня по-прежнему окружала колючая проволока, пусть я знал, что Лесник по-прежнему точит на меня зуб, упорно выжидая удобный момент, чтобы поквитаться со мной — когда выдавалась свободная минута, я ложился и глядел вверх. И становилось легче. Будто сама душа моя по лучику взгляда воспаряла над тем миром, который какой-то безнадежный романтик обозвал лучшим из миров.
У мусульман есть мудрая легенда или притча — уж не знаю, как правильнее ее назвать — про двух ангелов. Звали их Харут и Марут. Обитая на небе и состоя в свите Аллаха, они были исключительно рафинированно-образцово-показательными, громогласно осуждали людские грехи и добросовестно доносили Всевышнему о том, сколько нехороших дел творится на Земле. Однако Аллах оказался руководителем неглупым и отправил их обоих в командировку с каким-то поручением в мир земной. И получилось именно так, как и должно было получиться: эти святые поборники нравственности, оказавшись среди грешников, напились в первом же кабаке, изнасиловали женщину и убили мужчину, который оказался невольным (или по воле все того же Аллаха?) свидетелем этого преступления… Мораль: легко и просто быть святым на небе — а вот попробуй сохранить белоснежную святость одежд и души здесь, на грешном белом свете!
Что и говорить, мудрый и дальновидный мужик, этот Аллах, однако в данном случае дал маху, не туда направил своих ангелочков! Сюда бы их, в наш отряд, мы бы их быстро перевоспитали, этих обрезантов.
…От созерцания неба и размышлений меня отвлек негромкий окрик.
— Воздра, Просвет!
Радомир произнес мое прозвище на сербский манер — Прсвет, полностью проглотив первую гласную и едва обозначив вторую, хотя умудрился ударение сделать именно на отсутствующем «о». В сербском языке вообще мало гласных букв, здесь их будто проглатывают. И поздоровался он на местном полууголовном сленге, по блатному, как сказали бы мы, по шатровачке, как говорят сербы. По культурному он сказал бы «здраво», хотя, по большому счету, это одно и то же.
— Что, Радик?
Серб не любит, когда его так называют, по-русски уменьшительно. Поэтому я сейчас позволяю себе это сделать только потому, что мы наедине. Мы с ним дружим, а самолюбие друга необходимо беречь.
— Пора, — коротко сообщил Радомир.
Мы с Радомиром Станичем уже давно ходим на задания в паре. Едва не с первых же недель, как я прибыл в состав РДО — Русского добровольческого отряда. И у нас уже выработался свой язык, состоящий из немыслимой смеси русских и сербских слов, к которым каждый из нас без проблем может примешать что-нибудь, например, из английского или французского. А то серб может ввернуть что-нибудь и по-украински — до меня в паре с Радомиром ходил какой-то хохол, который погиб около года назад, подорвался на мине, едва ли не единственный раз отправившись на разведку без своего постоянного напарника… Ну да это неважно, на каком языке мы общаемся — главное, что мы друг друга прекрасно понимаем. Во всяком случае, я его, по большому счету, понимаю лучше, чем, скажем, некоторых ребят из моего отряда, хотя уж с ними-то мы с пеленок говорим на одном языке.
Поднявшись, я сильно, до хруста в суставах, потянулся, подхватил автомат, поправил ремень, поддернул поудобнее вещмешок…
— Ну что, пошли?
При ярком свете луны было хорошо видно, как Радомир привычно и коротко вскинул глаза к небу.
— Помогай нам, Христос! — скороговоркой пробормотал он, разом лишив имя Спасителя всех гласных звуков.
Вообще-то во время выходов серб полагается больше на себя самого, на автомат и на свой длинный, слегка изогнутый, нож, да еще на напарника, чем на некие высшие силы. Так что прошение к Господу о помощи у него не более чем ритуал. Да и не у него одного. По-настоящему набожных людей по эту сторону линии фронта я встречал не так уж много. Хотя перед боевым выходом молятся многие. В том числе и наши, русские, ребята, хотя, казалось бы, они воспитывались в атеистическом духе. Наверное, просто очень хочется верить в удачу. При этом наши парни не читают молитвы, которых, скорее всего, не знают, а запросто просят у Господа «если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». И никто никогда за это панибратское обращение не осуждает.
Муслики — другое дело. Едва муэдзин протяжно завоет с минарета, обрезанты все сразу бросают, разворачивают молитвенные коврики, которые всегда таскают с собой, и начинают истово бить поклоны, едва ли не по компасу определив направление в сторону Мекки… Тоже, кстати, любопытно: когда муслик один, как правило, ему на эти поклоны начхать с того же самого минарета, точно так же, как, к слову, и на запрет на употребление свиного сала или, скажем, ракии. Зато когда тот же правоверный находится на глазах у другого мусульманина, не говоря уж если в толпе единоверцев — так прямо более ревностного верующего на свете не сыщешь. Будто соцсоревнование у мусликов проводится по демонстрации внешних проявлений степени искренности своей веры.
Наверное, это лицемерие, двуличие, нечестность заложены уже в самой их вере. Взять, например, великий пост, рамадан. Аллах велел правоверному сорок дней вообще ничего не есть. И ведь прекрасно знает Всевышний, что это невозможно для того организма, который он сам же сотворил по образу и подобию своему. Он прекрасно понимает, что едва закатывается солнышко, мусульмане наваливаются на еду, отъедаются за дневное воздержание, да еще обжираются впрок, в надежде, что Аллах в темноте этого не видит и никогда не узнает. А днем каждый признающий, что «нет бога кроме Аллаха, а Магомет — пророк его», опять истово бьет поклоны, делая вид, что постится, бедняга, и с голоду разве что не помирает. И так — по всему мусульманскому миру. Так и обманывают друг друга всю жизнь. Да что там жизнь — целую вечность.
…Потом у нас со Станичем последовал еще один ритуал. Мы с Радомиром качнули руками и на счет «три» выбросили пальцы. В этот раз в сумме вышло девять. Нечет, делится на три. Значит, идем по третьей тропинке. Понятно, что нас могут встретить и там, да только при выборе маршрута движения сподручнее довериться слепой удаче, чем пытаться выбрать тропу сознательно, надеясь на трезвый расчет или на интуицию. Разведка — это непредсказуемое переплетение случайностей, так пусть и маршрут движения тоже избирает слепая случайность.
Или она все-таки не такая уж слепая? Кто ж ее знает? Да это не так уж важно. Главное, что до сего момента она нас с Радомиром — тьфу-тьфу-тьфу! — ни разу не подводила. Значит, быть по сему и в этот раз!..
Все! Теперь можно выдвигаться на разведку. Вернемся ли с нее? Никто не знает.
А бездонное ночное небо все так же равнодушно смотрело на нас. Уходили охотники за мамонтами или саблезубыми тиграми. Отправлялись в поход на варваров римские легионеры. Крестоносцы усаживались на коней, чтобы отвоевать Гроб Господень. Скакали по степи казаки, отстаивая право на волю в своем ее понимании. Ползли по «ничейной» земле пластуны и разведчики…
Вселенской бесконечности всегда было не до наших крошечных проблем, ради разрешения которых двуногие существа, именующие себя людьми, тысячелетиями беспощадно уничтожают друг друга.
Нам должно быть стыдно перед Мирозданьем.
А ведь не стыдно…
2
Нам оставалось миновать только передовой положай, где сегодня службу несли наши казаки. Вообще-то тут, как правило, существует разделение, так сказать, «секторов ответственности»: имеются положаи, где службу несут только русские добровольцы, а есть — где только сербы. Да и график дежурств у нас разный. Мы меняем друг друга каждые двое суток. А у сербов в аналогичный график втискивается еще двое суток, которые военнослужащий проводит дома. «Не война, а курорт», — ворчат наши.
Сегодня наш путь проходил через положай, где находятся наши. Очередь дежурить выпала казакам. У нас с Радомиром уже давно сложилось: чей положай проходим, преодолевая линию «фронта», тот из нас и отвечает на окрик дозорного. В том смысле, чей по принадлежности — русский или сербский.
Слово «фронт» я сознательно беру в кавычки. Потому что фронта как такового, в том виде, как мы привыкли видеть в кино «про войну», тут не существует. Имеется не слишком густая цепочка опорных пунктов с обеих сторон — и все. А между ними можно нарваться только на дозор или, чего можно больше ожидать, на засаду или минное поле.
— Стой! — донеслось из темноты. — Пароль шесть.
— Два, — отозвался я.
Эту систему в нашем отряде ввел я, потому что она, именно такая система, на мой взгляд, гораздо надежнее традиционной. Суть ее вот в чем. На ночь назначается какая-то цифра, как сегодня, например, восемь. Часовой окликает приближающегося и называет какую-нибудь, наобум, цифру, а окликаемый должен тут же среагировать и назвать другую, чтобы они в сумме давали назначенную, которая менялась каждый вечер. Сербы действовали по старинке, выбирая для паролей и отзывов названия городов.
— Кто идет? — уже иначе, расслабленно спросил голос из тени, отбрасываемой сложенным из камня бруствером.
— Беспросветный.
Дозорный витиевато, хотя и негромко, выругался. В чуткой ночной тиши я это услышал, однако вслух на ругательство не отреагировал. Понял, в чем дело — у казака, наверное, кончилось курево и он сейчас «стрельнул» бы сигаретку, да разве ж она может быть у некурящего?
— Куда направляетесь, капитан?
Мы уже присели возле положая.
Положай — это позиция. Очень точное славянское слово, между прочим, в пику нашей заимствованной у французов «позиции». Вообще, в отличие от русского языка, сильно замусоренного иностранными словами, сербский выглядит, а точнее сказать, звучит, как бы это сказать, более славянским. Хотя и в нем заимствований, как говорится, выше крыши.
Уж не знаю, хорошо это или плохо, но славянские языки вообще легко впитывают, абсорбируют в себя слова иных народов. Поскреби большинство абсолютно русских определений, и увидишь, что под привычной оболочкой кроется совершенно неведомый нам корень. Огурец, телега, богатырь… Да мало ли что еще? Французы, например, неведомому заморскому овощу и то дали свое собственное, хотя и несколько нелепое, название, «золотое яблоко» — помм д'ор. А уж мы его перекрутили в родной «помидор». Да и вообще, какой след мы оставили, скажем, в той же французской лексике? Спутник, самовар, казак… Все? Даже слово «бистро», которое прочно вошло во французский с нашей подачи, когда наши предки с Александром Первым Благословенным взяли Париж, теперь с благоговением внедряем у себя в Москве!..
Короче говоря, мы присели у положая.
— Тебе ответить или не надо? — хмыкнул я.
В самом деле, разве уходящему на разведку подобные вопросы задают?.. Правда, казачок может просто не знать, что мы уходим ТУДА. Ну да он и сам мог бы догадаться, что мы не от нечего делать слоняемся ночью по передовой. В конце концов, я человек, существо дневное, а потому в темное время суток предпочитаю спать.
Только теперь я разглядел, с кем именно разговариваю. Это был Сашка, которого невесть по какой ассоциации окрестили Слобода.
У нас тут вообще многие, почти все предпочитают, чтобы их называли по прозвищам или просто по именам. Сказать честно, хоть я тут уже полгода, а фамилий всех добровольцев в своем отряде так и не знаю. Да и сам представляюсь как Беспросветный. Правда, сербы сократили прозвище до Прсвета, но я не в обиде, как говорится, хоть горшком назови, только в печь не сажай…
— Как обстановка, Саша?
Слобода ответил лениво, расслабленно.
— Все тихо, капитан. С вечера муслики что-то пошевелились, ну а потом все стихло.
Пошевелились — это плохо. Пошевелились — значит, и сами могли разведчиков или диверсионную группу к нам заслать. А может просто мин понатыкать там, где их вчера еще не было. Мины же здесь — это беда. Вернее, они везде беда, но тут особенно.
— Где ты их заметил?
Казачок шевельнулся, вытянул слегка белеющую в тени руку:
— Вон там, возле памятника.
Никогда из них вояк не получится.
— Эх Сашка-Сашка… — начинаю я укоризненно.
Однако Слобода и сам уже поправляется:
— В районе ориентира три.
— Вот это другое дело.
Я удовлетворен. Значит, хоть что-то от моей науки в их памяти остается.
Однако информация настораживает. Потому что ориентир три, памятник хрен знает какого века — ибо видел я его вблизи только ночью, находится почти на направлении намеченного нами движения.
Словно подслушав мои мысли, подает голос Радомир.
— Прсвет, может, пойдем по другой тропе?
У меня и у самого страстное желание изменить намеченное направление. Но…
— Нет, только по этой, — отвечаю твердо.
Серб ничего не говорит. Но я едва ли не кожей чувствую, как от него струится недовольство. Его можно понять. Да только ведь и я не отступлю.
Формально в нашей паре старшим является он. Все же местный, округу знает, языком владеет… Кроме того, что ни говори, а мы, русские, тут действуем в интересах их, сербов. Однако так уж у нас сложилось, что он свое старшинство постепенно, без споров, уступил мне. Без ложной скромности, это вполне оправданно. По возрасту Радомир мне едва ли не в сыновья годится, в военном отношении опыта у меня побольше, в житейском плане — и подавно. Сам он, конечно, разведчик от Бога. Да только этого мало — нужно еще чтобы данные от природы задатки развить. Без опыта да науки любой талант на корню загнется.
Короче говоря, реально я в паре старший. А это значит, что могу не разъяснять свое решение. Что и делаю. Пусть списывает на упрямство.
Хотя упрямство тут не причем. Просто измени мы сейчас направление, что бы потом ни случилось, будем считать, что причина в том, что мы попытались судьбе не покориться. А ее, судьбу, ломать бесполезно. Ее, лапушку стервозную, ублажать надо, любимую…
Есть такая легенда. Некий человек от оракула узнал, что завтра на такой-то дороге его будет подстерегать смерть. И он решил судьбу обмануть. Отправил по этой дороге своего раба, который должен был бы назваться его именем. Смерть и в самом деле встретила человека. «Кто ты?», — спрашивает его. Раб назвался именем своего господина. Смерть только усмехнулась своими голыми челюстями: «А я его жду завтра на другой дороге»…
Мораль: от судьбы не уйдешь. Рожденный быть повешенным не утонет. Ну и так далее…
Но это все абстракции. А нам нужно идти вперед. Навстречу все той же судьбе-индейке, для которой наша жизнь — копейка.
— Ладно, Сашка, пока.
— Счастливо, капитан! — говорит в ответ Слобода. — Ни пуха вам!..
— К черту!
Я вдруг представляю, какими глазами на меня смотрит сейчас этот парнишка. С восхищением, робостью, немного с завистью и с облегчением, которое он тщательно старается скрыть даже от самого себя. С облегчением от мысли, что он остается за надежным каменным бруствером, в то время как мы с Радомиром должны отправляться в ночь, в неизвестность, в тыл жестоким и кровожадным мусликам. Получи Сашка приказ, он бы обязательно пошел с нами; однако сейчас, не получив этот приказ, остается с досадой, которую тщательно старается себе внушить.
Мы поднимаемся и, миновав положай, бодро шагаем по открытому месту. По коже словно проходит волна легкой дрожи. Интересно, так бывает только у меня или же у каждого, кто выходит на разведку?.. Все, это уже не наша земля. Пока «нейтралка». «Ничейная» земля… Какой абсурд! Земля не может быть ничейной. Более того, она не может быть «чьей»! Она общая, наша Земля! Это мы, люди, разбежавшись от недостроенной вавилонской башни, размежевали ее границами. Это мы, люди, уничтожая друг друга, ввели термин «нейтральная» или «ничья» земля.
Однако, кто бы это ни сделал, она, эта «нейтральная», земля, существует. И мы сейчас на нее ступили. Но скоро она станет уже ИХ землей. Оставаясь все такой же, предгорно-каменистой, поросшей клочковатой травой.
Луна светит, словно прожектор. Мы сейчас видны издалека, как на ладони. По такой ночи нужно бы ползком, ползком пробираться. Однако мы не прячемся. И в этом нет бравады. Просто-напросто пришлось бы слишком долго и далеко ползти, стирая о природный щебень одежду на локтях и коленях, сдирая в кровь свою плоть. К тому же тут нет, как я уже говорил, сплошной линии фронта, а потому вполне можно было рассчитывать, что именно сегодня на нашем участке не выставили секрета.
Риск, конечно, был, и риск серьезный, что именно сейчас пулеметчик-мусульманин «насаживает» нас на мушку своего «маузера», МГ, а то и родного нашего «калашникова», которых подозрительно много вдруг оказалось у югославских мусульман и католиков-хорватов после вывода наших войск из Восточной Германии, и, призвав на помощь имя Аллаха, медленно и аккуратно, чтобы хватило одной очереди, ведет на себя указательный палец, нажимая спусковой крючок… Ну да тут уж ничего не поделаешь — война это война, как ни банально это звучит.
Тем более скоро мы достигнем ложбинки, в которую сможем нырнуть и тогда не будем уподобляться пресловутым тополям на старинной московской улице. Правда, в той ложбинке и на мину налететь куда легче.
Мины — это подлинный кошмар позиционной войны. Особенно если их, этих мин, на складах полно, доморощенные саперы наловчились их устанавливать, что делать, по большому счету, совсем нетрудно, в то время как никто не объяснил им, что такое карточки и карты минных полей и зачем они нужны.
В свое время французы, защищая свои колонии в Африке, обнесли Алжир многосоткилометровыми минными полями. А потом, когда вынуждены были ретироваться оттуда, вывезли и карты минных полей. Новые алжирские власти, столкнувшись с этой проблемой, обратились ко всему миру: помогите освободить нашу землю от мин. Французы тут как тут: нет проблем, только заплатите!.. Та история закончилась банально, как сказка про Иванушку-дурачка: нашелся добрый бескорыстный дядечка, который все сделал «запростотак». Этим дядечкой стал для Алжира Советский Союз, который прислал в помощь новому союзнику первоклассных специалистов, которые освободили их землю от мин. Но суть моего экскурса в ином: Франция выдала карты минных полей по первому требованию, что значительно облегчило работу саперов.
К сожалению, на войне такое бывает нечасто. В том же Афгане мы столько мин понатыкали без всякой системы, просто для того, чтобы натыкать… То же и тут, в Югославии. Будущим саперам работенки достанется — будь здоров. Тем более, подчеркну, смертоносные поля тут разбрасывались безо всякого плана. Ну а сколько случайных жертв они подстерегают — страшно представить. Самое страшное в любой войне — это смерть людей, которые, как это ни кощунственно звучит, становятся побочным продуктом процесса умерщвления себе подобных…
Вот она, долгожданная ложбинка. Мы ныряем в нее. Все, теперь мы уже не так видны. Здесь тень, кустарник, деревца. Когда начинаются дожди, по ее дну весело прыгает по порожкам резвенький ручеек. Сейчас сухо и мы с Радомиром именно вылизанный водой каменистый желобок именуем между собой третьей тропинкой.
…Странное свойство у лунного света. Он рельефно выделяет, снабжая глубокими беспросветными тенями, самые назначительные неровности почвы — и в то же время скрывает, не проявляет крупные ямы; он серебрит, четко очерчивает каждый листик на веточке, каждую травинку — и при этом из самого жиденького кустика создает непроницаемую для взгляда преграду.
Соваться при такой лунище в заросли, в которых может оказаться засада — на подобное способен только полный идиот. Однако мы с Радомиром не такие уж дураки, как может показаться. Мы рассуждаем иначе: муслики ведь тоже считают, что идиотов среди нас немного, а потому держать тут постоянный положай или «секрет» — слишком накладное дело. Потому мы тут ходим, хотя и нечасто, а противник тут, скорее всего, выставляет засады, но тоже нечасто. Пока, до сих пор, нам везло, мы тут ни с кем не сталкивались. Хотя и понимали, что до бесконечности это, скорее всего, не продлится. Во всяком случае, будем надеяться, что мы с противником если и столкнемся, то не сегодня, а в следующий раз… Даже нет, не так, не в следующий, а когда-нибудь в необозримо неопределенном будущем.
Наши шаги разносятся далеко, каблуки гремят неимоверно гулко. Умом понимаешь, что это не так, однако ничего не поделаешь, впечатление остается.
Сейчас ложбинка сделает крутой поворот направо, к югу. Я останавливаюсь, приседаю, выставив автомат. Сзади стихают и шаги Радомира. Не оборачиваюсь, и без того знаю, что он тоже сейчас на корточках. Воцаряется полнейшая тишина, которая нарушается лишь гулкими ударами собственного сердца. Реально, конечно, ночная тишина — понятие относительное. В ней смешались и шорох ветерка, и перекличка ночных птиц, и дребезжание цикад, и невероятное смешение других звуков… Только на них сейчас не обращаешь внимания, не замечаешь их, словно бы оставляешь за скобками. Потому что эта ночная какофония является не более чем фоном, на котором могут проявиться иные, опасные для нас звуки.
Как дикий зверь или охотничья собака, я с жадностью втягиваю ночной прохладный воздух — не принесет ли он того, что нередко выдает засаду: дух чужого тела, сигаретный дымок, аромат одеколона или же кирзовый или юфтевый «духан» новых ботинок. Нет, ничего не чувствуется, ничем посторонним не пахнет.
— Чшш, — едва слышно прошипел я.
Сзади эхом звучит такой же звук. Все в порядке. Можно идти дальше.
Согнувшись, держа автомат наизготовку, подвигаюсь вперед. Все, это уже не наша территория, случись что — здесь нам уже никто не поможет. Даже если вдруг весь наш отряд поднимется, даже если сербы помогут, даже если артиллерия поддержит — все равно в лучшем случае нашим достанутся лишь хладные трупы храбрецов, погибших за славное дело освобождение всех славян.
В такие минуты, когда понимаешь, что уже сделал этот последний шаг, окончательно отделивший тебе от товарищей, меня вдруг охватывает тоска и досада на себя. Пульсирует мысль… Даже не так, не мысль пульсирует в голове, а вскипает из души настроение, которое в двух словах и не передашь.
В конце концов, с тоской нашептывает внутренний голос, что же, лично тебе больше всех нужно это освобождение всех славян? Какого лешего ты сюда лезешь, в то время, как нормальные люди спят в блиндаже и видят третий сон? Зачем тебе лично все это нужно, если раздираемый противоречиями славянский мир сам не желает противостоять засилью американизированной культуры, если он сам, этот славянский мир, безропотно ложится под агрессивных соседей? Что, по большому счету, в мире изменится от того, что сейчас по тебе полоснет из-за куста автоматная очередь? Ведь никто нигде на белом свете даже не вспомнит, даже не всплакнет, даже не узнает никогда, где именно, за какие высокие идеалы погиб капитан в отставке Константин Васильевич Коломнин, которого тут знают только как капитана Беспросветного?..
Потом, позже, это настроение постепенно затихает, затухает, растворяется, выветривается, улетучивается, тихонько сворачивается в клубочек и притаивается в самых потайных уголках души или подсознания. Чтобы неудержимо вскипеть в следующий раз, когда я опять переступлю незримую черту, на которой обрывается возможность того, что на военном языке именуется огневой поддержкой.
…За поворотом ложбинки нас никто не поджидал. Самая опасная точка нашего маршрута оказалась пройденной без происшествий. Она и в самом деле самая опасная. Потому что самая удобная для засады, а, следовательно, и самая, как бы это сказать, «засадоопасная». Дальше напороться на специально организованный против нас положай «мусликов» вероятность значительно меньше. А значит дальше мы будем с противником на равных.
Какое-то время мы идем в полный рост. Только шуметь стараемся по возможности поменьше. Потому что теперь необходимо продвинуться как можно дальше в глубь обороны мусульман. Нужно пользоваться светом ночного светила, который теперь очень даже кстати. Когда Селена закатится за клык Черной горы, идти будет куда труднее.
Мысли соскальзывают на вопросы этимологии. Странно, но почему-то у очень многих народов имеются Черные горы. Черные горы есть у коряков и на Ямале, Черни-Врых дыбится над столицей Болгарии, над Красноярским водохранилищем также царапает небо Черная гора, Карадаг имеется в Турции и в Иране… Ну и так далее. Белых, синих или серо-буро-малиновых гор в мире куда меньше.
Вот и здесь с юго-запада торчит Црна брдо, Черная гора. Хотя на самом деле она не черная. Может, это просто историческое название, может, некогда тут что-то произошло, что запечатлелось в памяти народа, ассоциируясь со словом «черный».
А народная память — понятие уникальное. Под Ашхабадом имеется ущелье, которое называется Фирюза. Место чудное — не случайно до саморазвала страны там располагались всесоюзные курорты. В самое жаркое лето температура там была вполне приемлемая, градусов на пятнадцать ниже, чем за его пределами. Рассказывали, что когда сто лет назад проводили границу между Российской империей и Ираном, Александр Третий, с подачи умных подданных, естественно, на солидные территориальные уступки пошел, только бы оставить за собой Фирюзу.
С чего это я вдруг вспомнил это ущелье? А, вот! Почему оно так называется? Есть легенда, что будто бы некогда, когда Туркменистана еще не было как такового, сюда с юга шли захватчики. А в предгорьях Копетдага, где обитали племена пратуркмен-огузов, жила семья — семь братьев и сестра по имени Фирюза. Они обратились к соплеменникам с призывом объединиться и дать отпор пришельцам. Однако их никто не поддержал, соседи просто откочевали подальше. И тогда на бой отправились только семь братьев. Они устроили завоевателям классическую горную засаду — дождавшись, пока те втянутся в благодатную долину, обрушили на них лавину камней. Сколько погибло захватчиков, история умалчивает. Да только семеро против войска… Короче говоря, погибли все семеро. А Фирюза, пытавшаяся им помогать, сама бросилась в пропасть, чтобы не попасть в руки врагам.
До сего момента легенда еще похожа на правду. Ну а потом начинается явная сказка. За что я, должен признаться, не осуждаю туркмен. Каждому народу нужны сказки и сказочные герои. Не обязательно же народные герои должны быть такими сомнительными, как Гёр-оглы… Впрочем, я сейчас не о нем.
Сказка вот в чем. Народ, вдохновленный подвигом, объединился и разгромил врагов. А на месте, где погибли братья и сестра, вдруг выросла огромная чинара о восьми стволах. Она, эта чинара, по сей день стоит, правда, двух стволов у нее, невероятно старой, уже на хватает. Находится она на территории военного санатория, куда со всего округа направляли на реабилитацию офицеров, переболевших гепатитом. Там, к слову, некогда работал мой добрый друг, майор Саша Шнайдер, мировой мужик, хотя и Шнайдер.
…От воспоминаний меня вдруг отвлек чуть слышный свист Радомира. Занесло меня в мыслях, етить меня налево!
3
Остановил меня свистом, естественно, Радомир. Если бы меня обнаружил муслим, окликать не стал бы. Полоснул бы короткой — и все… Чушь какую-то подумал. Прав Газманов: мысли — они словно скакуны, куда занесут неведомо.
…Услышав свист, по уровню звука больше похожий на шелест травы в безветренную погоду, я тут же рефлекторно присел, привычно выставив автомат.
Это азбука разведчика — присесть и выставить автомат. Присесть — потому что в качестве мишени сразу становишься значительно меньше и есть вероятность, что тебя не заметят; в таком положении нетрудно вертеться, оглядываясь; при необходимости легче залечь; а кроме того, если уж тебя заметили, выстрел, рассчитанный на взрослого человека нормального роста, пройдет выше головы. Выставить автомат… Попробуйте найти человека, который попытается объяснить, что это делать необязательно!
Кстати, еще одна заповедь разведчика в подобной ситуации: ни в коем случае не оборачиваться на сигнал товарища, а самому искать источник опасности. Потому что обратиться к спутнику за разъяснениями — значит отвлечь и себя и его. Тем более в такой темноте, когда он даже жестом не сможет обозначит, откуда, по его мнению, может исходить опасность.
Впрочем, сейчас обращаться за такой помощью необходимости не было. Что именно насторожило Радомира, я понял сразу. Более того, увидев, тут же подосадовал на себя, что, увлеченный воспоминаниями и размышлениями, не обратил внимания на столь очевидную вещь. Правильно подмечено, что длительное благополучное течение событий расхолаживает, успокаивает. В разведке ни в коем случае нельзя отвлекаться на посторонние мысли. Но куда ж от них денешься, если лезут, проклятые, в голову, убаюкивают, растекаются мысью по древу и мчатся сизым орлом под облакы…
На данном этапе движения нам начинали хлестать по лицам ветки густо разросшегося по склонам ложбинки кустарника, который не посягал лишь на отполированное каменное ложе сухого нынче русла, по которому шли мы. Луны отсюда не видно, а потому, хотя вверху еще было достаточно светло, тут царил густой мрак. Однако сбиться с пути здесь просто невозможно — чуть более светлый среди темноты желобок ручейка, словно дорога из желтого кирпича из старой сказки, должен был привести нас куда надо.
Должен был бы привести. Но теперь это утверждение оказывалось под вопросом. Потому что впереди явственно обозначилась какая-то черная тень, которая перечеркивала наш светлый путь вперед.
В тылу врага никогда не знаешь, что лучше — когда все идет убаюкивающе спокойно или же если случаются подобные вводные. Как ни крути, а щука в озере для того и имеется, чтобы карась не дремал. Хотя, конечно, с точки зрения карася было б куда лучше, если бы этого озерного тигра не существовало в природе вовсе. Диалектика!
Нет сомнения, что эта темная тень впереди появилась тут отнюдь не случайно. Значит, приближаться к ней ни в коем случае нельзя. И, еще раз значит, снова придется выбираться на поверхность, под струящийся с неба предательски яркий лунный свет.
Радомир легонько коснулся моего плеча. Только он умел так бесшумно подбираться.
— Я посмотрю, — чуть слышно сказал он.
— Нет, — ответил я.
Он не ответил. А я между тем лихорадочно соображал. Сашка Слобода говорил про то, что муслики где-то в районе памятника сегодня шарились… Правильно, это как раз где-то в этом районе выходит.
Неспроста все это, ох неспроста. Что ж, как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Приходилось принимать решение об изменении плана разведки.
По-прежнему не оборачиваясь, я протянул руку назад, нащупал ладонь Радомира. Слегка потянул ее в выбранном направлении.
Все, теперь решение принято и спорить нельзя. И хотя я и чувствовал по легкому сопротивлению, что серб не считает мой план оптимальным, ему сегодня придется мне подчиниться. Потому что тут, перед неведомой опасностью, не до противостояния амбиций, тут не до споров. В подобной ситуации не бывает решения правильного и неправильного — тут есть только решение. Ставка — жизнь.
Как говорил Наполеон, в бою лучше лев над стадом баранов, чем баран над стадом львов.
Надо сказать, у нас с Радомиром подобные инциденты, замешанные на взаимном непонимании, происходят исключительно редко. Скорее всего, именно поэтому у нас до сих пор не было осечек. А сегодня… Сегодня все началось с его предложения изменить маршрут. И с того момента уже в который раз мы расходимся во мнении. Пусть это не выражается открыто, только суть от этого не меняется. Не к добру, ох не к добру — услужливо, но с нескрываемой ехидцей высунулся внутренний голос. Заткнись, без тебя разберемся, — обозлился я на собственное второе «эго». А обозлился потому, что боялся, что он прав.
Логичность позиции Радомира я осознал буквально с первых шагов, когда свернул с накатанной колеи. Карабкаться по склону, в кромешной тьме, сквозь непролазно-густые колючие заросли… Однако и отступать было поздно. И даже не в амбициях дело. Просто решение принято и оно должно быть доведено до завершения. Личные неудобства тут в расчет приниматься не должны. Азбука: наличие решения, пусть даже неверного, лучше, чем отсутствие решения как такового.
Сзади ломился сквозь кусты Радомир. Можно представить, что он сейчас думает обо мне. И это плохо. Потому что в подобные моменты в отношение друг друга даже малейшего раздражения быть не должно. Он потом поймет мою правоту и признает ее. Но это будет потом. А пока серб раздражен.
Кустарник оборвался внезапно. Словно ножом его край срезан. Просто здесь, на каменистом плато, ему уже не хватает влаги.
Выходить на открытое место я не стал. Присел, отдыхая и дожидаясь, пока сзади подойдет Радомир. А сам внимательно оглядывал тот небольшой сектор, который оказывался в поле зрения.
Луна уже спряталась за Црна-брдо. И теперь ярко освещенное ею звездное небо делало еще непрогляднее тьму на равнине. Нас это вполне устраивало — теперь отраженные лучи прибежища селенитов были бы союзниками мусликов.
К моему удивлению я не услышал, как приблизился Радомир — казалось, бесшумно двигаться в этом переплетении ветвей и колючек просто невозможно. Потому, когда серб легко коснулся моего плеча, я даже вздрогнул, до того это произошло неожиданно.
А он едва слышно прошелестел:
— Положай.
Как он «вычислил» позицию мусульман, как его прочувствовал, не знаю, было не до выяснений. Главное, что он его вычислил. И теперь все зависело от того, много ли на положае людей, сумеем ли мы его миновать или, напротив, уничтожить. Хотя последнее нежелательно. Поднимать тревогу во вражеском тылу нам сейчас никак не климатит.
— Где?
Наверное серб попытался указать направление рукой, но и сам понял, что я ничего увидеть не смогу. У меня в отряде был один мужик, Василий Баламут, тот мог в темноте видеть. Как сова. Не был бы он и в самом деле баламутом, цены б ему в разведке не было. Да только научиться быть развежчиком невозможно, такой талант дается от природы. Или от Бога, если хотите.
— Пив на втору, — по западноукраински дал направление Радомир.
Так у нас с ним сложилось, что направление ночью мы указываем именно таким образом. Дело в том, что «западеньцы» говорят не «половина второго», «пятнадцать минут шестого» или «без двадцати девять», по-своему: «пив на втору», «чверть на шосту» или «треть до девьятои». Мы с Радомиром условились, что направление, в котором мы идем — двенадцать часов, ну а остальные направления соответствуют циферблату.
Я повел глаза правее, но опять ничего не увидел. Что ж, доверимся инстинкту местного жителя.
— Посмотрим, — решил я.
Мы опустились на землю и поползли. Радомир ползком перемещался как ящерица, не тревожа ни одного камушка. Тут я с ним тягаться никак не мог. Во всяком случае, сам себе я напоминал ползущего бегемота.
Достигнув края лощины, я приостановился. И только теперь увидел то, о чем предупредил Радомир. Передо мной оказался бруствер, небрежно выложенный из камней. Куда он был направлен, как сориентирован, в темноте было не разобрать. Да это было и не столь важно. Куда важнее было иное: решить, как теперь поступить. Вариантов было только два: попытаться вырезать положай или, опять же, попытаться миновать его потихоньку. По всем правилам надо бы проползти потихоньку, чтобы не проявить своего присутствия в тылу противника. Но с другой стороны, если нам удастся задуманное, возвращаться мы будем, не исключено, с шумом, а тогда оставленная на пути отхода позиция вполне может преградить путь отхода. Да и та тень, что перечеркнула нам путь по оврагу, здорово смущала. Не могло так совпасть случайно: и тень, и вражеский положай.
Из-за бруствера послышался негромкий говор. Не люблю я, не научился убивать людей, которые не ожидают нападения. Однако делать это иногда приходится. Война есть война и законы ее суровы: или ты, или тебя. Tercium non datur, как говорили древние, третьего не дано.
Вытянув в сторону руку, я опять нащупал ладонь напарника. Слегка пожал ее. Он ответил тем же. Решено: нападаем!
Автомат оставляю на земле. Расстегиваю кобуру пистолета, слегка тяну на себя ремешок, чтобы удобнее было бы при необходимости ухватиться за рукоятку — правда, появляется риск, что он выпадет при борьбе, но зато и заминки не будет, когда потребуется. Извлекаю из ножен кинжал. Беру его в зубы. Снова вытягиваю руку. Трижды, с паузами, ударяю по подставленной ладони. После третьего удара ровно через десять секунд нужно броситься через бруствер. Главное — внезапность, взаимопонимание и синхронность действий. Если кто-то из тех, кто нас поджидает на положае, успеет схватиться за оружие, можно считать, что разведка провалена, а мы, скорее всего, уже покойники. Ну а в плен муслимам лучше не попадать. Самому себе разворотить живот гранатой — это райское блаженство по сравнению с тем, что они тогда со мной сделают.
«Раз — и, два — и, три — и…» Сколько их? Ночью вряд ли тут будет больше трех человек.
Да и то, находясь в своем тылу, маловероятно, что они все будут бодрствовать. Чапаева проспали, и это классический образец не только не только из нашей истории. Но кто-то ведь бубнит безостановочно — значит, по меньшей мере двое мусликов не спят.
«Девять — и… Десять!» Судя по легкому шуму, мы с Радомиром бросаемся одновременно. Я перемахиваю через бруствер, сжимая кинжал в руке. На решение — доля мгновения. Тут на разум полагаться — последнее дело, тут все решают первобытные инстинкты охотника на себе подобного соперника по ареалу обитания.
Кто-то лежит у тускло отблескивающего пулемета, выставленного в амбразуру. Мгновенный короткий удар ему кинжалом в шею, поглубже. Рядом слышится булькающее хаканье — это ударил Радомир. Чуть дальше кто-то шевельнулся. Мой напарник бросается туда, доносится легкий шум борьбы. Но я туда не смотрю и не лезу, мы вдвоем только мешаться друг другу будем, толкаться. Тем более, левее от меня видится еще что-то, похожее на человеческую фигурку. Фигурку маленькую, как будто даже детскую.
И я метнулся туда. Белеет лицо, раскрываются глаза. Я падаю на человека и зажимаю не успевшему со сна сообразить человеку руки за спину. Скручиваю, но не убиваю. Так поступать нельзя, это нарушение элементарных заповедей разведчика. В живых можно кого-то оставлять только в том случае, если на сто процентов убежден, что больше ни одного живого врага тут не осталось… Однако и убивать спящего…
Короче говоря, я только приставил сочащийся чужой кровью кинжал к шее пленника. Теперь все зависит от того, есть ли кто-то живой еще на положае. Если есть, меня сейчас убить не составляет труда. И Радомира я подведу, случись что, его кровь будет на моей совести.
И все же, повторюсь, я не могу просто так зарезать спящего. Вернее, не совсем так, могу, конечно. Но только мне показалось, мне хотелось верить, что тут больше никого нет, а значит можно не проливать лишнюю кровь. Тем более, что — это главное — мне показалось, что это ребенок.
Мусульмане в своем фанатизме нередко используют детей для ведения войны. Бросая их в бой, нередко против танков или тяжелой артиллерии, мулла каждому ребенку, благословляя его на смерть, выдает пластмассовый ключик от рая на случай гибели. Рассказывают, что Илия Изетбегович, глава мусульман Боснии и Герцеговины, в молодости служил в гитлеровской армии, в СС, и занимался, в частности, подготовкой гитлерюгенд. Правда это или нет, не знаю, но то, что детишки с ключиками от рая встречались нам среди убитых мусульман, это факт. Сам видел.
Короче говоря, мне показалось, что это мальчонка. И хотя такие ребятишки отличались фанатической стойкостью в бою и, по рассказам, крайней жестокостью по отношению к пленным, убить ребенка я не мог.
Вокруг была тишина. Скрученный мной человек не пытался ни кричать, ни сопротивляться. Тонкая рука, которую я выкрутил ему за спину и подогнул к самому затылку, дрожала от напряжения. Рот был открыт, причем так широко, что у меня два пальца провалились в него и прижались к зубам.
— Все? — послышался тихий голос Радомира.
— Я скрутил одного, — тоже негромко ответил я.
Серб придвинулся ко мне. Судя по чуть слышному щелчку, он вогнал кинжал в ножны.
— Да? Напрасно, — прокомментировал он.
Вспыхнул чуть заметный лучик фонарика. Он торопливо пробежал по положаю.
Труп у пулемета. По камням уже широко растеклась лужа крови. Рядом скорчился другой человек, неестественно закинув голову к звездному небу; горло его широко и глубоко перерезано. Чуть в стороне лежит на животе еще один труп, крови на его темной одежде не видно, наверное Радомир убил его ударом в спину. Больше на положае никого нет. И лучик фонарика останавливается на моем пленнике.
— А, ипичку твою мать! — ругается Радомир.
Не понял. Что его могло так удивить?
— Пикнешь — убью! — шепчу я по-русски в ухо пленнику. — Понял?
Человек покорно, насколько позволяет заломленная к затылку рука, торопливо кивает. Я отпускаю ему рот, опять шепчу:
— Вторую руку!
Теперь остается их только связать. Что я и делаю.
Рывком переворачиваю его на спину. Лучик фонарика падает на широко раскрытые от ужаса глаза.
— Ну ни хрена себе! — не выдерживаю и я.
Право слово, есть от чего удивиться.
4
На меня во все глаза смотрела… девушка. Совсем еще молоденькая девушка, насколько можно было определить ее возраст в тенюсеньком лучике фонарика.
Да, под счастливой звездой ты родилась, подруга! Что меня удержало от того, чтобы не воткнуть жестокую сталь кинжала и в твою, созданную для жарких поцелуев, нежную шейку? Прямо вот в это беленькое, в темных прожилочках, горлышко…
— Пикнешь — зарежу! — пообещал я еще раз, вытирая окровавленное лезвие ножа тряпочкой, по несколько штук которых специально для таких целей всегда носил в кармане.
Правда, теперь я эти слова сказал просто от растерянности, чтобы хоть что-то сказать.
— Напрасно ты ее пожалел, — повторился и Радомир. — Что мы теперь с ней делать будем?
Спросил бы что полегче! Я и сам теперь думал об этом же. Но не добивать же теперь! Сразу, с наскока, в бою, убить можно. А ДОБИТЬ… Я так не умею. Как ни крути, а Радомир прав.
Ладно, что сделано, то сделано! Будем исходить из сложившейся реальности.
Я наклонился, взял ее за одежду на груди, рывком приподнял, усадил, привалив связанными за спиной руками к камням.
— Ты меня понимаешь? — спросил я ее на своем ломанном сербском.
— Да, — так же тихо ответила мусульманка.
Ну что ж, и это уже хорошо. Хотя с другой стороны, так оно и должно быть, наше взаимопонимание вполне объяснимо и понятно.
В принципе такой нации как мусульмане в природе не существует. В том числе и в Югославии. Мусульмане как таковые — это, естественно, всего лишь приверженцы религии, у которых нет бога кроме Аллаха, у которого, соответственно, только один пророк по имени Магомет. Мусульмане, как этническое образование, это изобретение Иосипа Броз Тито, югославского героя Второй мировой войны, а затем коммунистического диктатора, балканского аналога Иосифа Сталина или Мао Дзе-дуна. Именно маршал Тито в свое время придумал сербов православного христианского вероисповедания оставить собственно сербами, а тех же сербов, только поклоняющихся Аллаху и Магомету, в документах окрестил мусульманами. Мусульманами, получилось, не в религиозном смысле, а мусульманами в смысле вроде как этническом. Глупость, конечно, несусветная. Ну да так уже сделано. И теперь, в данной войне, этих сербов-магометан и называли муслимами или мусликами.
Таким образом язык у сербов и мусульман практически один и тот же, хотя, конечно, некоторые лингвистические различия имеются. Впрочем, во всей Югославии в старых ее границах, до распада, люди друг друга понимали без особых проблем — от прогермански настроенной Словении, идеологические лидеры которой почему-то патологически желают, чтобы коренной народ республики считался альпийским народом, до Македонии, немалая часть народа которой не прочь присоединиться к Греции, где, как они, вслед за известным литературным персонажем, считают, все есть, Черногории с ее оригинальной версией православия, и Косово, где проживает немалая часть этнических албанцев.
Хорошее, все-таки, что ни говори, дело, когда у разных народов есть некий универсальный язык, облегчающий взаимопонимание. Нынешняя повальная англизация культуры в ее американизированной форме положение не спасает. Равно как и попытки создания некого искусственного всеобщего языка, типа эсперанто или воляпюк… Право же жаль, что мы, славяне, словно ветви гигантского дерева, слишком далеко отошли друг от друга и потеряли тот единый праславянский язык, который позволял нашим предкам понимать друг друга на гигантской территории от верховьев Волги до Дании и от Баренцева моря до Адриатики…
— Тебя как зовут? — начал я допрос, присаживаясь возле девушки на корточки.
— Мириам, — тихо ответила она.
Мириам. Красиво. Что-то библейское. Или просто производное от Марии?
— Слушай меня внимательно, Мириам, — серьезно заговорил я. — Если ты не будешь дергаться, мы тебе ничего плохого не сделаем. Обещаю. Ну а если попытаешься бежать или кричать, я буду вынужден тебя застрелить.
Застрелить!.. Чуть не забыл. Ведь у меня автомат остался там, за бруствером!
— Я не буду кричать, — тихо повторила Мириам.
Очень хочется в это верить. Потому что и в самом деле убивать это красивое юное создание не хотелось. Не просто не хотелось — я не смог бы это сделать. Правда, тут же поправил я сам себя, Радомир сделает это без малейших колебаний.
Или все-таки тоже не смог бы сделать?
— Вы здесь были одни или поблизости есть еще положаи? — задал я главный в данной ситуации вопрос.
— Недалеко есть еще один положай, там находится наш взвод, — быстро ответила девушка.
Скорее всего, она соврала. Уж слишком торопливо она это сказала. И неестественно преданно выглядели в это время ее глаза. Соврала… Только в чем соврала — что неподалеку находится целый взвод или же в том, что больше поблизости вообще никого нет?
— Мириам, не надо обманывать, — я постарался, чтобы слова, несмотря на то, что я говорил совсем негромко, звучали как можно грознее. — Отвечай еще раз: как далеко отсюда находятся ваши?
Так и есть, не ошибся. Ее глаза, не выдержав, вильнули в сторону.
— Только не ври! — вмешался Радомир и грубо выругался по-сербски.
Я почувствовал, как девушка вздрогнула от его тихого голоса, словно от окрика. Наверное, она уже поняла, что от него угроза исходит большая, чем от меня. Добрый и злой следователь… Классика!
— Мы тут были только четверо, — почти шепотом проговорила девушка.
Это было бы очень хорошо. Это было бы слишком хорошо для нас. Невероятно хорошо.
Поэтому я переспросил:
— Это правда?
Спрашивая, я взял девушку за подбородок, зафиксировал ее лицо, следя за ее зрачками.
— Да, правда!
Что ж, хочется в это верить. Но… Хочется верить, но не мешало бы проверить.
— Я сейчас подам голос, — сообщил девушке. — И если хоть кто-нибудь откликнется, тебе несдобровать.
Мусульмане на войне отличаются крайним фанатизмом и фатализмом. И тем не менее мне пришлось ей верить — потому что выхода другого у нас не было.
Я легонько, едва ли не нежно, приставил к шейке Мириам острие своего кинжала. Она засучила по твердому грунту ботинками, попыталась отодвинуться от меня, вжаться в камень. Ей это не удалось, естественно, только острый кончик кинжала чуть сильнее вдавился в ее нежную кожу. Рядом с гладким бугорком горла, там, где в глубине мышц и жил укрывается полнокровная сонная артерия.
— Ну так что? — спросил я еще раз. — Есть кто из ваших поблизости еще?
— Нет, — сдавленно проговорила она. — Никого нет.
Ну что ж… Надо рисковать.
— Пошуми! — велел я Радомиру.
Вполне естественно, что он это сделает более натурально, чем я со своим акцентом.
Серб что-то прокричал во тьму. Но прокричал негромко, чтобы его голос разнесся не слишком далеко над ночной сонной равниной. Ответом была тишина. Похоже, Мириам не врала. Что ж, это хорошо. Можно продолжать допрос.
Я убрал кинжал от ее горла, воткнул в ножны. Достал свой фонарик, осветил положай, оглядывая его более внимательно. Он был приспособолен для ведения боя при круговой обороне, правда, со стороны сербских позиций бруствер выложен выше и мощнее, чем в сторону собственного тыла.
Надо сказать, оборудовать огневую позицию тут — каторжный труд. Земля каменистая, тяжелая. И когда видишь аккуратные ухоженные крестьянские поля, диву даешься, сколько же труда, причем, труда не одного поколения, стоило превратить эту каменистую почву в благодатную ниву!
Вспомнилось вдруг совсем иное. Вблизи Ашхабада некогда организовали полигон. Потом город надвинулся на него и встала проблема о том, что обучать солдат придется в другом месте. Выбрали место в предгорье, в районе, если не ошибаюсь, села Первомайского. Несколько лет солдаты на направлениях стрельбы собирали камни и выносили их с территории полигона. А когда началась «горбостройка», местные жители предъявили претензии: смотрите, какие изумительные земли вояки у нас оттяпали!..
Впрочем, я опять не о том. На плато, где находились мы с пленницей, земледельческой благодатью, как говорится, и не пахло. Положай был оборудован по мере возможности с претензией на позицию полного профиля — заглублен почти на метр, вокруг, как я уже говорил, мощный бруствер с амбразурами, посередине укрытые от непогоды ящики…
— Зачем вам тут такой бастион? — спросил я у Мириам. — Вы что, ожидаете на участке прорыва сербов?
Спросил уже не шепотом, но вместе с тем стараясь, чтобы голос мой слишком далеко слышан не был.
Девушка отвечала покорно. Скорее всего, она была сломлена, а потому нужно было пользоваться моментом. Оправится от растерянности — опять начнет врать.
— Наше командование считает, что где-то здесь в наш тыл проникают диверсионные группы и разведчики сербов, — сообщила девушка.
— Какая догадливость, — саркастически обронил Радомир.
Действительно, как будто трудно это предугадать. Наша ложбинка словно специально для этого природой создана.
— Ну и что?
Мириам молчала.
— Мириам, я жду, — тихо сказал я. — Ты же видишь, что мы с тобой разговариваем нормально. Не заставляй нас принимать крутые меры.
Она опять не ответила. Я не собирался ей делать ничего плохого. И тем не менее, нужно было ускорять процесс.
— У нас нет времени, Мириам.
Опасаясь, что после этих слов она вздумает кричать, я быстро прижал ей ладонь к лицу. И тут же мне в палец впились ее остренькие зубки.
Первая мысль: значит, я среагировал вовремя и в самый раз зажал ей рот. Вторая мысль: как же больно, когда женщина кусается. Хорошо еще, что я был в перчатках, которые она не смогла прокусить.
Второй, свободной, рукой я схватил и сжал ей горло. Девушка затрепетала, задрожала вся, задергалась, пытаясь освободиться. Да куда там — руки у нее скручены на совесть… Как там, у Пушкина? Крепко скручены ей локти, попадется сербам в когти…
Теперь она уже не кусалась, жадно пыталась всосать ртом или носом воздух, да только как это сделать, сквозь две мужские руки — сжавшую горло и зажавшую рот?
— Ты нам не нужна, — понимая, что она мало что понимает, тем не менее постарался я ее успокоить. — Тут и останешься, если смерти хочешь.
Мириам смерти не хотела. Об этом говорили выпученные в ужасе глаза. Я чуть отпустил руку, она жадно глотнула ночной прохладный воздух, поперхнулась, попыталась закашляться. Однако я не дал, опять прижал перчатку.
— Ипичку матери! — выругался Радомир. — Кончить ее надо было!
Послышался шорох его башмаков по камням. Он удалился в темноту.
— Ну что, еще дергаться будешь?
Мириам затрясла головой. Пришлось отпустить. Потом ждать, пока она отдышится, судорожно скорчившись и хватая воздух широко открытым ртом.
— Короче говоря, Мириам, слушай меня внимательно! — сказал я жестко. — Ты отвечаешь на вопросы четко и ясно. В этом случае остаешься в живых и ничего плохого тебе никто не сделает. Если нет… В общем, сама понимаешь.
Девушка меня тоскливо перебила:
— Вы все равно меня убьете. Сначала… — она произнесла какое-то слово, которое я не понял, но о значении которого догадался, — а потом убьете.
Сразу — убил бы. И должен был бы сам убить. А так, пленного, да к тому же женщину…
— Я тебе даю слово русского офицера, — твердо сказал я, — что никто тебе ничего не сделает, если ты будешь меня слушаться и ответишь на все вопросы.
От удивления она даже жадно раскрытый рот закрыть забыла.
— Ты русо воевода?
— А ты что, по разговору не поняла, что я не серб?
Спросил тоже! Она с Аллахом общаться уже собирается, а я у нее интересуюсь, что она подумала, услышав мою неправильную речь!
— Короче, лирику в сторону! Четко и конкретно: зачем здесь оборудовали этот положай?
Вновь раздался хруст гравия под ботинками Радомира. Он принес автоматы. Опустил их рядом со мной и присел рядом. Его появление напугало девушку и она заговорила торопливо, глотая слова и забывая произносить и без того нечастные гласные. Я понимал далеко не все в ее торопливой речи, однако Станич молчал, слушал внимательно, из чего я мог сделать вывод, что он понимает все.
— Добро, — наконец сказал он. Потом повернулся ко мне: — Ты все понял?
Я сначала виновато улыбнулся и развел руками. Потом, поняв, что он меня не видит, ответил:
— Нет, не все. Повтори еще раз.
Суть рассказа Мириам состояла в следующем. Командование мусульман узнало, что где-то на нашем участке готовится наступление сербов. Одним из основополагающих требований подготовки наступления является активизация разведки и, нередко связанные с нею диверсионные действия. Занимаются этим чаще всего наиболее подготовленные подразделения. Исходя из этих посылок, был разработан следующий план. На наиболее вероятных направлениях, где могли появиться сербские разведывательно-диверсионные группы, было подготовлено то, что на военном языке именуется огневыми засадами.
Та тень, перечеркнувшая тропу по дну лощины и заставившая нас сменить направление движения, было, по словам Мириам, самым обыкновенным бревном. Его повалили таким образом, чтобы под ним оставалось достаточно места, чтобы без особых проблем пролез зверек средних размеров, которых тут вполне хватает, в то время как человеку было бы удобнее либо перелезть через него, либо обойти по зарослям. Таким образом достигалась гарантированная внезапность. Животное не могло потревожить тонкую металлическую жилочку растяжки, протянутой поверху ствола. Вела же эта тонюсенькая проволочка к могучей МОН-200, нацеленной вдоль ложбинки. МОН — значит «мина осколочная направленного действия»; 200 — значит ее «поражающий элемент», сотни крохотных шариков, будут выбиты тротиловым зарядом и не оставят ничего живого в секторе пятьдесят градусов на протяжении двухсот метров.
Если бы Радомир попытался, как он хотел сделать, обследовать бревно, нас бы тут уже не было. Потому что срабатывает взрыватель при нагрузке всего-то пять килограммов. Как говорится, на блошиный чих.
Но в жизни всякое может случиться, проволочку могла потревожить, скажем, птичка или неутомимый охотник горностай. На этот-то случай и организовали тут положай, своеобразный форт с небольшим гарнизоном. Случись внизу, в ложбинке, взрыв, они должны были бы определить, в какой мере он случаен и, в соответствии с ситуацией, либо принять бой и вызвать подкрепление, либо установить новую «монку», либо отходить.
Такая диспозиция и в самом деле все объясняла: и то, что положай находится в отрыве от основных сил, и малочисленность его «гарнизона», и то, что он несколько отстранен от самого оврага — вдруг подвергшийся неожиданному нападению (нападу, по-сербски) диверсионный отряд начнет стрелять во все стороны без разбору…
— А как они должна были связываться со своими? — быстро спросил я.
— У них есть радиостанция.
Радиостанция… Что мы с этого можем иметь?
— Как у них поддерживается связь? В смысле, с какой периодичностью?
Радомир опять заговорил с девушкой. А я продолжал лихорадочно соображать. Радиостанция… Мины… Боеприпасы… Любопытный наклевывается карамболь.
Право же, было бы жаль просто так взорвать этот положай, не придумав и не совершив какую-нибудь каверзу.
— Сеансы связи каждый час или по мере необходимости, — сообщил Станич.
Ну что ж… Нас это устраивает. Начнем строить каверзу.
5
Мы уходили с захваченного мусульманского положая уже под самое утро. Вообще-то изначально планировалось, что углубимся в тыл противнику куда глубже и возвращаться должны были только на следующую ночь, проведя день где-нибудь в укромном уголке. Однако из-за происшедших событий первоначальный замысел пришлось менять. Тем более, что мы заполучили столь любопытную информацию о планах мусульман. А значит теперь до своих позиций придется добираться уже засветло. Правда, утешало то, что в подобном изменении разведки имелся и утешающий фактор: если получится все, как мы задумали, эффект от вылазки получится классный.
…Мириам пришлось вести с собой. Радомир, правда, по этому поводу поворчал, хотя и не слишком напористо. Я его успел неплохо узнать и льстил себя уверенностью, что понимал его ворчание правильно: серб только изображал, правда, довольно успешно и правдоподобно, безжалостного головореза, в то время как на самом деле и он тоже не смог бы теперь прирезать этого полуребенка вот так просто. Но вместе с тем и отпускать ее было нельзя.
Так мы и шли по белеющему дну ложбинки, по которому несколько часов назад шагали в противоположном направлении. Я бодро шел впереди, за мной брела Мириам, которую я привязал к себе длинным прочным плетеным пластиковым шнуром, замыкал шествие понурый Радомир.
Еще на положае, перед тем, как развязать руки девушке, я ее поднял, поставил на ноги и тщательно обыскал. Надо признаться, чувствовал себя в эти мгновения весьма скверно. Прекрасно понимал, как нелепо и неблаговидно выгляжу со стороны, представлял, насколько противно ей ощущать на себе мои ощупывающие ее тело руки. Тем более, что и самому не так уж давно приходилось испытывать подобную процедуру неоднократно. Но меня хоть обыскивали мужчины. Что испытывает женщина в подобные мгновения, даже представить себе трудно.
Однако никуда не денешься, обыск необходим. Слишком часты случаи, когда женщины-мусульманки, как древние старухи, так и девочки-подростки, подрывая себя и православного солдата заранее припасенной гранатой, рассчитывая за это попасть в рай, принеся с собой на тот свет свеженькую душу неверного серба-гяура. Так же шли крестоносцы в свои безнадежные походы «за гроб Господень», понять которых нам, хилым потомкам, попросту не дано. Да, у нас, европейцев, это происходило в раннее Средневековье. У них, у мусликов, наше христианское средневековье в самом разгаре — по мусульманскому календарю сейчас только четырнадцатый век хиджры.
«Хиджра» — значит «исход». Слово нейтральное и даже как будто возвышенное. На самом же деле исламское летоисчисление ведет свой отсчет от бегства. Когда Магомет начал проповедовать свой вариант религии, местные священники его, мягко говоря, не поняли. Встречаться с новым Каифой, слышать и в свой адрес улюлюканье толпы «Распни его!» посланцу Аллаха не хотелось. И ему пришлось бежать. Это-то бегство из Медины и является отправной точкой, с которой ведет свой отсчет ислам.
…Короче говоря, я ее обыскал, причем, довольно тщательно. Пытался внушить себе, что передо мной, откинув голову назад и закрыв глаза, покорно стоит просто бесполый человек. Вернее, чуть не так, попытался считать, что это абстрактный человек вражеского пола, и что я ничего такого уж безнравственного не совершаю. Убеждал. Но получалось это с трудом. Под темным комбинезоном явственно прощупывалось ладное по-девичьи крепкое, юное девичье тело, и убедить себя в его бесполости было просто невозможно. И руки сами собой, невольно задерживались не там где надо… Или все-таки именно там?
— Извини, — я чувствовал, что даже покраснел до пота. — Но я должен был убедиться, что ты не обмотала себя детонирующим шнуром или «поясом смертника»…
Она ничего не ответила. Да и что она могла ответить? Да и что я сам бы ответил в подобном случае, если бы меня самого тщательно и бесцеремонно ощупывали женщины?
— Повернись!
Мириам поняла о чем речь, с готовностью подставила спутанные за спиной кисти рук. Возиться с распутыванием узлов не стал, просто резанул веревку ножом. Девушка даже застонала от боли, когда к ее ладошкам по освобожденным от пут жилочкам хлынули потоки свежей, богатой кислородом крови.
Пока она не опомнилась, я продолжил принимать меры, чтобы она не смогла сбежать. Которые, к слову, я должен был предпринять чуть раньше, когда она еще не имела возможности даже пикнуть.
В каком-то фильме был эпизод, когда солдата, который должен был отконвоировать пленного гитлеровца в штаб, предупреждают:
— Гляди: это СС!
На что тот хитро ответил:
— На их СС у нас есть свой ССС.
— Что за ССС? — удивился командир.
— Это значит «старый солдатский способ».
Старый солдатский способ состоял в том, что конвоирующий у конвоированного обрезал пуговицы на брюках и тот вынужден был всю дорогу идти и поддерживать руками штаны. Действительно, просто и надежно.
Я использовал этот способ уже не раз. Правда, только в отношение мужчин. Но теперь, рассудил, это тоже будет нелишне. Во всяком случае, идти она будет теперь с нами, как привязанная… Скаламбурил, называется!.. Она же и будет привязанная!
В общем, пока Мириам растирала руками запястья и тихо постанывала, едва ли не плакала от покалывания в отходящих от пут затекших руках, я ухватился за пряжку ее мягкого матерчатого пояса и быстро расстегнул его.
— Шта си?.. — попыталась было она отпрянуть. — Что ты?
— Ништа, — как сумел ответил я. — Ничего.
Однако пояс уже расстегнул и рывком выдернул его из петель комбинезонных брюк. Начал сворачивать его в аккуратный рулончик.
— Шта?..
Похоже, теперь она уже ждала от нас самого для нее, мусульманки, страшного — что ей придется отдаться необрезанному! И что она, если, конечно, останется в живых, будет вынуждена своему будущему мужу (естественно, правоверному мусульманину) объяснять, почему она в его дом вошла «не девочкой».
— Сказал же тебе: не переживай! — поняв все это, попытался я ее успокоить.
Девушка пятилась.
— Ты же обещал, русо! — прошептала она.
Наверное, таким же тоном, не возмущенным, не оскорбленным в лучших чувствах, не молящим — искренне изумленным, обращался к своему убийце Бруту Юлий Цезарь.
— Да не собираюсь я с тобой ничего делать! — с досадой сказал я.
Должен признаться, сказал другие слова — более точные, но и не столь корректные.
Послышался голос Радомира, который возился в дальнем углу положая, воплощая мою задумку в жизнь.
— Что там у вас? — спросил он с явным недовольством в голосе.
— Ништа, — и ему ответил я дежурно. — Ничего.
Легко перехватил руку Мириам, продел в петлю брюк прочный шнур, входящий в мой личный комплект разведчика, обхватил ее за талию и затянул узел. Девушка не сопротивлялась. Теперь она, сделал я самонадеянный вывод, побредет за мной куда угодно. Но дополнительная страховочка все-таки не помешает. А потому я ухватился-таки за верхнюю пуговицу на ее поясе и взмахнул своим отполированным клинком. Мириам даже пикнть не успела, только сразу схватилась за одежду.
— Теперь-то ты никогда от меня не убежишь, — самодовольно усмехнулся я.
Только потом сообразил, что мои слова сквозили ненужной в данной ситуации двусмысленности…
И вот теперь мы быстро шагали по дну хорошо знакомой ложбинки и думали каждый о своем.
Итак, мы, два разведчика армии Республики Сербской, возвращаемся с «языком» после выполнения ответственной задачи. Звучит красиво. Однако можно ли считать, что мы и в самом деле выполнили задачу разведки? Однозначного ответа, честно сказал я сам себе, нет. Потому постараемся суммировать плюсы и минусы.
Итак, плюсы. Благодаря нашей вылазе, теперь доподлинно известно, что муслики знают о нашем готовящемся наступлении, причем, ожидают его именно на нашем участке фронта. Вывод о том, что в сербском штабе действует агент мусульман, вполне логичен. Однако это пусть они сами между собой разбираются. Куда актуальнее для нас сведения о том, что на нашем участке усилены меры против разведывательной и диверсионной деятельности. Что еще? Установлено место засады. Убито трое противников. Если сработает наша задумка, по меньшей мере еще один обрезант, а в идеальном случае и не один, сегодня утром отправится подыскивать себе местечко в раю… Захвачен «язык»… Все? Кажется, все.
Теперь минусы. Достаточно глубоко в тыл мы проникнуть не смогли. Кардинально новых сведений о дислокации и передислокации мусульманских войск не добыли. «Язык» захвачен, если честно говорить, довольно хиленький… Надо признать, негусто.
…«Язык», невольно перекинулась нить моих мыслей. Солдат армии противника. Это официально. А на деле всего лишь девушка-мусульманка по имени Мириам. Совсем еще юное наивное создание.
Что с ней теперь будет? Что ее ждет впереди? Вон она бредет сзади меня, дергая веревку, поддергивая непрочно сидящие на бедрах штаны… На бедрах… На аппетитных женских бедрах… Стоп! Об этом не думать!
Дальнейшую перспективу ее ближайшей жизни просчитать было не так уж сложно. Сейчас я приведу ее в расположение своего подразделения, которое именуется тут Русским добровольческим отрядом. Сдам, как то и положено, пленницу командиру. Ее начнут допрашивать. А я со спокойной совестью отправлюсь отсыпаться от ночных трудов.
Со спокойной ли?.. С моей подачи Мириам поведут в штаб сербов. Там ее будут допрашивать, уже строже, может быть даже, что называется, «с пристрастием». И это, по большому счету, правильно, потому что она, Мириам, в данном случае не красивая девушка, а солдат армии противника, потому что она, говоря без экивоков, враг. И тут не до сантиментов, тут не «зарница», тут настоящая этнически-религиозная война… А потом ее, по всей видимости, расстреляют. И будет это вот юное прелестное тело валяться где-нибудь в пропасти, на краю которой в него всадят десяток пуль, и будут на нем сидеть вороны и другие стервятники, глодать, обламывая зубы на попадающихся пулях, собаки и лисицы, потому что убивать ее будут на краю обрыва, чтобы не возиться с похоронами.
…Ну а до этого ее, не исключено, изнасилуют. Даже не изнасилуют, потому что само слово «насилие» может относиться только к свободному человеку. Ее, Мириам, просто используют как самку или приспособление для удовлетворения мужской похоти, как какую-нибудь резиновую куклу. И, вполне возможно, не один раз. И, не исключено, даже пустят по кругу. Быть может, начнут это делать еще наши. Изголодавшиеся по женскому телу русские парни — неважно кто именно, казаки или мужики. Оправдать это нельзя — понять же вполне возможно. Потому что в данном случае и в самом деле неважно, откуда у них растут исторические корни, важно, что они истосковались по живой девичьей плоти. Причем, это не сербская девушка, которая может безбоязненно ходить среди нас в любое время суток совершенно одна, только потому что она православная сербка, потому что мы приехали помогать ее отцам и братьям. А Мириам — это солдат чужой армии, хотя и женского пола, а потому на нее не распространяются законы морали. Тем более, что ее, скорее всего, уже завтра расстреляют. Так чего же с ней церемониться, раз уж она уже, фактически, не значится в списках живущих на земле?
Так что ее, вполне возможно, насиловать (или точнее сказать «иметь») начнут еще наши. Само по себе это противно. Осознавать неотвратимость этого еще противнее. Будто сам участвуешь в изнасиловании… Мерзко.
Но ведь и этих людей, по большому счету, понять можно. Каждый из них рискует жизнью, понимает, что в любую минуту может прилететь невесть откуда дурная пуля и оборвать ту незримую пуповину, которая связывает бренную плоть с эфемерной душой, постичь которую никому еще не удавалось. А тут — женщина, ЗА КОТОРУЮ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! Причем, выпустят в тебя эту пулю ее братья, ее единоверцы, ее соратники. И, попадись каждый из нас к ним в руки, они бы с нами тоже не церемонились. Пытать или издеваться над пленным среди наших ребят стали бы немногие — удовлетворить свою похоть хотят ВСЕ.
Любая война предполагает, а в данном случае главное — оправдывает, многочисленные факты изнасилования. Бороться с этим необходимо, изначально признавая при этом, что это бесперспективно.
…Впрочем, может быть, Мириам и не расстреляют. Маловероятно, но допустим, что ее даже не изнасилуют. В конце концов, среди сербов, в том числе и среди командования, немало порядочных людей, которые не позволят «пустить ее по кругу». Допустим самый благоприятный для нее вариант. И тем не менее, будущее ее вряд ли может стать лучезарным. Ибо она является военнопленной, захваченной на боевой позиции. Я не встречал тут концлагерей, где содержатся пленные мусульмане, хотя о существовании таких лагерей немало кричит антисербская пресса. Хорошо это или плохо, что таких лагерей нет? Многие наши считают, что это хорошо, свидетельствует о гуманизме руководства сербов. Само по себе это и впрямь прекрасно. Вернее, выглядит так. Потому что я иной раз думаю: если нет лагерей, куда же сербы девают пленных? Где-то же их нужно содержать…
Ладно, хрен с ними, с глобальными проблемами, они меня не особенно касаются.
Если бы мы захватили и сейчас вели с собой мужчину любого возраста, меня сомнения не терзали бы. Война всегда, испокон веков, была мужским занятием. В ней всегда одни побеждали, другие проигрывали, одни погибали, другие попадали в плен… Это противоестественно с точки зрения природы, с точки зрения морали. Но, к сожалению, естественно с точки зрения человеческого существа.
Ну а чем передо мной лично виновата Мириам, за что конкретно я ее сейчас отдам на поругание и растерзание? Только за то, что она родилась в мусульманской семье? Значит, в ее глазах я враг только потому, что родился в России? Глупо, нелогично, непонятно. Ведь житель острова Фату-хива для нее лично, для Мириам, не является врагом всего лишь потому, что он поклоняется какому-то своему богу, к слову, кровожадному богу, требующему человеческих жертвоприношений, а не суровому, но в принципе покладистому, Аллаху, его пророку Магомету и двоюродному брату Магомета хезрету Али.
Наверное, это извечные вопросы, на которые ответить еще не удавалось никому за всю историю человечества. Они подтверждают только одно: так называемые «религиозные» войны ничем не отличаются от войн обыкновенно-человекоубийственных, только под них подводится иное идеологическое обоснование. Дают же подобные обоснования сволочи от политики, которые отсиживаются в своих рейхстагах, кремлях, белах домах, версалях и других неплохо приспособоленных для проживания апартаментах, предоставляя высокое право убивать и умирать своим подданным.
Та же Мириам могла бы убить тебя, — слабо попытался вмешаться в мой самомонолог внутренний голос. Сложись все иначе, попался бы ты ей на мушку — и был бы уже в аду, потому как нехристям в раю делать нечего. А если бы ты попал в руки ее братьям-обрезантам, они бы тебе тоже сделали обрезание, только отнюдь не такое щадящее, как себе, а, как говорится в известном анекдоте, по самую шею.
Он был прав, мой нежно лелеемый внутренний голос. А потому я резко остановился.
Мириам среагировать не успела, едва не налетела на меня, остановилась буквально за моей спиной. Я даже почувствовал на затылке ее неровное от быстрой ходьбы дыхание. Радомир, я не сомневался, уловил мой порыв остановиться едва ли не на рефлекторном уровне. Скорее всего, он уже сидит на корточках, настороженно поводя стволом автомата из стороны в сторону.
Однако я присаживаться не стал, хотя и подгибала колени стародавняя привычка.
Я только повернулся и посмотрел на испуганно расширившиеся зрачки черных глаз своей пленницы.
— Мириам, русы с женщинами не воюют.
За ее спиной и в самом деле сидел на корточках Радомир. Он делал вид, что главная его задача — это следить за округой. Хотя, понимал я, он внимательно следит за нашим разговором. Скажу честно: если бы не было тут его, я бы чувствовал себя куда увереннее. Ну а так… Приходилось принимать во внимание, что тут представитель главной воюющей нации.
Как бы то ни было, я не стал любоваться открывающейся картиной. Ни разливающимся горным рассветом. Ни деланно-безразлично и отвлеченно отвернувшегося Радомира. Ни испуганно-изумленными глазами Мириам. Я просто косо, чтобы было удобнее, с оттяжкой, резанул по шнуру. Потом достал из кармана и бросил в руки Мириам свернутый пояс от брюк. И только тогда не удержался от робингудовской фразы.
— Меня зовут Просвет. Я советский капитан. И я не хочу, чтобы тебя убили…
Девушка глядела на меня со смешанным чувством надежды и страха. А я нес свою патетику:
— Когда ты вернешься к своим, наша минная засада на твоем положае уже или сработает, или же будет раскрыта. Так что ты со спокойной совестью сможешь рассказать все, что там произошло. Только ты подумай вот о чем. Ты женщина, твоя задача рожать и воспитывать детей. Так почему же ты собираешься лежать на положае и убивать других детей, которых родила другая женщина? Подумай об этом!
Сказав это, я повернулся и зашагал по направлению к нашим позициям, до которых было уже совсем недалеко. Сзади чуть слышно похрустывал гравий. Это шел Радомир, который за все это время так и не сказал ни слова.
…Мы были уже у самого нашего положая, когда он негромко, но так, чтобы я это услышал, пробурчал:
— Лучше бы он ее зарезал сразу.
Наверное, в этом был прав, отметил про себя я. Меня бы тогда мучила совесть, но вместе с тем я отдавал бы себе отчет, что убил врага в бою. Теперь никакого морального оправдания себе я отыскать не мог.
Часть вторая Прошлое. Возвращение в никуда
1
Идти мне было попросту некуда. Вообще. На всем огромном белом свете, на котором Господь Бог выделил каждой твари хоть какой-нибудь уголок обитания, только для меня одного не имелось закуточка, где меня бы ждали, где меня бы приютили, где я был бы хоть кому-нибудь нужен.
Не знаю, может быть, допускаю, для кого-то такое положение — привычное состояние. Для меня же… Как и объяснить-то не знаю… Просто еще никогда в моей жизни так не бывало, чтобы я не знал, куда направить свои стопы. Разве что в далеком детстве, которое по старой привычке именуется босоногим. Впрочем, даже не так, я и тогда тоже куда-то шел, к чему-то стремился, хотя бы велениям отца-матери подчинялся… А теперь…
Я бездумно стоял в бестолковой привокзальной толчее и глядел на бурлящую передо мной жизнь. Непривычную, незнакомую, чужую и чуждую, неприветливую. Жизнь, которая, в свое время отторгнув меня, по большому счету, сейчас мне была безразлична. И которой на меня, отдавал полный отчет, тоже было попросту наплевать.
Я словно бы сидел в темном зале кинотеатра и со стороны наблюдал на текущую мимо чужую жизнь.
Жизнь… Чья-то жизнь. Хорошо сказал Остап Бендер, сын турецко-подданного: «Мы чужие на этом празднике жизни». И я такой же чужой. Правда, это единственное, что роднит меня с великим аферистом.
…— Сынок, ради Господа Бога нашего Христа, подай сколько можешь!
Я медленно поворачиваю голову на голос. Рядом стоит и искусно трясется сгорбленная женщина, тщательно пряча лицо под платок.
— Нету у меня денег, — цежу сквозь зубы.
Интересно, она и в самом деле столь древняя старушенция, что готовится развалиться прямо у меня на глазах, или только притворяется? Почему-то я убежден, что только притворяется. Было в ее поведении, одежде, в самом облике что-то ненатуральное, искусственное, показушное, как будто в плохом самодеятельном спектакле.
— Креста на тебе нету, — скулит она. — Мне много не надо, только на хлебушек… Во имя Спасителя…
Если притворяется, то тяжеленько приходится нашему родному отечеству, коли именем Бога и креста обманывают. А может и в самом деле не притворяется?
— Я же сказал, что нет у меня денег, — опять роняю ей. — Вообще нету. Ни копейки.
Ну теперь-то уж точно отстанет! — убежден я.
Ан не тут-то было.
— Такой молодой, здоровый, — нудит она. — Ну хоть сколько можешь…
Ну что ж, бабка, ты сама на это напросилась! Я неторопливо лезу в карман. Она вожделенно следит за движением руки. Даже трястись перестала. Однако извлекает она, моя рука, из кармана совсем не то, чего от меня ждет попрошайка. И когда я тычу ей в глаза неровно отпечатанный и небрежно заполненный бланк справки с круглой печатью, испуганно ойкает, шарахается в сторону и мгновенно растворяется в толпе.
Аккуратно свернув и спрятав бумажку, опять замираю, прислонившись к квадратной серой колонне. Гляжу на шпиль со звездой, который впился в небо напротив, через гудящую бесконечным потоком машин площадь. Почему-то встреча с бабкой меня расстроила.
— Креста нету… — говорю сам себе. — Что верно, бабка, то верно. Нету на мне креста…
Однако стоять вот так до бесконечности, тупо глядя на бурлящую мимо чужую жизнь, тоже не дело. Вон уже без того сержант-милиционер с «демократизатором» на поясе настороженно поглядывает в мою сторону. Ну его, право, к лешему, нарвешься еще!..
Делаю вид, что смотрю на часы, которых на запястье нет, и неторопливо направляюсь в сторону метро.
Первый день, когда мне абсолютно нечего делать. И куда его убить, этот день?
И куда убить еще множество таких же дней, которые серой бесконечной чередой теряются в необозримом, в непонятном будущем?
Впрочем, когда-нибудь потом, скорее всего, что-то на горизонте прорежется. А пока… Пока нужно куда-то идти, что-то есть, где-то устраиваться… Нужно жить! Только кто бы объяснил ЗАЧЕМ…
2
Лишь войдя в вестибюль станции метро, понимаю, что как раз сюда-то мне и не следовало входить. Лучше бы прошелся до Садового кольца, сел на троллейбус-«бэшку», и потихоньку допилил бы до нужной станции. Там, может, на контроль и не нарвался бы. А здесь частокол турникетов никак миновать невозможно.
Однако делать нечего, не возвращаться же!..
Не привык я возвращаться.
Неторопливо, вразвалку направляюсь к контролирующей проход бабульке. Мимо нее нескончаемым потоком льется народ, показывая на ходу что попало: проездные, какие-то удостоверения, еще что-то… Что она тут разглядит, в этом мельтешении?.. А тут еще все тащатся с сумками, тележками, коробками… Адова работа, если разобраться, вот так на контроле в метро у вокзала весь день сидеть, не позавидуешь…
Ты лучше себе посочувствуй, — оборвал я сам себя. Альтруист хренов! Она тут посидит-посидит, да и домой двинет. К себе домой! Где ее ждет семья и вкусный ужин. А ты куда направишься? По тому адресу, что дал тебе Корифей?
Нет-нет-нет, стоп, туда ни в коем случае, об этом даже думать нельзя!
…Между тем я уже оказываюсь перед бабулькой. Она глядит на меня настороженно, уже выхватив, опытно выделив глазами из толпы человека, который приближается к ней не слишком уверенно. Видит, что ничего из кармана не достаю, никаких «корочек» ей под нос не тычу. И уже видно, что она заранее готова сорваться на крик во имя восстановления социальной справедливости.
— Здравствуй, мамаша!
Она молчит, пялится из-под потертой красной шапочки снизу вверх. Сейчас мимо нее хоть по «ксиве» «Ударника коммунистического труда» проходи, хоть танк на веревочке провози — не заметит.
— Пропусти в метро, у меня денег нет, — в лоб прошу ее.
Дежурная тут же обретает дар речи.
— Без денег нельзя, — решительно информирует она. — А денег нет — это твои проблемы.
— Грубая ты, мамаша, невоспитанная, — цежу я, сдерживаясь. — И сердца у тебя нету.
Последняя реплика ей не нравится.
— На всех вас сердца не напасешься, — обрывает она и ловко перехватывает какого-то мальчишку, попытавшегося проскользнуть мимо нее. Паренек послушно ретируется, а бабулька продолжает:
— А деньги зарабатывать нужно, а не «зайцем» ездить.
Делать нечего.
— А я уже заработал…
Опять лезу в карман за бумажкой. Достаю, разворачиваю ее, показываю дежурной.
— Видишь, как много заработал?
Тут она теряется, испуганно оборачивается за спину.
Оттуда тотчас появляется еще одна серая личность с палкой о трех концах.
— В чем тут дело? — спрашивает он у дежурной, глядя на меня усталыми глазами.
Дежурная, видимо, посчитав, что, подобно шекспировскому мавру, дело сделала, отодвинулась от меня в сторонку. Делать нечего, подаю справку сержанту. Тот ее бегло просматривает, сам аккуратно сворачивает, возвращает мне.
— Проходи, — кивает мне в сторону эскалатора.
Бабулька-дежурная косится в его сторону настороженным взглядом, однако возражать не решается.
— Тебе куда ехать-то надо? — интересуется милиционер. — Далеко?
Что ему ответишь? Не изливать же душу здесь, в этой толчее…
— До Белорусского вокзала.
— Знаешь, как проехать?
Усмехаюсь. Хотя усмешка вряд ли получается по-настоящему веселой.
— Знаю, — киваю в ответ. — Все знаю…
Сержант опять глядит на меня выжидательно, очевидно, уловив двусмысленность моих слов. Но ничего не говорит, только козыряет небрежно и возвращается на свое место у турникета.
…Как же я отвык от этого великолепия московского метро! Стою на бесконечной ленте эскалатора, мимо проплывают столбики светильников, по телу струится приятное тепло, ноздри щекочет специфический запах «подземки»… Как давно я здесь не был!
Правда, с тех пор, как я тут был в последний раз, метро, вижу, здорово изменилось. В вестибюле справа мелькнула закусочная, мусора добавилась, в смысле не «мусоров», а именно мусора — всюду банки пустые валяются, какие-то пакеты… Впрочем, и «мусоров» тоже стало больше, причем все в бронежилетах, часто с автоматами… (Не дай, как говорится, Бог, в такой толпе — да из этого укороченного «калашникова» полоснуть! Его остренькие пульки такого натворят!..). На стендах вдоль эскалаторов рекламные щиты уговаривают покупать колготки, слушать какое-то радио, есть бутерброды… Вокруг все едут с исполинскими полосатыми неподъемными сумками, с рюкзаками или тележками…
А главное, на что обращаю внимание, это то, что вокруг очень мало улыбающихся лиц. Все хмурые, озабоченные, смурные… Сначала было я подумал, что это мне так кажется под настроение. Однако потом убедился: а ведь и в самом деле не улыбается народ. Как будто тут собрались только придавленные заботами и проблемами попутчики. Может, это от того, что возле вокзала нахожусь?
Ох, изменилась Москва, изменилась. Что, наверное, не так и удивительно за столько лет, что меня здесь не было. И вживаться в эту новую жизнь, по всей вероятности, будет очень трудно.
В одном только бы устоять: не ехать по адресу, который дал Корифей. Только бы не соблазниться!
3
Электричка тащилась как и встарь, долго и нудно. Попасть на поезд, что «сквозняком» идет до Гжатска, переименованного в Гагарин, не удалось, их всего идет только два или три в сутки, а можайский привычно останавливался едва ли не у каждой платформы. Так что до Тучково пришлось телепаться больше полутора часов. Потом еще сорок минут в битком набитом людьми автобусе мимо многочисленных санаториев и домов отдыха, построенных тут еще при социализме, и еще более многочисленных особняков «новых русских», выросших тут в последнее время…
И вот наконец, набрав скорость на спуске, мы бодро вкатили в Рузу, в небольшой городок, где каждый дом, каждый переулочек до боли знаком.
Странно, но факт: о существовании на западе области такого райцентра знают даже не все москвичи. А между тем история у этого городка долгая, со своими вывертами и подвигами.
Некогда Руза была небольшой крепостцей, стоявшей на Горке — вздыбившемся на берегу речушки холме. Та историческая Горка и нынче имеется, только подосела за века — там сейчас что-то вроде парка со скамейками и деревянными столбами-скульптурами, изображающими древних богатырей, да крохотное озерцо, известное тем, что уровень воды в нем никогда не меняется, ни в жару, и в слякоть… Во время нашествия монголо-татар одна из очень немногих на всей Руси крепостца Руза сумела отбиться от нападения, хотя, чтобы быть объективным, надо отметить, что здесь побывала не основная орда Батыя, а только один из небольших фланговых отрядов, рыскавших по округе в поисках легкой поживы. Впоследствии Руза на правах удельно-княжеского городка несколько раз переходила от одного великого княжества к другому, пока окончательно не закрепилась за Москвой. В годы Великой Отечественной в окрестностях города действовал партизанский отряд, которым командовал местный активист по фамилии Солнцев, да только очень недолго ему пришлось повоевать — немцы быстро выследили и разбили его, а самого командира захватили и казнили. Именем Солнцева названа центральная улица города. А неподалеку, в районе деревеньки Дьяково, которой уже нет в природе, на берегу речки Рузы, погиб знаменитый Лев Доватор. Вскоре после этого, претворяя в жизнь план Жукова, когда в конце 41-го погнали немцев от Москвы, здесь же, у Дьяково и Палашкино, на хорошо подготовленную оборону гитлеровцев, по глубокому, по пояс, снегу, без поддержки танков и артиллерии, пошла в атаку курсантская 36-я ударная стрелковая бригада, наспех сколоченная в Средней Азии на базе Ташкентского пехотного училища; задачу они выполнили, хотя людей положили множество, в том числе погиб самый молодой в то время нарком (министр по нынешнему) в Советском Союзе — тридцатилетний туркмен Айткули Гельдыев…
Природа здесь у нас — прелесть. Леса, реки… Рыбалка, грибы, ягоды, экология, свежий воздух… Потому и натыкано вокруг санаториев, курортов, домов отдыха и прочих аналогичных заведений, принадлежавших самым разным организациям и ведомствам — союзам писателей, театральных деятелей и т. д. Например, подмосковная база космонавтов, где они отдыхают перед и после полетов, построенная по рисунку и под патронажем Алексея Леонова, расположилась тоже тут, неподалеку от Озернянского водохранилища. Даже ЦК КПСС в свое время обратил на Рузу свой благосклонный взор и отгрохал руками военных строителей шикарнейший дом отдыха «Русь» — тот самый, который впоследствии передали «афганцам.
О Рузе я могу рассказывать много. Как, наверное, и любой человек о своем родном городе.
Старенький скрипучий «ЛиАЗик» лихо скатился по склону, миновал поворот на Можайск и, поскрежетав разболтанной коробкой передач, натужно потянулся вверх.
Я с любопытством глядел сквозь пыльное стекло на город. Да, хоть и не так уж сильно, а и здесь многое изменилось. Когда я был тут в последний раз, коммерческих ларьков не было и в помине. А теперь вон их сколько, на фоне облупившихся зданий. Зато площадь с трибуной заметно обветшали. Впереди показался куб универмага с надписью «Рузе — 650», построенный в бесконечно далеких уже 70-х…
Я решил не ехать до конечной остановки, вышел возле милиции и неторопливо направился вглубь улочек. Как все знакомо. И насколько теперь все чужое!..
Внутри у меня боролись два противоположных чувства. Очень хотелось встретить кого-нибудь из знакомых — и в то же время боялся, что тот, кто меня встретит, непременно начнет выпытывать, где и как я жил все эти долгие годы. Врать не хотелось, но и правду говорить — тем более… Повезло или нет, не берусь судить, но только никого не встретил. А ведь когда-то тут меня любая собака знала. Теперь же если и встречался кто-то, его лицо мне ни о чем не говорило. Неужто так много людей сюда понаехало? Или просто не узнаю никого, как и они меня?
Годы, годы… Мой дом. Мой подъезд. Мой этаж. Моя квартира… Впрочем, не так, уже не моя. И никогда больше не будет моей. Звонок за дверью был все тот же — резкий и неприятный, зато не услышать его невозможно. В свое время не поменял я его, так он и остался.
— Кто там? — отреагировал за дверью на звонок детский голос.
И тут же, не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. Открыл ее мальчуган. Стоял и открыто и доверчиво глядел на меня снизу вверх.
— Здравствуйте, — приветливо сказал он. — А вам кого надо?
— Здравствуйте, молодой человек, — ответил я. — А мама или брат дома?
Он мне понравился, этот малыш. Хотя, по логике, я должен был бы испытывать к нему чувства со знаком «минус». Впрочем, дети-то тут причем, если мы, взрослые, разобраться между собой не можем?
— Мама на работе, — бодро отчеканил маленький хозяин. — А брат в школе. — Потом он подумал и добавил на всякий случай: — А папа только вечером будет.
— Рапорт принял, — усмехнулся я. — Тогда я попозже зайду. Не возражаете?
Мальчишка озадаченно шмыгнул носом, после чего солидно кивнул:
— Не возражаю. А вы кто?
Кто-кто — конь в пальто. Не твое это дело, мальчуган, не твое.
— Да так, знакомый, — уклонился от ответа. — До свиданья, молодой человек.
— До свиданья.
Я сбежал по ступенькам. Значит, сейчас первым делом в школу. Благо, тут недалеко. В небольших городках все недалеко друг от друга.
Массивная бетонно-стеклянная коробка учебного заведения встретила меня полной тишиной. Все понятно, идет урок. Ну что ж, подождем, нам нынче спешить некуда. Даже не только нынче — нам просто спешить некуда.
Но и не стоять же тут просто так, без дела. Решил войти в школу, побродить по ее коридорам, рассматривая стенды и фотографии тех, кем тут гордятся. Вообще-то у меня лично с данным учебным заведением ничего не связано, я учился в другой, в старой школе. Однако решил-таки войти — есть что-то привлекательное в учебных заведениях. Как будто витает здесь дух чего-то эфемерного, что высокопарно именуется «гранитом науки».
Однако просто так побродить не удалось. Едва я переступил порог школы, постаравшись по возможности тише прикрыть за собой ужасно проскрипевшую пружиной дверь, и оказался в просторном вестибюле, услышал откуда-то женский голос.
— Гражданин, а вы к кому?
Вопрос адресовался явно мне, так что пришлось обернуться. По коридору в мою сторону направлялась худенькая стройная, какая-то воздушная, миловидная женщина. Уже издалека, заранее глядела строго — так что сразу было понятно: она здесь не случайный человек, а тот, кто именуется «представитель администрации» школы.
— Здравствуйте, — ответил я.
Каждому мужчине, наверное, знаком такой порыв, когда вдруг хочется произвести хорошее впечатление на случайно встреченную женщину.
— Здравствуйте, — умерила напор «администрация». — Так вы к кому?
— У вас тут учится Ярослав Коломнин, — ответил я. — Мне нужно бы с ним поговорить.
Мне показалось или же и в самом деле у «администрации» глаза изменили свое выражение, стали внимательнее, строже, настороженнее?
— А вы ему кто?
Ничего более оригинального, чем опять упомянуть глупую шутку про пальто, я не нашелся. Но и теперь воздержался от того, чтобы озвучить реплику.
— Родственник, — усмехнулся я.
«Администрация» на усмешку не отреагировала, смотрела теперь уже с недоумением.
— Я просто «Афоню» вспомнил, — пришлось пояснить —.Помните Леонова? «Родственник, Афоня мне рупь должен… Два».
Женщина отмякла, тоже слегка обозначила улыбку. Сразу же возле глаз обозначились морщинки. Значит, не такая уж она молодая, как мне поначалу показалось.
— А что ж вы сюда-то, в школу, пришли? — уже без первоначальной суровости спросила она. — Еще два урока — и он сам домой придет.
Ну как постороннему человеку объяснить то, что и самому непонятно? Зачем я сюда пришел? Сам не знаю. Пришел — да и все…
— Да вот пришел, да и пришел, — так и сказал я, пожав плечами. — А потом и домой пойду… Просто мне тут идти больше некуда.
Похоже, именно такой невразумительный ответ окончательно сломал лед. «Администрация» кивнула:
— Идемте со мной.
Она повернулась и застучала каблучками по широкому коридору. А я теперь мог бесцеремонно осматривать ее сзади. Худощава, даже, я бы сказал, несмотря на возраст, по-девичьи угловата… Однако есть в ней свой шарм, есть.
Как же давно не обнимал я женское тело, как же бесконечно давно… И стиснул бы ее сейчас, да так, чтобы косточки ее тоненькие хрустнули!
Тело мгновенно откликнулось на шальные мысли. Но-но, тут же остановил я сам себя, стоять, Зорька!
Между тем женщина остановилась у одной из дверей.
— Ярослав сейчас в этом классе. Перемена через десять минут, так что будет лучше, если вы подождете.
Ага, как же, здесь за дверью сидит и постигает науку мой сын, которого я не видел столько лет — а я буду ждать еще целых десять минут! Держи, как говорили в мое время, карман шире!
Теперь я уже был твердо убежден, что моя провожатая что-то знает про нашу семью. Потому что она четко поймала мое настроение, приняла его как должное. И, показав мне пальцем: мол, только тише, не шуметь, подошла к высокой двери класса. Слегка приоткрыла створку. Дождалась, когда с той стороны к ней кто-то подошел. Негромко переговорила. И опять повернулась ко мне.
— Сейчас Ярослав выйдет к вам. И вы можете с ним уйти… — женщина уставилась мне в глаза.
Взгляд у нее был добрый, чуткий, мудрый, понимающий, доверчивый и вместе с тем требовательный. Наверное, так и должен смотреть Педагог, Учитель, которому верят его подопечные.
— Надеюсь… — проговорила она твердо. — Надеюсь… Простите, как вас?..
— Константин Васильевич.
«Администрация» кивнула — очевидно, сопоставив отчество Ярослава с моим именем, удостоверилась в своих предположениях.
— Надеюсь, Константин Васильевич, — она требовательно глядела мне в глаза, — все будет в порядке?
Да, что-то она про меня знала. Впрочем, в этом ничего удивительного нет — в маленьких городках семейные проблемы всегда широко обсуждаются.
— Не переживайте, все будет нормально, — твердо заверил я ее.
В самом деле, что я мог сотворить, со своей справкой в кармане и без гроша за душой?
— Тогда всего вам доброго!
— Спасибо.
«Администрация» повернулась и застучала каблучками по коридору. Эх, пойти бы за ней!..
Но тут раздался скрип отворяющейся двери, который разом отвлек меня от грешных мыслей.
Из класса вышел сын. Мой сын. Сын, которого я не видел так давно.
4
Больше всего я боялся, что сын меня просто не узнает и мне придется ему объяснять, кто я такой и откуда взялся. Еще я очень боялся, что Ярослав узнает меня и тут же уйдет, вернется в класс или еще как-нибудь продемонстрирует свое нежелание общаться со мной. И того, чтобы он не расплакался и повис мне на шее, хлюпая и растирая сопли и слезы, я тоже боялся…
Я вообще боялся этой встречи. Потому что не знал, как отреагирует на мое появление в его жизни единственный на земле близкий мне человек. Близкий по крови — и совершенно неведомо, является ли, вернее, станет ли он мне близким по духу.
Однако все получилось совершенно не так, как рисовалось мне в воображении.
Ярослав вышел в коридор, забросив за спину сумку на длинных ручках. Удивленно посмотрел вслед удаляющейся по коридору «администрации». Только потом перевел взгляд на меня. В первое мгновение не узнал. Однако потом глаза парня удивленно округлились. Растерянно вильнули. Потом сын открыто уставился на меня. Сделал несколько шагов в мою сторону. Остановился. Неловко перекинул сумку из правой руки в левую. Протянул мне ладонь.
— Ну, здравствуй, батя.
«Здравствуй»… Ничего не говоря, сам шагнул к нему и обнял. Должен сказать, что человек я не слишком склонный к сантиментам. Да и последние годы не особенно располагали к развитию особой чувствительности. Однако тут ощутил, как на глаза наворачиваются слезы. Тут бы самому сейчас не разнюниться, размазывая сопли…
— Ну ладно, батя, хватит… — попытался вывернуться из объятий сын. — Еще увидит кто…
Да, ты прав, сынок. В конце коридора стояла и смотрела в нашу сторону «администрация».
Я разжал объятия. Постарался по возможности незаметнее провести ладонью по глазам. Но успел увидеть, как тревожно огляделся Ярослав. Я его не осуждал: в его возрасте проявления ласки кажутся недостойными мужчины. А если еще кто-то посторонний увидит… Подростки — народ жестокий, засмеют.
— Кто это?
Так вот и получилось, что первые слова, которые были адресованы сыну, касались постороннего человека. Ярослав сразу понял, кого я имею в виду — он тоже успел заметить «администрацию», поспешно скрывшуюся за углом.
— Лариска, — смущенно и с облегчением ответил сын. — Наша директриса.
Смущенно, как нетрудно было догадаться, потому что нашу встречу увидел-таки посторонний человек. С облегчением — потому что появлялась возможность смазать сумбур первых минут встречи.
— Хорошая она у вас? — спросил я совершенную глупость.
— Хорошая, — согласился Ярослав. И добавил: — Ее муж у нас компьютеры преподает.
Ну, об этом, парень, ты мог бы и не говорить. Про ее мужа мне неинтересно.
— Пошли, — взял я его под руку и потянул к выходу. — Тебя вообще отпустили.
Ярослав покорно потянулся за мной. Школа проводила нас все тем же противным скрипом пружины и глухим ударом двери. Не сговариваясь, мы повернули направо, в сторону, противоположную от центра города. Туда, где меньше людей.
— Как живешь, сынок?
— Нормально.
Дежурный вопрос — дежурный ответ… «Как живешь? — Нормально»… А что бы ты, папаша, хотел услышать? Чтобы Ярослав тут же начал тебе изливать душу, рассказывать о своих проблемах? Есть у него проблемы, не может не быть. Да вот только станет ли он сейчас о них рассказывать? Да и не только сейчас, а вообще.
Стоп! — опять скомандовал я себе. Зарок, который даешь сам себе, нужно выполнять свято. Хотя ни с кем на белом свете невозможно договориться легче, чем с самим собой. Потому и слово, данное самому себе, держать несравненно труднее. Зарок же состоял в том, чтобы не задумываться о собственном будущем. Думать о нем было слишком мучительно, слишком муторно, потому что впереди не было ничего, кроме непроглядного мрака.
Мы какое-то время шли молча.
— Ну а как ты учишься? — вымучил я очередной вопрос.
— Нормально, — столь же оригинально ответил Ярослав.
Однако, очевидно, он и сам понял, что мне трудно начать разговор, а потому решил дополнить:
— Всяко бывает, конечно. Но в целом нормально.
Что еще спросить? Как пробиться к его откровенности? Как разрушить эту стену отчуждения?
— Ну а девушка у тебя уже есть? — толкнул я сына плечом. — Ты-то вон уже какой большой…
Сын резко вздернул подбородок вверх. Значит есть, — понял я. Да вот только признается ли? И даже если признается и назовет ее имя, что мне это даст, коль я тут никого не знаю и не помню?
— А куда буду поступать после школы я еще не знаю, — резко бросил Ярослав. — Еще дежурные вопросы будут?
Н-да, срезал. Ну что ж…
— Ну а какие вопросы я тебе должен задавать, если ты отвечаешь только дежурно?
Сын резко остановился, повернулся ко мне. Не ожидая этого, я сделал несколько лишних шагов и только тогда тоже обернулся к нему.
— Ты зачем приехал?
Он был еще мальчишкой. Но вопрос задал взрослый, мужской. И очень точный. Потому что, по большому счету, я и сам до конца не знал цели приезда.
— Ну а если просто для того, чтобы тебя повидать?
— Повидал?
А вот тут ты неправ, сынок. Лежачего бить — последнее дело. Особенно если он помощи или пощады просит. Мы стояли и смотрели друг другу в глаза. Между нами было всего-то три шага. И как будто пропасть. Бездонная пропасть. Или стена. Глухая.
Ярослав не выдержал первый. Потупился. Шагнул ко мне. Неловко ткнулся лицом в плечо — и тут же отпрянул.
— Прости, батя. Просто неожиданно все… Пошли.
Мы опять шагали рядом. Шагали неведомо куда. Вперед тянулось старое выщербленное шоссе. Оно вело к поселку Севводстрой и далее на Осташково. Здесь, вспомнилось почему-то невпопад, в дни моей юности накануне Нового года выставляли так называемые «зеленые патрули», чтобы не допустить рубку елок. Их все равно рубили, правда, не так интенсивно, как это делали бы, не будь «зеленых патрулей»… Интересно, сейчас тоже такие кордоны выставляют или же все пустили на самотек?
— А ты-то сам как, батя? — нарушил молчание Ярослав.
«Нормально», чуть было не брякнул я. Но вовремя спохватился.
— Да как тебе сказать? — искренне ответил я. — Коротко не скажешь… Как говорится, помаленьку.
— Трудно было?.. Ну, там… — запинаясь, поинтересовался он.
Трудно? А в самом деле, трудно ли? Никогда не задумывался.
— Как тебе сказать? — тоже повторился я. — Нет, наверное, не так уж трудно. Физически во всяком случае. Плохо — вот более точное слово. Сидишь — и дни считаешь, сколько прошло, сколько осталось… Солдаты тоже дни до «дембеля» считают. Но только солдат знает… А, да что там говорить, — оборвал я сам себя. И повторил: — Плохо — вот точное слово.
На перекрестке мы повернули направо. Шлепали вдвоем по обочине, по грязи, не имея возможности идти по асфальту из-за часто пролетающих мимо машин.
— Ну а что дальше будешь делать?
Вроде бы я у сына должен выспрашивать. А получилось наоборот.
— Не знаю пока, — признался ему. — Осмотрюсь — тогда будет видно.
Опять зависла пауза. Однако мне показалсоь, что я понял, что хотел бы, но не решался спросить сын. А потому решил ему помочь, заговорил сам.
— Одно, сынок, могу сказать тебе точно: в преступники не пойду.
Мальчишка есть мальчишка. И Ярослав задал вопрос, который мог задать только ребенок.
— Батя, а правду говорят, что тем, кто оттуда выходит, дают адреса, где человеку просто так дают деньги, документы, одежду… Ну и все такое прочее?
Сразу вспомнился Корифей. Его неподвижный, немигающий взгляд и неторопливая речь. И слова, сдобренные холодной усмешкой:
— Запомни, Беспросветный: сколько бы ты ни держал марку, рано или поздно, к нам придешь. Потому что ты уже меченный. В нормальную организацию, где можно «бабки» честно зарабатывать, тебя не возьмут с твоей биографией. На завод, на стройку или в фермеры ты и сам не пойдешь. Так что единственный путь у тебя — к нам. Ты мужик умный, с головой, так что подумай и признай, что я прав… В общем, не сопротивляйся, а сразу как приедешь в первопрестольную — сразу к нашим. Первым делом тебе добрую бабу бесплатно дадут, которую ты сможешь «пилить», сколько силы будет. Потом денег дадут. Ну а дальше уже все сам решишь…
Ты бы знал, Корифей, как безумно хочется рвануть сейчас по указанному тобой адресу. А тут еще «администрация» душу разбередила…
— Да, сынок, это правда. И адрес я такой знаю. Только приходи, скажи, кто прислал — и считай, что ты уже сыт, пьян и нос в табаке. Вот только не уверен, что такие адреса дают каждому. Думаю, только тем, в ком тамошние «авториеты» уверены.
— И в тебе они были уверены? — поймал меня на слове Ярослав.
Что тут скажешь? Не врать же…
— Да, были уверены, — ответил я, стараясь не смотреть в сторону сына, который, напротив, старался заглянуть в глаза. — Но уверены не в том, что я их человек, а в том, что я этот адресок не сообщу кому не надо.
— А зачем же тогда дали? — опять подловил он меня на оговорке.
И вновь вспыхнуло в памяти, как поначалу, когда по приказу Домового, тамошнего «авторитета», враждовавшего с Корифеем, пытались меня сломать, я сумел «отмахаться» от четверых его головорезов, раздробив одному из них челюсть; как той же ночью сам подошел к Корифею; как мы тогда говорили полночи; как потом… Впрочем, это лучше держать в себе, да еще так глубоко, чтобы и вспоминать пореже.
— Да потому что хотят, чтобы я пошел к ним.
— Зачем?
— Это все слишком непросто, сынок, долго рассказывать, — уклонился я от ответа. — Если коротко: меня хотят пристегнуть к себе. А я этого не хочу.
Мы дошли до круглой площади с блюдечком зеленого газона посередине. Здесь когда-то разбился на машине прапорщик Павленков, которого я немного знал. Повернули направо, в город, в сторону автостанции. Впереди показались пятиэтажки — панельные и кирпичные. Почти все их выстроили военные строители, не стояли бы в городе на протяжении двух десятков лет эти государственные каторжане — Руза, наверное, до сих пор оставалась очень большой деревней.
— Ты к нам зайдешь?
«К нам»… Ярослав, наверное, почувствовал, что меня кольнули его слова. Хотя не уверен, что он понял причину.
— Да, зайду, — коротко обронил я.
Еще раз повернули, теперь налево. Прошли мимо магазина. Начались «федеративные грязи» — тут, на улице Федеративная, всегда было грязно.
— Слышь, батя, пока мы домой не пришли… — вдруг заговорил Ярослав. Наверное, он давно уже хотел мне что-то сказать, но не решался. — Только ты, пожалуйста, пойми меня правильно, батя…
— Да уж постараюсь, сынок.
Скорее всего, думал я, знаю, о чем ты хочешь заговорить. И это твое право. Хотя и обидно мне будет тебя выслушивать, сынок.
— Я понимаю, батя, что тебе все это нелегко, — зачастил он торопливо, сбивчиво, словно боясь, что я его перебью, не дослушаю. — Но только ты, когда будешь у нас, не сорвись, не сделай что-нибудь… Тебе ведь нельзя ничего сделать, тебя тогда опять сразу посадят…
Вон ты о чем! А я-то думал…
— Не переживай, — ускренне усмехнулся я. — Ни маме, ни ЕМУ я ничего не сделаю.
— Правда? — обрадовался, что самая трудная часть разговора уже позади, Ярослав. — Ну и хорошо. Батя, а ты еще приедешь?
— Посмотрим. Будет день — будет и пища, — опять уклонился от ответа.
— Ты приезжай, батя. Только домой не ходи, сразу в школу, хорошо? И когда устроишься, остановишься где-нибудь, сразу мне сообщи. Только не домой, я тебе адрес дам, по которому писать… Хорошо?..
— Ладно, обязательно.
От сына слышать такое… Надо же, совсем еще мальчишка, а мудрый какой он у меня. Молодец парень. Ну а домой… Если бы не необходимость, я бы и сейчас заходить не стал. В конце концов, я ведь не мазохист, чтобы самому себе в душу раскаленные иголки совать!
Мы остановились перед подъездом.
— Слышь, бать… — он снова замялся, не зная, как мне еще что-то сказать.
— Ну-ну, смелее, что еще?
Ярослав опустил голову, переминался с ноги на ногу. Сумку свою по-прежнему держал, переброшенной через плечо за спину.
— Бать, я пойду лучше немного погуляю, ладно?.. Не обидишься?
Не хочет присутствовать при нашем разговоре, — понял я. Что ж, может, он и прав. Даже, наверное, прав.
— Конечно, иди, погуляй, — хлопнул я сына по плечу. — Не обижусь.
Я вздохнул и вошел в подъезд. На душе было тяжело. Ярослав остался на улице. И не считал нужным скрывать, что остался с облегчением.
5
Знаете, бывает у людей на лице такое выражение… Как бы его получше описать… В общем, человек знает, что должно произойти что-то крайне для него неприятное или нежелательное, однако изо всех сил надеется, что это не произойдет или, в крайнем случае, если это неизбежно, пусть произойдет не сегодня, не сейчас — а оно, долгожданно-нежелательное, берет и случается. И человек смотрит на неприятность со смешанным чувством: покорностью, досадой и нетерпением — коль уж случилось, пусть побыстрее закончится.
Именно так глядела на меня жена, когда открыла передо мной дверь. По всему было видно, что до последнего мгновения она надеялась, что незнакомый дядя, о визите которого сообщил младший сын, это не я.
— Добрый день, — с демонстративной вежливостью поздоровался я. — Можно войти?
Супруга поджала губы. Отодвинулась вглубь прихожей.
— Проходи, — сказала оттуда.
И только после этого ответила:
— Здравствуй.
Я аккуратно, тщательно вытер подошвы туфель о коврик и только после этого переступил порог квартиры. Своей квартиры. В которую когда-то привел Людмилу — свою милую Людмилу, как я ее тогда называл. Сюда же принес когда-то и крохотный живой комочек, укутанный в теплое одеяло, которому уже давно было придумано имя — Ярослава. Отсюда же я уезжал на войну. И отсюда же меня забирали…
И вот вернулся.
— Проходи, — повторила Людмила, теперь уже имея в виду комнату. — На улице грязно… — начал было я, но жена меня перебила. — Ничего страшного, — сказала она. — Разуваться не нужно.
И это было вполне понятно: она хотела, чтобы я побыстрее ушел, до прихода ЕГО.
В комнате все было иначе, не так, как при мне. Кажется, из мебели тут вообще ничего моего не осталось.
Я огляделся, прикидывая, куда лучше сесть. Оставил свой выбор на кресле. В него и опустился. Людмила присела на стул к столу. На меня старалась не смотреть, теребила что-то в руках — не то салфеточку, не то носовой платочек. А может и просто попавшуюся в руки тряпочку.
— Предлагаю вводную часть разговора пропустить, — начал я. — Кто, как, с кем и сколько живет, спрашивать не будем. Ты не против?
Людмила по-прежнему глаз не поднимала. Только плечиками передернула.
— Не против.
— Ну вот и ладно, — удовлетворенно кивнул я. — Итак, переходим прямо к делу. Мы в квартире были вдвоем. Наверное, специально и младшего сына отправила гулять, чтобы нам никто не мешал. Она у меня всегда была предусмотрительная. Правда, цветное фото его веселой мордашки висело на стене.
— Перво-наперво я хочу забрать свои документы и личные бумаги. Они, надеюсь, целы?
Все также глядя на мнущие тряпочку пальцы, Людмила кивнула:
— Целы.
Однако с места не поднялась, не бросилась заполошно собирать то, о чем я попросил. Что-то было не так, однако я не стал уточнять.
— Хорошо, — не дождавшись ее действий, продолжил я. — Тогда продолжаем разговор. Я прошу собрать мои вещи, которые, надеюсь, тоже в полном порядке.
Моих вещей тут было не так много. Однако в моем нынешнем плачевном состоянии и они могли пригодиться. Костюм, конечно, не нынешней моды, но так ведь и я тоже не молоденький уже — сгодится. Две пары брюк, кажется, рубашки, галстуки, ботинки… В общем, чтобы было на первое время, пока где-то обустроюсь, во что облачиться.
Супруга опять кивнула и отозвалась эхом:
— В порядке.
Однако вновь с места не тронулась.
— Вот и ладненько. Тогда последнее. Ты меня знаешь, я с подобными просьбами к кому-то обращаюсь исключительно редко. Однако сейчас ситуация такова, что не до щепетильности. Так вот, мне нужны деньги. Согласись, что я имею право у тебя попросить какую-нибудь сумму на первое время…
Говоря эти слова, я старался, чтобы ни тоном, ни голосом не выдать то смятение, которое клокотало в душе. Я, лично я, при моем самолюбии, при моем самомнении, прошу деньги у женщины! Причем, не просто у женщины, а у той, которая бросила меня, которая изменила мне, когда мне было невероятно трудно.
И все же я считал себя вправе так поступить. В конце концов, когда мы еще были одной семьей, я приносил домой все до копейки; когда был на войне, столько всего ей сюда привез… Я имел полное право взять намного больше, чем брал сейчас. Я имел право подать на раздел квартиры, на раздел имущества…
А, вот оно что! Раздел имущества! Она так подавленно сидит потому, что боится, что я именно так и поступлю! А я-то думаю…
— Ну и последнее, — повторился я, едва не забыв об этом. — Подавай на развод. Мне надоело быть…
Договорить я не смог. Потому что Людмила вдруг подняла голову и уставилась на меня. Даже теперь, будучи на нее в обиде, я оценил, насколько же она у меня хороша… Вернее, не у меня, теперь уже у НЕГО.
— Послушай, Костя, — увидев, что я замолчал, заговорила она. — Ты много знаешь людей, которые живут без ошибок?.. Ну, скажи, много?
Потом я не раз удивлялся сам себе, как это сразу не понял, куда она клонит. Но только в тот момент у меня и мысли не появилось, как дальше потечет наш разговор.
— Ты продолжай-продолжай, — озадаченный словами жены, сказал я.
— Ну, сделала я глупость, — заговорила она торопливо, словно боялась, что я ее перебью и она не успеет высказаться. — Ну, избей меня, а потом прости… Ты бы знал, как я раскаиваюсь…
Она еще что-то говорила в том же духе. А я ошеломленно молчал. Ничего себе заявочка! После всего того, что произошло…
— А его куда денем? — перебил я жену, кивнув на фотографию улыбающегося мальчугана.
Людмила бросила на карточку мимолетный взгляд и тут же обмякла, опять опустила голову.
— Куда же ты пойдешь? — тихо, тоскливо проговорила она. — У тебя же никого нет…
Надо же, по самому больному, по самому незащищенному месту бьет, — накручивал себя я.
А внутренний голос нашептывал: а ведь и в самом деле никого и нигде у тебя нет. Так чего же ты думаешь? Плюнь на все, да и оставайся. Да, стерва у тебя жена — ну так ведь не у тебя одного. Сколько с тобой мужиков сидело — что же у всех их жены верно ждали своих мужей? Вся-то разница: ты об этом знаешь, а многие делают вид, что не догадываются. Поживешь немного, постепенно все забудется и будете опять жить, как и встарь — дружненько и ладненько.
Да, может быть, — возразил я сам себе. Только эта симпатичная мордашка будет всегда маячить передо мной.
Ну и что? — удивился искуситель. Сколько людей усыновляют чужих детей — и ничего. По статистике десять процентов детей во вполне нормальных семьях рождается, как говорится, от соседов. А формальные отцы об этом чаще всего не подозревают. И даже если подозревают, благоразумно делают вид, что знать о своих рожках не знают, ведать не ведают… Ну а парень он славный — привыкнешь, будешь воспитывать за своего…
Но ведь она меня предала, когда мне было плохо, когда я там лямку тянул, — не мог согласиться я. Она же стерва!
«Предела» — передразнил меня внутренний голос. Говорит же, что ошибку сделала. Кается… Ты-то в жизни всегда ангелочком был, никого не предавал, никогда не ошибался, никому не делал больно? Ну а то, что стерва… Ты что же, раньше никогда со стервами не спал? Или мало мужчин на белом свете живет, которые знают, что у их жен что-то там было в прошлом? Больше сочувствовать надо тем, кто об этом не знает. Оставайся…
Но ты же знаешь, — внушал я сам себе, — что я ей этого все равно до конца никогда не прощу. Если вспылю, когда выпью, обязательно ей пенять стану.
Ну и что? — цинично хмыкнул искуситель. Сама же виновата, так почему бы и не попенять иногда?.. Ты подумай, о чем задумался! Выбор-то небогат! Или ты плюешь на все, в том числе и на самолюбие свое, и остаешься — тогда сегодня будешь сыт, пьян и спать в чистой постели с красивой женщиной. Или ты сейчас гордо удаляешься, будешь ночевать где-нибудь на вокзале, а то и в отделении милиции — а в чистой постели с твоей женой будет спать кто-то другой.
Почему-то именно такая постановка вопроса едва не решила все. И тогда неведомо, как все пошло бы дальше, как повернулась бы моя жизнь. Потому что, как ни говори, а сидевшая передо мной женщина была МОЕЙ ЖЕНОЙ. И тот человек, которого я не видел и не знал, в случае, если я уйду, будет спать не с какой-то посторонней шаболдой — он будет спать с МОЕЙ ЖЕНОЙ!
Покажите мне мужчину, которого такая постановка вопроса не заденет — и я ему не поверю.
…Все, о чем я так долго писал, всколыхнулось у меня в душе одновременно. Взвихрилось, закружило, сталкиваясь и искря. И я не знаю, что победило бы, если бы не случилось то, что случилось.
— Решать тебе, Костя, — опять глядя на свои нервно подрагивающие пальцы, заговорила, не дождавшись моего ответа, Людмила. — Я понимаю, что тебе ТАМ было несладко. Признаю, что я тебя практически предала. Все так. Только ведь пойми и ты, Костя, я ведь живая… А тебя не было столько лет… Ты скажешь, что и ты живой. Да. Только ведь у тебя там не было соблазнов. А тут — вон сколько мужчин вокруг. Ну и закружило…
Не было соблазнов… В памяти всплыл Машутка. Наверное, когда соблазнов нет, люди их сами придумывают. Природа есть природа, ее не обманешь. Так в чем же больший грех: здесь у нее ЭТОТ, или там у меня Машутка?..
Я дрогнул. В конце концов человек изначально тянется к определенности. И вот у меня выбор: определенность с неверной женой или полная неопределенность.
— У тебя выпить есть?
Людмила вздрогнула, услышав мой голос. Вскинула на меня глаза… Нет, не глаза, очи. Большие, красивые, полные слез очи.
— Что?
— Выпить у тебя есть? — повторил я. — Сколько лет с женщиной не пил…
Она сорвалась с места.
— Я не знаю… — растерянно заговорила она. — Где-то, наверное, есть. Я-то не пью, а у… — она осеклась, замолчала, со страхом ожидая мою реакцию.
А в глазах уже зарождалась надежда. А в уголках губ уже обозначалась улыбка. А плечи по-прежнему были непривычно-робко опущены, не веря в возможность прощения.
В конце концов, верность — неверность, это все условности. А выпить хотелось. И поесть хорошо. А потом… И снова, как тогда в коридоре с «администрацией» плоть с готовностью откликнулась на один только намек на желание.
Людмила выпорхнула в коридор. И тут же на кухне что-то с грохотом упало и покатилось.
— Сейчас Ярик со школы придет, — прокричала жена с кухни. — Он в это время всегда приходит. А потом идет на тренировку… Он у нас спортом занимается…
Я в ответ кричать не стал. Поднялся с кресла и сам прошел на кухню.
И совершил то, что в одно мгновение разрушило то, что могло вернуть мою жизнь в семейное русло.
— Ярик придет нескоро, — сказал я. — Я заходил в школу и забрал его. Он сейчас гуляет, чтобы мы могли поговорить спокойно.
Людмила замерла. Она сидела на корточках перед открытым шкафчиком. На мои слова она повернулась неловко (или расчетливо?), отчего подол домашнего платья задрался куда выше общепринятых норм.
— Ты был в школе? — удивленно спросила она.
— Да. А почему это тебя так удивляет?
Она опустила глаза к разверстому нутру шкафчика.
— Нет, ничего. Значит, Ярик сейчас не придет?
— Нет, мы с ним расстались перед подъездом, — до конца раскрылся я.
Вот тут, именно тут я и сделал глупость. Впрочем, может, это само провидение двигало мною когда я задал вопрос.
— Слушай, Людмила, пока суть да дело, отдай мне мои документы…
Дело в том, что когда я поступил в военное училище, по случайности (именно по случайности, потому что тогда ума для этого у меня не хватило бы) не сдал свой гражданский паспорт. Так он и валялся в домашних бумагах, полузабытый. Ну а теперь я вспомнил о нем. Потому что взамен своей справки мне выдадут паспорт, в котором будет отметка о судимости. А я подумал о том, что если удастся, попытаться устроиться куда-нибудь работать по старому, «чистому» паспорту.
Ну а вторым документом, который оставался у Людмилы, была моя «афганская» «корочка». Сейчас для участников войны в Афганистане предоставлены кое-какие льготы, в частности, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. А мне сейчас это было бы весьма кстати.
Обрадованная моей реакцией на ее слова, Людмила замерла с початой бутылкой водки в руках. Повернулась ко мне и произнесла чуть смущенно:
— Ты знаешь, твое удостоверение о льготах сейчас у… — она опять осеклась, не решившись произнести ЕГО имя. — Он скоро придет и отдаст тебе…
Эти ее слова были подобны грому, который прогремел на ясном небе.
Это что ж выходит-то, братцы? Значит, по моему «Свидетельству» сейчас ездит и живет человек, который отнял у меня жену? Значит, потому и не подавала все эти годы на развод моя жена, потому что платила льготную квартплату по моим документам, потому что ее хахалю выгодно было пользоваться моей «корочкой»… Вдруг вспомнился телефон, который я увидел в прихожей и которого не было ПРИ МНЕ — тоже, небось, поставили по льготной очереди.
Наверное, все эти чувства мгновенно проявились у меня на лице. Потому что Людмила мгновенно изменилась лицом и зачастила, сбиваясь и проглатывая слоги:
— Ну, ты посуди сам: если есть возможность, то почему же ею не пользоваться…
Говорят, у разведчиков есть такая таблетка: каким бы пьяным ты ни был — проглотишь ее и сразу протрезвеешь. Врут, наверное. Но только ее слова стали для меня сродни той таблетки. Потому что я мгновенно протрезвел.
Это что же — простить? Можно многое простить, но только не такое. Предать мужа и пользоваться его льготами? И не только самой пользоваться, но и любовнику дать возможность пользоваться твоими же льготами?..
— Во сколько ОН приходит?
Людмила поняла, кого я имею в виду. Но она еще не поняла, что между нами все уже кончено окончательно.
— Через час, — бросила она взгляд на настенные часы.
— Через два часа я буду ждать Ярослава на автовокзале, — твердо сказал я. Короткая «расслабуха» закончилась. — Он должен принести все, о чем я говорил. И в первую очередь документы.
Людмила ничего не понимала.
— Но погоди, Костя… Ты ведь…
Я глядел на женщину, которая по-прежнему сидела на корточках перед разверстым нутром кухонного шкафчика с соблазнительно оголенными бедрами.
Лишь с этого момента она перестала для меня быть женой и стала обыкновенной… В общем, перестала быть женой. Она больше не была красивой, обаятельной и соблазнительной, желанной. Она перестала быть для меня женщиной, с которой еще десять минут назад я согласен был повторно связать свою судьбу.
— Я сказал: через два часа Ярослав должен принести мне чемодан и документы, — раздельно повторил я. — Деньги можешь не передавать!
Людмила ничего не могла понять.
— Но погоди, Костя! Что случилось?..
Однако я больше не желал объяснений.
— Через два часа на автовокзале!
Дверь громко щелкнула язычком замка. В памяти запечатлелись полные слез и недоумения глаза бывшей жены. И я знал, что больше в этой квартире не появлюсь. Меня здесь предали дважды.
* * *
Позже, когда я опять тащился в тряском автобусе, вспомнилось мне стихотворение, которое как-то мне читал Поэт — интеллигентный парнишка, за которого я вступился и который после того все время старался держаться поближе ко мне.
Как-то вечером, неумело затягиваясь подобранным «бычком», он нараспев читал стихотворение покойного уже Андрея Матяха:
«Давайте верить греку, Сказавшему: «Учти: В одну и ту же реку Два раза не войти! Ведь устали не знает Текучая вода, И все, что принимает, Уносит без следа». Был щедр на откровенья Практичный древний грек — Вне всякого сомненья Разумный человек. Для нас, своих потомков, Он мыслил не спеша В тени маслины тонкой, Под сенью шалаша… С тех славных пор античных Немало лет прошло, В моря из рек различных Воды перетекло. Но мы, пренебрегая Советом мудреца, Потоков проверяем Текучесть без конца. Отчаянно мечтая Минувшее вернуть, Мы, в лоно вод вбегая, Со дна вздымаем муть. Река, забот не зная, Бежит за веком век. На нас, с небес взирая, Хохочет мудрый грек… И вдруг — остановилась Текучая вода, И снова возвратились Ушедшие года. С безумною надеждой Мы вспенили поток. Да, все, как было прежде. Но… все-таки не то. И истина открылась В кристальной простоте: Река не изменилась, Да мы уже не те…— Понимаете, Константин Васильевич? — говорил потом Поэт. — Мы все так надеемся, что когда выйдем отсюда, все у нас пойдет, как прежде. А ведь такого, как было, уже не будет. И дома, в смысле семьи, такого, как был раньше, как бы мы и ваши родные к этому ни стремились, всего этого уже не будет. Андрей Матях, автор этого стихотворения, абсолютно прав! Пусть даже река попытается повернуть вспять — мы-то уже не те! — Он сплюнул и втоптал в землю скуренный до последнего предела «бычок». — Потому что из памяти и из души вытравить все вот это, — он повел подбородком в сторону ближайшей вышки с часовым и «колючки», — просто невозможно…
ТАМ всем было нелегко. А таким вот интеллигентным паренькам — втройне.
С чего это теперь я вдруг вспомнил его? А потому, что в своем предвидении он сказал в самую точку: все мы за это время изменились. Вернее, изменились обстоятельства, которые, в свою очередь изменили нас. И что-то изменить, как бы того ни хотели, мы не в силах.
Умом я понимал, что все произошло именно так, как и должно было произойти, что я поступил именно так, как должен был поступить. И все же было мне неимоверно тоскливо.
Потому что мне попросту некуда было податься на всем белом свете.
6
Я ехал в электричке в сторону Москвы. Глядел в окно.
Думал. Пил прямо из горлышка купленную в привокзальном ларьке водку. Закусывал подсоленными орешками арахиса из пакетика. И снова думал, думал, думал…
Мысли скакали, подобно кенгуру, с одной темы на другую, с одного вопроса на другой.
Жена… Теперь, впрочем, я ее так не называл даже мысленно. Обозначил ее про себе абстрактно-отвлеченно: ОНА. И все, точка. Формально — да, она оставалась мне женой, потому что не подала своевременно документы на развод. Но, как теперь мне стало ясно, не подала с вполне определенной целью: чтобы не лишиться неких благ, положенных воину — хрен его задери, это слово — интернационалисту. Вот оно, «Свидетельство о льготах» в плексигласовом футляре, лежит в кармане — черта с два этот трахарь-перехватчик сможет теперь воспользоваться этой «корочкой» для пробивания моей бывшей семье, в которую он примазался, каких-либо поблажек. Сам их заслужи, сам за них повкалывай, кровушку пролей: свою, подчиненных, врагов… Много вас таких, привыкших брать от жизни то, что другие заработали, выстрадали, вымучили…
Написать бы сюда, в местную администрацию, о том, что некий имярек пользуется правами «афганца» незаконно… Ну да ладно, этого я делать не буду, пусть живет, гнида. И гнидесса моя при нем тоже пусть живет.
«Администрация»… Как ее назвал Ярослав? Лариска. Ну, ученики часто учителей за глаза по имени обзывают. Сам был таким же… Лариса… Чайка по древнегречески. Вот она бы так с мужем поступила, случись с ним беда?.. А-а, и она, небось, такая же как и все — все они, бабы, одним миром мазаны.
Такая же… Все ли они такие? Ведь были же декабристки, например. Правда, когда мы вспоминаем их, говорим словами Некрасова: «Русские женщины». А ведь их в Сибирь последовало только одиннадцать из полутора сотен сосланных, да и то две из них были француженками… Может, это и есть истинное соотношение порядочных и не слишком порядочных женщин: одиннадцать из ста пятидесяти?.. Кто его знает, такой статистики, наверное, никто не вел. Ну хорошо, а все ли мужчины порядочнее женщин? Нет, конечно. Просто мы от женщин ждем того, в чем сами не являемся образцами добродетели. Почему-то считается, что так оно и должно быть: мы грешим с посторонними женщинами, требуя от своей неукоснительной верности. Абсурд, если разобраться.
Однако я сейчас не о грехе как таковом. Просто я сейчас понял, что должны существовать рамки греха. Безгрешных людей не бывает. А потому порядочным можно считать только того, кто эти рамки выдерживает.
Браво, Константин Васильевич, съехидничал внутренний голос. Прямо Гораций, Конфуций или Козьма Прутков — какие афоризмы выдаешь… Вот только кто тебе сказал, что такие рамки должны и в самом деле быть? И кто, по-твоему, их должен устанавливать? И что хуже — грех тайный или грех открытый?..
Рекбус, как говаривал покойный Райкин-старший, кроксворд…
— Мужчина, в одиночку пить вредно.
Я даже вздрогнул от этого голоса, который столь бесцеремонно вторгся в мои разбегающиеся мысли. Повернулся от окна, оглянувшись.
Рядом со мной плюхнулась на вагонную лавку девица лет тридцати или около того, весьма шалавого вида. Глядела на меня оценивающе, будто дубленку примеряла. Или мужика на вечер «снимала».
— Так и ты выпей со мной, — не пытаясь подобрать ответ пооригинальнее, предложил я ей именно то, на что она откровенно напрашивалась.
Водки в бутылке оставалось еще граммов двести. А мне на голодный желудок, сам чувствовал, уже и в самом деле достаточно.
— Что ж, угости!
Годы без женщины! Годы!.. Она мне привиделась писаной красавицей. И к тому же непритязательной. В конце концов, пусть осудит меня тот, кто сам устоял бы в такой ситуации.
— Угощаю! — жестом гусара графа Турбина-отца, швырнувшего цыганам остатки карточного выигрыша, протянул я ей остатки водки. — Только извини, хрустальных бокалов и ананасов на закуску не купил… Как в том анекдоте: «Звыняйте, Джонни, бананив немае…»
Она коротко, с готовностью хохотнула, охотно ухватилась за горлышко. Правда, ухватилась немного неуверенно — видно, уже и без того была в подпитии. Приложилась, несколько раз крупно глотнула. Поперхнулась, сморщившись, закашлялась. Из уголка рта потекла на платье струйка водки.
Еще не прокашлявшись, она весело и озорно подмигнула мне: извини, мол.
— Тебя как зовут, мужчина?
Прокашлявшись, девица отпила еще, теперь совсем чуть-чуть, опять сморщилась и опять уставилась на меня шалаво и пьяно. И пьяняще.
— Константин, — не стал скрывать я.
— Значит, Костик, — мгновенно сократила девица.
— Константин, — поправил я ее.
Еще на Костю я, быть может, и согласился бы. Но Костик… Костик — это перебор.
— Долго и длинно, — скривила губы девица. — Без пол-литры и не выговоришь.
— Ну так чего ж ты ждешь? Выпей — и выговори!
Она опять с готовностью хихикнула и смело отхлебнула еще. Передернулась, громко выдохнула. Икнула. А потом достала из кармана куртки и протянула мне большое зеленое яблоко.
— На вот, закуси. А то просто так пьешь… Без закуси пить вредно.
Я чуть усмехнулся. Ишь, Ева отыскалась, яблочком соблазнять. С Дерева познания добра и зла… Да я, дева, этого самого зла полной ложкой нахлебался во как, по самые уши… Разве что добра познать?.. Ну да ладно, будем надеяться, что в горле кусок, как у Адама, не застрянет и второй кадык не вырастет.
— Чего это ты надираешься? Так нельзя, в одиночку-то… Ты просто тихушник-алкоголик или у тебя беда какая стряслась? — не унималась девица.
Твою мать етить, психолог-утешитель выискалась! Тебе-то что за дело?..
Однако хамить не стал. Все же баба, вроде по-доброму говорит…
Не отвечая ей, в свою очередь спросил:
— А тебя как зовут?
— Марина, — жеманно протянула мне руку. — Будем знакомы. А можно Марианна.
— Очень приятно, — столь же церемонно ответил я.
В самом деле, какая мне-то разница? Марианна — так Марианна.
Судя по ее жесту, откровенно претендующему на кокетство, она рассчитывала, что я едва ли не приложусь к ее ручке. Однако я только пожал ее широкую крепкую ладошку.
Как мне показалось, пора было переводить разговор в более конструктивное русло.
— Куда мы едем, Марианна свет-батьковна?
Признаться, была мысль, что она изобразит смущение, начнет из себя строить нецелованную девочку. Однако все произошло проще, будничнее.
— А у тебя имеются какие-то предложения?
Четко и конкретно, — оценил я.
— Поскольку мне ехать некуда, — откровенно ответил, — поехали к тебе.
Марина на мою заявку ответила не сразу. Немного помолчала, размышляя. Призадумался и я. В принципе, отправиться сейчас к ней для меня было бы лучше всего — от реальности хоть чуточку отвлекусь, отдохну немного. Посплю с ЖЕНЩИНОЙ. А если быть откровенным с самим собой, хоть на одну, а может не на одну, ночь отодвину от себя необходимость что-то решать. Да и устал я от нынешнего дня.
Однако моя прыть девице, как можно было судить, не понравилась.
— Так что у тебя стряслось, Костик? — еще раз спросила она.
Нет, такие попытки что-то выведать у меня лишнее или именовать меня не так, как мне нравится, нужно пресекать в зародыше.
— Марианна, я же говорил, что меня зовут Константин, — напомнил спутнице.
Она отреагировала на мое недовольство, избрала компромиссный вариант.
— Так что же у тебя случилось, мужчина?
Ага, вот сейчас калоши скину и начну перед тобой душу выворачивать!
— А тебе не все равно? — повернулся я к ней. — Что-то случилось… Ну и довольно об этом.
Девица тоже уставилась на меня, наверное, решая, обижаться на меня или не стоит. Судя по всему, решила, что не стоит.
— Ну ладно, довольно — значит довольно, — согласилась она. — Тогда едем ко мне. Только еще бутылку нужно будет взять. Возьмешь?
Что ж это за мужчины тебе, Марина, попадаются, если о таких вещах приходится напоминать!
— Само собой, Марина.
— Тогда пошли — наша платформа.
Дергаясь и лязгая всем своим длинным железным телом, электричка притормаживала у ярко освещенной, полупустой в такое позднее время платформы.
7
Однако отдохнуть у Маринки и отвлечься от забот и хлопот мне в тот вечер так и не удалось. Более того, все так завернулось, что и в детективном романе подобную закрутку встретишь нечасто.
…Не знаю, стоит ли говорить о том, что в современных деньгах ориентироваться мне было довольно трудно. И не только потому, что выглядят они нынче не так, как выглядели в те времена, когда я еще свято и преданно служил Советскому Союзу. Все начинается с мелочей, например, с такой: в МОЕ время мы купюры нередко называли по цвету — займи, мол, до получки синенькую (красненькую, сиреневую и т. д.). А тут вдруг все они одинаковые, так что иной раз и перепутать можно.
Но с цветом еще как-то можно смириться. Беда в другом: не знаешь, что сколько стоит, не успеваешь посчитать нули на купюре. Видишь на витрине бутылку, видишь ценник, однако пока высчитаешь ее стоимость, пока соотнесешь ее с бумажками, которые смятым комом лежат в кармане…
Наверное, такие же чувства испытывает человек, оказавшийся за границей и который не может разобраться в тамошних деньгах. Но то за границей! А в своей родной стране…
Да какая она тебе своя? — взбрыкнулся было внутренний голос. Но я его тут же осек: своя! И точка!
— Чего ты там копаешься? — насмешливо спросила Марина. — Ты что, вообще отключился?
Нет, не отключился. Просто не могу сориентироваться, какие бумажки в окошко подавать.
Но не объяснять же ей, почему я в деньгах нынешних не ориентируюсь!
— Рассчитайся лучше сама! — я протянул Марине скомканные банкноты. — Возьми, что хочешь.
Она рассмеялась, но деньги схватила с готовностью. Наверное, прикарманит что-нибудь, — подумал я. Ну и черт с ней. Главное, чтобы не бортонула сейчас, не ушла куда-то. Потому что электрички больше не ходят и теперь мне уж точно податься будет некуда.
Что и говорить, я расслабился. Весь день на нервах. Светлый лучик прошедших суток — «администрация». Потом непростое свидание с сыном. Катавасия с женой. Выпитые натощак полбутылки водки. Обозначившаяся перспектива отдыха с Мариной…
— Гражданин, ваши документы, пожалуйста!
Само по себе обращение «гражданин» заставило меня вздрогнуть и подобраться. Сзади стоял человек в привычно-серой форме. Судя по усталому виду и потрепанной форме, это был местный милиционер — не то участковый, не то из линейного отделения. Он глядел на меня не то чтобы настороженно, а именно устало: мол, как мне надоели такие вот, как ты, кто нажрется до поросячьего визга, а потом с вами няньчиться нужно…
Именно эта его усталость, сквозившая во взгляде, и сбила меня с толку, стала причиной неразумного до глупости поступка, который напрочь сломал линию стабилизации моей жизни, на которую, на стабилизацию, я мог бы рассчитывать после нынешнего дня…
— А в чем дело? — не то чтобы с вызовом, но подчеркнуто недовольно спросил я.
Опытный нос человека в сером мгновенно учуял запах спиртного, сочащийся от меня.
— Так вы, кажется, пьяны? — не спрашивая, а констатируя, произнес он.
Стоп, — остановил я себя. Заводиться нельзя. Потому что это будет против меня. Нужно попытаться все уладить по-хорошему.
— Извини, начальник… — начал было я и… осекся на полуслове, похолодел.
«Начальник»! Так нормальный человек к представителям власти не обращается. Эту мою оговорку, а главное, последующую заминку опытно уловил и милиционер.
— Документы! — уже строже потребовал он.
Рядом оказалась Марина. Где же ты, подруга, была полминуты назад? Может, тогда и общения с «мусором» не состоялось бы…
Марина в одной руке она сжимала только что купленную бутылку, другой протягивала мне сдачу.
— Да ты что, Михалыч! — с ходу встряла она в наш разговор. — Он же со мной!
Однако Михалыч уже закусил удила.
— Последний раз повторяю: документы! — он недвусмысленно повел руку на правую ягодицу.
Шутки плохи, — оценил я.
— Да погоди ты! — с досадой оставил его я. — Есть у меня документы. И в полном порядке.
Тут бы мне, дураку, попросту достать справку — и тогда он бы от меня отстал. Тем более, что он, судя по всему, Марину тоже знает. Но я… Я сделал то, что сделал. А именно — сделал глупость.
Я достал свою «афганскую» «корочку». Михалыч такого не ожидал. Он, уже спокойнее, взял документ в руки, аккуратно извлек из плексигласового футляра. Раскрыл. Сравнил взглядом фотографию с моей физиономией. Наверное, усомнился — все же сколько лет прошло за время между снимком и мною нынешним. И каких лет! Да и в форме я там.
И потребовал:
— Это не документ. Паспорт давай!
И я подал паспорт. Паспорт, выписанный мне еще до армии… Не сообразил я, что этого делать было просто нельзя.
Судя по «Свидетельству о льготах», я военный, а значит, у меня должно быть удостоверение личности, а не паспорт.
Привыкший к спокойной жизни участковый, увидев этот паспорт, давно уже просроченный, не имеющий необходимых отметок, опять потянулся к кобуре, за пистолетом. Ну а мне, когда я уловил это движение, ничего не оставалось, как только принять меры самозащиты.
Глупость. Я сделал глупость. Она спровоцировала глупое поведение милиционера. Ну и я тоже сорвался. Спьяну, конечно, сглупа. Срываться мне никак нельзя было. Но — сорвался! Отрезав тем самым себе все пути к возвращению к нормальной жизни.
…Увидев его движение к кобуре, во мне сработало стародавнее: не дайся! Я легко перехватил его руку и вывернул за спину. Подхватил пистолет, выпавший из его руки и повисший на длинном тонком шнуре. И легко ударил милиционера под основание шеи — так, чтобы он вырубился, но чтобы, не дай Бог, не повредить ему что-то серьезно.
Рядом раздался отчаянный визг. Невольно обернувшись на него, я увидел, что верещит Марианна.
— Мариночка, умолкни, — тихо сказал я ей.
Как это ни странно, но именно мой негромкий голос ее заглушил. Она прижала ко рту руки и с ужасом глядела на происходящее.
Я быстро собрал свои документы, выпавшие из руки Михалыча, отстегнул от ремешка пистолет, рассовал это все по карманам. Только тогда обратился к Марине, которая смотрела на все это, по-прежнему зажимая рот рукой.
— Марина, — судорожно заговорил я, уже начиная понимать, что сейчас произошло событие, которое изменило мою судьбу на всю оставшуюся жизнь и исправить которое я уже не в силах. — Я этого не хотел. Но ты сама все видела… Прошу тебя, пожалуйста, когда тебя станут допрашивать, расскажи, как все было на самом деле. Только ничего не скрывай. Он первый достал пистолет и начал мне угрожать… Ведь так?
Марина глядела на меня бессмысленно выпученными глазами и судорожно кивала на каждое мое слово. И я понял, что из нее союзницы не получится. Да и не могло получиться. Более того, она вообще вряд ли понимает, о чем я ее прошу. Ну да ладно, лишь бы рассказала все без утайки.
Впрочем, по большому счету, это не имело никакого значения. Сдаться милиции сейчас означало бы автоматически опять «загреметь» лет на несколько — за сопротивление властям и нападению на милиционера, за завладение оружием… А я только несколько часов назад говорил сыну, что по кривой дорожке не пойду.
Я выхватил пистолет Михалыча, который было засунул за пояс брюк, и повернулся к киоскам. В каждом окошке торчало лицо. Больше никого поблизости видно не было — все же уже слишком поздно.
— Леди и джентльмены, — громко сказал я. — Мне сейчас терять нечего… Деньги! Выгребайте свои кассы!
Я быстро проскочил по всем киоскам, собрал все, что они выложили в открытые окошки. Кто-то из них вывалил все, что было, ну кто-то, вполне возможно, только часть… Мне на это было наплевать. Мне просто нужны были хоть какие-то деньги, чтобы сорваться подальше от всего этого. К тому же мне с непривычки даже трудно было оценить, какая сумма у меня собралась.
Совершив нападение на сотрудника милиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, я поставил себя вне закона. Тем более, захватив пистолет. Теперь на ноги будет поднята вся милиция округи. Значит, нужно срочно бежать отсюда.
Черт бы тебя побрал, Марина, со всеми твоими потрохами. Не встретил бы я тебя, не прицепилась бы ты ко мне в электричке — и не вляпался бы я в эту историю.
Я повернулся, подхватил свой чемоданчик и быстро зашагал в сторону, где, по моим предположениям, должно находиться шоссе.
8
Шоссе оказалось недалеко. Обнесенное с обеих сторон сплошными непроницаемо черными стенами леса, даже несмотря на позднее время, оно вовсю гудело моторами, струясь в обе стороны потоками автомобилей, выбрасывающими перед собой желтые конусы света. Стремительно пролетали легковушки, едва не по осевой линии плотно шли тяжелые «дальнобойные» КамАЗы и «Вольвы», мощно гудели дизелями междугородные «Икарусы»… Шоссе жило своей жизнью и ему было наплевать на одинокого беглеца, выскочившему с чемоданчиком на его обочину со стороны недалекой железнодорожной платформы-полустанка.
Я чуть поколебался: в какую сторону направиться? Естественно, лучше и удобнее сейчас было бы устремиться в Москву. Там и затеряться легче, чем, скажем, в каком-нибудь Можайске. Однако и милиция это понимает. «Киоскеры», несомненно, уже сейчас, в эти минуты, перебивая друг друга, торопливо рассказывают о происшествии «компетентным органам». Вот-вот информация о совершенном преступлении пройдет по всей трассе и на дороге, особенно на въезде в столицу, станут задерживать и дотошно проверять все машины. Даже если учесть, что мою внешность они описать смогут очень противоречиво — в подобных ситуациях всегда так бывает — в такое время не так много на трассе можно встретить случайных пассажиров. К тому же у меня в руках чемодан с вещами, который опишут всенепременно, это примета надежная. Ну а когда меня задержат и привезут сюда для опознания, мне не сможет помочь никто.
Впрочем, сдаваться я не собирался. Опять идти в «зону»… Даже не вкусив ни одного дня нормальной жизни… Нет, лучше пулю в лоб!
Может, прямо здесь, сейчас, на месте и рассчитаться с жизнью? Ведь ничто меня в ней, по большому счету, не держит…
Нет уж, дудки! Пока погодим. Пока потрепыхаемся. Пока поборемся.
И все-таки, куда же направиться, в какую сторону рвануть?..
Так я постоял какое-то время на обочине шоссе, не зная, как поступить в сложившейся ситуации. Времени на размышление нет — наверное, уже пошла на меня «оперативка». Так что ошибку допустить никак нельзя. Нужно быстренько решить две трудносовместимые задачи: поступить так, чтобы сбить со следа милицию, которая станет меня искать — и при этом не привлечь внимание людей, которые смогут подсказать, где я укрылся. Все просто. Вот только как это сделать?
Прежде всего — не паниковать, сказал я сам себе. Нужно успокоиться, не нужно шарахаться, не нужно дергаться, потому что тогда запутаешься еще больше. И поступить нужно так, как от тебя никто не ожидает.
Итак, быстренько рассуждаем. Милиция знает, что у меня сейчас два пути: в сторону Москвы и от нее. Значит, именно здесь, на трассе, меня и будут ловить. Следовательно, ни по одному из этих вариантов действовать нельзя, нужно найти какой-то третий, нестандартный, неожиданный для погони вариант… Тогда следующий: переночевать в лесу… А если сюда прибудет наряд с собакой? Пес меня отыщет без особых проблем, даже несмотря на то, что днем прошел дождик и всюду полно луж… Да и холодно будет, на земле не поспишь, утром черт знает на кого буду похож — уже одним своим видом стану вызывать любопытство… Тогда попытаться войти в какой-нибудь из этих домов и попытаться переночевать там… Ага, как же, так мне и откроют! Люди, проживающие возле большой дороги, всегда очень подозрительно относятся к незнакомым мужчинам, которые ночью просятся переночевать. И правильно, кстати, делают, что недоверчиво! Кроме того, не исключено, что прибывший наряд милиции начнет опрашивать жителей этих домов, не видел ли или не слышал ли кто из них что-то подозрительное. А они и ответят: да, мол, слышали и видели, вон он до сих пор у Митрича-самогонщика спит, этот подозрительный, который стучался…
Так как же мне быть? Просто так тут стоять тоже не дело. И без того сколько времени потерял!
Выход мне подсказал автобус, который, тускло светя грязными стеклами и дребезжа всеми своими суставами, притормаживая, проехал мимо меня. Значит, там, впереди, должна быть автобусная остановка! Если я дойду до нее, там будет столько следов, что ни один пес не сможет меня учуять. И на этом основании милиция точно решит, что я уехал на автобусе неведомо каким маршрутом. А я и в самом деле смогу уехать, хотя бы недалеко!
Я подхватил чемоданчик и припустился бегом к бетонной будочке, обозначившейся в свете фар автобуса. Только бы теперь успеть, не упустить этот посланный мне провидением шанс…
Есть такая притча. Тонет в море корабль. Все садятся в шлюпки, надевают спасательные жилеты… А на верхней палубе стоит один из пассажиров и не пытается спастись. От борта отчаливает последняя шлюпка, оттуда кричат человеку:
— Прыгайте к нам!
— Я верю, что Бог меня не оставит! — отвечает пассажир и не предпринимает ничего.
Корабль продолжает тонуть. К нему подплывает последний спасательный катер.
— Прыгайте к нам!
— Я верю, что Бог меня не оставит!
Подлетает последний вертолет.
— Цепляйтесь! — кричат ему оттуда, сбрасывая лестницу.
— Я верю, что Бог меня не оставит!
Корабль утонул. Душа пассажира попадает на тот свет и начинает пенять Господу:
— Я так в тебя верил, а ты меня не спас!
На что Господь ответил:
— А кто же тогда послал тебе последнюю шлюпку, катер и вертолет?..
Мудрая притча. Если ты попал в затруднительную ситуацию, любая соломинка, оказавшаяся в обозримой округе, может оказаться именно тем предметом, который послал тебе Господь или провидение, чтобы помочь тебе выбраться из неприятностей. И упустить сейчас автобус для меня было равносильно тому, чтобы отвергнуть веревочную лестницу с последнего вертолета.
Успел. С трудом, но успел. Двери уже зашипели, пытаясь закрыться. Одна половинка с лязгом захлопнулась, мотор затарахтел натужнее, готовясь стронуть автобус с места, когда я ухватился за измятую трубку поручня и вскочил на ступеньку. Чемодан, было, застрял в проеме, но это уже не имело значения. Я прижал ногой открытую половину двери, чтобы и она не захлопнулась, втянул чемодан в салон и только после этого перевел дух.
В автобусе народа почти не было. Понятно — к этому времени уже все нормальные люди уже спят и сны видят. А вот мне куда податься, чтобы сон интересный поглядеть?
Я поставил чемодан на заднюю площадку, встал рядом с ним и уставился в темноту ночи, которая проплывала за окном. Куда податься?
— Ваш билет, гражданин!
Гражданин… Опять «гражданин»! За спиной стояла женщина-кондуктор с потертой сумкой на груди. Вытащив из кармана деньги, отобранные у торговцев, я заколебался: какую купюру подавать? Сколько нынче стоит билет? И докуда мне ехать? Что сейчас ей сказать?
— Сколько будет до переезда? — наобум спросил я.
Ведь должен же где-нибудь в округе быть хоть какой-нибудь переезд!
Однако тут же оказалось, что я промахнулся.
— До какого переезда? — раздраженно спросила кондукторша. — Тут нет никакого переезда…
— Так мы что, прямо едем? — нашелся я.
— Прямо, — подтвердила она. Теперь уже смотрела с некоторым сочувствием. — А вам куда надо?
Самому бы знать…
— Тогда до следующей остановки, — вздохнул я. — Автобус перепутал…
Кондукторшу, наверное, тронул мой расстроенный вид. Она вытащила какую-то купюру из тех, которые я сжимал в руке, оторвала и сунула мне билетик. Только потом сказала:
— Ты там сможешь до утра простоять. Время позднее, автобусы уже последние идут… Так куда тебе надо-то?
Что тут скажешь? Пришлось на ходу сочинять.
— По большому счету и сам не знаю, — начал я вполне искренне. — С женой поругался, хотел у друга переночевать, да вот не в тот автобус сел…
Кажется, выглядело более или менее убедительно.
— А с женой чего не поделил-то?
Чего я мог с женой не поделить?
— Домой поздно пришел. Да и выпимши…
— Все бы вам, алкашам, водку бы пить! — обронила кондукторша. — Когда только напьетесь-то…
Но без напора обронила, вроде даже как-то с сочувствием… Странные они все-таки, женщины: своих мужей за это дело пилят, а посторонним сочувствуют.
Куда это ее сочувствие подевается завтра, если вдруг ее будут допрашивать о данном происшествии? А то, что допрашивать будут, я почти не сомневался. Скорее всего, все автобусные бригады, которые работали на трассе ночью, допросят.
— Так что ж дальше будешь делать? Уж лучше домой возвращайся. Мало ли что в жизни случается — поругались, помиритесь.
Домой… Домой дороги нет.
— И то правда, — вслух сказал я совсем иное. — Скажи водиле своему, чтобы остановил автобус. Я тут выйду.
…Автобус затарахтел и укатил дальше. А я опять стоял на обочине со своим дурацким чемоданом. Стоял и не знал, что делать дальше.
9
Однако не стоять же тут до утра! Надо куда-то идти, что-то делать. Я подхватил свою ношу, еще немного прошел вперед, в ту сторону, где исчез автобус. А когда увидел уходящий вправо проселок, решительно свернул на него.
Там змеится Можайское шоссе. Когда-то по этой дороге отступали наши войска после Бородино. К слову, в честь тех событий здесь и железнодорожные платформы именуются по именам героев той войны — Дорохово, Тучково… Когда прокладывали железную дорогу, она много раз пересекалась Можайским шоссе, вдоль которого издавна было множество населенных пунктов. А потому когда строили Минское шоссе, его специально проложили чуть в стороне, чтобы не было пересечений ни с железной дорогой, ни со змеистым Можайским, да и населенных пунктов вдоль «Минки» очень мало…
Вот и рассудил я, что если выйти на «Можайку», там и на ночь устроиться полегче, и искать станут не так тщательно, как на большой магистрали.
До ближайшего населенного пункта я добрался только через час. Уставший, голодный, злой, проклинающий судьбу, Марину и себя, я решительно направился к первому попавшемуся светящемуся окошку. Если меня сейчас сюда не пустят, я просто раскачу этот дом по бревнышку. Если только на меня бросится собака, я ее попросту застрелю…
Однако все получилось намного проще и без проблем. Хоть тут повезло.
Калитка, которую я толкнул, громко и противно заскрипела. И тотчас же от крыльца раздался густой, прокуренный мужской голос:
— Кто там?
Что можно было ответить? Не кричать же в темноту, объясняя, откуда я появился!
— Я, — коротко отозвался.
— Колька, ты, что ли?
Не ответив, я громко выругался.
— Ты чего? — вновь раздалось из темноты.
— Да не видно, ёть, ни хрена.
В темноте слабо затрепетал огонек спички.
— А, во, теперь увидел.
На лавке возле крыльца сидел и курил мужчина. Под темным ватником ярко белела майка. Да еще белки глаз в темноте поблескивали.
— Ты чего пришел, Колька?
Теперь, когда я подошел вплотную, скрываться больше не было нужды.
— Я не Колька, — пришлось признаться.
Даже в темноте я почувствовал, как напрягся мужчина.
— А кто ты? И чего тебе надо?
— Погоди, мужик, — постарался я его успокоить голосом. — Погоди, ёть, послушай… — Я поставил чемодан на землю, подошел вплотную к нему, уселся рядом на лавку. — Будь другом, ёть, пусти переночевать, — сразу сказал главное.
— А кто такой? — хозяин держался настороже, но не паниковал. Значит, можно было рассчитывать, что с ним удастся договориться.
— Долго рассказывать, — постарался я уклониться от долгого разговора. — Понимаешь, ёть, сегодня выпил, а ко мне «мусор» прицепился. А я когда «поддатый», жутко заводной. Я его по морде съездил, да и дёру…
Я специально старался говорить попроще, без сложных словесных конструкций, но и не сбиваясь на лагерный жаргон. Пусть думает, что я простой работяга.
Мужик переваривал услышанное.
— А если завтра те же «мусора» ко мне заявятся и спросят про тебя, как мне быть?
— Да так и говори: пришел, ёть, мужик, попросился переночевать, а утром ушел. Всего-то, ёть, и делов-то… Ты-то откуда мог знать, что я такой и зачем появился…
Хозяин опять ответил не сразу. Тут надо ловить момент, если примет решение — переубедить труднее будет.
— Ты, мужик, ёть, не переживай! — заговорил я. — Ты мне только переночевать где-то дай, да и все. Утречком уйду… Сам же знаешь этих «мусоров»: прицепится, ёть, ни с хрена, да еще в кутузку упрячет…
— А ты, может, бандюга какой, — по голосу чувствовалось, что он уже сдается. — Утром встанем, а дом пустой…
Он не закончил, потому что я рассмеялся.
— Да будь я бандюга, я бы тебя, ёть, не спрашивал бы. Тебя сейчас, ёть, заломать ничего не стоило бы…
— Но-но, еще неизвестно, кто кого заломает, — неожиданно обиделся хозяин.
— Да ладно тебе, — пошел я на попятную. — Я же, ёть, не о том. Я же не собираюсь заламывать, я, ёть, грю, что если бы бандюга… А я даже заплачу! — вдруг сообразил я главное. — У меня, ёть, «башли» есть.
Хозяин смачно и незамысловато выругался.
— Чё я тебе, гостиница? Ты бы лучше бутылку поставил — и все дела.
Русский мужик и есть русский мужик.
— Нету у меня с собой, — виновато сказал я. — Если недалеко, можно сходить… Только я, ёть, не знаю, где тут у вас что есть.
— «Нету с собой»… — передразнил он. — Нужно было иметь… Ладно, пошли, — принял он решение. — Только так: ты мой «корешок», случайно тут оказался и задержался, а потому ко мне пришел, потому что переночевать негде. Понял?
— Это для жены, что ли, сказка? — понял я.
— Ну да, чтоб не свистела, — опять выругался он. — Тебя как зовут?
— Константин, — назвался я. — А тебя?
— А я Михаил. Я тут на тракторе в совхозе работаю. А ты где?
И снова я ответил уклончиво:
— А я в охране.
— Хорошо, так и скажешь, что на станции ларьки охраняешь, — решил он. — Пойдет?
— Договорились, — согласился я.
Очень хотелось надеяться, что теперь-то уже ночь пройдет без происшествий и наконец высплюсь.
Часть третья Возвращение Мириам
1
К подобным бесконечным спорам у меня, должен признаться, двоякое отношение. С одной стороны, вроде бы и разговор по теме, и что-то новое иной раз для себя узнаешь. Ну а с другой — надоела все та жвачка бесконечная, тягомотина словесная. В самом деле, сколько можно одну и ту же тему обмусоливать? Послушаешь иных наших ребят, так всерьез начинаешь думать, что они и в самом деле считают Россию и славянский мир в целом — единственной подлинной родиной слонов.
…Вот и сегодня поначалу ребята тихо-мирно резались в карты. Тут это дело привычное, карты. Причем, ладно бы играли во что-то умное, в преферанс, например, или в кинг. Нет же: «очко», «бура», да «сека». Игры для зеков, да для дебилов, и смысл в этих играх состоит только в том, кому больше повезет, да кто кого ловчее объегорит. Срезаться в «дурака» — это для них уже верх интеллекта. Просаживают тут друг другу все свои капиталы от нечего делать.
Смешно: было бы что просаживать… А, может, потому и просаживают, что ни у кого нечего нет? Говорят, наемники, которые воюют по ту сторону, получают по 2000 немецких марок в месяц — здесь почему-то всегда ориентируются не на американские «баксы», а именно на дейч-марки. Так, думаю, наемник, повоевав месяцев несколько, не станет ставить на кон все свои сбережения, потому что ему ЕСТЬ что ставить. Ну а нам, добровольцам из России и СНГовии, платят, как и своим солдатам, по 20 марок, иногда чуть побольше, но не кардинально больше. Перевести на российские рубли по курсу — даже пообедать толком не сможешь… Так за что тут держаться? Хоть весь год провоюй — такие копейки получишь, что и домой-то везти нечего.
Сегодня первыми завелись казаки. Наверное, картежная фортуна от них отвернулась. Хотя они часто первыми заводятся, взрывные очень.
…У нас тут, как я уже, кажется, говорил, между казаками и «мужиками» едва ли не конфронтация. Особенно на первых порах она была заметна. Впрочем, это я, пожалуй, чуть призагнул. Не конфронтация. Просто острое соревнование своеобразное, замешанное на изначальном взаимном неприятии. И опять же неправ я. Замешано оно не на неприятии, а недопонимании, так будет сказать точнее. И хотя острые углы уже немного сгладились, особенно после кровопролитного боя на горе Заглавок, когда основной удар мусульман выдержали именно мужики, разделительная грань сохраняется довольно четко.
Во всяком случае, если наш отряд когда-нибудь распадется, что, на мой взгляд, вполне вероятно, скорее всего первопричиной этому будет именно взаимонеприятие казаков и мужиков.
Короче говоря, первым карты на стол швырнул Сашка Слобода.
— Все, на сегодня хватит. Не идет мастя, едрить твою налево! — в сердцах объявил он.
— Что, проигрался? — лениво поинтересовался из угла Серега Комик.
Он сюда приехал из Сыктывкара, столицы Республики Коми, вот его и прозвали Комиком. Серега против такого боевого псевдонима не возражал. Впрочем, мастер подзуживать, он и в самом деле отвечал своему прозвищу. Только комик из него получился нехороший, злой, который других стравливает, а сам при этом из своего угла довольно усмехается и мысленно ладошки потирает.
— Вдребезги, — раздосадованный проигрышем, подставился Сашка.
Серега не был бы собой, если бы не съязвил по этому поводу.
— А ты нагайку на кон поставь, — посоветовал он. — Или лампасы…
Довольные удачной подначкой, мужики весело захохотали. А Слобода даже позеленел от злости.
— Я те щас посмеюсь, едрить твою налево! — подскочил он с места.
Насупились и остальные казаки. Ничто так не разлагает дисциплину, как вынужденное безделье. Да и пример соседей тоже… Уже сколько времени мы тут просто сидим без дела. Только и дел для большинства — периодически стоять на посту, а точнее лежать на положае, глядя в сторону мусульман. Тишина вокруг — будто и войны нет никакой. Сербы регулярно сменяются с позиций и отправляются домой на побывку. Мы, лишенные такой возможности, вынуждены время коротать по-своему. А потому нечастные выезды в город обычно превращаются в громкую гульбу, от которой гудит вся округа.
Бой или другое совместное дело людей сплачивает. Ну а когда не знаешь, куда девать время, начинаются подобные конфликты, возникающие, как правило, на абсолютно пустом месте.
Сашка между тем и в самом деле потянулся за нагайкой. Однако, насколько можно было судить по его зловещему виду, отнюдь не для того, чтобы поставить ее на кон. Вмешиваться не хочется, однако, не исключено, придется.
— Ты, чухонец, говори, да забалтывайся! — с угрозой проговорил Комику Ромка Хопёр, есаул Войска Донского, который был в отряде старшим над казаками. — А то сейчас быстро у нас схлопочешь…
— А я чё? Я ничё…
Комик старательно изображал сдрейфившего человека. Это ему удавалось неплохо. Только я-то его успел неплохо узнать за это время… Таким образом он продолжал юродствовать, издеваться над казаками.
— Я-то чё? — продолжал бормотать из своего угла Серега. — Подумаешь, я думал, нагайку заложить за выигрыш… Ну и чё в этом такого?
Сашка Слобода ответил ему уже миролюбивее, хотя и по-прежнему угрюмо:
— Да ты знаешь, что такое для настоящего казака нагайку заложить?
Подобный разговор происходил уже не в первый раз. Однако Комик делал вид, что даже не представляет подлинную ценность нагайки.
— Ну и чё? — он старательно строил из угла удивленные глаза. — Палка с веревочкой — чё за ценность?
— «Чё-чё»… — снисходительно передразнил Ромка. — Суп-харчо!
Теперь уже Серега обиделся. Только он это сделал не серьезно, просто чтобы еще больше подзадорить казаков, но не довести до конфликта. Потому что тогда зачинщиком окажется лично он, а этого не хотелось — горячий народ казаки.
— Ну чё ты дразнисси? — заныл он. — У нас все так говорят…
Сашка откинулся на стуле, собираясь произнести речь о роли казачества в мировой истории.
— Да мы, донские казаки, если хочешь знать, происходим от древних хазар, перед которыми все трепетали — от Китая и Уйгурии до Балтийского моря! — заявил он. — Само слово «казак» — это видоизмененное «хазар»!
— Да ну? — слишком удивленно переспросил Серега. — Так я ж слыхал, что хазары — это те же евреи, только прикаспийские… Врут, выходит?
Сашка опять стал закипать:
— Никогда в истории казачество ничего общего с жидами не имело!
И снова слышится удивленный голос Сереги из дальнего угла:
— Да ну? А недавно писали, я сам где-то читал, что где-то на Северном Кавказе атаманом избрали какого-то Рабиновича. Опять врут, выходит?
Если бы только Слобода мог предположить, что его разыгрывают, он бы сейчас Комика изуродовал. Однако тот настолько умело изображал недоумение, что казак считал своей святой миссией раскрыть собеседнику глаза на его заблуждения.
— Сейчас могут наворотить чего угодно, — согласился он. — Истинные казаки (слово «истинные» он произнес по-сербски — «истые») расползлись-разъехались по всей стране, обрусели полностью, о корнях своих забыли, вот и лезут в атаманы всякие пришлые выскочки.
Серега решил репертуар не изменять.
— Да ну? — снова спросил он. — Ну а вы чё же? Вы-то, истые?..
Сбитый с толку столь простым вопросом, Сашка в замешательстве умолк.
— Ты что, Слобода, не видишь, что он дурку валяет, тебя заводит? — негромко спросил его Микола Брюхан.
Брюхан у нас с Украины. Настоящая фамилия его — Брюхо. Из этого он делает вывод, что род его происходит с Запорожской Сечи, где якобы все фамилии, а вернее прозвища, были такими — Пузо, Ус и так далее. «Кто не верит, того же «Тараса Бульбу» перечитайте», — неизменно с гордостью заканчивал он свой рассказ о родословной. В другое время он частенько спорил с донцами, в безуспешных попытках выяснить чье казачество старше и за каким из них числится больше исторических подвигов. Однако тут был целиком и полностью на стороне казаков — положение обязывает.
Нет, похоже, пора вмешиваться. Еще подерутся, чего доброго. Конфликт легче пригасить в зародыше, чем потом тушить пожар.
— Ромка! — не оборачиваясь к компании, окликнул я от окна, у которого сидел все это время, глядя сквозь мутное треснутое стекло на улицу. — Пойди сюда!
Судя по зависшей тишине, внимание компании переключилось на меня. Нечасто я подаю голос.
— А что?
Ромка — есаул, между тем как я всего-навсего капитан.
Причем, я капитан отставной, а казак, как любил говорить Хопёр, в отставку не уходит. Но с другой стороны, и игнорировать меня нельзя, авторитетный человек, как никак, дед.
— Пожалуйста, подойди, разговор есть.
На такую просьбу не откликнуться уже никак нельзя. Роман, громко гремя невесть где добытыми шпорами, прикрепленными к высоким югославским ботинкам, присел рядом со мной на подоконник, и, оказавшись выше, смотрел на меня сверху.
— Чего хотел?
Чего я хотел? Да только одного: что мы, русские добровольцы, представляли собой единое боевое подразделение, полноценную боевую единицу, а не кучку переругавшихся, как бы сказать повежливее… индивидов — остановимся на этой нейтральной формулировке.
— Ром, не нравится мне, что наши все время между собой ругаются, — сказал я ему негромко, чтобы слышал только он один.
Есаул согласно хмыкнул:
— Да уж что хорошего… Но ты же сам слышишь: мужики сами затеяли…
— Твои тоже хороши, — не дал я ему развить мысль. — Все мы тут хороши, — добавил тут же, восстанавливая справедливость, чтобы казак не подумал, что я за мужиков вступаюсь.
На банальную очевидность что-либо возразить трудно. Хопёр пожал плечами.
— Так что ты предлагаешь?
Что предлагаю? Сам толком не знаю.
— Ты в армии служил?
Ромка передернул плечами, высокомерно вскинул подбородок.
— Конечно.
— У вас замполит был?
— Был, конечно, — кивнул казак. — Только я ведь служил, когда перестройки начали перестраивать, так он тогда подрастерялся, не знал, какую политику нам внушать… Да ну их, замполитов этих, — неожиданно закончил он. — Все нудят, воспитывают…
Что и говорить, замполитам и их преемникам и в самом деле несладко пришлось в конце 80-х — начала 90-х… Впрочем, это их проблемы, нужно было более убедительно подчиненных воспитывать, чтобы те, уволившись из рядов непобедимой и легендарной, так дружненько не бежали под знамена демократии…
— Знаешь, Ромка, я когда ротой командовал, так же рассуждал, как ты сейчас сказал, — неожиданно для себя самого вдруг поделился я.
Надо сказать, приехав сюда, зарок себе дал: поменьше откровенничать и душу кому бы то ни было изливать. Рассуждал, что ни к чему это. Еще ТАМ со всей очевидностью понял, что никому каждый из нас со своими проблемами не нужен, что в этом мире каждый за себя. Выполнять зарок удавалось без особого труда. Не последнюю роль в этом играло то, что я тут самый старый, гораздо старше остальных ребят, а значит мне с другими добровольцами нередко бывает просто неинтересно разговаривать. Они-то в новой жизни, в новых условиях жили и воспитывались. О чем мы с ними могли поговорить, когда я из мощной страны, перед которой пол-мира трепетало, а вторая пресмыкалась, вдруг попал в аморфное образование, наглядно иллюстрирующее знаменитый девиз Бронштейна-Троцкого «ни мира, ни войны». В самом деле: государства разные, а границ между ними практически нет; валюту все собственную наштамповали, а подлинного обеспечения под нее не имеют; народы не прочь были бы по-прежнему жить вместе, а политики, подобно лебедям, ракам и щукам, доламывают-дорастаскивают повозку в разные стороны…
Впрочем, Бог или черт с ним, с этим государством! Мне до него теперь дела нет, хотя в свое время я за него готов был жизнь отдать. Я сейчас о другом.
Эти ребятки, которые сейчас за моей спиной глядят друг на друга волками, готовые передраться из-за пустяка, они росли и менялись параллельно с изменениями, которые происходили в стране. Они постепенно привыкали, что Украина, где живет мой старинный друг и сослуживец Василий Дзундза, Грузия (Гиви Иукуридзе), Армения (Аракелян, а вот имя его напрочь забыл), Казахстан (Агабай Сафинов и Эрмек Мендикулов) — все остальные составляющие «нерушимого Союза» расползаются и становятся заграницей. На памяти этих ребят постепенно добавлялись нули на ценниках и на купюрах, в то время как для меня по-прежнему «андроповка» за пять рублей шестьдесят копеек остается актуальной. Они были свидетелями обвальной, но все-таки хоть несколько протяженной во времени криминализации общества, а для меня это произошло вдруг — уходил из спокойной страны, вернулся едва ли не в притон, размером в одну шестую часть суши. Для нас словосочетание «социальные гарантии» действительно обозначали социальные гарантии, а сейчас провозглашено, что «каждый выживает в одиночку» и государство тебе в этом не помощник.
Нет, мы с ними не понимали друг друга. Впрочем, они, эти молодые, тоже ко мне особенно не стремились в друзья. Правда, в бой, на задание, даже в обыкновенный дозор в паре со мной шли с удовольствием, даже очередь своеобразную установили, потому что знали, что опыт у меня в подобных делах немалый.
…— Так чего ты хотел? — нетерпеливо напомнил о себе Ромка.
Да, отвлекся я.
— Когда я ротой командовал, у меня тоже был замполит, — продолжил я. — Вот крови он у меня попил… Нужно территорию убирать, а он всех рассаживает на какую-нибудь лекцию. Нужно технику обслуживать, а у него политинформация запланирована…
— Знакомая картина, — ухмыльнулся Хопёр. — У нас ротный тоже ругался с замполитом… Только наш особенно на своем уже не настаивал — времена другие уже были, коммунистов потеснили…
Я их тоже не особенно любил, этих политработников и коммунистов. Особенно когда парторг полка вызвал меня к себе и намекнул: выше роты не сможешь продвинуться, пока в партию не вступишь. Позвал я тогда своего замполита в каптерку, бутылку выставил, прапора за закуской послал и спросил в лоб: правда, мол? Тот потупился, хлопнул полстакана и подтвердил: правда.
— Да что ж, мне партия твоя умения командовать добавит, что ли? — разгорячился я. — Или мне вместе с членским билетом в подразделение техники подкинут?
Замполит сидел, понурившись, задумчиво глядя на стакан с водкой, который держал в руке.
— Знаешь, меня такая постановка вопроса и самого коробит, — признался он. — Партия — одно, служба совсем другое. Так я считаю. Да только ведь плетью обуха не перешибешь, Костя. Ты человек военный, офицер перспективный, ты должен расти. А потому, хочешь ты этого или нет, а в партию тебе вступить придется.
Придется…
— Но я не хочу насильно, вынужденно, чтобы меня заставляли! — вспылил я.
— И я не хочу, чтобы заставляли, — согласился мой зам. — Но ты посмотри на ситуацию с другой стороны. Первое: лозунги партии — дружба народов, долой эксплуатацию, даешь равенство и так далее — с ними ты согласен?
— Конечно, — было бы с чем спорить! — Но только…
— Погоди, — остановил меня замполит. — Теперь с другой стороны: ты же видишь, сколько в партию лезет людей нечестных, просто непорядочных, которые вступают в нее из корыстных побуждений. Видишь?
Отвечать я не стал, потому что понял, к чему он клонит, только угрюмо кивнул.
— Такие люди — ты понимаешь, на кого я намекнул — они дискредитируют саму идею нашего общества, — замполит говорил это, не поднимая глаз, и я не мог понять, говорит он мне это искренне или же для того, чтобы выполнить некую задачу. В конце концов, я же понимал, что если я откажусь стать членом партии, ему, моему заместителю, тоже нагорит за слабую воспитательную работу. — А ты-то чем хуже? Он, карьерист, пойдет вверх по ступенькам, а ты из гордости добровольно соглашаешься остаться внизу… А потом он же, армейская бездарь, приедет тобой же командовать! Где же логика?..
Он был прав, мой замполит. Не называя фамилии, он намекнул на нашего же замкомбата, человека бессовестного, беспринципного, но умеющего красиво и складно обличать пороки и поддерживать очередную линию партии. А еще, косвенно, указал мне еще на одного сослуживца, капитана из артиллерийского дивизиона, Олега Хрусталева, артиллериста от Бога, который, получив что-то там по партийной линии, разом лишился шансов на продвижение по служебной лестнице.
…В конечном итоге я переступил через свое самолюбие и, внутренне показывая членам парткома дулю, вступил-таки в партию. Ничего в моей жизни и поведении от этого не изменилось, только теперь приходилось взносы платить, да раз в месяц на собраниях сидеть. И это, естественно, моей любви к коммунистам не добавило. Вернее, не ко всем, конечно же, а к тем, которые в президиумах сидели и нас жить учили, воспитывали.
…И вот теперь я вдруг вспомнил своего замполита. Где он теперь? Чем занимается?
Среди них, тех, кто активно проводил в свое время идеологию в жизнь, сейчас раскол произошел — будь здоров! Одни «верные ленинцы» сейчас вдруг стали самыми ярыми и активными поборниками капиталистического образа жизни. Другие живут на подачки с Запада. Третьи как могут пытаются приспособиться к изменившейся жизни. И только очень немногие пытаются отстаивать то, к чему всегда призывали. Интересно все же, мой-то как нынче?
В одном уверен: здесь, среди моих парней, его здорово не хватает. Он бы сумел наладить организацию досуга, которого тут оказалось больше, чем требуется.
— Надо как-то занять людей, — сказал я наконец главную мысль, которая давно вертелась у меня в голове, да только никак не могла уложиться в четкие формулировки. — А то они у нас от безделья скоро стреляться начнут.
— Как стреляться? — опешил Ромка.
— Ну, как? Не застреливаться, конечно, а стреляться между собой. Дуэли устраивать.
Судя по реакции, Хопёр об этом не задумывался.
— А что ты предлагаешь?
Если б я знал! Моего замполита этому специально учили, лекции всякие читали. А у меня в училище на всю партийно-политическую и культурно-досуговую работу всего-то и было: парочка десятков часов на весь курс обучения. Мы этому предмету и внимания особого не уделяли — так, спихнуть бы поскорее, да и дело с концом.
— Я и сам не знаю, — признался откровенно. — Надо какие-то лекции, вернее, беседы проводить, какие-то политинформации… Вот что в мире, за пределами нашей казармы, творится, ты знаешь?
Ромка не знал.
И от этого неожиданно взъярился:
— А мне по барабану, что в мире творится. Меня интересует, почему ООНовцы тут занимают сторону хорватов и мусульман, почему весь мир помогает только нашим врагам, откуда у мусликов столько денег для оплаты наемников, почему у них все вооружение новенькое, а у нас нет средств для закупки…
Сзади зависла тишина. Вопросы, которые задавал Ромка, волновали всех. То, что происходит вселенское предательство по отношению к сербам, было очевидно.
— Вот потому нам и нужно подумать о том, чтобы организовать информирование людей о том, что происходит в мире, — негромко заметил я.
Сзади певуче, с громким пружинным скрипом, распахнулась дверь.
— Беспросветный! — раздался голос. — На выход!
Странно, кому бы это я мог понадобиться? Поднявшись, я слегка ткнул сжатым кулаком Ромку в плечо.
— Ты подумай, есаул, над тем, что я сказал. Сам же знаешь: когда собаке делать нечего, она ложится и свое хозяйство вылизывает. А человеку туда не дотянуться, так что ему другие занятия, для ума, нужны. Ты согласен?
Ромке шутка понравилась. Он довольно хохотнул и ответил, обнажив стальные боковые зубы:
— Конечно, согласен…
2
Я пересек большую комнату, где располагался отряд, и вышел в коридор. Наш отряд с самого начала, с прибытия, располагался в помещении турбазы, кое-как, по-солдатски хозяйственно и по-солдатски же не слишком аккуратно, переоборудованной под казарму. Мы тут проживаем уже не первые. С одной стороны, это неплохо. Во всяком случае, патронов тут всюду было, когда мы приехали, — прорва; как говорится, стреляй не хочу. Вот и стреляли и продолжают стрелять! Стены изрешечены пулевыми отметинами, будто тут тренировались штурмовать рейхстаг или дворец Амина. Между тем реальных боев, насколько я знаю, тут не было. Так, от нечего делать пуляли. Благо, хоть жертв пока, тьфу-тьфу-тьфу, не было.
В коридоре стоял, поджидая меня, Ленька Кочерга. Грязный весь, такой закопченный, что даже татуировки на руке не видно, длинный, нескладный, с автоматом… Глядит на меня и зубы скалит. Зубы белые, блестящие, особенно на фоне неумытого лица.
— Салют, капитан! — увидев меня, Ленька растягивает губы еще шире.
— Здравствуй, Леня! — Я протягиваю ему руку. — Чего тебе?
Тут только до меня доходит, что Кочерга должен быть на положае.
— Как ты тут оказался?
— Ребята специально за тобой прислали.
Ничего не понимаю. Это же не ближний свет — с положая до турбазы добираться! У них там машины нет, значит, он пешедралом добирался!
— Да что стряслось-то?
Ленька всегда подвижный, весь дерганный какой-то, его тело и секунды не может оставаться в покое. А тут вообще чуть не приплясывает от нетерпения. И улыбка на весь частокол довольно прореженных стоматологами (как в белых халатах с бормашинами в стерильных кабинетах, так и в удобных курточках с кастетами в темных переулках) зубов…
Что же там стряслось? Кочерга сюда попал своеобразно… Впрочем, сюда вообще все попадают своеобразно, сюда двух одинаковых путей просто не существует… Он родом из небольшого захолустного городка с каким-то известным историческим названием — не то Мещерска, не то Белозерска, а может Мценска… Не помню точно. Да это и неважно. Дважды отсидел, оба раза не то за драку, не то за мелкое хулиганство. Вернулся второй раз домой, а делать-то там нечего. Предприятий и раньше было немного, а теперь и те вообще стоят. Родители и сами едва концы с концами сводят. Девушка, с которой встречался и из-за которой в первый раз в «зону» загремел, что-то сотворив по пьяному делу, давно уже замужем, ребенка родила… Зато дружки старые встретили как родного — как же: две «ходки», едва ли не общепризнанный «авторитет» районного масштаба… Однако в третий раз идти в «зону» Леньке не хотелось, ехать некуда и не к кому, попытался завербоваться в армию, по контракту, в Таджикистан или в Приднестровье — из-за биографии не взяли… Так и оказался он здесь.
Ко мне Кочерга относился с благоговением. Видел едва ли не образец для подражания. Потому что я тоже сидел, причем, сидел долго, по «мокрой» статье, а после этого пренебрег вполне реальной возможностью прочно укорениться в преступном мире. Оказалось, что у нас с ним имеется общий знакомый — мир тесен, а мир «зон» еще теснее. Некий случайно получивший срок интеллигент по кличке Поэт, которого я взял под свое покровительство, впоследствии был переведен в «зону», где мотал второй срок Кочерга… Так вот и вышло, что Ленька не только меня давно заочно знал, но и заочно же уважал. В первую очередь, понятно, за тот случай, о котором ему поведал Поэт…
Ну да ладно, что-то меня сегодня все на воспоминания тянет. Наверное, старею. Или, говорят, перед скорой смертью на войне у людей такое часто случается.
Впрочем, мысль о смерти давно уже меня совершенно не пугала, даже не беспокоила. Главное — чтоб не увечье, вот это страшно.
— Так что случилось?
Ленька улыбался. Пританцовывал. Подмигивал.
— Иди проси у сербов машину, поехали на положай, — тянул меня за рукав.
Мне это надоело.
— Слушай, Ленька, я с места не сойду, пока ты не объяснишь, куда ты меня тянешь.
Реакция Кочерги была совсем неожиданной. Он весело рассмеялся, подмигивая одновременно обоими глазами.
— Смех без причины — признак дурачины, — сообщил я. — Что тебя так веселит?
— Представляю, как ты побежишь, когда узнаешь, почему я за тобой пришел.
Что за новости?
— Да что случилось?
Ленька постарался сдержать себя, даже дергаться и хихикать перестал. Только грязная кожа возле глаз все собиралась в смешливые морщинки.
— Слушай, Беспросветный… Константин Васильевич… Ну не спрашивай у меня ничего, ладно? Просто поехали — и все. Не пошел бы я пешком в такую даль, чтобы тебя из-за пустяка звать. Или чтобы тебя разыграть. Ведь правда?.. Даже первого апреля не пошел бы…
Конечно, правда. По большому счету, уйдя с положая, Ленька совершил преступление. И ради чего? Ведь и в самом деле не ради розыгрыша.
— Ладно, — решил я. — Поехали. Но только, Леонид, гляди: если это шутка…
— Никакой шутки, капитан! — заверил Ленька и опять весело, в предвкушении чего-то любопытного задергался по-новой. Не скрываю: он меня заинтриговал. — Ладно, жди!
Вернувшись в комнату, я прошел в свой угол, подхватил автомат, проверил магазин. Надел самодельную «разгрузку» — безрукавку с кармашками для боеприпасов, начал рассовывать по местам запасные рожки и гранаты. Отметил про себя, что Ромка Хопёр в углу о чем-то беседует с нашим отрядным писателем.
Есть у нас такой. Даже не так, появляются у нас такие вот иногда, писатели. Приедет, сходит с нами куда-нибудь раз-другой, потом исчезает. А там глядишь, такое появляется в газетах да журналах, что просто диву даешься, как можно писать подобное про людей, с которыми ракию пил, закусывая невкусными западными консервами и опасности делил.
Вот и этот — сидит в углу и все пишет чего-то. Или слушает. Или расспрашивает ребят о том, как они сюда попали… Еще неизвестно, что он пишет. Мы-то особенно не скрываем, кто откуда приехал, чем до армии занимался… А он, писатель наш, все на ус мотает. Может, это уже сейчас досье собирается на участников добровольческого движения в поддержку сербов.
— Ты куда, Беспросветный?
Спросил Сашка Слобода. Он накануне только просился, чтобы я его взял как-нибудь с собой на задание. Я уклонился от ответа, не сказал ни да, ни нет. Не то, чтобы против него что-то имел — просто по-моему, от добра добра не стоит искать. Если уж у нас с Радомиром такой тандем удачный сложился, чего же его менять?
— Вызывают, — нехотя ответил я, не уточняя, кто вызывает и куда.
Не хотелось, чтобы Слобода опять начал проситься со мной, потому что пришлось бы отказать. Однако этого не произошло. Наверное, он и сам понимал, что я его не возьму, а кому хочется получать отказ в присутствии такого числа сослуживцев? Так что Слобода больше ничего не сказал, только посмотрел просительно и выжидательно. Я коротко взглянул на него, так, чтобы он понял: пойду без него.
Вещмешок решил не брать. В конце концов, даже если не успею сегодня вернуться, переночую на положае.
Закинув автомат на плечо, направился к двери. Уже взявшись за ручку, не оборачиваясь, сказал:
— Счастливо оставаться!
— Удачи тебе!
Отозвался только один голос, кажется, все того же Сашки Слободы. Второй добавил только после того, как я захлопнул дверь.
— Ишь, крутого из себя строит!..
Кто это сказал, не знаю. И слушать больше не стал, хотя тут же раздалось одновременно несколько голосов.
Не любят меня ребята. Однако меня это не задевает, право же, не вру. Потому что я и сам особенно никого не люблю. Главное — чтобы уважали, чтобы в бою положиться можно было бы. Я вообще по натуре одинокий волк. Да и жизнь все больше настраивала меня на такой же ритм существования, на одиночество. Мне легче слушать, чем говорить, промолчать и сделать по-своему, чем доказать другому, в чем он неправ и как нужно сделать лучше. Почему мы сошлись с Радомиром, потому что и он по натуре примерно такой же, только у него еще имеется такое чудесное качество, как умение подчиняться и учиться. Когда меня здесь не станет — либо вообще не станет, либо когда уеду отсюда — из Радомира получится прекрасный разведчик-диверсант. Сейчас это исключено, мы с ним слишком сработались, а при мне он всегда так и будет ведомым. В паре двух ведущих не бывает. Как сказал известный политик, «двое пернатых в одной берлоге не уживаются».
Ленька нетерпеливо пританцовывал у крыльца.
— Идем, идем к сербам!
Он обычно ко мне обращается безлично. На «ты» не всегда решается, а на «вы» у нас не принято.
— Пошли!
Что и говорить, я был заинтригован как никогда.
3
Я вошел в штаб сербской четы, роты по-нашему, и громко поздоровался:
— Добро дан!
— Здраво, Просвет! — отозвался командир четы Славко Громаджич.
Он глядел на меня без особого энтузиазма. Скорее всего, понимал, что я пришел с какой-то просьбой. Ну а мне ему отказывать не хотелось.
— Шта има?
— Ништа.
Все как у нас: дежурное «как дела?» — дежурное «ничего»…
Будем считать, формальности завершены, можно переходить к делу.
— Славко, я к тебе с поклоном.
Командир глядит настороженно, не торопится выразить бурную радость по поводу того, что придется мне оказать помощь.
Вообще-то он неплохой мужик, этот Славко. Да только и его можно понять.
Мы, русские, приехали, побудем, повоюем тут кто сколько — и до дому, до хаты. А ему тут еще неведомо сколько воевать.
И живет он в этих краях с пеленок. Знает тут множество людей, как по эту, так и по ту сторону фронта. Ему главное — своих подчиненных по возможности сберечь, обеспечить всем необходимым. А мы у него на втором плане. Тем более, что от нас хлопот у него тоже хватает. И о том, что война не вечна, ему нельзя забывать. Рано или поздно она закончится — нужно будет с соседями взаимоотношения налаживать-восстанавливать. Как ни крути, войны до полного взаимного истребления случаются исключительно редко. И соседний народ нечасто снимается с места и в полном составе уезжает на новое место жительства. Значит, рано или поздно, когда отгремят бои, все равно придется мириться. А для того, чтобы этот процесс проходил более или менее нормально, рассуждают многие из моих знакомых сербов, нужно бы воевать не слишком активно, чтобы и себя сохранить, и мусликов не слишком раздражать.
И ведь так и делают. Кое-где, на отдельных участках фронта сербы и хорваты, сербы и мусульмане заключают между собой джентльменские соглашения — друг друга не трогать. Так было, например, на левом берегу реки Миляцки в Сараево, где подобная договоренность существовала с подразделением ХВО (Хорватское вече обороны). В некоторых местах люди сами прекратили войну и спокойно жили вместе, не обращая внимания на национальные и религиозные особенности друг друга…
Ну а мы, русские, так не умеем: мы всегда воюем на полную катушку. Потому в двух мировых войнах вышли победителями. Потому косточки наших предков рассеяны по всему свету. И по той же причине в свою гражданскую друг друга уничтожили немыслимое число земляков.
Короче говоря, отношение к нам у сербского руководства двойственное. С одной стороны, нас уважают, серьезные дела поручают, сектор обороны выделили… А с другой стороны, после удачного боя, когда поколотим мы противника на полную катушку, кое-кто из местных косится на нас… И не потому ли мы иной раз замечаем, что бросают именно нас, подобно пушечному мясу, в самое пекло, да еще и без надежных проводников, которые хорошо знают местность?
Бывало такое, и не раз бывало! И не раз уже замечали мы и наши предшественники к себе подобное отношение.
Так что Славко можно понять, что он слушает меня настороженно, узнав, что я пришел доставить ему немного хлопот.
— Дай машину, нужно на положай проехать, — наконец говорю я главное. И добавляю по-сербски наше «пожалуйста»: — Изволитэ…
Взгляд Громаджича отмякает. Эта просьба выполнима и не слишком обременительна.
— Зачем тебе?
Однако это уже вопрос из любопытства, дежурный вопрос, а не вопрос с целью отказать.
— Надо, — не стал я вдаваться в подробности. — Надо к ребятам на положай смотаться.
— Смотаться? — не понял Славко. — Что такое «смотаться»?
— Значит, съездить, — пояснил я. — Дашь?
Славко соглашается легко:
— Добрэ.
Я благодарю опять же по-сербски:
— Хвала.
…Через полчаса мы уже тряслись в бортовой машине в направлении положая. Из чувства солидарности я не стал садиться в кабину, где ехать, конечно, удобнее, а устроился с Ленькой на скамье в кузове, где, как ни говори, безопаснее. Правда, большую часть дороги мы все равно молчали, так что в какой-то момент я даже подосадовал, что не устроился более комфортно в кабине. Хотя в случае, если «поймаем» мину, в кузове уцелеть шансов все же побольше.
Как обычно, во время долгой дороги мысли в голове роились все больше отвлеченные.
Эта дорога у местных старожилов вызывает тяжелые воспоминания. В этих местах 12 апреля 1993 года тут был очень тяжелый бой. О нем поведал его непосредственный участник Борис Земцов, московский журналист и писатель. А потом уже его рассказ дополнили другие добровольцы, показывали мне прямо на месте, где, как и что тут происходило.
Тут, на горе Заглавок, было оборудовано несколько положаев, два из которых занимали наши ребята, а дальше — сербы. На правом положае был оборудован мощный добротный бункер, сложенный из толстых могучих стволов. Здесь находились трое наших ребят — Владимир Сафонов и Дмитрий Попов, а также Павел, фамилии которого я так никогда и не узнал. Остальные добровольцы этой смены располагались в другом положае, который был оборудован отнюдь не так добротно.
…Кровопролитный бой начался на том положае, где был оборудован бункер.
В ту ночь разыгралась едва ли не настоящая буря. Ураганный ветер с дождем и мокрым снегом… Понятно, что в такую погоду крамольная мечта о том, как бы забиться куда-нибудь в теплый угол, исподволь вытесняет представление о чувстве долга и осознание необходимости охранять позицию. И при этом искренне надеешься, по себе знаю, что и противник мечтает о том же.
Муслики четко просчитали ситуацию. У них дисциплина, основанная на осознании, что они ведут священную войну во имя Аллаха, джихад, хотя и изрядно разбавленное извечным славянским разгильдяйством, куда выше, чем у сербов. Под утро, когда буря начала стихать, обрезанты подобрались вплотную к нашим позициям, однако сразу штурмовать их не стали. Лишь когда едва забрезжил рассвет, примерно в семь утра, они вдруг открыли ураганный огонь по бункеру. Ребята, естественно, вскочили, подхватили оружие и бросились к выходу, чтобы дать отпор.
Тут-то и произошла первая трагедия. Внутрь бункера влетело не так уж много пуль. Однако одна из них наповал сразила Владимира Сафонова, которого товарищи прозвали Перископом — за то, что он некогда служил на флоте. Владимир где-то достал, вероятно, на что-то выменял у сербов-каптеров пятнистый американский легкий и удобный бронежилет и хотел пофорсить перед товарищами. Однако заморская сталь Сафронова не спасла. Пуля попала Владимиру в шею, над самой бронестойкой. Смерть его была мгновенной.
Дмитрий Попов из бункера выскочить успел. Он попытался отбежать к лесу, укрыться за деревьями. Однако мусульмане были совсем близко, стреляли умело, в упор. Так что шансов у Дмитрия было не так уж много. Он успел добежать до дерева, когда его настигла первая пуля. Парень упал на колени, обхватил руками ствол дерева и медленно сполз на землю. А в его мертвое, уже бездыханное тело, садили и садили новые и новые пули.
Третий доброволец, Павел, своим шансом выжить воспользовался в полной мере. Он не попытался бежать. Выскочив из бункера, он плюхнулся на землю и прошелся длинной очередью из пулемета по зарослям, ощетинившимся автоматными стволами. Ошеломленные такой дерзостью мусульмане на мгновение ослабили огонь. И тогда Павел поднялся в рост и начал длинно строчить стоя, поводя стволом из стороны в сторону едва ли не на сто восемьдесят градусов. Он стоял и поливал свинцом кустарник, словно заговоренный былинный богатырь. По нему на какие-то мгновения даже стрелять перестали!
Тут-то оказавшиеся вместе с ним в бункере сербы попытались бежать. Однако увидев перекошенное бешенством лицо Павла и дымящийся ствол пулемета, весьма недвусмысленно глядящий на них, услышав отборный русский мат, несущийся в их адрес, подхватили свое оружие и тоже открыли огонь по противнику.
Тем не менее сила была на стороне мусульман. После тяжелого боя положай пришлось оставить.
Это тоже особенность данной войны. Русские, конечно же, остались бы стоять насмерть, тем более, что к ним подоспели товарищи. Сербы же, что православные, что мусульмане, да и хорваты тоже, как правило, почувствовав силу противника, легко оставляют позиции и отходят, а потом, сосредоточив свои подразделения, при поддержке артиллерии, легко восстанавливают «линию фронта».
Странная это война. Иной раз складывается впечатление, что с обеих сторон воюют только интервентные, да юречные четы, добровольцы, какие-то элитные подразделения, да фанатики или кровники. Остальные стараются попросту не высовываться. Словно как ждут, что кто-нибудь их помирит, как поругавшихся приятелей…
Владимир Сафонов и Дмитрий Попов в тот день остались там, на высоте, их тела муслики унесли с собой. Лишь позже в результате одной боевой операции был захвачен населенный пункт, где местные жители указали, где закопаны (не похоронены, а именно закопаны — в яме, лишь слегка присыпанные землей) тела ребят. Их потом перезахоронили на кладбище в городе Вышеград.
К слову, на вышеградском, да и на некоторых других, кладбищах уже образовались целые сектора из могил русских добровольцев. К сожалению, я не знаю всех их имен. Более того, боюсь, их никто не знает. Потому что далеко не все наши добровольцы воюют вместе, далеко не все поддерживают связь между собой. Я совершенно точно знаю, что русские ребята были в контрдиверсионном подразделении легендарного капитана Драгана, у воеводы Славко Алексича… Ну а поскольку, как я уже говорил, многие скрывают свои настоящие имена, нет сомнения, что кто-то похоронен здесь под прозвищем или вымышленной фамилией.
Насколько я знаю, русские могилы есть на кладбищах (по-сербски «гроблях») в Вышеграде, Праче, Прибое, Сараево… На сараевском Еврейском кладбище, в районе которого воевал отряд русских добровольцев, похоронено не меньше пятнадцати наших земляков. В Белграде, в храме Святой Троицы, хранится знамя 2-го Русского добровольческого отряда (самодельный черно-золотисто-белый официальный триколор российской монархии) и имеется памятная доска со списком погибших бойцов отряда.
Лично я ни с одним из погибших знаком не был. Потому что-то сказать о них я могу только со слов других.
О Константине Богословском речь еще впереди. О Владимире Сафронове и Дмитрии Попове я уже рассказал. Андрей Неменко и Василий Ганиевский — ребята еще из первой волны добровольцев, их уже здесь никто не помнит, только тщательно ухаживают за могилками, которые находятся возле православного храма на берегу Дрины в Вышеграде. 5 января 1994 года в Сараево был убит уральский казачий сотник и поручик сербской армии Виктор Девятов (правда, в одном из источников он назван Десятовым, так что я точно не знаю, как правильно пишется его фамилия), у которого в Екатеринбурге осталось двое детей. Он пытался вытащить из-под обстрела убитую женщину, беременную сербку по имени Мира и ее раненого мужа, но его «достал» мусульманский снайпер, который бил по тем, кто пытался их спасти (такой способ «работы» снайпера называется «на живца»). Полковник Войска Донского Геннадий Котов, прошедший до того Приднестровье, Абхазию и Северную Осетию. Пермяк Анатолий Астапенков, служивший некогда в морской пехоте, каратист, воевал сначала в сербском штурмовом отряде, потом перешел в Русский добровольческий отряд, где и нашел свою смерть. На одной из фотографий у его могилы стоит его друг, отставной мичман морской пехоты, командир 3-го РДО Александр Шкрабов, погибший позднее на Мошавичкой брдо, что в Чемернских горах; рассказывают, что к Александру накануне приехала жена и уговорила единственный раз надеть бронежилет, который его, увы, не спас. Москвич Дмитрий Чекалин в биографии имел восстановление Спитака и войну в Приднестровье, а здесь был вынужден, окруженный, подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Биография Михаила Трофимова — подлинный сюжет для захватывающего приключенческого романа: капитан спецназа ВДВ в Афганистане, два ордена Красной Звезды, потом снялся каскадером в десятке фильмов, приехал в Сербию, здесь отлично дрался и тоже погиб. Был офицером Советской Армии и Юрий Петраш, который каждое утро брал переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» и ходил на «охоту», мечтая сбить какой-нибудь натовский самолет, которые беззастенчиво до наглости летали над всей сербской территории. Поражает своими зигзагами жизненный путь Петра Малышева — ювелир, диггер, инструктор верховой езды, одно время даже державший лошадь в московской квартире, он прошел Приднестровье и Сербию, где и погиб 3 октября 1994 года под Олово…
Приведенный список, повторюсь, далеко и далеко не полный. Я составил его по разрозненным фактам, почерпнутым у разных авторов публикаций и в рассказах очевидцев. К сожалению и к позору России, наши герои-земляки на поле брани вынуждены скрывать свои подлинные имена и фамилии даже в публикациях в отечественной прессе. Примерами тому могут служить хотя бы некий Владимир из Харькова (известен как Хохол или Владо), в период командования которого одним из добровольческих отрядов не было убито ни одного человека, или Олег Валецкий, который женился на сербке и остался на Балканах — в дальнейшем он будет заниматься разминированием территории республики.
Без вести в Краине пропал только один наш земляк. Это Александр Тептин, который во время боя не то вследствие контузии, не то из-за тумана потерял направление и отстал от своих. Имеются косвенные данные, что он погиб, но только тело его никто из наших не видел.
…Налетевшая на колдобину машина резко дернулась. Я инстинктивно схватился за автомат, а другой рукой — за борт, чтобы не вылететь из кузова.
— Как везешь, водила, тебя растак! — выматерился Ленька.
В окошко выглянул серб и весело осклабился, видя наши злые лица. Что-то прокричал в ответ, наверное, извинялся. Я снова уселся на лавку. Мысли вновь вернулись к тому кровавому давнему бою на горе Заглавок, или Заглавк, как ее нередко именуют сербы.
…Параллельно с бункером муслики напали и на второй положай. Там у них внезапности не получилось. Потому наши сумели дать им отпор, позицию не оставили. Правда, и там один человек погиб — совсем еще молоденький парнишка, едва ли не неделю до того приехавший в Югославию. Звали его Константин Богословский. Ему осколком минометной мины снесло полчерепа… Рассказывают, Константин замечательно играл на гитаре.
Уж не знаю, правду ли говорят, или нет, но вроде бы в том бою мусульмане потеряли чуть ли не девяносто человек убитыми и под сто ранеными. Кто его знает, правда ли это… Уж слишком соотношение потерь кажется невероятным, особенно если учесть внезапность нападения. Хотя с другой стороны соотношение потерь у сербов и мусульман и в самом деле слишком часто зашкаливают за рамки самых невероятных расчетов. На одного павшего серба нередко приходится по 10, а то и по 15 убитых обрезантов. Обкуренные наркотой и взвинченные массовым фанатичным психозом, муслики нечасто утруждают себя тщательным планированием операций. И только безалаберность сербов позволяет им обходиться лишь соотношением потерь 1:10.
Повторюсь: тут странная война. По большому счету, по-настоящему боевыми частями и подразделениями можно считать только элитные формирования, вроде «Ласте» («Ласточки») или «Црни лобудови» («Черные лебеди») у мусульман или «Серебряные волки» у сербов. Ну и мы, добровольцы здесь и наемники там, естественно. Скажу без излишнего хвастовства и с искренним уважением к противнику: там, где лоб в лоб сходились пришлые (за деньги или из принципа) вояки, именно там чаще всего и происходили самые ожесточенные бои. Я ошибаюсь? Быть может. Но только такое убеждение со мной разделяют многие наши добровольцы…
— Констин Всилич, — сквозь натужный рев двигателя прокричал Ленька.
— Что? — очнулся я от размышлений.
Вокруг природа — заглядение. Изумительные горы, покрытые чудным лесом, чистые горные ручьи… Не случайно же здесь вокруг расположены прекрасные курорты — Дарувар у подножия горы Папук, Липик у реки Пакра, Баня-Вручица недалеко от горы Добой… Раньше сюда люди со всего света приезжали отдыхать. А теперь…
Теперь тут люди друг друга убивают. Что же это за животное такое, человек, которое свою историю числит только по датам войн и битв?
— О чем думаем?
Тебе этого не понять, парень. Во всяком случае пока. Со временем, когда твоя жизнь за экватор перевалит, когда цену любви и предательства познаешь, детей нарожаешь — вот тогда… Да и то кто его знает, может, и тогда не поймешь мои нынешние мысли.
Потому я говорю совсем иное:
— Ленька, а ты знаешь кого-нибудь из наших, которые тут погибли?
Кочерга с сомнением пожимает плечами:
— Не знаю. Может, кого и знал… Наших тут не так уж много, да все в разных местах служат… Может, из тех, кого встречал, уже и нету.
Может, и нету… Случись что-то с любым из нас, через полгода и про нас будут говорить так же — не знаю, мол, может, когда и встречал…
К слову, а сколько тут нас и в самом деле? Право же, было бы любопытно узнать. Хорваты объявили, что русских добровольцев в Сербской Краине полторы тысячи человек. Мусульмане числят до 5 тысяч. Но я думаю, что эти данные значительно завышены — за все годы войны вряд ли через эту землю прошло больше, чем 500–600 добровольцев из республик СНГ. Может, до тысячи, да и то вряд ли. При этом не секрет, что моджахедов и наемников на стороне мусульман воюет в несколько раз больше.
Вообще, состав приехавших сюда искателей приключений, как с одной стороны, так и с другой, довольно разнообразен. Скажем, болгары есть и с одной стороны, и с другой. Да и не только болгары — тут всякой твари по паре. Причем, по паре по разные стороны линии фронта.
Наверное, не то что докторскую степень — нобелевскую премию можно заполучить, если кому-то удастся объяснять этот феномен: почему люди едут хрен знает куда защищать невесть какие идеалы неведомо во имя кого. У каждого своя судьба, у каждого свои взгляды, у каждого интересы или побудительные стимулы…
Только додумать эту мысль я не успеваю. Машина вильнула в сторону, объезжая рытвину, съехала с наезженной колеи. Мы с Ленькой переглянулись. Поняли друг друга.
Тут война в значительной степени минная. Так что передвигаться на колесах куда надежнее по накатанной колее, тропинке и не дай Бог по траве. Там того и гляди могут оказаться мощные противотанковые или противотранспортные мины. Или куда более распространенные «паштеты» или «кукурузы». Так здесь с налетом черного юмора именуют противопехотные мины. «Паштеты» — взрывные устройства фугасного действия, называются так потому, что похожи на консервные баночки, однако не приведи Господь наступить на такую жестянку — в лучшем случае останешься без ноги. Ну а «кукурузы» — мины осколочные, торчащие в траве в ребристой рубашке на проволочке-растяжке, если задеть которую, метров на тридцать во все стороны пройдется чугунным смерчем, сметая все живое.
Сейчас в мире ширится движение за запрещение противопехотных мин. Одним из главных инициаторов движения была скандальная мученица — английская принцесса Диана. Было бы здорово, конечно, если бы такое состоялось. Да только вряд ли реален такой всеобщий запрет. Слишком это эффективное оружие при крайней простоте производства и применения. Только за последнюю четверть века на земле произведено более 225 миллионов наземных мин, в том числе около 190 миллионов противопехотных. Делают их примерно 100 компаний в 55 странах мира. Стоимость производства каждой мины чаще всего просто смехотворная — иной раз до десяти долларов. Так и получилось, что на сегодняшний день в земле закопано до 110 миллионов взрывоопасных предметов.
Жуткая цифирь, право слово!
…Впереди показалась нужная нам поросшая густыми зарослями высотка. За ней начинается каменистое плато, которое и является своеобразным ничейной землей, разделяющей противоборствующие стороны.
— Приехали! — сообщил Ленька.
Будто я сам не вижу! Ну а Кочерга, знающий нечто такое, чего не знал я, довольно демонстрировал свои оставшиеся зубы.
4
Машина, которая привезла нас к положаю, остановилась у самой кромки зарослей кустарника. Я поднялся со своего места, перехватил поудобнее автомат и перемахнул через борт кузова. Приземлился жестко, даже как будто в коленке что-то щелкнуло. С наслаждением, кряхтя, потянулся, разминая застывшие от тряской езды мышцы. Намерился уже направиться к вонзившуюся в кустарник тропинке. Но не успел — водитель в засаленной, потрепанной и выгоревшей пилотке, высунулся в окно.
— Прсвет! — окликнул он меня.
— Что?
— Тебя ждать?
Я обернулся на Леньку, который, не обращая внимания на беседу, неловко, не попадая ногой на выступающую ось высокого заднего колеса, пытался спуститься на землю.
— Так что, нас ждать? — переадресовал вопрос ему.
Тот ступил, наконец, на пыльный щебень дороги и начал отряхивать свое мешковатое, неуклюже топорщащееся на его нескладном теле обмундирование.
— Не знаю, Кстнтин Вслич, — развел он руками. — Это уже не мне решать.
Что за загадки, право слово…
Повернувшись к водителю, я сказал решительно:
— В общем, решаем так. Ты немного погоди, а там уж сам сообразишь. Годится?
— Добре.
Он откинул голову на спинку своего сиденья, поерзал, устраиваясь поудобнее и мгновенно уснул. Уметь спать всегда и везде, при любых обстоятельствах — это, по-моему, неистребимая черта всех профессиональных водителей всех стран. Такое ощущение, что они вечно недосыпают. Или впрок сны накапливают.
Я нетерпеливо повернулся к своему провожатому.
— Так куда идти?
Ленька от нетерпения опять начал приплясывать.
— В бункер.
В бункер, значит в бункер. Закинув автомат за плечо, я повернулся и по проторенной сквозь заросли кустарника тропиночке направился к бункеру. Навстречу попался еще кто-то из наших.
— Здорово, Беспросветный! — поздоровался он, а у самого улыбка до ушей.
Что ж тут случилось-то, что они все скалятся? Что за подвох меня тут поджидает?
У входа в бункер на складной табуретке сидел Семен Шерстяной. Так его прозвали за то, что у него все тело — едва ли не от глаз и практически до самых пяток — покрыто сплошным густым волосяным покровом. Он старший в этой смене. И то, что он, словно рядовой часовой, вот так сидит, задумавшись, у входа с автоматом не то что удивляло — в конце концов, мало ли кто где когда отдыхает — но как-то не слишком вписывается в привычный ход событий.
— Что случилось, Семен?
Тот вздрогнул, услышав обращение к себе.
— А, приехал… А мы тебя уже заждались.
Шерстяной поднялся, протянул мне свою огромную мохнатую лапищу.
— Что тут у вас стряслось?
— А Ленька выдержал, не проговорился?
Не скрою, плечами я пожал, с некоторым усилием сдерживая раздражение.
— Не проговорился, — буркнул в ответ. — Может, хоть ты не будешь говорить загадками?
Он не ответил, кивнул мне на вход в бункер:
— Заходи, сам узнаешь.
Вся эта таинственность мне уже порядком поднадоела. Ничего больше не говоря, я обошел его, спустился по деревянным, провалившимся ступенькам, отогнул край брезента, которым был завешен вход, согнулся и переступил порожек рубленого бункера. Остановился, ожидая пока глаза привыкнуть к полумраку. Постепенно начали проступать предметы обстановки. А когда все проступило…
За столом сидела и молча глядела на меня… Мириам. Я почему-то сразу понял, что это она, хотя в ту ночь, при свете фонарика, как следует разглядеть девушку не сумел.
— Здраво, Прсвет! — тихо сказала она.
Так вот что скрывали от меня ребята! Что и говорить, появление на передовой женщины с ТОЙ стороны — событие и в самом деле неординарное.
— Здравствуй, Мириам, — ошеломленный ее появлением, эхом отозвался я.
Прошел к столу, опустился на лавку против нее. Только теперь разглядел, что на столе перед девушкой стоит тарелка с недоеденным ломтем хлеба, кружка… Наверное, наши ребята ее подкормили.
— Ты откуда здесь появилась?
Она улыбалась. Но улыбалась не очень уверенно, как-то напряженно, опасливо.
— К тебе пришла.
Ко мне… Зачем? Чего она от меня хочет? С какой целью она преодолела такое расстояние, миновала столько опасностей, рискуя налететь на мину, попасться в руки своим или нашим воикам? Любовную версию, естественно, я напрочь сразу отбросил. Но что другое могло ее подвигнуть на совершение подобного вояжа?
Вообще-то я часто молчу. Не потому, что мне нечего сказать — часто просто из-за того, что наши разговоры слишком часто превращаются в бесконечное пустопорожнее сотрясение воздуха.
Теперь же я молчал по причине противоположной: я и в самом деле просто не знал, о чем говорить в такой ситуации. И тогда я поступил так, как обычно поступаю, когда не знаю, как поступить. Я поступил нелогично, пошел по самому простому пути.
Поднялся, буркнул Мириам:
— Я сейчас.
И, понимая, насколько озадачил Мириам своим поступком, вышел из бункера.
Семен Шерстяной, естественно, оказался поблизости, стоял, прислонившись к толстому стволу дерева. По всему было видно, что он сгорает от любопытства, как, очевидно, и весь положай, но считает несолидным это показывать.
— Семен, — окликнул я его.
Тот сделал вид, что только теперь меня заметил и с готовностью подошел.
— Откуда она появилась?
Лицо Шерстяного растянулось в понимающей и в то же время скабрезной ухмылке:
— А то ты сам не знаешь…
Он не договорил свою пошлинку, запнулся, увидев, что я шутить не намерен.
— Я тебя русским языком и по-хорошему прошу, — четко и раздельно повторил я. — Объясни, откуда она появилась на положае.
— Да шут ее знает, — уже по-другому, чуть виновато заговорил Семен. — Как-то проморгали мы ее. Только вдруг смотрим, а она уже тут. Ленька к ней подскакивает, кто ты, мол, такая, на нее наезжает. А она говорит: я, говорит, ищу вашего воика, которого Просвет зовут. Ну, я, понятно, сразу к ней с пристрастием: кто ты, мол, такая и откуда тут взялась. А она мне в ответ: я ни с кем, мол, не стану разговаривать, только с воиком, которого зовут Просвет.
Час от часу не легче! Чего это я ей вдруг так понадобился?
— Ну я подумал, Костя, что это твоя подруга, — закончил Семен.
— Подруга? — удивился я. — Откуда у меня может быть тут подруга?
— Ну мало ли… — неопределенно развел руками Семен. — Например, после поездки в город, в баню… Кто еще тебя может тут знать?
В самом деле, не рассказывать же ему правду о том, кто такая Мириам!
— …Единственное, что я понял, — продолжал между тем доброволец, — так это то, что она мусульманка.
Это плохо, что он это понял. Кто его знает, как отреагирует сербское командование на такой контакт. Правда, может, история не получит огласку…
— С чего ты взял? — прикинулся я непонимающим.
— А у нее на шее висит полумесяц со звездочкой, — охотно пояснил Шерстяной. — Это у нас в России всем по фигу что носить. А тут, сам знаешь, за такой талисманчик можно головы лишиться…
Что верно, то верно.
— Слышь, Костя, а кто она такая? — не выдержал он, поинтересовался. — Где ты ее подцепил, такую красотку?
Не отвечая, я протянул ему руку:
— Ладно, Семен, спасибо… Кстати, а почему ты меня по рации не вызвал?
Шерстяной со значением подмигнул:
— И что я мог бы тебе по рации сказать? Что на положае невесть откуда и как появилась неизвестная женщина, которая тебя разыскивает? Тогда и к тебе и ко мне возникли бы вопросы…
Логично. Я похлопал Семена по плечу, а сам повернулся и снова нырнул в бункер. Мириам сидела на том же месте, даже позу не переменила.
И глядела на меня по-прежнему настороженно. Я тоже уселся на прежнее место.
— Так зачем ты меня разыскивала?
Она ответила не сразу, сделал паузу. По этой паузе я понял, что сейчас узнаю то самое главное, из-за чего девушка решилась преодолеть столько опасностей.
— С тобой хотят поговорить, Прсвет, — наконец ответила она.
Час от часу не легче! Сюда меня приволокли, не говоря, ради чего, мои же товарищи. А теперь я узнаю, что разгадки секрета еще впереди.
— Кто?
И снова пауза.
— Скажи, Прсвет, — заговорила она тихо. — Я тебе могу довериться?
Я не удержался, ухмыльнулся откровенно.
— А у тебя есть основания мне не доверять?
Однако она не стушевалась, не потупилась, как того можно было бы ожидать.
— Да, Прсвет, есть.
— Вот как? — искренне удивился я. — Но ведь я тебя отпустил в прошлый раз…
— Да, меня ты отпустил, — согласилась Мириам. — Но только потому, что я девушка.
— Конечно, — не стал отпираться я. — И что с тех пор изменилось? Ты перестала быть девушкой?
Мириам никак не отреагировала на мою двусмысленную шутку. Она глядела мне прямо в лицо… У нее оказались неожиданно светлые глаза, смотревшиеся несколько непривычно на смуглом лице. Непривычно и — привлекательно.
— Я тебе верю, Прсвет, — сказала она все так же напряженно. — Я тебе хочу верить… Пообещай мне, что то, что я тебе сейчас скажу, не будет мне во вред.
Поистине это был день непрерывной череды загадок.
— Обещаю, — не стал я уточнять формулировку. — Даю тебе слово русского офицера.
Девушка удовлетворенно кивнула.
— Хорошо. С тобой хотят поговорить мои братья.
Я всю жизнь мечтал поговорить с ее братьями!
— Зачем?
Сказав главное, она стала разговаривать свободнее, непринужденнее.
— Они тебе об этом сами скажут.
Похоже, никуда мне не подеваться, придется уважить ее просьбу.
— Когда и как мы с ними встретимся? — обреченно спросил я у нее.
Однако серия ставящих меня в тупик заявлений, отпущенных провидением на этот день, как выяснилось, еще не закончилась.
— Они тебя ждут.
Значит, встреча с ее братьями состоится не в некие неопределенные времена, а прямо сейчас…
— Где?
Мириам вновь запнулась.
— Ты обещал, Прсвет, — напомнила она.
— Раз обещал, значит, сдержу слово, — чуть раздраженно подтвердил я.
— Они тут совсем недалеко.
Так вон чего боялась девушка! Если сербы узнают, что где-то рядом находятся несколько мусликов, тем жить останется только до заката.
Но ведь с другой стороны, если я уйду, никому не сказав куда именно, неизвестно, что будет со мной! Обман неверного, согласно ислама, не только не является грехом, но и превозносится как угодное Аллаху дело. Идти сейчас на рандеву к мусульманам — все равно что в террариуме играть в чехарду с ядовитыми гадами или без наркоза зубы пломбировать крокодилу.
Как-то мне показывали диковинный предмет, взятый в качестве трофея у мусульман. Назывался он «серборез». Состоял из нескольких скрепленных между собой металлических частей. Главное, серповидное, чудовищных размеров, лезвие предназначалось, как мне объяснили, для отрубания голов и вспарывания животов людям. К этому лезвию были намертво приварены два выступа, одни в форме молотка, другой в виде шила… Увидев его, я, признаться, не сразу понял, для чего нужна такая сложная конструкция — мало ли какие приспособления на войне необходимы! Но когда мне объяснили, что это и для чего…
Основное, большое, лезвие, как я уже сказал, предназначалось для отрубания голов и вспарывания животов. Но это еще, как оказалось, не все. Тем, что я принял было за молоток, людям пробивали череп. Ну а «шилом» им выкалывали глаза. Такой вот универсальный инструмент для уничтожения себе подобных…
Тут, в Югославии, не только я, прошедший Афган, где подобная привычка была у всех, тут все, независимо от национальной и религиозной принадлежности, носил в кармане «дежурную» гранату, которая у нас называется «самоликвидатор». Потому что не дай Бог попасть в руки мусульманам…
Когда я был в Афгане, у нас регулярно становились известными истории о том, как обходились моджахеды с нашими ребятами, попадавшими им в плен. Подобных историй происходило немало. При существовании жесткой цензуры печати о них практически ничего не писали, так что передавались они от человека к человеку. Более того, я подозреваю, что их специально делали достоянием гласности, чтобы солдаты и офицеры не сдавались в плен.
Короче говоря, издевались над захваченными там люто. Но даже на фоне многочисленных рассказов, особенно запомнилась мне эта, самая, на мой взгляд, жуткая.
Захваченного в бою офицера посадили в огромный казан, который поставили на костер, следя, чтобы металл нагревался не слишком сильно. Туда же, в казан, бросили двух крыс. Крысы же, надо сказать — животные умные. В ситуации, в которую они попасли, они решили искать место наименее жаркое, другими словами, наиболее влажное… Так и получилось, что они забрались: одна, прошу прощения за такую подробность, в задний проход, вторая в рот орущему от боли мужчине. Ужас, в каком положении был тот мужик.
А теперь мне предложено поучаствовать в эксперименте, ставкой в котором станет моя жизнь. Даже не так, не моя жизнь, а моя смерть. Причем, смерть лютая — человек в руках опытного палача под пытками может жить долго.
Кстати, вопрос философский и психологический. Каждый из нас знает, что умрет. Однако при этом мы живем так, будто рассчитываем на бессмертие.
…Однако, как же мне сейчас поступить?
— И что ты предлагаешь? — спросил я у девушки.
Она с готовностью ответила:
— Мы с тобой сейчас пойдем к моим братьям и ты с ними поговоришь. Вот и все.
Я глядел в непривычно светлые глаза Мириам и пытался ответить себе на вопрос: действительно она так наивна или же только делает вид. Неужели она не понимает, что мне пойти с ней — равносильно тому, чтобы самому с собой в «русскую рулетку» сыграть. Потому что мусульмане — фанатики. Для них отдать жизнь за счастье всех мусульман — значит прямиком отсюда в рай отправиться.
Цитирую Бориса Земцова, о котором уже упоминал: «…Узнал подробности гибели и тяжелого ранения двоих наших… В бою ребята зашли в дом. Перед этим, заглянув в окно, увидели старуху-мусульманку. Когда переступили порог, грянул взрыв. Оба парня выскочили. Один с развороченным животом, второй изрешеченный осколками…»
Ну а теперь, взяв с меня слово, что я не сообщу своим, что тут поблизости скрываются враги, мне предлагают уйти от своих. Ради чего?
— Чего ты молчишь?
Это глупо и смешно, но сказать этой пигалице, что я боюсь, было стыдно.
— Думаю, — уклонился я от прямого ответа.
Я и в самом деле думал. Только думал не о ее предложении, а о том, под каким благовидным предлогом уклониться от под подобного приглашения.
Однако Мириам оказалась девушкой чуткой, поняла мои колебания. Или же ее так проинструктировали… Она, в конце концов, тоже дочь своего народа, для которого любой немусульманин — враг.
— Ты, Прсвет, не сомневайся, не бойся, я тебя не обману… — негромко, задушевно произнесла она.
Признаться девушке, что я ее боюсь…
— Я не боюсь, — соврал я. — Но есть такое понятие, как военная дисциплина. Не могу же я уйти, никому ничего об этом не сказав.
Мириам сделала вид, что поверила. Или она и в самом деле настолько наивна?
— Братья тут рядом, совсем недалеко, — заговорила она торопливо, будто опасаясь, что я передумаю. — Так что ты отлучишься совсем ненадолго…
В конце концов, граната-«лимонка» — «самоликвидатор» — в кармане. Скрутить мгновенно им меня не удастся, так что кольцо рвануть успею. Так чего же я сомневаюсь? По большому счету, жизнь и прекрасна своими неожиданными поворотами. Между гордым полетом буревестника и позой жирного пингвина мне милей первый. Ну а если этот поворот судьбы ускорит мою гибель, так мне особенно и не за что держаться… В то же время если я сейчас уклонюсь от этой встречи, в собственных глазах уважения к себе же у меня поубавится, это бесспорно. Да и трусить перед этими светлыми юными глазами…
— Ладно, — решился я. — Только, Мириам, — счел необходимым предупредить ее, — имей в виду, что я тебя пожалел, отпустил. И Аллах будет тобой недоволен, если ты меня за это подведешь под «серборез».
Не думаю, что девушка была такой замечательной артисткой. Не хотелось в это верить. Но только она уставилась на меня удивленно:
— А что такое «серборез»?
Ладно, юная наивная душа, не буду тебя в этом вопросе просвещать.
— Не знаешь? Ну и ладно, просто к слову пришлось… Так где твои братья?
Мириам с готовностью подскочила:
— Пошли, они тебя уже давно ждут!
Вариантов для того, чтобы уклониться под благовидным предлогом, больше не было. Приходилось соглашаться.
— Ну что ж, пошли!
Я тоже поднялся и мы вместе направились к выходу из бревенчатого бункера.
5
Право же, если бы наши ребята знали, что так близко от нашего положая притаились муслики, тем точно не поздоровилось бы.
Трое мужчин, которых Мириам назвала своими братьями, находились едва ли не на расстоянии броска ручной гранаты. Они терпеливо сидели в небольшой промоине, которая обещала со временем стать настоящим полноправным оврагом, притоком той самой лощины, которую мы с Радомиром именуем «тропой № 3». В том, что эти трое мужчин между собой и в самом деле были братьями, не было сомнения, настолько они походили друг на друга. Да и с Мириам у них было определенное сходство, хотя бы уже в светлых зеленых глазах.
…Когда мы с Мириам нырнули в промоину, они все трое поднялись. Стояли, сильные, сумрачные, обвешанные оружием, двое бородатых и один, младший, только с мягкими еще усами — стояли и глядели на меня. Я тоже не стал лезть к ним с объятиями, тоже просто глядел, ничего не говоря.
— А ты смелый человек, Прсвет, — вместо приветствия констатировал старший из братьев.
Быть может, он это сказал только для того, чтобы что-то сказать, как-то начать разговор. А, может, они тут между собой спорили, решусь ли я один прийти на встречу с ними.
Знал бы он, насколько в этот момент я был напряжен внутри, насколько боялся их, наверное, и не сказал бы этих слов. А впрочем, нет, наверное, все равно сказал бы. Ведь смелый человек не тот, который ничего не боится, а тот, кто может свой страх преодолеть. Так что под данное определение смелости я вполне подпадаю.
Скромный ты мой, — нервно хихикнул внутренний голос. — Какой есть, — не стал я отказываться.
Только теперь старший шагнул ко мне и протянул руку. Я без колебаний пожал ее. В конце концов, пусть мы и враги, мы солдаты, а солдаты должны уважать противника. А рукопожатие испокон веков было свидетельством того, что ты не имеешь задних мыслей… Ладно еще, что они не полезли целоваться, как принято у мусульман — тут я точно воздержался бы. Разве что с Мириам…
Потянули руки для пожатия и двое других. Потом расселись. Братья по-восточному, на корточки, я просто на землю. Мириам отошла в сторону.
— Прсвет, ты и в самом деле рус?
— А что, есть основания в этом сомневаться? — удивился я вопросу.
Старший из братьев покачал головой:
— Нет. Просто я давно хотел поговорить с русским. А тут еще так получилось…
Он слегка качнул головой в сторону, куда ушла Мириам. Однако он говорить не спешил, смотрел на меня молча, будто оценивающе. Ох уж эти мне восточные церемонии…
— Тебя как зовут? — спросил мой собеседник.
— Константин, — не стал я скрывать. Однако счел, что это имя может оказаться для них труднопроизносимым, а потому добавил: — Костя.
— А меня называй Мюрид, — с подчеркнутым достоинством представился старший из братьев.
Я не счел нужным скрыть ухмылку. Потому что слово «мюрид» — это не имя. В крайнем случае оно еще может потянуть на прозвище. А вообще-то мюриды — это воины ислама.
Ладно, хочешь быть Мюридом — будь им. Почти по Козьме Пруткову.
— Протокольную часть церемонии будем считать законченной, — предложил я. — Давайте переходить к основной. Вы согласны?
Братья переглянулись. Может быть, они просто не поняли моей тирады. После некоторой паузы опять заговорил старший, Мюрид.
— Скажи честно, Прсвет, почему ты так поступил с нашей сестрой?
Я снова усмехнулся:
— А вас что-то не устраивает?
Мюрид шутки не принял.
— Нас все устраивает, Костя. Мы тебе очень благодарны. Но я не могу понять твой поступок, и потому мы здесь.
Наверное, самое трудное объяснять то, что для тебя является абсолютно очевидным. Или когда пытаешься объяснить, какими мотивами руководствовался, совершая благородный поступок.
Ну не рассказывать же им, что было бы с их красавицей-сестрой, если бы она попала в руки контрразведки! Слов нет, сербы далеко не столь жестоки и безжалостны к пленным, как мусульмане, но и их рыцарями без страха и упрека, воюющими в белых перчатках, тоже никак не назовешь. Война, особенно гражданская — штука жестокая, она не предполагает наличие места для сантиментов.
— И только чтобы задать мне этот вопрос, вы сюда пришли и пригласили меня?
Братья снова, уже в который раз, обменялись взглядами. Складывалось впечатление, что они до конца до сих пор не уверены, что совершают правильный поступок, общаясь со мной.
— Нет, не только, — ответил Мюрид. — Но и это тоже хотелось бы знать.
— Тогда давайте сразу переходить к следующему вопросу, — решительно сказал я.
Он удивился:
— Но почему?
Ну что тут ему объяснишь?
— Потому что я не могу ответить на этот вопрос, — слегка раздраженно ответил я. — Потому что у нас есть поговорка: у войны не женское лицо. Потому что я не мог просто так зарезать девочку. Потому что вы поступили… — я запнулся, чуть было не ляпнув «по-свински», однако успел сообразить, что для мусульманина сравнение его с нечистым животным будет жесточайшим оскорбление, а потому поправился. — Вы поступили некрасиво, заставив сестру воевать и подвергая ее опасностям…
Во время моей небольшой речи они все трое молчали. Только теперь Мюрид сказал сумрачно:
— Ее никто не заставлял. Она сама…
— Знаешь, Мюрид, мне, по большому счету, все равно, сама она пошла воевать или вы ее послали, — перебил я. — Это ваше дело. Но только если бы у меня была сестра, я постарался бы уберечь ее от опасностей.
— А ты женат, Костя?
Вопрос прозвучал совершенно неожиданно.
— Нет. А что?
— Просто спрашиваю, — неискренне ответил Мюрид. — А сам ты откуда? Где живешь в России?
Ага, сейчас все брошу и начну тебе рассказывать про все свои проблемы!
— Да какая тебе разница? — в лоб, быть может даже слишком грубо, спросил я. — Я и так уже про себя слишком много рассказал. Давайте конкретно: с какой целью вы меня сюда пригласили?
То, что я уклонился от ответа, Мюрид воспринял вполне нормально.
— Ну ладно, давай конкретно, — согласился он. — Скажи, Костя, только откровенно: ты зачем сюда приехал? Ты настолько ненавидишь мусульман? Ты так любишь сербов? Или ты сюда приехал потому, что у тебя дома какие-то проблемы? Ведь ты уже не молодой, чтобы здесь романтику искать.
Час от часу не легче!.. Ну а на этот вопрос как ему ответить?
— На этот вопрос, Мюрид, ответить непросто, — опять постарался я уклониться.
— Это понятно, — вновь легко согласился собеседник. — Но чтобы выслушать ответ, мы сюда и пришли… Вот послушай, как мы рассуждаем. Ты уже не мальчик, всю жизнь прожил у себя в стране. А сейчас вдруг все бросил и приехал к нам сюда участвовать в гражданской войне… Причем, в войне не просто гражданской, а в войне братоубийственной — мы ведь тоже сербы, только поклоняемся другому богу…
— Бог у нас один, — в первый раз подал голос второй брат, поправляя Мюрида. — Бог вообще один, мы только верим в истинность разных пророков.
— Ну ладно-ладно, — перебил старший брат. — Это не принципиально, Али… Пойми, Костя, мы тут и сами между собой не можем толком разобраться, а вы едете из такой дали — и уверены, что знаете истину, что едете защищать правое дело…
Пора было остановить его монолог.
— Погоди-ка, Мюрид. Скажи, а ты задавал этот же вопрос тем иностранцам, которые воюют на вашей стороне? Насколько я знаю, у вас есть и афганские моджахеды, и немцы, и турки, и американцы… Говорят, есть даже болгары и венгры…
Мюрид покивал согласно.
— Да, ты прав, Костя, у нас тоже много приезжих… Но это совсем другое.
— А в чем же между нами разница? — искренне удивился я. — Чем они лучше?
Мюрид опять качнул головой, только теперь отрицательно.
— Я не говорю, Костя, что кто-то лучше. Просто они понятнее…
— Чем?.. — не дал я ему продолжить свои рассуждения. — Они могут быть понятнее тебе, Мюрид, только по единственной причине. Потому что они воюют на твоей стороне. А по всем остальным параметрам они для тебя столь же непонятны, как и мы, — чувствуя, что запутался, я резко повернул нить своих рассуждений в иное русло. — Мусульмане — турки или афганцы — тебе понятны, потому что они приехали помогать тебе отстаивать зеленое знамя пророка. Наемники тебе понятны, потому что они просто приехали заработать денег… Я прав?.. Но ведь и мы такие же, Мюрид. Мы приехали помогать православным братьям по крови. Вот и все.
Братья слушали меня внимательно.
— И ты? — быстро отреагировал на мою последнюю реплику Мюрид.
Вопрос я понял. Однако не был готов вот так, с ходу, на него ответить.
А потому прикинулся непонятливым:
— Что и я?
— И ты приехал сюда помогать единоверцам защищать православный крест? — терпеливо растолковывал Мюрид.
— Мюрид, мы с тобой договорились, что я на этот вопрос отвечать не буду, — пришлось напомнить. — Давайте не будем затрагивать вопросов веры.
— Ладно, как хочешь, — согласился он. — Хотя мне очень хотелось бы тебя понять.
Чего-то он хотел, к чему-то клонил. Но куда, чего, к чему?
— Это тупиковый разговор, Мюрид, — решительно и твердо сказал я. — Мы с тобой друг друга не поймем… Вернее, не совсем так, я тебя прекрасно понимаю, но не могу признать твою правоту.
Похоже, Мюрид искренне пытался меня понять.
— Почему? — терпеливо спросил он.
По кочану, — хотелось ответить… Как же трудно вести речь о вещах для тебя очевидных!
— Потому что я слишком много в своей жизни воевал, чтобы понять, насколько это мерзкая штука — война. Люди должны жить в мире, а не убивать друг друга. Еще можно понять, если люди дерутся и воюют за еду, за пищу, за право проживать в местности с благоприятным климатом… Но убивать друг друга из-за того, что они поклоняются разным богам… Так быть не должно!
— Но ведь ты здесь воюешь, — заметил Мюрид. — На нашей земле. Воюешь из-за веры. И воюешь хорошо — твое имя у нас известно.
Даже не знаю, эта новость меня больше насторожила или заставила гордиться.
— Да, приходится воевать. Ты ведь и сам знаешь, что человек не всегда располагает своей судьбой.
В нашем разговоре зависла пауза. Он попросту зашел в тупик. И я вдруг понял, что сейчас узнаю, ради чего собственно и состоялась эта странная встреча.
— Костя, мы с тобой пришли поговорить по очень важному для нас вопросу.
Странно все у нас получается, — вдруг подумал я. Посмотреть на нас — будто лучшие друзья собрались и беседуют. А между тем через час вполне сможем друг друга подстрелить. Окажись в ту ночь на положае любой из братьев — сегодня он бы уже тут не сидел.
Все же, я убежден, простые люди между собой всегда смогут найти общий язык. Оголтелых националистов-фанатиков на белом свете не так уж много. Другое дело, что именно фанатики и стравливают между собой народы, страны. И сами при этом обычно остаются в стороне от поля битвы, издали вдохновляя «серую скотинку», «пушечное мясо» на подвиги во имя неких высоких идеалов.
— Это я уже понял, — кивнул я. — Правда, не представляю, зачем. Есть только одно предположение, но оно мне кажется просто абсурдным… Надеюсь вы не собираетесь меня вербовать или похищать?
Мюрид опять шутку не принял.
— Нет, ты спас нашу сестру, и мы не можем быть с тобой бесчестными. У нас к тебе другое предложение.
Сказать, что я был заинтригован, значит ничего не сказать. Я молча ждал продолжения разговора.
6
Однако продолжение разговора поначалу оказалось совсем не таким, как можно было бы ожидать. Впрочем, опять же не так, не только поначалу — весь разговор в дальнейшем больше напоминал, как говорили в дни моей молодости, бред сивой кобылы.
Короче говоря, началось все с полной для меня неожиданности. Потому что в разговор вдруг вмешался третий из братьев, безбородый, самый младший.
— Только имей в виду, Прсвет, что мне изначально не нравится вся эта затея. Даже если ты примешь наше предложение, ты для меня навсегда останешься личным врагом и я никогда не буду поддерживать с тобой отношения, которые должен был бы поддерживать. Ну а если не примешь, чему я буду рад, во время боя стану лично за тобой охотиться, — говорил он на удивление спокойно, ровно, будто не убивать меня грозился, а пересказывал содержание скучного кинофильма. — Сейчас же я только подчиняюсь решению старших.
То, что последовала такая тирада, меня не удивило — все же, что ни говори, а мы и в самом деле воюем по разные стороны линии фронта, мы придерживаемся разных взглядов и отстаиваем разные идеалы. Меня удивило другое: что Мюрид не оборвал брата, не пресек столь явное пренебрежение к традициям мусульман. Более того, он даже не оглянулся на младшего, продолжал глядеть на меня, пытливо, оценивающе. И к тому же насторожили невнятные намеки на некое предложение, которое может последовать и в результате которого младший из братьев НЕ СТАНЕТ меня числить в списке своих кровников. Хотя, признаться, в тот момент на данный пункт я обратил внимания не столько, как он того заслуживал. Просто в очередной раз сделал вывод о том, что меня ждет нечто неожиданное.
— Хорошо, что предупредил, — усмехнулся я, глядя в лицо молодому фанатику. — Теперь спать по ночам не буду, в страхе стану просыпаться и потом обливаться при мысли о тебе… Только объясни, почему же это ты лично для меня делаешь такое исключение?
Не знаю, понял ли он насмешку — по большому счету я прекрасно понимал, что сербохорватский язык (по энциклопедии — южнославянская группа языков) у меня слишком далек от совершенства. Только ответил мне младший без юмора, но в то же время и без вспыльчивости, которая была бы естественной в ответе человека, который понял, что над ним неприкрыто издеваются.
— Потому что это именно ты в ту ночь заминировал положай, — с непонятным мне скрытым смыслом ответил младший брат.
Вон оно что!.. Впрочем, что именно «вот оно что»? Что за этим стоит?
— И что же, хорошо рвануло?
Вопрос был бестактен изначально. Однако он вырвался — наверное, во мне взыграло самолюбие. Молодой мусульманин даже зубами скрипнул от злости.
Мюрид тоже заметно потемнел лицом.
— Нормально рвануло. Погибло больше десяти человек, — коротко сказал он. — Только я тебя прошу: не надо спрашивать подробности.
Хорошо, не буду. Хотя очень хотелось бы. Судя по всему, наша, я бы сказал, «минная засада», а может и «минная атака», удалась на славу. Больше десяти человек… Это результат для двух человек неплохой, скажу я вам как профессиональный военный.
…Мы с Радомиром тогда заминировали положай по всем правилам, да еще и с выдумкой. Прежде всего уложили тротиловую шашечку под рацию, причем, сработать она должна была от электродетонатора, при включении тумблера питания; исходили мы из того, что дозор, прибывший на положай, увидев, что живых там нет, обязательно попытается сообщить об увиденном в штаб… Установили мины направленного действия таким образом, чтобы они своими осколками вымели от всего живого тропку, по которой должны были подойти подкрепление к положаю мусликов — и очень при этом надеялись, что они рванут не сразу, а когда подойдет вся смена, а не один лишь передовой дозор.
Подкрепление же, по нашей задумке, обязательно должно было подойти, после того, как в назначенное время положай не вышел на связь. Кроме того, мы подложили мину разгрузочного действия под ящики с тротилом, минами и оружием, которые находились в центре положая. Ну а последний «сюрприз» поджидал обрезантов в лощинке, где мы так счастливо избежали взрыва и где также поставили МОНки…
Значит, если судить по скупым словам моих собеседников, наша минная засада несомненно удалась! И это не может не радовать.
— Ну так что, теперь, надеюсь, все акценты расставлены? — в очередной раз я попытался перевести разговор в конкретное русло. — А то у нас разговор никак до ключевых слов не может дотянуться…
Мюрид кивнул.
— Да, конечно, давай говорить о главном, — при этих словах я заметил, что младший брат вздрогнул, хотя значение этого штриха понял чуть позже. — Значит, так, Костя. Ты прав, война — дело и в самом деле не женское. А тут у нас сам видишь, что творится. Нашей стороне, и ты в этом тоже прав, ты вообще кругом прав, помогает полмира. Сербов мы, думаю, со временем задавим. Да у них и между собой настоящего единства нет… Хотя, честно тебе скажу, я лично против них ничего не имею. С вашим воеводой, к слову, со Славко Громаджичем, мы вместе в школе учились, в одном классе, бывало, дрались, конечно, но вообще-то дружили. За одной девчонкой, хорваткой, одно время ухаживали… Так что ты прав, Костя, нам эта война, как ты говоришь, по большому счету, совершенно не нужна. Но она будет продолжаться, даже если мы, рядовые воики, скажем, что она не нужна. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше будет копиться взаимной ненависти, тем больше будет гибнуть людей. А потому ненависть будет нарастать… Ну ладно мы, мужчины, мы по природе своей должны воевать и гибнуть. Но тут вмешивается вот какой фактор. Костя, у меня уже есть семья, есть дети. У Али тоже… Среди нас только он, — кивок в сторону младшего брата, — еще не имеет жены. У него любимая девушка погибла от твоих, Прсвет, мин на положае. Она была нашей радисткой, и попыталась рацию включить…
Мюрид эти слова произнес ровным спокойным голосом. Однако я понимал, сколько внутренних усилий ему приходится прилагать, чтобы сохранять это видимое спокойствие. Да и мне от этого короткого сообщения стало не по себе. В самом деле, одно дело, если знаешь, что где-то из-за тебя погибли какие-то абстрактные враги — и совсем иное, когда вот так смотришь в полные ненависти глаза совсем молодого парня, у которого лично ты убил любимого человека.
Что тут можно сделать? Сказать «Прости» и протянуть руку? Так ведь не пожмет ведь. И правильно сделает.
Короче говоря, я решил ничего не делать. Просто промолчать.
— И вот мы подумали, Костя, — очевидно понимая мою растерянность, продолжал Мюрид без малейшей паузы, — что и наша Мириам вполне могла бы не дожить в ту ночь до утра. Более того, она ДОЛЖНА была умереть в числе первых жертв твоей вылазки. И сколько у нее еще будет таких ночей? Пусть даже мы попытаемся отправить ее от войны подальше, хотя она нас не оставит, скорее всего… Но только нас всего четверо осталось от нашей семьи. Отец с матерью и младшей сестрой погибли при бомбардировке — бомба угодила прямо в дом. Двое наших братьев погибли на фронте. А сестра она у нас одна — потому мы ее все очень любим. И мы решили обратиться к тебе, Костя, с просьбой.
Мюрид умолк. Младший брат отвернулся, наверное, чтобы не видеть мое, ему ненавистное, лицо. Средний глядел на меня умно и выжидательно.
— Так что за просьба? — не мог взять в толк я.
— Увези Мириам в Россию, — вдруг торопливо, скороговоркой, выпалил Мюрид.
— Что?!
Я мог ожидать услышать от него все что угодно, но только не это.
— А ты сам, Костя, посуди, — сказав главные слова, Мюрид успокоился и говорил теперь по-прежнему вдумчиво и рассудительно. — Что ее ждет здесь? Война, война, бесконечная война… Смерть и разрушения… Главное предназначение женщины состоит в продолжении рода. Ну а здесь за кого она сможет выйти замуж? Нет, ты не думай, мы ничего не хотим сказать плохого про своих товарищей по борьбе против вас, тут много хороших парней. Да только в этих условиях Мириам сможет стать женой только солдата, который снова и снова будет уходить на войну, рядом с которым будет находится и она, а значит и опасности на ее долю будет выпадать много… — Мюрид оборвал сам себя, махнул рукой и резко закончил: — Ей бы уехать надо отсюда…
Ничего себе заявочка!
— Но почему я?
Как было видно, у Мюрида все было тщательно продумано. Если бы это было не так, нашей встречи, скорее всего не состоялось бы.
— А кто же? — внушительно говорил он. — Кому мы можем ее доверить? Ты человек честный, порядочный — это ты показал, отпустив Мириам, хотя за такие дела твои начальники тебя по головке, скорее всего, не погладили… Ей жить надо, учиться, замуж выходить, детей рожать… А куда уехать? Случись с нами что-нибудь — она вообще одна-одинешенька останется на белом свете. Ведь тогда ночью и мы вполне могли оказаться на твоем положае… Ты сам видишь, она у нас красивая — что с ней будет без нас?
Все это звучало логично и красиво. Да вот только…
— Но погоди, Мюрид! — от растерянности я, наверное, говорил не то, что надо, отыскивал не те аргументы. — Ты же прекрасно знаешь, что у нас в России сейчас творится, не многим лучше, чем тут у вас… Есть же спокойные страны — Франция, США… Туда ведь отправить Мириам было бы куда для вас лучше.
В разговор вмешался средний брат.
— Что ж, ты думаешь, что мы сами не предпочли бы, чтобы отправить Мириам куда-нибудь в другое место? — с досадой сказал он. — В Грецию, в Эмираты, в Италию… Да только кому ее доверить? Лично, персонально, из рук в руки, чтобы знать, что ее в той стране не бросят, что она не останется одна… Знаешь, Мириам обхаживал там у нас один француз. Обходительный такой, разговорчивый, совсем девчонке голову закрутил — короче говоря, ты сам знаешь, как это умеют делать французы, да к тому же солдаты-наемники… Мы навели о нем справки, а у него, как оказалось, есть жена и дети… Так кто же может поручиться, что он не привезет ее в свой Льеж, да и не бросит там? Или в бордель сдаст…
Не знаю почему, но упоминание о каком-то французе рядом с Мириам меня кольнуло. Впрочем, почему же не знаю? Мы, мужчины, все собственники, хотим, чтобы женщина принадлежала только нам. Не помню, кто именно, но сказал хорошо по поводу того, что нам нравятся незнакомки — будь то с картины Глазунова или из стихотворения Блока. Потому что мы в них видим женщин БЕЗ ПРОШЛОГО.
Однако, Бог или Аллах с ним, с французом. Сейчас со своими бы проблемами разобраться.
— Ладно, допустим, — неуверенно проговорил я. — Ну а за меня кто поручится, что и я ее в каком-нибудь Моршанске не оставлю?
— Ты ее не оставишь, — тихо сказал средний. — Ты этого не сделаешь.
Это был какой-то совершенно бредовый разговор. Мы говорили как будто о неком неодушевленном предмете, который мне предлагали под честное слово нелегально провезти через границу.
Немного оправившись от неожиданности, я попытался перевести его в нормальное русло, говорить более упорядоченно, рассудительно.
— Ладно, ребята, — решительно сказал я им, — сумбур закончился. Давайте говорить конкретно. Допустим — подчеркиваю: допустим! — мы говорим серьезно. Что именно вы от меня хотите конкретно?
Я понимал, что злоупотребляю словом «конкретно», но никакого другого, более точно отражающего суть разговора, понятия на язык не подворачивалось.
Похоже, переход беседы в конкретное, я усмехнулся про себя, вновь обратившись к этому слову, русло устроил и братьев. Даже младшего, хотя он по-прежнему глядел куда-то в сторону.
— Давай. Итак, вот чего мы от тебя хотим. Ты заканчиваешь воевать, берешь дозволу, уезжаешь отсюда и увозишь в Россию нашу сестру, — четко изложил план средний брат.
Дозвола — это разрешение на право покинуть зону боевых действий, да и вообще страну. Без нее мой путь доведет меня только границы. Или до первого поста сербской военной полиции.
— Допустим. А дальше?
То, что я сюда приехал по подложному паспорту, что мне пока нет обратного пути на Родину, говорить им пока не стал. Не время и не место. Неизвестно, как они могут использовать это мое признание, скажем, в пропагандистских целях.
— Дальше, Костя, как сам сочтешь нужным, — туманно ответил Мюрид.
— Не понял.
Я и в самом деле не понял ответ. Что значит «как сочтешь нужным»?
Братья — старший и средний — переглянулись. И я понял, что сейчас мне предстоит узнать еще одну новость. Не люблю я узнавать новости, которые я не жажду узнавать. Сколько же они мне их еще припасли на сегодняшний день?
— Ну, что там у вас еще?
Мюрид молчал, тоже отвернувшись. Инициативу разговора пришлось брать в свои руки среднему.
— Дело в том, Костя, что для того, чтобы наша сестра уехала с тобой, ты должен на ней жениться.
Очень мило! Так в той старинной русской присказке: без меня женили…
— А если я уже женат? — спросил я глупо.
— Ты только что сказал, что ты холостой, — усмехнулся средний брат. — И потом ты, капитан, довольно известная личность у нас, так что мы про тебя кое-что знаем. Ты холост, так что этот аргумент не проходит.
Тут опять сорвался, не выдержал младший брат.
— Слушай, ты, — он опять уставился мне в глаза своими неестественно зелеными на смуглом лице глазами. — Тебе, старику, предлагают жениться на красивой молодой девушке, которой ты не стоишь! Так чего же ты еще хочешь?..
И тогда я задал главный вопрос. Я, наверное, должен был задать его раньше. А, может быть, и вообще не должен был его задавать. Но я спросил. Причем, спросил только теперь.
— А как к вашему плану относится сама Мириам?
На мой вопрос ответили двое из братьев. Они сказали практически одно и то же. Только тон у них при этом очень разный.
— Она согласна, — торопливо ответил Мюрид.
— Она согласна, — с подчеркнутой неприязнью сказал младший.
…Я никогда не понимал мужчин, которые, будучи уже в возрасте, женятся на молоденьких девочках. Ясно же, что она, молоденькая девушка, не может выходить замуж за пожилого мужчину без неких корыстных побуждений. Даже если вдруг между ними вспыхнет обалденная любовь. Мужчина, как обладатель и носитель мужского интеллекта, должен понимать, что через сколько-то лет он перестанет быть полноценным мужчиной, а нынешняя молоденькая очаровашка, с восторгом и преклонением глядящая на него снизу вверх, станет зрелой женщиной, нуждающейся, помимо всего прочего, в регулярном, скажем так, интиме. Так каким же дураком надо быть, чтобы идти изначально на то, чтобы пополнить и без того достаточно плотные ряды рогоносцев!
Так я рассуждал всегда. Однако тут, именно в этом зародыше будущего оврага, сидя рядом со своими врагами, с которыми мы уже завтра можем сойтись в смертельном бою, я вдруг взглянул на эту ситуацию с другой стороны.
Хорошо, — подумал я, — пусть в данной сделке присутствует расчет. Но если Мириам сама изъявила желание выйти за меня замуж, что же в этом для меня лично плохого? Пусть через десять лет я уже не смогу быть мужчиной в той степени, как будет нуждаться в этом юная красавица — хотя это еще неизвестно, — тут же самонадеянно поправил я себя… Но ведь зато эти десять лет рядом со мной будет такая молоденькая прелесть, как Мириам. У меня на белом свете нет больше близкой мне женщины. Так почему бы не насладиться общением этой прелестницы?
Она со временем начнет тебе изменять, — начал предательски нашептывать внутренний голос, — она согласна на этот шаг только потому, что ее убедили братья, она оставит тебя вскоре после того, как вы пересечете границу России, что, тебе мало одной измены, мало одного предательства жены… А вдруг нет, — дерзко ответил я внутреннему голосу. А вдруг у нас все будет хорошо… Идеалист, — хмыкнул внутренний я, — ты посмотри на себя, посмотри на нее, а потом оценивай свои шансы на бескорыстную любовь!
Это было обидно. И все же… И все же, — хоть неделя, а будет моя! Твоя, — хмыкнуло что-то внутри. Да она, эта Мириам, будет лежать с тобой в постели, а сама вспоминать какого-нибудь Махмуда. Или француза из Льежа… Да, мстительно обронил я, — но лежать при этом она будет в моей постели!
…Короче говоря, я был в полнейшей растерянности. И именно в этот момент, словно подгадал его, подал еще одну реплику средний брат.
— Костя, когда приедешь в Россию, можешь с Мириам развестись. Только не бросай ее, помоги устроиться в вашей жизни. Узаконь ее пребывание в России — это все, о чем мы тебя просим…
Развестись с Мириам? Только при одном условии: если она сама об этом попросит.
Я вспомнил, как обыскивал ее, прощупывая сквозь комбинезон ее молодое ладное тело. И… Представил, что смогу ощупывать его без комбинезона.
Короче говоря, внутренне я решился. Но только еще оттягивал момент, когда должен был об этом сказать. Потому что тогда обратный путь для меня будет уже напрочь отрезан. А я этого опасался, потому что жизнь выписывала слишком крутой поворот, а я этого всегда опасался.
— Слушай… — я запнулся, потому что забыл, как могу обратиться к среднему брату. — Слушай, скажи мне откровенно: а как относится Мириам ко мне?.. Я понимаю, что она не может быть в меня влюбленной… Но скажи: со знаком «плюс» или «минус»?
Младший меня ненавидел. Старший был слишком прямолинеен. Средний брат представлялся мне самым среди них умным.
Он и ответил умно.
— А что бы ты хотел услышать? — ухмыльнулся он. — Ты бы хотел услышать, что Мириам в тебя влюбилась и сама попросила устроить этот брак… Костя, ты решение должен принять сразу и сам. И не надо пытаться привлечь к решению проблемы посторонних лиц.
Должен сказать, именно эти слова как будто отрезвили меня. Я сделал для себя вывод диаметрально противоположный относительно того, на который уже, было решился.
— Давайте еще раз встретимся, — сказал я. — Я не могу решить этот вопрос вот так, на ходу.
Неожиданно младший брат коротко хохотнул.
— Я знал, что этим закончится, — едва ли не с радостью объявил он.
Это меня кольнуло. Этот щенок еще будет показывать зачатки своего интеллекта!
— Должен заметить, молодой человек, что я еще ничего не ответил, — высокомерно заметил я. — Глупые поступки можно совершать в двадцать лет — в моем возрасте это уже не допустимо.
Наверное, я напрасно так сказал — молодой уставился на меня с такой ненавистью, что если бы у него взгляд обладал биоэнергетическим воздействием, от меня тут осталась бы только горстка пепла.
И вновь вмешался средний брат.
— Хорошо, Костя, наверное, ты прав, — рассудительно сказал он. — Сейчас мы договоримся о следующей встрече. Только два слова напоследок. Ты знаешь, у нас, у мусульман, законы довольно суровые… Так вот, к тебе никаких претензий не будет, независимо от того, как сложатся у вас взаимоотношения с Мириам. Мы тебя просим только об одном: чтобы ты ей обеспечил полноценное российское гражданство — и все. За это…
Я заметил, как его остановил, тронув за руку, Мюрид. И тут мне показалось, что я понял причину такой заботы братьев о Мириам.
— Погодите, ребята… Я так понимаю, что вы не уберегли сестру и тот француз ее таки соблазнил?
Дружное молчание в ответ подтвердило мою правоту. И я рассмеялся. Я давно так не смеялся. Потому что понял все. Мы, белые люди, христиане, смотрим на такие вещи намного проще — хотя и до гробовой доски гордимся, если жена нам досталась девочкой. Что же касается мусульман, у них все сложнее. Никто не простил бы этим трем парням, если бы обнаружилось, что Мириам уже с кем-то была в интимных отношениях — ни родственники, ни ее будущий муж. Им подобным позором всю жизнь глаза кололи бы. Ну а с Мириам вообще могли обойтись со всей восточной жестокостью — вплоть до того, что сожгли бы заживо, мусульмане во многих странах предпочитают именно такой вид наказания неверной жены или самоубийства…
Братья, наверное, все это просчитали. И нашли оптимальный выход. Этим выходом в их глазах должен был стать русский доброволец по прозвищу Прсвет.
— Ладно, ребята, — решительно сказал я. — Встречаемся через два дня, в четверг, на этом же месте. Скажем, в три часа дня. Годится?
— А почему не завтра? — быстро спросил Мюрид.
— Потому что завтра на положае дежурит не наша смена, — объяснил я. — Так что в четверг удобнее. Годится?
Теперь они переглянулись уже все трое.
— Годится, — за всех согласился Мюрид. — В четверг, в три часа.
Как-то получилось, что мы друг другу на прощание руки не пожали. Я просто поднялся и сразу двинулся к своим сквозь густой кустарник.
И был удивлен, когда через десяток шагов столкнулся с Мириам, которая поджидала меня на тропе.
Я теперь взглянул на нее иначе, не так, как до сих пор. По большому счету мы глядим на СВОИХ и ЧУЖИХ женщин по-разному. Свои привычны и, как бы мы к ним ни относились, на их прелести не реагируем слишком обостренно. Чужих оцениваем именно с точки зрения внешних данных. Та же Мириам до сих пор воспринималась в моих глазах лишь как солдат армии противника, хотя и женского пола. Теперь же я взглянул на нее именно как на ЖЕНЩИНУ. Мириам и в самом деле была хороша. Маленькая, хрупкая, смуглая и светлоглазая.
Она, наверное, понимала, что я уже про нее знаю слишком много, а потому стояла смущенно потупившись.
— Забери меня отсюда, Прсвет, — сказала она негромко. — Забери, пожалуйста.
Что я мог ей на это сказать? Что не верю в ее искренность? Что мне не хочется обрастать рогами? Что я сам в Россию не могу вернуться, пока не выправлю себе новые документы?.. Все это было правдой.
И вместе с тем я не мог ей и отказать. Наверное, ей и в самом деле тут несладко, если они с братьями решилась на подобный шаг.
— Я приду в четверг, Мириам, — тихо сказал я. — И тогда мы с тобой все решим.
И тогда произошло то… Произошло то, что произошло.
— Возьми меня с собой прямо сейчас, — попросила она.
Я не должен был соглашаться. Но…
— Пошли, — сказал я.
…Это было невероятно. Но водитель до сих пор спокойно спал в кабине.
— Я тебя ждал, Просвет, — не удивился он появлению Мириам. — Давай садись быстрее. Еще на ужин поспеем.
Часть четвертая Попытка к бегству
1
После вчерашнего дождя солнце, казалось, решило наверстать упущенное и поскорее восстановить свои права на погоду. Оно пронзало своими толстыми золотыми лучами комнату насквозь, которые, отражаясь от полированных поверхностей мебели, одновременно ярко выделяя на них каждую пылинку, дробилось, разбрасывая блики, в граненом стекле «стенки».
И, как я ни старался не обращать внимания на буйство золотого света, у меня получалось это с трудом. И это слегка раздражало. Вернее, это сильно раздражало, однако я понимал, что проявлять раздражение не следует, а потому тщательно запрятал нервы внутри, сжал их в кулак, да еще и пригрозил: попробуйте только прорезаться!..
Разговор явно не клеился.
— И как ты себе, это самое, все это мыслишь?
Я с недоумением пожал плечами:
— Ты у меня спрашиваешь?
— Ну а у кого же?
Мы с Мареком смотрели друг на друга, явно друг друга не понимая. Вернее, скорее всего, не совсем так: он все прекрасно понимал и, по всей видимости, все заранее продумал и мое поведение скрупулезно просчитал. Или кто-то за него это сделал и ему теперь оставалось только выполнять чьи-то рекомендации. Как бы то ни было, сейчас он старательно изображал невинность, подталкивая меня самого к принятию какого-то важного для него решения.
Нет, парень, при всем своем, или чьим-то еще, уме, ты еще не понял, что нынче не на того напал! Я перед тобой кланяться не стану. Ты мне сам все расскажешь, а не я из тебя буду нужную информацию клещами вытаскивать! Потому что не только ты мне — я тебе, о чем нетрудно догадаться, тоже для чего-то нужен! Для чего — пока не знаю. Но в том, что нужен, сомнения нет.
Ну а раз уж мы с тобой настолько нуждаемся друг в друге, я сейчас просто встану и уйду. Вернее, только встану и сделаю вид, что собираюсь уходить. Ну а ты меня остановишь. Непременно остановишь. И после этого уже не будешь передо мной выделываться. Если так произойдет, в дальнейшем мы с тобой будем разговаривать на равных.
А если не остановит? — попытался насторожить меня долго до того молчавший внутренний голос.
Ну что ж, если не остановит, так тому и быть. Я предпочитаю играть в открытые игры, а не пытаться темнить со своими.
Со своими? — с нескрываемой ехидцей поймал меня на оговорке все тот же голос изнутри. Они, выходит, эти Мареки, для тебя уже свои?
Ну ладно, пусть не со своими, — не стал я с самим собой спорить по пустякам. Пусть не со своими, а с теми, с кем я вынужденно и временно оказался в одной упряжке. Потому что мы с ними нужны друг другу.
Круг замкнулся. Я начал с того, что мы нуждаемся друг в друге, и к тому же пришел, только теперь уже с другого боку. Ну а кольцо, в котором поневоле оказался, нужно решительно разрывать.
Я встал. Подхватил свой новенький, только сегодня купленный кейс.
— Счастливо оставаться, — обронил небрежно, не подавая Мареку руки. — При случае Корифею привет.
Сказал — и пошел к двери. Повозился немного — не сразу разобрался в замках и запорах. Вернее, сделал вид, что не сразу разобрался.
Однако Марек молчал — скорее всего, тоже понимал, что это всего лишь игра, попытка восстановить статус-кво. И выжидал, надеялся, что я сам сейчас не выдержу принятой позы и вернусь к нему если не с поклоном, то с видимостью покаяния.
Не на того напал, парень, еще раз сказал я себе. На тебя еще сперматозоид не созрел, когда я уже по афганским горам лазал и «духам» бошки сворачивал. Я и без тебя, фрайер дешевый, проживу!.. Ты без меня, впрочем, я понимаю, тоже. Но только это вовсе не значит, что ты от меня дождешься поклона. Вот и ладненько. Вот на таком раскладе и остановимся. Вернее, разбежимся.
Так что все, гражданин хороший, как говаривали в мою бытность в твоем возрасте, любовь прошла, детей об стенку и девичья фамилия. Адью, как говорится!
…Наконец «собачка» щелкнула, дверь поддалась, распахнулась. За спиной было тихо, никто меня не окликал. Ну ладно, если так…
Так и не обернувшись, я вышел на лестничную площадку и громко громыхнул за спиной дверью. Секунду-другую помедлил. И только после этого начал неторопливо спускаться по лестнице. Подчеркнуто, демонстративно неторопливо. Однако так и не дождался: дверь, из которой я только что вышел, не раскрылась.
Значит, так тому и быть. Теперь можно сколько угодно гордиться своей гордостью. Я выдержал марку. Выдержал… Однако это было плохо. Потому что это означало, что теперь придется поиски нужных мне людей начинать самому. Без помощи тех, на чью помощь я рассчитывал.
Я вышел из подъезда и остановился. Куда направиться теперь? Идти было попросту некуда.
Как говорится, куда пойти, куда податься?.. Вариантов виделось не так уж много. На поверхности: сдаться милиции, покаяться и вернуться в «зону». Желания нету… Что еще? Сесть на первый попавшийся поезд и уехать куда глаза глядят, а там что-нибудь, да получится. Ограбить банк. Попросить политического убежища в посольстве государства Маврикий. Начать бомжевать. Соблазнить и жениться на дочери Рокфеллера, Борового или «нового русского». Опровергнуть закон Ньютона и получить за это Нобелевскую премию. Завербоваться куда-нибудь наемником…
Стоп! Последняя мысль вдруг показалась не лишенной некоторой привлекательности. В самом деле, а почему бы и нет? Уж что-что, а воевать я умею — быть может, это единственное, что я умею делать хорошо и профессионально. Да и с людьми обращаться, в смысле командовать ими, тоже… Наемником… Эту мысль хорошо бы не позабыть и со временем обдумать получше.
Вот только как это делается? Вряд ли где-нибудь на доске объявлений или в рекламной газете «Из рук в ноги» будет написано: «Приглашаются опытные наемники. Конфиденциальность гарантируем. Оплата сдельно-премиальная…» Плохо, что у нас нет своего французского Иностранного легиона, где можно было бы годика на три укрыться.
Вокруг меня раскинулась Москва. Один из величайших городов мира. И одна из самых криминальных столиц. Здесь можно найти все что угодно, здесь можно решить абсолютно все вопросы. Для этого необходимо всего-то две вещи: деньги и информация о том, куда с какой проблемой обратиться. А у меня нет ни того, ни другого.
Значит, опять круг замкнулся. Мне позарез нужен Марек. Но вернуться в квартиру после того, как я сам от него ушел… Нет уж, это было выше моей гордости.
В общем, решено. Начнем все с начала, как будто и не было в моей жизни знакомого «авторитета» с погонялом Корифей. Я опять ни от кого не завишу, я по-прежнему никого не знаю. Пусть будет все, как будет. И буду сам решать, думать, сам просчитывать варианты того, как следует поступить. Одинокий волк — в этом есть свои плюсы. Правда, это хорошо, когда у этого волка хоть где-нибудь есть логово, где можно отдохнуть, отлежаться, в крайнем случае зализать свои раны — в том числе и душевные… Но это уже было бы слишком хорошо. Будем исходить из имеющихся у нас реальностей.
Приняв такое решение, я одернул воротник куртки-джинсовки, которую тоже купил только сегодня утром, и решительно зашагал по тротуару прочь от подъезда, в который вошел каких-нибудь полчаса назад. В конце концов, не сошелся же на Мареке…
Додумать до конца фразу я не успел. Прямо перед мной что-то шлепнулось и громко разбилось об асфальт. Я замер, рефлекторно вскинул голову вверх.
На балконе третьего этажа стоял Марек. Ни слова не говоря, он ткнул в сторону подъезда большим пальцем: мол, давай-ка вернись. Значит, он наблюдал за мной до последнего мгновения, ожидая, какое я приму решение.
Что ж, это хорошо, что не выдержал и сломался именно он, а не я пошел на попятную. Значит, теперь разговор состоится. Причем, разговор с его стороны не будет вестись с позиции сильного.
Я чуть потоптался, делая вид, что колеблюсь, стоит ли возвращаться, потом чуть махнул рукой, мол, так уж и быть, раз приглашают, повернулся и вновь вошел в обшарпанный подъезд с невесть когда взломанным домофоном, раскуроченная коробка корпуса которого теперь обреченно лохматилась жгутом разноцветных проводов.
…Дверь в квартиру распахнулась еще до того, как я нажал кнопку звонка. Ни слова не говоря, Марек посторонился, пропуская меня в тесную прихожую, так же молча кивнул за спину, в комнату. Проходи, мол, располагайся. А сам направился на кухню.
Уже оттуда громко спросил:
— Ты, это самое, что пить будешь?
Нашел у кого спрашивать! У здорового нормального русского человека, который только что освободился!
— Все, что предложишь, — ответил я ему без ложного кокетства. — Помнишь, как в том старом анекдоте: дочь моя, и пиво тоже.
В комнате я уселся на том же месте, где сидел десять минут назад. И приготовился ждать.
Впрочем, ждать хозяина пришлось совсем недолго. Марек вернулся в комнату, вкатив за собой видавший виды деревянный разболтанный сервировочный столик. Коньяк, кофе, печенье, нарезанный лимон, орешки… Вот это другое дело, теперь, судя по всему, разговор пойдет.
— Ладно, Беспросветный, это самое, повыдрёпывались — и хватит, — предложил мировую Марек.
Кто бы возражал! Мне твои испытания нужны, как пингвину плавки.
Не дождавшись ответа, Марек спросил:
— Давай-ка еще раз: что тебе конкретно, это самое, от меня нужно?
Принимая предложенные им правила игры, я начал с самого начала:
— Когда я выходил из «зоны», Корифей дал мне твой адрес и сказал…
Марек кивнул, небрежно махнул рукой и бесцеремонно перебил меня:
— Я знаю, Корифей о тебе маляву передал, так что все в порядке. Только он сказал, что не уверен, что ты, это самое, здесь появишься.
Я неоднократно имел возможность убедиться, что информация у них поставлена на должном уровне. Так что скрывать что-либо не имело смысла.
— Не собирался, — согласился я. — Только с тех пор обстоятельства немного изменились.
Марек между тем наполнил рюмки, взял свою, слегка коснулся моей и одним глотком проглотил содержимое. Сморщился, громко отрыгнул и, не закусывая, уставился на меня.
— И что у тебя же у тебя такое случилось, что заставило поменять планы?
Снова мне показалось, что что-то происходит не так, как должно было бы происходить по моим прикидкам. Только если попервости это ощущение было каким-то невесомым, непонятным, эфемерным, то теперь мне показалось, что я понял, что именно меня беспокоит.
Корифей говорил, что здесь можно встретиться с солидными людьми. А Марек, окончательно убедился я, был обыкновенной «шестеркой». Причем, судя по всему, «шестеркой», злоупотребляющей спиртным. Другими словами, меня сейчас попросту прощупывают. Потому Марек не остановил меня в первый момент, когда я направился к двери. Потому он остановил меня лишь после того, как я окончательно собрался уходить. Ну а значит и перышки перед ним распушать особенно не следует. Ведь он, по всей вероятности, ничего не решает. Значит, он сейчас только информацию обо мне собирает, а потом только докладывать свои соображения и наблюдения будет.
А может… Мысль мне показалась нелепой и я ее тут же решительно отбросил. Однако мгновенно вмешался внутренний голос. Ты погоди, рассудительно заметил он, может, в этом и есть свой резон. Вдруг действительно пока он тут меня прощупывает, за нами исподтишка наблюдают?..
Я поднял свою рюмку и тоже опрокинул ее содержимое в рот. Отпил глоток кофе.
— Так что же у тебя, это самое, случилось? — напомнил о себе Марек.
И я решился на провокацию. В конце концов, он меня вернул, значит, можно немного и обострить ситуацию.
— Ну а тебе-то какая разница? — нагло, прямо в его физиономию усмехнулся я. — Что у меня случилось… Ты давай-ка не строй из себя какого-то крутого, а позови сразу людей, которые могут принимать решения. Где они у тебя? В соседней комнате?
Квартирка была обыкновенной малогабаритной «хрущовкой». Комната, в которой мы сидели — проходная. В противоположной от входа стене была еще одна дверь. Плотно закрытая дверь. И я, торопливо проанализировав поведение Марека, заподозрил, что именно за ней, за этой второй дверью, может кто-то находиться.
— Так что же? Может, позовем? — я наклонился вперед и уставился в глаза хозяину квартиры. — Чего разговаривать через посредников?..
Следующее, что я собирался сделать и сделал бы непременно — хотел подняться и сам пройти к двери и раскрыть ее. Однако не успел. Дверь открылась сама. И в комнату вошли двое.
2
Старший из вошедших, клочковато седенький, вернее, пегий какой-то, с изрядно прореженной шевелюрой, как-то боком, неловко опустился в кресло, стоявшее чуть поодаль от столика, за которым сидели мы с Мареком. Он внимательно, колюче и довольно бесцеремонно разглядывал меня, одобрительно кивая и неискренне изображая благожелательность. Он вообще был весь какой-то несимпатичный, неприятный, неискренний… Такие как он, знал я, легко отдают приказ лишить жизни кого бы то ни было, без малейших угрызений совести и фарисейски изображая сожаление по этому поводу. Второй, вошедший за ним и оставшийся стоять, прислонившись к стене, человек, был из числа тех, кто такие приказы выполняет. Тоже без размышлений и сожалений. Здоровенный, преданный тому, кто платит, бесконечно жующий и столь же тупой.
— Немало наслышан про тебя, Беспросветный, немало, — проговорил старший. — Должен признаться, Корифей о тебе сообщил немало хорошего. И я вижу, что он не ошибся, не ошибся он…
Я тебе не скаковая лошадь. И не девица, которой с момента знакомства необходимо говорить комплименты.
— Мне почему-то кажется, — откровенно ухмыльнулся я, протянув руку и взяв свою, вновь наполненную Мареком, рюмку, — что Корифей должен был сообщить вам не только о моих положительных качествах. Или я ошибаюсь?
Старший меленько засмеялся, нервно потирая руки. Или это у него привычка такая?
— Так и есть, ежик, так и есть, — хихикал он. — Корифей так и сказал: колючий ежик.
О господи, с досадой подумал я, с кем приходится общаться! Правильно сказал Шарапов: самое дорогое на свете — глупость, потому что за нее приходится платить самую большую, неадекватно большую цену… Вот и я сейчас расхлебываюсь за то, что в жизни мне всегда не хватало ума и выдержки. Был бы погибче, умел бы унижаться и идти на компромисс — вся жизнь иначе пошла бы!
И теперь глядеть на это самодовольно хихикающее плюгавое создание было противно, омерзительно. Гидко — как говорят на Украине.
— А Корифей вам не говорил, что человек должен представляться, когда входит в помещение, где есть незнакомые люди? — резковато спросил я у него.
Однако пришедший не обиделся, опять с готовностью захихикал, потрясая реденькими, с проседью, волосами и возбужденно потирая ладошки.
— Как и есть ежик, — повторил он. — Колючий…
— Лучше тогда уж сказать — дикобраз, — опять я не счел нужным промолчать.
И снова довольное хихиканье, снова нервное потирание ладоней.
— Остряк! — можно было подумать, что он увидел перед собой кого-то из ведущих сатириков страны, так радостно засмеялся. — И почему же дикобраз, позвольте спросить? Почему именно дикобраз?..
Мне отвечать не хотелось. Мне очень хотелось как можно скорее перейти к делу. Однако в данной ситуации приходилось если и не подчиняться предлагаемым правилам игры, то по крайней мере приспосабливаться к ним.
— Потому что ежик только свернется в клубочек и ждет, пока беда пройдет мимо, — угрюмо расшифровал я свою мысль. — А дикобраз втыкает иголки во врага и оставляет их там. Дабы тому впредь неповадно было его трогать.
— Позиция, — хихикал и поощрительно кивал мой собеседник. — Вот это я понимаю — позиция!..
Что ты тут делаешь? — вдруг непривычно робко подал реплику внутренний голос. Может, лучше уйти? Ну их, в самом деле, и без них проживешь…
И рад бы, дружище. Да только нужны они мне, эти люди. Понимаешь? Нужны!
Тем не менее, он был в определенной степени прав, мой внутренний голос. К нему тоже иногда надо прислушиваться, он иной раз дельные мысли подает.
— У меня есть предложение вступительную часть заседания считать завершенной и сразу перейти к основной. Как вы на это смотрите?
Собеседник смотрел на это положительно. Потому что он опять часто согласно закивал, потирая ручки. Нет, в самом деле, просто любопытно: это у него рефлекторное, привычка, или же он так играет, изображая взвинченного неврастеника?
— Давайте перейдем, давайте… Кстати, а почему вас назвали Беспросветным?
Та история, после которой ко мне прилипло это идиотское прозвище, произошла слишком давно. Вспоминать ее не хотелось. А потому я предложил ее укороченную и не совсем точную версию.
— У меня как-то спросили, как жизнь, — нехотя пробурчал я. — Ну я и ответил: жизнь, мол, как генеральский погон — сплошной зигзаг и ни одного просвета…
Наверное, ни один комик страны, да что там страны — всего мира, не имел в своей жизни такого благодарного слушателя, как был в тот день у меня. Собеседник не просто смеялся над этим незамысловатым каламбуром. Он хохотал, хихикал, хрюкал, брызгая слюной — и все это меленько, с ужимками, с потиранием ладошек, с упавшей на лоб и прилипшей к испарине серенькой прядкой волосиков… Насколько же это было омерзительно.
— И ни одного просвета, говорите? — переспрашивал он. — Хи-хи-хи… Остряк, право слово, остряк…
Я невольно перевел взгляд на его телохранителя — тот невозмутимо пережевывал резинку, лениво приспустив веки. Марек тоже никак не реагировал на происходящее. Наверное, для них это привычно, такое поведение.
Наконец мой собеседник отсмеялся. Хотя и в дальнейшем он еще не раз начинал довольно хрюкать, довольно натурально изображая веселье.
— Так что ж вы хотите от нас, наследник генеральского погона?
Наконец-то!
— Я уже говорил вашему человеку… — я качнул головой на Марека.
Однако седенький не дал мне закончить, махнул рукой, перебивая.
— Да ладно, не будем говорить о том, кто о чем кому говорил. Вы мне скажите, это будет надежнее.
Что верно, то верно. Хотя и он не производил впечатление серьезного «авторитета», по сравнению с Мареком это был уже совершенно другой уровень.
— Ну что ж… Мне необходимы новые чистые документы, — твердо ответил я.
— В каком смысле «чистые»? — переспросил седенький, хотя не вызывало сомнения, что он прекрасно понял, о чем идет речь. — «Чистые» в каком смысле?
Ну что ж, раз ты настаиваешь на такой форме беседы, опять слегка подыграем.
— В том смысле, что у этих документов не должно быть криминального прошлого, — расшифровал я свою мысль.
Тот опять захихикал.
— Вы так изъясняетесь, будто пришли в литературный институт поступать, — заметил он. — Или репортером на телевидение.
Не доверяет? — мелькнуло в голове. Навряд ли. Так что же ему не нравится? Что по «фене» не общаюсь?
— Знаете ли, таинственный незнакомец, — с ехидцей усмехнулся я, — на мой взгляд, наш великий и могучий русский язык достаточно богат, чтобы обходиться без дополнительных словосочетаний, не понятных никому, кроме тупых жвачных животных о двух ногах.
Снова хихиканье, снова потирание ладошек. И еще косой взгляд за спину, в сторону телохранителя. И еще подмигивание многозначительное: мол, прекрасно понимаю, на кого ты намекаешь…
— Дикобраз, говорите? — осведомился он. — Говорите, чтобы потом неповадно было?.. Логично, логично…
Он поднял руку и слегка щелкнул пальцами. Телохранитель мгновенно пробудился от спячки и метнулся к столику. Подхватил пустую рюмку, наполнил ее коньяком и поднес своему патрону. Тот пригубил коньяк, с видимым удовольствием прищурился. И вдруг взглянул на меня без хихикающей маски, строго и пытливо. Будто щелчком тумблера выключил дурковатую внешность.
— А почему бы тебе не пойти и не оформить документы законным порядком? — спросил он в лоб. — Ты ведь из «зоны» не сбежал, со справкой прибыл…
Не то чтобы я был каким-то очень уж опытным физиономистом, но подобная метаморфоза не стала для меня слишком неожиданной, ее вполне можно было спрогнозировать.
Потому я не удивился, не растерялся, ответил уклончиво:
— Если бы у меня была возможность поступить законным образом, я не стал бы разыскивать вас. Ну а раз уж появился здесь…
Я умолк, демонстративно развел руками.
— И все-таки?
Отвечать или не отвечать? Лучше, конечно, не отвечать. Не стоит на себя им лишний компромат давать. Потому постараюсь еще раз уклониться.
— Ну а тебе что, не все равно? — я тоже уставился ему в глаза, постаравшись выглядеть твердо, но без вызова. — Главное, что мне нужна помощь. Корифей говорил, что на вас могу положиться.
Седенький на «ты» не обиделся, просто никак не отреагировал.
— Конечно, можешь, — не стал отнекиваться он. — Да только и ты же должен понимать, что за просто так тебе никто новый паспорт не выдаст. Даже несмотря на ходатайство Корифея.
Конечно, понимал. И отрабатывать их услугу мне никак не хотелось. Вот только выхода другого из сложившейся ситуации не видел.
— И что от меня нужно? — не стал строить из себя непонятливого.
Спросил — и только тогда понял, что получилось все именно так, как добивался седенький. Я спросил, что от меня требуется. Так что с этого мгновения они являются хозяевами, а я нанимаемым. Такой расклад будет предопределять дальнейший ход переговоров.
— Сейчас поговорим и об этом, — кивнул собеседник, однако форсировать беседу не стал. — И об этом поговорим. Только прежде всего нам нужно предварительно решить некоторые вопросы, а потом переходить к конкретике. Надеюсь, вы с этим согласны?
Туманно, непонятно. Загадочно. Многообещающе. Тревожно… Да, этот человек — не Марек. С ним нужно ухо держать востро. И попадаться такому на крючок никому бы не советовал. Себе — в первую очередь.
Нет, нужно выполнить их условия, получить чистые документы, где-то срочно легализоваться и начинать новую жизнь. Только, понимал я, на пути этого плана лежит еще какое-то преступление, которое, хочу того или не хочу, вынужден совершить.
Расплата — дочь ошибок трудных.
3
Все происходило именно так, как и должно было быть. Как мне рассказывали. И как я планировал. Поезд и в самом деле начал притормаживать еще загодя.
Железнодорожное полотно тут выписывает широкую дугу, одновременно спускаясь в лощину. На таком вираже скорость держать просто невозможно. Особенно тяжело груженому грузовому составу.
…За эти несколько дней, пока я готовился к акции, за которую мне пообещали изготовить необходимые документы, я узнал много для себя нового. Причем, в той сфере экономики и примыкающей к ней криминальной деятельности, о которой раньше имел представление довольно туманное.
Оказывается, кражи грузов на железной дороге всегда было достаточно выгодным делом. Потому еще на заре грузовых железнодорожных перевозок товарные вагоны стали закрывать на замки, по мере возможности охранять их. Например, крохотные свинцовые пломбочки, которые до недавнего времени навешивали на вагоны и контейнеры, стали использовать еще при царе-батюшке Николае Втором Кровавом, которого нынче произвели в Святого, в 1900-м году. При Сталине и Хрущеве каждый товарный поезд охраняли стрелки военизированной охраны. Потом такую практику в целях экономии отменили, ограничившись тем, что особо важные грузы тщательно проверялись при прибытии на станции.
Но и в те времена, когда при вагонах на тормозных площадках следовали строгие дяди с винтовками, и когда их сменили бдительные стражи на станциях, вагоны грабили всегда. Неподалеку от крупнейшей в Европе, а быть может и во всем мире, товарной станции Орехово-Зуево имелись целые деревни, которые процветали исключительно за счет того, что живились чем только можно на проезжающих поездах. В местном транспортном уголовном розыске даже название станции в сердцах переменили, пользуясь тем, что на пишущей машинке буквы «З» и «Х» находятся рядом. Однако даже это не смогло остановить данный вид криминальной «деятельности». Даже разработка уникальных блок-запоров, типа «Лавр-гарант», которые гарантированно оберегали двери от взлома, даже это не смогло положить конец тому, что происходит.
И тому, что я и сам должен был теперь совершить. В вагоны продолжали проникать — через вентиляционные лючки, например…
Обо всем этом мне рассказал угрюмый, малоразговорчивый парень, который инструктировал меня накануне. По тому, насколько подробно поведал он о том, как видится проблема со стороны транспортной «уголовки», у меня возникло подозрение, что он имеет к этой организации какое-то отношение. Однако акцентировать на этом внимание не стал. В конце концов, главное для меня сейчас — выполнить задание, забрать документы и исчезнуть, чтобы никто никогда меня не нашел.
…И вот теперь я лежал на краю подрезанного при прокладке железной дороги холма, экипированный всем необходимым для того, чтобы не случилось промашки. Волновался ли я? Пожалуй, не очень. Да, подобным делом мне раньше заниматься не доводилось. Но и ничего особенно уж сложного в этом не видел. Да и с угрызениями совести особых проблем не возникало. Если разобраться, не настолько уж велика была моя вина, чтобы упечь меня на такой срок. Так что можно считать, что родное правосудие мне задолжало и у меня имеется некоторая фора. Да и вообще… Слишком нечестно, слишком бессовестно обошлось со мной мое государство, чтобы я очень уж переживал из-за того, что сейчас причиню ему некий материальный вред. Ну а что касается непосредственно груза, то он принадлежит какой-то частной компашке, перед которой у меня вообще никаких обязательств…
Поезд медленно втягивался в узкую цель, прорытую в невысокой холмистой гряде. Сначала подо мной проплыл, утробно урча двигателями, спаренный тепловоз, потом потянулись крыши вагонов. Хуже всего будет, подумалось некстати, если придется прыгать на платформу, идущую порожняком, а потом с нее взбираться на контейнер. Да и на контейнеры-«трехтонники» прыгать в темноте слишком опасно.
Ладно, будем надеяться на лучший вариант. Так, четырнадцатый вагон, пятнадцатый, шестнадцатый…
Накаркал! После крытых вагонов потянулись пустые платформы. Чего их таскать туда-обратно, пустые-то? Что, совсем грузов не осталось на всей Руси великой?… Придется рисковать. Пропускаю мимо нужный мне двадцать второй вагон. Удача! За ним следует рефрижераторная секция! Секция — это пять вагонов: в среднем едут два человека обслуги, а по два с каждой стороны — это холодильники.
Мне вдруг становится не по себе. Крыша металлическая, мокрая… Соскользнуть с нее — смерти подобно. Но и долго собираться нельзя — потому что если идти по крыше обитаемого вагона, люди внутри даже сквозь несмолкаемый гул дизельной установки, которая гонит в рефрижераторы фреон, могут услышать над головой грохот моих каблуков. К тому же нельзя прыгать близко к оси вагона, где крыша ровнее, потому что можно задеть контактный провод. Тогда мне точно документы не понадобятся.
Я собираюсь с духом, задерживаю дыхание… и прыгаю. Падение на крышу кажется бесконечно долгим. И столь же неумолимо надвигается темнеющий провал между вагонами. Попасть в него — значит рухнуть в трех- или пятиметровую пропасть прямо на рельсы, под отполированные тысячами километров пути колесные пары. Тогда располосованные острой ребордой ошметки моего тела окажутся растащенными на десятки, а то и на сотни метров, а все десять метров кишок туго намотаются на толстую ржавую ось…
Все эти образы успели промелькнуть в моем мозгу. Я даже успел увидеть, как в депо какой-то бледный парнишка-ученик, отворачиваясь и плача от ужаса и омерзения, отковыривает от металла железным крюком мои застывшие, облепленные мухами смрадные потроха…
Однако все враз пропало, когда я шлепнулся всем телом на покатую холодную крышу вагона. Чуть скользнул было к ее краю, однако легко удержался, зацепившись за длинные продольные ребра.
Поднялся и, низко пригнувшись, чтобы не зацепиться за провода, побежал вперед, по ходу движения. Теперь все нужно делать точно — время не ждет. Ни зги не видно. Хорошо хоть крыша светлая и края ее хорошо просматриваются во тьме. Зато проводов не видно вовсе. Зацепишься за него — и никто даже опознать не сможет то, что от меня останется!
Ну и мысли лезут в голову… Через провал между вагонами я перепрыгнул легко.
Наверное, потому, что ничего не было видно внизу. Видел бы струящийся в глубине сияющий рельс, решиться на прыжок было бы куда труднее.
Пробежал вперед. Теперь прыгать было труднее. Потому что выкрашенный в кирпичный цвет контейнер в темноте не был виден так хорошо. Однако, начав действовать, я уже ни о чем постороннем не задумывался. И прыгнул прямо с ходу, не останавливаясь.
Нужный мне контейнер — второй. Перебравшись на него, я быстро снял с плеч тщательно укомплектованный и подогнанный вещмешок. Разложил его, развернул. Торчащие из гнезд ручки инструментов слабо светились — чтобы облегчить работу в темноте, я их пометил фосфоресцирующей краской. Вытащил зубило и большой молоток, больше похожий на маленькую кувалду. Приладил к тряской поверхности острие, с размаху саданул по шляпке.
Черт! Высокий контейнер мотало из стороны в сторону так, что даже удержаться на нем было не так просто. А тут еще вагон не вовремя качнулся и удар пришелся не столько по зубилу, сколько, скользнув, по руке. Да, ошибку я допустил — нужно было брать молоток не такой тяжелый. Ну да теперь уже не исправишь.
Замахнулся и ударил еще раз. Удар получился совсем слабый, я боялся опять промахнуться. И я со злости навернул по зубилу изо всех сил. И оно тут же легко провалилось сквозь крышу контейнера.
Отлично! Теперь дальше. Зубило и миникувалду — в сумку. Оттуда извлекаю следующий инструмент — что-то типа больших ножниц по металлу. Их специально изготовляют для тех, кто специализируется по взлому контейнеров. И я скоро убеждаюсь, что и в самом деле изготавливают их опытные умельцы, которые учли опыт не одного поколения взломщиков. Вставляю в отверстие, начинаю резать. Металл поддается легко, почти совсем не приходится прикладывать усилий. Что ж их такими слабыми-то делают, наши контейнеры? Хотя с другой стороны, все эти запоры и заборы только для честных людей — если преступник захочет, так и сквозь бронированную стену проникнет.
Вскоре на темной поверхности крыши контейнера обозначились контуры большого квадрата. Подцепляю его край и легко отгибаю. Образуется дыра типа открытого люка.
Спрятав ножницы в сумку, смотрю на часы. Светящиеся стрелки показывают, что управился я достаточно оперативно, а потому можно немного времени потерять. Опускаю руку в открывшееся отверстие. Ящик… Ящик… Еще ящик…
Что же в них? Из-за чего меня наняли, за что посулили документы?
Опять смотрю на часы. Может, успею? Во всяком случае, попытаться не мешает.
Ложусь на крышу контейнера, запуская внутрь открывшегося отверстия обе руки. Пытаюсь подхватить верхний ящик. Не с первой попытки, но мне это удается. Нащупав ручку, ставлю ящик на попа и тяну его к себе. Тяжелый, однако…
Наконец мне удается выволочь его на поверхность. Еще раз взглянул на часы. Еще время есть. Я вновь достал из сумки зубило, нащупал замок и взялся за дело.
Ящик открылся с противным скрипом выдираемых из дерева гвоздей. И из-под взломанной крышки потянуло таким знакомым запахом…
Что же это? Рука наткнулась на промасленную бумагу. Торопливо разрываю ее… Руки легко натыкаются на знакомые детали.
В ящике — пистолеты в фабричной упаковке. Насколько можно судить на ощупь, наши штатные ПМ — пистолеты Макарова, которыми вооружены милиция и армия.
Значит, этот контейнер принадлежит не коммерческой фирме?.. Хотя нет, не может быть. Если бы партию пистолетов везли официально, охраняли бы ее — будь здоров. Так что нет сомнения, что оружие предназначено не легальной фирме, которая делает свой бизнес хотя бы более или менее честно… Пистолеты упаковали в контейнер и направили в адрес, по сути, некой мафиозной организации. Другая не менее мафиозная структура об этом узнала. И таким образом я сейчас прикоснулся, ни много ни мало, к межклановой мафиозной борьбе. Только этого мне еще и не хватало.
Ну что ж, как мы будем разбираться с Пегим и компанией, увидим. Но и эту утечку оружия «налево» и в самом деле необходимо предотвратить. Хотя бы уже потому, что в случае, если я осуществлю задуманное, странным контейнером обязательно заинтересуется милиция. И тогда, глядишь, наши доблестные гуровы выйдут на продавцов. Ну а кроме того, если целый контейнер «стволов» не попадет в руки мафии, быть может это сохранит хоть чью-нибудь жизнь.
Пора, дольше находиться на крыше опасно. Скоро нужный мне мост, а там и станция.
…Я достаю один за другим три промасленных «макарова», бросаю их в свой мешок, нашариваю и швыряю туда же с десяток обойм. Запихиваю ящик назад в дыру. Понятно, пропажа трех «стволов» непременно обнаружится, когда будет составляться протокол вскрытия аварийного контейнера. Однако на фоне происшедшего, наверное, они не очень громко «прозвучат». Ну а мне они, глядишь, и понадобятся.
Теперь нужно действовать быстрее. Я достал все из того же мешка канистрочку с бензином, отвинтил пробку и опрокинул горловину внутрь. В ноздри остро ударил характерный запах. Да черт с ней, с этой посудиной! — решил я и сбросил внутрь всю ее. Чиркнул специальной спичкой — зажигается от всего и не гаснет ни под дождем, ни при ветре. И уронил ярко вспыхнувший язычок пламени внутрь контейнера. Там тотчас весело заплясали голубенькие огоньки, устремившись вниз по штабелю ящиков.
Здесь мне делать было больше нечего. Я закинул мешок за спину. Опустил ноги вниз, нащупал какой-то выступ — наверное, петля двери контейнера… Перехватил руки и опустился на платформу.
Вагон прогрохотал через переезд. Это для меня ориентир — скоро нужно будет прыгать… Переезд был автоматическим, неохраняемым, однако у мигающего красными сполохами полосатого косого креста стоял одинокий автомобиль. Хорошо, что пламя не разгорелось как следует и его еще не видно с дороги… А может это мои «работодатели» подъехали, меня контролируют?
Далеко впереди показался светофор. Сигнал двойной — желтый с зеленым. Насколько я знаю, это значит «проследовать по основному пути малой скоростью». Поезд и в самом деле опять начал притормаживать. Так и есть, приближался мост. Значит, сейчас нужно будет спрыгивать. Тут, насколько я знаю, должна быть плоская местность, без высокого обрыва.
Светофор, сменивший сигнал на красный, проплыл назад. Впереди показалась стайка светящихся прожекторов. Я вжался в тень, отбрасываемую контейнером. Вагон начало швырять на стрелках…
Пора! Я быстро перемахнул через бортик платформы. Повис на руках. И, оттолкнувшись, полетел в темноту.
4
Пока все шло по плану. Даже ударился при падении не слишком больно. Отбежав чуть в сторону от грохочущей поездом железной дороги, я свернул в направлении, противоположном тому, что был оговорен заранее. Вместо этого я направился к реке. Почему я так сделал? Пожалуй, затруднился бы ответить на этот вопрос. Просто, повинуясь интуиции, решил, что с этого момента все будет развиваться по плану, задуманному мною, а не по тому, который мне пытаются навязать работодатели.
Мысль о том, что следует поступить именно так, подспудно сидела во мне и раньше. А теперь, когда я прикоснулся к такой опасной тайне, как торговля оружием, созрела окончательно. Стать жертвой в борьбе криминальных группировок мне никак не хотелось. «Не климатило», — как говаривал в свое время один мой старый приятель.
Берег, как и было показано на карте, которую я специально купил и тщательно изучил накануне, с этой стороны и впрямь был покатый. Впрочем, я и без того знал, что восточный берег, как правило, более пологий, так как из-за вращения Земли его меньше подмывает. Миновав кустарник, но не выходя на открытое место, я проводил глазами состав, с которого только что спрыгнул и который, осторожно миновав последний пролет горбатого моста, помигал мне задними фонарями. Пожара пока видно не было.
А ну как пламя погаснет? Это было бы слишком подлым и нечестным ударом со стороны судьбы… Да нет, не должен, займется. Там, внутри контейнера, сухое дерево, промасленная бумага, да все к тому же щедро полито бензинчиком… Разгорится!
Тем более надо спешить. Я торопливо стянул с себя комбинезон. Завязал рукава и штанины узлами, набил образовавшийся мешок песком и, раскачав его, зашвырнул его в воду как можно дальше. Он хлюпнулся с громким плеском. Теперь главное — чтобы в этом месте оказалось не настолько мелко, чтобы комбинезон не был виден с поверхности.
— Слышь, как играет?.. — неожиданно послышался неподалеку сонный голос.
— Что? — недовольно отозвался другой.
— Играет, говорю… Сом, небось, килограммов на двадцать, никак не меньше…
Второй голос явно хотел спать, а потому не разделял восторгов первого.
— Да какой тут может быть сом? Выдумываешь ерунду всякую…
— Ну а кто это может быть? — настаивал первый. — Знаешь, как плеснуло…
— Иди ты, спать не даешь…
Дальнейший разговор рыбаков пошел в том же духе.
— Точно говорю: знаешь, как плеснул…
— Утром выловишь — посмотрим.
— Не веришь?.. — обиделся первый.
— Говорю тебе: светать уже скоро будет, поспать хоть немного надо. А то зорьку проспим.
— Спать-спать… Ночь какая!.. Слышь, Вась, давай-ка еще по чарке!..
В темноте зашевелились.
— Так бы сразу и сказал! А то сом…
— Да точно тебе говорю: так плеснуло…
— Ладно, не свисти! Где бутылка?
Я стоял ни жив ни мертв! Если только они сейчас меня обнаружат, даже заподозрят, что тут кто-то есть… Неведомо, чем это может кончиться. Лучше постоять, подождать, пока они угомонятся.
В темноте вспыхнул фонарик. Лучик его торопливо зашарил по разбросанным по песку предметам.
Оказалось, я стою в десятке шагов от стоянки рыбаков. Кажется, их только двое. Во всяком случае я больше никого не видел. Разложенные вещмешки и рыболовные снасти… Остывшее костище… Остатки ужина…
— Вот она!
Ну, теперь можно уходить смело — они ничего не услышат.
Я потихоньку попятился назад. И под ногой тут же громко хрустнула ветка.
Со стороны рыбаков на мгновение воцарилась тишина.
— Что это? — тревожно спросил первый голос. — Кто это? А, Вась?
— Твой сом на берег на прогулку вышел, — громко расхохотался второй. — Да ну тебя…
Дожидаться конца перепалки я не стал. Просто повернулся и пошел прочь. В конце концов, ну чего я вдруг их так испугался, что тут страшного, если и услышат они мои шаги? Не бросятся же за мной по следу… Воистину, пуганная ворона куста боится!
Однако мое положение и впрямь было не слишком привлекательным. Не дождавшись меня, страховавшая машина, без сомнения, уже уехала. Да и не собирался я к ней направляться. Вагон со вскрытым контейнером, может быть, уже прибыл на станцию. И там, не исключено, уже обратили внимание либо на пожар, либо, в крайнем случае, на торчащий на крыше взломанный кусок металла. Даже если подобные вещи тут происходят через сутки — что, конечно, маловероятно — даже в этом случае тотчас поднимется тревога, по всей округе будет оповещена вся милиция и тогда посты, как стационарные, так и подвижные, начнут у всех подряд проверять документы и задерживать всякого подозрительного. А у меня — ни надежных документов, да еще этот мешок за плечами. В который я еще какого-то черта засунул эти пистолеты. Да к тому же и руки в ружейном масле… Как там, из истории Великой французской революции? «У кого руки в порохе — расстрелять!»… Ну а ружейное масло — из той же оперы.
Итак, мое положение виделось весьма проблематичным. Мой порыв-экспромт теперь мне виделся уже не столь бесспорным. Как же быть?
…Казалось бы, ругал я себя, это же аксиома: операцию необходимо тщательно и всесторонне продумывать и готовить заблаговременно; в ходе операции необходимо действовать по одному из заранее продуманных планов, импровизация же годится только в пределах этого плана; ни в коем случае ни в одной мелочи нельзя полагаться лишь на слепую удачу, потому что она с равным успехом может примостить вон за тем кустом как скатерть-самобранку с ковром-самолетом, так и милицейскую засаду с автоматом и Джульбарсом на длинном «догонялочном» поводке.
Опыт, опыт, во всем нужен опыт! Да какой тебе нужен опыт? Сунулся бы ты, военный человек, в боевой обстановке, со своим подразделением в подобную авантюру, не продумав запасные пути отхода? Нет, конечно! Так что же тут-то счел, что проблемы сами собой разрешатся?
Оправдываться перед самим собой не так уж сложно. Но тут возразить было нечего.
К счастью, за тем кустом, который я сам взял в качестве примера и на который сам же с опаской поглядывал, никого не оказалось. И вообще было тихо. Так тихо бывает перед рассветом. А на рассвете даже единственный мой теперешний союзник, темнота, перестанет мне помогать.
Стоп, Костя, так нельзя, — подсказал мне внутренний голос. Ты сейчас мечешься на одном пятачке, сам себя загоняешь в капкан. Так нельзя. Сядь спокойно и в течение пяти… нет, трех минут придумай план того, как тебе выкрутиться из западни, в которую ты сам себя загнал, повинуясь какому-то неведомому импульсу.
Впрочем, то, что я подчинился этому импульсу, это, скорее всего, правильно. В мгновение опасности этому импульсу нужно безоговорочно доверять. Потому что нередко именно неведомое чувство опасности может спасти жизнь. Классическим можно назвать случай, когда в Бермудском треугольнике пропали сразу пять американских самолетов, а потом еще и самолет-спасатель. Так вот один из пилотов на тот полет не явился, объяснив в дальнейшем это тем, что «неизвестно почему ему в этот день очень не хотелось лететь»…
Впрочем, до Бермудского треугольника или до не менее таинственного, хотя и менее известного Моря дьявола отсюда далеко. Мне бы решить более прозаичную задачу.
Итак, что мы имеем? Вот-вот перекроют окрестные дороги, начнут проверять и досматривать всех подряд. Значит, на дорогу соваться сейчас — гиблое дело. Где вероятность повальной проверки наименьшая? С удочкой на берегу реки… Почему? Потому что человек, который совершил поджог контейнера, скорее всего постарается укатить подальше, а не усесться едва ли не под мостом. Потому что поджигателя обязательно должны были бы страховать на автомобиле.
Так, может, сейчас попросту вернуться к тем двоим рыбакам и присоединиться к ним?.. Нет, не годится. Вид у меня не рыбацкий, экипировочка неподходящая… Но тем не менее, планы я строю, наверное, в нужном направлении.
Итак, река. Рыбалка. Безопасное место. Там искать вряд ли станут… Погоди-ка, но тогда вообще самое безопасное место — это железная дорога!
Так-так-так… Уже ближе, уже теплее… Нужно добраться до ближайшей платформы. В ночном ларьке купить водки. Вымыть ею руки, чтобы отбить запах ружейного масла, изобразить рыбака, возвращающегося с неудачной зорьки… А почему возвращаюсь так рано? Уснул и удочки течением унесло… Внешний вид… Рыбак я не слишком опытный, не знал, как экипироваться… Слабо, конечно. Но если «мент» сам не рыбак, может, такое хилое объяснение и пройдет… А то еще вот так: с приятелями на машине приехали, а там ночью разошлись и он, сволочь и паразит, наверное, уехал, так его и растак…
Ладно, все это детали, потом додумаю, поимпровизирую что-нибудь, если нужда будет. Главное — мешок, в котором содержатся отнюдь не рыболовецкие снасти. Выбрасывать его не хочется. Но, наверное, придется. Потому что он меня с головой выдаст.
А зачем выбрасывать? Не выбросить — только притопить, вот что нужно сделать! А потом, если нужно, вернуться и забрать. Или…
Мысль мне понравилась. Так я и сделаю! Только детали нужно будет додумать.
Теперь, когда решение принято, времени терять больше нельзя.
Решительно поднявшись, я быстро зашагал в сторону, откуда только что пришел, только теперь забирал чуть левее, ближе к мосту и подальше от места ночлега рыбаков. И тут мне повезло. Я скоро вышел на берег небольшого затончика, глубоко вдавшегося в берег. Пройдя немного вдоль него, я нашел то, что мне нужно — высокое раскоряченное дерево. Оно и будет ориентиром.
Здесь я снял мешок, положил его на землю. Вовремя спохватился, что его совсем не видно в темноте. Поэтому я откинул клапан, достал зубило и положил сверху материи. Фосфоресцирующая метка теперь четко указывала, где он находится. Сам же нашарил какую-то корягу и начал промерять глубину затончика. Раз воткнул ее в дно, второй, третий… По всему выходило, что тут всего-то метра полтора, не больше. Лучше бы, конечно, помельче, ну да выбирать не приходилось.
Достал из мешка моток прочной веревки. Остальное было делом нескольких минут. Тщательно затянул шнуры мешка. Продел веревку под лямки, другой конец ее привязал к палке. Аккуратно опустил мешок в воду, потом выпустил и палку.
Если я все правильно рассчитал, палка тоже должна оказаться под водой. Теперь ничто не указывает о том, что именно здесь на дне покоится опасный клад. И в то же время достаточно «кошкой» или даже просто рукой нащупать палку, плавающую, вопреки природе, ниже уровня воды, — и мешок будет у тебя в руках.
Все, можно двигать дальше.
5
Удивление Марека, открывшего дверь на мой звонок, словами описать невозможно — его нужно было видеть. Наверное, так смотрят только на выходцев с того света, когда те вдруг ни с того ни с сего заявляются в гости и просят закурить.
— Эт-то вы?
Надо ж, даже заикаться от волнения начал, бедолага!
Глупый вопрос. Можно не отвечать. Я просто отстранил Марека плечом от дверного проема и вошел в квартиру. Как и в прошлый раз, в нос ударил застоявшийся дух редко проветриваемого помещения. Правда, сегодня солнечные лучи не пронизывали клубящийся пылью атмосферу квартиры. Сегодня на улице было душно и пасмурно.
Не спрашивая разрешения, я сразу направился в комнату. Хозяин захлопнул дверь и пошел за мной.
— Ну ты даешь, — оправившись от удивления, бормотал он. — А мы думали, что ты вообще пропал…
— К вашему сожалению, не пропал и даже к вам же пришел, — обронил я. — Что дальше?
Теперь нужно ухо держать востро. Если мои опасения верны и я для Пегого и его компашки стал лишним, от меня обязательно постараются избавиться. Кто, когда и как — это уже детали. Впрочем, тут же успокаивал я себя, теперь в подобной акции, скорее всего, уже нет столь острой необходимости. Более того, моя смерть перестает для них иметь какой-то практический смысл. Одно дело, если бы труп взломщика контейнера был обнаружен неподалеку от места преступления без документов, зато с полным комплектом инструментов, тем самым обрубались бы все концы преступления. И совсем другое — где-то просто так «замочить» человека без паспорта, причастность которого к тому или иному преступлению вообще недоказуема. К тому же они, убеждал я себя, не могут быть уверены, что у меня, кроме них, нет еще какой-нибудь другой связи в городе.
…Я прошел на то же место, где сидел в прошлый раз. Оно было удобно уже тем, что с него можно было без труда контролировать обе двери.
— Где шеф? — в лоб спросил у Марека, который тоже опустился в кресло и замер в нем, выпрямившись, напряженный и настороженный.
— Какой шеф? — облизнув сухие губы, переспросил хозяин квартиры.
— А у тебя их что, несколько? — ухмыльнулся я. — Или ты квартиру предоставляешь любому, кто тебя хорошо об этом попросит?
Марек не ответил, сидел против меня, глядел выжидательно. Маловероятно, конечно, что он был посвящен во все детали связанного со мной дела, однако не мог не чувствовать, что что-то происходит не так, как планировал Пегий и это его несомненно тревожило. Потому и тревожило, что он не знал, как теперь поступить, чтобы не вызвать раздражения хозяев.
— Ладно, поставлю вопрос иначе, — снисходительно облегчил я ему задачу. — Где и когда я смогу увидеть человека, с которым мы виделись в твоем присутствии три дня назад в этой же комнате?
На лице Марека отобразилась такая сложная гамма чувств и мыслей, что его впору было бы пожалеть. Только почему-то не жалелось.
— Мне ему надо позвонить, — наконец не слишком решительно сказал он.
— Так чего же ты сидишь? Звони! — поторопил я его. — И обязательно напомни, чтобы он захватил с собой то, что мне обещал в прошлый раз за выполнение заказа.
Хозяин суетливо подхватился и вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь. Что ж, если в ситуации разобраться объективно, он находится в собственной квартире, а потому имеет полное конституционное право на тайну переговоров. Хотя с другой стороны и я имею не меньшее право на то, чтобы знать, в каком ключе обо мне пойдет речь.
Выждав несколько секунд, достаточных для того, чтобы набрать номер, я подошел к двери и распахнул ее по возможности тише.
Марек стоял в прихожей спиной ко мне, прижимая к уху телефонную трубку.
— Санек, слушай внимательно и запоминай! — говорил он торопливо, приглушенным голосом, в первое мгновение не увидев меня. — Прямо сейчас передай…
В этот момент Марек увидел в зеркале мое отображение. И растерянно умолк, хлопая глазами в полированное стекло. Тогда я решительно забрал из его вялых пальцев трубку и сам прижал ее к уху.
— Алло! Алло! — надрывалась мембрана. — Ты чего замолчал, а, Марек?
— Это уже не Марек, — сообщил я собеседнику. — Так вот, Санек, не сочти за труд, если тебя это не слишком обременит, передай, пожалуйста, своему шефу, что Беспросветный вернулся. Что он свою часть договоренности выполнил. И что он ждет от шефа выполнения обещаний. Все понял?
Человек на том конце провода какое-то время молчал. Либо с трудом переваривал услышанную новость, либо сейчас лихорадочно прокручивал в голове варианты того, как поступить дальше.
— А я с кем сейчас разговариваю? — наконец выдал он вопрос.
Все ясно. Такую глупость мог спросить только тот самый мордоворот-телохранитель, который сопровождал Пегого в день нашего разговора.
— А ты пошевели своей единственной мозговой извилиной, если она у тебя еще окончательно не стерлась, и сообрази сам… Короче говоря, я нахожусь у Марека и жду шефа. И глядите у меня — без фокусов!..
Не дожидаясь ответа, я опустил трубку в гнездо и повернулся к Мареку. Тот глядел на меня выпученными от страха глазами. В руке он сжимал пистолет, который мелко подрагивал в пальцах.
Это очень опасно — оружие в руках перепуганного человека. Потому что он может пальнуть даже оттого, что трясущийся палец излишне резко вдавит спусковой крючок. А глупые выстрелы куда чаще находят жертву, чем тщательно выверенные…
Странное чувство охватило меня в тот момент, когда я увидел в двух шагах от себя судорожно прыгающий черный кружочек пистолетного дула. Какая-то безропотная покорность судьбе. Не было страха — хотя не было и желания заполучить пулю. Почему-то я был убежден, что сейчас со мной ничего не произойдет. Наверное, я понимал, что Марек не станет стрелять.
— Ну и что дальше? — спросил я спокойно.
Не делая вид, что спокоен, а именно спокойно. Только внутри у меня что-то подобралось. Мысль работала четко, чувства были напряжены, опасность слегка холодила душу. Но и только.
— Руки вверх! — хрипло выдавил из себя Марек.
В самых непечатных выражениях я у него поинтересовался, не принадлежит ли он к одному из секс-меньшинств.
— Лицом к стене! — визгливо выкрикнул он. — Быстро! Буду стрелять!..
Это уже перестало быть интересным.
— Отойди, — негромко сказал я ему.
И, не обращая внимания на оружие, вдоль стены обошел хозяина и прошел в комнату. Уже оттуда, не оборачиваясь, обронил:
— Кстати, Марек, пока приедет шеф, сообрази что-нибудь закусить. Бутылку я с собой принес.
Если у человека нет опыта убивать, ему стрелять очень страшно. Особенно в упор, с близкого расстояния. Из автомата, на расстоянии метров пятьсот-восемьсот по крошечной фигурке пальнет едва ли не каждый — потому что не воспринимаешь эту фигурку как homo sapiens. А вот так, глаза в глаза… В запальчивости, со страху, в драке — пожалуйста. А обдуманно, размеренно — нет, это трудно.
Вот в затылок — сколько угодно. В затылок не так страшно. Потому что самое жуткое видеть глаза убитого тобой — или убиваемого тобой.
Глаз самого первого человека, которого я убил, я не запомнил. Может быть, они были закрыты… Запало в память иное. Мы тогда брали кишлак. Я бежал вдоль дувала, стараясь поскорее проскочить расстояние до угла. А по другой стороне улицы, пригнувшись, бежал какой-то солдат-разведчик, невесть как оказавшийся в моей роте, имени и фамилии которого я так и не узнал. Мне оставалось шагов десять, когда из-за угла, к которому я стремился, высунулся ствол автомата — старый, первой модели еще «калашников» не то китайского, не то египетского производства. Крикнуть я не успел, а дырочка дула окрасилась багровой вспышкой, потом еще, еще, еще… А в следующее мгновение я уже просто высунул, не выглядывая сам, свой автомат за угол и нажал спусковой крючок.
Потом, после боя, я вернулся к телу убитого мной душмана. Запомнились тощие коричневые ноги в полушлепанцах-полукалошах, сделанных из кусков автомобильных скатов. Длинная задравшаяся рубаха, пробитая пулями и густо набухшая кровью. Откатившаяся в сторону высокая, расшитая бисером, тюбетейка…
Но больше всего запала в память… муха. Она спокойно и неторопливо ползала вокруг приоткрытого рта убитого, останавливаясь возле засохших потеков слюны в уголках губ. Потом она полезла внутрь, прямо по посиневшему языку.
Это было жутко. А по жаркой пыльной улице уже пополз запах тлена, смешиваясь с еще не выветрившейся гарью сгоревшего пороха и тротила…
Да, я его убил в бою, в запале, когда он расстреливал нашего солдата. Но после, когда бой закончился, я не испытывал ненависти к этому бездыханному телу, в рот которого бесцеремонно забралась большая зеленая муха… Да и в дальнейшем я убивал только в бою, не умея испытывать ненависти к человеку, который смотрел на меня живыми, полными страха, даже полными ненависти глазами.
…Нет, когда не видишь глаз, не воспринимаешь человека так остро. Так что я шел к своему креслу и едва ли не кожей ощущал холодок, струящийся от девятимиллиметровой черной дырочки дула. Как же ему хочется сейчас чуть-чуть повести палец на себя!..
Сколько раз я задумывался над тем, какая малость отделяет человека живого от трупа мертвого. Остренький конусик автоматной пульки прошел на три сантиметра левее или правее — и в зависимости от этого человек остается на этом свете или же душа его, подобно сигаретному дымку, истекает из своего земного обиталища, сворачивается в колечко и, зависнув на мгновение над извивающимся в конвульсиях собственном телом, устремляется в Космос… Или другой пример. Как-то знакомый военный фотокорреспондент, Виктор Хабаров, рассказывал, как ему некий сапер показывал мину, стоящую на «растяжке», а в этот момент на тонкую проволочку вдруг уселась птичка… По всем законам физики и пиротехники взрыватель должен был сработать и распотрошить все вокруг горячими ошметками металла — а он не сработал… Или вот как сейчас… Свободный ход спускового крючка пистолета каких-нибудь два-три миллиметра. Столкнет напряженная боевая пружина боек — и нет человека.
Помните знаменитый фильм «Два бойца» с Марком Бернесом? Там некий профессор высчитал, насколько ничтожно мала степень вероятности того, что именно в него, профессора каких-то наук, попадет бомба — и на основании своих исчислений не спускался в бомбоубежище. И продолжалось это до тех пор, пока он не узнал, что при очередном авианалете погиб единственный в Ленинградском зоопарке слон. У африканского животного, попавшего на берега Невы, по той же теории вероятности, вообще не было возможности пасть жертвой бомбы, изготовленной где-нибудь в Рурской области…
Пока я, вновь усевшись все в то же кресло, размышлял над этими превратностями судьбы, которые легко могут обратить ЧЕЛОВЕКА в ТЕЛО, в комнату, дребезжа разболтанными сочленениями, вкатился уже знакомый мне деревянный сервировочный столик. Хорошая все-таки это штука, когда не так дребезжит, конечно. В дни моей молодости таких не было. Помню, сколько ходок приходилось сделать на кухню, пока перетащишь отдельные тарелочки в комнату, когда еще обхаживал свою Людмилу.
Не глядя на меня, Марек подкатил тележку к моему креслу. Сам опять опустился в то же кресло, что и раньше.
— Где бутылка-то? — угрюмо спросил он.
Смех, да и только! Только что визжал, брызжа слюной, «к стене!», а теперь бутылку ему давай!
Я сунул руку под куртку. Ее конструировали умные люди, причем, нет сомнения, мужчины. Там изнутри имеются два больших удобных кармана, в которых можно носить что угодно, а снаружи это самое «что угодно» вовсе не видно. В одном кармане сейчас и в самом деле была бутылка «Белого аиста» — единственный, по-моему, коньяк, который остался обладателем приемлемого вкуса и доступной простому человеку цены. Во втором кармане покоился пистолет, который я отобрал у Михалыча — того самого милиционера на площади у платформы, названия которой я не удосужился запомнить.
На лице увидевшего бутылку Марека отразились два противоположных чувства: он алчно сглотнул слюну и одновременно сморщился, увидев этикетку.
— Ты получше чего не мог взять?
— А под хвостиком у тебя ничего не слипнется? — в тон ответил я.
— Ладно, давай сюда! — протянул он ко мне руку, желая забрать бутылку.
В общем-то, мне, конечно, не надо было этого делать. Но только я не сдержался. Легко перехватив его запястье, дернул его на себя и слегка вывернул предплечье. Марек упал на колени. Его искаженное болью и страхом лицо, выпученные глаза оказались совсем близко.
— Ты со мной больше такие шутки не шуткуй! — раздельно сказал я в его расширенные зрачки. — А если уж решил все-таки попугать, так хоть доводи дело до конца! Да и то не со мной. Понял?
Выпалил ему все это, я отпустил запястье, вложил в его ладонь коньяк.
— Наливай! Или неси что-нибудь получше, а это оставь себе!
Похоже, Марека слишком часто ставили на место, чтобы у него чересчур хорошо было развито самолюбие. Он поколебался лишь несколько мгновений. Потом покорно поднялся и вышел из комнаты во вторую дверь. Я был уверен, что оттуда он вынесет бутылку, а не пистолет.
Хотя в то же время и осознавал, что если команда Пегого со мной совладает, именно Марек будет ставить мне на тело утюг.
6
Пегий со своей свитой приехал примерно через час. По московским меркам практически мгновенно. Уже один только этот факт говорил о том, насколько он был заинтересован в нашей встрече.
К тому времени мы с Мареком уже ополовинили принесенную им бутылку обалденно вкусного французского коньяка «Remy Martin». Надо сказать, до сих пор мои впечатления о крепких напитках, произведенных на родине шампанского, базировались исключительно на «Наполеоне» польского разлива, так что я только теперь оценил, что и там что-то в сочетании градусов и вкуса смыслят. Правда, памятуя о предстоящей встрече, старался не упустить момент, когда «культурное» употребление обретет приставку «зло». Так что к моменту приезда хихикающего шефа был в норме.
Когда Марек на звонок пошел открывать дверь, я сунул руку под куртку и на всякий случай снял пистолет с предохранителя и взвел курок. Патрон в патронник был загнан заблаговременно. Конечно же, лучше обойтись без крайних мер, более того, в том, что подобные меры не понадобятся, не сомневался… Однако случай, как известно, может быть всякий. И к нему лучше быть готовым загодя. Если бы ТОГДА я не погорячился и продумал все нюансы предстоящих действий, не пришлось бы столько лет столь щедро вычеркивать из собственной жизни.
Короче говоря, к моменту, когда в комнату вошел Пегий, я уже сидел в прежней вальяжной позе, сжимая в руке пузатый стаканчик с коньяком.
Как и в прошлый раз, мы не поздоровались. Ни за руку, ни даже кивком. Правда, в отличие от предыдущего нашего рандеву, в комнату не вошли ни Марек, ни мордоворот. Переговоры проходили, как говорится в официальных протоколах, с глазу на глаз. Что ж, быть может, для меня это сейчас и неплохо. В любом случае звать их сюда мне не хочется.
Шеф подвинул кресло, в котором до него сидел Марек, поближе к столике. Уселся. И уставился на меня.
Какое-то время мы так и сидели молча. Я — потягивая ароматный крепкий напиток. Он — пытливо и выжидательно глядя на меня.
Пегий не выдержал паузу первым.
— Ну и как ты все это мне объяснишь?
Сегодня он говорил без ужимок, без потирания ручек и без ёрничания.
— Что именно?
Мы понимали друг друга, мы играли в одну игру. Такая ситуация была на руку мне и невыгодна ему. Это его раздражало, а меня, соответственно, забавляло.
— Только давай-ка без этих твоих фокусов! — сдержанно бросил он. — Без фокусов давай.
— Так и быть, уговорил. Давай без фокусов, — согласился я. И тут же, не давая ему возможности вставить хоть слово, спросил: — Ты принес мне паспорт?
Он не ответил, запнулся. Запнулся буквально на какую-то долю секунды. Потом он попытался что-то сказать, но было уже поздно.
— Вот видишь, — укоризненно покачал я головой. — А ты предлагаешь разговаривать без фокусов…
У мужчин в такой ситуации есть всего лишь несколько способов сгладить неловкость ситуации. Закурить, например, причем, лучше трубку, что занимает больше времени… Пегий избрал второй путь: он потянулся за бутылкой.
— Опять Марек в наши запасы залез… — с досадой и вроде как по-свойски заметил он.
— Так ведь это ж только для меня, — насмешливо ответил я ему. — Для меня можно.
Шеф хмыкнул:
— А в прошлый раз ты мне не показался таким нахалом. Не показался нахалом…
На языке так и вертелось, чтобы сказать ему что-нибудь в том же духе, что, мол, зато он в прошлый раз выглядел куда более глуповатым, но воздержался.
Пегий налил себе коньяк и тоже откинулся в кресле.
— Так почему ты не пришел к машине?
Прав я в своих опасениях или неправ, говорить о том, что предполагал, что меня там попросту пришлепнут, в данной ситуации счел излишним. Признаться, даже стыдновато признаваться в том, что побаивался… Потому перевел разговор в более актуальное для меня русло.
— А почему же ты до сих пор не приготовил для меня документы?
— Это не так просто, — пробормотал он.
Ага! Эта его фраза косвенно подтверждает основательность моих подозрений. Получается, что еще в прошлый раз, обещая к нынешнему дню выполнить свою часть обязательств, он допускал, что нынешней встречи не будет.
— Так ведь никто и не говорит, что это просто, — не стал я уличать его в непоследовательности. — К слову, контейнер взломать тоже не так-то просто… Но тогда выходит, что при нашем предыдущем разговоре ты не знал, насколько это сложно? Может, тебе это вообще не под силу?
Впрочем, шеф уже и сам понял, что подставился, а потому счел за благо попытаться вернуть тему в течение, выгодное для него.
— О документах потом. Сейчас главное: ты сделал то, о чем мы договаривались?
Нет, коньяк по-американски, маленькими глоточками, цедить довольно неприятно. Лучше уж по-русски, хлопнуть стопочку или целый стакан, а потом закусывать.
Так я и сделал. Махом допил остатки благородного напитка — какой-нибудь французский аристократ с родословной, выводящей его непосредственно к Карлу Великому, наверное, в обморок бы упал, увидев такое кощунство — и принялся цедить остывший кофе.
Пегий не выдержал:
— Почему ты молчишь?
Пришлось небрежно пожать плечами.
— А зачем тебе что-то говорить? Ты же и сам прекрасно знаешь, сделал я это или нет.
— Откуда же я могу это знать? — прикинулся он ничего не понимающим.
— Как это откуда? — я тоже удивленно округлил глаза. — От того парня, который меня инструктировал перед акцией. Он ведь работает на станции. Или где-то в непосредственной близости от нее. Или, что наиболее вероятно, в системе, которая обладает достаточной информацией, в транспортной милиции, например… Разве не так?
Пегий поморщился. Чувствовалось, что ему не нравится само течение разговора.
— Слушай, Беспросветный, хватит тебе строить из себя хрен знает что. Ты можешь говорить четко и ясно?
— Могу, — согласно кивнул я. — Говорю четко тебе четко и ясно: когда и где я получу документы?
И тут он сорвался. По причине, думаю, самой банальной: он просто никогда не сталкивался с ситуацией, когда с ним так разговаривали. Или во всяком случае подобное случалось с ним очень и очень давно.
Пегий грохнул стаканом о стол и рявкнул:
— Я же тебе ясно сказал: получишь ты их!
— Когда?.. — начал было я, однако закончить фразу не успел.
На голос Шефа дверь с треском распахнулась и в комнату ворвались трое: давешний мордоворот, с ним второй, с аналогичным индексом интеллекта на лбу, и Марек. Все трое были вооружены пистолетами.
Они ворвались — и замерли в нерешительности у порога. Потому что я уже сидел на корточках, загородившись от них креслом, в котором сидел их шеф, приставив к его виску конфискованный у милиционера «макаров».
— Что ж ты нервный такой, право слово, — с насмешливым участием проговорил я. — Людей напугал…
В комнате зависла тишина. Телохранители не знали, что предпринять, Марек от греха подальше попятился сквозь распахнутый проем.
— Скажи им, пусть выйдут и дальше спокойно дышат носом, — посоветовал я, выдержав паузу. — А мы с тобой пока здесь еще немного побеседуем.
Пегий, надо отдать ему должное, марку выдержал. Хотя и блестел его лоб крупными каплями пота, больше ничем своего волнения он не выдал.
— Я и в самом деле вас не звал, — заметил он брюзгливо. — Не звал я вас. Выйдите пока.
…Разговор продолжался. Я спрятал оружие на место под куртку и налил себе еще коньяку. С удовлетворением отметил, что рука держит бутылку ровно, не дрожит, ничем не выдает волнение.
— Тебе налить? — спросил у Пегого.
Он отрицательно качнул головой. И тут же сказал прямо противоположное:
— Ладно, наливай.
Что ж, в армии всегда выполняется последняя команда. Набулькал и ему с полрюмки, поставил коньяк и развалился в кресле.
— Слушай, не знаю, как тебя кличут, — заговорил четко и ясно. — Ну да раз не представляешься, черт с тобой, от меня не убудет… Так вот, ты можешь сейчас кричать, можешь поднять тут стрельбу, можешь еще какую-то глупость выкинуть… Но запомни главное: либо ты мне завтра же отдаешь паспорт, который я заработал, выполнив условия нашей сделки, либо я тебе устрою веселую жизнь.
— Ты мне угрожаешь? — высокомерно вскинул подбородок Пегий.
Мне ничего другого не оставалось сделать, как только пожать плечами.
— А это уже ты сам называй как хочешь. Мне на терминологию плевать. Но одно я тебе могу сказать четко: Корифей в любом случае обязательно узнает, как ты встречаешь людей, которых он к тебе направляет.
Эти слова уже не просто угроза. Это слишком серьезно, чтобы он не отреагировал на них. Потому что в криминальном мире такие вещи не прощаются.
— Послезавтра, — угрюмо поправил меня Пегий. — Мы успеем только послезавтра.
Что ж, мне особенно спешить некуда. Еще денек походим без пачпорта.
— Ладно, послезавтра, — великодушно разрешил я. — Где и когда?
— Знаешь Измайловский парк?
Измайловский парк? Ага, нашел дурака! Измайловский парк, насколько я знаю, один из самых больших городских парков мира. Там дивизию со всем тяжелым вооружением можно скрытно разместить, не то что парочку киллеров с пистолетами. Кроме того, это любимое место встреч московских гомосексуалистов, так что там многие прячутся по кустам…
— Ну конечно — в Измайловском парке! И там, в темном глухом углу, на таинственной полянке… — я не считал нужным скрывать насмешки.
— Заткнись! — оборвал Пегий. — Я имею в виду станцию метро «Измайловский парк».
Метро? Ну, в метро еще куда ни шло. Хотя… Хотя кто его знает… Послушаем дальше.
— Скажем так: бывал.
— Если подняться наверх, там находится большая гостиница «Изамайловская». Там несколько корпусов, которые называются буквами греческого алфавита. Заходишь в корпус «Вега», поднимаешься…
Все ясно.
— Стоп! — оборвал я его.
Он удивленно вскинул брови. Но видел я, чувствовал, даже чуял, как сквозит в его удивлении неискренность.
— Что такое? — спросил он. — Что тебя еще смущает?
Я отхлебнул кофе и только после этого заговорил:
— Знаешь, у меня в школе был учитель русского языка и литературы — Исай Иосифович Кацман, пухом ему земля… Преподаватель был, скажу тебе — божьей милостью… Так вот, он всегда нас наставлял: никогда не старайся казаться большим дураком, чем ты есть на самом деле! Сейчас это к тебе относится в полной мере.
Он опять взял в руку стакашек, приложился к нему. Крупно отпил. Глаза глядели на меня с прищуром, словно он уже глядел на меня сквозь прорезь прицела.
— Это почему же?
— Что почему? Ты не согласен, что не следует изображать из себя дурака?
Кажется, я даже услышал, как скрипнули его зубы.
— Я тебя еще раз спрашиваю: что тебе не нравится в моем предложении? — сквозь зубы процедил он.
В самом деле, хватит уж…
— Ладно, не будем пикироваться, — сбавил я голос. — Ни в какую гостиницу я не пойду. Как не пойду ни на квартиру, не сяду ни в одну машину и не соглашусь ни на один пустырь. Только на людях. А потому мы сделаем так. Послезавтра ровно в полдень мы с тобой встречаемся на Петровке, напротив дома номер 38.
Мой собеседник едва не поперхнулся, услышав адрес.
— Почему именно там?
— Потому что, я думаю, что это для меня будет самое безопасное место… Я буду стоять на противоположной стороне улицы, напротив ГУВД, ты подъезжаешь на машине, чуть притормаживаешь, отдаешь мне конверт с паспортом — и мы друг с другом больше незнакомы. Устраивает?
Он думал недолго.
Потом кивнул:
— Ладно, принято. Только не в полдень. А, скажем, часиков в семнадцать. Семнадцать. Будет светло. Народу вокруг полно. Движение машин напряженное…
— Договорились, в семнадцать.
Пегий одним глотком допил содержимое своего стаканчика.
Взглянув на меня, понимающе усмехнулся:
— Ну что, как я понимаю, ты предпочтешь, чтобы мы уехали первыми, а ты попозже?
Тоже усмехнувшись, я развел руками:
— Ты удивительно догадлив.
Он кивнул, поставил стаканчик на столик. Опершись на подлокотник ладонями, кряхтя поднялся.
Выждав, пока он завершит этот процесс, я его остановил:
— Кстати, тебе не кажется, что ты должен подкинуть мне немного деньжат?
Он удивленно вскинул брови:
— Это за что же?
В эту фразу я вложил не деланно-наигранное, а вполне искреннее чувство:
— Ну ты сам рассуди: жить-то мне за что-то нужно. Был бы паспорт, можно было бы чем-то заняться, подработать. А так… Ты же сам просрочил изготовление документов, так что подкинь что-нибудь в качестве компенсации…
И он ответил тоже искренне, хотя теперь уже и без осуждения:
— А ты и в самом деле нахал…
Потом он повернулся к двери и крикнул:
— Марек!
Дверь мгновенно раскрылась и на пороге появился хозяин квартиры.
— Я слушаю.
Его лицо выражало высшую степень готовности немедленно выполнить любое распоряжение.
— Выдашь Беспросветному… Ну, скажем, долларов двести. Да, двести… — Потом взглянул на меня. — Ну что, теперь у тебя все?
— Все.
— Тогда до послезавтра.
Не прощаясь, Пегий направился к двери. Громко клацнула защелка замка. Я подошел к окну и проследил, чтобы все трое вышли и расселись в поджидавшей их автомашине. Отошел только когда автомобиль исчез за углом.
Конечно, нельзя было исключить, что мордовороты выйдут где-нибудь за углом и вернутся, чтобы встретить меня в подъезде. Однако думать об этом мне не хотелось. Хотелось верить в искренность Пегого.
Можно было уходить и самому. На пороге комнаты уже стоял Марек, сжимая в руке две зеленые купюры.
— Слышь, Беспросветный, — просительно глядел он на меня. — Помоги, а?
Наверное, сейчас попросит одолжить ему денег, — подумал я. Хрен тебе по всей морде, не дам!
— Давай я тебе налью на посошок, — просительно заглядывая в глаза, проскулил он.
Меня трудно чем-то ошарашить. Но тут…
— Ну, наливай… — нерешительно ответил я, не понимая суть просьбы.
Марек обрадовано сунул мне в руку купюры, а сам торопливо, словно опасаясь, как бы я не передумал, засеменил в заднюю комнату квартиры. Оттуда он выскочил уже совершенно другим человеком — он лучился едва ли не счастьем. В руке он нежно нес бутылку какого-то напитка.
Между тем на столе коньяк, который мы так и не допили, еще оставался. А Марек уже торопливо сворачивал пробку с новой посудины. И тут же до краев наполнил два стаканчика. Потащил их ко мне. Подставил оба, на выбор, словно демонстрируя, что ничего там ядовитого нет, что пить будем вместе, чтобы я ничего не боялся.
Ничего не понимаю. Мы чокнулись и он торопливо, сморщившись, заглотил содержимое своего стаканчика. Громко отрыгнул и расплылся в довольной улыбке.
Я чуть пригубил напиток. Было слишком сладко. Не люблю такое пойло. Отдал стаканчик Мареку. Тот больше на настаивал на посошке.
И тут до меня наконец дошло, в чем дело! У Марека хранился «представительский» фонд спиртного. Сам, для своих потребностей открывать он не имел права ни одной бутылки. Потому он сейчас и напросился на мой «посошок». Теперь в его распоряжении остается две недопитые бутылки.
О люди!..
7
Делать мне было, по большому счету, совершенно нечего.
Причем на это чрезвычайно увлекательное занятие требовалось угробить почти двое суток. И в то же время предстояло слоняться так, чтобы нигде случайно не нарваться на проверку документов. Что ни говори, а тоскливое это мероприятие — в собственной стране шарахаться от каждого человека в погонах. Причем, нельзя сбрасывать со счетов пресловутый «закон подлости»: вполне допускаю, что можно годами не подвергнуться ни одной проверке документов, но если они у тебя не в порядке, скорее всего, кто-нибудь обязательно именно на тебе захочет отрепетировать свою бдительность.
Первым делом не мешало бы разменять хоть одну пятидесятидолларовую купюру, полученную от Марека, на наши деньги. В официальный «обменник» дорожка закрыта — там обязательно потребуют паспорт. Ходить от одного коммерческого ларька к другому, предлагая «зелень» торговцам, даже себе в убыток, тоже не дело, хотя бы уже потому, что у любого нормального человека возникнет вопрос, а с чего бы это человек пытается незаконно обменять то, что можно сделать официально. Правильнее всего казалось обратиться к кому-то из наших южных братьев, которых сейчас в Москве повсюду полно, но и тут брала опаска: а ну как тот, к кому я обращусь, увидев «капусту» и поняв, что я предпочитаю не встречаться со стражами порядка, подзовет крепких ребятишек того цвета кожи… Нет, лучше не рисковать.
Одно слово — беспачпортный, бомж. Мазохистски размышляя над своей незавидной долей, я медленно брел по улице, не особенно задумываясь над тем, куда направляюсь. Странное это чувство — когда можешь заниматься чем хочешь, а ощущения свободы нет. Потому что свобода определяется не тем, что тебе нечего делать, а тем, что можешь заниматься тем, чем хочется. В те минуты процесс обретения хоть какого-нибудь документа рисовалось мне едва ли не волшебной чертой, за которой все сразу станет на свои места и все вокруг станет прекрасным, розовым и голубым — если, конечно, в данном случае этим цветам не придавать неких сексуальных символов.
В самом деле, ведь не о таком вот бездельном бродяжничестве мечтал я долгими бессонными ночами, когда, усталый и вымотанный после дневной работы, лежал и глядел в потолок под храп, стоны и бормотание своих товарищей по несчастью.
Именно так, не отбывающих наказание преступников, а товарищей по несчастью. Это до того, когда-то, в предыдущей, наивной и правильной своей жизни, я считал, что за решетку попадают только те, кто того заслуживает. Разумеется, я и раньше знал и принимал поговорку, что от сумы, мол, и тюрьмы зарекаться никому не следует. Однако знал это как-то абстрактно, теоретически, отвлеченно, принимал лишь умом — в душе же и допустить не мог вероятность, что сам проведу на нарах восемь бесконечно долгих лет.
Да, конечно, были среди заключенных законченные негодяи, на которых, как говорится, клейма негде ставить. Впрочем, клейма они сами ставили на себе — изображали на теле татуировкой подлинные вернисажи, особо уделяя внимание звездам и храмам, где количество лучей или число куполов обозначало, сколько они совершили «ходок» и сколько лет они провели в местах лишения свободы. Лагерная татуировка вообще много чего может рассказать посвященному о своем носителе. За что конкретно он «срок мотал», сколько раз, чем провинился перед «братвой»… И не дай, Господи, присвоить себе татуировку более высокого ранга, чем, который реально занимаешь в преступной иерархии!..
Правда, в последнее время отношение к подобным отметинам на теле стало понемногу меняться. Сейчас в «зоне» не так много встречается подлинных «авторитетов», которые обычно умудряются без отсидки выпутаться из самых сложных переплетов. Как правило, они либо откупаются, либо за них сидят другие, «шестерки», которые берут на себя вину своих «хозяев» и получают, именно потому, что «шестерки», срок по минимуму. Но даже если вдруг кто-то из подлинных воротил криминального мира и залетит в «места, не столь отдаленные», серьезные люди, рассчитывающие после освобождения вернуться к бизнесу, они не торопятся оставлять на своей коже отметины своей «ходки». Правда, бывают обозначения, которые наносятся насильно (скажем, за донос или за пассивный гомосексуализм), но обычно татуировка — личное дело каждого зека.
…Так вот, были у нас личности (даже мысленно не хочется называть их людьми) невероятной, патологической жестокости, садистской ненависти ко всему окружению, словно бы желающие отомстить человечеству за то, как у этого человека сложилась его жизнь. Однако немало было и людей попросту случайных, оказавшихся за колючей проволокой по таким пустяковым причинам, что даже не верилось, что у нас такое может быть.
Мне, должен сказать, там повезло. Потому что с моим независимым характером и офицерской биографией я, скорее всего, пришелся бы не ко двору местным «паханам». Однако в лагере оказалось несколько «афганцев», в том числе двое из них имели немалый вес в криминальном мире — между собой они образовали могущественную диаспору. Они-то и пригласили меня к себе в первый же вечер.
Должен сказать, что со временем, когда постепенно вживешься в лагерную систему, когда займешь свое место в «зонной» структуре и иерархии, жизнь там становится довольно сносной. Относительно, конечно — все же понимание, что ты не на свободе, превалирует. И все же, как говорится, человек — это такая скотина, которая ко всему привыкает. Главное — ни с кем не обострить отношения, особенно из сильным мира того… А потому самое тоскливое время — это первое, когда тебя только что привезли, когда ты из глухого, с решетками, но без окон, вагона оказываешься на месте, когда пройдешь все необходимые процедуры и формальности и, наконец, окажешься перед «братвой». Это страшнее любого экзамена. Ни одного знакомого — и в то же время про тебя уже тут кое-что известно: лагерное «радио» работает безукоризненно… Да и тебя худо-бедно уже проинструктировали: кому ты обязан поклониться, кому представиться, с кем поделиться куревом, которое обязан доставить в «зону»… Это очень неприятно. Особенно когда понимаешь, что любая ошибка в поведении, которую ты допустишь в первые часы и даже минуты пребывания здесь, потом может обернуться на долгие годы негативным к тебе отношением.
Однако мне, повторюсь, повезло. Буквально в первый же вечер моего пребывания в лагере ко мне вдруг подошел один из зеков, невысокий крепыш с почти квадратными плечами.
— Пошли, капитан, — мрачно сказал он мне.
Значит, не ошибся — действительно сюда уже дошла информация обо мне. Слово «капитан» в данном случае о многом говорит.
Спрашивать, куда именно идти, значит показать себя незнакомым с обычаями и традициями. Зовут — иди. Не пойдешь — хуже будет.
Я молча поднялся с табурета, сидя на котором мрачно размышлял над тем, что ночью, скорее всего, мне будут устраивать «проверку», и пошел за крепышом. При этом старался незаметнее подвигать плечами и размять пальцы рук, не исключая вероятность того, что меня сейчас будут «принимать в зэки», «прописывать в лагере», «проверять на вшивость» или еще что-то в этом духе.
Так и не дождавшись от меня ни слова, идущий впереди крепыш обронил через плечо:
— Меня Василием зовут. Василий Кандалевский… Фамилия, как видишь, капитан, вполне соответствующая моему нынешнему положению.
— Ничего, — усмехнулся я. — Моя фамилия никакого отношения к этим местам не имеет, а я, как видишь, тоже тут.
Он довольно хмыкнул.
— Я в Фарахруде воевал, — сообщил мне. — В спецназе.
— Я там пару раз бывал, — сообщил я ему. — Там у вас речка протекала и на ней не то аисты, не то пеликаны, помню, зимовали.
— Точно, — неожиданно вздохнул он. — И рыбы там было… Маринка называлась — ох костлявая, зараза. — И добавил с тоской: — Хорошее времечко было, капитан. Знай, воюй — и никаких проблем.
…Расположение лагеря тогда я представлял еще смутно, а потому не сразу сообразил, где мы с Кандалевским оказались. Какая-то не то котельная, не то бойлерная… В глубине темного подвала обнаружилась еще одна, не слишком приметная, дверца. Ну а за ней я увидел примерно то же, что не раз доводилось видеть и в армии. Правда, там для подобных сборищ обычно используют каптерку.
В замкнутом спертом помещении без единого окна, собрались несколько человек. Они сидели на деревянных ящиках вокруг грубо сколоченного стола, на котором стояло несколько бутылок мутной жидкости — самогона, насколько можно было судить по мутному цвету напитка и тяжелому сивушному запаху — и несколько тарелок с немудреной закусью.
Во главе стола восседал Корифей. Понятно, кто он такой и как здесь оказался, я узнал позднее. А сейчас просто оценил, что именно он тут главный и что глядит он на меня оценивающе — цепко, проницательно, будто пытается определиться, на что я могу ему сгодиться.
Под этим взглядом я подобрался, понял: для меня сейчас решается что-то важное, что-то такое, что может кардинально повлиять на мое дальнейшее пребывание здесь. На таких «смотринах», когда тебя «представляют» пред ясные очи местного «пахана», ошибаться в поведении никак нельзя. Не то, чтобы я решил подстраиваться под этого человека — такого еще никогда не бывало — однако произвести на него выгодное впечатление, осознавал я, было для меня важно именно при первой же встрече.
— Садись, капитан, — кивнул на свободное место председательствовавший.
Я переступил через ящик, стоявший напротив него, и уселся. Хотя и не был уверен, что поступаю правильно. Тут ведь логика простая: если сейчас на меня набросятся, чтобы «привести к присяге», как-то отбиться от толпы еще можно стоя, прижавшись к стене. В сидячем положении оказывать сопротивление попросту невозможно.
Однако, повторяюсь, я уселся, потому что не было причины отказаться.
Между тем старший небрежно кивнул сидящему рядом с ним парню.
— Что ж ты ждешь? Налей гостю.
Тот исполнил. Однако бросилось в глаза, сделал он это без угодливости и подобострастия, которые я привык наблюдать у крутящихся рядом с «паханами» «шестерок», когда еще сидел в СИЗО.
— Ну, давай, капитан, с прибытьицем! — поднял свой стакан председательствующий.
Взялись за стаканы и кружки и остальные. Ничего не оставалось — хлопнул свою порцию и я.
Хотя и не мог понять, с чего это вдруг мне такое уважение. С новичками, знал по рассказам, обычно обращаются иначе.
— Ты закусывай, не стесняйся, — пригласил все тот же старший. — Небось, оголодал в дороге…
Что и говорить, было такое дело.
— Давай-ка, плесни ему еще…
Увидев, что в мой стакан, булькая, льется новая порция синеватого самогона, я поднял голову и уставился прямо в глаза старшему.
— Ты всех так привечаешь?
Обращение на «ты» принято между людьми, оказавшиеся по ту сторону проволоки. Это как бы уравнивает всех товарищей по несчастью. Хотя, конечно, о подлинном равенстве ТАМ не может быть и речи.
…Услышав мой вопрос, собравшиеся захмыкали.
— Нет, конечно, далеко не всех, — усмехнулся и старший. — Просто ты входишь в число тех, для кого с нашей стороны делается исключение.
Заявка, что ни говори, любопытная.
— И почему же? — поинтересовался я.
Однако старший, судя по всему, не любил лишние вопросы, не любил форсировать разговор и особенно не любил, когда инициатива разговора принадлежит кому-то другому. Правда, услышав его ответные слова, я понял, что и в самом деле неправ. Люди меня пригласили, угощают, разговаривают благожелательно, а я тороплюсь, с глупыми вопросами пристаю…
— Ты сначала выпей, — собеседник кивнул на стакан, — поешь, а потом поговорим подробнее.
— Я не привык пить один, — не поддался я на видимое радушие.
— Ну что ж, добрая привычка…
Самогон полился и в остальную «тару». Правда, отметил я про себя, мне было налито больше, чем остальным. Ну что ж, может, здесь именно в этом видят закон гостеприимства. А может, просто зачем-то подпоить хотят. Мне спиртного давно уже не доводилось пить, а тут еще голодновато жилось последнее время… Уже после первой порции я почувствовал, как слегка зашумело в голове.
Выпили и по второй. Все же самогон, даже самый лучший, — напиток на любителя. А этот к тому же к самогону высшей очистки не принадлежал. И я не любитель. Почему, к слову, и виски не жалую…
Тем не менее, какого бы качества пойло ни было, я почувствовал, что мне и в самом деле стало легче. Снялось, растворилось то напряжение, которое не отпускало уже которые сутки. И в самом деле захотелось выговориться, что в общем-то мне не особенно свойственно.
— Ну а теперь будем знакомиться, — перешел к следующему этапу общения председатель. — Меня зовут Корифей. Может быть, слыхал?
Не скрою, соврать очень хотелось. Но я устоял, соблазну не поддался.
— Не доводилось, — ответил я с видом, который, надеюсь, выглядел как извиняющийся.
Мою неосведомленность Корифей воспринял как должное.
Более того, потом я узнал, если бы я сказал, что слыхал, тем самым подставился бы как нечестный человек. А это в среде своих — грех немалый.
— Ну и ладно, — легко согласился Корифей. — Теперь будешь слышать регулярно… Тогда слушай меня внимательно. Дело в том, что все здесь собравшиеся — «афганцы». Как бы заправилы «афганских» фондов, которые захватили места у кормушки с льготами, ни срались между собой, мы, те, кто «за речкой» вместе на боевые ходили, должны друг друга поддерживать, где бы ни встретились. Ты с этим согласен?
Еще бы! Кто бы спорил…
— Вопрос, как я понимаю, риторический, — обронил я.
Корифей чуть усмехнулся.
— Согласен, это аксиома, — заметил он, — которую не следует доказывать и которую мы, ветераны, тем не менее нарушаем на каждом шагу.
Что верно, то верно. И снова, не дождавшись моих слов, Корифей продолжил:
— Здесь нас собралось, как видишь, всего лишь несколько человек. Реально наших в лагере, как ты понимаешь, побольше. Собравшиеся — это своего рода наш штаб. Кроме того, здесь присутствует Казбек, — с другого конца стола мне улыбнулся молоденький парнишка. — Он не «афганец», однако воевал в Нагорном Карабахе…
Между тем, повинуясь жесту Корифея, его помощник стал опять наполнять посуду.
— В общем, давайте, ребята, третий, — поднялся с места председательствующий. — Все мы там хоронили друзей, командиров или подчиненных.
По косому взгляду, который бросил он на меня, стало понятно, что он более или менее в курсе того, за что я тут оказался.
Сразу после третьей стали расходиться. Я потянулся было со всеми, однако Корифей окликнул:
— Погоди-ка, капитан, мы с тобой еще поговорим.
Вспомнилась не к месту сцена из «Мгновений весны» и я невольно усмехнулся.
— Ты чего? — слегка нахмурился Корифей.
— Да так… — хмыкнул я. — Помнишь? «А вас, Штирлиц, я прошу остаться»…
Усмехнулся и Корифей. Кроме нас двоих, здесь находился все тот же его подручный.
— Это мой адъютант, — пояснил старший. — Можешь его пока так и называть — Адъютант.
— Почему пока?
— Да просто сейчас, сразу, ты всех все равно по именам не запомнишь. А так — просто и необидно. А, Мишк, ведь тебе не обидно быть адъютантом?
Тот только усмехнулся в ответ, тускло сверкнув золотым зубом.
Между тем Корифей заговорил серьезно.
— Давай-ка садись, капитан… Налей-ка нам, Мишк, еще по чуток… Тебя, кажется, Костя зовут?
— Константин, — одновременно подтверждая и поправляя, ответил я.
Собеседник кивнул.
— Так вот, Константин, хочу тебе сказать еще несколько слов. С глазу на глаз… Ты, надеюсь, сам понимаешь, что если бы я тебя не взял под свое покровительство, тебе тут туго пришлось бы.
Это было очевидно. Однако Корифей счел нужным по этому поводу добавить еще несколько слов.
— Помимо остальных причин, есть и еще одна: большинство зеков очень не любят офицеров. Тем более, статья, по которой ты сюда попал… Нет, тебе пришлось бы туго.
Он поднял свой стакан, приглашающе коснулся моего. Мы выпили, захрустели темнозелеными крупно нарезанными солеными огурцами.
— Но, как я тебе уже говорил, в лагере достаточно сильна «афганская» прослойка, — легкой усмешкой Корифей подчеркнул шутливость определения времен застоя. — И мы друг друга в обиду не даем.
Не то чтобы я его перебил — просто вставил ремарку.
— И только потому, что вы держитесь дружно, вас здесь не трогают…
Корифей понял иронию. Усмехнулся.
— Ты прав, конечно, сама по себе дружба и взаимопомощь мало что сделали бы против местных «волков»… Дело в том, Костя, что я в миру имел некоторые завязки в криминальных кругах.
Ну что ж, по крайней мере, откровенно. Хотя об этом и догадаться было не так уж трудно.
Но тогда сам собой напрашивался следующий вопрос.
— Ну а сам ты, случайно, не из какого-нибудь «афганского» благотворительного фонда? — небрежно поинтересовался я у него.
— А с чего это ты вдруг так решил? — с любопытством спросил он.
Что тут скажешь? Я неопределенно передернул плечами.
Промямлил, словно в сомнении:
— Да так, подумалось…
Однако он не отставал:
— И все-таки?
Что ж, сам напросился, сам и получай.
— Говорят, они все здорово с мафией связаны.
Корифей хмыкнул, однако ничего не ответил. Сказал по другому поводу:
— Вот оно и обидно, что хорошее дело может в народе восприниматься настолько негативно.
Тему о том, в какой степени справедливы подозрения народа и в какой мере оправданна его оценка народа, я решил оставить.
— Короче говоря, Корифей, ты в этих местах «авторитет», — подвел я итог обмену репликами. — И на этом твоем авторитете базируется некоторая независимость «афганцев». Я правильно тебя понял?
Он оценивающе посмотрел на меня.
— Мне не нравится такая формулировка, — медленно и раздельно произнес он.
Будь здесь вся толпа, которая только что рассосалась на просторах «зоны», я, быть может, пошел бы на попятную. Однако мы были вдвоем, мы были примерно одного возраста, а потому не стал так уж под него подстраиваться.
Потому предложил компромисс.
— Давай не будем придираться к словам и формулировкам. По сути: я прав?
Корифей проделал губами несколько движений, будто диктор перед эфиром разминал свой рот. Позднее я узнал, что это у него признак раздумья и легкого раздражения.
— Ну ладно… Да, если по сути, то это где-то близко к телу, — сказал наконец он.
Подал голос Адъютант.
— Корифей, еще будете?
Старший взглянул на меня.
— Ты как?
Что и говорить, я немного поплыл. Все-таки слишком давно я не был в такой вот обстановке, когда общаешься по-доброму с человеком, от которого не ждешь гадости.
А может, напрасно не ждешь от него гадости? — попытался было подать реплику внутренний голос. Да ну тебя! — тут же в пьяном кураже отбросил опасение. В конце концов, слишком давно я не употреблял ничего крепче чая, чтобы теперь отказываться от возможности надраться.
— Вообще-то можно бы еще…
Корифей удовлетворенно кивнул:
— Ну, тогда давай еще… Так вот, Костя, особое положение «афганцев» в «зоне» определяется еще и тем, что заместитель начальника лагеря тоже «афганец».
Я присвистнул:
— А что, их тоже туда посылали?
— Он там был советником, — коротко обронил Корифей и тут же круто перевел разговор: — Но только ты и сам должен понимать: все эти наши внутрилагерные льготы и привилегии — дело относительное. Мы друг друга защищаем и прикрываем только до известных пределов. Потому что за нами и внимание особое. Если только хоть кто-то заметит, что к нам какие-то особое отношение — «накапают». Так что если на чем-нибудь серьезном «влетишь», если в отношение кого бы то ни было ты нарушишь правила поведения или отношения, возможно, ни я, ни кто-то другой не станем за тебя вступаться.
…Так вот и начались мои восемь лет. Когда я освобождался, именно Корифей подсказал мне адрес Марека. Предупредил, что ухо здесь надо держать востро. И в то же время, подчеркнул он, здесь ты можешь рассчитывать на помощь.
Вот я ее получил. Вот я ее отработал. Эх, Корифей-Корифей!.. А еще Корифей! Наверное, отстал ты от нынешней жизни за долгие годы отсидки. Или организация, «от которой» ты загремел под статью, потеряла свое влияние. Или люди тут поменялись. Или авторитет былых «авторитетов» поколебался…
Кто вас знает, господа криминалитет? Только теперь я знал твердо: получу документы — и никогда больше не переступлю порог квартиры Марека.
Впрочем, кто-то хорошо сказал: «Никогда не говори «никогда». Есть резон. Тогда скажем так: не дай Бог, чтобы в моей жизни еще хоть что-то стряслось такое, что заставит меня здесь появиться!
8
Однако не мешало бы уже и пообедать, потому что та легкая закуска, которую выкатил на столике Марек, взрослого мужчину накормить был не в силах. Как говорил все тот же Поэт, «пора было съесть кусок еды»…
И мне вдруг от подкатывающего в горлу голода сделалось до боли обидно! Что ж это я, совсем стал каким-то изгоем? Что ж, идти обратно в «зону» проситься, потому что нигде у меня нет пристанища?.. «А в тюрьме макароны дают…»
Был у нас один зек, мы его уважительно Дедушкой называли. Он в общей сложности лет тридцать отсидел. Так у него на белом свете не было нигде ничего и никого — и он на свободу совсем не рвался, более того, страшился ее, свободы и нынешней жизни… Что ж, и мне таким же прикажете стать?
Нет уж, не дождетесь! Деньги-то у меня имеются — ну и хрен с ним, со всем остальным! Что я, комиссар какой-нибудь из сказки про революцию, чтобы мучиться от голода, имея в кармане две сотни «баксов»?
Подумал так — и решительно направился к первому же небольшому кафе, которое попалось на глаза. Вдруг сам собой вырисовался незамысловатый план: поем, а потом с растерянным видом похлопаю по карманам и скажу, что, мол, бумажник дома оставил, так уж возьмите «капустой», вам какая разница, коль еда съедена, только сдачу, пожалуйста, верните, как по курсу положено… Тарарам поднимать и разборки устраивать, милицию вызывать, надеюсь, из-за этого не станут. Платить-то я не отказываюсь, в самом деле…
Мне живо представилась картина, которую я собирался разыграть, и она показалась мне достаточно убедительной. Однако все произошло не совсем так, как я планировал. Хотя и страшного ничего не произошло.
Сколько раз уже я имел возможность убедиться, что в абсолютном большинстве случаев заранее продуманное «я сделаю вот так» и «я скажу вот этак» так и остаются невостребованными.
Дело в том, что в кафе, в которое я вошел, платить нужно было сразу, у стойки. И я, сглатывая голодную слюну, решительно подошел к раздаточному стеллажу.
— Что у вас есть насчет поесть, хозяюшка? — спросил я в рифму и как можно небрежнее.
«Хозяюшка», молоденькая, костлявая и неестественно рыжая девица, равнодушно выдохнула мне в лицо вместе с сигаретным дымом:
— Вон тама меню висит… — и слегка качнула головой в сторону прикрепленного к стене листка бумаги.
Да, сервис у нас мало чем отличается от привычного по воспоминаниям из детства. Правда, в те времена с нами подобным образом разговаривали только там, где можно было пообедать за рубль — сейчас перешли на тысячи, а манера общения с клиентом осталась рублевой… Впрочем, и сейчас, скорее всего, если придешь в фешенебельный ресторан, с тобой тоже иначе станут говорить.
В конце концов, обозлился я на себя, пусть как хочет, так и разговаривает, лишь бы накормила!
— А вы что порекомендуете?
Девица лениво приподняла веки, небрежно скользнула взглядом по моей куртке. Наверное, оценку выставила не слишком высокую, потому что вновь отвела глаза.
— Сами выбирайте, я ваших вкусов знать не обязана.
Знала бы она, сколько лет никто моими вкусами вообще не интересовался!
Пришлось подойти к меню. Ассортимент неплохой, цены пестрят обилием нулей.
— Салат, — начал диктовать я. — Пельмени…
Однако буфетчица перебила с подчеркнуто усталыми интонациями в голосе:
— Какой салат? С чем пельмени?..
Любопытно, а с чем могут быть пельмени, кроме как с фаршем, в который добавлено хоть немножко мяса?.. А, вон оно в чем дело, понятно.
— Пельмени со сметаной.
— Сметаны нет.
Этот пустопорожний разговор начал меня раздражать.
— Тогда вычеркните это блюдо из меню, — сдержанно порекомендовал я ей. — А с чем есть?
— Мне за это деньги не платят, — запоздало отозвалась девица на мою первую реплику. А потом откликнулась и на вторую: — Есть с кетчупом.
— Давайте с кетчупом, — согласился я.
…Сделав заказ, составив тарелки на поднос, я осуществил задуманное. Полез в карман и сделал глуповато-растерянное лицо. Во всяком случае, постарался сделать — ну а что получилось, не знаю.
— Ну и дела… — проговорил я негромко, делая вид, что тщательно обыскиваю собственные карманы.
— Ты чего?
Судя по голосу, буфетчица готова была сходу сорваться на скандальный крик. Во всяком случае, сонный вид с нее слетел моментально.
— Да вот… — промямлил я. — Деньги дома забыл…
Думаю, я опередил ее на долю секунды.
Извлек из кармана зеленую купюру и, понизив голос, спросил:
— Может, «баксами» возьмешь?
Ленивости и скуки на ее лице уже не было ни следа. Она глядела на сложенную бумажку, переводила глаза на мой заказ и никак не могла принять решение.
Потом повернулась в приоткрытую дверь, которая была у нее за спиной, и из которой туго тянуло сигаретным дымом, и крикнула:
— Витек!
Донесшийся в ответ голос тоже был ленивым.
— Чего тебе?
— Подь сюда!
— Зачем?
Ну и конторка!.. Все ленивые, посетитель пришел, а они делают все, лишь бы ничего не делать… Причем, похоже, цены тут очень не маленькие… Такое ощущение, что здесь рады бы, чтобы вовсе никто сюда не заходил. Тогда зачем кафе открыли?.. Нет, в этой нынешней жизни я слишком много не понимаю.
Правда, мне рассказывали, что сейчас по Москве имеется немало магазинов и других торговых точек, которые созданы не для обслуживания людей, не для реального зарабатывания денег, а всего лишь в качестве «крыши» для «отмывания» «грязных» денег. Быть может, и кафешка, в которую я случайно попал, тоже из той же серии?
В задней двери появился Витек — худощавый нескладный парень. Естественно, с сигаретой в зубах.
Тут вообще все помещение насквозь провоняло табачным дымом. Насколько я знаю, в нормальных странах в общественных местах вообще курить воспрещается. А уж чтобы обслуживающий персонал во время работы «смолил»…
— Что тут случилось?
Витек глядел на меня так, будто я из-за какой-то своей пустой прихоти оторвал его очень важного дела.
— Да вот видишь… — буфетчица развела руками и кивнула на меня.
— Понимаешь, дружище, — торопливо начал я, старательно изображая смущение, а на деле искренне переживая, как бы не остыли залитые кетчупом пельмени, от которых дразняще струился вкусный запах. — Зашел к вам пообедать, а деньги, оказывается, дома забыл…
— Здесь тебе не благотворительная столовая. — оборвал он, мрачно глядя на мой заказ. — Тут платить надо!
— Да я же не отказываюсь платить, — втолковывал я ему. — Говорю же, у меня только «баксы»…
— «Баксы»?..
Это Витька заинтересовало.
— Сколько?
— Полтинник. Может, разменяешь?
Он с сомнением покрутил головой:
— Не положено. Засекут еще…
Черт, кушать-то как хочется!
— Ну что ж, тогда извините, я пошел, — вполне искренне вздохнул я.
Однако не успел сделать и шага.
— Ну ладно, — решился Витек. — Куда деваться — давай сюда свой полтинник!
Он подхватил брошенную купюру, разгладил, начал рассматривать на свет.
— Настоящие? — покосился в мою сторону.
Ага, как же, кто-то тебе прямо так и скажет, что только что нарисовал…
— А черт его знает, — тем не менее не стал я врать. — За работу сегодня расплатились… Ну ладно, ты пока с этого полтинника сдачу приготовь, а я поем — а то голодный, как волк в феврале…
И, не дожидаясь ответа, потащил поднос к столику.
9
Не сомневаюсь, что в то время, когда я ел те пельмени, было ясно видно, что в Пажеском корпусе я не обучался. Потому что, махом проглотив половину порции, даже не успел распробовать вкус еды. Но теперь жить на белом свете становилось легче: у меня хоть наши деньги есть, так что можно будет питаться. Правда, тут же проявилась следующая проблема: где ночевать?.. Даже не так, надо поставить вопрос шире, глобальнее: где эти два дня жить?
Утолив первый голод, я вновь предался своим мрачным мыслям. Куда сейчас податься? Нет сомнения, что если бы я сказал Пегому: «Я пришел тебе отдаться, дай мне деньги, крышу и работу», так вот маяться не пришлось бы. Однако я твердо дал ему понять: ты мне только сделай документы, а там разбегаемся. Потому он так со мной и поступил. И даже если и в самом деле я смогу сообщить об этом Корифею — а если подвернется возможность, сделаю это обязательно — скорее всего, ничего и никому тот не сделает. Разве что слегка попеняет Пегому, да и дело с концом. Потому что тот же Пегий вполне сможет ответить, что нечего, мол, сюда присылать тех, кто решил с их формой существования «завязать».
И снова воспоминания потекли вспять, к тому дню, когда окончательно стало ясно, что меня вот-вот освободят, а ему по-прежнему оставаться.
— Так как, Костя, ты там жить собираешься?
Этот вопрос мы с ним обсуждали уже неоднократно. В «зоне» вообще тему о том, что будет «после» обсуждают годами — словно жвачку пережевывают. Однако теперь, когда тема из абстрактной плоскости перешла в плоскость реальной перспективы, Корифей решил окончательно расставить точки над «и».
— Пока не знаю, — честно ответил я.
И в самом деле, до сих пор, пока освобождение рисовалось в далекой абстрактной дымке, можно было рассказывать сказки себе и другим сколько угодно. Теперь, когда завтрашняя неизвестность приблизилась вплотную, было уже не до самоуспокоения.
К этому времени я уже знал, что жена мне больше не жена. Следовательно, нет у меня никого и нигде, куда можно было бы направить свои освободившиеся стопы. Нет и жилья. А по нынешним временам это проблема. Впрочем, а в какие времена в нашей стране жилье не было проблемой? По-моему, именно крыша над головой является одной из извечных проблем России, наряду с ворами, дорогами и дураками.
Корифей понимающе покивал — он был осведомлен о моих личных проблемах.
— Тут, Костя, ты должен определиться в главном, — говорил он спокойно и размеренно, будто вслух размышлял. — Либо ты возвращаешься и пытаешься жить по принятым в стране законам, либо, как бы это сказать поприличнее, решаешь идти в преступный мир. И в том, и в другом варианте имеются свои достоинства и недостатки. Скажу тебе откровенно: жить честно намного труднее.
И об этом мы с ним уже говорили. В «зоне» вообще часто и много говорят — потому что времени в избытке.
— Нет, Корифей… — начал было я, однако он не дал мне закончить.
— Погоди-ка, выслушай лучше меня, — перебил меня собеседник. — Я опытнее в этих делах… Ты сейчас даже не представляешь, с какими проблемами столкнешься, когда вернешься домой. Дома у тебя нет, источников заработка нет… Это я, когда бы ни вернулся, знаю, что меня встретят и всем обеспечат, потому что мне есть куда и к кому возвращаться… В стране нынче безработица, так что для зека, да к тому же сидевшему по сто второй, нигде не будет приготовлена тарелочка с голубой каемочкой…
— Так ведь мне много не надо, Корифей, — попытался я вставить свои пять копеек. — Пойду куда-то на завод, в колхоз, может, общежитие получу…
Я осекся, увидев его насмешливую ухмылку.
— Ты не обижайся, Костя, — примирительно сказал «авторитет». — Только ты сейчас такие глупости говоришь… Ты сюда попал еще при социализме, хотя и разваливавшемся, но еще социализме. К тому же всю жизнь служил в армии, когда тебе страна автоматически обеспечивала какой-то прожиточный минимум… Сейчас, поверь мне, в стране никто никому не нужен. Понимаешь? Никто никому! Твои проблемы — это только твои проблемы…
Он просил не обижаться, однако его менторский тон меня задевал.
— Это я понимаю…
— Да ни черта ты не понимаешь, — беззлобно оборвал он меня. — Это невозможно понять, пока не испытаешь на своей шкуре.
— А ты что, уже испытал?
— Конечно, испытал, — спокойно ответил Корифей, игнорируя мой тон. — Причем, еще тогда, когда после ранения уволился… Единственное, что мне сделали, так это выплатили все причитающиеся деньги, пообещали, что Родина меня не забудет, пожелали всего доброго и попрощались. Хорошо, что было к кому обратиться… Впрочем, это долгий разговор, да и речь сейчас не обо мне… С тех пор все изменилось, причем, изменилось не в лучшую сторону. Работу ты сейчас нигде не найдешь, разве что самую неквалифицированную и мало оплачиваемую. Добавь к этому, что там месяцами не выдают получку…
Вот этого я никак не мог понять. Естественно, все люди во всем мире недовольны размером своей получки. Но чтобы государство вообще не платило своим гражданам!.. Когда я видел по телевизору пикеты, демонстрации и забастовки людей, которым по полгода не платят деньги, я этого не понимал. Чем же, за счет чего жить всем этим людям, у которых просто нет иных средств к существованию?
— Короче, — оборвав сам себя, форсировал разговор Корифей. — Если ты решил-таки вернуться к той жизни, которая официально именуется «честная», а я называю глупой, флаг тебе в руки и попутный ветер в задницу. Если же решишь идти в мою команду, я тебе подскажу, куда обратиться на воле…
К этому времени я хорошо знал, чем занимается «команда», которой раньше руководил Корифей и которая готова тут же его принять, когда он выйдет отсюда. Они выколачивали долги из должников, «наезжали» на банкиров и бизнесменов средней руки… Ну и так далее. Действовали под надежной «льготной» крышей.
Заниматься этим мне претило.
— Нет, Корифей, спасибо, но только я к твоим парням идти не собираюсь, — ответил я твердо.
Он не удивился, кивнул понимающе.
— Что ж, дело твое. Может быть, когда-нибудь ты будешь здорово жалеть об этом решении. Но поскольку ты принял его сам, оснований для того, чтобы обижаться на меня, у тебя не будет… Но на всякий случай запомни один адресок. Если возникнет нужда, там тебе помогут…
— Не надо… — попытался было отказаться я.
Однако Корифей не дал закончить.
— Ну, будет у тебя заполнена еще одна ячейка памяти, — сказал он. — Что тебе, жалко?
Не жалко, конечно. Особенно если учесть, что потенциал своего мозга в процессе жизни мы используем только на 5–6 процентов…
Так я узнал адрес Марека.
— Только имей в виду, Костя, — подчеркнул собеседник, — ухо там надо держать востро…
— А зачем же ты тогда наводишь меня на людей, которым нельзя доверять?
Он усмехнулся:
— Да потому, что на людей, которым можно полностью довериться, ты сам не желаешь выводиться.
На том и порешили.
И вот я сидел тут и размышлял о том, что, может быть, и в самом деле напрасно не послушался Корифея и не согласился пойти в его «команду». В конце концов, по его словам, они не трогали простых людей. Ну а толстосумов и потрясти время от времени не грех…
Часть пятая За ошибки надо платить
1
— Садись, Беспросветный!
Командир бригады, в состав которой входил наш отряд, воевода Славко Громаджич, старался на меня не смотреть. И мне это не понравилось. Потому что хотя мы с ним и не числились друзьями — но в то же время и не было у нас оснований отворачиваться друг от друга.
— Что случилось, Славик?
Я уселся, пребывая в полнейшем недоумении. Громаджич в свое время учился в Советском Союзе, так что по-русски говорил куда лучше, чем я по-сербски. Так что мне не было необходимости сейчас подыскивать слова из моего скудного сербохорватского.
Ответить-то Громаджич ответил, но только совсем не то, что я мог ожидать от него услышать. Он по-прежнему подчеркнуто на меня старался не глядеть. И теперь заговорил, уставившись в окно, за которым буйно зеленела олива.
— Капитан, тебе не кажется, что тебе пора собираться домой?
Не знаю, быть может, для кого-то «бриша» — «пошел вон» — привычно слышать. Мне на дверь до сих пор не указывали ни разу.
— Я тебя не понял, Славко, — наверное, мой голос прозвучал резче, чем следовало. — Ведь это мое дело, сколько тут пробыть…
Хотя, что значит «чем следовало»? Думаю, по большому счету, такая моя реакция было вполне оправданной.
Тем более, что именно резкость тона спровоцировала Громаджича на прямой разговор. Он оторвался от окна и уставился на меня.
— Слушай, Беспросветный, я тебе прямо сейчас выдам дозволу — только уматывай отсюда как можно скорее.
Что ж, это прямо. Это откровенно… Только почему так стоит вопрос?
Об этом я у него не спросил. Только подумал. А сам молча глядел на Славко, ожидая продолжения.
— Тобой наша контрразведка заинтересовалась, — опять уставился в окно Славко.
Вот это уже и в самом деле серьезно. Это повод для выдворения серьезный… Только с чего это они вдруг за меня взялись?
Однако и в этот раз я промолчал. В конце концов, коль уж меня к себя вызвал, сам же все и расскажет.
Так оно и вышло. Славко опять не выдержал паузы, заговорил первым.
— Кто эта подруга, с которой ты живешь? — опять спросил он скучным голосом.
Он умел задавать прямые вопросы. Но только у меня на такой вопрос был ответ не менее прямой.
— А ты ее знаешь.
Громаджич удивленно воззрился на меня.
— Так она что же, из наших?
Врать я вообще не люблю. Врать, считаю, вообще нужно исключительно редко, только в тех случаях, когда нет другого выхода. Ну а в данном случае во вранье к тому же не было необходимости.
— Нет, Славик, она не из ваших и не из наших, — не стал я пририсовывать себе крылышки ангелочка. — Она ко мне пришла с той стороны. Она мусульманка.
Воевода уже оправился от удивления, вновь уставился в окно. Если судить по его реакции, мое сообщение о ее национально-религиозной принадлежности для него не стало новостью. Следовательно, информацию об этом он уже получил — или непосредственно от наших, или через контрразведку, которая сведения получила, опять же, от кого-то из наших. Кто же из наших меня вложил? Кроме как из отряда узнать он не мог.
— Тем не менее, ты ее знаешь, — повторил я.
Громаджич молчал, хотя, я понимал, его должно было подмывать спросить, кто же эта моя пассия. И я не стал больше испытывать его терпение.
— Ты помнишь, у тебя в школе был друг, с которым вы вместе приударяли за девчонкой-хорваткой?
Наверное, впервые за все время нашего разговора Славко уставился на меня искренне и с недоумением.
— Ну?
По этому междометию трудно было понять, действительно ли он вспомнил тот случай или же просто оттягивает время, рассчитывая понять, о ком идет речь, со временем.
— Так вот у меня сейчас живет его родная сестра, — закончил я.
Если бы я знал, как отреагирует Славко на мое признание, право же, я от него воздержался бы. Я-то рассчитывал на иное, что, проникшись ностальгическими воспоминаниями, он станет на мою сторону и постарается мне помочь.
Потому что воевода молча пожевал губами, со злобой глядя на меня. Однако ничего не сказал. Только нажал кнопку звонка.
В дверь всунулся дневальный.
— Двух автоматчиков из дежурной роты, — по-сербски приказал Славко.
Ситуация чем дальше, тем меньше мне нравилась.
— Зачем автоматчики? — спросил я у воеводы, когда дневальный исчез. — Что же, без них нельзя обойтись?
— Сейчас узнаешь, — пообещал Громаджич. — Только, Костя, у меня есть к тебе одна просьба.
Уже легче. Если человек обращается к другому человеку с просьбой, подумал я, маловероятно, что он ему собирается сделать гадость.
Хотя, тотчас проснулся внутренний голос… Эдмон Дантес… Не тот Дантес, который Пушкина убил, а тот Дантес, который превратился в графа Монте-Кристо. К нему тоже с просьбой обратились, чтобы он помалкивал, а потом пожизненный срок впаяли.
Однако тут приходилось верить собеседнику. Хотя бы уже потому, что впаять пожизненный срок ему было не по силам. Разве что застрелить где-нибудь потихоньку в овраге. Правда, пока неясно, зачем это ему могло бы быть полезно.
— Слушаю тебя, Славик.
Громаджич, похоже, под моим взглядом чувствовал себя не слишком уютно.
— Я тебя прошу об одном, — чуть смущенно проговорил он. — И поверь, что бы я сейчас ни сделал, это сделаю для того, чтобы тебе же было лучше.
Сдержать рвущуюся из нутра иронию мне оказалось не под силу.
— Славко, я сейчас уроню слезу от умиления, — зло сказал ему я.
Однако воевода иронии не принял.
— Я тебя прошу только об одном: что бы ни случилось, молчи и не болтай лишнего.
Мудрый совет, — оценил я. Болтать лишнее всегда чревато неприятностями. Однако если тебя просят не болтать лишнего, вызвав автоматчиков ничем больше не аргументируя эту свою просьбу, это еще чреватее.
— Мне тебе нужно отвечать или можно обойтись без клятвенного заверения на священном писании? — с сарказмом я спросил я.
— Мне достаточно будет даже того, что ты просто промолчишь.
В конце концов, какой резон ему делать мне гадость? Или другое: какой ему резон в том, чтобы сделать мне каку? Или еще по-другому: чем мне может грозить и какие проблемы причинить молчание?
— Ладно, Славик, — решительно сказал я, — предлагаю тебе такой вариант. Я буду просто молчать, пока не заподозрю, что ты мне собираешься сделать гадость. Тебя такой вариант устраивает?
Громаджич — человек суровый, он улыбается очень редко. Но тут он расплылся в широкой улыбке — причем, мне показалось, что в искренней.
— Устраивает, — бодро сказал он.
В дверь раздался стук.
— Да! — по-русски крикнул Славко, понимая, кто именно стоит в коридоре.
Дверь открылась. В кабинет вошли два воика с нашими родными Калашниковыми на груди, правда, югославского производства. Автоматы югославского производства, а не грудь, я имею в виду. Такие автоматы тут называют «застава».
— Кто старший?
Воевода, я понимал, специально для меня говорил по-русски, хотя при этом подбирал слова, которые были бы понятны для рядовых солдат.
— Я старший, — опять же чисто по-русски, что явилось для меня полнейшей неожиданностью, ответил один из солдат.
— Этого руса посадить на гауптвахту и охранять как следует.
То, что передо мной разыгрывается спектакль, догадаться было нетрудно. Более того, русский язык, раздавшийся из уст рядового солдата, слишком напоминал рояль в кустах. Однако что именно задумал Славко, я понять не мог.
— Капитан Константин… — Славко запнулся, не смог вспомнить или выговорить мою фамилию. — Ты арестован до окончательного вынесения решения.
Я ничего не понимал. Однако пришлось подчиниться. По двум причинам. Прежде всего потому, что я чувствовал себя соучастником некой интермедии, которая разыграна, оставалось надеяться, в мою пользу. И во-вторых, мне все-таки не хотелось думать, что Славко хочет сделать мне неприятность. При этом изначально за скобками остается факт, что у двери стояли два автоматчика, что исключало возможность попытки бежать или сопротивляться решению.
Я поднялся, закинул руки за спину. Вот уж не думал, что еще раз придется это делать…
— Оружие сдать?
— Сдать!
В голосе Славко сквозил металл. Что же он задумал? Я достал из кобуры пистолет, извлек обойму, передернул затворную раму, сделал контрольный спуск. Бросил оружие и обойму на стол. Ни кинжал, ни «дежурную» гранату-«самоликвидатор» доставать не стал. Личный обыск устраивать они не стали.
— Прошу вас, — опять по-русски сказал солдат.
Что ж, надо идти.
— До свиданья, Славик, — сказал я.
— Прощай! — резко рубанул Громаджич.
Я с недоумением уставился на него. Однако воевода уже уставился в бумаги, лежавшие перед ним на столе. Хотя я мог бы голову прозакладывать, что он сейчас в состоянии вникнуть в их смысл.
2
Наверное, было бы лишним признаваться в том, что в ту ночь я спал мало. В самом деле, думаю, это вполне естественно. И дело даже не в том, что я находился на гауптвахте — условия тут оказались более чем приличные, а мне спать где придется не привыкать. Не спалось по иной причине. Грызли мысли.
Почему Славко так несправедливо, вернее, так непонятно со мной обошелся? Что он задумал, что хочет сделать? Действительно ли пытается что-то предпринять, чтобы мне помочь или же преследует какие-то лично свои, индивидуально-личностные цели?.. Едва я начинал думать о Славко, давал о себе знать внутренний голос. Ага, хихикал-ёрничал он, как же, воевода только о том и мечтает, чтобы тебя, руса-дурака, вытащить из передряги, в которую ты по глупости вляпался!.. Да ты подумай, — горячилось мое второе, скептическое, я, — как ты выглядишь в его глазах! Ты ведь не просто любовницу себе завел на передовой — у тебя живет мусульманка, которая воевала против нас! А это уже другое дело, две большие разницы, как говорили в Одессе — бывшем нашем городе, с главным памятником, посвященным брату личного врага д'Артаньяна. К тому же я сам сказал, чья она сестра, а он, скорее всего, знает, где находится его школьный приятель, называющий себя Мюридом.
Скверная штука — гражданская война. Внешняя — и та не такая пакость.
Постоянно возвращался мыслью и к другим вопросам. Например, кто из наших меня вложил? Что конкретно имеет против меня контрразведка? Какое решение может принять сербское командование в отношение меня? И главное: что сейчас с Мириам?
…Ребята приняли девушку, по большому счету, нормально. Да, были и иронические ухмылки, и различной степени благожелательности вопросы, и откровенные подковырки… Ну а когда я оборудовал для нее отдельную комнату — если бы все сальности, прозвучавшие в казарме, материализовались, нам бы на год свинины хватило… Короче говоря, много чего я услышал и — прекрасно это понимаю — еще больше прозвучало в мое отсутствие. И все же в целом, по большому счету, я отдавал себе отчет: со стороны наших ребят можно было ожидать и худшего.
Мириам вошла в мою жизнь просто и естественно. Она просто пришла со мной после той беседы и старательно делала вид, что не замечала самой широкой палитры взглядов, которые обволакивали ее юную фигурку. Я, впрочем, тоже старался этого не замечать.
Разговора о том, как дальше сложится наша жизнь, у нас с Мириаим не возникало. Мы вообще очень долго в тот вечер не говорили друг другу ни одного слова. Не возьмусь сказать, чем при этом руководствовалась она — я испытывал обыкновенную неловкость от сложившейся ситуации.
Однако именно она позвала меня к себе в первую ночь, когда я вздумал было улечься на полу, на постеленном в углу матрасе, укрывшись короткой югославской шинелью. Конечно, я не уверен, что в ту ночь смог бы уснуть, когда в двух шагах от меня лежала молоденькая девушка, однако и пользоваться моментом не собирался. Не потому что был носителем столь высокой нравственности — просто не мог себе позволить показать себя человеком, который приобрел вещь и может ею распоряжаться по своему усмотрению. Хотя и понимал, что она именно за тем сюда и пришла, чтобы ЭТО произошло. Просто, на мой взгляд, она сама должна была меня позвать, а не я к ней набиваться.
Ну а главное — я еще не принял окончательного решения о том, как мне быть дальше. А пока не решился, самому начинать… Нет, не мог.
…— Прсвет! — окликнула она меня из темноты. И тут же спросила: — А как тебя зовут?
В самом деле, я ведь назвал ее братьям свое имя уже после того, как она ушла.
— Константин, — назвался я полным именем.
— Как сложно, — тихо засмеялась она в темноте. И позвала: — Иди ко мне.
Полгода без женщины… Понятно, что не совсем уж без женщины. Была Ивица. Была невесть как попавшая в Нижеград Катарина… Но это все было так, эпизодически, спонтанно, во время нечастных выездов в город. А вот так, чтобы не в пьяном угаре, не в сомнительном заведении, чтобы сама женщина позвала, когда… Когда? Как бы это себе объяснить… Когда она молодая, не гулящая, трезвая…
У меня в душе бушевала буря. Сталкивались противоречивые чувства, противоположные взгляды.
Молодая, красивая — тут сомнений нет. А вот как насчет не гулящей?.. Ну а что я вообще о ней знаю? Что у нее в прошлом было что-то такое, что ее братья сочли необходимым срочно выдать ее замуж за первого попавшегося иностранца, за врага, да еще при условии, чтобы он срочно увез ее подальше отсюда? Что?..
И тут до меня дошла разгадка. Был у нас такой случай. Два друга, отслужили срочную службу и возвращались домой. По пути заехали к одному в гости, как это нередко бывает у солдат-«дембелей». А у того оказалась дома сестра, якобы писанная красавица. Впрочем, старинная поговорка утверждает, что для юношей, монахов и солдат некрасивых женщин вообще не бывает.
Что солдату нужно, чтобы влюбиться после армии? Нужно, чтобы его чуть пригрели, чуточку приголубили — и тогда даже баба Яга покажется Еленой Прекрасной… Короче говоря, приехал этот парень в гости с другом, а дальше домой поехал с его сестрой.
Привозит он невесту домой, к своей матери. А был он деревенский. Ну мать, естественно, в восторге от этого не была — однако приготовила баньку и повела невестку париться-мыться.
Вдруг прибегает в избу:
— Сынок, она ж, невеста твоя, беременная!
Парень, наверное, хороший был. Или дурак. Или подруга уж так ему понравилась… А может все вместе.
Короче говоря, заявляет он матушке:
— Ну и что? Люблю я ее, женюсь. А ребенка за своего признаю.
Так и случилось. Расписались они. Родился ребенок, тот парень без вопросов-разговоров записал его как своего… А она, молодая жена, едва ли не на следующий день после оформления в загсе всех необходимых бумаг, на развод подала и уехала с ребеночком. И потом еще и алименты заставила того тюфяка платить.
…Если и тут такая же история, то тогда все на удивление четко в общую мозаику укладывается. У мусульман законы на этот счет жесткие. Особенно если учесть нынешнее военное время — случись что, даже разбираться глубоко никто не станет. Нагуляла Мириам ребенка — от того же француза, например. Об официальном, законном, аборте по шариату не может идти и речи. Никого родных не осталось, к кому можно было куда-то поехать, у кого-то остановиться. Ехать в какое-нибудь Сараево и ходить по улицам, спрашивая, где тут аборты делают…
К тому же сроки поджимают. До бесконечности ведь такое скрывать невозможно… Если кто-то из сослуживцев узнает о случившемся — на девушке надолго, если не на всю жизнь, клеймо. Да и братьям могут попенять, что сестру не уберегли. Выход один: срочно выдать замуж и отправить куда-нибудь подальше, где про нее никто ничего знать не будет.
Очень стройно и логично. Вот только за кого ее срочно замуж отдать? Тому французу она, конечно, в родном Льеже, Нанте, Страсбурге или в деревне Средиземноморовке близ Марселя, не нужна. Выдать за мусульманина? Так ведь законы суровые не только в нашем городе, здесь они куда суровее — так ославит… Муж жену за такой свадебный подарок даже убить может, и мулла за это оправдает. Или до самосожжения доведет — у мусликов такая форма самоубийства довольно распространена…
— Ну что же ты? — в голосе Мириам сквозило робкое нетерпение.
И я… Конечно, выстроив в голове всю эту цепочку, нужно было бы встать и гордо удалиться из комнаты. Но… Но слаб человек. В конце концов, что такого уж страшного произойдет, если сейчас откликнуться на ее зов? Ну а что делать дальше, будет видно, потом подумаю. В конце концов, она ведь не девочка, значит, и морального долга перед ней у меня от этого не появится…
Первое, что я сделал утром, это подозвал к себе Ромку Хопёра и Семена Шерстяного.
— Чего тебе, капитан? — у обоих лица лучились понимающими мужскими ухмылками.
— Передайте ребятам, что ее не трогать, — сказал я как можно тверже.
Хотя, что там говорить, чувствовал себя в эти минуты не слишком уютно.
— Какие разговоры, конечно, — великодушно слукавил Семен.
— А она как, постоянно будет тут у нас жить? — в лоб спросил есаул. — Или только наведываться к тебе станет?
Я сразу понял, что он имел в виду. Он полностью, на сто процентов, прав: в воинском коллективе подобные вещи и в самом деле допускать опасно. Еще попервости какое-то время как-то можно рассчитывать на джентльменство сослуживцев. Ну а потом, особенно если вдруг кто-то переберет ракии, да разбуянится… Тут ведь все мы в одинаковом положении, а мужчину длительное, особенно вынужденное, пребывание без женщины делает раздражительным, неуправляемым.
— Какое-то время поживет тут, а потом я что-нибудь соображу, куда ее от нас переселить, — заверил я.
— Вот это хорошо, — одобрил Ромка.
На том все и закончилось. Его-то я заверил. А вот как мне и в самом деле быть?
Оставаться здесь, в Югославии, или и в самом деле увозить Мириам в Россию?
При этом моральный долг перед сербами, ведущими неравную борьбу против мирового империализма, отставим в сторону. Статистика, как верно подметили Ильф и Петров, знает все. И она, эта статистика, свидетельствует, что русские добровольцы в среднем находятся здесь до года. Кто-то остается навсегда, как, например, парень, известный под именем Олег Валецкий, другие уезжают едва ли не через месяц, успев за это досыта хлебнуть романтики. По большому счету, я прекрасно понимал, что мы может только немного помочь сербам воевать, в то время как решать свою судьбу они должны сами.
Так что, повторюсь, эту сторону проблемы я решил пока оставить, так сказать, за скобками. Проблема сейчас лежала в звене «я — Мириам».
Если я решу оставаться здесь, нужно сегодня же отправить девушку к ее братьям. Старший расстроится — потому что он старший остался и с него спрос, средний поймет, младший меня возненавидит еще больше. Ну да это их проблемы, в конце концов, они мне не родственники, чтобы я помогал им покрывать грехи их сестренки. Пока, во всяком случае. Вопрос, что тогда будет с Мириам? Трудно, просто невозможно предугадать ее дальнейшую судьбу…
Ладно, и это оставим на потом. Предположим следующий вариант: просто оставить ее здесь, в расположении и под защитой Русского добровольческого отряда, у себя… Нет, не здесь, разумеется, не в казарме, а, скажем, поселить ее в ближайшей деревне или даже в Нижеграде… Так ведь очень скоро выяснится, что она мусульманка, установят, что она воевала против сербов, что у нее братья по-прежнему по ту сторону… Я не знаю официальных сербских законов на подобный случай, хотя и предполагаю, что они основываются на общегуманитарных принципах «сестра за братьев не в ответе; человек раскаявшийся достоин прощения; кто старое помянет…», ну и так далее. Все это так. Однако я знаю психологию человека, особенно на войне. Даже если допустить, что официальная милиция, военная полиция или контрразведка не станут ее беспокоить, соседи, у которых погибли или замучены мусульманами родные и близкие, могут что-нибудь ей и сделать.
К тому же, я нахожусь на войне. А здесь всякое может случиться. И что тогда будет с ней? Правда, тогда она сможет вернуться к братьям, на ту сторону. Ребенок, который у нее родится, будет официально оформлен как мой… Вот именно, как мой. И как на этот ее вояж поглядят на той стороне? Как на «контакт» с неверным отреагирует их контрразведка, мулла и фанатичная толпа? Не будет ли ей уготована участь библейской Магдалины?
…Другими словами, я должен для себя сделать четкий выбор: если я хочу помочь Мириам, я ОБЯЗАН увезти ее отсюда. Если я остаюсь здесь, значит, я должен либо вернуть ее братьям, либо обречь на полную неожиданностей жизнь своей любовницы.
И снова я в нерешительности оставил первый вариант на будущее додумывание. Зато по второму у меня опять столкнулись первое и второе «я».
Я старался быть перед собой объективным. Влюбиться в меня, как говорится, вдруг и по уши Мириам, конечно же, не могла. Значит, она сейчас попросту использует извечную женскую уловку: приручить мужчину лаской, постелью и покорностью, чтобы при помощи своего природного и столь притягательного для мужиков предмета добиться некой своей цели. Какой может быть эта цель? Связать свою жизнь со мной? Я, как таковой, не представляю для женщины из себя особо привлекательной фигуры. Ни денег у меня больших, ни престижной профессии, ни блестящей перспективы… Значит, цель у нее иная. Например, и в самом деле, просто «слинять» отсюда. Это вполне логично, а потому просто остановимся на этой версии.
Но если принять ее, вернуть Мириам братьям было бы для нее чревато тем, что она опять столкнется со всеми теми проблемами, от которых она пыталась бежать с моей помощью. Честно ли это по отношению к ней? Непростой вопрос. С одной стороны, мужчина, претендующий на порядочность, всегда должен чувствовать ответственность перед женщиной, с которой у нее были, как это стыдливо именуют ОТНОШЕНИЯ. Но в то же время, ни она, ни ее братья, не были со мной до конца честными, когда предлагали этот альянс!
Стоп! А что она вообще мне предлагала? Она мне вообще ничего не предлагала. Разговор у меня был с братьями. А она просто забралась ко мне под одеяло. И даже то, что это было ее одеяло, значения не имело, потому что это она меня позвала, а не я к ней полез.
…Кажется, я запутался в частностях, в мелочах, во второстепенных деталях. Главное сейчас состоит в том, уезжать или оставаться. И в этом главном вопросе есть по два подвопроса. Если уезжать: с ней или без нее. Если оставаться: оставлять Мириам при себе или прогнать. Такой вот логический квадрат.
А при таком раскладе — попробуй найти ответ, который был бы справедлив по отношению ко всем: к себе, к Мириам, к ее братьям, которые, судя по всему, желают ей только добра, по отношению к Славко, к Радомиру, к моим нынешним сослуживцам… Я не мог найти справедливый ответ.
Да и был ли он, ответ, который мог бы всех удовлетворить? Скорее всего, универсального ответа-решения не было, да и не могло быть. Потому что поступка, кардинального поступка, который был бы хорош для всех, скорее всего, просто не существует в природе.
3
Утром меня, лишь на рассвете забывшегося в каком-то тревожном, непонятном полусне-полугрёзе, разбудил скрежет ключа в замке. Я было встрепенулся, но потом решил, что подобострастно подскакивать на гауптвахте перед кем бы то ни было — это значит демонстрировать едва ли не раскаяние и готовность признать себя в происшедшем неправым. Не исключено, что в другой ситуации я бы и подскочил, и неправым себя признал. Но в данной ситуации дело касалось женщины — а, значит, и вести следовало соответствующе, по-рыцарски, не роняя своего достоинства.
Однако подскочить мне все-таки пришлось. Потому что вошли не автоматчики из дежурной четы, не воевода Славко Громаджич, не Семен Шерстяной, даже не Ленька Кочерга, которых с той или иной степенью вероятности можно было бы ожидать здесь увидеть. В помещение вошел Радомир Станич, мой напарник по разведке, единственный человек, который знал, при каких обстоятельствах я познакомился с Мириам.
Чуть шевельнулось: а вдруг это именно он донес обо всем в контрразведку?.. Но я тут же отмел саму вероятность этого. Прежде всего потому, что невозможно подозревать человека, с которым вместе был в разведке, с которым вместе убивал врагов, с которым поровну делил опасности глубоких рейдов в тыл… Нет-нет, в такое верить не хотелось. Ну и потом: он ведь меня не остановил тогда, не попытался воспрепятствовать моему поступку, не бросился сам задерживать отпущенную мной девушку, ни разу не напомнил мне о том случае… Значит, по большому счету, является в некотором роде соучастником совершенного мной поступка… Даже из чувства самосохранения ему невыгодно докладывать об обстоятельствах ее пленения и дальнейшего освобождения.
Да и человек он не подлый по своей натуре. На передовой подлецы встречаются нечасто.
— Здравствуй, Константин, — протянул он мне руку, когда я поднялся с топчана, удивленно глядя на него.
Он ко мне обратился полным именем едва ли не впервые за все время нашего знакомства. И я не знал, как это расценить: как демонстрацию того, что у нас с ним начинается период новых взаимоотношений, или же как проявление его сочувствия мне.
— Здраво, Радо, — ответил я.
Он огляделся, подвинул стоявший в углу помещения стул, уселся на него.
— Голодный, наверное? — спросил серб.
Его вопрос напомнил мне о том, что я и в самом деле после вчерашнего обеда ничего не ел.
— Да уж, кофе в постелю тут почему-то не подают, — пришлось признаться откровенно.
Словно в ответ на мои слова петли дверей опять заскрипели и в помещение вошел давешний солдат, так хорошо говоривший по-русски. Он тащил большой, видавший виды, алюминиевый поднос, на котором что-то стояло, накрытое стиранной тряпкой, которая должна было обозначать салфетку. Когда он водрузил помятый тускло-белый диск на столик и сдернул в него стираный лоскут, я, должен сказать, немало удивился. Потому что подбор блюд заметно отличался от привычного. Обычное наше меню большим разнообразием не баловало: на завтрак, как правило, давали паштет или сало, на обед нечто, что с некоторой натяжкой можно было бы назвать супом, — сваренные в бульоне из тушенки макароны или фасоль, ну и на ужин что-нибудь… А тут на тарелке бугрилась изрядная горочка жареной соломкой картошки, на другой лежал нарезанный ломтиками добрый кусок вареного мяса, оливки, вкус которых, я, должен признаться, никогда не понимал. Правда, привычно отсутствовал черный хлеб, ну да его тут вообще найти невозможно.
Русскоговорящий солдат еще не успел дойти до двери, когда я уже активно сглатывал обильно выделяющуюся слюну. Ну а апофеоз пришелся на тот момент, когда громко захлопнулась дверь и Радомир из кармана достал бутылку, как нетрудно было догадаться, с ракией.
— Давай, Костя, садись, поешь, а заодно мы с тобой и поговорим.
Уговаривать меня позавтракать было бы делом излишним. Потому что я уже был готов принять любое предложение, которое сейчас мне сделают. Все же желудок у мужчины — самое слабое место… Ну, не самое, быть может, есть у него и еще некоторые слабости, но одно из определяющих его поведение — это точно.
Махом проглотив стаканчик ракии, которую мне щедро нацедил Радомир, я азартно погрузил вилку в самую глубину исходящей ароматом картошки. Потянул вилку на себя — а на вразнобой гнутых зубьях остался только один маленький пережарившийся кусочек. Ну что ж, начнем именно с него. И я отправил его в рот.
М-м-м… Как же мало человеку нужно, чтобы отвлечься от неприятных мыслей!
— Я к тебе пришел поговорить по очень серьезному вопросу, Прсвет, — заговорил Радомир, опять наполняя мой стаканчик.
Это ж надо, какая неожиданность! — с сарказмом воскликнул я. Про себя. Потому что рот был занят пережевыванием той вкусноты, что мне принесли.
— Давай-ка сразу по второй, а потом продолжим, — предложил серб.
Кто-то, быть может, и возражал бы, а я не стану. Торопливо проглотив раскаленный вязкий ком, я взялся за посудинку.
— У нас военные второй тост как правило поднимают за женщин, — несмотря на неутоленный голод, не преминул я съязвить.
Именно съязвить, потому что не было сомнения, что разговор сейчас пойдет о Мириам.
Однако Радомир на язвительность моей реплики предпочел никак не реагировать. А может и в самом деле не заметил подоплеки моих слов.
— Что ж, раз у вас так принято, давай за женщин, — согласился он.
Выпили. И я опять принялся за картошку.
— Мы с тобой, надеюсь, друзья, Прсвет, — начал Станич. — А потому я буду говорить с тобой откровенно. Ты, Костя, попал в сложный переплет…
Как будто я и сам этого не знаю. Уже который день об этом думаю. Особенно последнюю ночь…
— Только давай без проникновения в мою запутанную судьбу, — попросил я, почувствовав, что первый, самый лютый, голод чуть отпустил и ему на смену спешит вторая волна, когда хочется не просто набивать утробу едой, а когда возникает желание вкушать нечто соблазнительно вкусное. — Мне кажется, что у тебя, или, скорее, у Славко, имеется ко мне реальное предложение и ты пришел его мне озвучить. Причем, пришел именно ты, потому что наш воевода опасается, что я не приму подобное предложение именно от него, в то время как тебе, как старому другу, я поверю. Разве не так?
Радомир неопределенно и, как мне показалось, немного смущенно пожал плечами.
— Причем у меня имеется вполне материальное подтверждение моей правоты, — добавил я.
Серб удивленно поднял брови:
— Какое подтверждение?
— Материальное, — повторил я. — Вот оно.
И я указал на картошку и мясо. Станич ухмыльнулся.
— А это? — он звонко щелкнул ногтем по горлышку бутылки и начал наливать по третьей. — Разве это менее материально?
Я тоже улыбнулся.
— Это? Это еще более материально. Но только я уверен, что ракия не от Славко, а от тебя лично.
— Почему ты так думаешь?
Наверное, со стороны моя физиономия изобразила хитрый прищур. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы это именно так.
— Потому что ты такой человек, что к другу-арестанту с пустыми руками не заявился бы. А достать и особенно зажарить картошки даже тебе не по силам. Ну и самое главное: без высокого соизволения воеводы тебя сюда никак не пустили бы. Не так?
Он только усмехнулся, ничего не ответил. Я расценил это как подтверждение стройности цепи моих умозаключений. И от осознания своей дедукции стал еще снисходительнее.
— Ладно, Радо, так и быть, уговорил, давай говорить откровенно. Что ты мне хочешь сказать?
Серб тоже перешел на тон серьезный.
— Ты же знаешь, что я тебя уважаю и не стал бы советовать что-то плохое…
Я поморщился и бесцеремонно перебил его:
— Ну я же сказал тебе: ближе к телу, как говорил Мопассан.
Однако и после этого серб-разведчик начал не сразу, после паузы.
— Короче говоря, тебе надо уезжать, Костя, — наконец решился он.
Открыл Америку! О том, что ты мне предложишь именно это, я знал уже с того момента, когда ты переступил порог моей камеры!
Однако я ничего не сказал, продолжал молча жевать. Картошка уже кончилась, поэтому я уписывал мясо.
— Пойми, Костя, тебе теперь тут оставаться никак нельзя… — очевидно расценив мое молчание как добрый знак, бодрее продолжал Станич.
— Ну, это ты брось, не это главное, — остановил я Радомира. — Речь сейчас идет о другом.
— Это о чем же?
Судя по тону серба, он понял, что я хочу сказать, и приготовил для этого ответ.
— Если я надумаю уезжать из Краины, мне нужны будут документы.
— Дозволу тебе Славко сделает сразу, как только ты согласишься покинуть зону боевых действий, — поспешно ответил Радомир.
— Может быть, — не стал спорить я, хотя этот пункт тоже вызывал у меня сомнение. — Но главная проблема в другом: у меня нет надежных российских документов — сюда я приехал по липовым.
Это для Ставича было полной неожиданностью.
— Вот как? А почему ты мне не рассказывал об этом раньше?
Как ответить на такой вопрос?
— Потому что не было нужды, не было необходимости, — пожал я плечами. — Зачем грузить друга лишними проблемами?
Радомир поскреб ногтями затылок.
— Дела-а… А те документы, что ты сдал по приезде сюда?
— Я же сказал: это «липа». Подделка. Они ненастоящие.
— А где у тебя настоящие?
Слов нет, сидящему передо мной человеку я верил. Сказал бы он мне сейчас: «пошли в разведку!» — я бы пошел без колебаний. Понимаю прекрасно, насколько избито это сравнение, да только в данном случае я ведь и в самом деле степень надежности человека по разведке оценивал.
К слову, поведение человека в бою и в жизни нередко слишком разительно разнятся, чтобы проводить между ними прямые параллели. В свое время меня поразила судьба такого легендарного человека, как лейтенант Ильин. Что я о нем знал, что помнил из того, что проходили в школе? (К слову, какое точное определение — именно проходили). Ну, участник Чесменского сражения, ну, поджег своим брандером турецкий флот — и после этого затерялся между страниц истории… О его дальнейшей судьбе я совершенно не задумывался, а если бы вдруг заинтересовался и не обнаружил больше в истории военно-морского флота никакого следа его, рассудил бы, что не всем же, право, становиться адмиралами… Между тем судьба Дмитрия Сергеевича Ильина заслуживает куда большего внимания потомков, и пока еще, насколько я знаю, не нашла своего биографа.
Он и в самом деле участвовал в Чесменском сражении русской эскадры против турецкой в 1770-м году. Русский флот, которым номинально командовал граф Алексей Орлов (удаленный от двора фаворит любвеобильной Екатерины и губитель, если верить исторической легенде, несчастной «княжны Таракановой»), а реально адмирал Григорий Андреевич Спиридов, был по всем показателям слабее турецкого, которым командовал капудин-паша Хасан-бей и который, укрывшись после потери флагманского корабля в Чесменской бухте, оказался под прикрытием береговых батарей. Командующие обоих флотов понимали бессмысленность лобовой атаки. И тогда русские решили направить в бухту четыре брандера, которые должны были бы поджечь сгрудившиеся на тесной акватории деревянные дредноуты Великой Порты. Брандер — это, по сути дела, торпеда того периода. Начиненная порохом или нефтью, он подплывал к кораблю противника, намертво сцеплялся с ним и поджигал или взрывал его. От современной торпеды его отличала одна только «мелочь»: шел брандер на веслах, сцеплялся с кораблем противника человеческими руками и фитиль поджигали тоже люди. Только после этого они могли спасться. Фактически то были смертники, камикадзе, хотя, в отличие от японских «торпедоводцев», у них оставался призрачный шанс на спасение. Была у них и еще одна особенность: камикадзе для единственного старта воспитывались едва ли не с детства — русские офицеры буквально спорили между собой за высокое право идти в такую смертельную огненную атаку.
Под Чесмой к турецкому флоту было направлено четыре брандера, каждый под командой офицера. Имен двоих я не запомнил, но один из них возглавлялся, ни много ни мало, князем Гагариным, что уже само по себе говорит о высокой чести идти в столь опасное предприятие. Однако до цели удалось пробиться только одному брандеру — командовал им безродный лейтенант Ильин.
Турецкий флот оказался обреченным. Пламя пожара перекидывалось с одного корабля на другой, взрывы пороховых погребов сотрясали воздух. И результат оказался ошеломляющим: турок погибло 10 000, русских только 11.
С донесением о столь блестящей победе в столицу Российской империи был послан подлинный герой сражения — Дмитрий Сергеевич Ильин… Этого ему не смогли простить остальные участники сражения, которые еще накануне готовы были жизни положить «за други своя», в том числе и за того же Ильина.
Финал истории банален и печален. Героя погубили интриги. Правда, капитаном 1 ранга он стал, да только жизнь свою закончил в бедной деревеньке, в нищете, напрочь забытый своими современниками.
… К чему я вдруг вспомнил про несчастного лейтенанта, который совершил подвиг, равных которым не так много знает история?
А, вот! Да, я полностью доверился бы Радомиру, если бы мне сейчас пришлось с ним идти в бой. Но тут — иное. Он должен был сейчас склонить меня к какому-то решению. К какому? Чем оно, это его решение грозило? Что оно могло бы мне дать?
И не только мне — Мириам тоже. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Прекрасные слова летающего графа. Только сейчас, помимо этих слов мудрого Лиса мне сразу вспомнилась и прекрасная Роза, которая боялась сквозняков и у которой всего только и было, что три шипа от всех напастей нашего сложного мира. Ее Маленький Принц накрывал прозрачным колпаком… Ну а Славко, Радомир, да и я тоже, сейчас, похоже, готовы такой хрупкий защитный колпак, в котором, доверившись мне, попыталась укрыться Мириам, разбить вдребезги.
Неужто я влюбился? — удивленно поинтересовался внутренний голос. Нет же, нет, мне ее просто жалко — подумал я в ответ я. И сам же почувствовал неискренность этих слов.
Впрочем, опять меня не туда понесло, эту мысль я потом додумаю.
Сейчас важнее другое: верить ли Радомиру? Вернее не так: в какой степени верить Радомиру?
— Эй, друже, ты где?
Меня из задумчивости вывел голос серба. Он глядел на меня с понимающей полуулыбкой.
— Я ведь тебя понимаю, Костя, — с сочувствием сказал он. — Кругом понимаю. Да только сколько ты ни молчи, проблемы ведь сами собой не разрешатся. Давай обсудим, что тебя волнует, может, что-то и придумается.
Кто ж спорит, понятно, что не разрешатся. Но и не думать о них, на самотек пускать тоже не дело.
— Я и не молчу…
Радомир не сдержался, весело засмеялся.
— Это ты-то не молчишь? Да из тебя вообще слова не вытянешь… Только сказал бы мне о чем молчишь — может, что-то и придумали бы вместе.
Ага, сейчас я тебе скажу, что думаю о том, в какой степени могу доверять тебе…
— А о чем мы говорили?
Это я помнил. Просто попытался выиграть еще несколько мгновений на размышление.
— Ты сказал, что у тебя поддельные документы, по которым ты к нам приехал и что по ним ты не можешь возвращаться в Россию. А я спросил, где у тебя подлинные документы. Ты не ответил.
— И не отвечу.
Он удивленно вскинул брови.
— Почему? Ты мне не веришь?
— Не в том дело, — поморщился я, потому что он точно угадал одну из основных причин, почему этого не сделаю. — Дело в другом.
— Так в чем же дело? — повторился он. — Неразрешимых проблем вообще не бывает.
Блажен, кто в такое верует. Мне доводилось слышать такую мысль: девяносто процентов неразрешимых проблем постепенно разрешаются сами собой, в то время как остальные десять решения не имеют вообще. Вывод: если проблема кажется неразрешимой, ее лучше не трогать. Не скажу, что я уверовал в такую теорию сразу и безоговорочно, однако в определенной степени резон в ней виделся.
Однако в данном случае на самотек пускать развитие проблемы было нельзя. Слишком многое поставлено на кон. Да и не оставят меня в покое, вынудят принимать какое-то решение. Или, еще хуже, примут его за меня сами.
Я взялся за свой стаканчик, молча опрокинул его в рот. И принялся жевать оливки, сплевывая косточки на одну из освободившихся от пищи тарелочек. Радомир понял, что я ему отвечать не желаю. Однако не обиделся.
— Костя, пойми одна вещь. Мы с тобой должны сейчас прийти к общему решению, иначе будет плохо и проблематично всем: и мне, и тебе, и… — он запнулся, а потом торопливо договорил: — и всем остальным.
После такой оговорки я просто обязан был спросить, чем это все может грозить Мириам. Не спросил. Может быть, потому что ОБЯЗАН был спросить, а потому воздержался из духа противоречия, в котором пребывал на протяжении всего разговора. А может быть и из страха, из опасения узнать что-то действительно ужасное. Или, если уж до конца откровенно, из осознания, что после этого уж действительно придется принимать какое-то определенное решение.
— Ладно, Радо, попытаемся отыскать в этом всем деле хотя бы маленький консенсус, — примирительно предложил я. — Итак, допустим, я соглашаюсь уехать, меня останавливают на границе, определяют, что паспорт поддельный… И что тогда?
— Но ведь сюда-то ты проехал, — с сомнением проговорил серб.
— Не забывай, что сюда я ехал в составе группы, во главе которой были ребята, которые знали все особенности пересечения любой границы. К тому же не исключено, что у них на границе были свои люди. И еще: одно дело, если человек едет добровольцем в другую страну — и совсем другое, когда он оттуда возвращается.
— Н-да… — только и сказал Радомир.
А что он мог еще сказать?
— Ну ладно, предположим, у тебя будут документы, — после паузы перевел он разговор на другие, более важные для него рельсы.
Что ж, в кустах все равно не отсидишься.
— Я в этом сомневаюсь, что ваше командование здесь сможет и захочет заниматься тем, чтобы выхлопотать для меня подлинные документы, — откровенно ответил я. — Но, так и быть, предположим. Но… — я немного помялся, не зная, как продолжить. — Давай сначала предположим иное. Допустим, я откажусь уезжать. Допустим, любовь к приключениям, дружба к братскому сербскому народу оказалась сильнее, чем ваши настойчивые попытки меня отсюда выпроводить. Предположим, что мне некуда, не к кому и незачем отсюда уезжать. И предположим, что у меня тут имеются какие-то дополнительные обстоятельства, которые не позволяют мне уезжать… И при этом учти: что сделать мне документы не так-то просто, что каждого возвращающегося из Югославии на границе трясут и проверяют по полной программе… Суммировав все это, я, допустим, отказываюсь поддаться на ваши уговоры и остаюсь здесь. Что в этом случае произойдет со мной? Со мной и… И с НЕЙ…
Радомир сидел, опираясь на колени локтями, покачивался взад-вперед и глядел на меня. Не нравился мне этот взгляд. Потому что серб смотрел на меня без осуждения, с искренним сочувствием. Так смотрит человек на близкого ему по крови и по духу, на единомышленника, на друга, который совершает правильный поступок, и осознает, что за этот правильный поступок ему придется расхлебываться полной чашей.
— Что ж, Константин, видит Бог: я сделал все, чтобы тебе помочь.
Он поднялся. Поставил, наклонившись, недопитый стаканчик ракии, повернулся и молча пошел к двери.
Я ошеломленно молчал. Такого я никак не ожидал. И только когда он уже взялся за ручку двери, когда стало ясно, что и в самом деле уходит, у меня не выдержали нервы.
— Погоди, Радомир! — сорвался я с места, догнал, схватил за рукав. — Да ты хоть объясни, что теперь со мной будет? В чем меня обвиняют? Что ж, под суд меня отдавать?..
Станич не оглянулся. Мягко, без резкости, высвободил рукав.
— Ты сделал выбор, Костя. Так что же ты еще от меня хочешь?
В двери прогремел ключ.
4
Он ушел. Я, постояв в растерянности перед захлопнувшейся дверью, вернулся к своему топчану. Уселся на него. И уставился на оставшиеся пустые тарелки.
В голове мысли крутились, вихрились, толкались, пихались, наплывали одна на другую…
Ситуация сложилась, конечно, довольно паскудная. Виноватым ни перед кем я себя не чувствовал. Разве что перед Мириам, если у нее из-за всей этой истории, если из-за ее доверчивости у нее будут новые неприятности. Впрочем, что такое в данной ситуации неприятности? Ей, по большому счету, могут грозить не неприятности, а кое-что куда похуже.
Не знаю, как мой поступок выглядит со стороны. Однако перед сербским командованием я чувства вины не испытывал. Никаких секретов я не выдавал, никому ничего плохого не сделал. У нас некоторые ребята встречаются с местными девушками, кое-кто даже жениться собирается, чтобы остаться здесь, на Балканах. Так какая разница между мной и ими? Только в одном: моя девушка — с той стороны, она воевала против нас, ее братья и другие родственники, если они у нее есть, тоже воюют против тех людей, помогать которым я сюда приехал. Есть ли в этом вина? С точки зрения морали, с точки зрения взаимоотношений между мужчиной и женщиной, скорее всего, нет. Ромео и Джульетта — наибанальнейший тому пример. Однако с точки зрения практики — военной и политической — подобных связей и контактов лучше избегать. И тут пример приходит на ум уже иной: сын Тараса Бульбы Андрий и прекрасная шляхтянка, например.
Тем не менее, прямой вины у меня перед сербами не было. Но ведь и их можно понять. Потому что в подобной ситуации лучше исходить из принципа «как бы чего не вышло». Тем более, что произошла вся эта история не с их земляком, а с человеком приезжим, пусть даже с самыми благими намерениями.
А в самом деле, что мне могут сделать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно попытаться поставить себя на место соответствующих сербских начальников, правомочных решать мою судьбу. Как говорил мой старшина, «голова дана человеку, чтобы думать, а мозги — чтобы соображать». Вот и попытаемся напрячь голову и пошевелить мозгами.
Итак, что мы имеем? В составе Русского добровольческого отряда воюет некто Константин Беспросветный, находящийся тут, как неожиданно выяснилось, под подложным документам. Причина, по которой он приехал воевать, по большому счету никому не известна. В самом деле, это уже далеко не мальчик, мечтающий пострелять, мир поглядеть и себя проверить… Нет, на войну приезжает уже немолодой опытный человек, о котором к тому же известно, что он служил в Советской Армии и имел воинское звание капитан. Все это, в сочетании с отсутствием подлинных документов, наталкивает на предположение, что на родине он по какой-то причине оказался в конфликте с законом. Что еще? Человек бывалый, он здесь становится неплохим разведчиком, известным под прозвищем Просвет.
Вот и все, пожалуй. Я имею в виду, что это вся «объективка», которая у сербов имеется на меня. Теперь другая сторона.
Этот самый человек, называющий себя Константином Беспросветным, никому о себе ничего не рассказывает. Воюет хорошо, однако никогда сам с инициативой не вылезает, держится особняком. Несмотря на то, что пользуется авторитетом, ни с кем не дружит, ни с кем не сошелся. Между тем имеются косвенные свидетельства, что он «сидел», причем срок имел немалый, а потом у него произошла какая-то личная драма, из-за которой он был вынужден срочно и почти нелегально покинуть Россию.
Во всем этом не было бы ничего такого уж страшного — в конце концов, русы пусть сами со своими разбираются. Но тут происходит эта непонятная и подозрительная история.
Видеться она, эта история, сербскому руководству может, например, так.
На положае, где находятся русские добровольцы, невесть откуда вдруг появляется никому здесь неизвестная девушка. Оказывается, она разыскивает разведчика Просвета, которого хорошо знает. Ладно, дело мужское, это можно было бы как-то объяснить. Между тем выясняется, что эта девушка — мусульманка. Наверное, это тоже еще как-то можно было бы объяснить — например, тем, что разведчик завербовал ее во время одного из походов в тыл противнику или уговорил ее стать его осведомителем. Маловероятно, но допустим, что так оно и было. Однако они вдвоем вдруг куда-то исчезают на несколько часов. Исчезают вообще, бесследно, никому не сказав куда. И это еще можно понять, например, что просто удалились в заросли погуще, потому что у них вдруг вспыхнула взаимная симпатия.
Бред какой-то, — ухмыльнулся внутренний голос. Сам знаю, огрызнулся я.
А сам продолжил. Итак, допустим, что они просто удалились по каким-то личным интимным делам. Но дальше все становится еще запутаннее, непонятнее и необъяснимее. Она не возвращается домой, остается жить с Просветом… Предположим, и это еще как-то возможно объяснить: например, что у нее все там разрушено, все сгорело, все уничтожено и все погибли. И потому она прилипла к этому русскому.
Однако, рассуждал я дальше за неведомого мне сербского офицера, тут начинается то, что уже никак объяснить невозможно.
Несложная проверка личности девушки вскрывает, что она, оказывается, не такая уж беспомощная сирота. Что у нее есть три брата, которые активно воюют против нас, что она сама также принимала участие в боевых действиях… Что ее не тронул и даже отпустил Просвет, захватив на положае, где погибло столько-то мусульман (допустим, контрразведке это известно)…
Так почему бы не допустить, должен предположить этот неведомый мне офицер, что при помощи этой подруги русского добровольца по прозвищу Просвет пытаются каким-то образом использовать против сербской стороны? На женщинах еще и не такие как он ломались… Это называется «постельной разведкой». Каким образом его собираются использовать? А кто ж его знает…
Ладно, если рассуждать подобным образом, а такая цепочка рассуждений представляется вполне логичной, я в глазах неведомого сербского контрразведчика и в самом деле буду выглядеть не слишком приглядно. И что же он со мной может сделать?
Не знаю я местных законов — как писанных, так и традиций. Поэтому предвидеть мою судьбу не могу. Другое дело, что на войне законы проще: как говорится, до ближайшего оврага.
Когда я дошел до этой мысли, вдруг понял одну вещь, которая до сих пор до меня не доходила.
Понятно, что сербскому командованию нет никакого резона ссориться с людьми, которые приехали добровольно помогать им в борьбе. Что-либо делать со мной официально — забирать в контрразведку или устраивать суд военного трибунала — никто не станет. В свете моей сомнительной истории правильнее всего было добиться одного из трех вариантов: добиться того, чтобы я потихоньку уехал отсюда; сделать что-нибудь с Мириам, свалив это потом на месть мусульман за измену священным идеям газавата; или же сделать что-нибудь со мной, также свалив на мусульман. Первый вариант не удался. И тогда, посадив меня под замок, Славко практически спас меня: теперь если со мной хоть что-нибудь случиться, у наших ребят не будет сомнения в том, откуда ветер дует. А это (см. выше) местному руководству никак не выгодно.
Остается только одно: Мириам. Именно ей сейчас угрожает основная опасность.
Что могут сделать с ней? Да что угодно! Подстеречь где-нибудь и убить. Натравить на нее местных женщин, которые сами пострадали в этой войне или у которых погибли близкие. Натравить на нее мужчин — вплоть до того, что даже среди наших ребят и то найдется несколько человек, которые, если их подпоить и науськать, не откажутся от этого, особенно если будут знать, что им за это ничего не будет…
Впрочем, почему я обо всем этом думаю в будущем, а точнее вероятностно-будущем, времени? Может быть это «что-то» уже произошло вчера?.. Нет, не хочу, не может быть, лучше не надо! Пусть это будет бредом, пусть это будет бредом не выспавшегося выпившего взволнованного идиота!..
А может, пусть так и будет? — подленько пискнул внутренний голос. В конце концов, тебе-то что от этого? Ты-то ведь здесь не при чем! Ты вообще на гауптвахте сидишь, из-за нее же страдаешь!.. Зато как же славно потом все будет! К тебе никаких претензий, все уладится само собой. Да и ее братья тоже могли бы изначально подумать, что они избрали не лучший вариант разрешения семейной проблемы…
Поймав себя на подобных рассуждениях, даже по сторонам невольно оглянулся: не услышал ли случайно кто меня… Как же это я мог даже тень мысли подобного выхода из положения допустить!
А что тут такого? Мысли и есть мысли, за них не судят. Христос, правда, говорил, что если кто подумал о грехе, тот уже согрешил. Но так ведь он сам же дал человеку разум. А разум — это возможность и право человека на выбор, на ошибки, на сомнения, на сравнение, а значит и на грешные мысли. Не так?
Так и пошел у меня внутренний диалог. Подлый, нехороший диалог. Таких мыслей стесняешься, таких мыслей себе потом не прощаешь, таких мыслей стыдишься… Но они ведь есть, бывают у каждого. Или не так?
Она мне доверилась, Мириам, она у меня ищет защиты… Так как же я ее могу предать?
— А ты уверен, что она с тобой до конца искренна, что от тебя ничего не скрывает?
— Ну и что? Пусть скрывает. Но ведь ищет защиты!
— Защиты от кого? И от чего? Почему она нуждается в защите? Что ты вообще о ней знаешь?
— У нее будет ребенок. И я не могу позволить, чтобы этот ребенок, еще не родившись, погиб или же испытывал страдания.
— Да? Это делает тебе честь. Ну а что делали они, мусульмане, а персонально те же братья Мириам, с сербскими женщинами?
— Слов нет, мусульмане и в самом деле немало зверствовали в захваченных сербских районах. Женщин убивали, детям разбивали головы, взяв их за ноги и ударив о стенку, беременным женщинам вспарывали животы и вырывали неродившихся младенцев… И это еще не все! Проводилась в жизнь программа поголовного омусульманивания отбитых у сербов территорий. Для этого насилию подвергались ВСЕ женщины от четырнадцати до сорока лет, чтобы они рожали детей от поклонников истинной веры… Так что у сербов имеются реальные основания для того, чтобы отыграться на одинокой мусульманке, — не слишком уверенно внушал мне внутренний голос.
Это не ответ, — оборвал я его. — Взаимоотношения между людьми, и уж подавно между народами, не должны строить по принципу «сам дурак» или «на себя посмотри». Что бы ни делали они, мы не должны опускаться до того свинства, которое творят твари в образе человеческом, причем, надо учесть, что подобные твари имеются не только у них, но и у нас…
Внутренний спор грозился скатиться в схоластику. Потому я оборвал сам себя.
— Нельзя так, Костя, — вслух сказал я сам себе. — Так нельзя.
Надо думать о главном. Нужно определиться в главном. Только тогда может появиться мысль о том, как выбраться из того безнадежного тупика, в который меня загнали обстоятельства.
Итак, вот главное: человеку, который обратился ко мне за помощью, независимо от причин, по которым ему нужна моя поддержка, грозит опасность. И в моих силах, по всей видимости, ее, эту опасность, предотвратить. И думать о том, как оправдать в собственных глазах свою бездеятельность, непорядочно и недостойно.
Такая постановка вопроса меня устроила, она мне понравилась.
Тогда я поднялся с топчана, на котором сидел все это время, и подошел к двери.
5
На мой решительный стук дверь распахнулась сразу, будто все тот же, хорошо говоривший по-русски, часовой только и ждал моего сигнала.
— Мне нужно немедленно поговорить с Радомиром, — торопливо выпалил я.
Серб ответил тотчас, как будто все это время, пока сидел у двери, ждал от меня именно этой просьбы.
— Радомира сейчас нет. Когда он уходил, сказал, что вернется только к вечеру.
Черт! Наверное, только он мог бы мне сейчас реально помочь… Ну а к кому еще можно сейчас обратиться?
Воик терпеливо ждал, выжидательно глядя на меня.
— Тогда мне срочно необходимо увидеться с воеводой Громаджичем.
— Его тоже нет, — все с той же готовностью отозвался часовой. — Он тоже будет к вечеру. А то и сутра.
«Сутра» — это значит завтра. Оба отсутствуют и оба исчезли до вечера… Странное совпадение.
— Они что, вместе уехали?
На этот раз часовой стоял молча, просто глядя мне в глаза. В самом деле, он не обязан отвечать на подобные вопросы арестованному. Я должен быть ему благодарен уже за то, что он хоть что-то мне сказал. В этом пункте воинские уставы, наверное, всего мира сурово-похожи: часовой не должен разговаривать с задержанным или арестованным. Хотя точно так же во всем мире это требование нарушается на каждом шагу.
Что же делать?
— А кого-нибудь из наших, из русского отряда, ты можешь сюда позвать?
И снова ответ прозвучал тут же, будто был заготовлен заблаговременно.
— Только с разрешения воеводы.
А его нет, и будет он «сутра»… Понятно. Заранее подготовленный замкнутый круг.
— Слушай, друг, — сменил я решительный тон на просительный. — Ну что тебе стоит наших позвать? Я же не преступник какой-то, в самом деле, чтобы меня в строгой изоляции держать…
Тут часовой и выдал:
— А я не знаю, что ты натворил. Только мне настрого приказали не допускать никаких контактов тебе с кем бы то ни было.
Вот даже как! Значит, Славко заранее предвидел, что я буду искать такие контакты! И принял меры, чтобы их, этих контактов, не допустить! Та-ак… Значит, мои подозрения оказались не безосновательными!
Как же быть?
— Но хоть записку ты можешь передать?
Насчет записки, как нетрудно было догадаться, его не предупредили. И часовой растерялся, у него растерянно забегали глаза. Уловив его растерянность, я начал додавливать.
— Ты не переживай, друг, в ней будет всего несколько слов. И в ней не будет никаких планов побега. Только одна личная просьба — и все. Ты даже сможешь ее прочитать, я разрешаю… Только передай. А когда я выйду отсюда — с меня магарыч.
Слово «магарыч» слишком по-русски своеобразно, чтобы попытаться его перевести на сербский. Однако часовой понял его и так.
— Давай, — решился он. — Передам с кем-нибудь. Только быстро!
Естественно!
— Дай ручку и бумагу.
— Ипичку матери, — выругался часовой.
И торопливо полез в карман френча. Мелькнула шальная мысль: сейчас скрутить его — и ходу!
Справлюсь без труда… И куда побежишь? — одернул я себя. Бежать-то тебе просто некуда! Это ж надо: такая большая Земля. И нет на ней ни единого уголочка, где я смог бы укрыться! Одно слово: человек без паспорта…
— Держи! — часовой протянул мне свой блокнот и шариковую ручку.
— Спасибо.
— Давай-давай, быстрее!
Быстрее… А что написать-то? Могут ведь, даже не могут, а обязательно прочитают ее посторонние. В том числе и Славко, который, вполне возможно, никуда не уехал, а просто не желает со мной встречаться, выдерживает в изоляции, дает время и возможность одуматься. А то и некий безвестный мне местный «особист», который занимается моим «делом».
«Ромка, прошу тебя, береги ее. Константин.» Поймет ли он, что я имею в виду? Вернее, кого? Должен понять. Сюда бы еще про опасность, которая угрожает Мириам, добавить, да только тогда записка точно не попадет по назначению… И я подчеркнул слово «береги» и поставил после него жирный восклицательный знак.
— Давай быстрее! — торопил от двери серб.
Да, он прав, тянуть нельзя. Я быстро и неровно выдрал из блокнота листок, сложил его пополам. Надписал: «Русск. добров. отр. Есаулу Вой. Донск. Роману».
— Вот, — протянул я записку часовому. — Передай кому-нибудь из наших, пожалуйста. И, если сможешь, как можно быстрее.
— Как получится…
Читать он не стал. При мне, во всяком случае. Забрал свои канцелярские принадлежности, рассовал все по карманам и только после этого захлопнул дверь.
Передаст или нет? С кем и как? И когда? Надо бы побыстрее. Я прошелся по комнате несколько раз. Чем больше я размышлял над ситуацией, тем больше волновался, тем больше меня изнутри колотила нервная дрожь.
Не знаю, сколько так прошло времени. Быть может только несколько минут. Но только я опять постучал дверь. Теперь уже мне открыли не сразу. Часовой был тот же, смотрел так же спокойно, без раздражения, свойственного часовым, которым приходится охранять беспокойных арестантов.
— Чего тебе еще?
— Ты уже отправил записку?
Он заметно насторожился:
— А что?
— Так отправил или нет?
— Отправил. А ты что-то еще хотел дописать?
Фу, у меня даже от сердца отлегло.
— Да нет, просто так поинтересовался… А с кем ты отправил?
— С ребятами, которые обед повезли.
В самом деле, так просто! Нам ведь горячую пищу отсюда, с кухни, привозят!
…К слову, в этом отношении у сербов, в отличие от, скажем, нас, картина довольно любопытная. У них тыловые подразделения составляют едва ли не половину армии. Правда, обмундирования или другой амуниции от этого не добавляется. А может они просто на нас, на пришлых добровольцах, экономят?..
— Спасибо.
Я сразу успокоился. В конце концов, я сделал все, что от меня зависело. Днем с Мириам, за которой будет присматривать Ромка, ничего не должно случиться. К вечеру появится Радомир, а уж он-то что-нибудь придумает, чтобы ее обезопасить.
Делать мне больше было нечего. Я вылил в стаканчик остатки ракии, махом опрокинул ее в рот. Потом растянулся на топчане. И тотчас же уснул.
6
И снова разбудил меня скрежет ключа в замке. Этот звук наложился на какие-то тревожные видения, навалившиеся на меня во сне. Я встрепенулся, рука привычно дернулась к кинжалу. Однако, тут же сообразив, где именно я нахожусь, опять откинулся на подушку. Только настороженно уставился в сторону входа. Кто это ко мне вдруг заявился? И по какому поводу? Просто ужин принесли? Или кого-то из наших ко мне все-таки впустили? Или Славко решил снизойти? Или увозить меня куда-то собрались?..
Не оправдалось ни одно из этих предположений. В камеру вошел именно тот, кого видеть было бы логичнее всего, кого мне хотелось увидеть, и о котором я почему-то не подумал — Радомир.
— Спишь, лежебок?
Он весело скалился, зубы ярко белели на его смуглом лице.
— Чего сияешь, как медный котелок?
Серб не ответил, грохнул за спиной дверью, прошел ко мне. Плюхнулся на стул, на котором сидел утром и тем же жестом достал из кармана и бухнул на столик бутылку ракии.
Я не выдержал, насмешливо хмыкнул:
— Так это ж не «губа», а прям санаторий!
Радомир удивился. Но даже удивление у него получилось какое-то веселое.
— Какая губа? Причем тут губа?.. Ты говорил, что у вас есть такая поговорка: «губа не дура». Ну а причем тут санаторий?
Мне сейчас было не до лингвистических экскурсов. Поэтому я ответил коротко:
— «Губа» — это гауптвахта, помещение, где содержат арестованных за мелкие провинности солдат… Так с чем ты ко мне пожаловал?
Губы Радомира опять растянулись в довольной ухмылке. Он легко и звонко щелкнул ногтем по горлышку бутылки.
— Как видишь, с ракией!
В моем нынешнем состоянии любой пустяк мог бы вызвать раздражение.
— Радо, не испытывай моего терпения, — сдержанно попросил я. — Мне сейчас не до шуток… Ты знаешь, что я вдруг понял, когда тебя не было?
— Ну и что?
Начав объяснять свои опасения, я вдруг почувствовал, насколько они выглядят со стороны наивно и неубедительно. Попробуй словами выразить свои ничем, по большому счету, не подтвержденные, едва ли не интуитивные опасения.
Тогда я попросту оборвал сам себя и сказал ему самое главное:
— Понимаешь, друже, я боюсь, не сделали бы наши или ваши что плохое Мириам.
Серб улыбку чуть пригасил, удивленно и естественно округлил глаза.
— А с чего это тебе вдруг такое в голову взбрело? И что с ней могут сделать?
Не пересказывать же ему всю цепочку моих рассуждений! Поэтому я ограничился лишь туманной сентенцией:
— Просто я тут долго размышлял. И мне кажется это вполне вероятным.
Радомир пожал плечами.
— Не знаю. Не думаю… А впрочем… Ладно, я схожу к вам, посмотрю, что там и как, — твердо сказал он. — Да и с нашими поговорю… Хотя я думаю, что твои страхи напрасны. Давай лучше поговорим о тебе.
Похоже, мои опасения он не воспринял всерьез. Может, я и в самом деле дую на молоко? Или на воду — не помню, на что положено дуть по пословице…
— Обо мне так обо мне, — пришлось согласиться с приятелем. — И что ты имеешь мне сообщить?
Не отвечая, Радомир ловко вскрыл бутылку, начал разливать содержимое по стаканчикам.
— Кстати, будь добр, Костя, скажи часовому, пусть чего-нибудь закусить принесет…
Подниматься не хотелось. Но и отказывать Радомиру, который проявил ко мне столько внимания, я не мог.
— Мог бы и сам заранее об этом подумать, — проворчал я, поднимаясь с топчана.
Я уже успел дойти до двери, когда серб отозвался на мою реплику.
— Я-то, Константин, обо всем подумал… — неопределенно сказал он.
Плохо подумал, — мелькнула мысль. Но озвучивать ее я не стал. Часовой, как положено, околачивался в коридорчике за дверью.
— Бери, — показал он на крохотный столик, не дождавшись моего вопроса.
На столике я увидел давешнее алюминиевое блюдо, на котором что-то стояло, накрытое тряпкой, изображавшей салфетку. Когда же он его забрал? — мелькнуло в голове. Наверное, когда я спал… А почему же я не услышал? Наверное, уснул крепко…
Только почему сам часовой этот поднос не внес? («Поднос — не внес»… Целый стих получился, — хмыкнул я). Ну да ладно, у меня руки не отвалятся. Что же придумал Радомир?
— Давай, Костя, за успешное разрешение конфликта!
Кто бы спорил! Сам о том только и делаю, что мечтаю.
Ракия оказалась с каким-то непривычным металлическим привкусом. Ну да что поделаешь, какой только гадости мне не доводилось пивать в своей жизни. Афганскую «кишмишовку», автомобильную «ломовку», авиационное «шило»… Что же касается ракии, то она только гордо именуется водкой — сама же самогон самогоном, причем, не всегда лучшего качества.
— Ну так что, Радо? Не томи, — попросил я, зажевывая оливкой.
Судя по виду, серб был чем-то удовлетворен.
— Если серьезно, Костя, дело твое и в самом деле неважно. Мы, естественно, принимаем меры в твою защиту, однако…
Его довольный вид никак не гармонировал со столь серьезными словами.
— Но в чем же меня обвиняют?
Теперь Станич уже от меня ничего не скрывал:
— В том, что ты через свою подругу поддерживаешь контакты с той стороной. А это, согласись, в условиях военных действий — серьезное обвинение. Даже если оно выдвигается в сочетании со словом «предположительно».
Естественно. И в то же время оно ведь бездоказательно! Если не считать моей беседы с Мюридом и его братьями, о которой я, естественно, никому не доложил.
— Но ведь фактов нет, — тихо соврал я.
Радомир сделал вид, что не обратил внимания на то, что, произнося эти слова, я на него старался не смотреть.
— Были б факты, Костя, с тобой и разговаривали бы по-другому, — так же тихо ответил он.
И стало ясно, что он знает что-то больше того, что говорит.
В стаканчиках вновь булькала ракия.
— Однако трогать тебя сербы не решаются. Твои ребята уже ездили к командованию, пригрозили все тут на уши поставить, если с тобой что-то случится.
В душе у меня шевельнулось нечто похожее на нежность к товарищам. Я-то всегда держался от них в стороне. А они вон как, уже к командованию ездили… На уши… Они могут, если захотят, они такие.
— И что же?
— Славко заверил, что о результатах разбирательства обязательно будет доведено до добровольцев.
Ловко. Значит, нашим сообщат только результаты. Ну а ими, результатами, манипулировать, как известно, можно как кому заблагорассудится.
— Ну а наши что на это ответили?
— Казаки ответили, что если ты в чем-то виноват, то судить тебя должны они, по своим законам, а не сербы… Кстати, а правда, что казачий круг своей волей может присудить к смерти? А то Ромка сказал, что в их власти, если ты и в самом деле предатель, набить тебе за пазуху камней — и бросить в воду…
Ишь, крючкотворцы судейские, — усмехнулся я по себя. Судить они меня будут…
— Могут, — коротко подтвердил я. — И что на это Славко ответил?
Радомир не ответил, опять забулькал ракией. И заговорил, стараясь на меня не смотреть.
— Сейчас, Костя, речь не о том, кто что кому сказал. Главное для тебя в том, кто что сделает.
Логично.
— И кто же что мне может сделать?
Было очевидно, что мы подошли к главному пункту нашего разговора. Не было сомнения, что и ракия тут появилась именно по этой причине.
— Слушай, Костя, как бы ситуация ни складывалась, тебе обязательно нужно уезжать отсюда.
Скажу откровенно: ни на йоту не сомневался, что разговор наш пойдет именно об этом.
— На колу мочало — начинай сначала, — прокомментировал я его слова.
— Да ты пойми… — начал было Радомир.
Однако я его перебил:
— Это ты пойми! Бросить Мириам здесь я не могу.
— Что, такая уж любовь? — в голосе Радомира звучала неприкрытая издевка.
Любовь? Не знаю. Вряд ли. А там — кто его знает… В конце концов, еще никому не удалось дать точное определение, что же такое любовь.
Когда тебе уже за сорок, когда ты бесконечно одинок и когда к тебе, презирая людскую молву и традиции, ластится юная девушка, даже если ты понимаешь, что ею движет некий корыстный интерес, все равно начинаешь испытывать к ней нечто большее, чем простое плотское влечение. Это объективно.
Ну а субъективно… Я и сам еще не разобрался в своем отношении к ней. Просто мне очень хотелось, чтобы в жизнь вошел кто-то, кому я был бы нужен, о ком хотелось бы заботиться. Это в молодости ищешь приключений и феерии чувств. К старости хочется покоя, причем, покоя не столько физически-комфортного, сколько покоя душевного. А Мириам в мою жизнь такой покой привнесла. Так что же удивительного, что она заняла в моей душе определенное место?
Да и ребенок… Да, у меня есть Ярослав. Да вот только видел я его так редко. То Афган, то «зона»… И вот он уже взрослый. Когда сидел в «зоне», нет-нет, а появлялись мысли о том, что хоть под старость смогу понянчиться с внуками. А теперь этой возможности лишен.
И вот появляется Мириам. Я у нее так и не спросил, насколько серьезны мои предположения о ее беременности. И не потому, что боялся ее утвердительного ответа — я боялся ОТРИЦАТЕЛЬНОГО! Это странно, но я ХОТЕЛ, чтобы у нее родился младенец. Пусть не мой, пусть от француза — но младенец! Потому что коль уж мне не выпало счастья быть настоящим отцом, коль не дано побыть дедом, так хотя бы потешусь с ребеночком Мириам. Я его уже заранее любил, этого французско-мусульманского незаконнорожденного человечка, грехопадение матери которого сейчас пытались прикрыть моим именем…
— Так что же, ты ее действительно любишь? — не дождавшись ответа, еще раз, но уже без издевки, серьезно спросил Радомир.
— Любишь — не любишь… — уклонился я от подобной постановки вопроса. — Давай оперировать иными категориями. Скажем так: я просто не могу ее бросить.
Радомир поднял свой стаканчик, слегка звякнул им по моему. Я поднял свой, опрокинул его в рот.
Что-то меня повело от выпитого. Захотелось спать. Вроде бы выспался…
Радомир это заметил, усмехнулся. Отставил свой стаканчик и вдруг заговорил быстро, торопливо, стараясь успеть выговориться.
— Ну а теперь, Костя, слушай и не перебивай меня… Знаешь, бывают моменты, когда приходится поступать против совести, а повинуясь разуму… Сейчас у меня такое же положение… Я, Костя, тебе верю. Однако это только эмоции, а все факты говорят против тебя. Поэтому мы решили тебе помочь. Причем так, чтобы тебя потом не мучила совесть. Ты, Костя, сейчас уснешь, мы тебе подсыпали снотворное… Не перебивай, я же тебя просил, у нас слишком мало времени… Так вот, ты сейчас уснешь, а проснешься уже далеко отсюда. Дозвола на тебя уже готова. О Мириам мы позаботимся, о ней можешь не беспокоиться.
Мысли путались, перед глазами наплывал, колыхался, постепенно густея, туман.
— Ты предатель, Радомир, — с трудом выговорил я.
— Наверное, — его слова доносились все глуше, словно между нами вырастала стена. — Но я так делаю для твоего же блага…
— Предатель… — повторил я, хотя не уверен, что смог выговорить это слово.
Потому что именно на этом слове мое сознание окончательно оборвалось.
Часть шестая Прошлое. Гей, славяне!
1
Я так глубоко задумался, о том, как мне устроиться на предстоящие два дня, что не сразу обратил внимание на шум скандала, который возник и теперь все нарастал у меня за спиной.
— Я тебе, гнида, — неслось оттуда, щедро пересыпаемое отборным матом, — сейчас все здесь вдребезги разнесу!.. Разжирели, сволочи…
— Да мои ребята из тебя отбивную сделают!.. — не оставался в накладе второй собеседник.
Пришлось обернуться, чтобы посмотреть, в чем суть и предмет столь высокоинтеллектуального диалога.
У стойки стоял мужчина лет тридцати с небольшим. А с той стороны, набычившись, глядел на него все тот же Витек. Только теперь в нем не было видно той лености, с которой он взирал на меня. Не так уж трудно было понять, что клиент остался недоволен качеством обслуживания, а Витек выражал недовольство недовольством клиента. Поскольку меня и самого здесь встретили не слишком ласково, я, конечно, был полностью на стороне потребителя.
— Ау, спорщики! — подал я голос.
Они оба оглянулись в мою сторону.
— Витек, обслужи клиента! — внушительно сказал я. — А ты, приятель, тоже притихни и садись ко мне.
Не знаю, как бы я поступил, если бы кто-то попытался таким образом разговаривать со мной. Однако я уже убеждался, и не раз убеждался, что большинство людей приказному тону, даже постороннего человека, подчиняются без особого сопротивления. Особенно, если, как сейчас, такой приказной тон позволял разрядить обстановку.
Произнеся эту фразу, я отвернулся к своей тарелке. И подумал о том, что если они не подчинятся моей команде, я окажусь в глупейшем положении. А впрочем, кому какое дело, в каком положении я окажусь, после того, как дожую свои пельмени и уйду отсюда?
Словно в ответ на мои сомнения, по цементному полу громко и резко проскрипели ножки стула и рядом со мной плюхнулся тот мужчина.
— Ты что, хозяин этой тошниловки? — с неприкрытым вызовом спросил он.
Я от души усмехнулся:
— А я очень похож на человека, у которого есть хоть что-то?
Мужчина хмыкнул:
— Не очень.
К столику подошла девица, которая обслуживала меня и громко поставила перед моим собеседником тарелку. Тоже с пельменями, залитыми кроваво красным кетчупом.
— Это вам тут не ресторан, — сообщила она. — Так что я не обязана подавать…
— Я заплачу за обслуживание, — примирительно сказал мужчина.
Теперь он чувствовал себя обязанным мне. Сейчас он начнет что-то рассказывать или объяснять. А мне его проблемы нужны, как русалке купальник.
И не дано мне было знать в тот момент, насколько на мою судьбу повлияет эта глупая история.
…Надо сказать, вообще в судьбе не так уж редко происходит, что случайный, почти неощутимо-невесомый импульс переводит стрелки движения человека по жизни на принципиально иные рельсы. Одно время мне довелось работать на железнодорожной станции. Именно там я впервые задумался об этом.
Вот есть проложенный человеком железнодорожный путь. И есть пневматическая стрелка. К ней, к этой стрелке подходит тонкая труба, в которую под большим давлением закачивается воздух. Где-то далеко отсюда находится диспетчер, который ее, именно эту конкретную стрелку, скорее всего ни разу в глаза не видел. Он сидит за пультом, нажимает кнопку, замыкающую всего-то два тоненьких электрических проводка, где-то срабатывает реле, открывается клапан — и коротенькое дуновение воздуха переводит тяжеленные рельсы всего-то на пяток сантиметров в сторону. И этого достаточно, чтобы весь многотонный состав с сотнями пассажиров устремился в другую сторону, на запасный путь, а то и вовсе в заброшенный проржавевший тупик.
Но то — рельсы, то стрелки, которые человек не только построил и установил, но и снабдил соответствующей сигнализацией: зеленый свет светофора предписывает проследовать по основному пути с нормальной скоростью, а, скажем, два желтых рекомендуют проследовать по запасному пути со скоростью малой.
Ну а в человеческой жизни? Тут тебе нет широкой столбовой дороги, нет камня со знаками из информационной группы Правил дорожного движения, да и книжка, в которой всегда можно заглянуть в эпилог, чтобы узнать, что случилось с героем, на опасном жизненном повороте тебя не поджидает. Свою личную Книгу судеб каждый пишет только сам. Тут каждый идет своим путем, своей колеей, от каждого конкретного человека зависит, как с ней, с колеей, поступить — углубить, облагородить, попытаться срезать угол, найти собственный объезд препятствия или же сойти на обочину и сидеть под кустиком, покуривая и созерцая со стороны, как другие гробят себя в колее. Один лбом таранит преграды, стремясь прорваться к финишу, и не понимает, бедолага, что при таком способе продвижения скорее расшибешь себе лоб, чем достигнешь сияющих вершин. Другой старается упасть на хвост сильным мира сего, чтобы двигаться, подобно мудрому раку из народной сказки, взявшегося бегать наперегонки с лисой. Третий тратит время лишь на то, чтобы отыскать обходные пути…
Да, каждый понимает, что в конце жизненного пути его ждет могильный холмик. И тем не менее живет так, будто впереди у него целая вечность. И в этом и состоит высшая мудрость мыслящей протоплазмы.
…Куда-то меня не туда занесло в этих рассуждениях… О чем, бишь, я?
А, так вот, о роли случайности. Да, дороги, которые мы выбираем, в значительной степени зависят от нашего ума, интеллекта, склада характера, наклонностей, состоятельности и связей родителей и так далее. Но вряд ли кто-то станет оспаривать тот факт, что для того, чтобы жизнь у человека удалась, ему должно хоть немного повезти. От этого непереводимого ни на один другой язык мира русского понятия зависит, куда повернут рельсы судьбы каждого из нас. Точно так же, как то несильное дуновение судьбоносного ветра может повернуть человека не только к удаче и счастью, но и низвергнуть в пропасть.
Судьба! И ничего больше не скажешь.
2
Итак, говорить мне с ним вовсе не хотелось. Даже не совсем так, разговаривать мне не хотелось не только с ним, а вообще с кем бы то ни было на всем белом свете. Потому я молча принялся за свои и в самом деле подостывшие пельмени. Мужчина тоже принялся жевать, хотя время от времени косился на меня, очевидно, размышляя, с чего бы это я вдруг за него вступился и чего мне от него надо.
Какое-то время за столиком царила тишина, нарушаемая только звяканьем вилок.
— Слушай, а ты кто? — не выдержал он, спросил с видимым любопытством.
Как ответить на этот вопрос? В фильмах обычно на него отвечают с гордостью: «Человек!». И все вокруг сразу проникаются к нему уважением и почтением… Да только какой я сейчас человек?..
— Кто я такой? Зек, — буркнул я прямо. — Из «зоны» только вышел.
Он неопределенно хмыкнул. Этот нейтральный звук мог означать многое: от одобрения степени развития моего юмора до выражения искреннего сочувствия подобным вывертом моей судьбы.
Следующий вопрос меня несколько озадачил.
— Ты как, выпить хочешь?
Я покосился на него.
— Что ты имеешь в виду? — спросил у него немного настороженно.
Он опять хмыкнул.
— Только то, что спрашиваю… Я у тебя спрашиваю: ты выпить хочешь?
Хотел ли я выпить? По физиологической потребности скорее нет. А вот по моральной… Хотелось просто посидеть с каким-нибудь нормальным человеком, чтобы не бояться сказать что-то не то, чтобы он рассказывал мне простые житейские вещи: о том, что жена его не понимает, а сын шалопай-двоечник… Чтобы просто отвлечься от этой действительности, в которую я вляпался по собственной глупости и благодаря тому эфемерному импульсу, который нежданно выдунул меня из желанной жизненной колеи.
— Мне идти некуда, — неожиданно даже для себя самого сказал вдруг я случайному мужичку.
Было похоже, будто он едва ли не обрадовался.
— Ну так и пошли ко мне! — он отложил вилку и заговорил, стараясь быть убедительнее. — У меня жена с детьми уехала в деревню, дома никого…
Дома… Дома никого… Звуки — словно из позабытого прошлого… Дома никого!.. Для мужчин подобные отъезды жен с детьми нередко бывают теми желанными днями отдохновения, которых не так много отпускает жизнь. И речь при этом обычно идет не о каком-то банальном адюльтере — просто мужикам иногда нужно побыть в одиночестве. Уже через неделю он начинает тосковать по ворчанию жены и детскому шуму. Но первые три дня он просто блаженствует. Он валяется на диване с сигаретой в зубах — и никто не гонит его курить на лестницу или в туалет. Он пьет из горлышка пиво — и никто не называет его алкоголиком. Он смотри по телевизору футбол, костоломный боевик или что-то из серии «детям до 16 запрещается» — и никто не требует переключить на «мыльный» сериал или на женскую телепрограмму. Он может пригласить к себе друзей, которых жена, как правило, терпеть не может и на радостях в один вечер просадить все деньги, которые жена ему оставила на неделю. Он может отправиться на стадион или в ближайшую пивную. Он может взяться и сделать ту работу, которую откладывал до этого едва ли не годы…
У него дома — никого! И он может себе позволить вот так просто взять — и пригласить к себе первого попавшегося человека. Потому что у него есть дом, в котором сейчас никого нет.
А тут: ни дома — и никого. Слова почти одинаковые, а насколько смысл меняется.
Тот же Поэт в «зоне» любил этакие минипритчи приводить. Одна из них к данной ситуации неплохо подходила. Мол, билась рыба об лед. Делать ей было не фиг, весну почуяла, метать икру собиралась — вот и билась сдуру. А сверху об лед билась другая рыба — которую только что поймали, крючок из горла «с мясом» выдрали и она еще окоченеть не успела… Вот, вещал Поэт, насколько ситуация разная, а насколько ее проявления внешне схожи!
Эта его фраза, которая всколыхнула воспоминания, неожиданно всколыхнула раздражение.
— Ты что, парень, не понял, что я тебе сказал?.. Я только из «зоны» откинулся!..
Краем глаза я заметил какое-то движение у стойки. Там уже стояли трое. Витек и рядом с ним еще два крепких парня — явно вышибалы, которых он позвал себе на помощь.
Судя по всему, они услышали мои последние слова, которые я произнес довольно громко. Услышали — и озадаченно переглянулись. Судя по всему, с «крутыми» им связываться не хотелось.
— Чего ты шумишь? — не понял мою вспышку мужчина. — Ну зек, ну из «зоны»… А орать-то зачем? Что, мало там ни за что сидело?
Теперь я обращался не столько к нему, сколько к тем мордоворотам, которые, судя по всему, пришли вышвырнуть нас отсюда, а то и карманы вывернуть по пути и по мордам настучать… Однако теперь, после услышанного, не знали как поступить.
— Ни за что? — раздражение прошло, однако я по-прежнему говорил с подчеркнутым вызовом. — Кто тебе сказал, что ни за что? Я по сто второй сидел, за «мокруху» без смягчающих… Годится?
В подобной ситуации все люди поступили бы по-разному. Мой собеседник на дополнительную информацию отреагировал столь же спокойно.
— Но меня-то ты убивать не собираешься?
Что и говорить, нервы у него ничего, нормальные: ни одного боязливого взгляда.
— На кой черт ты мне нужен? — пожал я плечами.
Он кивнул с явным удовлетворением.
— Ну вот и ладно. Пошли…
И я… подчинился. Чего ж это ты так? — съехидничал голос изнутри. Привык подчиняться, самостоятельность свою хваленую подрастерял?.. Так ведь все равно податься некуда, огрызнулся я. А тут вроде мужик ничего, хоть переночую у него. А то может и следующую ночь, быть может, тоже… Внутренний голос раздраженно умолк. Потому что я был прав. И в то же время противоречие осталось, я очень не люблю, когда мной командуют.
Впрочем, успокаивал я себя, если в подобной ситуации поступил, повинуясь голосу разума, а не самолюбия, это еще ни о чем не говорит. И это вовсе не значит, что этому человеку и впредь удастся так просто командовать мной. Я всегда смогу вывернуться из-под его влияния, если только почувствую, что он перешел некую грань, за которой мое уязвленное самолюбие взбунтуется. Короче говоря, будем решать проблемы по мере их поступления. Этого принципа я свято придерживался всегда. Ладно, сделаю сноску: стараюсь придерживаться по мере возможности. Планы, по-моему, нужно строить лишь на проведение конкретной акции, когда ты полностью контролируешь ситуацию и когда нарушить твой замысел может только некий неучтенный тобой фактор. А так, в повседневной жизни, вполне достаточно всего лишь адекватно реагировать на то, как тобой вертит судьба.
Мы вышли на улицу. Мой провожатый повернул налево, оглянулся, словно бы проверив, следую ли я за ним, и спокойно пошел по тротуару. Я, хотя и чувствовал в это время себя не лучшим образом, легко догнал его и теперь с независимым видом вышагивал рядом, глубоко засунув руки в карманы брюк.
Повторюсь, уже в который раз, все это мне не слишком нравилось. И удерживало меня только два чувства. Прежде всего мне попросту нечего было делать и некуда было податься. А во-вторых, надо признаться, одолевало меня самое обыкновенное любопытство, которое, как известно, может на многое подвигнуть человека — на поиски Земли Санникова, на желание получить лишнюю премию в иерархии «стукачей» или же на подглядывание в замочную скважину к любвеобильной соседке, у которой муж ушел на ночное дежурство.
Пауза затягивалась.
— Слышь, мужик, зачем я тебе?
Ситуация и в самом деле не очень-то просчитывалась. Так вот, запросто, подобрать на улице первого попавшегося и тащить к себе домой… Я уж не говорю о том, что тащить к себе зека — просто первого попавшегося человека. Ладно, еще в какой-то степени можно понять, когда такое делают спьяну — приводят случайного знакомца, а наутро вызывают милицию и истошно орут, что мол, меня, придурка доверчивого, обокрали, а кто именно — не знаю, потому что я этого нечестного гостя впервые в жизни видел…
Однако в данном случае на подобный случай не слишком похоже, мужчина, вроде, и в самом деле не алкаш подзаборный, да и не так уж он употребивший, если уж говорить откровенно… Выглядел мой собеседник если не интеллигентно, то во всяком случае и не так, чтобы просто с улицы подбирать забулдыг.
— Говорю же тебе: жена уехала, а я один остался, — затянул он ту же песню.
Это звучало неубедительно. Если при каждом отъезде жены собирать на улице всех испытывающих жажду…
— Давай-ка, дружище, не свисти, — спокойно, без проявления раздражения, оборвал я его.
— А почему ты считаешь, что я свистю? — усмехнулся он на ходу. — Или свищу — как правильно?
Я срифмовал, как правильно. Однако он и на нецензурную рифму отреагировал спокойно. Только улыбнулся. Чем еще больше утвердил меня в моих сомнениях.
— Ты, главное, не боись, — успокоил он. — Придем ко мне — там я все объясню. И ты мне со своей сто второй тоже не больно-то страшен.
Ясно, я ему тоже зачем-то понадобился… Значит, и тут не просто вдруг вспыхнувшая любовь и желание оказать помощь заблудшему ближнему… Qvod era demonstrandum. Что и требовалось доказать.
Но по какой именно причине он может испытать ко мне интерес? Еще что-то совершить эдакое? Но ведь он совсем меня не знает, чтобы довериться…
Вот уж воистину, деньги к деньгам, приключения — к приключениям!
Ладно, все это лирика и мистика. Лучше нужно попытаться определить, когда именно, в какой момент он проявил ко мне интерес. Тогда имеется шанс заранее вычислить причину, по которой он меня тащит к себе. Итак… Когда он начал скандалить? Исключено — большинство нормальных людей, услышав скандал, попросту отвернутся и сделают вид, что ничего не видят и не слышат, так что рассчитывать на знакомство со мной таким образом по меньшей мере неумно… Когда я за него вступился?.. Тоже нет, в тот момент он не обратил на меня внимания… А может быть обратил, но так, что я этого не заметил?.. Но какой в этом смысл? Когда питались вместе сомнительными пельменями?.. Тоже нет.
Погоди-ка! В моей голове вдруг вспыхнуло вполне отчетливо: он по-настоящему обратил на меня внимание, когда я сказал, что зек! И после этого он начал настойчиво меня приглашать к себе… Погоди, даже не совсем так. ОН ВЦЕПИЛСЯ В МЕНЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УСЛЫШАЛ, ЧТО МНЕ НЕКУДА ИДТИ!
Значит… Значит, ему нужен кто-то, КОМУ НЕКУДА ИДТИ! Значит, он и в самом деле хочет мне что-то предложить.
И мне стало тоскливо. Прав был Корифей: теперь на мне навсегда стоит клеймо!
3
Загадочный мужик, как оказалось, жил совсем недалеко от злополучного кафе. Нам даже не пришлось ехать ни на каком транспорте — пройдя два квартала, мы повернули под мрачную облупившуюся арку, со двора вошли в какой-то подъезд старого дома, которых немало еще в столице. Здесь, как то и положено в центре Москвы, ароматизировало котами, кобелями и мужчинами, которые не знали, где поблизости имеется туалет. Прилепившийся к наружной стене старенький скрипучий лифт потащил нас вверх сквозь пропыленную шахту.
— Нам какой этаж?
Этот вопрос я задал просто так, только для того, чтобы хоть как-то нарушить гнетущую тишину. За всю дорогу, пока мы шли, мой провожатый вообще ни разу не подал голос.
— Шестой, — ответил он. — А что?
— Да просто так, — пожал я плечами.
Квартира, в которой он обитал, когда-то давно, до тех десяти дней, которые потрясли мир, была буржуйски огромной, потом, скорее всего, стала коммунальной, а теперь, разгороженная надвое, принадлежала разным хозяевам. Таких квартир тоже по-прежнему немало в центре столицы, в домах столетней давности. Попали мы в нее через огромную высоченную дверь.
— Проходи, — пропустил хозяин меня вперед.
Длинный коридор, в который я попал, далеко впереди упирался к глухую стену. Такая же глухая стена окаймляла его и справа. Зато слева тянулся ряд дверей. Бестолково, некрасиво, неудобно… Зато свое, — подал реплику внутренний голос. Что верно, то верно, зато свое, — согласился и я. Крыша над головой, родные стены…
— Не разувайся, — остановил меня хозяин. — У нас это не принято.
Что ж, меня это устраивало.
— Пошли сразу на кухню, — пригласил он. — Сообразим что-нибудь насчет закусить.
Естественно, куда же еще русский мужик позовет приятеля? Только на кухню…
— Тебя как зовут? — поинтересовался я, пытаясь на глаз определить, за какой из дверей скрывается помещение, служащее у нас кухней, столовой и клубом одновременно.
Хозяин не ответил, прошел вперед, раскрыл створку, кивнул мне и исчез за ней.
Я вошел туда же. Уселся за столик и какое-то время молча наблюдал, как он доставал из холодильника колбасу, сыр, банку консервов…
— Так как же тебя зовут-то? — напомнил я хозяину о своем существовании.
Мужчина покосился на меня, потом оперся руками в стол и в упор уставился на меня.
— А ты что же, совсем меня не узнаешь, Константин Васильевич?
Вот те новости! Оказывается, мы знакомы?
— Не узнаю, — пришлось признаться.
Хотя теперь, после этих слов, и в самом деле почудилось мне в его лице, или в его глазах что-то знакомое. Да, теперь я определенно видел, что мы когда-то встречались. Но только где и когда?
Хозяин квартиры не обиделся, отреагировал на мою забывчивость вполне спокойно.
— Еще бы, — кивнул он. — Сколько лет прошло… Я — Шустиков, Константин, Саша Шустиков. Теперь признал?
Сказать, что я все вспомнил мгновенно, было бы сказать неправду. Я вспоминал постепенно, отдельные детали прошлого всплывали в голове то по одной, то целыми гроздьями — но только происходило это постепенно.
— Вон где довелось встретиться…
Сказанная мной фраза звучала глупо. Одно успокаивало: в подобных случаях большинство фраз звучит немногим умнее. «Сколько лет, сколько зим», «как тесен мир!», или «где же тебя носило все эти годы?» тоже не отличаются большой оригинальностью.
Между тем Саша уже выставил на стол бутылку.
— Ты как, употребляешь?
— А почему бы и нет?
— Ну, нет, так нет, — усмехнулся Шустиков.
Я тоже усмехнулся этой давно забытой шутке. Она была из репертуара моего старинного приятеля, Сереги Прыганова. И теперь, услышав эти слова, я почувствовал, как на меня откуда-то издалека дохнуло ностальгической волной. Снова надо мной висели крупные южные звезды, густо облепившие бездонный бархатный небосклон. Я тогда впервые услыхал слова из Корана «Клянусь звездой, упавшей с небосклона» или, другой вариант, «скатившейся с небес»… Я тогда еще думал, любуясь южным звездным небом, о том, что ТАКОЙ звездой, упавшей с ТАКОГО небосклона и в самом деле не грех поклясться.
Я вновь был там, в Афганистане, в кровавой кутерьме на окраине Герата. Я снова видел, как, окутавшись черным шлейфом солярного дыма, содрогнулся всем своим угловатым телом могучий БТР, налетевший на фугас. Как бросился спасать оглушенных пацанов Володька Кошелев. Слышал отборный мат, который доносился из эфира — это требовал помощи командир батальона, попавшего в окружение…
Сашка Шустиков что-то мне говорил. Кажется, я ему что-то отвечал. А сам был уже там, в своих воспоминаниях.
4
Задача, которую тогда перед нами поставили, была предельно проста. Вернее, чуть-чуть не так: задача ВЫГЛЯДЕЛА предельно простой. Формулировалась она примерно так: нужно было на своих боевых машинах прорваться в один из районов Герата и обеспечить возможность «зеленым» прочесать этот район на предмет наличия здесь душманов.
«Зеленые» — это афганские солдаты, которых мы так называли за цвет формы. Вернее, не так, местные сорбозы (солдаты) носили форму из серого шинельного сукна, а зеленое обмундирование было у их спецназа, однако мы привычно валили их всех в одну кучу и обобщенно именовали «зелеными». Правда, бытовало среди наших солдат, да и офицеров тоже, и другое обобщенное прозвище всех сорбозов — «мартышки» — однако я его не признавал. Я не признаю и не принимаю национализм и уж подавно расизм ни в каком их проявлении.
В подобных совместных операциях нам доводилось принимать участие и раньше. При этом мы прекрасно видели, что простые сорбозы в основном занимались только тем, что грабили своих же земляков и тащили все подряд — и только афганский спецназ мог хоть в какой-то степени считаться боевым подразделением. В отличие от тех же моджахедов, которых мы в те времена иначе как душманами или «духами» не звали, и которые и в самом деле являли собой грозную силу.
…Итак, мы должны были прорваться с юго-запада Герата в район Кандагарского рынка. И именно с момента, когда я получал задачу, начался новый для меня отсчет времени. Только об этом мне еще знать было не дано. И если бы я знал, если бы мог хоть в малейшей степени предположить, какой зигзаг начинает выписывать кривая моей жизни, даже не знаю, что бы я тогда сделал.
— Тебе все ясно?
Мой непосредственный командир, капитан Владислав Вологодский, глядел на меня требовательно, жестко. Под таким взглядом больше всего хочется вытянуться, козырнуть и бодро отрапортовать: «Так точно, все!» Однако мне озвученный им план решительно не нравился.
— Никак нет!
Такое в армии случается нечасто. Боевой приказ — дело святое, с ним спорить нельзя.
— И что же тебе тут непонятно?
Я попытался объяснить, показывая на разложенном полотне склеенной карты.
— Это тот самый случай, о котором говорят: «рассчитали на бумаге, позабыли про овраги»…
— Что ты имеешь в виду?
Владислав глядел на меня с прищуром, нехорошо глядел. А я, избегая его взгляда, старался смотреть только на красную, красиво оттененную, стрелу, которая пронзала беспорядочно разбросанные черные и коричневые пятнышки, перемеживающиеся зелеными островками и голубенькими жилочками, и утыкалась в то место, которое именуется Кандагарским рынком. Такие стрелы на карте рисуются карандашом и фломастером — в жизни, на земле, они окрашиваются алой кровью, бордовыми языками пламени, а оттеняются пылью разрывов и чадными шлейфами горящей солярки и резины колес.
— Вот смотри, — пытался я разъяснить суть ошибки, которую, на мой взгляд, допускал командир. — Тут ведь улочки узенькие, вдоль них — трехметровые дувалы. У меня тут всю технику пожгут… К тому же улочки все кривые, арыки… А на «зеленых» сам знаешь, какая надежда.
Владислав снизошел, хотя мог этого не делать. Он начал спорить, доказывать свою правоту.
— Ты все правильно говоришь, Костя, только упускаешь один момент. Суть в том, что прорыв начинается внезапно, неожиданно для «духов». Тебя прикрывает авиация, поддерживают танки и артиллерия… Пока душманы опомнятся, пока разберутся что к чему, пока изготовятся к бою, ты уже будешь на месте. Ну а там вся инициатива уже будет принадлежать тебе. Захватишь окрестные дома, займешь круговую оборону, артнаводчик и авианаводчик обеспечат тебе прикрытие — и сиди, покуривай, пока «зеленые» будут делать свое дело… Тогда тебе уже сам черт не страшен!.. Ты не дрейфь, Костя, все будет тип-топ.
Я в этом сомневался. Однако спорить не стал. Хотя бы уже потому, что видел на карте с красиво нарисованным решением, утверждающую резолюцию большого начальника. Значит, спорить сейчас равнялось плевку против ветра. Или пустому сотрясению воздуха. В конце концов, задача, которую предстояло выполнить моему подразделению, являлась частью общего замысла всей операции. А в таких случаях в голове военного человека всегда появляется спасительно-успокоительная мысль: наверно, есть в этом грандиозном плане еще что-то, чего ты, с высоты своих погон с мелкими звездочками просто не знаешь, не можешь знать…
— Разрешите выполнять?
— Действуй!
…Все пошло кувырком буквально с первых минут боя. Кто в том виноват — не мне судить. Говорят, потом в вышестоящих штабах тщательно разбирались, почему так произошло, якобы проанализировали допущенные просчеты… Во всяком случае, подобных потерь больше в дивизии больше не было, так что, наверное, и в самом деле в ошибках разобрались.
Только нам-то, зажатым в тот день в теснине улочек на окраине Герата, было от осознания, что из наших смертей будут сделаны должные выводы, легче не становилось!
Скорее всего, впоследствии рассуждали мы, утечка информации произошла от союзничков — среди них предателей и «перевертышей» было немало.
Как бы то ни было, втянуться в лабиринт улиц нам позволили без особых помех. А потом произошло то, что в подобной ситуации и должно было произойти. Рвущиеся впереди танки напоролись на мины, после чего идущая за ними бронированная техника оказалась блокированной и беспомощной. А на нас со всех сторон обрушился ураганный огонь безоткатных орудий, гранатометов, не говоря уже о стрелковом оружии. И тут же стало ясно, что в самом изначальном замысле боя была допущена ошибка. Потому что в подобных случаях обязательно необходимо фаланговая поддержка пехоты, которая бы продвигалась дворами и домами, вытесняя снайперов и гранатометчиков противника.
Короче говоря, моя рота скоро напрочь потеряла боевую связь с другими подразделениями. Более того, боевые машины вынуждены были действовать каждая самостоятельно, превратившись в автономные боевые единицы.
Бронетранспортер, в котором находился я, неожиданно оказался на небольшой площади, на которой сходилось несколько кривых улиц. Вокруг дым, пыль, разрывы… Эфир клокочет приказами, докладами, призывами о помощи — и матом, матом, матом…
Рваться дальше было бессмысленно — только людей гробить. Надо было отходить, причем отходить немедленно. И отходить всем, потому что каждый, кто тут отстанет, оказывается обреченным.
— «Буревестник», я «Ласточка», — орал и я, внося свою лепту в какофонию эфирного бедлама. — «Буревестник», ответь «Ласточке»!
— Я «Буревестник», — донесся наконец металлический голос. — Доложи, где ты находишься?
Я объяснил где.
— Успокойся, всем тяжело, — услышал в ответ. — Объясни четко, где ты застрял.
А как я ему мог четко объяснить? И даже не потому, что я не разбираюсь в карте, я в ней, в карте, как раз разбираюсь очень неплохо — просто тут, в такой обстановке невозможно четко определить место своего расположения. Немыслимое нагромождение дувалов, каких-то глинобитных построек, арыков — и клубы дыма и пыли вокруг, плотно заволакивающие небо. Я назвал в эфир квадрат.
— Дальше по «улитке» не то три, не то девять.
— Понял. Ты, «Ласточка», дальше всех залетел… Ладно, держись, будем вытаскивать… Сейчас в твою сторону пойдут «вертушки», обозначься дымами.
О Боже! Какими дымами себя обозначишь, если вокруг такое творится! Какие сюда могут сунутся вертолеты, если из каждого двора может в из сторону сорваться «стингер» или «поработать» ДШК?..
Впрочем, все это у меня мелькнуло в голове лишь мимоходом. Нужно было спасать оставшихся людей, принимать меры к обороне.
Такого жуткого боя в моей биографии еще не было. Чтобы рассказать о нем, нужно быть Бондаревым. Поэтому только несколько эпизодов.
Бронетранспортер, в котором находилось отделение, командовал младший сержант Шиманский, следовал, как ему и было предписано, за танком. Вытоптанная, выжженная земля от гусениц танка вздымалась за его кормой, густо заволакивала триплексы приборов наблюдения БТРа.
Мины взорвались почти одновременно — одна разворотила гусеницу танка, другая с корнем вырвала колесо бронетранспортера. Замечу для непосвященных, что БТР так устроен, что даже если он лишится трех колес, все равно сможет самостоятельно двигаться — при условии, конечно, что колеса будут сорваны не соседние. Так что боевая машина еще попыталась вырваться из западни. Но тут ее корпус сотряс жуткой силы удар. И мгновенно умолк крупнокалиберный пулемет, который размеренно выстукивал короткие очереди.
— Огонь! — орал Шиманский.
Однако пулемет продолжал молчать. Командир обернулся. И ему, уже успевшему много чего повидать на этой войне, стало жутко.
Сорванная из гнезда угодившим в нее снарядом башенка бронетранспортера чудовищными клещами зажала голову пулеметчика. И теперь его тело в потрепанном комбинезоне, с неестественно обвисшими руками безжизненно висело в полумраке за спиной командира.
Корпус машины потряс еще один удар.
— Еще мину «поймали», — послышался крик водителя.
— Как машина? — это командира интересовало больше всего.
— Пока тянет…
Это были последние слова водителя. Новый взрыв потряс БТР. Взвизгнув, разом умолкли оба двигателя. Водитель черным ребристым шлемом упал на Шиманского. Из кровавого месива изумленно смотрел на командира уже мертвый глаз.
Сержант оттолкнул тело убитого, попытался завести машину, увести ее из-под кинжального огня. Ухватился за обруч руля. И тут же понял, что все бесполезно — руль провернулся неестественно легко, было слышно, как где-то под днищем рассыпался подшипник.
— К машине!
Теперь нужно было срочно покинуть спасительную до сих пор броню, которая в одно мгновение превратилась в стенки гроба.
По тому, как сзади дохнуло горячим, но более свежим, чем прокисший пороховыми газами, воздухом, по тому, что громче загремела густая стрельба, стало ясно, что сзади раскрыли десантный люк. Шиманский не рискнул выбираться через верхний люк, начал пробираться в салон. По пути задел еще теплое тело пулеметчика. Оно откачнулось.
Под колеса их выбралось только четверо.
— Будем биться, ребята! Нас не оставят.
…Их и не оставили бы. Если бы знали, где они находятся, если бы знали, что они еще отбиваются, если бы знали, в каком колене проулочка их искать. Весь бой практически распался на такие вот отдельные очажки обороны, а пробившиеся нам на помощь подразделения просто собирали всех, кому посчастливилось оказаться у них на пути. Потому что сориентироваться в какофонии боя возможности просто не было…
Они вчетвером отбивались, пока хватило патронов. А душманы на рожон особенно не лезли, не высовывались, словно выжидали чего-то.
— В плен хотят взять! — догадался Шиманский. — В плен не сдаваться!
Для русского солдата плен всегда был позором. Но в данном случае не одна лишь моральная сторона заботила солдат. Это сегодня мы знаем, что отнюдь не всех пленных казнили лютой казнью. А тогда достоянием гласности становились другие случаи, когда советские солдаты подвергались нечеловеческим мукам лишь за то, что их кто-то неизвестно за что отправил воевать на чужую землю.
Надо сказать, Восток дело не только тонкое — это дело еще и утонченно жестокое. Вырезать живому человеку звезду на груди или на лбу, поотрубать руки и ноги, выпотрошить живот и набить его землей — не дай Бог кому бы то ни было такой смерти. Как-то под Кабулом по глупости в плен попали два десятка наших военных строителей. Душманы соорудили из них жуткую гирлянду — по очереди нанизывали солдат на длинный, остро отточенный металлический прут. Невозможно даже представить себе тот ужас, который испытывал последний человек, который видел, какая участь постигает его товарищей. И таких примеров можно приводить еще немало.
…Патроны таки кончились. И командир приказал:
— Всем застрелиться!
Они сползлись под колесами, обнялись. Попрощались. И каждый выстрелил в себя. Последним стрелялся командир отделения младший сержант Шиманский.
К ним пробились-таки. Бой к тому времени уже утих, трупы солдат лежали возле бронетранспортера — их вытащили душманы. Только тут гранатометчик Гиви Бачиашвили заметил, что у одного из них из раны чуть сочится живая кровь.
Фамилия того солдата была Теплюк. От него мы и узнали о последнем бое экипажа. Назову фамилии этих ребят: Шиманский, Сангов, Ткачук, Тешабаев, Толмачев. Много позже я случайно узнал, что в том же бою погиб танкист Михаил Адольфович Аразашвили — будем считать, что именно он вел свой танк впереди этого бронетранспортера.
…Спас нашу роту не Владислав Вологодский, не вертолетчики и не артиллеристы. Совершенно случайно к нам на выручку прорвался пропагандист нашего полка, Володька Кошелев. Я его не любил, не любил за браваду, за показную бесшабашную смелость, за то, что вечно лез, куда не надо… Но больше всего не любил я его за невероятную везучесть. Тут к бою готовишься, карты-приказы изучаешь… А он один, с небольшой группой солдат совершал такое, что не вписывалось ни в какие рамки. Рядом с ним практически никогда не было потерь. Солдаты его обожали, готовы были с ним идти в огонь и в воду… Как-то был случай, когда прямо рядом с ним шлепнулась минометная мина — и не взорвалась. Другой раз взорвалась, и его посекла, правда, несильно — так он пошел вечером в баню и там начал осколки пинцетом выковыривать из-под кожи.
Наверное, я ему даже завидовал. За везение его, за бесшабашность. За умение быть всегда там, где нужно. За то, в конце концов, что именно он написал известную «Эпитафию на могилу неизвестному солдату, павшему в Афганистане».
«Средь гор, пустынь афганских, зноя Мое лежало поле боя. Что, не за Родину я пал? Но чей приказ я выполнял? Погибших за Мадрид, на Шипке, Их не винят в чужой ошибке. И знаю я: Отчизна-мать Не будет на меня пенять.»…Так вот, прорвался на выручку моей роте именно он. С того направления, где, казалось, наших просто не может оказаться. И умудрился приволочь прорву боеприпасов.
— Ну что, ты как? — из-под черных усов на сером грязном лице белели влажные зубы.
— Как видишь.
Он кивнул: вижу, мол.
— Прорываться нужно.
— Теперь патроны есть — прорвемся.
Сильно потрепанная рота теперь и в самом деле смогла бы прорваться. Боеприпасов подбросили, Володька привел группу таких же отчаянных чертей, как и сам. А кроме того, он знал последнюю информацию, где находятся наши, как обстановка складывается вокруг. Это очень плохо — во время боя не знать обстановки в целом. А по рации много ли узнаешь, да еще в таком бедламе?
…Короче говоря, мы прорвались. Уж о потерях умолчу. Но прорвались. И первым делом бросились к воде…
Потом я, размазав грязь по лицу, предстал пред ясны очи капитана Вологодского.
— Пошли, — кивнул он мне на штабную палатку. — Доложишь все подробно.
Мы, наверное, странно смотрелись рядом: он весь подтянутый, чистенький, сияющий белизной аккуратно подшитого подворотничка — и я, прокопченный, уставший, в пыли и в грязи, с пятнами засохшей крови на обмундировании, к счастью, чужой… Впрочем, почему к счастью — к счастью было бы вообще без крови.
— Пошли, — процедил я ему. — Но прежде чем мы туда пойдем, я тебе скажу, сволочь: когда вся эта бойня закончится, я подам официальный рапорт, что я тебя лично до боя предупреждал, чем все это закончится.
Вологодский такого не ожидал.
— Какой рапорт? — опешил он.
— Обыкновенный, на бумаге, — зло разъяснил я. — В трех экземплярах. По команде, в особый отдел и в прокуратуру. Понял?
Растерявшись, он попытался оправдаться:
— Так ведь, Костя…
Однако я не дал развить ему мысль. Резко оборвал:
— Я тебе больше не Костя!
На какие-то мгновения между нами зависла напряженная пауза.
— Ну хорошо, — наконец он оправился от растерянности, и теперь глядел на меня зло, с прищуром. — Но только учти два обстоятельства: план был утвержден свыше. И второе: ты не отказался его выполнять.
— Да, ты прав, я не отказался его выполнять, — я сплюнул на жесткую землю коричневую слюну — после таких приключений пыль долго еще сидит во рту и в носу. — А потому я согласен сидеть рядом с тобой на скамье подсудимых.
Он больше не тянул меня в палатку. Постоял немного, размышляя об услышанном.
— Ладно, степень вины каждого потом будем определять, — мне показалось, что он это сказал примирительно. — Ты еще не все знаешь.
Эти слова заставили меня насторожиться.
— Что еще стряслось?
Он ответил не сразу. Тогда я думал, что он не решается мне сказать что-то очень важное для меня. Только потом понял, что он в этот момент лихорадочно соображал, как бы обезопасить себя от моей угрозы.
Наконец он поднял на меня глаза.
— Любаша тяжело ранена.
— Что???
— Любаша тяжело ранена, — как автомат повторил Владислав.
Только не это!
— Как? Где?..
Он торопливо проговорил:
— Она за ранеными приезжала, а по «таблетке» снаряд попал…
Я стоял ошеломленный. Люба… Любаша… Ранена.
Владислав между тем торопливо договаривал:
— Она очень тяжелая. В памяти, сознания не теряет, мучается страшно… Тебя все время зовет. Ее вот-вот в Союз должны отправить… Только вряд ли довезут, Анатолий так говорит…
Увозят… Вряд ли довезут… Прапорщик Анатолий Дьячук, наш фельдшер, человек опытный, если уж он так говорит…
— Что же делать?..
Он словно ждал этих слов.
— Вон бери мой «бэтр» — и мчись к ней. Прямо по руслу… Возьми с собой кого-нибудь для охраны.
Какая тут охрана, если Любаша… Ребята только что из самого пекла! Словно и не было усталости после восьмичасового боя. Я с разбега вскочил на пыльную броню и рявкнул в распахнутый жаркий люк:
— Вперед, в полк!
Водитель выглянул, удивленно уставился на меня.
— Товарищ старший лейтенант…
— Я сказал: вперед!
Солдат есть солдат: если на него орет офицер — значит надо подчиниться. Это только штабные писаря, да разжиревшие на складах хлеборезы да еще каптенармусы могут возразить — боевой солдат верит своему командиру.
Лучше бы он мне не поверил, тот парнишка, имени которого я так и не узнал.
Взревели двигатели. В их шум вплелся еще какой-то звук. Я оглянулся. Рядом держался за ручку Сашка Шустиков, рядовой солдат моей роты.
— Товарищ старший лейтенант, вы куда?
— В полк.
Он глядел изумленно:
— А как же мы?
В самом деле, подразделение без командира оставлять нельзя ни при каких обстоятельствах.
— Передай заместителю: он за меня! Я туда и сразу обратно. До того почистить оружие, привести себя в порядок, дополучить боеприпасы… В общем, все по полному профилю. Приеду — проверю, а потом, скорее всего, опять в бой.
— Есть!
Шустиков спрыгнул на землю. БТР сорвался с места.
Взвившаяся из-под колес пыль мгновенно скрыла оставшихся сзади солдат.
…Любаша ранена. Чудесная девушка. Санитарка из госпиталя.
Непонятно, чего это ее вдруг в район боевых отправили? Обычно этим занимаются мужчины. Тем более, она санитарка в кардиологическом отделении… Наверное, рук не хватает, вон сколько раненых.
Там, в Афгане у многих офицеров были временные жены. Случалось, ради них разводились с теми, кто их ждал (а нередко и не слишком-то ждал) в Союзе… Ну да это неважно, это личное дело каждого.
Большинство женщин туда приезжало в стремлении устроить личную жизнь в условиях, где острая нехватка женского контингента могла компенсировать их личную неустроенность. Ну а если не удавалось устроить личную жизнь, что удавалось далеко не каждой из приехавших, то уж хоть там пожить в свое удовольствие. Я лично знал несколько женщин, которые всеми правдами и неправдами оставались в Афгане по два, а то и три срока.
Но были и другие — как та же Любаша, например. Она даже здесь, в условиях, когда вокруг каждой юбки роем мотыльков вились холостяки, псевдохолостяки, а также опытные ловеласы-сердцееды, даже тут она умудрялась сохранять чистоту. Нет, она не была мымрой и синим чулком. Просто она умудрилась сохранить светлый и немного наивный взгляд на положение вещей. К ней просто не прилипало ничего плохого. В ее присутствии приумолкали сальности и непристойности, старались не рассказывать анекдоты с «картинками».
Остальные женщины ее ненавидели. Хотя бы уже потому, что к ней относились как к Женщине, а к ним в лучшем случае как просто к женщине.
Любаша к большинству мужчин относилась ровно, спокойно и благожелательно. Выделяла всего двоих: меня и — Влада Вологодского. Меня, как я понимаю, потому что чувствовала, что я в нее по-настоящему влюблен, не стремлюсь поскорее уложить ее в постель, потому что относился к ней с восторженным юношеским преклонением, хотя и миновал уже возраст, когда юноши считают, что каждая женщина рождается едва ли из морской пены — а кому из женского пола такое отношение не понравится? Ну а Владислав… Ладно, это ее дело: просто выделяла его и все. Так, к слову, ради реплики: он был холост, что было доподлинно известно, у него была квартира в большом городе и в Афганистан он приехал с целью заработать себе боевой орден и отметку в личном деле, считая и уверяя всех, что потом его карьера будет обеспечена. Очень не хотелось мне верить, что Любаша в своих симпатиях делает поправку на все эти факторы, да только, увы, уже тогда мне в голову приходило понимание, что любая женщина не лишена меркантилизма.
Тогда, в молодости, я осуждал это качество. Теперь отношусь к нему более спокойно. В конце концов, живем мы один только раз, и потому каждому хочется прожить и дожить в достатке.
…Обо всем этом я думал, когда мой БТР мчался по пойме реки Герируд. Где-то там, много ниже по течению, она вырвется из горных теснин, распадется, переименовавшись в Теджен, на множество рукавов и постепенно завершит свое существование в пустыне Кара-кум. А здесь бег ее стремителен, множество переплетающихся русел стиснуты густыми зарослями. Позади остались разрушенные арки старого моста, а впереди через реку перекинулся новый мост. Домчаться до него, выбраться на трассу, обсаженную рядами пышных деревьев, оставить справа черный клык одинокой скалы, впившейся в небо — ну а там уже будет совсем рукой подать до полка. Может быть, еще застану Любашу на месте…
Вспышку увидеть я успел, а вот грохот взрыва не услышал и удар не почувствовал. Я просто выпал из привычного измерения.
5
Первое, что я почувствовал, когда начал приходить в себя, это запах. Не солярный или горело-резиновый, ощутить который было бы естественней всего, не больничный, что тоже можно было бы понять, а какой-то неописуемо садово-одуряюще-вкусный.
Первое, что я услышал, когда обрел возможность слышать, это был не треск продолжающегося боя, не грохот рвущихся боеприпасов, что было бы естественней всего, не привычный русский мат или гортанные голоса афганцев, что тоже было бы понять, даже не отрывистые фразы врача и звяканье медицинской нержавейки — вместо этого доносились шелест листвы, стрекот цикад и щебетанье птиц.
Первое, что я ощутил, когда вернулась способность осязать, это не раскаленная броня БТРа, не грубый щебень, на который меня должно было бы сбросить после взрыва, не грубо обыскивающие руки душмана или ласково-опытные врача — вместо этого встретило ласковое дуновение прохладного влажного ветерка.
Все было не так, как должно было быть. Это нужно было как-то объяснить.
Однако глаза я открыл не сразу. Мне было так хорошо, так ласково, так покойно… И так не хотелось, чтобы в этот покой еще что-то врывалось. Даже если это будет лучик света.
Мелькнула нелепая мысль, что так покойно может быть только в раю.
Наверное, это была просто слабость, причем, слабость не духовная, а телесная. Только тогда я об этом не знал. Целых несколько мгновений мне было просто хорошо.
А потом вдруг резко, словно поворотом тумблера, включились воспоминания. И мгновенно вспучились вопросы, требуя мгновенного ответа.
Где я? Что со мной? И я мгновенно вскинул веки. Я лежал в больничной палате. Это понял сразу — у них всегда настолько специфичный вид, что его ни с чем не перепутаешь. Стены комнаты были выкрашены масляной синей краской. Беленый потолок был кое-где заляпан пятнами раздавленных мух и комаров.
Я лежал на кровати, стоящей под окном с настежь распахнутой створкой, слегка, до пояса прикрытый простыней. За затянутым густой сеткой проемом разбрасывал листьями солнечные блики густой сад, сквозь зелень которого ярко голубело небо.
Я лежал на туго крахмальном белье, а рядом увидел тумбочку, на которой в вазочке небрежно и в то же время щедро, ворохом, торчала охапка цветов.
Стало ясно, что, во-первых, я в госпитале, во-вторых, не в Афганистане, в-третьих, я, по всей видимости, жив. Оставалось неясно, во-первых, что со мной произошло, во-вторых, в какой степени я ранен и не отрезали ли у меня что-нибудь, в-третьих, что же с Любашей. Сальдо не в пользу ответов.
Хватит лежать! Пора дать ответы на все вопросы! Начнем по порядку. Первым делом я попытался пошевелить пальцами рук и ног.
С облегчением вздохнул — все действовало, ничто нигде не болело. Значит, можно сделать то, чего я, признаюсь, ужасно боялся. Я поднял голову и посмотрел на свое вытянувшееся тело. Руки поверх простыни, ноги под материей хорошо просматриваются. Значит, будем жить!
Кряхтя, я попытался приподняться. Тело слушалось, хотя тут же закружилась голова. Сколько же это я пролежал? И где же все-таки я?
Вспомнился невпопад рассказ о том, что якобы где-то в горах в Пянджшерском ущелье в пещерах нашли большой госпиталь, в котором иностранные врачи обучали афганских коллег делать операции по ампутации конечностей. Обучали на наших пленных солдатах и офицерах. Якобы когда в те прекрасно оборудованные пещеры ворвались наши десантники, там на койках лежали только изуродованные обрубки людей — без рук, без ног, а то и без языков… Они лежали — и единственное, чем могли выразить свои чувства — так только слезами…
Нет, этого со мной не произошло, — испугался я. Я жив-здоров, руки-ноги на месте, язык… Я высунул язык. На месте.
Надо ж было такому случиться, чтобы именно в этот момент в палату вошла смуглая девушка в белом больничном халате. И почему-то сразу угадала, почему пациент сидел с высунутым языком, хотя я его и втянул тут же на место.
— Что, языком любуетесь? — засмеялась она негромко. — За те слова, которые вы кричали в беспамятстве, вам бы его и в самом деле не мешало бы укоротить.
Говорила она по-русски правильно и четко, хотя с едва заметным акцентом. Правда, каким именно акцентом, я не понял.
Я торопливо поправил на себе простынку. Она снова засмеялась, но на этот раз ничего не сказала. А могла бы — пока я был без сознания, она меня всего, наверное, не раз созерцала. Да и не только меня. В этом отношении у них, хирургических сестер, стриптиз, небось, каждый день. Причем, не только стриптиз — физиология человека, даже находящегося без сознания, функционирует исправно и регулярно выводит из организма отработанные продукты, так что сестрам приходится еще обслуживать пациентов…
— Как вы себя чувствуете?
Она подошла ко мне, привычно коснулась лба, определяя температуру. Ладошка была мягкая, прохладная, тонко пахнущая чем-то приятным… Волнующая.
— Нормально, — ответил я.
У меня голос оказался какой-то хриплый, скрипучий. Я попытался откашляться, однако вместо этого из горла вырвался только какой-то клекот.
— Ничего-ничего, — успокоила она меня, присаживаясь на табуреточку. — Сейчас разговоритесь.
— Что со мной? — прохрипел я.
Мои голосовые связки никак не желали войти в согласие с языком и легкими, которые прогоняли сквозь них слишком много воздуха, причем, прогоняли неровно, толчками.
— Ничего страшного, — успокоила она меня. — Вы поступили к нам сильно контуженный, но без единой царапины. Так что переживать нет причин.
Все вы, медики, так говорите, что нет причины волноваться… Хотя с другой стороны, если ни одной царапины…
— А внутри ничего не отбил?
Мне показалось или в самом деле, у нее дрогнул голос и слегка вильнули в сторону глаза?
— Нет-нет, ничего.
Если она сказала правду, это и в самом деле хорошо, если что-то скрывает, спрашивать у нее все равно бесполезно. Поговорю потом с врачом, — решил я. Отдавая себе отчет, что просто оттягиваю момент, когда мне, быть может, придется узнать про себя некие неприятности.
— А где я? — это был второй по значимости вопрос, который меня интересовал.
Девушка ответила охотно, словно радуясь тому, что мы ушли от опасного поворота разговора. Или это мне только казалось?
— Вы в госпитале.
Естественно!
— Это я уже понял. Но где именно? В каком госпитале?
— В городе Кизыл-Арват.
Мне название города мало что говорило. Хотя, конечно, я кое-что слыхал о нем — здесь дислоцировалась дивизия, в которой проходили подготовку перед отправкой в Афганистан наши солдаты.
Здесь же, к слову, брал призы за отличную стрельбу из гранатомета некто рядовой Николаев, который позднее добровольно перешел на сторону душманов. Причем, не просто перешел — воевал за них, причем, воевал здорово!
Он «прославился» тем, что сначала объявлял через мегафон:
— Я начинаю стрелять!
И тогда все военнослужащие колонны бросали машины и торопились укрыться в кювете. Банда, в составе которой воевал Николаев, орудовала в местах, где как будто сама природа или дьявол постарались для оборудования идеального места для засад. Между Шиндандом и Фарахрудом на отдельных участках трассы вдоль шоссе на расстоянии метров 100–150 по несколько километров тянулись длинные ровные холмы-валы, обратные скаты которых опирались в подножья горного хребта, изрезанного глубокими ущельями. Нападающие, укрывшись здесь, становились практически неуязвимыми. Единственное, чего им следовало опасаться — если колонну сопровождал вертолет. Однако такое было далеко не всегда.
Тут-то и вел свою «охоту» Николаев. Он расстреливал боекомплект гранатометных выстрелов и объявлял, опять же, через мегафон:
— Я закончил стрелять. Счастливого пути!
Такое своеобразное благородство причиняло огромный материальный ущерб — Николаев вообще великолепно стрелял, да и промахнуться из гранатомета с расстояния в сто метров трудновато — однако люди страдали редко. Разве кто замешкается. Или отстреливаться сдуру начнет — тогда по этому «стрелку» вся банда открывала бешеный огонь. После каждого такого нападения принималось решение о непременном сопровождении каждой колонны вертолетами, Николаев на какое-то время исчезал, постепенно слишком дорогостоящее вертолетное сопровождение становилось все более редким, пока не прекращалось вообще — а потом в один прекрасный день все начиналось сначала.
На этот перевал привозили из Союза даже мать Николаева. Ее возили по шоссе и она уговаривала через длинные раструбы звукоусилительной машины:
— Сынок, одумайся, что же ты такое делаешь, против своих ведь пошел…
После этого случая он исчез. И никто не знает, куда он подевался. Поговаривали, что забрал он причитающиеся ему немалые деньги (а война ее участникам со стороны моджахедов приносила немалые доходы — достаточно сказать, что только за убитого советского офицера нищий дехканин получал премию, сопоставимую с годовым доходом, который ему давал наследственный клочок земли) и, сменив имя и фамилию, рванул на Запад. А может и прикончили его душманы потихоньку, чтобы эти самые денежки не платить — такое среди «борцов за свободу» тоже практиковалось.
…Все это вспомнилось сразу, будто где-то в голове включился некий блок памяти. Правда, это было единственное, что я вспомнил, услышав название города «Кизыл-Арват».
Короче говоря, именно там, в этом крохотном южном городке, приткнувшемся к отрогам Копет-Дага, я и лечился. К счастью, на поправку я шел быстро, у меня и в самом деле никак не сказались последствия контузии. Вскоре я уже спокойно ходил и даже голова перестала кружиться. Пропускной режим в госпитале был не Бог весть насколько жесткий, так что от нечего делать я исходил Кизыл-Арват вдоль и поперек — благо, ходить особенно далеко было некуда.
Город располагался по берегам огромного оврага. Некогда тут текла с гор речушка, потом она пересохла. И теперь по оврагу временами с ревом устремлялся в пустыню селевой поток — мутная грязная вода, которая катила с гор исполинские камни. В шестидесятых годах такой сель снес едва ли не полгорода, и после этого специальная городская коммунальная служба занималась тем, что после каждого селя чистила и углубляла овраг.
В Кизыл-Арвате в те времена стояла 58-я мотострелковая дивизия. Именно она в значительной степени определяла внешний вид и благосостояние городка. Самые современные и благоустроенные дома были построены военными и на средства Министерства обороны, военные городки были самыми зелеными и обустроенными. Это повелось еще с дореволюционных времен. В начале XX века комендантом гарнизона тут был некий прапорщик Качковский, в подчинении которого находилась инвалидная (ветеранская по-современному) команда из нескольких человек. В жаркие дни — а населенный пункт находится на краю Кара-кумов и граница сыпучий песков проходит едва ли не в десятке километров от него — он разъезжал по вверенному его попечению территории в бочке с водой, поставленной на арбу. Усилиями Качковского была построена резиденция коменданта гарнизона, где в советские времена располагался дом отдыха вагоноремонтного завода, в обиходе именуемая «качковская дача» или просто «качковка». На его территории раскинулся огромный, богатейший и бесподобно красивый розарий, устроенный все тем же прапорщиком.
…Впрочем, чего уж говорить о тех стародавних временах? Давно это было, много воды утекло. В том числе и в селях по тому оврагу… Главный итог моего пребывания в Кизыл-Арвате заключается отнюдь не в том, что я узнал о прошлом городка — а в том, что довольно случайно получил информацию, которая и повлекла за собой изменение моей жизни.
6
Я быстро шел на поправку. Однако, как оказалось, жизнь решила выписать очередное коленце. Оно, это коленце, проявилось в виде нового соседа по палате. Не появись он рядом со мной, кто знает, может быть и не произошло бы всех этих событий, быть может и покатилась бы судьба по иным рельсам.
Соседа, как и меня, доставили сюда из Афганистана, и был он тоже из нашей дивизии, хотя мы с ним и не были до того знакомы. Вернее, скорее всего не были знакомы. Звали его Сергеем. Весь в бинтах, обгоревший и иссеченный мелкими осколочками наступательной гранаты, он подолгу кашлял при разговоре пробитыми легкими, однако рассказывал, рассказывал, рассказывал…
— В Герате нам хорошо дали прос… — ругался он, временами заходясь в надсадном кашле. — Не знаю, правда ли, но говорят, что только убитых мы потеряли почти пятьдесят человек. У нас отродясь таких потерь не бывало. Разве что в Пянджшере в восемьдесят четвертом…
— А ты там был? — удивился я.
Пянджшер — зона ответственности другой дивизии и наших туда, насколько я знал, не посылали. Хотя, если говорить точнее, то ущелье являлось зоной ответственности всей группировки. Тем не менее, нашу, пятую гвардейскую, к штурмам не привлекали — слишком далеко, а у нас и без того была самая обширная территория. Однако все мы знали, насколько там были жуткие бои. Высаживаться в ущелье приходилось с вертолетов — и пока винтокрылые машины спускались в горный разлом с подоблачных высот, в них, бывало, было уже до половины десанта выбита — если, конечно, вертолет вообще достигал земли. Ни одна территория в Афганистане так щедро не полита русской кровью, как Пянджшер. «Пянджшер» в переводе значит «Пять львов». И «духи», словно оправдывая это название, и в самом деле там дрались как стая разъяренных львов — хотя львы живут не стаей, а прайдом. Помимо стратегического значения, которое имеет для Афганистана эта зажатая заоблачными горами в центре страны долина, она немыслимо богата природными ископаемыми. Пянджшер — это своего рода афганский Урал. Здесь есть, насколько я знаю, железо и уголь, уран и золото, и много еще чего из периодической системы Менделеева. А главное — тут имеются несметные залежи лучшего в мире лазурита, который ценится едва ли не дороже пресловутого золота. Ходили байки, что именно этим камнем рассчитывались душманы с Западом за оказываемую им помощь. В это верилось. А еще рассказывали, будто известный певец, который очень часто бывал в Афганистане, тоже немало вывез лазурита, который за баснословную цену продал в Гааге и именно с этого начал сколачивать свой будущий капитал.
Впрочем, слухи и сплетни — неотъемлемая часть нашей жизни. Им можно верить или не верить — невозможно их не знать.
— Так ты был в Пянджшере? — удивился я.
— Был, — коротко ответил Сергей.
Однако конкретизировать, как же он оттуда оказался в нашей пятой гвардейской, не стал. Впрочем, я и не настаивал. Мне это было не так уж интересно. Куда интереснее было узнать, что же произошло в Герате после того, как меня эвакуировали. Потому что по скупым газетным строкам вообще ничего понять было невозможно — цензура.
Впрочем, моего нового соседа по палате не было нужды уговаривать рассказывать. Он абсолютно не нуждался в собеседнике, он нуждался в слушателе. Видно, здорово накипело у парня на душе.
— Понимаешь, та операция провалилась на всех направлениях, — говорил он. — Когда это стало ясно, вместо того, чтобы поджать хвосты и потихоньку удалиться, наши светлые штабные головы решили штурм повторить. Говорят, один только Юркин попытался возражать и доказывать нецелесообразность и абсурдность этого решения, да только его никто не послушал.
Что и говорить, Юркин был классным офицером. В те времена в Туркестанском округе служили два высокопоставленных политработника по фамилии Юркин. Они не были родственниками, просто однофамильцы. Виталий Владимирович Юркин служил начальником политотдела нашей пятой гвардейской дивизии, его очень уважали за принципиальность, честность и человечность, а также за то, что он не отсиживался в штабе и принимал участие во всех боевых операциях. Второй Юркин… Коротко сказать, к нему отношение не было столь однозначно положительным.
К слову, в то время у нас в дивизии вообще подобралось неплохое командование. Комдив, генерал Касперович, умел строить взаимоотношения как с начальством, так и с подчиненными, а главное, с командирами так называемых дружественных банд. Если бы не «светлые головы», как их назвал мой новый сосед по палате, из вышестоящих штабов, в зоне ответственности дивизии были бы тишь и гладь. Однако не все от Касперовича зависело, а потому и щепок летело куда больше, чем должно лететь при разумной рубке леса. Его заместитель, полковник Яштаков, хоть и был грубоватым ругателем, тоже умел воевать… Не случайно же оба они пошли «наверх» после замены из Афганистана.
Но все это, повторюсь, так, к слову.
— А тут еще один придурок, главное офицер, командир роты, а не просто какой-то щенок-первогодок, вдруг ни с того ни с сего прямо с «передка» сорвался на «бронике» в сторону прорвавшейся банды, — продолжал Сергей. — Всех ведь предупредили, что банда прорывается, на направление прорыва срочно перебрасывали спецназ и вертолеты, а этот, похоже, решил в одиночку с бандой справиться… Звездочку заработать, наверное, хотел, скотина… Ну и заработал, так его расперетак!
О том, что этот придурок сидит перед ним, мой сосед не знал. И объявлять об этом я не собирался. Однако, хотя и очень хотелось перевести разговор в другое русло, делать это не стал.
— А чего он поперся-то?
Уж не знаю почему, но Сергею этот фрагмент провальной операции запал в душу больше всего. Наверное, его потрясли потери, которые были дополнены моим собственным безрассудным поведением.
— А хрен его знает, — он пожал, застонав от боли, перебинтованными плечами. — Там целое разбирательство потом устроили. Последним этого идиота видел его же солдат. Тот рассказывал, что хотел сопровождать своего командира, а тот его отослал… В рубашке родился парень… А водитель «бэтра» и пулеметчик, который внутри машины сидел, погибли. Будь моя воля, я бы его, кретина, сам бы расстрелял. Из-за них, таких горе-командиров, все беды, из-за них у нас такие потери. Эта гребаная война никому не нужна, в ней каждую каплю солдатской крови беречь надо, а они, скоты, ее ведрами проливают, звездочки себе зарабатывают… Вся эта операция изначально была обречена на высокие потери, а тут еще и мы, непосредственные командиры, штабным помогли.
Слушать такую отповедь было невероятно тяжело. Но я прекрасно понимал, насколько он прав, это весь израненный парень.
— А что с ним самим, с тем ротным, было потом?
Похоже, Сергея этот вопрос интересовал меньше всего. Он ответил равнодушно:
— Никто не знает. По самому БТРу саданули не то из гранатомета, не то из «безоткатки», и сразу топливо сдетонировало. Погибших солдат, которые оказались в «бронике», нашли, а его нет. Тут несколько вариантов имеется. Либо его «духи» с собой увели. Либо вертолетчики подобрали и прямиком в Союз вывезли. Скорее всего, в Кушку. Второе более вероятно, потому что вряд ли «духи», вырываясь из окружения, стали бы с пленным возиться… Хотя, может, утопили. Или в «зеленке» бросили… Короче говоря, куда он подевался — толком неизвестно.
Хорошо, что он этого не знал. Потому что если бы знал, трудно предсказать, что он со мной сделал бы, даже несмотря на кашель и ранения. Хотя бы потому, что я не стал бы сопротивляться.
— Может, у него была какая-то личная причина с «передка» сорваться, — попытался я робко вступиться сам за себя.
— Не может быть такой причины, чтобы подчиненных бросить и солдат под смерть подставить! — резко оборвал меня Сергей и снова закашлялся.
По большому счету, он прав. Да и не по большому счету, а просто по-человечески. И я бы никогда так безрассудно не поступил, если бы не слова Вологодского о том, что Любаша при смерти и хочет меня видеть.
— Но он мог не знать, что там банда прорвалась, — попытался я еще раз оправдаться.
— Мог и не знать, — признал сосед. — Говорят, он только перед этим из боя вышел… Может, контужен был, может, «крыша» поехала… Но в любом случае, брать машину и солдат и без разрешения срываться он не имел права. Его командир потом рассказывал, что пытался его удержать, да только тот его не послушался…
Что?.. Мой командир пытался меня удержать?.. Так ведь это сам Вологодский разрешил мне воспользоваться его личным БТРом! И, выходит, он же показал потом при разбирательстве, что пытался меня удержать… Наверное, он просто таким образом оправдывался, чтобы у него не было неприятностей из-за меня.
— А где сейчас этот командир? — я постарался задать вопрос максимально равнодушнее.
— Какой командир? — не понял Сергей.
— Ну, этот, который пытался отговорить придурка…
— Заменился уже, — рассказывал сосед по палате. — Поехал к себе на родину вроде бы.
А куда же ему еще деваться? Старый как мир, российский (а в недавние времена и советский) анекдот звучит так: «Все звери равны. Лев равнее всех». Чтобы не тратиться на жилье, офицера нередко предпочитают посылать служить в места, где у него имеется квартира. Так что место службы Вологодского вычислить было совсем нетрудно.
…С этого разговора мне стали немилы прогулки по городу, в результате которых я узнавал что-то для себя новое. Даже визиты в магазинчик, который на местном жаргоне именовался «У бабы Насти» не приносил облегчения. Вообще-то тут нынче работал Бяшим — о нем отдельная история. А некогда, по местной легенде, в магазинчике работала некая татарка по имени баба Настя. Она была добрая и доверчивая, офицерам верила на слово и отпускала питье в долг, а потому и имя ее увековечено в названии магазинчика.
Торговавший в мои времена Бяшим сразу спрашивал:
— Тебе вино холодное или нет?
Холодный «ризлинг» стоил на пятьдесят копеек дороже, но зато был из морозилки.
…Короче говоря, проклятия Сергее меня задевали. Хотя бы потому, что он выражал мнение офицеров дивизии. Я мог бы доказать и переубедить его лично. Но мнение всех оставалось бы прежним. И я решил поехать к Вологодскому и объясниться с ним. Ведь по большому счету именно он подставил меня под «духов». Он ЗНАЛ, что банда прорывается именно в том направлении, на которое он меня послал. И я решил, отправляясь в реабилитационный отпуск, заехать к нему.
Лучше бы не ездил.
Потому что дверь на мой звонок открыла… Дверь открыла Любаша. На ее лице последовательно и стремительно сменилась целая гамма чувств. Дежурная улыбка быстро вытеснилась растерянностью, потом удивление…
— Костя, ты?..
И я тоже не мог предполагать увидеть здесь именно ее. Она же умирала…
— А как твоя рана? — вместо приветствия спросил я, еще надеясь на что-то.
Однако чуда не произошло.
— Какая рана? — с недоумением спросила она. — Это же ты был ранен…
Словно завеса упала с моих глаз. Я вдруг в полной мере понял и оценил все коварство экспромта Владислава. Он понимал, что имя Любаши заставит меня бросить все и устремиться к ней. Он знал, что банда прорывается именно в направлении разрушенного моста. И он, услышав мою угрозу доложить о том, что я его предупреждал о безрассудстве плана, направил меня туда, чтобы разом избавиться от всех проблем.
Самым трагичным в тот момент стало то, что Владислав оказался дома. Не будь его, я бы перегорел, перекипел, пережил тот первый момент своего прозрения, возможно, все было бы иначе. Но тогда я отстранил Любашу и шагнул в квартиру. Из комнаты выглянул Владислав. И я больше не помнил себя…
Так я и «залетел» по сто второй. Адвокат с банальной фамилией Семенов высосал у меня все немалые по тем временам деньги, которые у меня оставались после Афганистана и после этого бездарно провалил мою защиту. Десять лет! Могли бы и пятнадцать, — разъяснили мне впоследствии сокамерники. И я до сих пор не знаю, правильно ли я поступил, отомстив таким образом за себя и за тех двух парней, имен которых я так и не узнал.
7
— И куда же ты теперь?
Александр Шустиков глядел на меня с нескрываемым сочувствием. Если бы я сам знал…
— Некуда мне деваться?.. — признался ему откровенно. — Как говорится, ни кола, ни двора… Хотелось бы просто исчезнуть куда-нибудь и начать новую жизнь. Да вот только это невозможно…
Тут-то и произнес Шустиков слова, который повернули мои стопы на юго-запад.
— Я думаю, что могу тебе в этом деле помочь, Константин Васильевич.
Покажите мне человека, который, услышав такие слова, не поддастся на соблазн! Покажете? Если да, то я вам просто не поверю!
— Чем же?
Несмотря на то, что мы с ним сидели вдвоем в его квартире, он понизил голос, продолжил говорить едва ли не шепотом.
— Я могу сделать так, что вы поедете в Сербию.
На кой хрен? — хотел спросить я. Что я там забыл? И что я знаю о Сербии и о Югославии в целом, чтобы туда ехать?
Хотел спросить. Но не спросил. Потому что в душе у каждого человека сидит вера в то, что кто-то сможет помочь решить его личные проблемы.
Поэтому я спросил иное:
— И зачем?
Тут Саша вдруг зачастил и почему-то вдруг перешел на «вы»:
— Посудите сами! Вы уволенный из армии человек, боевой опыт есть, воевать умеете. За то время, пока вы пробудете в Сербии, тут, глядишь, все уляжется, о вас все забудут. Деньжат заработаете… Дело ваше, конечно, решать вам… Но я советую.
Мой старый принцип: никогда никому ничего не советовать. Мое убеждение: в принципиальных вопросах каждый человек должен решение принимать только самостоятельно. И в то же время по себе знаю: если кто-то что-то мне от души советует, я легко поддаюсь под убеждение. Парадокс, конечно, абсурд — но так оно и есть. Наверное, на таком же абсурде построена вся реклама. Поддашься на чужой совет — потом этого советчика сам же будешь проклинать за собственные слабости и за то, что сам же поддался, попытался решить собственные проблемы чужим умом. Нет, только самостоятельно!
И тем не менее, осознавая свою изначальную неправоту, я тут же выстроил в уме несложную логическую цепочку. Выпасть на некоторое время из общей схемы, когда меня ищут, исчезнуть из страны… Это же идеальный вариант! А дальше будет видно.
Короче говоря, решение было принято едва ли не мгновенно, с лета. Оставались только уточнить некоторые детали.
— Ну ладно, допустим… Но что я там буду делать? И что для этого я должен сделать?
— По большому счету, ничего такого уж очень трудного, — увидев, что я начинаю поддаваться, Александр еще больше зачастил, стал говорить торопливо, сглатывая слова. — Я вас непосредственно сведу с людьми, которые занимаются формированием и отправкой добровольцев в Хорватию.
— Погоди-ка, — не понял я. — Ты же говорил, что надо ехать в Сербию!
Он принялся терпеливо разъяснять особенности геополитической обстановки в бывшей Югославии. (Звучит-то как режуще: «бывшая Югославия», «бывший Советский Союз», «бывшая ГДР», «бывшая Чехословакия»… Наверное, в свое время так же непривычно было слышать о своей родине римлянам, жителям осколков Киевской Руси, Речи Посполитой или Австро-Венгрии…)
Надо признаться, в его рассказе я понял и запомнил далеко не все, сориентировался во всех нюансах внутриполитической ситуации не сразу. А если честно, до конца так и не разобрался никогда.
В общих чертах выходило так. Югославия состояла из нескольких территорий, составлявших между собой федерацию. Когда начал дробиться и разламываться СССР, те же процессы потекли на Балканах. Словения, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония — все захотели самостоятельности. Ну, это понятно, как говорил тот попугай из мультфильма: «Плавали — знаем!». И все было бы не так уж страшно, если бы границы в Югославии тоже, как и у нас, не проводились в свое время примерно, на глазок, без учета национально-исторических традиций — а если сказать коротко: от балды. Так и вышло, что часть земли, исконно заселенной сербами, оказалась вдруг за границей. Проживавшие там коренные сербы провозгласили свою республику, назвали ее Сербской Краиной. С этим не пожелали примириться ни мусульмане, ни хорваты-католики, которые решили по такому поводу между собой объединиться против общего врага. Высвобождая территорию для своего проживания, они приступили к массовому геноциду против православных сербов.
— А что же собственно Сербия? — я слушал этот рассказ, как некий параграф из учебника истории. — Она как со всем этим мирится?
Сашка пожал плечами:
— А что может сделать одна Сербия? Она и сама оказалась в таком положении, что не позавидуешь… С одной стороны, весь мир, поджав хвост по команде США, ополчился против сербов. Сербия — всегдашний союзник России, единственная страна, которая никогда в истории не воевала против нас и не участвовала ни в каких блоках, направленных против нас. Ну а для того, чтобы нас добить, нужно вообще лишить нас всех союзников, которые еще от нас не отвернулись. С другой стороны, рядом-то там нет никого, кто хоть как-то помог им самим. Да и Россия, сами знаете, начиная с Горбачева, только и знает, что союзников предает и продает… Сербия помогает, конечно, Сербской Краине, но только, как бы сказать, пассивно, стыдливо, исподтишка, без активной военной помощи… В общем, Константин Васильевич, если вы решились, я вас сведу с людьми, которые этим занимаются. Ну а уж там — как сами решитесь.
Ночевать в ту ночь я остался у Шустикова.
— Жена только через неделю вернется, так что живите пока. Да и потом тоже можете, только говорите ей, что мы вместе в Герате воевали, а о том, что вы сидели — не надо, — просил он. — Сами ж понимаете: баба и есть баба…
Я понимал. Теперь на мне навсегда зависло это проклятие: зэк!
8
На следующий день, прямо с утра, мы с Сашкой отправились к некому Владимиру. Уж не знаю, что и от кого он имел за вербовку добровольцев в Югославию, но только занимался он этим делом, как я имел возможность вскорости убедиться, весьма активно. У меня нет сведений, сколько человек наших прошло Сербию, и сколько из них завербовал или сагитировал Владимир, но только то, что речь идет не о десятке-другом добровольцев, абсолютно точно. К тому же, этим делом занимался не он один. Позднее я узнал и о других наших согражданах, также промышлявших этой деятельностью.
Шустиков о чем-то коротко с ним переговорил, торопливо сунул мне на прощание руку и ушел. Приглашение приходить вечером и ночевать у него он не повторил. Может быть, считал мое проживание у него вопросом решенным, а, может, уже и сам раскаивался в своем альтруизме.
В общем, как бы то ни было, мы с Владимиром остались вдвоем.
— Ну что, — начал он, — будем знакомиться?
Я слегка пожал плечами. Очень не люблю дежурных или риторических вопросов. Знаете, как на бегу кто-то спрашивает «Как дела?», а сам бежит дальше и плевать ему с высокой колокольни, как у тебя и на самом деле дела. Пошлешь его вдогонку куда подальше, а он даже не заметит, что ты не ответил ему столь же дежурно и избито «Нормально» или «На букву «х», только не подумай, что хорошо»…
Короче говоря, я только протянул ему ладонь и коротко сказал:
— Константин.
Ни фамилии, ни краткого изложения биографии. Пока и так достаточно. А там поглядим.
— Документы! — сразу потребовал он.
Не показывать же просроченный паспорт или «афганское» удостоверение!
— Понимаешь… — начал было я.
Однако хозяин квартиры не дал мне закончить мысль.
— Мне не нужно что-то понимать, — внушительно сказал он. — Мне нужно иметь хоть какие-то документы. Потому что без этого я не смогу тащить тебя через несколько границ.
Ясно, — понял я.
— Завтра вечером я принесу документы. В крайнем случае послезавтра. Годится?
Куда ни ткнись, всюду нужны документы. Ну а теперь, на фоне открывшейся возможности на какое-то время скрыться, мне еще больше потребовалась «ксива», которую задолжал Пегий. Именно в этой «корочке» мне теперь виделась панацея от всех бед. И если он, Пегий, меня подведет, я окажусь в положении весьма плачевном. Но только он, человек неглупый, должен бы понимать, что такого человека как я, в угол лучше не загонять… Хотя с другой стороны, это я понимаю, что меня в угол нельзя загонять, но отдает ли себе в этом отчет Пегий? Вопросы, вопросы, вопросы…
— Хорошо, завтра значит завтра, — согласился Владимир. — Или послезавтра. Время терпит. Теперь о деле… Ты по какой причине едешь в Югославию?
Это что еще за допрос? — хотел было возмутиться я. Но тут же осадил себя: не время и не место сейчас для ссоры. Да и не повод, если разобраться. Нервы что-то сдают, по пустякам начинаю дергаться.
— А тебе отвечать обязательно?
Владимир чуть усмехнулся:
— В принципе, ты уже ответил… Значит, ты от каких-то проблем пытаешься скрыться. Просто к нам обычно обращаются или молодые мальчишки, у которых романтика в одном месте шилом торчит, или казаки, или квасные патриоты… Ты не похож ни на одного из них. К тому же с документами у тебя какие-то напряги… Вот и спросил.
— А мой ответ как-то может повлиять на твое решение? — в лоб спросил я. — К тому же я не сказал, что у меня с документами напряги — просто в данный момент у меня их нет. Такой расклад годится?
Он опять пожал плечами:
— Причем тут мое решение? Лишь бы у тебя решение не изменилось. А мне, по большому счету, абсолютно все равно. Ребятам в Сербской Краине приходится очень туго. Им нужна помощь. Так какая мне разница, по какой именно причине кто-то едет воевать?
Что ж, во всяком случае откровенно.
— Ладно, решим пока так, — решительно продолжил он. — Если бы тебя привел не Сашок, у нас с тобой разговора вообще не было бы. Его и так не было. Договорились?
Я поморщился:
— Ты говоришь, как в кино про шпионов.
Владимир усмехнулся.
— Ну уж в кино или не в кино… Но только пойми и ты: не скажу, что очень сильно, но ведь в какой-то степени и я рискую, когда разговариваю с каким-нибудь хреном с бугра. Не так?
Я пожал плечами:
— Тебе виднее, с какими хренами ты общаешься.
Он не обиделся.
— Вот-вот. У тебя со временем как?
Времени у меня было, как говорил покойный отец, вагон и маленькая тележка. Так Владимиру и сказал.
— Ясно, — поднялся он из-за стола. — Пошли я тебя в одно местечко отведу, послушаешь, о чем люди там толкуют. И если не передумаешь, когда у тебя будут документы, приходи ко мне. Не против?
Было бы с чем спорить!
— Не против, — согласился я.
Тогда он сделал паузу, выразительно поглядел мне прямо в глаза.
— Или когда у тебя вообще не будет документов, тоже приходи. Ты все понял?
Чего уж не понять. Выходит, что если бы я раньше встретил Сашку, если бы я раньше сумел найти организацию, которая вербует добровольцев за границу, мне бы какую-никакую «корочку» добыли бы без железнодорожной акции. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
9
Как я понял, привел он меня на заседание ячейки какой-то организации русских националистов. Впрочем, так сказать было бы не совсем верно, потому что в предыдущей фразе оказалось сразу несколько неточностей. Прежде всего, это было не заседание как таковое, с президиумом, графином, микрофонами и длинными речами. Просто шла активная живая беседа, хотя больше говорил только один человек, более обстоятельная речь о котором еще впереди. Назвать собравшихся ячейкой тоже можно лишь с некоторой натяжкой, потому что само по себе понятие «ячейка» подразумевает некое структурное подразделение чего-то более или менее сложившегося, объединенное к тому же некой определенной идеей — здесь же, опять же, как я понял, шел «охмуреж» парней в прорусском духе. Да и националистами, по большому счету, их тоже вряд ли можно назвать с достаточным основанием. «Православными панславянистами» — вот так было бы точнее всего.
Короче говоря, в небольшом помещении некого ведомственного клуба — в таких в недавние времена проводились кружки кройки и шитья или, скажем, рисования — собралась небольшая группа людей. В основном молодые парни, лет до двадцати. Среди собравшихся было только несколько мужчин возрастом побольше.
Среди всех выделялся один — лет тридцати пяти, крепкий, поджарый, коротко стриженный, с холодными оценивающими серовато-голубыми глазами. Рядом с ним находились двое явно охранников. Именно он и говорил, когда мы вошли. Оратор лишь коротко взглянул на нас, чуть кивнул Владимиру и продолжал начатый ранее разговор.
— …Друзья, вы только повнимательнее почитайте нашу историю, историю Руси, России и сопредельных с нами славянских народов! Куда только ни пытались увести нас горе-историки, каких только баек они ни придумали про наших с вами предков!.. Как будто сами они от другого роду-племени… Ладно, кто и в самом деле пожаловал к нам в поисках легкого хлеба — так ведь и свои туда же! Почитайте еще раз Нестора, только повнимательнее! Можно подумать, что именно с него началась русская письменность! А между тем при Ярославе Мудром в Киеве была уже едва ли не самая большая в мире библиотека. Откуда столько книг? Неужто после Владимира столько успели написать?..
— Так откуда же пошли русские? — спросил один из собравшихся.
— Так я к этому и веду! — ничуть не выразив неудовольствие из-за того, что его перебили, воскликнул оратор. — Любой народ на протяжении развития меняет свое название. Да и сам меняется, обновляется, перерождается, оставаясь духовным наследником и преемником других народов, и в то же время, когда резко, а когда постепенно, становясь другим. Это же диалектика! Можно ли сказать, что нынешние египтяне — это те самые, что описаны у Геродота, римляне — прямые потомки Ромула, Рема и Энея, а нынешние татары ничуть не изменились со времен Чингисхана? «Чепуха» — скажете вы! И будете правы! И мы также уже не тот народ, что был при Кие и Святославе. И в то же время наш народ, русские — прямой потомок тех людей, которые с Олегом ходили приколачивать щит на ворота Царьграда.
— А украинцы?
Было видно, что приблизительно такой реплики и ждал говоривший. Он удовлетворенно усмехнулся, подняв вверх указательный палец.
— Вот оно — корень всех межнациональных противоречий! От одного корня рождаются народы, а потом не могут разобраться между собой, кому принадлежит некий город, которые их предки вместе возводили… Итак, вопрос: кто же является прямым наследником Киевской Руси — русские, украинцы или, может быть, белорусы? Как вы думаете?
Молодежь нестройно, вразнобой, загомонила.
— Украины тогда еще вообще не было, — с напором, с жаром говорил один. — Распавшиеся княжества Киевской Руси тянули каждый в свою сторону, кто в лес кто по дрова. Там, где нынче Украина, часть земель отошла к Польше, а также к Литве… А остальную сегодняшнюю территорию Украины составляют земли, которые мы, русские, завоевали, присоединили и им подарили… Так что, какие они наследники?..
— А Белоруссия вообще никогда не была самостоятельным государством, — вклеил реплику другой.
— Вот как? А Полоцкое княжество, в котором княжил Рогволод? — подлил масла в огонь оратор. — Чем оно хуже Владимирского или Волынского?
— Так когда это было! — ответил тот, однако дальше в спор не полез.
— Только Московская Русь осталась оплотом русского духа и стала ядром, вокруг которого стало формироваться новорусское государство… — с напором вещал третий.
И снова реплика старшего:
— Московское княжество или Новгородская республика?
Когда гомон стал немного спадать, оратор поднял руку и громко сказал:
— Итак, давайте подведем итог нашего небольшого обмена мнениями! Никто из вас не прав!
Такая заявка всех примирила. Вернее, объединила против выступавшего.
— Но такого не может быть! — с жаром выразил общее мнение парень, который считал, что Украине правом наследования пользоваться нельзя. — Если есть три культуры, которые претендуют на то, чтобы быть наследником культуры и исторической памяти, значит, у кого-то из них права на это больше, у кого-то меньше.
Сероглазый опять обстоятельно, неторопливо продолжил:
— А кто сказал, что есть обязательно три наследника? И почему вы считаете, что непременно кто-то должен пользоваться преимуществом в дележе исторической памяти?.. С таких вот споров и начинается междоусобица! Мы сейчас осуждаем наших средневековых князей за то, что они не смогли объединиться перед Калкой, а сами ведем себя ничуть не лучше, спорим, где должны проходить границы между Россией и Казахстаном… Так вот, вы неправы, молодые люди. Дело в том, что каждый народ обязательно рождается при смешении как минимум двух других, так сказать, родительских, народов. Как правило, один из них сильнее и он покоряет или подчиняет другой. Если же они одинаково сильны, бывает, вместо того, чтобы стать родоначальниками нового этноса, они просто взаимоуничтожают друг друга — так было, например, с лютичами и бодричами, этими славянскими племенами, которые проживали в средние века на территории нынешней Германии… Племена полян, без особого сопротивления покорившись пришедшим с севера литовцами и поляками, со временем превратились в украинцев. Вятичи слились с местными племенами финно-угорской группы, образовали русских. Словене смешались с весью, мерянами и самоедами и образовали северную ветвь русского народа. Уже много позже эти две ветви слились между собой… Ну и так далее. Понимаете? Это все равно, что спорить, кто является единственным наследником генной информации, которую получили от отца три брата, рожденные от разных матерей.
Мне стало скучно. Трепотня какая-то! Мне-то что за дело до этих схоластических споров. И Владимир куда-то запропастился… И времени по-прежнему девать некуда…
— Ну а жители Киевской Руси от кого произошли? — опять спросил кто-то.
Я было уже совсем собрался потихоньку, по-английски, удалиться, но этот вопрос заставил меня чуть задержаться. В самом деле, как этот любитель истории выпутается из этого вопроса?
Однако и тут у оратора ответ был готов.
— Здесь имеется несколько вариантов ответа, — начал разъяснять он. — Дело в том, что схема, которую я привел, как и любая другая схема, есть абстракция. Схема вычленяет главную тенденцию и не в силах отобразить всей сложности проблемы… Главные народы, которые сформировали жителей Киевской Руси, это пришлые славянские народы, являющиеся потомками венов или вендов, смешавшиеся с обитавшими тут до них скифами и потомками описанных Геродотом антов, которые были затем покорены и ассимилировались с опять же пришлыми же русами. Но это все не так уж важно. Главное в другом: славяне, которые составили основу народа, от которого мы произошли, были по тем временам молодым и перспективным народом. Потому-то они быстро и без труда, а главное, без большого кровопролития захватил гигантскую территорию. На Запад славянскими были земли едва ли не до нынешней Франции…
Кто-то присвистнул:
— Ну ничего себе!
Я представил себе политическую карту. Действительно, не слишком верится в такой размах.
— Да-да, — с жаром доказывал оратор. — Германский Бранденбург — это славянский город Бранибор, немецкий остров Рюген — это тот самый остров Буян из сказок Пушкина, знаменитый в истории тем, что там были выставлены статуи древних славянских богов, причем, каждая статуя была подписана старославянским письмом, которое понимали на всей этой огромной территории… Южнее земли славян доходили до Италии — уже само название Австрии Вена явно указывает, кто был ее основателем… Славяне заложили Назарет (назвав его так потому, что это произошло на заре) и Иерусалим (первичное название Еруслан — и корень «рус» уже сам о себе говорит)… Ну и так далее.
Он налил себе минеральной воды, выпил стакан и продолжил, правда, уже без прежнего напора, даже с какой-то горечью…
— Да что толку в нашей былой славе? Поляки помнят о нашем с ними родстве? Югославские словене едва ли не стыдятся своего родства. Сербы православного и мусульманского происхождения уничтожают друг друга хуже самых заклятых врагов… Поистине, войны между родственниками самые жуткие в истории.
Меня подобный финал его речи несколько озадачил. Да что там несколько — вообще сбил с толку. Чего ж тогда было голову столько морочить собравшимся о былой славе славян, чтобы вот так самого себя оборвать и впасть в пессимизм.
— Ну ладно, допустим, вы правы. Но что тогда вы ждете для славянского мира завтра?
Этот вопрос задал я. И по тому, какая тишина последовала за ним, это интересовало и остальных присутствующих.
Оратор слегка улыбнулся, смущенно так, мол, извините, братцы, за такие откровения и предсказания. Чуть развел руками.
— На этот вопрос ответ не так прост, как вы думаете, — выступавший глядел прямо мне в глаза. — Однако, судя по всему, перспектива у нас безрадостная. Часть славянских народов, по большому счету, уже куплена Западом. Часть все тот же Запад стравливает между собой. А остальные мы сами доуничтожаем… Так что ничего хорошего.
Черт меня принес сюда! Это значит, что нашим детям, моему Ярославу, уготована судьба жертвенной овцы?
— Тогда зачем все это? — я обвел руками собравшихся. — Вы собрали всех этих ребят с целью, чтобы рассказать им о том, что у них нет будущего?
Такая постановка вопроса оратору не понравилась. Он нахмурился.
— Я бы так не сказал. Любой человек знает, что рано или поздно умрет. Однако это знание не мешает ему жить и наслаждаться жизнью, — сказал он.
— Однако, во-первых, это не значит, что ему нужно об этом лишний раз напоминать, — возразил я. — И потом, мы знаем, что именно в сменяемости поколений состоит прогресс человечества. Каждый из нас знает, что рано или поздно умрет, однако видит смысл своего существования в том, чтобы дать жизнь и обеспечить будущее своих детей, своей страны, своего дела… А вы говорите о том, что мы умрем, а на наших детях или внуках прекратит существование наш народ, наша страна, да и весь славянский мир в целом!
— Но это будет благом для всего человечества! — не сдержался, воскликнул оратор.
Он уже не был тем спокойным добрым преподавателем, который вещал неразумным ученикам вещи, о которых они не смыслили. Он горячился, он теперь ДОКАЗЫВАЛ свою правоту. Его охранники глядели на меня настороженно и неприязненно. Очевидно, они не привыкли, чтобы с их шефом спорили, чтобы он потерял выдержку.
— А мне плевать на все человечество! — рявкнул я. — Если мы встретимся с инопланетянами, вот тогда я буду гордиться всем человечеством. А пока сравнивать не с чем… Природа пустоты не знает и не терпит. Кто придет сюда, в Москву, в Тамбов, в Новосибирск и в Хабаровск, когда, по вашему прогнозу, славянского мира не станет? Китайцы, японцы, весь Кавказ, американцы, негры, индейцы, австралийские аборигены — кто именно?
— Да поймите вы… Не знаю как вас…
— Константин.
— Поймите, Константин! Это же историческая диалектика! — воскликнул ментор. — Спорить с ней все равно, что спорить с законом всемирного тяготения! Цивилизации не могут существовать вечно, рано или поздно они исчезают, распадаются!
Слышать это было очень неприятно. Но в этом виделась своя правда. И все же… Все же я уже закусил удила.
— Если бы люди при создании крупных империй или даже самого мелкого государства знали, что со временем их потомки исчезнут, они не стали бы заниматься осуществлением своих гигантских проектов, — высказался я.
— Это поза страуса! — оратор уже поднялся со своего места, засунул левую руку в карман брюк, а правой отчаянно жестикулировал. — Знать, что тебя ждет завтра и быть готовым к этому — это позиция человека. Причем, человека настоящего, подлинного, настоящего. Если бы люди рассуждали подобным образом, как вы, мы и в самом деле до сих пор сидели по пещерам или бродили по джунглям, как в Амазонии.
Сравнение со страусом меня опять задело. И в то же время чувствовал я в его словах некую правоту. Все услышанное еще предстояло осмыслить. А потому я решил сдержаться, чуть сбавить тон.
— Насколько я знаю, путь исторического прогресса всегда имеет несколько вариантов развития. Во всяком случае, складывается такое впечатление, когда анализируешь события того или иного исторического периода. С точки зрения истории, кто победит в Столетней войне, значения не имеет, но только один человек, Жанна д'Арк, сумел повернуть ее ход в сторону, благоприятную для Франции… Так не может ли получиться так, что и сейчас возродится на свет какой-то пра-Словен, который сумеет повернуть историю в нужное русло и спасет славянство?
Мой собеседник уже взял себя в руки, опять глядел спокойно и чуть грустно.
— Вы задаете вопрос из области абстракции, — попытался он уйти от ответа.
Пасуешь, парень! Не надо пытаться выкручиваться! Коль назвался груздем…
— Но ведь вы же сами говорили, что любая схема достаточно абстрактна, — додавливал я. — Значит, в нее теоретически можно привнести дополнительный, более или менее вероятный, фактор, который в принципе может повлиять на теоретическую модель развития ситуации в ту или иную сторону. Я не прав?
Он пожал плечами.
— Теоретически рождение пра-словена, вернее, его возрождение, конечно, можно допустить. Только сама по себе самая благая идея не имеет конструктивной силы. Сила должна обладать силой материальной, хотя я и понимаю, что это звучит сродни «масло должно быть масленым», а «экономика должна быть экономной»… Чем плохи были идеи Христа? Разве он проповедовал насилие? А сколько войн прошло под его именем, сколько людей уничтожено? А разве Магомет проповедовал, что мусульмане между собой отношения должны выяснять силой? Но откуда тогда войны между шиитами и суннитами?.. Нет, уважаемый Константин, сама по себе идея мало что стоит, а сам по себе человек с самыми благими намерениями ничего не сможет сделать против исторических закономерностей.
— Значит, мы все обречены на то, что от нас ничего не останется, и от нашего мира останутся одни только развалины культуры, как от царства хеттов или шумеров?
Этот вопрос задал не я, а один из присутствовавших молодых людей. Однако вполне мог бы то спросить и я, правда, без упоминания этих экзотических народов.
Оратор опять слегка пожал плечами:
— Не знаю. Этого никто не знает, потому что пророчествовать человеку не дано. Если история будет за нас, она обязательно даст нам шанс. Как в тринадцатом веке дала такой шанс Новгородской республике, послав им князя Александра Ярославича, а потом неведомо по каким причинам в ста километрах от города повернувшая татарскую орду обратно в степь. Тогда наши предки шансом воспользовались должным образом. Ну а кто может сказать, сумеем ли мы воспользоваться таковым же? Найдется ли в нужный момент у нас новый Александр, новая Жанна, новый Гарибальди?.. Не знаю. Знаю другое, — вдруг патетически возвысил он голос. — Во что я верю, так это в то, что если появится такой исторический шанс, всегда должны найтись патриоты, которые смогли бы им воспользоваться. Потому что только патриоты, любящие свое отечество и свой народ, смогут его возродить. Так было всегда! И так будет!
Это звучало красиво. Молодежи это понравилось. Они аплодировали.
А мне такой финал не понравился. Потому что сидеть и ждать, пока тебе и твоему народу судьба пошлет некий шанс — это не по мне. Это молодежь может думать, что у нее все в будущем. Человеку зрелому, которому осталось жить меньше, чем он уже прожил, пассивное сидение в кресле и ожидание светлого будущего непозволительно.
…О том, что именно в Сербии сейчас проходит передовой фронт борьбы славянства с силами, которые пытаются нас доразбить, доразвалить, доподкупить, дораздробить, духовно дообесславянить, на сходке не было сказано ни слова. Однако именно там и тогда я решил для себя окончательно: поеду.
Да, я понимал, что тот оратор во многом прав. Действительно, славянский мир сейчас переживает кризис. Выберется ли он из пропасти, в которую сползает, и в самом деле никто сказать не может. Более того, я вполне отдавал себе отчет, что там, в Югославии, решается не нечто вселенски глобальное, а более чем частная, с точки зрения всего славянского мира, задача. Было очевидно, что погрязший в быту славянин-мещанин ни в одной стране не поднимется на защиту своего брата — такого же православного славянина, только живущего за тридевять земель, на далеких неведомых Балканах. Я не был настолько наивен, чтобы мечтать, что крохотная Сербская Краина может стать неким детонатором, способным всколыхнуть нашу закисшую славянскую гордость и поднять все народы с колен. Я не верил, что обнищавшая православная церковь, сама раздираемая внутренними противоречиями и скандалами, сможет стать объединяющей силой, которая повела бы нас на Поле Куликово…
Все это я понимал. И в то же время во всей очевидности мне стало ясно иное. Именно там, на Балканах, я смогу сделать хоть какую-то малость, которая — вдруг! — сможет предотвратить превращение Ярослава и его будущих детей в рабов неких будущих пришельцев. Моего Ярослава, детей запавшей мне в душу Ларисы-«администрации», всех тех малышей, которых великовозрастные государственные дяди лицемерно именуют «нашим будущим».
Мне стало ясно, что и наши, внутрироссийские, беды проистекают оттуда же, из той же диалектики, о которой вещал оратор. Чтобы обескровить оплот славянства, русскую нацию, а точнее сказать, российский народ (он же советский), на протяжении двадцатого века именно против нас развязывались гигантские войны. И в ходе каждой из них решалась единственная задача: уничтожить как можно больше славян. Какие народы понесли самые большие потери в годы второй мировой? Русские, белорусы, поляки… Какие задачи мы решали в Афганистане? Ради чего я там проливал кровь подчиненных? Только для того, чтобы как можно больше смелых и активных людей сложили головы, а по им, по этим головам и за нашими спинами политики разваливали страну, которой мы служили, нувориши сколачивали свои капиталы, наверх продирались самые бессовестные. Чтобы продолжить преступление против славянского мира, штамповались «агенты влияния», которые подталкивали большие и малые народы России к максимальной дестабилизации внутриполитической ситуации. Для того, чтобы расшатать экономику страны, потоком утекали в западные банки заработанные страной денежки, за бесценок распродано достояние государства в руки богатым манкуртам. В угоду фарисейски проливающим крокодиловы слезы международным банкам и фондам, мечтающим окончательно прибрать к рукам богатства нашей страны и превратить ее необъятные просторы в всеземную свалку опасных отходов, подолгу задерживается выплата зарплаты — чтобы курильчане просились в Японию, Дальний Восток прибрали к рукам китайцы — и так далее по кругу.
…И тогда я понял главное. Каждый человек, в котором еще осталось что-то от гордых предков, ведших свой род от Словена, Ляха, Чеха, Святогора и других праславянских предков, имена которых мы напрочь забыли, от первой славянской Праматери, от той самый Уточки, из яичек которой произошло все сущее в мире, каждый человек, который еще не забыл, что он СЛАВЯНИН, должен поднять голову и восстать ото сна и от спячки. Это не значит, что все должны схватиться за автоматы и начать крушить всех неславян. Вовсе нет. Но только хватит нам призывать варягов, чтобы они правили нами. Нужно гнать тех наших правителей, которые с потрохами продались иноземцам за всемирные премии и высокие иностранные звания. Пусть политики вспомнят, из какого корня они произошли. Пусть журналисты напоминают наРОДу, из какого СЛАВного он РОДа. Пусть писатели расскажут о том, что от Балкан до Чукотки проживают РОДные братья!
Ну а мы, военные, должны быть там, где убивают НАШИХ. Потому что тогда и у нас в стране хоть что-то изменится к лучшему…
И вдруг я, словно лошадь на полном скаку, остановился, услышав в глубине души легонькое подхихикивание внутреннего голоса.
Костя, Костя, — ерничал он. Ну не дитя же, не юнец, подобный тем, которые только что разошлись с этого собрания. Не будь же так наивен! Ты оглянись вокруг! Это вот тот рыжий политик, больше всех нахапавший от приватизации, одумается и вспомнит, что он славянин? Это вот тот рыжий же поэт, громогласно и талантливо охаивающий все русское, тоже вдруг встрепенется и вспомнит, что славянин? Это журналисты самой популярной газеты, взахлеб воспевающие все, что идет в ущерб твоей стране, вдруг вспомнят, что они тоже славяне? Или ты мечтаешь, чтобы вспомнили о славянских корнях все те бессовестные военные, которые продавали и продают оптом и в розницу оружие и военное имущество при распаде СССР и при выводе войск из-за границы?.. Окстись, Костя, да какие они славяне? Даже если вдруг в них отыщется толика славянской крови, так и та проистекает из порядком подзагнившего корня…
Нет, на духовное и физическое возрождение славянизма сейчас рассчитывать не приходится. Это горько, но, увы, скорее всего, правда.
Так что же? Руки на себя из-за этого наложить? Действительно в преступный мир податься, пополнив плотные ряды грабителей, которых несть нынче числа от самых верхов на всей Руси некогда Великой? Плюнуть на все и в бомжи податься?..
В конце концов, пусть судьбы мира заботят те неведомые мне силы, которые его породили и управляют его судьбами. А мы созданы таковыми, что каждый из нас отвечает сам за себя. Перед своей семьей, перед своими детьми, перед своей совестью. Я не знаю, есть ли возмездие где-то на небесах. А на земле нет больших судей, чем эта троица. Семьи у меня нет. Остается сын и совесть. Ради них я уеду. На Балканы. Потому что сегодня, скорее всего, это единственное место, где я по-настоящему нужен.
Эпилог
Море слегка колыхало катер. Небесная синь слепила, по волнам бегали блики. Теплый, соленый на запах, приятный ветерок (кажется, бриз?.. или пассат?.. ничего в морском деле не знаю…) легко обдувал мое лицо.
…Я с детства мечтал о том, чтобы хоть разок вот так, на маленьком суденышке, одному побыть в открытом море. Чтобы лодка, чтобы море, чтобы чайки, чтобы я один на много миль вокруг… И чтобы потом был девственный остров и прекрасная незнакомка на белоснежном берегу…
Однако сейчас меня мое положение не радовало. Потому что это был не отдых. Это была капитуляция. Полная и безоговорочная капитуляция. И даже факт, что это не я капитулировал, что это меня капитулировали, не утешал. Потому что я должен был, обязан был сопротивляться, я должен был найти слова, чтобы убедить других, мне нужно было что-то сделать такое, чтобы развитие ситуации пошло по другим рельсам.
Не сделал, не нашел, не сумел. И теперь запоздало изобретал, что должен был сделать.
Воистину любой генерал готовится к войне прошедшей. Не мной сказано, но зато как точно!
…Я проснулся от тряски. Болела голова, во рту было кисло, с каким-то металлическим привкусом. Открыл глаза, огляделся и только тогда вспомнил, что именно со мной произошло.
Я лежал на кожаной лавке в кузове автомобиля, насколько можно было судить из столь неудобного положения, джипа, который резко мчался, подскакивая на рытвинах. По груди и ногам я был туго пристегнут к лавке, очевидно, чтобы не упасть. Однако руки были свободны, так что смог легко отстегнуть ремни и сесть.
Это и в самом деле был открытый джип. За рулем и рядом с водителем сидели мужчины в привычном для Югославии камуфляже. Машина ехала по берегу моря, прямо по пляжу, без дороги. Над головой громко кричали чайки.
Мелькнула мысль о том, что можно сигануть через борт — и пусть они меня потом ищут. Однако тут же отбросил ее. Ну, сигану. А что дальше? Куда мне потом податься, если я даже приблизительно не знаю, где мы находимся? В конце концов, вряд ли эти двое задумали в отношение меня какую-то большую пакость, потому что пока я лежал беспомощный, со мной можно было сделать все что угодно. Вплоть до того, что втихаря в море утопить… Да и теперь меня не оставили бы без присмотра.
Может, они даже специально меня так оставили, провоцируя, чтобы я попытался сбежать и тогда у них будут чистые руки, в то время, как мне придется самому решать весь комплекс свалившихся на меня проблем? Или чтобы подстрелить «при попытке к бегству»…
Нет уж, дудки, сначала узнаем, что задумали вы, а там уж посмотрим…
— Эй, — окликнул я.
Сидевший на месте старшего мужчина обернулся. Это оказался тот самый часовой, который на удивление хорошо говорил по-русски.
— Очухался? — усмехнулся он.
Любопытно, что именно рассчитывают услышать в ответ люди, когда задают подобные никчемные вопросы?
— Куда мы едем? — спросил я.
— Сейчас, погоди, — прокричал он в ответ. — Скоро будем на месте, тогда и поговорим.
Что ж, погодить так погодить. Перекрикиваться и в самом деле утомительно.
Куда же это меня везут? Вернее, куда меня уже практически привезли? Сербская Краина не имеет выхода к морю. Значит, мы в Югославии. Значит, меня таки вывезли. Значит, приводится в исполнение какой-то план, который осуществляется якобы в моих интересах, но помимо моей воли.
Значит, стало мне ясно со всей очевидностью, Мириам теперь попросту обречена.
В голове вихрились, сталкивались взаимоисключающие мысли. Что в сложившейся ситуации можно предпринять? Наброситься сейчас или чуть позже, когда остановимся, на водителя, расправиться со старшим машины, забрать у них документы, повернуть машину и ехать обратно. Допустим, это я смог бы сделать. Ну а что потом? Без досконального знания языка, с чужими документами, на чужой машине, в незнакомом месте… Впрочем, до границы, быть может, я еще и смогу добраться. Ну а там… В военной полиции тут служат парни вот с такими мордами, которые очень не хотят попасть на фронт, а потому всемерно доказывают настоятельную необходимость своей службы в тылу.
Впереди показался длинный, вклинившийся в лазурь моря, мол. Вдоль его края колебалась белая полоска разбивающихся о его монолит волн. А у основания мола, на берегу, стояли несколько вооруженных человек. Это была именно военная полиция. Накаркал…
Мы лихо подрулили к ним — из-под колес взвихрился клубочек белого песка. Один из полицейских бросил сигарету, поправил ремень с кобурой и направился к машине. Наш старший спрыгнул на землю, тоже одернул форму и пошел ему навстречу. Они козырнули друг другу и только после этого обменялись рукопожатиями.
Да, если раньше у меня и имелась возможность попытаться освободиться силой, теперь уже было поздно. Дергаться против пяти автоматов — самоубийство.
Между тем наш старший и офицер военной полиции обменялись лишь несколькими фразами и мой знакомец вернулся ко мне.
— Ну что, пошли, Просвет!
Я демонстративно устроился поудобнее и скрестил на груди руки.
— Я никуда не пойду, пока вы мне во всех подробностях не объясните, куда и с какой целью ведете, — сказал как можно решительнее.
Он усмехнулся.
— Это бесперспективно, Просвет. Если ты сейчас пойдешь со мной, я тебе по пути все объясню. Потому что есть вещи, которые можно тебе сказать только наедине. Если же будешь сопротивляться, вон те тренированные мальчики легко скрутят тебя. Тогда все равно все произойдет как и было задумано, но только ты так ничего и не узнаешь.
При подобной широте выбора ничего не оставалось, как только покориться обстоятельствам.
Я спрыгнул на песок. Песок тут — мечта. Неслучайно побережье Югославии в свое время славилось своими пляжами и курортами. Да и теперь тоже, хотя из-за всех этих событий людей сюда приезжает отдыхать куда меньше.
Мои ноги утонули в белом крошеве. Только теперь я обратил внимание, что одет не в ставшую уже привычной для меня военную форму югославской армии, а в собственный гражданский джинсовый костюм, в котором приехал сюда и который до сих пор лежал у меня в вещах в казарме. Значит, они и вещи мои забрали…
Полицейские стояли в сторонке и с нескрываемым любопытством наблюдали за происходящим. Кроме того, за нами, не отрываясь, наблюдал глазок объектива кинокамеры — мой отъезд запечатлевался для истории.
Наверное, понял я, эту кассету покажут нашим ребятам, чтобы они убедились, что со мной ничего страшного не произошло и меня просто отпустили.
Мы вдвоем направились к молу. Ступили на узкую бетонную иглу, вонзающуюся в Адриатическое море.
— Слушай меня теперь внимательно, Просвет.
Уж об этом он мог бы не напоминать — и без того о более внимательном слушателе он мог бы только мечтать.
— Дело в том, Просвет, что я — офицер контрразведки. В свое время учился и какое-то время жил в Советском Союзе, — начал он.
А я-то думал, откуда это у Славко мог оказаться солдат, который так легко и свободно говорит по-русски. Теперь понятно… Но это ж выходит, что ради меня была проведена такая сложная операция! Это, конечно, льстит самолюбию. Льстит, но и настораживает. Потому что неведома конечная цель задуманного.
Мы неторопливо шли по молу прямо в открытое море. Все остальные остались на берегу. Справа о бетон бились волны, на головой визгливо перекликались птицы с заломленными крыльями. Насколько я понимаю, при таком шуме вести запись разговора едва ли возможно.
— Когда нам стало известно, что у русских проживает мусульманка… Короче говоря, — перебил он сам себя, — нужно было убедиться в том, случайно ли это произошло или же ты стал жертвой какой-то ловкой провокации со стороны противника…
— Ага, был бы их шпионом, выведывал ваши секреты и жил бы при этом с их резидентом на виду у всех, — не сдержавшись, фыркнул я.
— Как бы то ни было, Просвет, выбор сделал ты сам. Ни уезжать добровольно, ни расстаться с ней ты не захотел, — сдержанно напомнил сопровождающий. — Поэтому нам пришлось принять соответствующие меры. На войне каждая сторона старается максимально обезопасить себя от возможных неожиданностей.
— Да поймите вы… — начал горячиться я.
Однако он не дал мне закончить.
— Решение принято, Просвет, я с ним согласен. Если бы даже ты меня сейчас сумел в чем-то убедить, даже если бы я изменил свое мнение, изменить ничего ни я, ни ты, ни кто бы то ни было, уже не в силах. Так что тебе придется подчиниться.
Несмотря на то, что я хорохорился, это понимал прекрасно. Потому спросил уже без напора:
— Подчиниться чему?
Контрразведчик слегка попенял:
— Так я же пытаюсь тебе объяснить, а ты все время перебиваешь, не даешь слова сказать… Решение принято такое. После того, как ты уличен в контактах с противной стороной, оставаться здесь тебе нельзя. Даже если бы ты попросил предоставить тебе дозволу на проживание в республике, ты бы ее не получил — все по той же причине. Какие еще могут быть варианты? Возвращаться в Россию — у тебя нет документов. Просто передавать тебя в российское посольство в Белграде было бы с нашей стороны некрасиво — ты для нас много хорошего сделал.
Интересно, а нашел бы я выход, сложись судьба так, чтобы это мне нужно было бы решить чужую судьбу в аналогичной ситуации?
— И каков же выход?
Серб сделал несколько шагов молча, пока ответил.
— Выход? Выход, Просвет, у нас будет вот какой. Когда мы дойдем до конца мола, там будет привязана лодка. Даже не лодка — катер. Я тебя сажаю в катер, завожу мотор и ты уплываешь в открытое море. Все, на этом твоя служба у нас и наши перед тобой обязательства заканчиваются. Здесь очень оживленное судоходство, так что ты легко попадешь на какой-нибудь корабль и сможешь рассказать о себе любую легенду, которую только придумаешь, выдать себя за гражданина любого государства, какое только тебе взбредет в голову.
Я был просто ошарашен открывшейся перспективой.
— Погоди! — заговорил я совсем не о том, о чем должен был бы говорить в те немногие мгновения, которые мне осталось провести на югославской земле. — Но ведь если я скажу, что подданный, скажем, государства Бенин, меня в ближайшем порту доставят в посольство или консульство этой страны и тут же вскроется мое вранье.
Потревоженные моим громким голосом, чайки завопили еще отчаяннее.
— Может быть и так. Но только ты учти, что это не мы виноваты, что у тебя произошли какие-то неприятности у тебя на родине, что здесь ты запутался в сомнительных связях… Это все, что мы можем для тебя сделать, памятуя о твоих заслугах перед Сербской Краиной и перед сербским народом и не желая тебе неприятностей, — пожал плечами сопровождающий. — Во всяком случае, именно такой вариант дает тебе реальный шанс выбрать себе страну для проживания. И как ты будешь врать, как сможешь устроиться, будет зависеть только от тебя… Например, ты можешь выдать себя за беженца из Албании — оттуда, случается, пытаются бежать в Италию. Ты можешь выдать себя за жителя Ливии, а там, может быть, попросту закроют глаза на твое неизвестное прошлое. Ты сможешь изобразить потерю памяти и тогда… Короче говоря, я не знаю, теперь думай сам.
Мы уже стояли возле катера. Катер был большой, красивый, он бестолково бился на волне, привязанный к кольцу коротеньким канатом.
— Хорошо, — сказал я, — допустим, все произойдет так, как вы сказали. Ну а если я выдам себя за русского добровольца, которого выперли из Сербской Краины по ложному обвинению или по недоразумению?
Контрразведчик кивнул:
— Ты и в самом деле можешь это сделать. Только имей в виду: в этом случае тебя, как находящегося здесь незаконно, отдадут не нам, а в русское посольство, от которого мы сейчас пытаемся тебя спасти.
Что ж, логично.
— Хорошо. А если я поверну катер не в открытое море, а к берегу?
— Тебя встретят вон те бравые парни, которые препроводят тебя в полицию — а дальше смотри пункт первый… Пойми, Просвет, у тебя нет иного выхода, как только покориться обстоятельствам, которые мы для тебя сформировали.
Да, и в самом деле, похоже, у них все продумано заранее. Ладно, посмотрим.
Теперь — главное.
— Что будет с Мириам?
Мне показалось или же контрразведчик действительно чуть вильнул глазами.
— Мы ее выдворим на мусульманскую территорию… Тебе пора, Просвет.
Он был прав, этот все продумавший человек. Он был кругом прав. Но только и мы тоже не лыком шиты.
— Но только учти, — я впервые назвал его на «ты». — Я куда-нибудь, да выберусь из тех передряг, в которые вляпался — черная полоса жизни не может длиться бесконечно. Может быть, меня опять посадят… Однако как только у меня появится возможность, я сюда к вам обязательно вернусь и найду Мириам. Я очень не хотел бы узнать, что с ней что-то случилось.
Тут у него прорвалось то, о чем он, очевидно, уже давно думал, но старался не показывать.
— Да зачем она тебе нужна, Костя? — заговорил он горячо, искренне, с раздражением. — Что тебе, других женщин мало? Вон их сколько по всей Сербии после войны одиноких осталось! Выбирай себе любую, со временем и гражданство наше получил бы… Она же враг, Костя!
И снова он был прав. Да только сам господь бог не смог бы увидеть логику во взаимоотношениях мужчины и женщины!
— Может, для тебя она и враг. Но для меня — женщина. Ну и главное: у нее будет ребенок. Понимаешь? — и добавил то единственное, что, надеюсь, могло и в самом деле спасти ее: — Мой ребенок!
Он стоял, ошарашено глядя на меня.
— Вот так, офицер контрразведки!.. Ну а теперь помоги запустить мотор — я в них не бельмеса не смыслю.
…И вот теперь я лежу на спине и гляжу в бездонное небо. Делать было абсолютно нечего, кроме как безропотно ждать, пока меня кто-нибудь обнаружит.
Штурвал у катера не работал. Серб-контрразведчик просто направил катер в открытое море, придержал его за корму и, когда мотор набрал обороты, отпустил. Более того, через какое-то время кончился бензин. И теперь катерок просто болтался на волнах, относимый ветром и течением, насколько я мог судить, все дальше от того места, где остались провожавшие меня люди.
Что я скажу, когда ступлю на палубу какого-нибудь корабля, который, надеюсь, рано или поздно обнаружит меня? Не имел представления. Несколько раз я пытался начать думать об этом, но всякий раз сбивался на события последнего времени.
Не нужно было обладать излишком совестливости, чтобы понять: именно мое пассивное поведение стало причиной неприятностей, которые теперь обрушатся на Мириам. Нужно было что-то предпринимать, как-то бороться за свою судьбу. А я просто ждал, что все само как-то рассосется. Дождался… Какого рода будут для девушки эти неприятности? Я не мог даже представить. Вернее не так: я пытался это представить, но разлет вероятностей был слишком велик. Могли и в самом деле просто не обращать на нее внимание: живи, мол, как знаешь. Могли подсказать пережившим горе местным женщинам, что, возможно, именно от рук вот этой красотки или ее братьев пали ваши мужья. Могли и в самом деле передать мусульманам — и тогда неведомо, как отнесутся там к факту, что она перешла на сторону сербов…
И я ничего не мог сделать, никак не мог повлиять на судьбу.
Допустим, на корабле я скажу, что просто катался на катере, он сломался и попрошу доставить меня в ближайший порт. Там брошусь в Краину, найду наших. Возьму с собой Мариам, вернусь в Белград, явлюсь в посольство, объясню все, вернусь на Родину, которая все поймет и простит… Господи, что за бред лезет в голову! Наверное, слишком яркое солнце нагрело голову.
Ты лучше посмотри, какое небо над тобой. Ты, Костя, конечно, не князь Андрей, но вглядись в него, может, и тебе откроется некая извечная истина, которая поможет тебе дальше жить на белом свете?
…Издалека донесся низкий, утробный вой корабельной сирены. Я встрепенулся. Подскочил, повернул голову в сторону воя.
Там шел белый теплоход. Красавец лайнер следовал, судя по всему, мимо меня, однако должен был пройти не так далеко, чтобы не заметить одинокую лодчонку.
Пора было действовать. Я встал на ноги, схватил большое красное полотнище, которое было заботливо приготовлено на дне катера. И начал размахивать им. С корабля меня заметили. Белая громада коротко прогудела несколько раз, однако было незаметно, чтобы она начала замедлять ход. Впрочем, это понятно — такая огромная масса на воде не в силах остановиться быстро. Было видно, что с борта лайнера спускают катер.
Что я им скажу? Я не знал. Обратил внимание только на то, что флаг, развевавшийся над кормой, мне незнаком.
Что ж, похоже, моя судьба совершила очередной крутой поворот. И что он мне принесет?
Катер уже мчался в мою сторону. А я проверил единственную вещь, которая у меня осталась на память об этих месяцах, что я провел на войне — тощенькую пачку долларовых купюр, которые обнаружил в катере. Это все, чем со мной смогли рассчитаться.
1996 год



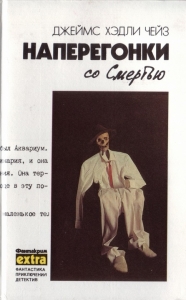
Комментарии к книге «Братишка, оставь покурить!», Николай Александрович Стародымов
Всего 0 комментариев