Сергей Самаров Огненный перевал
Пролог
1
Телефонный звонок раздался среди ночи, и Ширвани Бексолтанов, который только-только уснул нормально, не проснувшись еще окончательно от этого звонка, схватил трубку мобильника, но сразу сообразил, что если экран не светится, значит это не мобильник звонит. Звонок повторился. И только после этого Ширвани перешел комнату и вытащил из кармана пиджака, висящего на спинке стула, трубку спутникового телефона. Мелодии у трубок были похожие, отвечающие консервативному вкусу владельца, признающего только восточные напевы, и спутать спросонья было немудрено.
Определитель номера показал знакомое имя.
– Здравствуй, Уматгирей, – сказал со сна хрипло, но своего недовольства пробуждением не показывая. – Что, у вас в Альпах еще вечер?
Живо выплыло воспоминание о маленьком аккуратном домике на берегу озера в швейцарских Альпах недалеко от границы с Францией. Этот дом не Уматгирею принадлежал, но тот пользовался им, с разрешения хозяина, члена правительства кантона, когда необходимо было провести встречу так, чтобы никто не имел возможности увидеть и услышать беседующих. Бексолтанов уже трижды этот домик посещал.
– Нет, Ширвани, у нас тоже уже ночь наступила. Но в такие ночи не до сна. Надеюсь, не только мне… Что скажешь? Удалось что-то узнать?
– Мало… Но удалось… Весь груз сейчас находится в погранотряде. Троих моих парней пограничники застрелили, захватили двоих моих и твоего парня. Отбить груз у меня возможности нет. У меня нет достаточных сил даже для того, чтобы на самую захудалую заставу напасть, не говоря уже о погранотряде. Лет бы пять назад… Тогда бы я не постеснялся.
– А когда и куда будут груз вывозить? – недовольно спросил Уматгирей.
– Это только Аллаху известно и тем, кто в данный момент моим грузом владеет. Я бессилен что-то узнать.
– Ладно… Что бы ты без меня делал… – донесся вздох из далекой Швейцарии. – Я дам тебе номер человека. Он сам, правда, в Лондоне живет. Но всю необходимую информацию может добыть, не вставая с кресла. Запоминай… Только запоминай, не записывай…
– Я хорошо запоминаю телефоны.
Уматгирей продиктовал номер. Ширвани повторил.
– Как его зовут?
– Не называй его никак. Просто назови свое имя и выскажи свою просьбу.
– Хорошо. Когда ему можно будет позвонить?
– Утром. Учти разницу во времени. Не два часа, как со мной, а три. Они живут «по Гринвичу»… Человек будет недоволен, если ты прервешь его утренний сон. Вдруг ему снится что-то хорошее… Можешь сослаться на меня. Я тебя послал. Я буду оплачивать расходы. А он узнает все. Понял?
– Позвоню… Результат тебе сообщить?
– Я сам тебе позвоню. Ближе к обеду. Если необходимо будет действовать, действуй не стесняясь, и во всем можешь ссылаться на меня.
Уматгирей отключился от разговора, как часто делал, не простившись. Это для того, чтобы собеседник чувствовал какую-то вину, даже если не виноват ни в чем. Старый психологический трюк, который, впрочем, Ширвани прекрасно знал, и потому в ответ на его действие только криво усмехнулся. Впрочем, усмешка у него всегда была кривая, потому что часть его некогда красивого лица была изуродована ожогом, а перетянутая шрамами кожа делала кривой даже доброжелательную улыбку…
* * *
Уматгирей позвонил даже раньше, чем обещал.
– Есть новости, я слышал…
Откуда он вести вылавливает – это всегда было загадкой для Ширвани Бексолтанова. Часто Уматгирей давал задание, потом звонил и уже знал результат, и даже иногда подправлял доклад самого участника события. Докладчика это злило, но Уматгирей любил свою осведомленность показать, видя в этом подтверждение своего значения.
– Есть, – ответил Бексолтанов, глядя за окно на строительство нового здания. Оно обещало быть красивым, каких никогда раньше не строили в столице Чечни. Впрочем, все современные здания, кроме жилых, отличаются от тех, что раньше строили. Город не узнать, но это одновременно и радовало, и раздражало, потому что Ширвани всегда был консерватором, и даже плохое старое для него всегда было лучше любого нового.
– Слушаю тебя. Поделись приятными новостями.
Уже по одним этим словам можно было понять, что Уматгирей знаком не только с тем, что подсказал Ширвани информированный человек в Лондоне, но и с действиями самого Бексолтанова на месте, в Грозном.
– Ты же сам все знаешь…
– Я люблю вникать в детали. Я же никогда не лезу командовать. Что ты задумал, тебе и выполнять, но я могу иногда дать дельный совет, ты сам, наверное, это понимаешь. Потому и спрашиваю…
– Сегодня из погранотряда вылетает вертолет. Через пятнадцать минут должен вылететь. Вертолет приземлится на военном аэродроме. Там его будет встречать ментовская машина, которая заберет попа. Кажется, отец Валентин его зовут. Мне даже по факсу прислали фотографию этого попа. Пожилой толстячок, не способный к сопротивлению. Что касается встречающих… Два мента, водитель и охранник из отдела вневедомственной охраны и наш местный поп. Поедут в Ханкалу, чтобы оттуда вылететь дальше. Наш местный поп тоже не в состоянии сопротивления оказать. Он больной от рождения. Наполовину инвалид…
– Это все я знаю… Что будешь предпринимать?
Все Уматгирей знать, естественно, не мог, но он умеет делать вид, что знает больше, чем было в действительности, и на некоторых это впечатление производило. Но только не на Ширвани Бексолтанова, который своего собеседника слишком хорошо знал.
– Это ты тоже наверняка знаешь… Я приготовил три машины, которые будут действовать, и еще две машины и трактор, чтобы перекрыть дорогу. Две машины столкнутся. Не сильно, но объехать их будет невозможно. Трактор просто сломается и встанет на дороге, никого не пуская. Никто не помешает. С ментами разговор будет короткий. Попы, думаю, угрозы не представляют. И сразу хочу отправить груз в Дагестан. Не завозя его в Грозный…
– Внешне все правильно… Только здесь можно ошибиться. Будь осторожен и точен, не выставь заграждение раньше времени. Вертолет – штука не слишком надежная, а у вас там грозы гуляют… Могут опоздать, и ты «засветишься»…
– Ты и с прогнозом нашим знаком?
– Если я интересуюсь вопросом, то изучаю его со всех сторон. А вообще-то у нас тоже гроза за грозой гуляет, – сказал Уматгирей и отключился от разговора.
А Ширвани взглянул на часы, сам себе улыбнулся в зеркало, не пугаясь своего обожженного лица, и стал одеваться, чтобы отправляться в дорогу. В отличие от большинства боевиков и вообще всех, кто был когда-то боевиками, он не любил камуфлированные костюмы. Ширвани надел черную рубашку и черный повседневный костюм. Подмышечная кобура под пиджаком, даже на все пуговицы застегнутом, была совсем не видна, и на улице никто не принял бы Бексолтанова за человека воинственного, бывшего полевого командира, эмира сильного некогда джамаата…
* * *
Каким бы закостенело консервативным ни был человек, обязательные слабости имеет и его консерватизм. Это правило без исключений. Все консервативные люди на Кавказе предпочитают другим машинам «Волгу», даже зная, что как машина «Волга» по нынешним временам не может быть престижной моделью. Но понятие престижности «Волги» с советских времен осталось и в кровь многих въелось. Ширвани Бексолтанов «Волгу» не любил как раз потому, что любил машины вообще, а хорошие машины особенно. И потому предпочитал ездить на машине очень серьезной не только по цене, но и по престижности – на «Порше Кайен». Уже один вид этой машины не рекомендовал ментам интересоваться личностью владельца. А случись что, по разбитым дорогам за «Кайен» даже не видящий ухабин и глубоких ям «уазик» не угонится.
Вспомогательные группы Ширвани выслал к месту операции заранее. И теперь ждал доклада о прибытии их на место, которое располагалось в зоне устойчивой сотовой связи, и проблем с докладом возникнуть не должно было бы. Сбор основной группы был назначен во дворе большого дома на окраине Грозного. Туда и приехал Ширвани. Как и полагается командиру, последним. Командир ждать никого и никогда не должен. Наоборот – его должны ждать. А потом, после его прибытия, ждать стали уже вместе. Докладов. И они начали поступать. Сначала от вспомогательных групп. Две машины и трактор в дороге. Преодолели уже половину пути. Значит, все идет по плану. Потом поступил доклад от человека, контактирующего с авиационным диспетчером: вертолет вылетел из погранотряда. По дороге он совершит посадку на перевале, где высадит одну группу спецназа и заберет другую. Следующий доклад пришел через тридцать минут: вертолет покинул перевал и держит курс на аэродром.
– Выезжаем… – коротко и по-деловому, почти буднично, скомандовал Бексолтанов. – Интервал три минуты. Дистанцию держать…
Он поехал, естественно, не на своей машине, такой приметной и запоминающейся. Для боевых операций существует множество машин самых простых моделей, которые потерять или даже бросить после операции не жалко – из России пригонят новые, только что угнанные, за бесценок. Но едва последняя машина, в которой и ехал сам Ширвани Бексолтанов, начала удаляться от Грозного в южном направлении, как подала «голос» трубка мобильника. Ширвани посмотрел на определитель номера. Снова звонил человек, который был на связи с диспетчером. Весть пришла непонятная, и потому неприятная – прервалась связь с вертолетом, который вошел в грозовую зону. Последнее сообщение было о том, что вертолет обходит грозовой фронт по дну ущелья. И все… Больше связи не было…
– А что, радары его не видят? – по наивности спросил Бексолтанов.
– Я тот же вопрос задал, – объяснил связной. – Радары видят только то, что над горами летит. Если машина ушла в ущелье, ее не поймать. Горы экранируют.
И что Ширвани оставалось делать после такого сообщения? Отменять операцию, потому что вертолет пропал со связи? А если у него только со связью неполадки? И если он благополучно долетит? Но, с другой стороны, если не долетит, то, выставляя засаду, Бексолтанов может «засветиться» раньше времени.
– Держи меня в курсе дела. Каждую новость сообщай… – потребовал Ширвани и стал сообщать своим помощникам на всех машинах, чтобы готовили запасные варианты развития событий, потому что дело может по времени сдвинуться, но может и не сдвинуться. И надо быть ко всему готовым…
* * *
Время шло, от связного сообщений не поступало. Ширвани успел проехать неторопливо в один конец, развернуться, проехать всем составом машин в другой конец, уже быстро, на случай, если потребуется вскоре оказаться в другом месте. И снова направились к месту организации засады, когда позвонил не связной, а уже сам Уматгирей, снова продемонстрировавший свою магическую осведомленность:
– Что делаешь? Какие меры принимаешь?
– Жгу дорогой бензин, катаясь по дороге туда-сюда.
– Можешь не кататься. Возвращайся. Вертолет, говорят, разбился, иначе уже прибыл бы на аэродром батальона спецназа. Все сроки вышли. И ты отправляешься искать его, пока федералы не могут этого сделать из-за грозы.
– А я могу? Мне туда сколько добираться…
– До грозового фронта тебя подбросят вертолетом. Я договорился. После этого в твоем распоряжении еще два часа. Это все, что может себе тот вертолет позволить. Вы же на вертолете будете искать, невзирая на грозы. Придется рисковать. Вертолетчику уже заплачено. Вертолет у тебя будет маленький, с собой можешь взять только троих. Пока отправляйся в Ханкалу. Людей с оружием выстави где-то в стороне, чтобы вертолет смог забрать их.
– И что, груз стоит того, чтобы входить в громадные траты? – спросил Ширвани с легким раздражением.
– Среди груза есть одна редкая икона известного мастера, которую нам меняют на десять «Стингеров».[1] Русские священники сами не знают цены этой иконы. А коллекционер готов не скупиться. Он много лет потратил на поиски и не хочет отступать. И мы тоже… Десять «Стингеров»… За это стоит рисковать.
– За это стоит… – согласился Бексолтанов.
Минувшей весной в Чечню было отправлено шесть «Стингеров», но ни один не дошел до адресата. Все перехватили федералы…
2
– Разрешите, товарищ генерал?
Человек в штатском, сидящий за громадным по размерам письменным столом, не поднимая головы, посмотрел исподлобья на вошедшего капитана и молча кивнул, показывая на стул, выдвинутый из-под приставного стола для заседаний. Этот стул всегда был специально выдвинут, чтобы вошедшие именно на него садились. И капитан это, похоже, знал.
– Мы попробовали исправить положение, товарищ генерал. Конечно, если бы не пограничники, исправлять ничего не пришлось бы, и избежали бы больших затрат, и это дело оставлять без внимания нельзя, чтобы…
– Что нельзя оставлять без внимания? – перебивая, сердито спросил генерал.
У капитана взгляд нетвердо перебежал по различным предметам, выставленным на столе, и вернулся к бумагам, которые он выкладывал перед собой. На генерала он предпочитал не смотреть, потому что не мог генеральский тяжелый взгляд выдержать, как и все сотрудники управления. Взгляд этот многих заставлял, к собственному их немалому удивлению, заикаться, хотя до этого они всегда, казалось бы, разговаривали нормально.
– Я, товарищ генерал, про позицию пограничников говорю…
– За срыв первоначального плана отвечать будете персонально вы.
– Товарищ генерал, я же ведь предупредил командира погранотряда…
– Телефонным звонком предупредить мог бы и преступник, представившись вашим именем.
– Но мы с командиром погранотряда хорошо знакомы, проводили несколько совместных мероприятий. Вообще, можно сказать, почти приятельские отношения. И он не проконтролировал выполнение своего приказа, в результате чего груз был задержан, трех контрабандистов застрелили, а троих задержали…
– А на основании чего он мог отдать такой приказ? Если бы он отдал такой приказ, его можно было бы судить. Другое дело, если бы вы, капитан, отправили официальное письмо через руководство погранвойск, его можно было бы судить за неотдачу такого приказа. И не пытайтесь уйти от ответственности.
– Я, товарищ генерал…
– Все, этот вопрос больше не обсуждаем. Что там дальше с вашими бандитами?
– Передали им информацию. Они уже занялись организацией. Нашли подходящего человека и, насколько нам известно, уже отправили его в погран-отряд вместо настоящего священника. Все должно получиться. Одновременно мы сделали утечку информации в Швейцарию. Якобы случайно. Нужный человек обратился к тому же самому полукриминальному эксперту с предложением предварительной оценки по фотоснимкам и описанию. Снимки и описание сделаны квалифицированно. Эксперт дал финансовую оценку, получил деньги, а сам тут же передал информацию по цепочке своим постоянным клиентам. Так она дойдет до адресата, а от него вернется к эмиру Ширвани Бексолтанову. Бексолтанова мы контролируем, и каждый его шаг…
Звонок внутреннего телефона остановил речь капитана. Генерал поднял трубку, выслушал и сказал коротко:
– Пусть войдет.
Уже через пять секунд дверь открылась, и в проем вдвинулся бочком и с заметной опаской старший лейтенант. Глянул коротко на капитана, своего начальника, потом посмотрел в сторону генерала:
– Разрешите…
– Что там такое срочное?
– Неприятности в нашем вопросе, товарищ генерал. Сейчас пришло сообщение… Пропал со связи вертолет, на котором вывозили груз из погранотряда. Там идет плотный грозовой фронт, и диспетчер предполагает крушение. В случае крушения все наши надежды…
– А все из-за того, что капитан поленился сделать официальное письмо и понадеялся на личностные отношения… – сделал вывод генерал. – Как будете выкручиваться?
– Будем выкручиваться, товарищ генерал, – твердо пообещал капитан, вставая и на сей раз глядя уже генералу в глаза. – Разрешите идти, чтобы собрать информацию и предпринять возможные меры.
– Идите. И держите меня в курсе дела.
Часть I
Глава 1
1. Максим Одинцов, рядовой контрактной службы, спецназ ГРУ
А ты, мама, никогда не понимала меня… Ты просто никогда не хотела понять, не хотела со мной считаться, не могла мириться с тем, что я тоже имею право на собственное мнение. Ты вообще не понимала, как это я претендую на собственное мнение, когда существует мнение твое… Это в твоей слегка мелковатой, но все же красивой голове никак не укладывалось… А я свое мнение имел всегда, с самого раннего детства… Просто я рано научился приспосабливаться и свое мнение не высказывать, чтобы не слышать твой окрик… Или повелительный крик, если сказать честнее. Тебе же всегда кажется, что тебя понимать не хотят, когда ты не кричишь. Тебе кажется, что тебя упорно не хотят понимать, и потому ты кричишь… А если кричать начинаешь, то уже остановиться не можешь. И все собираешь в одну кучу, что в голове у тебя сидит, все, что в памяти с раннего детства осело и ко мне вообще-то чаще всего никакого отношения не имеет… Ты кричала, а я молча слушал, какой тупой и вечно пьяной сволочью был мой отец, и не возражал не потому, что отца с трехмесячного своего возраста ни разу не видел. Я молчал, и все только потому, что ты принимать возражения от меня не желала и не умела. Я много чего еще выслушивал и втихомолку жалел тебя. Ты кричала, потому что не кричать не могла, а я тебя жалел, потому что ты не можешь не кричать… Ты меня оскорбляла, а я думал о том, сколько ты оскорблений в жизни выслушала, чтобы все их запомнить и высказать потом мне…
Я тебя жалел, и сейчас тоже жалею…
Я и сейчас тебя жалею, мама… Хотя нахожусь так далеко, что твоего крика не слышу… Он другим, наверное, стал, потому что возраст голос не щадит, а ты уже очень даже не молода, и еще потому, что сейчас это не привычный моему уху возмущенный крик якобы оскорбленного твоего собственного необъятного «Я», а крик боли…
Того, кто от боли кричит, всегда жалеешь, даже если это чужой человек. А уж если родной… Я очень сильно жалею тебя, мама…
Потерпи, мама… Я скоро приеду и пожалею тебя не только в мыслях, но и вслух… Я знаю уже, что такие люди, как ты, любят, чтобы их пожалели, и им кажется, что это помогает им чувствовать себя лучше. Я уже давно набрался жизненного опыта, хотя ты об этом никогда слышать не хотела, не допуская мысли о моей самостоятельности. И жизненный опыт подсказывает мне, что тебя надо жалеть…
* * *
Похоже, в облаках ветер загулял круто…
Я сидел спиной к иллюминатору, но живо представил, как где-то там, за алюминиевой обшивкой вертолета, ветер в клочья рвет облака. Даже оглянуться захотелось, чтобы посмотреть, но на коленях у меня лежал мой тяжеленный рюкзак, а поверх него еще и сложенный вдвое бронежилет, поверх бронежилета – «разгрузка», которую я с удовольствием сбросил с плеч сразу после посадки, а в «разгрузке» карманы набиты запасными спаренными рожками к автомату и гранатами к подствольному гранатомету. Я хотел перед вылетом передать гранаты и запасные патроны тем, кто оставался, но командир взвода распорядился сдать их на склад в батальоне, потому что во взводе и так у каждого полный боекомплект вместе с боевым. Гранаты и патроны оставляют только те, кого сменили. Там, в карманах «разгрузки», еще много всего, нелегкого и хорошего, нужного на войне, – моток проволоки для установки «растяжек», кусачки для этого же, увесистый кастет из нержавеющей стали, трофейный пистолет, который я «забыл» сдать командиру, правда, в пистолете всего два патрона, и подобрать другие сюда пока не удалось, но это не беда… А поверх «разгрузки» уже и автомат пристроен. Тоже с полным рожком. Итого больше шестидесяти килограммов веса на коленях. Не хочется с таким грузом вертеться, чтобы что-то не свалилось и чтобы не пришлось потом все это сооружение заново пристраивать. Я и без того с трудом создал эту неустойчивую горную вершину, достающую мне до носа. Ветер и спиной, без разглядывания облаков, чувствовался по вибрации корпуса тяжелой военно-транспортной машины.
На вертолетах я за год службы в спецназе налетался вдосталь. И всегда на военно-транспортных. Ни разу на нормальном пассажирском летать не доводилось. Кто летал, не на службе, конечно, а на гражданке, говорят, что разница такая же, как между люксовым «мерином» и большегрузным «КамАЗом» с переломанными рессорами. В пассажирских нормальные сиденья есть и располагаешься так, что иллюминатор сбоку. Любуйся на здоровье сверху местами, которые пехом уже не один раз протопал… На военно-транспортных же вертолетах сиденья откидные вдоль борта. Именно сиденья, а не кресла и не скамьи. Такие же почти, как в вагонах поездов. Неудобные, часто слегка, но не до конца сломанные и стоящие не параллельно полу, отчего при легком крене машины тебя сбрасывает, как из кузова самосвала, вместе с рюкзаком, и ты стараешься удержаться сам и рюкзак и все, что на него наложено, удержать, но это не всегда и не всем удается…
А вертолет болтало все сильнее и сильнее. В без того полутемном салоне совсем стемнело. Похоже, за иллюминаторами тучи густые и мрачные собрались, и мы, уподобляясь воздушному танку, тараним их. Впрочем, тучи для нас неожиданностью не были. Нас предупреждали, что можем и не вылететь, потому что впереди грозовой фронт. Чего-то ждали, потом вылетели. И кажется, туда и угодили, куда пилоты угодить опасались.
Потом вертолет ниже опустился, покинул зону облачности, и снова стало светлее, хотя и не намного, потому что под тучами быть светло, как под солнцем, не может. Но в горах вообще летать среди облаков рискованно – мало ли где на вершину нарваться можешь. Но и внизу летать не легче. Конечно, опасений, что могут сбить, практически нет… Не те уже времена, и бандиты не те, и вооружение у них уже не такое, чтобы каждую машину сбивать… Но тяжелому вертолету вертеться, пролетая где-нибудь над дном ущелья, уворачиваясь от стремящихся навстречу скал, несподручно. Как все тяжелое, большегрузный вертолет малоповоротлив, и вопрос упирается вовсе не в реакцию пилотов, на которую приходилось полагаться всегда, при каждом полете…
Несколько раз неуверенно мигнув, все же зажглись дополнительные лампочки в потолочной консоли, создавая ощущение вечернего времени суток, до которого вообще-то было еще немало часов.
С появлением света в салоне я в который уже раз развернул лист бумаги, что держал в кармане под рукой. Радиограмма предназначалась командиру нашего батальона, была заверена лечащим врачом и военкомом района, и, в дополнение, старшим смены телеграфистов городского почтамта, но рукой радиста записанную копию переслали мне, и на этом же листе был записан приказ командиру нашей роты отправить меня в батальон с ближайшим транспортом. Отпуск в таких ситуациях, как у меня, обычно предоставляется без сомнений – мама в тяжелом состоянии, предстоит проведение операции по удалению опухоли. Болезнь своим названием говорит, что задерживать такого отпускника нельзя, – рак желудка. Для всех отпуск – в радость, но может ли быть кому-то в радость такой отпуск, как у меня, я сомневаюсь… Какими бы сложными ни были наши с мамой взаимоотношения, но мы, каждый по-своему, всегда желали друг другу только добра и друг друга любили…
Два дня я был в натуральном смысле как на иголках. Ни спать, ни сидеть, ни ходить нормально не мог, пока слегка не свыкся со своими мыслями. Со всем, оказывается, можно свыкнуться, и все можно пережить. Можно свыкнуться даже с тем, что мама обречена – по крайней мере, таковым было мое понимание рака как болезни. Но странно было свыкнуться, пока мама была еще жива, странно было считать ее уже не живой, когда она там все еще страдает и ждет меня как свое утешение, как какую-то надежду… Надежда в каждом человека жива до последнего момента жизни, и все умирающие надеются, что чудо произойдет и они станут здоровыми. И мама наверняка надеется… И ждет толчка, который направит ее на выздоровление, считая, что этим толчком может стать приезд сына… Пусть ненадолго… Главное, толчок дать… И я стремился дать этот толчок, понимая в глубине души тщетность этих надежд и коря себя, что думаю о матери, как об умершей в то время, пока она еще жива…
Первый ближайший транспорт выпал только на четвертый день ожидания, когда вертолет привез взвод на ротацию и забрал взвод, который находился на перевале уже два месяца. Транспорт именно выпал, потому что ждали его еще через два дня, но из-за погодных условий, которые в горах всегда считаются важным фактором, расписание изменили.
Мы вообще окопались здесь, на месте, силами четырех взводов своей большой роты, основательно и плотно держали этот перевал, через который шли несколько троп в Грузию и через который трижды уже пытались прорваться небольшие недобитые банды боевиков. За спиной у нас только пограничники в долине. Но там посты жидкие, граница контролируется нарядами, которые не слишком часто проходят по одному участку, и перейти границу небольшой группой, выбрав удачный момент, можно без проблем и без выстрелов. А если группа большая и сильная, пусть и заметная, пограничный наряд из двух-трех человек тем более ее задержать не сможет, только сами парни головы в зеленых фуражках сложат. И мы сидим на перевале, чтобы к границе никого не подпустить. Два взвода нашей же роты были постоянно в резерве и меняли то одних, то других. Я за полтора месяца службы здесь перевал еще не покидал, и еще бы две недели не покинул, если бы не радиограмма…
Но лучше бы ее не было…
Вертолет за нами был не только на нас нацелен, но выполнял одновременно еще и попутный рейс в отдаленное, стоящее на самой границе, дагестанское село и в расположенный там же погранотряд. Мы были последними, кого вертолет забрал. Так было каждую смену, и совмещение армейских, пограничных и гражданских интересов никого не удивляло, поскольку в труднодоступной горной зоне подобное является естественным и привычным явлением. И помимо нашего сменного взвода в вертолете оказались три офицера-пограничника, двое караульных солдат-пограничников с тремя задержанными контрабандистами в наручниках, а один из офицеров был с беременной женой, мелкой и худосочной скрюченной женщиной, с животом чуть ли не больше, чем она сама. Попутно захватили двух местных жителей из приграничного села и какого-то средних лет священника, несуразно высокого и узкоплечего, бесконечно теребящего жидкую бородку и что-то шепчущего себе под нос, изображая кротость и смирение, хотя глаза священника были откровенно козлячьими и глумливыми, совсем не соответствующими тому, что он так старательно изображал…
* * *
Если где-то и громыхала гроза, то нам в вертолете слышно ее не было. Нам друг друга-то слышно не было, потому что военно-транспортный вертолет, кажется, и состоит из одного шума. То есть существует, конечно, еще и двигатель, который этот шум производит, и все… А вся обшивка тяжелой машины в счет как-то не берется и всерьез не воспринимается, потому что она не только не спасает от шума, но, напротив, сама шумит и дребезжит. Помню, когда нас на перевал доставляли, младший сержант Мишка Плотников ковырнул пальцем обшивку, и в руках у него осталась заклепка – из стены вытащил. Мишка даже маленькую дырку показал, в которую ему видно было небо. Правда, потом в эту дырку сильно дуло, причем целенаправленно ему в затылок… И сколько Мишка ни пытался заклепку на место вставить, она вываливалась. Так и летели, а Мишка потом жаловался, что ему чуть голову ветром не снесло, оттого и голова потом сутки болела…
Но сейчас мне шум был только на руку. В нашем взводе все знали о радиограмме и не доставали с разговорами, понимали, что для меня постороннее любопытство болезненно. А в чужом взводе у многих интерес появлялся, по какой причине я с ними улетаю. Но вертолет хорошо и умно шумел и не позволял разговаривать… Правда, еще перед вылетом, когда вертолета на площадке ждали, спрашивали… Я отвечал коротко, что лечу в отпуск. Без объяснений, хотя такой отпуск никому не был понятен…
* * *
Ты, мама, никогда не понимала меня… Еще с детства…
И я, наверное, тоже никогда не понимал тебя до конца, но разница между нами была в том, что ты понять меня и не стремилась, а я, наоборот, стремился понять, потому что это стремление обещало мне возможность не защиты, а просто удачной адаптации в общении с тобой. Ты же тоже справедливо считала, что я должен к тебе всегда и постоянно пристраиваться, к твоему поведению, к твоему образу мыслей и не смел выходить за те рамки, в которых ты меня старалась держать. Грубо говоря, так собак держат на строгом ошейнике, чтобы были послушными и не позволяли себе лишнего. Только собаки, когда от строгого ошейника избавляются, все же ищут выход для своей энергии… Иногда делают это незаметно, но все равно делают по-своему… Ты хотела сделать из меня подобие дисциплинированной собаки, не понимая при этом собачьей психологии. Помнишь, как ты водила меня в музыкальную школу, чтобы сделать из меня скрипача? У тебя тогда завелся друг, музыкант и пьяница, и он сказал тебе, что скрипач среди музыкантов – всегда значимая величина. И еще этот музыкант спьяну сказал тебе, что у меня великолепный музыкальный слух, хотя мне казалось, что у него у самого со слухом, мягко говоря, не совсем хорошо, несмотря на то что он музыкант… По крайней вере, даже я слышал, что он неправильно поет, когда пытался что-то изобразить за столом под гитару. Но на тебя эти его неосторожные слова впечатление произвели. И ты решила, что я должен стать скрипачом…
Для меня же это было кошмаром… Я до сих пор с зубной болью вспоминаю все эти уроки музыки. Три года издевательства над ребенком. И еще помню, что ты тогда не разрешала мне играть во дворе в футбол с мальчишками, чтобы я пальцы не повредил. Ты однажды видела, как я стоял в воротах и ловил сильно летящий мяч. Я не смог его поймать и отбил ладонями… Ты испугалась за мои пальцы. Что за скрипач будет со сломанными пальцами? И ты запретила мне играть в футбол. Не только в воротах стоять, но вообще запретила, потому что не видела разницы между нападающим и вратарем, и до сих пор, наверное, не знаешь, кто из них играет руками, а кто ногами. А надо мной во дворе друзья смеялись из-за того, что я тебя слушаюсь. Но попробовали бы они сами такую маму не послушаться. Тогда, уверен, перестали бы смеяться. Кто-то, может быть, и заплакал бы… А я плакать уже не умел, я только губы сжимал так, что челюсти сводило. Я даже тогда не плакал, когда мальчишки по моей просьбе били мне по пальцам каблуком, чтобы я не ходил больше в музыкальную школу… Это было как раз незадолго до экзаменов… Тебе я, конечно, сказал, что просто споткнулся и упал. В результате сразу два пальца сломаны… Ты, слава богу, не кричала на меня. Ты испугалась… Потом ты пошла к директору музыкальной школы, чтобы хоть как-то договориться о переносе экзамена по специальности. Там тебе сказали, чтобы ты сильно не волновалась и не суетилась, не выдумывала несуществующую трагедию, потому что для скрипача у меня со слухом не совсем хорошо – скрипачу слух нужен абсолютный, которым меня Бог не наградил, и я в лучшем случае, если не буду лениться, могу стать не музыкантом, но просто музыкально образованным человеком, и ты слегка успокоилась… Со своим музыкальным пьяницей ты уже рассталась, и некому было дать тебе авторитетную подсказку. А музыкально образованный человек… Такой статус сына тебя не так чтобы полностью, но тоже не совсем устраивал… И ты решила, что тратить время на «просто музыкально образованного человека» не стоит, потому что ты всегда и сама хотела быть исключительной и единственной, и меня всегда желала видеть именно таким…
Но ты до сих пор не знаешь, как я тогда сломал пальцы… И хорошо, что не знаешь… Это сильно расстроило бы тебя. Думаю, это было бы в состоянии расстроить тебя даже сейчас. Это бы по твоему самолюбию ударило болезненно, а твое самолюбие – это твое самое слабое место. Но я не скажу. Я никогда тебе не скажу этого, потому что не желаю причинять тебе боль, не желаю расстраивать тебя. А сейчас уж тебе тем более никак нельзя волноваться и расстраиваться, это понимаю даже я, человек, старательно убегающий от врачей даже во время болезни и так мало смыслящий в медицине вообще…
Это, если ты в состоянии, мама, понять такое, тоже результат твоего воспитания. Это ты любила ходить по врачам и меня таскала к ним после первого же чиха. Вот потому, став взрослым, я только по критической необходимости к врачам обращаюсь. И если болезни появляются, я их всегда на ногах переношу, потому что врачи говорят всегда так же категорично, как и ты, и так же бывают почти всегда неправы. Очень категорично говорил о моем врожденном пороке сердца врач, которого ты нашла через своих знакомых. И предлагал провести немедленное зондирование. Мне должны были вскрыть вену в бедре, ввести зонд, который должен дойти до сердца, а потом показать результат. Может, все было не совсем так, как я помню, но времени прошло уже много, а было это, когда я в шестой класс перешел. Но это, в любом случае, была операция. И врач категорически на ней настаивал. И хорошо, что к тебе вечером соседка зашла… Она посоветовала к другому врачу сходить. Ты меня повела. Другой врач вообще порока не нашел, хотя так же категорично сказал, что шумы в сердце есть, но они есть у любого подростка, потому что организм растет, развивается, и шумы при этом могут говорить о неравномерности роста, скажем, костяка, внутренних органов организма и мышечной массы. И посоветовал спортом заниматься…
Это было как раз тогда, когда закончилась моя эпопея с карьерой скрипача. И такой совет очень даже отвечал твоим желаниям. Тебе все же по-прежнему хотелось сделать меня знаменитостью… И ты, никогда спортом не интересовавшаяся, сначала хотела отвести меня в футбольную спортивную школу, потому что кроме футбола и фигурного катания не знала, наверное, ни одного вида спорта. Фигурным катанием твоя младшая сестра занималась, что-то там застудила себе на льду и потом многие года мучилась от разных болезней. Это был опыт, который ты учла, и фигуристом меня сделать не пожелала. Выбрала футбол… Потом кто-то сказал тебе, что в нашем городе даже серьезной футбольной команды нет, есть только хоккейная, зенит славы которой уже прошел, и ты стала узнавать, где в нашем городе «делают» знаменитых спортсменов. Оказалось, у нас была чуть ли не лучшая в стране школа дзюдо… И тогда ты отвела меня туда…
За это тебе, мама, спасибо большое. Знаменитостью я и здесь не стал, у меня даже стремления к этому не было, хотя по характеру был упорным и терпеливым человеком и умел двигаться к цели, но стал хотя бы мастером спорта, физически крепким парнем, умеющим и за себя постоять, и за других, если в этом случается необходимость… И характер у меня воспитался в дополнение к тому, что я сам в себе воспитывал в противовес твоему воспитанию. И именно это сыграло важную роль, когда я захотел попасть в спецназ ГРУ… А вот что я попаду в спецназ ГРУ, ты, конечно, никак не рассчитывала. Ты хотела видеть меня раз уж не музыкантом или спортсменом, то хотя бы экономистом. И заставила меня поступить в университет на экономический факультет. Но я, став к тому времени уже почти взрослым и научившись внешне слушаться тебя, но поступать по-своему, не хотел быть экономистом. Мне совсем неинтересны были финансы и все, что с ними связано. Карьера банкира меня совершенно не интересовала…
И я поступил по-своему…
Не спросив твоего согласия, чем, конечно, доставил тебе боль…
* * *
Кажется, в небе начались неполадки…
Вертолет снижался все сильнее, а в салоне становилось все темнее, потому что слабые потолочные лампы осветить весь салон были не в состоянии. Они и не предназначались для того, чтобы пассажиры могли читать во время полета.
Разговоров слышно не было, но ощущение при этом было такое, словно обеспокоенный ропот пробился через шум двигателя. И я тоже почувствовал себя неуютно. Потом торопливо прошел в хвостовую часть, к самым выдвижным грузовым дверям, один из членов экипажа. В руках какой-то прибор нес, а на голове у него светился налобный светодиодный фонарик. Назад, в кабину пилотов, вернулся почти бегом…
За ним к кабине пилотов пошел и старший лейтенант Воронцов, командир смененного с перевала взвода, – тоже пожелал выяснить обстановку. И выглядел старший лейтенант слегка обеспокоенным и сосредоточенным. Впрочем, у него, насколько я помню, всегда такой вид, и это мало о чем говорит. За старшим лейтенантом поднялся, перекрестился и двинулся туда же высокий священник с козлячьими глазами. За священником, обменявшись несколькими фразами с сослуживцами, пошел к пилотам и тот из офицеров-погранцов, что вез беременную жену.
Мы все следили за этими перемещениями внимательно и настороженно. Настороженность уже в воздухе внутри вертолета повисла и была тугой и тяжелой, ощутимой…
Я тоже беспокоился, хотя и не слишком. Наверное, у меня мысли были другим заняты, и потому я не боялся грозы, что громыхала где-то рядом. Но все же следил глазами за происходящим, как следил бы любой другой на моем месте…
* * *
Ты, мама, всегда хотела все обо мне знать. Ты мне постоянно говорила, что все должна обо мне знать, и устраивала мне порой настоящие допросы. И не понимала, как это глупо. Я же, мне кажется, никогда глупцом не был. Даже в детстве. Еще до школы, помню, я уже научился угадывать, что понравится тебе, а что не понравится, и учился говорить только то, что ты хотела бы услышать. Удивляюсь, почему я не вырос лицемером при такой жизни. Не вырос, и хорошо. Я вырос спецназовцем… Я не случайно попал в спецназ, открыто выступив против твоей воли, но теперь думаю, что буду и в военное училище поступать. Я хочу стать офицером спецназа ГРУ. Даже в том случае, если ты, мама, будешь против… Особенно в том случае, мама, если ты будешь против…
Помнится, ты меня порой в слабоумии обвиняла, когда отца моего вспоминала и всю мою родню по отцу… Кажется, у отца была слабоумная с маминой точки зрения сестра. Это было тогда, когда я выслушивал твои требовательные и грозные наставления, а делал все по-своему. И это проявлялось даже в мелочах. Ты видела основой моих поступков только одну причину – слабоумие, и не понимала, что это естественное мое желание быть не продолжением тебя, а только самим собой. Даже началом самого себя, потому что полностью быть самим собой я, естественно, тогда еще не мог…
Я сам удивляюсь, как я умудрился все же стать самим собой. Скрытным – да. Малообщительным – да. Но самим собой… И во мне переплелось одновременно и умение выслушивать приказы, и умение действовать самостоятельно, когда это становилось необходимым. А что лучше придумаешь для солдата спецназа…
Так, мама, во многом благодаря тебе я стал хорошим спецназовцем. Командиры говорят, что я хороший солдат, и, помнится, тебе даже благодарность по этому поводу посылали…
Боюсь только, что тебя эти благодарности расстраивали, а не вызывали в тебе гордость за сына. Это было бы вполне в твоем характере…
2. Святой Валентин, авторитетный кидала
Грешен я, грешен, и прекрасно это осознаю…
А разве не все, матерь вашу, грешны? Давайте не будем спорить… Все, потому что мне знать лучше многих, кто якобы чистотой своей гордится… Ибо: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать…»[2] И это ко всем относится. А Псалтирь цитирую я, кажется, правильно. У меня с детства память была близка к гениальной, только в детстве я не знал этого и считал сглупа, что так и должно быть, что так у всех есть. Никто мне вовремя не подсказал, иначе вся моя жизнь могла бы сложиться по-другому. Жалко, конечно, что я в детстве своей памятью не пользовался, а надо бы было пользоваться по полной программе. Но я позже пользоваться начал… И неплохо начал… А что греха касаемо, то покажите мне человека, который первым бросит в меня камень, ибо сам безгрешен… Правда, это уже из другой оперы… Тем не менее, я этому человеку с удовольствием накачу промеж честных глаз так, чтобы он, матерь вашу, перманентно косить из стороны в сторону начал, и на себя самого уже другим взглядом в зеркало смотрел. Могу даже с великим удовольствием крестом накатить, что у меня на груди сейчас висит. Впрочем, у меня кулак тяжелее, хотя сам я пусть и высок ростом, но внешне крепышом не выгляжу…
– Что, отец Валентин, молиться будете? – недобро и с непонятным укором, словно это я был виноват в неполадках вертолета, которые я почувствовал уже по одному только общему поведению, спросил меня капитан-пограничник. Есть такие люди, которые всегда стремятся найти виновных в тех, кто рядом с ними в сомнительный момент находятся. И выбирают обычно себе жертву из тех, что ответить крепко не может. Но это уже комплимент мне. Значит, я хорошо лицедействую, если во мне кроткое существо видят, хотя кротким нравом я никогда, даже в трудные и скучные для меня годы семинарского обучения, не отличался.
Мы с этим капитаном, кажется, его фамилия Павловский, познакомились в погранотряде, когда я получал конфискованные у контрабандистов иконы. Непонятный какой-то смурной мужик, недобрый и чем-то всерьез озабоченный. У жены роды предстоят тяжелые, и потому ее требовалось отправить в город, где врачи-специалисты есть, а он с ней обходится как с нарушителем границы. Если и разговаривает, то короткими фразами из разряда «да-нет». А женщина, похоже, еле живая, все время за живот держится, будто боится плод ненароком выронить… В пограничной санчасти гинеколога вообще никогда не держали, там всем заправлял молодой лейтенантик-терапевт, только что прибывший после окончания военного медицинского института, а в дагестанском соседнем большом селе вообще только полуграмотный немолодой фельдшер, плохо разговаривающий по-русски и медицинские понятия черпавший в молодости из подробной инструкции по эксплуатации колесного трактора. Диплом медицинского колледжа он, скорее всего, где-то купил. В Москве такие дипломы можно прямо в метро заказать, и через час он будет на руках… Слышал я, что там же ненамного дороже стоит звание академика или должность профессора…
– Я помолюсь… – сказал я громко и твердо, чтобы и сквозь шум винтов слышны были слова. – Кто надежду и потребность чувствует, тоже помолится… Кто грехи свои помнит и чувствует… Всем нам по грехам нашим дается испытаний в жизни, и это испытание тоже…
И смиренно опустил свои несмиренные глаза.
– Долетим… Не впервой… – сказал старший лейтенант из спецназа ГРУ. Этот был вообще какой-то неприлично спокойный парень, которого, кажется, трудно было бы смутить даже нацеленной на вертолет ракетой. – Мы однажды на простреленном двигателе полтораста километров тянули. А сейчас просто обойдут грозовой фронт стороной, и все.
– На такой машине только над дном ущелья и летать… – проворчал капитан. – Первое же дерево нашим будет…
– Мы на вертолете, а не на «Жигулях», – заметил старлей. – Выше поднимемся…
– Что там у них за неполадки? – вроде бы между делом спросил я, никак не показывая волнения.
Впрочем, особо я и не волновался, полагаясь на свою обычную удачливость.
– С электропроводкой что-то. Датчик показывает то, чего нет. С датчиками это бывает. Особенно в грозу… – пожал плечами старлей.
И прошел мимо нас в пассажирский отсек. Вообще-то это был, наверное, и не пассажирский, а грузовой отсек, судя по одинарной обшивке корпуса, но, поскольку груз из вертолета выгрузили в погранотряде, а загрузили в отсек только людей, нас то есть, в дополнение к тем, которых потом высадили на перевале, но взамен высаженных взяли новых, отсек превратился в пассажирский. А я значился там пассажиром… Среди других… И даже своеобразную регистрацию прошел у второго пилота, который проверил мои документы. Не паспорт, а только доверенность на получение и перевозку упакованного груза…
* * *
Попал я в эту ситуацию, можно сказать, случайно и по собственной глупости, потому что иначе чем глупостью желание делать то, что не в состоянии сделать другие, назвать нельзя. Не могут, ну, и не надо. А тут выпендриться, матерь вашу, хочется – желание славы грызет и гложет. Я могу то, что вы не можете. Хотя есть, наверное, и иные, кто может, но просто их в нужный момент в нужном месте не оказалось. А среди тех, кто оказался, я был единственным и неповторимым, каким всегда имею стремление быть…
Сейчас, когда я в рясе, я вполне откровенно могу сказать, что это и есть чистейшей воды гордыня, достойная осуждения и искоренения. Но если я есть такой, если мне нравится быть таким и я всегда стремлюсь подтвердить мнение о себе, то возражать против такой манеры поведения, пожалуй, и не буду. Да, гордыня во мне живет и хорошо питается, и никогда, насколько я помню, не икает… А в рясе я хожу в последние годы не так и часто…
В тот раз меня пригласили в хорошую компанию побаловаться картами. Вообще-то меня туда обычно не приглашали, потому что сам я из другой компании, рангом, грубо говоря, повыше и играющей по-другому, но выдалась случайная встреча:
– Святой! Ты здесь откуда… – словно бы я из подполья вылез, и никто меня уже пару столетий не видел, и словно бы никто не говорил о том, что я в городе.
– Отдыхаю, матерь вашу…
Дальше, как полагается, полился случайный разговор, который, естественно, начинался с вещей вообще посторонних, но был так ловко построен, что невольно пришлось вспомнить несколько моих нашумевших выигрышей, особенно тот, когда я выиграл в покер у заместителя начальника областного управления ФСБ машину вместе с гаражом. Его королевский покер нарвался на мой тузовый покер. Причем об этом случае – строго в контексте разговора – мне пришлось вспомнить, самому… Но я этого полковника тогда так ловко своим смиренным сомнением завел… Сумел уверить его, что я блефую. И моя ряса его смутила, и мои бесконечные цитаты из Писания, всегда выложенные к месту, и не исковерканные, как их обычно коверкают… Священник коверкать не будет, а я умею быть почти настоящим священником. Впрочем, об этом случае все сведущие люди знают и мою профессиональную наглость оценивают по заслугам. А разве не заслуга это – сдать полковнику королевский покер, а себе сдать тузовый. И тот и другой по отдельности, как мне сказал на следующий день сам полковник, заложивший расчеты в компьютер, встречаются один раз в шестнадцать тысяч лет, если играть ежедневно по восемь часов и проигрывать при этом поочередно все покерные ситуации. А тут сразу два покера, и каких!
Так вот зашел конкретный разговор о картах, об играющих людях, что в настоящее время в городе осели, но не входят при этом в круг моих компаньонов, поскольку не имеют соответствующей квалификации и не ходят, естественно, в казино. Так и состоялось приглашение…
Я приглашение принял охотно и с улыбкой, хотя ситуацию просчитал достаточно легко, и сразу стал думать, где у меня пересеклись пути с кем-то из этой компании. Это на случай серьезных разборок. Ничего не нашел. Просчитал еще трижды, и снова без результата. Я вообще со своими человек неконфликтный и потому не позволяю себе лишнего никогда. Предел то есть чувствую, так же как и беспредел, и «понятия» всегда уважаю… Задуматься было над чем… Играли они без меня и спокойно могли бы играть дальше. Но захотелось со мной встретиться. Что еще от меня надо, если подыскали такой удачный повод и даже не поленились подготовиться? Ответ сам собой напросился – есть интересное, какое-то замысловатое дело и меня позовут в долю. Причем в дело, где без меня обойтись не могут, иначе не звали бы. В городе есть несколько «кидал» достаточно хорошего уровня. Не моего, конечно, но тоже профессионального. Но позвали меня, зная, сколько может стоить такое приглашение. Следовательно, мне отведена роль главная и платить мне будут хорошо, а я пока по мелочи в последнее время промышлял – картишками и обдумывал между тем свою давнишнюю идею – какую секту мне создать, чтобы она выглядела убедительной для людей верующих и была бы при этом в состоянии обеспечить мне приличное и даже, как желательный вариант, безбедное существование. Я уже давно мечтал о чем-то подобном. Зря, что ли, два года своей молодой жизни потратил на учебу в семинарии. Но в моем понятии экономический эффект должен быть не меньшим, чем от пресловутого «МММ», иначе не стоит связываться. Не люблю мелочиться… Но чтобы начать работать по-крупному и не растягивать тягомотину на оставшиеся до конца света века, нужны сразу же весьма немелкие капиталовложения. А средств у меня пока не хватало. Следовало найти приработок. И вот приработок сам пришел, хотя я даже не молился о помощи свыше…
Человеку не дано знать все. И потому, просто на всякий случай, подстраховку из пары толковых парней, готовых к любому повороту событий, как большинство из нынешних молодых, я выставил и, еще раз просчитав возможные варианты, успокоился и пошел в гости с чистой совестью…
Была, естественно, игра, и я даже выигрывал почему-то неприлично явно. Настолько явно, что не мог не заметить необоснованный риск своих партнеров. Потом прозвучал звонок в дверь, и я понял, что процесс пошел… Нормальный процесс, разработанный и продуманный настолько, что я сразу просчитал – коллега-«кидала» среди них тоже есть, и именно он всю «многоходовку» подступа ко мне тщательно продумывал…
Обществу принесли весть… И выкладывать ее стали почему-то при мне. Это был вообще-то прокол, и я не одобрил план. Такой план мог прокатить с каким-нибудь лохом… Даже с начальником ментовки любого уровня, но не с другим «кидалой», уровнем повыше… Я понял, что информацию под меня «гонят», и постучал по столу, привлекая общее внимание.
– Что ты? – меня спросили словно бы мимоходом. Они еще из игры не вышли. Вышли из карточной, но не вышли из своей большой, главной…
– Внимания аудитории прошу…
Все смотрели на меня молча.
– Баловаться перестанем. Меня пригласили для дела, так давайте о делах и без лирики…
Они переглянулись, кивнули друг другу и вернулись за стол.
– Приятно иметь дело с профессионалом. Когда просчитал?
– Когда пригласили. Сразу… Посреди улицы.
– Тогда мог бы нас и не обыгрывать… – последовал кивок на стол.
– Подтверждение запоздало… – показал я на последнего пришедшего. – Выкладывайте.
– Так ты согласен?
– Как я могу быть согласным, если не знаю, о чем речь. Но если я выслушиваю подробности, я обычно соглашаюсь.
– Святой нужен… Святой отец… Ты же – Святой…
Кличку я получил после первой «ходки»… Иной клички и быть не могло для бывшего студента семинарии и вообще грамотного в вопросах веры человека.
– Не очень понял… – сразу решил я преподать урок. – Я скорее подумал бы, что вам нужен священник. Священник – это вовсе не святой. Он может стать святым, но для этого нужно им стать… Хотя бы таким, как я… Так что, священник нужен?
– Нужен. И даже желательно, чтобы он носил твое имя, потому что документы выписаны на отца Валентина. И не покровителя влюбленных…
– Я тоже влюбленным не покровительствую, – решил я преподать еще один урок. Люблю, признаюсь, эрудицию показать. – И вообще не было в истории такого покровителя влюбленных, а вся эта чехарда с праздником – работа крупных американских, а потом и европейских «кидал»… Большая афера, которая уже много лет работает…
– Ты о чем? – переспросили меня.
– Я о том, что было всего два святых Валентина, но ни один из них не совершал того, что приписывают покровителю влюбленных. Просто дельцы, выпускающие сувенирчики, открытки и всякую подобную дрянь, раскрутили праздник, который сами придумали. А народ – быдло… Ему лишь бы что-то попраздновать. Народ в очередной раз по всему свету «кинули», заставили раскошелиться, а он и рад… Учитесь деньги делать.
– Умно… И с Уголовным кодексом к ним не придерешься. Но, может быть, к нашему делу вернемся…
– Поехали, – согласился я.
– Дело простое. В деревне был старинный действующий храм. Музейный, потому и действующий. Иконы ценные… Особенно одна – шестнадцатый век. Иконы из храма пропали. Сигнализация была включена, церковь была закрыта, а иконы пропали.
– Как? – поинтересовался я.
– Говорят, старый план нашли. Там подземный ход. Остальное – дело техники. Кто хочет, сделает. Вместе с сигнализацией… И сделали…
– Нормально… А кто?
– Чечены. Крутые ребята, но не из боевиков. Может, из «подкормки» боевиков, но не больше. Это тоже серьезно…
– Видали таких… И что?
– Груз – шестнадцать икон, вывозить собирались через Грузию. Пограничники парней тормознули… Троих подстрелили, двоих «повязали», пятеро ушло в горы. А тут к нам информация пришла… Короче, дело сейчас обстоит так. Туда, к пограничникам, поедет священник отец Валентин. Он сам из Москвы. Какой-то чиновник патриархии… Сначала сюда заедет, в нашу область. Ограбленный храм посетит. Ему передадут фотографии всех похищенных икон. Их там, на границе, втрое больше. Из разных мест. Ему выбрать надо… Заберет иконы, отслужит благодарственный молебен в погранотряде, благословит на защиту рубежей, потом привезет найденные иконы в храм. Остальные передадут патриархии для разбора… Дело обычное… И вот у нас тут появилась, понимаешь, идея… Но без тебя никак…
– Ничего нет проще, – сразу и конкретно согласился я. – Условие одно – никакой «мокрухи»… Отца Валентина придержать до моего возвращения… А я все дела сделаю…
– Все?
– Все.
– А молебен? Справишься?
– До этого справлялся, бывало… – признался я не без гордости, но нарочито мимоходом. Должны знать, что имеют дело с профессионалом, и не сомневаться, если уж в дело втягивают.
– Что, и службы проводил?
– Почему же нет. Все приходилось. Я же отец Валентин…
– Не смущает, что ехать придется в Чечню? На границе с Дагестаном и Грузией…
– Там что, погода скверная? – прервал я пустословие.
– Тогда говорим об оплате…
– Это обязательно. Этот вопрос меня весьма даже волнует. Я хочу пятьдесят процентов от общей стоимости…
У них челюсти отвисли, да так и застряли в висячем положении, как ковши мирно дремлющих экскаваторов….
– Борзеешь…
– Нет. Торгуюсь.
– Тогда давай торговаться. Больше десяти процентов ты не получишь все равно.
– За десять процентов пусть тот лох работает, который продумывал мое приглашение сюда. Может, у него что и получится…
* * *
Вертолет побалтывало так, что зубы, матерь их, с неизбежной испанской грустью и страстью изображали собой кастаньеты. Правда, я настоящих кастаньет не слышал, хотя дважды отдыхал в Испании у друзей по «зоне». У них там вполне приличные, по нашим понятиям, и сверхприличные, по понятиям испанским, виллы. Но пока мне было не до этих воспоминаний…
Я вернулся на свое место. Там, на сиденье, вибрация была еще сильнее. И я заметил, как по-разному оценивают ситуацию солдаты. Но вообще-то они спокойно и достойно себя ведут, хотя, конечно, обратили внимание на некоторую суету своих командиров и экипажа, да и то, что вертолет совершает непонятные маневры, трезвому тоже трудно не заметить. Но страха, а тем более паники, свойственной, как я слышал, хотя сам такого не наблюдал, гражданским лицам, никто не показывает. Паника вообще – вещь страшная. И магнетизм толпы – вещь тоже страшная. Достаточно в толпе одному испытать панику или восторг, и стоящие рядом тут же заражаются этим и наступает цепная реакция, в результате которой эффект передается на всю толпу. Эту особенность толпы прекрасно знают вожди всех народов, и потому они любили и любят перед толпами выступать, будь то хоть Сталин, хоть Гитлер, хоть Ельцин, хоть кто-то другой. Но солдаты, слава богу, это не толпа. Это организованная группа лиц, передавшая все вопросы управления собой командованию, и потому каждый солдат знает, что решают в самой сложной ситуации не они, а за них, и молчаливо ждут этого решения. Такие организованные группы лиц панике и страху поддаются в последнюю очередь, хотя тоже случается…
У меня страха не было. Не потому, что я сумасшедший психопат. Просто страх обычно не приходит к везучим людям с крепкой психикой, потому что они всегда и в любой ситуации полагаются на свое везение. Конечно, я понимаю, что везение – это в первую очередь только то, что ты сам сумеешь для себя организовать, и только потом стечение обстоятельств и воля Божья. И я всегда старался о себе сам позаботиться и только потом уже полагался на везение и на Бога, если только сильно своими делами не противился его воле. Но сейчас такая ситуация, что от меня практически ничего не зависит. Значит, остается только на Бога и надеяться, хотя в настоящем деле его воле я, наверное, все-таки противился, и весьма активно…
Верующий ли я человек – иногда мне хочется, чтобы меня так спросили.
Но меня, к сожалению, не спрашивают. А я смог бы ответить и честно, и весьма красиво, потому что сам много раз думал об этом. И во-первых, я должен сказать, что верить в Бога – это значит быть абсолютно уверенным в его существовании. Но ведь и сам дьявол, получается, верит в Бога, потому что он не только верит, но и знает о его существовании. Даже не просто знает, но много с ним общался. Выходит, и дьявол – тоже верующий… Поэтому подобную постановку вопроса я считаю не всегда корректной. Во-вторых, я вижу разницу между верой и выполнением заповедей Божьих… Сорок лет Моисей по велению Бога водил евреев по пустыне. И уж каких только доказательств своего существования Бог не давал скитальцам. Они, безусловно, верили в его силу и могущество. Но вот выполнять заповеди не всегда желали…
И так, по тому же принципу, живет большинство людей на земле, если исключить животно глупых атеистов, потому что загробная жизнь где-то там, впереди, еще и не просматривается, а настоящая жизнь, как всем кажется, здесь и требует приспособления. И все приспосабливаются с младых лет. И только к старости начинают о Боге думать… Когда вес накопленных грехов становится ощутимым… Но всегда есть искушение оттянуть дело собственного спасения, то есть спасения собственной бессмертной души, до последнего… И большинству времени на покаяние не хватает…
Бог всегда помогает людям. И, как ни странно, я сам наблюдал за этим и старался отслеживать факты и ситуации с хроническими везунчиками, чаще всего он помогает грешникам, в надежде, что они раскаются. Безгрешному, если предположить, что такие могут существовать, по большому счету, не в чем каяться. Они живут серо, скучно, и не живут даже, а прозябают… И потому безгрешный всем малоинтересен, в том числе и Богу. Помогать безгрешному – это то же самое, что бороться с человеком, который не сопротивляется. Так обычно делают, насколько я знаю, только менты, которые, если говорить серьезно, более грешны, чем самые закоренелые преступники. Но они, я думаю, без надежды на раскаяние живут, потому что собой довольны и, по природной глупости, думают, что всегда поступают правильно, даже если привычно подличают. Они даже среди грешников считаются тем же, чем дворняжка среди породистых собак. Отбросы человеческого материала… А Бог пытается нас, чистокровных грешников, на путь истины наставить, раз за разом прощая нашу глупость и распущенность и предоставляя нам новый шанс – он в нас верит и на нас надеется…
А совершенно безгрешных, как я всегда говорю, хотя гипотетически предполагаю обратное, не бывает. «Во грехе родила меня мать…» Люди изредка могут считать себя безгрешными, но это лицемерие или простое непонимание греха. В глубине души они тоже должны соображать своей не всегда мозгами наполненной думалкой, что напакостили в жизни так, что через край плещет. За нарушение одной-единой заповеди нашего праотца Адама справедливо выпнули из Эдема. А сколько заповедей ежечасно нарушаем мы? Недобрая мысль или недоброе слово – грех точно такой же, как грешное дело… А кто не думал плохо? Пусть – не делал, а только думал… Но – плохо… Значит, грешил. Есть, наверное, святые, которые умеют своей мыслью управлять. Меня хоть и прозвали Святым, я за такое не берусь, и потому в грехах сознаюсь и каюсь… Я даже молюсь время от времени, к Богу обращаюсь: «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое перед очами Твоими сделал…»[3] И думаю постоянно, что сейчас, пока я молод, я так живу, а потом раскаюсь окончательно и бесповоротно. Подойдет мое время, когда каяться будет уже впору, тогда и начну каяться, каждый грех, что вспомнится, тремя поясными поклонами отбивая… То есть я делаю так же, как делают все другие, я живу, как живет большинство, и тем существую… А время настанет каяться, потребность в этом появится, тогда и каяться начну… Не «явку с повинной» буду оформлять и не перед властью в погонах руки в истерике ломать, а, как сказано: «Тебе, Тебе единому согрешил я…»
И еще в Писании сказано: «Будьте как дети…» Дети и животные – самые естественные существа. Помню, в детстве у меня кот был. Удивительно красивое и дерзкое рыжее существо. Кот был очень самодостаточным, очень себя уважал и ни одной собаке дорогу уступать не желал. Собаки его чувствовали и стороной обходили. Кот глазами словно бы говорил: «Я живу так, как мне хочется жить…» И я еще в детстве втайне от родителей лелеял мысли, что буду всегда жить так, как мне хочется… Сейчас я, по крайней мере, живу по тому же принципу. И пусть я не рыжий, а чернявый, но котовский принцип во мне всегда сильнее всякого другого…
* * *
Касательно цены, мы сговорились быстро и без взаимных насилований характера и принципов. Насчет пятидесяти процентов я, конечно, сразу загнул, но я же и предупредил, что предлагаю поторговаться. Они ответили аналогичным ходом в десять процентов. Разбег большой, и есть место для творческого подхода или (как сейчас говорят плохо знающие русский язык люди и потому ищущие слова, с которыми они более умными, чем в действительности, покажутся) креатива…
Я сделал деловое предложение по замене меня на лоха, который организовывал мое приглашение. И даже знал, что мне сразу в ответ сообщат. И мне сразу же сообщили:
– Если бы ты натурой брал… Скажем, пару икон… Пусть даже пять штук… И сам бы продал…Со всеми рисками… Это был бы деловой разговор.
– Не возьму… – сказал я. – Профиль не тот. Связей не имею. Засыплюсь, как лох…
– Человека иметь надо, кто сможет. И кто их правильно оценит по западной цене. Грамотный эксперт или даже священник типа тебя.
– Я не берусь… – сознался я, понимая, что в каждом деле должен работать специалист, иначе само дело завалится без оговорок. – Там экспертиза нужна серьезная…
– Тогда должен понимать, что на нас ложится сбыт. Переправка через границу, поиск покупателя, торговля, чтобы не надули крупно… Это и хлопоты, и риск… Двадцать процентов, учитывая твой уровень…
– Если бы деньги сразу, я согласился бы на сорок… То есть вы мне платите, а потом сами реализуете и возмещаете свои затраты. Это логично.
– Еще и нашу организацию дела следует учесть… Мы попа отследили, мы все узнали, мы подготовили план. Тридцать процентов…
– Годится, – согласился я. – Но план я, матерь вашу, сам пересматриваю в соответствии со своими вкусами. А они у меня изощренные. Только поэтому от тридцати пяти отказываюсь…
– Нет проблем. Тебе работать, ты планируй.
На том и сговорились…
План я разработал свой, и претворялся он в жизнь под моим непосредственным контролем. Единственная накладка вышла, когда мы встретились с настоящим отцом Валентином. Он оказался низкорослым пожилым толстячком, весьма возмущенным нечестивым поведением человека, который когда-то собирался тоже стать священником. Но после пятичасовой предварительной беседы без перерывов на чаепитие он основательно устал и тогда только стал разговаривать по существу вопроса…
* * *
Офицеры опять о чем-то беседовали, остановившись у дверей пилотской кабины. Только теперь уже все собрались, тогда как в первый раз от пограничников только один капитан присутствовал. Я подошел полюбопытствовать и на ходу почувствовал, как болтает вертолет. Еще недавно ходить можно было нормально. Сейчас прямо мог бы пройти только пьяный, которому болтанка в привычку…
– Что говорят? – поинтересовался я тоном, каким обычно спрашивают о международных событиях у человека, сидящего возле телевизора.
– Говорят, что ниже опускаться нельзя. По дну ущелья ветер с завихрениями, как в аэродинамической трубе… – усмехнулся чему-то старший лейтенант спецназа ГРУ.
– Товарищ капитан… – раздался голос солдата из-за моей спины. Солдат обращался к капитану Павловскому. – Вашей жене плохо…
– Потерпит… – грубо отмахнулся капитан. – Женщины и собаки существа терпеливые…
Я только сейчас заметил в ногах солдат щенка, мирно спящего на полу и не проявляющего совершенно никакого беспокойства… Вообще-то это хороший признак, когда собака беспокойства не проявляет. У собаки инстинкт сильный, она всегда чувствует, что и где грозит неприятностями. В Японии, слышал, собаки даже землетрясения предсказывают… Хотя инстинкт собаки едва ли на вертолет распространяется…
Глава 2
1. Старший лейтенант Александр Воронцов, командир взвода, спецназ ГРУ
Вот еще не хватало бы такого полного, на всех четырех колесах счастья, чтобы до базы не долететь. Лететь-то, по большому счету – вообще ничего. Но проблемы с расстоянием не считаются. Никто не запретит гробануться даже на стометровке.
А что, запросто… Вертолетный парк изношен до хронической дистрофии. Когда по телевизору показывают, как обновляется армия, у меня сразу и всегда вопрос возникает: а это чья армия, в какой стране? Мы пока никакого обновления не видим… Ну разве что новое здание ГРУ построили. Но его сколько строили… Пора было бы и закончить, пока не пришлось из-за ветхости сносить то, что раньше начали. Еще, говорят, спутники, как в советские времена, заработали. Мы в войсках, правда, с этим явлением не сталкивались, но слышали, что в отдельных частях нашего же спецназа испытания проводили, и хочется верить, что это реальность, а не фантазии, и за испытанием последует внедрение спутникового контроля в повседневность не тогда, когда нынешним лейтенантам пора будет на пенсию выходить… Даст Бог, проверим, и годы нам еще позволяют это сделать. По большому счету, это необходимая вещь. Вот взять бы под спутниковый контроль наш перевал. Хотя бы ради испытаний. Это было бы дело… И все подходы к нему со стороны России. Тогда не пришлось бы здесь постоянно такие силы держать… Наверное, это и дешевле государству обошлось бы. Все равно что-то контролируют. Так контролировали бы все перевалы в Чечне и в Дагестане. Их не так и много. А остальные горы, можно сказать, непроходимы. Для простых смертных, орлиными крыльями не снабженных, непроходимы… Там только альпинисты да скалолазы и проберутся – где ползком, где на четвереньках… Половину личного состава потеряют, но остальные, может быть, доползут. Говоря грубо, это тот же самый прорыв боем напрямую через наши позиции – равнозначная операция. А прорыв может иметь место только, если силы позволяют. Но, чтобы без прорыва в горы пойти, повторяю, следует иметь специальную подготовку и оборудование для, так сказать, покорения вершин…
У меня до планового отпуска две недели осталось. Хотя я не уверен, что точно в отпуск отпустят, даже если комбат вроде бы обещал категорично. Он у нас мужик суровый и надежный, слов произносит мало, но ценит те тяжелые, соответствующие его голосу, что уже произнесены, и если обещает, то, как правило, обещания держит. Когда, конечно, боевая обстановка позволяет, поскольку мы как раз относимся к тем войскам, для которых понятие боевой обстановки уже на протяжении многих лет является повседневностью, и потому загадывать на завтра и строить стопроцентные планы нам часто бывает сложно… Сейчас, вылетая по ротации в расположение батальона, я как раз и опасался, что боевая обстановка может не позволить, а в отпуск поехать мне очень даже нужно… Можно сказать, что необходимо…
Полных данных разведки я, в соответствии со своей невысокой должностью, не имел, они частично поступили только к командиру роты, а он нас, командиров взводов, просто поставил в известность, что несколько отдельных джамаатов[4] боевиков во главе с хитрым и опытным эмиром Геримханом Биболатовым намереваются объединиться в крупный отряд, чтобы в недалеком будущем с боем прорваться через охраняемый нами перевал и выйти к грузинской границе, а потом добраться до мест, где они привыкли зимовать в чеченских селениях, расположенных уже на той стороне. Там их не беспокоят. Сами грузинские пограничники предпочитают в чеченские села не соваться – опасно, да к тому же, слышал я, спокойствие и стоит неплохо.
Не за горами была осень, и сезон активных боевых операций подходил к концу, если можно, конечно, современные мелкие вылазки боевиков считать нормальными боевыми операциями. По большому счету, нормальные боевые операции они проводили только несколько лет назад, а сейчас проводят в основном теракты и занимаются прочими подобными гадостями – где-то в отдаленном селе расправятся с местной администрацией, их открыто не поддерживающей, обстреляют ментовский транспорт или напрямую с каким-то ментом и с его семьей счеты сведут, хотя непонятно, какие счеты могут быть выставлены семье. Это, естественно, боевыми действиями назвать нельзя, и потому это теперь называется своим настоящим именем, которым их действия, впрочем, должны называться даже при более крупном масштабе – бандитизм. Но даже этим они занимаются летом. Зимой нет той привычной боевикам «зеленки», в которую можно уйти после нескольких удачных или неудачных очередей из засады в спину кому-то или выстрела из гранатомета и затеряться там. Но до глубокой осени, когда зима уже пригрозит на плечи сугробом сесть и пора будет торопливо убираться туда, где можно отлежаться, еще все же далеко. При этом бандиты вполне могут предположить, что ближе к зиме посты будут еще более усилены, и ждать их станут в большей готовности с нацеленными на тропы пулеметами и, естественно, увидят целесообразность совершить прорыв тогда, когда этого еще не ожидают, как их последнего шанса. И потому неизвестно, когда прорыв будет осуществляться и какими силами. Чтобы прорваться через перевал, который мы охраняем, силы нужны все же значительные. И боевики это конечно же знают, поскольку биноклями их Аллах не обидел, и считать они тоже иногда умеют, хотя в школах учились далеко не все. Следовательно, силы временного базирования на перевале им известны. И если появились данные, что они готовятся к прорыву, то их силы должны быть значительно превосходящими наши. По моим прикидкам, боевики должны бы были собрать не менее двух с половиной, а то и трех с половиной сотен, чтобы решиться на такие действия, и при этом рассчитывать на успех, но таким силам взяться просто неоткуда. Нет сейчас в наличии таких банд, которые, даже объединившись, могли бы стать такими значительными. Со всего района наскрести, и то вместе с уголовниками, попавшими в розыск, а таких тоже немало, сотню человек не наскребут. Но, если есть данные разведки, этим данным следует верить и думать о том, что бандиты задумали и каким образом они надеются прорваться. К тому же и я, и командир роты, и другие командиры взводов чувствовали в поведении командования какую-то недосказанность. Так бывает, когда есть подозрения, но подозрения не обросли конкретикой, и нет на руках фактов, способных натолкнуть на конкретные выводы. Что-то было в ситуации непонятное, но никто не знал, что конкретно…
Я считаюсь в роте одним из старших по возрасту и по опыту офицеров. Старше только сам командир, и всего-то на полтора года. Он у нас недавно. Готовили документы на меня, чтобы назначить на должность, и тогда автоматически стали бы готовить следующие документы – на присвоение очередного звания. А потом где-то в верхах передумали и прислали нам командира роты из другой бригады. А мне рекомендовали подождать следующей вакансии. Чем я не угодил, ума не приложу, но нового командира я, понятно, встретил слегка настороженно, хотя лично на него обиды не имел, потому что представлял себе ситуацию, как меня точно так же вот поставят командовать ротой в другую бригаду или даже просто в другой батальон и там на меня кто-то будет коситься, как на перешедшего не вовремя дорогу, потому что дорога у всех офицеров одна и кто-то кому-то ее часто переходит. А так оно и должно было произойти вскоре, скорее всего, сразу после отпуска, потому что комбат накоротке сообщил мне, что из ГРУ запросили на меня характеристики. Значит, что-то относительно меня все же планируется и мне следует быть готовым к переменам. Кстати, тот же комбат говорил и относительно отпуска – ему сверху рекомендовали отправить меня вовремя. Ладно… Что будет и куда пошлют – дело будущего, а гадание вещь неблагодарная. Главное, чтобы отпуск не задержали… Пока же можно и командиром взвода послужить. И с новым командиром роты… Мужик он неплохой, и жить при нем можно, но – желательно не слишком долго, потому что мне тоже пора уже на следующую ступень шагать…
Естественно, возраст и опыт при нашей службе – синонимы или хотя бы вполне совместимые и вполне заменяемые понятия, потому что опыт, при условии активной, то есть боевой службы приходит с возрастом. И в момент, когда мы не знаем, что предпримут бандиты, но знаем, что они должны и собираются что-то предпринять, комбат может притормозить мое отпускное время. Вернее, он сделает, как делает обычно. Сам ничего решать не будет. Просто скажет:
– Ситуация, Саня, серьезная. А полноценно заменить тебя никто во главе взвода не сможет. Думай сам, как поступить. Бросишь своих парней?..
И эти слова будут равнозначны приказу. Комбат знает как сказать.
Может, конечно, и так статься, что бандиты полезут сразу, вот-вот, как только мы сменились и улетели на отдых. У них, надо полагать, тоже разведка имеется и наблюдатели где-то выставлены. Оценят ситуацию. Воспользуются тем, что новички еще не присмотрелись к своему сектору наблюдения, не контролируют еще все объекты, которые у нас перед глазами стоят, даже когда глаза закроешь, и именно там пойдут. Тогда вместо двухнедельного отдыха взвод уже сегодня же отправят назад, чтобы подпереть бандитов с тыла. Это естественный ход. Тогда за две оставшиеся до отпуска недели все может закончиться, и я благополучно уложусь в плановые сроки. Не знаю кому как, а мне второй вариант больше нравится. Тогда уж точно есть гарантия, что из отпуска не отзовут и я смогу свои дела спокойно и полноценно сделать. А в том, что бандитов мы сумеем накрыть и не выпустить, лично я не сомневаюсь…
А пока надо благополучно хотя бы до стадиона, превращенного в аэродром, долететь… Но у меня лично опытность пилотов опасения не вызывает. Подумаешь – грозовой фронт. На моей памяти такое случалось несколько раз, кружили, перелетали с курса на курс и все благополучно обходилось. И в этот раз обойдется. Однажды, помню, мы на легком вертолете на рекогносцировку местности вылетали. Искали банду и пути, по которым можно к лагерю подойти. И нарвались на пулеметы. Нам и обшивку прошили, и только чудом никого не задели. И двигатель повредили. Так, на чихающем вертолете, с трудом, но все равно добрались до своих…
А сейчас вертолет даже не чихает. Значит, доберемся…
* * *
– Когда ей рожать? – спросил я капитана Павловского, кивая на его несчастную жену, громко стонущую в левом ряду. Так громко, что даже через шум двигателя ее стоны были отчетливо слышны. Глупая женщина, отправляясь в дорогу, то есть выставляясь на люди, еще и накрасилась, как кукла, чтобы не быть слишком страшной, какой ее природа создала, не понимая, что такой макияж только подчеркивает все ее недостатки. А теперь, в дополнение ко всему, слезы размыли краску на глазах, и стала она еще страшнее, чем была от природы. Баба-яга натуральная, только чуть помоложе сказочной… Но при этом жалость, конечно, вызывала. – Внимание! У кого рюкзаки без жестких вещей, сложите, чтобы кресло получилось…
Это я, уже к своим солдатам обращаясь, добавил. Зашевелились сразу, стали свои рюкзаки прощупывать и складывать, как из кирпичей, удобное мягкое место для женщины. У меня солдаты дисциплинированны, и повторять им команду необходимости обычно не возникает.
– Вообще-то ей еще месяц ходить… – хмуро сказал Павловский. – И не надо было ее устраивать. Посидела бы и так. Ничего с ней не сделается… А малыш только крепче будет…
– Чингисхан, я слышал, родился, когда его мать скакала в седле и отстреливалась от врагов из лука. Неплохой вояка получился… – я своей усмешкой то ли поддержал, то ли осудил его. Он не понял это, точно так же, как и я сам не понял, что хотел выразить. Хотя я и не старался голову себе ломать за разрешением ситуации. Их личные взаимоотношения никак не должны касаться меня, мне, дай бог, с собственной бы женой все уладить…
Мы с капитаном Павловским только при посадке познакомились. И я не знал, то ли он по жизни настолько смурной, что свою жену хронически ненавидит, то ли есть какие-то весомые причины, чтобы так себя вести. Но причины могут быть разными и частыми, а вести себя все равно следует по-человечески. Причины всегда внешние, а сущность у человека внутри живет. И надо на свою человеческую сущность ориентироваться, а вовсе не на то, как служба продвигается или на взаимоотношения с командиром, который прикрикнуть любит. Впрочем, я не любитель со своей колокольни в чужую жизнь заглядывать. Пусть сами разбираются. И не судья, чтобы кого-то осуждать, кто не имеет ко мне прямого отношения.
– Из-за нее все… – в сердцах сказал капитан.
– Что? – не понял я.
– Все эти неприятности с вертолетом… Она на себя всегда все неприятности собирает. Характер такой гадкий. Сама все всегда обгадит, и ей ответ приходит. Эта стерва гордится тем, что она стерва… Говорит, такой характер сейчас в большой моде…
– А она знает, что само слово значит? – с усмешкой поинтересовался я.
– Что? – спросил капитан, тоже с русским языком не слишком знакомый.
– Это производное от древнеславянского слова «стерво» – то есть падаль, вонючая туша падшего животного…
– Вот-вот… Похоже… – согласился Павловский. – Мне иногда кажется, что ее слова падалью пахнут. И в душу ей не заглянуть, потому что нет у нее души…
Он, кажется, попытался найти во мне исповедника. Пардон, но это совсем не моя стезя. Для этого есть особая категория людей. Я, если и выслушиваю исповеди, то только от своих солдат, чтобы поддержать их дух. Это моя прямая обязанность как командира, хотя не скажу, чтобы солдаты часто желали исповедоваться.
– По этому вопросу обратитесь к священнику… – кивнул я на священника, смиренно и спокойно сидящего на своем месте. Хотя относительно смирения я, кажется, слегка загнул. Физиономия этого священника совсем не говорит о смирении, хотя опущенные глаза и поза якобы дают право так подумать.
– Я атеист, – всерьез возразил наивный капитан. Давно я уже не слышал серьезных разговоров на эту тему. – Убежденный…
– И глупо… – не стал я вступать в спор и, чтобы прервать последующие попытки, сразу прошел на свое место. Пограничник сидел у противоположного борта, и ему пришлось бы просто кричать, чтобы я его услышал. При крике ворчливые нотки звучат несерьезно, поэтому я понадеялся, что беседа не продолжится.
Пусть капитан со своими коллегами-пограничниками побеседует. Зря, что ли, с нами летят два старших лейтенанта и один лейтенант пограничной службы.
* * *
Если капитан-пограничник свои семейные проблемы, похоже, решает постоянно, страдает от их нерешенности, но решить до конца пока не может и едва ли когда-нибудь сможет, судя по состоянию его жены, то мне свои семейные проблемы решать еще предстоит. И пусть это звучит банально, но хотя бы первые строчки «Анны Карениной» стоит писать на дверях ЗАГСа,[5] чтобы люди перед тем, как подать заявление, все же еще раз подумали. Впрочем, и это, наверное, будет бесполезной тратой усилий, потому что люди всегда склонны думать, что нечто плохое происходит только и исключительно с другими, а уж они-то проживут счастливо и благополучно многие годы и ни с какими проблемами не столкнутся.
Столкнутся… Все сталкиваются без исключения…
И слава богу, что моя жена не имеет возможности приехать ко мне в палаточный городок, в котором квартируется наш батальон, и уж тем более на перевал, где палатки и размером поменьше, и вообще могут простреливаться со стороны гор, на которые, правда, еще забраться следует, а это не просто. Но она не приедет, и это я знаю точно. Она никуда со мной и за мной ехать не желает, потому что для нее городская толкотня и суета вкупе со стандартным набором удобств в виде душа и унитаза – это смысл жизни, а без этого для нее любая обстановка граничит с тюремной. Женился я на последнем курсе училища, и тогда вроде бы не стоял вопрос о месте проживания. Мы просто как-то старались не говорить на эту тему, мягко обходя свое будущее стороной, вроде бы подразумевая что-то, но не обсуждая детали. А потом меня отправили служить в гарнизон, в небольшой райцентр, и жить пришлось в военном городке неподалеку от этого райцентра. И для женатого лейтенанта даже комната нашлась в панельно-щитовом доме, который зимой следовало утром и вечером топить углем, похожим на земляную пыль, но это не избавляло дом от холода. Жена держалась два месяца. И все… Она не ругалась, она почти ничего мне не высказывала, разве что удивленные вопросы задавала. А потом она просто уехала, когда я был в командировке, и позвонила только тогда, когда я вернулся. Поставила меня в известность, что в военном городке жить никогда не будет. К тому времени она была уже беременна, и я своего сына сумел увидеть впервые только в отпуске через несколько месяцев. Кажется, через восемь… Естественно, я понимал, что после родов, да еще с новорожденным сыном жена приехать ко мне была не в состоянии. Но могла бы приехать хотя бы через полгода… Обида, конечно, была, но я не такой человек, чтобы показывать свою обиду. У меня иное представление о достоинстве и мужской чести. И шестой год почти супружеской жизни уже подходит к концу, а я сам себя иногда спрашиваю: что же за человек моя жена и чем так уж плох я сам, что не могу ее удержать, когда другие офицерские жены со своими мужьями удерживаются, несмотря ни на какие бытовые и прочие условия… И кто виноват – я или она? – в том, что совместная жизнь у нас не получается…
Еще я иногда спрашиваю себя более конкретно: а женат ли я вообще после первых нескольких месяцев, может быть, после первого года семейной жизни… И не могу дать на этот вопрос однозначный ответ даже самому себе.
Жену и сына я видел только в отпуске. Но всегда высылал им деньги, оставляя себе необходимый минимум на жизнь. Я не алименты платил, я большую часть зарплаты отсылал. Как отсылал бы настоящей жене… А за эти годы я уже как-то постепенно и отвык считать ее настоящей женой. Я не знал, как живет она там, без меня. И она не интересовалась, как я без нее живу… Ни разу не прозвучало ни одного вопроса – значит, ей было все равно. Я ничего не знаю про нее, она ничего не знает про меня. Все прекрасно, мы живые люди, но нормальному живому человеку тоже хочется иметь семью. И мне хотелось бы иметь тот самый банальный очаг, который я защищаю, когда нахожусь на службе. А служба у меня не учебная, а самая что ни на есть боевая, не менее боевая, чем в ракетных войсках стратегического назначения. И даже более… Потому более, что ракетные войска постоянно только на дежурстве, а мы воюем по-настоящему… Сейчас, конечно, не так, как два года назад, и уже совсем не так, как пять лет назад, но тоже… Я защищал свой очаг. Реальный очаг, а вовсе не гипотетический. И мне хотелось бы иметь нормальную жену, которая ждала бы моего возвращения именно около этого очага. Реальную жену, а не женщину, к которой намереваешься заглянуть по возвращении. А мне все последние годы приходилось обходиться только этим…
Я оттягивал решение семейного вопроса до тех пор, пока не появилась у меня женщина, которая моего возвращения ждала по-настоящему и к которой меня тянуло вернуться… А когда она появилась, более того, когда она сообщила мне, что ждет ребенка, мне уже следовало дело не оттягивать и в первый же отпуск не только договориться с женой, которую я уже стал мысленно считать бывшей, но и оформить все документально. Первым шагом, еще до объяснения, стал финансовый. Если раньше я высылал почти семьдесят пять процентов жалованья, оставляя себе только двадцать пять процентов, то в этот раз я поступил наоборот. И уже здесь, в горах, где нет сотовой связи, получил целых три радиограммы. Все три напоминали о деньгах. Нам шлют, конечно, телеграммы. Но телеграммы, когда приходят в батальон и не застают адресата, переправляются дальше уже по рации, то есть принимают вид радиограмм. И вся эта корреспонденция, естественно, не может миновать узел связи. То, что становится известно радистам из пришедшего открытым текстом и без грифа секретности, дураку понятно, становится известно всем… И даже новый наш командир роты капитан Полуэктов поинтересовался у меня между делом:
– У тебя какие-то финансовые проблемы в семье?
Объяснять я, естественно, не стал. Ответил просто:
– Решаемые…
В самом деле, совсем не командир роты должен решать мои семейные вопросы. Вот потому мне и необходимо было съездить в отпуск, чтобы эти проблемы решить кардинально.
Я не многого хочу. Я просто желаю жить нормальной жизнью – семейной. И для меня это вовсе не выглядит банальным.
* * *
Мне все меньше нравилось поведение вертолета. Не поведение вертолетчиков – экипаж был опытный и вовсе не походил на команду классических самоубийц, но вертолет трясло все сильнее и сильнее, временами истерично сильно, и это понравиться не могло никому. Мы опять начали набирать высоту, что только усиливало тряску и увеличивало вибрации корпуса. Должно быть, ущелье внизу оказалось излишне извилистым для такой неповоротливой машины. Лететь над дном такого ущелья – это все равно, что гонять на большегрузном грузовике по узким улицам исторического центра Москвы. Рисковое даже для опытных вертолетчиков занятие… А летать выше при нынешних погодных условиях занятие рисковое для вертолета…
Но заходить лишний раз в кабину к пилотам и нервировать их в момент напряженной работы, тем более что помочь я ничем не могу, но могу только помешать, я не нашел нужным. И без того мужики в потном напряжении сидят… На них ответственность не только за себя и за машину, на них ответственность еще и за наши жизни…
Как на мне ответственность за солдат моего взвода…
В отсеке, грубо называемом салоном, царил полумрак. За иллюминаторами тучи всей округе радостей жизни не давали, не пропускали ни единого лучика солнца, а тусклые лампочки бортового освещения были не в состоянии осветить весь отсек так, чтобы можно было рассмотреть лица солдат, сидящих от меня вдалеке. Но ближних я все же видел, и уже по этим нескольким лицам был в состоянии определить общее настроение во взводе. Да это настроение нетрудно было и предугадать. Солдаты тоже не слепые и не глухие и видят, что создалась экстремальная ситуация. Но служба в спецназе приучает в экстремальных ситуациях вести себя спокойнее простых людей, нашей обыденной жизни вообще никогда не нюхавших. Для любого человека уличная драка – это или трагедия, или праздник, в зависимости от характера и конечного результата, но всегда происшествие достаточно редкое и экстремальное. У нас занятия по рукопашному бою всегда ведутся в полный контакт. Умеешь бить, умей и терпеть… То есть экстремальная ситуация для гражданского человека – она у нас явление будничное и входит в расписание занятий. И потому солдаты спецназа готовы к любому повороту событий и умеют себя вести правильно, просчитывая последствия. В самом деле, случись паника, начни они метаться, и вертолет вообще может оказаться неуправляемым. Но они понимают, как мало сейчас зависит от них самих и от их усилий, сидят молча, по сторонам поглядывают, и только глаза выдают легкую обеспокоенность. Так бывает в засаде, когда не знаешь, какие силы противника выйдут на тебя, но тебе любым способом следует перекрыть дорогу и никого не пропустить.
И я старался своим видом вселить в них спокойствие. Солдаты всегда на командира в первую очередь смотрят. Как он себя ведет, так и они будут…
Но капитан Павловский все же не выдержал, пошел-таки к вертолетчикам. Но оглянулся на меня, зная, как обычно нелюбезно относятся вертолетчики ко всем мешающим им работать, и понимая, что, когда двое заходят в кабину, это уже не вызывает такого возмущения. По крайней мере, с двумя офицерами не будут так резко разговаривать, как с одним, принимая его за явного паникера. Но я не пошел. Я сам прекрасно понимаю, как мешал бы мне кто-то во время активной фазы обоюдоопасного боя, задавая вопросы о конечном итоге. Я бы такого любознательного мог в пылу схватки и пристрелить. Тогда Павловский на священника посмотрел. Но тому, похоже, было не до капитана, потому что священник сидел как раз под одной из немногих лампочек отсека, и это позволяло ему читать какую-то маленькую наладонную книжицу. Думаю, это был не детектив… Я видел такую книжицу у кого-то из своих солдат. Кажется, это был «Псалтирь»…
Павловский скрылся за дверью, а я предпочел с удовольствием дожидаться его возвращения, потому что легко мог представить себе физиономию капитана после услышанных в свой адрес слов. А какими будут слова вертолетчиков, я догадывался. Мы уже заглядывали в эту кабину, чтобы выяснить ситуацию. Выяснили. Что еще надо? Если будут кардинальные изменения, нас не забудут и обязательно что-то сообщат. Может быть, сообщат, когда и куда необходимо будет соломки под тяжелую задницу вертолета подстелить, чтобы мягче падать было…
Но капитан вернулся, к моему удивлению, вовсе не растерянный. Выглянул из дверей с серьезным, я бы так сказал, «рабочим» лицом, посмотрел на меня и сделал приглашающий жест. Поскольку дверь в кабину он не закрыл, намереваясь, кажется, туда вернуться, это следовало понимать как поступление дополнительной информации от пилотов.
Я поспешил на зов…
* * *
– Лагерь внизу… – прокричал капитан Павловский из междверного тамбура даже громче, чем того требовала шумовая обстановка полета.
– Какой лагерь? – не сразу понял я, но, задав вопрос, уже догадался, что никакого иного лагеря, кроме лагеря готовящихся к прорыву боевиков, здесь быть не может, того самого лагеря, о вероятном существовании которого нам уже докладывала разведка, и, отстранив капитана плечом, шагнул в кабину первым. Павловский, несмотря на тесноту, сунулся за мной следом.
Немолодой внешне майор, командир экипажа, коротко глянул на меня, узнал, потому что летал со мной уже трижды, снял с головы второго пилота наушники с микрофоном и протянул мне. Командир не любил кричать, и потому в его спокойствии чувствовалась уверенность. Приятно с такими людьми иметь дело.
Я мигом натянул наушники на голову.
– Твой профиль, старлей… – сказал майор. – Мы только что пролетели над лагерем боевиков. Большой лагерь. Я таких пока не видел.
– Сколько человек? – сразу спросил я.
– Я не разведчик. Навскидку даже приблизительно сказать не могу. Склон лесистый… Мы сначала дымки костров увидели. Жгут, не стесняются.
– Здесь жилья поблизости нет?
– По карте – ни жилья, ни дорог… Здесь нет даже вертолетной трассы… И мы сюда случайно попали, от грозы спасаясь…
– Значит, дымы увидеть некому.
Я продвинулся дальше, стараясь посмотреть за вертолетный «фонарь».
– Уже пролетели, – пояснил майор.
– Вернуться нельзя? – напрямую спросил я.
– Можно. Есть такая острая необходимость?
– Есть. Мы ждем эту самую, должно быть, банду на перевале. И не знаем ее сил… Надо произвести разведку и доложить координаты. Пусть обработают их «НУРСами»…
– Добро. Видимость там более-менее. Гроза здесь уже погуляла, и воздух чистый. Спустись к штурману.
Я показал на кабель, соединяющий наушники с креслом второго пилота. Командир экипажа сам отсоединил наушники.
– Подключись в кресле штурмана.
До самой нижней наблюдательной точки в пилотской кабине пять ступеней вниз и, согнувшись, два коротких шага вперед. Преодолев их, я чуть не на колени к штурману сел, потому что места внизу было мало – не то что в футбол, в карты не поиграешь. Вертолет тем временем замер на месте и начал плавно разворачиваться. Из кабины штурмана хорошо было видно не только грозовое небо впереди и, после разворота, еще более грозовое небо позади, но и землю под вертолетом. Я даже удивился, в какой опасной близости от склона мы пролетали. Чуть дрогни рука пилота, держащая рычаг управления, и винт заденет стволы деревьев или скалы. Пилоту нужно очень четко ощущать габариты своей машины…
Штурман меня ждал, и потому сразу подсоединил систему связи.
– Возвращаемся, старлей. Будь внимателен. Пролетим дважды, туда и обратно. Вместе с первым пролетом – это три раза. И постарайся увидеть все. Четвертого раза не будет – опасно, потому что за четвертым обязательно будет пятый, чтобы на курс выйти… И они могут уже подготовиться. У нас днище не бронированное – мы же транспортники, три-четыре пулемета, и с такой короткой дистанции просто перестреляют твоих мальчишек…
А я уже видел впереди на склоне огни трех больших костров, но костров было больше, потому что дальше виднелись косо идущие вдоль склона расширяющиеся столбы дыма – так их ветром заворачивало – воронкой…
Подсчитать столбы дыма… И глянуть хотя бы на один из костров поближе, чтобы приблизительно определить количество людей…
2. Капитан Вадим Павловский, пограничник
Значит, банда есть в действительности, и она нашлась…
Эта весть радовала, она уже несла какую-то определенность в неопределенное положение последней недели, а определенность, даже если она опасная, всегда лучше неопределенности, когда не знаешь в действительности, чего тебе ждать.
О том, что где-то неподалеку бродит большая банда, готовящаяся к прорыву, у нас в погранотряде знали по данным спецназа, занявшего перевал, и по полученным из Москвы сводкам, опять же опирающимся на эти же данные. Спецназ ГРУ предупредил нас, требуя от погранвойск повышенной боевой готовности, – не знаю уж, почему так настойчиво, словно мы их последняя надежда. Приказать разведчики не могли, поскольку мы разные ведомства представляем, но настойчивость проявляли непривычную. Может быть, не надеялись, что смогут перевал удержать, если банда будет очень большая? Или просто боялись, что бандиты пройдут к границе другим путем? Хотя других путей здесь, кажется, нет и не предвидится. Правда, повышенная боевая готовность тем и отличается от полной боевой готовности, что при повышенной не отменяют отпуска и командировки, тогда как при полной боевой уехать со службы можно только в случае крайней необходимости. Но данные были получены и приняты не просто к сведению, а и к исполнению, поскольку прямой и вполне конкретный, если не сказать, что жесткий приказ из Москвы дублировал рекомендации разведчиков.
И потому я, естественно, как представитель командования погранотряда здесь, на борту, был заинтересован в результатах воздушной разведки не меньше, чем этот старший лейтенант спецназа. Узнать хотя бы приблизительно силы боевиков. Тогда можно было бы основательно подготовиться к встрече и как-то планировать свои действия. Это одинаково относилось и к спецназовцам, и к нам. Причем для нас, если спецназ не сможет удержать перевал, это грозило очевидными трудностями, не знакомыми спецназу, поскольку разница в нашем с ними положении выливается в разницу протяженности охраняемого участка примерно одинаковыми силами. Конечно, не совсем одинаковыми, тем не менее не настолько разнящимися, как разница продолжительности охраняемого участка. У нас своя специфика и свои методы работы. Удержать или даже ликвидировать группу в несколько человек при переходе границы можно, но сложно, и чаще это не удается, чем удается. Я не служил во времена Советского Союза, когда вся внешняя граница громадного государства, включая каменистые горы и песчаные дюны и исключая только моря и океаны, была обнесена колючей проволокой в три ряда. Помимо того вся граница была напичкана разного рода сигнализацией, которая сразу давала знать, если где-то появится с той или с иной стороны предполагаемый нарушитель. Тогда вот перейти границу действительно было почти невозможно. Сейчас не так. Сейчас ни колючей проволоки, ни контрольно-следовой полосы из просеянного мелкого песка. А если бандиты еще и опыт имеют, то это дело практически почти невыполнимое. Это я знаю лучше других. Просто невозможно предугадать, где и каким путем они на другую сторону двинут, потому что проторенными тропами только дурак пойдет, а непроторенных троп столько, что на всей границе людей не хватит, чтобы их только на участке нашего отряда перекрыть. Не будут бандиты торопиться, полежат в кустах, выждут, когда пройдет наряд, и за спиной пограничников перейдут на другую сторону без опасения получить пулю вдогонку. Получить пулю на последнем шаге всегда неприятнее, чем на первом, но эта неприятность, понятное дело, мысленная, опережающая само событие, потому что, получив пулю и с жизнью простившись, думать об этом уже не будешь и никакая обида не сможет тебя достать…
Лагерь боевиков следовало разведать, хотя я понимал опасность такой разведки… Мы летели не на боевом бронированном ракетоносце, который сбить можно только ракетой. Мы летели на простом небесном работяге транспортнике, пусть и называемом военно-транспортным вертолетом. А военно-транспортный вертолет не имеет никакой защиты, как не имеет и вооружения, чтобы пресечь всякое желание расстреливать свои борта снизу. К тому же шли мы на предельно малых высотах, когда допустим даже автоматный обстрел, а не только пулеметный, и даже он мог бы стать эффективным и опасным для нас.
Честно говоря, я не имел опыта подобных действий и не решался лезть со своими советами, которые могут оказаться смешными и нелепыми тем, кто в этом деле лучше разбирается. Я вообще не имел пока боевого опыта. И потому желал бы прислушаться к мнению старшего лейтенанта Воронцова, опытного спецназовца и командира экипажа самого вертолета, который тоже немало часов, думается, провел в воздухе. И потому позвал Воронцова в пилотскую кабину. Старлей, естественно, как это вообще, насколько я знаю из своего опыта общения, всем спецназовцам свойственно, сразу плечом двинул, оттирая меня на задний план, словно эта разведка только его интересовала. Хотя в этом он, может быть, и прав был. В первую очередь данные воздушной разведки могли заинтересовать спецназ, потому что прорваться к границе бандиты могут только по трупам спецназовцев, а мы в очереди на боестолкновение числимся только под вторым номером.
Командир экипажа отправил старшего лейтенанта в «фонарь» к штурману, откуда обзор гораздо более широкий и видимость лучшая. Я знал, что кабина штурмана слишком мала, чтобы там троим поместиться. Там двоим плечами повернуть невозможно, и потому остался с пилотами. Отсюда обзор тоже был неплохой. Единственно, у меня не было возможности посмотреть себе под ноги под прямым углом. Но дымы костров впереди, про которые уже знал, я увидел издали, и потому почти лег на спинку кресла майора, чем заставил командира экипажа слегка поморщиться, но не возразить. Майор тоже понимал, что разведка, произведенная одной парой глаз, не все может констатировать, тогда как разведка двумя парами уже гораздо качественнее.
Я всматривался в лесистое дно ущелья, втайне надеясь увидеть то, что пропустит старший лейтенант Воронцов, несмотря на то что он профессиональный разведчик. Вернее, именно потому, что он профессиональный разведчик… Всегда хочется оказаться в подобной ситуации специалистом не хуже, чем настоящий профессионал, хотя я понимал, что профессионализм не может быть моментом сиюминутным, но является постоянной величиной, из которой и складывается специализация офицера. Но, к своему сожалению, увидеть я почти ничего не смог. Костры просвечивали сквозь кусты и стволы деревьев и в общем сумраке, создаваемом тучами, видны были ярко. Я смог сосчитать – три костра по центру, и видел еще пять дымов от других костров по кругу, уже на склоне, на левом и на правом. И даже, как мне показалось, фигуры нескольких людей в камуфляжке я сумел выхватить из общего фона, хотя они очень хорошо с этим фоном сливались. Однако этого было мало для составления данных разведдонесения, и это даже я, не разведчик, понимал.
Вертолет пролетел мимо, поднялся чуть выше, насколько позволяли густые облака, и там на месте развернулся. Старший лейтенант Воронцов выглянул с лестницы, ведущей в отсек штурмана. Осмотрелся, меня не видя, и встретился взглядом с командиром экипажа.
– Люк открыть можно? – прокричал, забыв, что у него в руках наушники с микрофоном.
– Пассажирский? – тоже громко переспросил майор.
Я понял, что Воронцов отключил наушники, потому что от кресла штурмана вынужден был удалиться.
– Любой…
– Нет проблем… Зачем?
– Я выставлю туда пару пулеметов. У меня два пулемета во взводе. Надо… Пугнуть… Иначе они сами начнут стрелять.
– Соколов! – позвал майор. – Открой люк. Старлей, предупреди своих парней, чтобы не выпали. Я чуть-чуть на борт лягу, чтобы стрелять было удобнее.
Бортмеханик выскочил из своего закутка и сразу, без вопросов, поспешил в салон.
А старший лейтенант за ним двинулся, чтобы приказание отдать и выставить пулеметы. Я подумал было, чтобы занять его место у штурмана, но Воронцов вернулся быстро и сразу, не вступая в разговоры, спустился в штурманский отсек. Вертолет, до этого висевший в воздухе, чуть вздрогнул и двинулся обратным курсом к лагерю боевиков. Я снова склонился над плечом командира экипажа, чтобы видеть происходящее, и не сразу сообразил, что увидеть мне ничего не удастся, потому что пассажирский люк, в который установили пулеметы, находится ближе к середине корпуса, то есть у меня за спиной, и мне следовало бы в салон выйти, чтобы там, в отсутствие старшего лейтенанта Воронцова, ситуацию контролировать.
Я уже собрался было так поступить, когда понял, что первоначально занял правильную позицию для разведки и что пулеметный обстрел Воронцову понадобился вовсе не для ведения боевых действий. Пулеметных очередей слышно не было. Но стрелять, видимо, начали еще до того, как мы подлетели к главным кострам. Вертолет заметно на левый борт лег и летел медленнее, чем раньше, и мне пришлось даже вцепиться двумя руками в спинку кресла командира экипажа. Но взгляд от картины на дне ущелья я не отрывал. А потом внизу показались люди. Они метались, искали убежище, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. И если раньше я видел, как мне показалось, четверых или пятерых боевиков, то сейчас я увидел их гораздо больше, не меньше двух десятков.
Старший лейтенант Воронцов, должно быть, корректировал полет вертолета, снова присоединив наушники и микрофон к креслу штурмана. Самому командиру экипажа трудно было предугадать, что хотелось бы увидеть разведчику, а я ничего не подсказывал. Но вертолет несколько раз почти замирал, потом ближе к склону сдвигался, от маневров машину болтало и трясло сильнее, и все это время внизу суетились люди.
И все это время я не вспоминал о жене. Даже мысли не возникало о том, как она переносит эту болтанку вертолета. Мне как-то совершенно не до нее было, и я от этого был почти счастлив. Вспомнил только тогда, когда понял, что вертолет задирает нос и старается в таком положении высоту набрать. Пусть у меня и мало было боевого опыта, пусть и на вертолетах я летал не часто, но я хорошо знал, что при наборе высоты любой вертолет обычно нос опускает ниже и движется вперед и вверх винтами. И я легко сообразил, что произошло нечто, что мешает нам лететь нормально. А потом ощутил сильный ветер и увидел пробитый пулями фонарь кабины со стороны второго пилота. И сам второй пилот в своем кресле набок завалился. И было это так неожиданно, потому что я прекрасно понимал, насколько губительным для бандитов может быть огонь сверху сразу из двух пулеметов, но как-то в голове не укладывалось, что и в нас тоже могут и должны стрелять. Стреляли в нас, должно быть, со склона, из густых кустов, где мы никакой опасности не видели, потому что фонарь кабины был пробит выше уровня головы второго пилота, если считать, что машина летела ровно. Но она не летела ровно, она летела с наклоном, чтобы облегчить пулеметчикам обзор и обеспечить максимальные удобства для стрельбы, и потому попали во второго пилота.
Но и этого оказалось мало. Только оценив ситуацию, подумав о жене, о том, каково ей там сейчас, но подумав об этом не с сочувствием, а со злостью, я вдруг увидел, как пошатывается в своем кресле, на спинку которого я опирался, и первый пилот. И увидел кровь, стекающую с его руки и из бока. Но машину майор все же пытался выровнять, хотя вертолет покачивался не с боку на бок, а вперед и назад. И, одновременно, нарастала совсем уж малая скорость полета.
– Как вы, товарищ майор? – крикнул я, пытаясь голосом перекрыть шум двигателя, значительно усилившийся в прострелянной кабине.
Майор не через плечо обернулся, а на второго пилота посмотрел и сам качнулся. Вертолет качнулся тоже. Наверное, командир экипажа что-то сказал, хотя слов я не слышал. Но что-то, может быть, интуиция, может быть, что-то другое, заставило меня понять желание майора, и я протиснулся к креслу второго пилота, потрогал пульс на горле, уже зная, что с такими ранами в боку люди не живут, оглянулся и по взгляду майора понял, что следует сделать. Я отстегнул второго пилота, вытащил его из кресла, а сам занял его место.
Я не снял с головы второго пилота наушник с микрофоном, и пришлось снова из кресла выбираться, чтобы обеспечить себя связью. Включить связь я сумел, потому что видел, как она выключалась, когда вытаскивал из кресла второго пилота. Я сел, думая, что буду управлять этой сложной и тяжелой машиной под командой первого пилота, я был уверен, что смогу все сделать, лишь бы мне подсказывали, но в наушнике что-то щелкнуло, и раздался хриплый шепот командира экипажа:
– Поздно, кэп, поздно… Мы падаем… А я уже упал…
И голова майора упала на грудь. Это походило на команду, которой повиновался вертолет, и он тоже начал падать. Неестественно быстро… Так быстро, как не летают вертолеты. И высота у нас была небольшой.
Я еще успел оглянуться и увидеть, как поднимается из штурманского отсека старший лейтенант Воронцов, когда ощутил первый удар. Это еще не был удар корпуса вертолета о что-то, это был удар винта, задевшего дерево на склоне. Но следующий и следующие удары посыпались один за другим, раздался треск, звон, лязг рвущегося металла, а потом что-то ударило меня в голову, и стало тихо и спокойно…
Я еще успел подумать, что, наверное, я сплю, и все это мне снилось…
И я, кажется, уснул…
* * *
– Ну ты везунчик… Иначе не скажешь…
Я не сразу узнал голос старшего лейтенанта Воронцова. Вернее, голос-то я узнал и даже лицо узнал, только никак не мог вспомнить, что это за человек склонился надо мной.
– Ну-ну… Приходи в себя…
Должно быть, мой взгляд изображал собой полное отстранение от реальности, и Воронцов состояние мое понял.
– Что со мной?
– Контузия…
– Вертолет… – вспомнил я наконец.
– Громыхнулись… Не взорвался, не горит, и то ладно. Выбирайся… Ты цел, невредим и почти жив. Мне надо солдат посмотреть.
– Голова… – я осознал наконец-то страшную головную боль.
– А ты не видишь ничего? – спросил Воронцов.
Я попытался повести глазами. И увидел, что в кабину вертолета сквозь разбитый «фонарь» кабины вошел громадный кусок ствола сломанной сосны, ударил меня по голове, но, кажется, не убил. А толстый сук того же ствола, способный проткнуть человека насквозь, оказался у меня под мышкой. Порванная одежда, несколько царапин и гарантированное сотрясение мозга – это все, что я получил вследствие аварии.
Старший лейтенант шлепнул меня по плечу, приободряя, и с трудом протиснулся за сломанным креслом командира экипажа к выходу в грузопассажирский отсек.
Я прислушался. Вертолет не шумел двигателем, и это было настолько непривычно, что возбужденные голоса из салона просто раздражали. Но они же еще и звали, показывая, что я не один остался, и не наедине с Воронцовым тоже. Я тут же осознал, что в салоне летели и солдаты, и священник, и пассажиры, и мои сослуживцы, и – это я почему-то вспомнил в последнюю очередь – жена. Майор, как я определил с первого взгляда, если и жив, то не командир. А я – старший по званию офицер, и там может быть необходима моя помощь. И мне следует поторопиться…
Я стал выбираться из стволов и веток, что заполнили пространство вокруг меня. И увидел прибитого толстой веткой к стене окровавленного бортмеханика, который только что в кабину вернулся из салона. Его прокололо насквозь, как могло бы проколоть меня. Бортмеханик, видимо, склонился над телом второго пилота, и толстая ветка пробила ему плечо, пробила грудь и вошла в стену. Зрелище было неприятным и жутким, и я от этой картины заспешил. Впрочем, большого труда выбраться из кресла не составляло. Я протиснулся за командирским креслом к выходу, тут же торопливо шагнул за порог в салон и только в этот момент почувствовал, что вертолет неустойчив и слегка покачивается. Причем покачивается совсем не так, как качался бы в воздухе во время полета. Это было, скорее, покачивание доски, концы которой установлены на неустойчивых опорах. Такое у меня создалось впечатление. Но разбираться в этом я сразу не стал, потому что в салоне в тяжелом сумраке при неработающем электрическом освещении шло какое-то действие, и я хотел разобраться, что там происходит…
* * *
К моему удивлению, среди потерпевших аварию не было паники. Старший лейтенант Воронцов распоряжался уверенно, только я не понял, почему он первыми высаживает из вертолета своих солдат. Вернее, я понял, что за солдат он несет персональную ответственность и для него, наверное, их жизнь и безопасность важнее всего. Но в вертолете есть гражданские, есть раненые и, как я уже убедился, погибшие. Головная боль после скользящего удара стволом сосны мешала мне кричать громко. И пусть теперь в вертолете не слышно было шума двигателей, Воронцов все равно не услышал, когда я крикнул:
– Старлей! Сначала гражданских высади… И раненых…
Вертолет опять качнуло, и уже настолько существенно, что я чуть не потерял равновесие. Тем более следует первыми высаживать самых слабых и беззащитных. И я почти побежал, если здесь вообще можно было бежать, к Воронцову.
– Старлей, ты оглох? – спросил я резко.
– Тебя, кэп, видимо, сильно бревном ударило… – бросил он через плечо, высунулся из люка и стал что-то рукой показывать. Потом крикнул:
– Еще шагов на сорок поднимитесь. На скалу…
– Что такое? – спросил я.
Но ответа не получил. Воронцов не обернулся, продолжая куда-то всматриваться. И даже бинокль у него в руках появился. Значит, смотрел вдаль. Этот бинокль и помог мне обрести соображение. А полностью вернули к действительности отдаленные уже автоматные очереди. Плотные, жесткие, хлесткие – словно кого-то расстреливали с короткой дистанции. Дальняя стрельба не бывает такой плотной. И стихла она быстро, показывая, что какая-то из сторон показала свое явное преимущество.
– Боевики? – спросил я.
– Значит, не совсем мозги вышибло, – грубо отозвался старший лейтенант. – Отдыхай, ты контужен, и не мешай работать… Лейтенант, обыщи вертолет. Здесь должны быть крепежные ремни. Груз-то как-то крепят, если есть петли. – Палец Воронцова ткнулся в петлю, торчащую из каркаса вертолета.
Приказ относился к лейтенанту Соболенко, отпускнику с одной из наших застав. Причем прозвучал приказ так, словно меня здесь не было и не я был в настоящий момент старшим по званию. А согласно всем уставам, в подобной ситуации командует старший по званию, невзирая на то что мы принадлежим к разным ведомствам. И потому я хотел было возразить, но нарвался на взгляд старшего лейтенанта. И этот взгляд красноречиво говорил, что он – диктатор в ситуации и уже твердо решил взять командование на себя. В любом случае, если бы я попытался перехватить инициативу, солдаты взвода старшего лейтенанта просто не стали бы слушать мои команды, когда приказывает их командир. И я оказался бы просто в смешном положении. А я не люблю быть смешным. Я очень не люблю быть смешным…
– Отдыхай, кэп… – повторил Воронцов уже мягче. – Займись собой и женой…
Ох, не вовремя он напомнил. Я опять почти забыл о ее существовании. И был тем счастлив…
– Я по званию… – начал я тихо, чтобы напомнить ему прописные истины.
– Ты много повоевал в своей жизни? – перебивая меня, спросил он напрямую.
– Я не воевал, но…
– Но я четыре года уже воюю, и предоставь уж мне продолжать делать то, что я умею. Просто не мешай, поскольку у тебя сильнейшая контузия… После ударов оглоблей иногда дураками становятся… А тебя хорошая оглобля стукнула. Не показывай себя в не лучшем свете. Не мешай, я знаю, что делать…
– Где Валуев с Родняковым? – спросил я лейтенанта Соболенко, который вслушивался в наш разговор с Воронцовым и не знал, выполнять ему команду в присутствии своего старшего по званию офицера или ждать моего согласия на это.
Старшие лейтенанты Валуев и Родняков летели вместе с ним, но я не видел их, хотя должны были бы по долгу службы оказаться рядом со мной.
– Родняков… – тихо сказал лейтенант. – Сук дерева обшивку прошил, и ему в спину…
– Валуева я отправил со своими солдатами, – сообщил Воронцов. – Выставил заслоны от бандитов, чтобы спокойно выгрузить раненых.
Он не докладывал, он просто ставил меня в известность. И коротко глянул на Соболенко.
– Выполняй… – послал я лейтенанта.
Соболенко, как мне показалось, бросился выполнять команду с радостью. Старший лейтенант Воронцов своей уверенностью в действиях и командах в самом деле показывал, что имеет право на командование, и за таким командиром обычно охотно идут другие. В принципе, я тоже готов был согласиться, что, согласно опыту, командовать здесь должен Воронцов. Да и боль в голове подталкивала меня к такому решению.
И я, чтобы совсем не упасть лицом в лужу и не показать, что подчинился обстоятельствам, а не пониманию ситуации, выглянул из люка. Оказалось, что корпус вертолета завис в паре метров над землей на крутом склоне, застряв между тяжелыми сосновыми стволами. Но корпус не только между стволами застрял, он был еще подвешен на толстых сучьях, которые не сумел сломать, но которые легко пробили легкую бортовую обшивку. В сумраке салона эти ветви не было видно, но с улицы авария показывала, как должно было достаться тем, кто угодил под такой сук.
– Согласен, командуй, – кивнул я старшему лейтенанту. – Только меня о ситуации информируй. Потери есть?
– Отец Валентин подсчитывает, сейчас доложит… Ты к жене-то хоть подойди.
Он словно бы видел, как мне не хочется это делать, и потому старался принудить меня к этому. Я вздохнул, молча все пережил, но все же двинулся в сторону горы из рюкзаков, совсем недавно бывших еще креслом из рюкзаков. Как раз отец Валентин вытаскивал оттуда за руку Ксению. Но я был уверен, что с ней ничего не случится. С ней то есть всегда что-то случается, но страдают окружающие. Она же, как поплавок, слегка потрепанная, всегда будет на плаву…
* * *
Священник оказался парнем деятельным. Мельком Ксению осмотрев, хотел перекрестить ее, но почему-то остановился и дальше двинулся, чтобы помочь тем, кому помощь в самом деле нужна была, а она еще что-то вслед ему сказала. Мне слов не слышно было, потому что Ксения имеет привычку говорить шепелявым полушепотом, который и разобрать-то сложно.
Я подошел.
– Вспомнил, что я есть? – спросила она.
– Напомнили, к сожалению, – ответил я сухо.
Глава 3
1. Ширвани Бексолтанов, самодостаточный эмир
Примета это нехорошая. Она, конечно, не стопроцентная. Бывало тоже, что не срабатывала, но чаще, в большинстве случаев, нехорошая примета…
Шрамы на лице у меня начали «гореть» сразу после того, как я получил сообщение от Вахийты о прерванной связи с вертолетом. Я тогда еще почувствовал, что вертолет, скорее всего, не долетит до места и нас ждут какие-то осложнения ситуации. Если он не долетит, чего я своим врагам от всей души не желаю, придется вместо хорошо продуманной операции ввязываться в какую-нибудь авантюру, и неизвестно, чем такое мероприятие может закончиться. Я всегда был и остаюсь сторонником продуманных и тщательно, точно выверенных действий, и потому мне многое удается, если только не все… А в авантюре только на неверную удачу можно полагаться, но удача – шлюшильда прописная и никто больше, и нет никогда на нее полной надежды, и быть не может… Как человек, воспитанный на старой мусульманской морали, я ненавижу шлюх, и все, что с ними связано. Когда приводили в мой джамаат продажных шалав, чтобы мужчины совсем не одичали без женщин, я всегда приказывал расстреливать их после использования по назначению. И сам никогда их услугами не пользовался. А шлюх во время войны понаехало море, в основном с Украины и из Молдавии. Не знаю уж, что их оттуда к нам манило. Своих мужиков не хватает, что ли… Удача – персона из того же шлюшиного ряда, и я предпочитаю на нее не полагаться. Хотя полагаться иногда приходится, и нынешний случай – характерный пример тому. Просто больше и положиться не на что, хотя я и здесь попытался провести возможное планирование. Только – возможное, потому что точного провести было нельзя, не имея конкретных данных.
Вахийта, хотя, наверное, связь с авиадиспетчером по-прежнему поддерживал, мне больше не звонил, но, как всегда, все знающий Уматгирей опять каким-то образом опередил меня, словно находился не в далекой, противной моему пониманию правильного мира Швейцарии, а на месте происшествия или хотя бы в самом Грозном. Он не только опередил, он даже сумел договориться насчет вертолета для поиска пропавших в то время, когда федералы, соблюдая правила полетов, поиск вести не будут, чтобы не потерять еще одну машину. Более того, Уматгирей заявил, что пилоту полет уже оплачен, то есть кто-то меня поддерживает и подстраховывает по указке Уматгирея прямо здесь, на месте. Но я не так прост, как кажется со стороны, и понимаю, что меня не только поддерживают и страхуют, меня еще и контролируют, что мне, естественно, совсем не нравится, потому что я никоим образом не являюсь и являться не собираюсь подчиненным Уматгирею лицом, и если порой работаю с ним совместно, то только на равных условиях. Я всегда сам по себе, я – самодостаточен и горжусь этим…
Меня контролируют… На меня, говоря понятнее, «стучат»… Такое открытие заставило меня еще больше покраснеть шрамами на лице и перебрать мысленно, что называется «по косточкам», всех своих людей, потому что Уматгирей, насколько я его знаю, не поленится платить кому-то, чтобы получать обо мне и о моих конкретных действиях полную информацию. И я мысленно «ощупал» каждого из своих парней на «вшивость»… Это занятие неблагодарное, и я пришел к выводу, что положиться в трудной ситуации могу абсолютно на всех, и все мои люди отличаются гарантированной надежностью. И, одновременно с этим, ни на кого не могу полностью положиться, потому что любой может оказаться купленным Уматгиреем человеком… Странные выводы, которые не дают никакого результата…
* * *
В этот раз с собой я мог взять на операцию только троих. Показал им место, где следует ждать посадки в вертолет и где их с оружием в руках со всех сторон видно не будет. Недалеко от Грозного и тем более рядом с дорогой к вооруженным людям по нынешним временам присматриваются и звонят порой ментам. И потому нельзя было отнестись к выбору места легкомысленно. Я не отнесся. Нашел что нужно. Место укромное и, кажется, даже для посадки маленького вертолета подходящее. В крайнем случае, всегда можно будет по телефону подкорректировать.
Но и в этих троих, что я выбрал, хотя они очень давно со мной, полностью уверенным я быть не мог, хотя считал их самыми, пожалуй, надежными. Известная истина – предают только свои! – работает без сбоев. Чужой предать не может, чужой может быть только врагом… Впрочем, трагедию строить было пока не из-за чего, потому что я люблю честную игру и не собирался Уматгирея обманывать. Так что, если кто-то и докладывает ему о моих действиях и планах, это мне помешать не может…
Вертолет меня ждал. Маленькая машина с эмблемой МЧС. Производство не российское. И пилот азербайджанец. Это мне уже понравилось. Это более надежно, чем русский пилот, потому что мусульманин мусульманина поддержит раньше, чем христианин или атеист поддержит мусульманина, а вопрос гражданства вообще в этом деле второстепенен. К тому же, если человек поддерживает за деньги, он знает, что деньги следует отрабатывать, и это более надежно, чем поддержка в ответ на чью-то конкретную просьбу, пусть даже и уважаемого человека.
Пилота звали Рауф, он был уже не молод и смысл жизни, наверное, понимал правильно.
– Трудно будет их найти, но можно, – сразу сказал он. – Мне даже проще будет это сделать, чем большим машинам… Я всегда могу сесть, если летать нельзя, а большие машину должны в сторону уходить, если погода мешает.
Он рассуждал здраво и, как мне показалось, приготовился именно работать, а не отрабатывать полученную сумму. А возраст говорил о том, что пилотом он должен быть опытным. Меня это устроило.
– Летим… – Я глянул в его карту и ткнул пальцем. – Вот здесь заберем моих людей…
– Троих?
– Троих. Как договаривались.
Рауф посмотрел в карту.
– Там рядом линия электропередач проходит. Нехорошее место…
– До проводов полторы сотни метров.
– Нормально… Сядем…
Вертолет поднялся быстро, слегка задрал хвост и целенаправленно двинулся в сторону нужного места. Салон был с хорошей звукоизоляцией, и разговаривать здесь можно было, лишь слегка повышая голос, почти как в автомобиле. Мне вообще-то мало доводилось летать вертолетами, но я слышал, что большие вертолеты шумят так, что разговаривать в них нормально, без надрыва горла и последующей хрипоты, невозможно. А здесь, как оказалось, можно даже по телефону разговаривать. Уматгирей позвонил, когда мы только-только вышли на курс.
– Ширвани, я готов тебя обрадовать.
– Нашлась пропажа? Они летят?
– Нет, пропажу следует искать. Но я нашел тебе помощников. Ты Геримхана Биболатова хорошо знаешь?
– С удовольствием пустил бы ему пулю в лоб, – ответил я предельно конкретно и честно, и это была абсолютная правда.
– Повремени с этим… – почти попросил Уматгирей таким тоном, словно я уже пистолет вытащил и затвор передернул.
– Он где-то меня дожидается?
– Еще нет, но будет дожидаться. Я Геримхана хорошо знаю, и смогу его попросить принять тебя. Если он будет против, то ты сможешь сам его убедить…
– Где он?
– Он в Змеином ущелье, готовится к прорыву через Седельный перевал.
– К прорыву? Прорываться ему не на перевале надо… А на границе… Но это не сложно. Граница не перекрыта.
– Седельный перевал спецназ ГРУ занял.
– Больше там к границе нигде не пройти. Он не вырвется…
– Вот потому он и собирается идти в прорыв.
– Сколько спецназовцев?
– Около сотни.
– Не прорвется, говорю же. Чтобы прорваться, ему три сотни стволов надо.
– Он это понимает, не первый год воюет.
– И что?
– С другой стороны по спецназовцам тоже группа ударит. Если ты разрешишь…
– Кто там?
– Твой брат Зияудди. Запоминай номер. Позвонишь ему, если Геримхан откажет тебе в помощи. Зияудди в этом случае откажет в помощи Геримхану…
– Я знаю номер брата. Я позвоню… Сколько человек у брата?
– По моим данным, он больше сорока человек набрать не сможет. Это вместе с грузинскими наемниками… Сегодня он должен перейти границу.
– Спасибо, Уматгирей. Но чем мне может помочь Геримхан? У него нет своих вертолетов…
– Вертолет упал где-то в том районе. Пусть отправит группы в поиск. Зияудди выйдет к перевалу только к тому времени, как эти группы вернутся.
* * *
Обнадеживающее Уматгирея сообщение не вселило, впрочем, в меня радости. Я лучше, чем он, несмотря на всю свою внешнюю и показную осведомленность, знал своего самого младшего из четверых братьев. И знал его неприлично нежные отношения с Геримханом Биболатовым. Может быть, именно потому, что я знал их, я и с удовольствием пристрелил бы Геримхана. А заодно бы, может быть, и самого Зияудди. Будь жива мама и окажись она в курсе дел, она сама послала бы меня сделать это, я уверен. Тем не менее отказаться от продолжения дела я не мог и вынужден был брату позвонить.
Он ответил сразу.
– Здравствуй, Зияудди.
– Здравствуй, Ширвани. – Кажется, узнал он голос, потому что номера моей спутниковой трубки он не знал, а иначе определить, кто звонит, было невозможно. – Ты вспомнил обо мне…
И непонятно было, рад он моему звонку или относится к нему с опаской. Скорее всего, второе, потому что я уже высказывал однажды кое-что при очной встрече. Но эта встреча происходила на глазах у множества людей, а о связи Зияудди с Геримханом знало очень мало людей, потому что они хранили свои отношения в тайне, и я, чтобы тейп свой и фамилию свою не позорить, тоже не желал громкого разговора.
– Я сейчас направляюсь в место, где мы, возможно, встретимся.
– Я далеко, брат. Я в Грузии. Но… Но не могу сейчас тебе сказать…
– Я знаю, где ты. Я сейчас сам лечу к Геримхану.
– Зачем? – Зияудди, кажется, испугался.
– Мне нужна его помощь. У меня свои интересы рядом со Змеиным ущельем. Как ты думаешь, он не откажет мне?
– Я думаю, брат, он в ближайшее время будет очень занят… – Зияудди не показал радости от моего интереса и даже от предстоящей возможной встречи.
– И все же попроси его, иначе и его и тебя ожидают, возможно, слишком больше неприятности… Вплоть до того, что вас могут не принять в Грузии. По крайней мере, в Европе вы тогда будете точно приняты как враги. А Европа на Грузию сильно влияет… В дело замешаны серьезные силы, с которыми вам бороться пока невозможно…
– Это надолго?
– Может быть, несколько часов… Может быть, сутки…
– Хорошо, я позвоню ему, – согласился Зияудди.
Я надавил на правильную педаль. Его мечта была – осесть где-нибудь в Европе. Он сам мне об этом говорил еще до того, как с Геримханом связался.
– Когда тебе перезвонить?
– Я сам тебе перезвоню… Скоро…
* * *
Брат не обманул и позвонил уже через четыре минуты, когда вертолет начал выписывать полукруг, чтобы сесть там, где я своих людей оставил. Пилот увидел их сверху и вопросительно посмотрел на меня. Я, доставая трубку из кармана, утвердительно кивнул и ткнул для убедительности пальцем в ветровое стекло.
И тут же ответил на звонок:
– Слушаю тебя, Зияудди.
– Брат, я должен тебя огорчить… – высокий голос Зияудди стал, казалось, от расстройства еще выше и писклявее.
– Ты со своим другом не желаешь мне помочь… – сказал я с откровенной металлической, чуть-чуть звенящей угрозой в голосе. Брат знал эти нотки с детства и всегда, помнится, трепетал, когда я начинал так говорить.
– Мы бы помогли с удовольствием. И Геримхан, и я тем более, но у Геримхана осложнения в ситуации. Он сейчас ведет бой…
Мне подумалось, что Зияудди вместе с Биболатовым пытаются меня за нос водить. Я хорошо знал, что армейских частей там быть не должно.
– Он что, вышел на Седельный перевал? – я спросил с издевкой.
– Нет. Геримхан обстрелял из пулеметов федеральный вертолет, который над ними кружил, и повредил двигатель. Вертолет сел прямо в Змеином ущелье, на склоне, застрял корпусом между деревьев. Там оказалось полно солдат, и сейчас Геримхан вынужден их уничтожить, иначе его самого уничтожат раньше, чем он к перевалу выйдет… Он еще не все силы собрал, чтобы на прорыв идти. И я не смогу помочь, потому что у меня тоже сил мало. Я не в состоянии своей группой штурмовать перевал. Могу только поддержку оказать тому, кто с другой стороны штурмует большими, чем у меня, силами.
– Я понял… Позвони ему и скажи, что я лечу на маленьком вертолете МЧС. Меня как раз тот сбитый вертолет интересует. Ради него я в те края и отправился. Я готовился его здесь встретить. Вернее, встретить пассажира с грузом. Мне только один пассажир нужен. Даже не он, а его груз. Попроси Геримхана, чтобы он не трогал священника и его груз. Я прилечу и сам с ним разберусь. Остальных пусть уничтожает… Я рад, что дело так просто разрешилось. Будем действовать вместе. Может быть, и я смогу быть полезным твоему… другу…
– Понял.
* * *
Посадка в вертолет новых пассажиров прошла быстро и без внешних эксцессов. Тем не менее я заметил, как Рауф бросает обеспокоенные взгляды куда-то за свое правое плечо. Мне не видно было, куда он смотрел,[6] и потому я вынужден был спросить:
– Что там такое?
– Машина… Белая «Нива»… На нас в бинокль смотрят.
– Видели посадку?
– Посадку машины. Посадку пассажиров видно не было.
– Это чем-то грозит нам?
– В принципе ничем… Просто не люблю, когда за мной наблюдают.
Я обернулся к своим парням, устроившимся на заднем сиденье.
– Белую «Ниву» видели? Когда внизу были…
– Я не видел… – пожал плечами Актемар.
Вообще-то он у меня много лет разведкой занимался, потому на его глаз положиться можно, и я всегда Актемару доверял.
– Они не могли увидеть, – заметил Рауф. – Машина за холмом стояла, по другую сторону…
– Когда ты уехал, – сказал неуверенно Джамбулат, – по дороге какая-то проходила…
– Мы тогда как раз на холм поднялись, – добавил Висангири. – Я заметил, что они скорость сбросили, словно нас рассматривали. Но мало ли машин по дороге проходит.
В этом он был прав. Дорога оживленная, и белых «Нив» здесь встретить можно много. Мои соотечественники любят эту машину. По горам хорошо бегает. Это мне она не нравится, потому что скорость набирает медленно, и на обгоне момент выбирать приходится, когда можно на газ давить и успеть кого-то обогнать до того, как встречная машина поедет. Это на моей «Кайен» ждать не надо. Пара секунд, и тот, кого обгоняешь, уже далеко позади…
– Машин в самом деле много… – сказал я. – Но ситуацию следует контролировать.
Мы разговаривали на чеченском. Рауф прислушивался, как и во время моих телефонных разговоров, но ничего, кажется, не понимал. Он хоть и мусульманин, хоть и работает в Чечне, а чеченский язык не знает. И это хорошо…
* * *
Мы еще около десяти минут летели маршрутом, с которого почти постоянно было видно дорогу. То ближе, то дальше, но видно. И я специально высматривал машины. Насчитал двенадцать штук, идущих в ту или в другую сторону, но не попалось ни одной белой «Нивы». Даже не белой – тоже ни одной «Нивы» не попалось. Но на основании таких наблюдений делать выводы, как я понимал, было нельзя. Здесь не работает принцип статистической погрешности, здесь, скорее всего, только принцип случайных чисел Неймана действует. В лотерее этот математический принцип может помочь, в сборе разведданных и подготовке выводов – едва ли.
Через десять минут Рауф сказал хмуро:
– Начинается… Будем вертеться…
Я даже спрашивать не стал, что именно начинается, потому что сам несколько раз уже посматривал вперед на чернеющую полоску на горизонте. Полоска ширилась, становилась полосой, потом уже превращалась в угрожающий фон, и становилось ясно, что мы приближаемся к грозовому фронту. Что это был именно фронт, а не отдельные грозовые участки неба, у меня сомнения не возникло, потому что вся южная часть неба была черно-синего оттенка.
– А где там вертеться… – выразил я сомнения. – Сплошная чернота… Ее не облетишь…
– Облетишь… – без сомнения сказал Рауф. – Издали – сплошные тучи. Но сплошных туч не бывает. Подлетим, увидим, где просветы. Там и прорвемся.
Его уверенность вселяла надежду. Рауф в нашей ситуации – хозяин положения. Он мог бы сказать сразу, что там не пролететь и придется возвращаться, чтобы выждать более подходящее время, и нам нечего было бы возразить при всем желании. Но он знал, что делать, и делал то, что мог, и при этом вовсе не напоминал самоубийцу, который приготовился вместе с собой захватить на тот черный свет еще несколько человек – нас то есть…
– В Змеиное ущелье-то мы, скорее всего, напрямую не пролетим, – предупредил вдруг Рауф, и у меня уже возник резкий вопрос относительно его знания чеченского языка, когда он сам развеял мои сомнения. – Я так понял, что нам именно туда надо?
Да… Русский язык в России везде уже проник. Конечно, Змеиное ущелье имеет и собственное, чеченское название, но в картах оно называется по-русски, и в разговоре звучит русское название. И ничего удивительного, что, услышав его, Рауф понял, куда нам лететь…
* * *
За годы войны у себя в горах я ранен был трижды и дважды легко контужен. А сколько раз под пулями ходил, и не припомню… И это, и вообще характер, которым наградил меня Аллах, все, что я пережил и вынес, – сделало меня человеком почти равнодушным к боли и, как мне казалось, ничего уже в жизни не боящимся. Но сам себе я могу признаться, что лететь в этой густой темноте, когда только разноцветные приборы вертолета говорят что-то, но тоже говорят не тебе, а пилоту, а темнота вокруг время от времени разрывается от вспышки молнии – это испытание для характера. И парни за моей спиной притихли, не смея что-то сказать, да и сам наш пилот без конца вытирал со лба пот рукавом. И пот этот выступал не от жары, а от его внутреннего напряжения, которое невозможно, наверное, сравнить с напряжением физическим, даже самым тяжелым.
– Совсем ничего не вижу, – устало признался вдруг Рауф. – Будем снижаться и по дну ущелья лететь. Там светлее. А то влепимся так в какой-нибудь склон…
– А почему сразу нельзя было по ущелью лететь? – не понял я.
– А потому что напрямую, поверху, мне так кажется, путь слегка покороче. Раза так в три-четыре… И, пожалуй, мы сможем и к Змеиному ущелью сразу пробраться.
Вертолет стал плавно снижаться. Снижение почти не чувствовалось. И не чувствовалось бы, если бы не становилось светлее вокруг… Черными тучи были только вверху. А ниже и трясло заметно меньше. Рауф по-прежнему чувствовал себя уверенно и вел себя спокойно, и эти его спокойствие и уверенность и в нас то же самое вселяли…
– Долетим? – спросил я.
– Долетим…
Он не сомневался…
2. Максим Одинцов, рядовой контрактной службы, спецназ ГРУ
Как-то так получилось, что я даже не сильно ударился. Упал, конечно, но упал на рюкзак. Сначала автомат с вершины моего груза свалился, потом «разгрузка» и бронежилет с рюкзака упали так, что звука падения слышно не было за общим грохотом и скрежетом. Потом на все это сверху рюкзак, а уже на рюкзак, можно сказать, со всем удобствами, и я – довольно мягко. И даже испугаться не успел, хотя раньше уже почувствовал, что вертолет падает. Но была какая-то даже не надежда, а уверенность, что все обойдется…
Обошлось… Но, к сожалению, настолько удачно только для меня. Это я сразу определил. Другие падали чуть жестче. Разве что беременная жена пограничника свалилась с рюкзаков на рюкзаки, но и она другими рюкзаками накрылась. Должно быть, чтобы сверху на нее ничего или никого не свалилось. Это рядом со мной было, и я видел хорошо. Общий момент испуга, конечно, был. Но я сам как-то удивительно спокойно ко всему отнесся. Наверное, подготовиться успел. Еще когда пулеметы в пассажирский люк высунули и начали обстрел, я подумал, что бой в такой ситуации может оказаться обоюдоопасным. И потому мысленно подготовился к опасности. Я сидел на месте, стараясь удержать равновесие, но тем не менее одновременно мысленно навстречу опасности шел. И потому, после комфортного падения на рюкзак, как только корпус вертолета почти замер, запертый среди деревьев, я уже знал, что мне делать. Впрочем, и другие тоже знали. Все знали, кто нарукавную эмблему с «летучей мышью»[7] носит – школа…
Именно потому, что я морально оказался готовым, я и оказался в передовом отряде. Его старший лейтенант Воронцов сразу выставил в охранение навстречу боевикам, которые обязательно должны были подойти, поскольку они прекрасно видели, что произошло с вертолетом, видели, что машина, с которой их рассматривали и которую они, по сути дела, сбили, не взорвалась при падении, следовательно, перед ними появилось две возможности: или сразу атаковать, не зная сил противника, или ждать, когда тебя атакуют, потому что кто-то, кто остался жив после крушения, выберется из гор и доложит, где обосновалась банда. Может быть, сразу доложат по рации. Следовательно, боевики будут спешить, чтобы захватить людей и уничтожить возможность связи. С этой целью наверняка попытаются поджечь остатки вертолета гранатометами, и потому на выстрел их подпускать нельзя до тех пор, пока из вертолета не будут эвакуированы все раненые и тела погибших. Это нам кратко старший лейтенант Воронцов объяснил. Он десять человек в передовую группу выделил и дал нам в командование еще одного старшего лейтенанта, из пограничников. Я не разобрал фамилию, то ли Валуева, то ли Балуева. Но уже по тому, как старший лейтенант спускался из застрявшего вертолета, мы все поняли, что за боец из него может получиться в критической ситуации. Ладно еще, что сам он не лез в активные командиры, и мы поставленную Воронцовым задачу выполнили почти молча – позицию заняли хорошую, на скале, поросшей густыми кустами, и были практически невидимыми снизу, где проходила тропа. А сверху, над нами, стена была почти отвесная, и даже деревья не могли на такой крутизне удержаться – только несколько кустов, в которых прятаться тоже никто не мог, потому что элементарно не смог бы до них добраться, не имея орлиных крыльев. А они у человека пока растут, насколько мне известно, скверно. Вообще горы и скалы здесь были чрезвычайно крутыми. Это не Чечня, где практически все горы землей и лесами покрыты, и сами высоты здешних не достигают. Это же, кажется, каменистый Дагестан… Самый настоящий горный Дагестан, где буро-коричневый цвет вокруг считается господствующим. Впрочем, я могу и ошибаться, в Чечне тоже, наверное, есть стоящие каменистые горы, просто мы изначально заняли перевал уже за пределами Чечни, в Дагестане, и потому, глядя на тамошние горы, я и здешние к той же категории относил. Но я вообще-то и разницы не видел между Чечней и Дагестаном. Селений поблизости быть не должно, следовательно, нам неоткуда ждать помощи, точно так же, как и бандитам неоткуда было ждать подкрепления. И еще неизвестно, хорошо это или плохо, окажись рядом какие-то селения…
Вообще-то старший лейтенант Воронцов своим взводом распоряжался. А я же в передовую группу попал, можно сказать, случайно. Старший лейтенант наиболее готовых к выходу солдат взвода отправлял, и я просто на глаза ему попался, когда свой упавший бронежилет поднял и на себя нацепил, а сверху приготовился «разгрузку» надеть. Воронцов в лицо меня знал, кажется. По крайней мере, знал о моем присутствии в вертолете, знал, наверное, и причину, по которой я отправлялся в расположение батальона. Но здесь он был командир. И потому, долго не думая, просто деловито кивнул:
– Выступаешь с группой…
* * *
Сложность еще и в том состояла, что вертолет посреди сосновых стволов застрял, врубившись в лес тугим клином. Пара с небольшим метров от земли – высота вроде бы небольшая, и в нормальной обстановке спрыгнуть можно без проблем. Но склон внизу крутой и высокой травой прикрыт, кое-где в траве виднелись крупные камни, но не везде, и не видно более мелкие, которые тоже способны неприятности доставить. Спрыгивать просто так, бездумно – опасно, потому что рискуешь на скрытый под травяным покровом камешек всего-то с кулак величиной нарваться, и этого уже хватит, чтобы ногу подвернуть. В наших условиях потеря еще одного человека может оказаться критической. А что другие потери есть, я своими глазами видел – сучья деревьев во многих местах обшивку вертолета прорвали. А мы все, кроме беременной женщины, сидели в два ряда вдоль боковых стен, и каждый мог получить удар природным древесным копьем. Кто-то и получил. Одного из пограничников, что против меня сидел, насквозь пробило. Это то, что я сразу увидел. Наверняка и еще кому-то досталось. Даже солдаты на зов командира не в полном составе собрались. А боевиков сдержать следовало. И потому Воронцов приказал прыгать на ближайший ствол и по нему, обезьянам уподобляясь, спускаться. Мы все справились без проблем, кроме старшего лейтенанта Валуева. Пограничник на ствол прыгнул вроде бы легко, потому что без бронежилета был, но ухватиться не сумел, не хватило навыков, и свалился. Хорошо еще, что не первым прыгал. Парни внизу подхватили его, не дали скатиться со склона, ломая стволы и кусты собственными боками. А потом сверху старшему лейтенанту и автомат сбросили, поскольку пограничники все без оружия были. Значит, автомат освободился, то есть, честнее говоря, кто-то из солдат взвода Воронцова так пострадал, что не в состоянии в бой идти, вот и автомат появился, сделал я вывод.
Внизу, около вертолета, но не под ним, на случай падения корпуса, остались два пулеметчика. Два пулемета, учитывая их скорострельность, смогут целое отделение заменить и обезопасить всех, кто из вертолета выберется. А мы двинулись по склону, придерживаясь руками за стволы, чтобы не скатиться и не потерять скорость продольного движения. Воронцову сверху конечную точку видно было лучше, чем нам, и он направлял группу знаками и негромкими окриками. И мы быстро на позицию вышли. Полтораста метров от вертолета, не более. Только разобрались по местам и залегли, едва успели дыхание в норму привести, как старший лейтенант Валуев негромко и спокойно скомандовал:
– Внимание! Стрелять только по моей команде.
Мы уже все видели, как по тропе бегом передвигалась группа боевиков. Было их примерно столько же, сколько нас. Может, чуть-чуть побольше, но кусты пока еще мешали тропу как следует рассмотреть. Мы молча «вцепились» прицелами в противника, пока еще не выбирая себе конкретную цель, но сопровождали всю группу стволами до более открытого места. На такое сопровождение ушли целых полторы минуты. Валуев, конечно, был неуклюж и по деревьям лазить не умел. Но хладнокровия ему вполне хватало, и команду он отдал вовремя:
– Огонь!..
Мы короткими очередями с дистанции в полтора десятка метров разорвали настороженную после аварии тишину здешних опасных гор. И противник был практически открыт для прицеливания, не имея возможности найти укрытие, потому что больших камней рядом с тропой в этом месте не оказалось. Все кончилось быстро, хотя на всякий случай мы дали каждый по паре коротких очередей про запас.
– Двое фланговых с каждой стороны, – прозвучала новая команда. – Забрать гранатометы и боезапас. Пулемет… Документы, у кого окажутся… Выставить парочку «растяжек». Быстро, но осторожно. Остальные – прикрывать тропу.
Команда естественная. Валуев, как и все мы, успел увидеть в группе два гранатомета «РПГ-7», разовый гранатомет «Муха» и ручной пулемет. Это могло нам сгодиться при дальнейшей обороне. Особенно первые два гранатомета, имеющие серьезный уровень поражения при стрельбе осколочными гранатами. Да и пулемет тоже сгодился бы. Двумя гранатометами можно долго такую тропу держать и никого не пропустить. Четыре человека быстро и легко спустились на тропу. Вот возвращаться им было из-за крутизны и нелегкого груза, занимающего руки, гораздо труднее, и не было веревок, чтобы сбросить им в помощь. Но поднялись и принесли два «РПГ-7».
– Выставили три «растяжки», под два тела подложили гранаты. «Муха» повреждена пулей. Стрелять не будет… – коротко и конкретно доложил старшему лейтенанту Валуеву младший сержант Отраднов, командир отделения, к которому меня прикрепил Воронцов. И выложил на скалу в дополнение несколько спаренных автоматных рожков. Тоже вещь для нас необходимая, поскольку мы лишние патроны с собой не таскали, они на перевале нужны были.
Другие вместе с гранатометами принесли и запас гранат к ним, и собрали у боевиков все рожки с патронами и ручные гранаты, для чего пришлось всем основательно загрузиться. С гранатами, не только к гранатомету, но и вообще с гранатами, у нас было плоховато, как и с патронами, поскольку взвод Воронцова почти все гранаты сдал смене. Таким образом, гранаты для «подствольника» только у меня одного остались, ведь меня никто не менял и передавать боекомплект было некому, но я не спешил их расходовать, понимая, что момент сейчас еще не самый острый и гранаты могут понадобиться тогда, когда ситуация будет близка к критической. А такие ситуации возникнуть могут всегда.
– Молодцы, – похвалил старший лейтенант. – Внимательно контролируем тропу. Еще кто-то обязательно появится. Это был, похоже, только передовой дозор.
С этим трудно было не согласиться. Судя по скорости, с которой передовой дозор появился на месте крушения, эта группа вообще находилась вдалеке от лагеря, когда был сбит наш вертолет. Или в охранении стояла, хотя для охранения имела слишком сильное вооружение и излишне большой состав – в охранение обычно с гранатометами не ходят, поскольку здесь нет дорог, по которым может подойти бронетехника, или какую-то свою отдельную задачу выполняла. А может быть, вообще к лагерю направлялась, чтобы к другим присоединиться, и увидела момент, предшествующий падению вертолета. Желание разведать и чем-то поживиться – вполне естественное для бандитов. Не менее естественное, чем желание старшего лейтенанта Воронцова выставить так вовремя собственное охранение. А с места, где нас обстреляли и где вертолет первоначально начал выписывать какие-то непонятные фигуры, показывая свою конечную неуправляемость, было до места падения не так и близко, невозможно было успеть, даже если бегом всю дорогу бежать. И наверняка из лагеря бандитов вскоре другая группа подойдет, более основательная и боеспособная, имеющая перед собой конкретную цель и точный приказ. Кроме того, автоматные очереди по ущелью всегда далеко разносятся, обрастают эхом, и бандиты в лагере, наверное, уже поняли, что здесь произошел пусть и скоротечный, но бой. Значит, будут осторожны и на рожон, если мы их к этому не принудим, не полезут.
Со скалы нам было видно, как остатки вертолета покинула вторая группа солдат. Эта группа была чуть меньше нашей – я успел семь человек насчитать. Старший лейтенант Воронцов направил их в противоположную сторону. Мы не знали, где еще может находиться противник, и прикрыть необходимо было обе стороны. Если группа бандитов, уничтоженная нами, шла на соединение с основным отрядом, то и следующая группа может точно так же идти. Должно быть, Воронцов просчитал ситуацию так и принял необходимые в данной ситуации меры. Еще одну сторону, у нас за спиной, крутой склон делал полностью безопасной, а последняя сторона была прямо под нами и в зоне поражения нашего оружия. Есть, правда, еще и противоположный склон, и позиция, на этом склоне занятая, одинаково опасна и для того, кто ее занять попытается, и для нас, потому что нас оттуда вполне можно обстреливать. Но выставлять заслон еще и туда у Воронцова возможности, конечно, не было, поскольку все люди на счету, а выставлять слабый заслон – это откровенная возможность потерять еще несколько человек.
Но перекрыть возможность выхода на противоположный склон – это тоже задача нашей группы. После высадки всех раненых и убитых из корпуса вертолета старший лейтенант Воронцов обещал прислать нам пулемет в поддержку. Одним пулеметом мы уже обзавелись. Но с двумя будет надежнее. А теперь осталось только ждать. Ждать одинаково и неизбежных скорых событий, и отдаленных… Скорые – это появление боевиков, это обязательный обоюдоострый бой. Отдаленные – это помощь нам извне. Интересно, сумели ли вертолетчики с базой связаться и передать данные? Цела ли связь?
Я лежал и поочередно то тропу рассматривал, то склон, по которому подобраться к нам было сложно, но возможно, то склон противолежащий, откуда по нам могут стрелять, то небо, грозящее нам скорой грозой. Гром где-то неподалеку громыхал. Значит, гроза уже пришла. Вопрос был только в том, дойдет ли она до нас в полной силе. Впрочем, в горах все звуки коварны и обманчивы. Гроза может громыхать и вдалеке, но звуки по ущелью катятся, эхом обрастают и кажутся совсем близкими…
* * *
Тебе, мама, при всей твоей нетерпимости и нетерпеливости, придется потерпеть и подождать, как ни больно тебе это будет узнать. Я, конечно же, спешил к тебе, как должен спешить каждый сын к больной матери, я старался попасть к тебе как можно быстрее, но не в моих силах повлиять на форс-мажорные обстоятельства. Плановое боестолкновение – это еще не форс-мажор, а крушение вертолета – уже то самое, не зависящее от меня. Ты будешь обвинять меня. И всем своим соседям по больничной палате расскажешь, какой непутевый у тебя сын, не пожелавший стать экономистом, но пожелавший стать простым солдатом… Ты будешь много чего вспоминать из моего детства, чтобы обвинить меня – в основном для того, чтобы перед самой собой себя оправдать, потому что ты не можешь не чувствовать, как угнетала меня с самого детства, пытаясь сделать из человека хорошо выдрессированное животное без собственного характера и без права на собственное мнение. Но, тем не менее, я даже сейчас чувствую нетерпение и стремлюсь к тебе, стремлюсь преодолеть внезапно возникшие препятствия и продолжить свой путь.
Мне нельзя опаздывать. Хотя обстоятельства стараются меня задержать. Да, я знаю, что ты и в этом тоже будешь меня обвинять. Так всегда бывало, мама, и я это хорошо помню и не думаю, что за время моего отсутствия кардинально изменился твой характер. Судя по нашему, двухмесячной давности, телефонному разговору, изменений не произошло. Ты тогда сказала, что болеешь, и все. Наверное, ты не знала еще, что с тобой, но и тогда не забыла меня упрекнуть – дескать, это я тебе все нервы с самого детства истрепал до такой степени, что ты сейчас, в своем возрасте, не будучи еще статистически старой, физически чувствуешь себя старухой. Но я, как обычно, пропустил твои слова мимо ушей. Я знал, что без этого ты не можешь, и виновный во всех твоих неприятностях должен существовать вовне, но только не в тебе самой – так ты считала и всегда искала виновных. Во всех окружающих. Но, естественно, самым виновным, причем виновным постоянно, мог быть только один человек – я…
Если у тебя что-то не получалось, ты всегда считала, что виноват в этом я. Наверное, так тебе было легче прожить, хотя ты уверяла, что жить тебе не хочется, потому что у тебя такой сын. И опять меня винила. И в мелочах, в простых хозяйственных делах. Помнишь, как ремонт дома делали… Обои клеили, а они у нас почему-то криво ложились и сильно пузырились на стенах. Ты меня винила, хотя я видел, что ты неровно клеишь, и пытался, вопреки твоей воле, выровнять. А ты возмущалась, что я под руку говорю и тебя сбиваю и что сделанное правильно искривляю. Ты из принципа не желала делать так, как я подсказывал, и все получалось хуже. Ты вообще не терпела никаких подсказок и старалась всегда сделать по-своему. Я знал, конечно, как тебя направить – тебе нужно было просто дать информацию к размышлению, и ты придешь к правильному выводу. А если указывать прямо, ты будешь наоборот делать, даже если это хуже. И кого-то в этом обвинять. Но это пустяки, это привычно, и потому не страшно. Мне даже другое привычно, когда ты в своей неудавшейся судьбе меня винила. Не припомню уже, сколько раз я слышал, что, дескать, если бы не я, то ты свою жизнь устроила бы, и была бы счастлива. Да разве я мешал тебе жизнь устраивать, мама? Я всегда был молчалив, хотя не рвался обниматься с каждым новым мужчиной, с которым ты собиралась жить. Я не видел причин, по которым мне необходимо было каждого приветствовать, потому что не я собирался с ними жить, и мне, кроме того, всегда казалось, что терпением для жизни с тобой надо обладать недюжинным, чего редко кому хватает. Попробуй-ка найди такого. Ты винила, я не возражал. Обвиняй, если тебе так легче. Я все равно вижу все достаточно трезвыми глазами… Я причины вижу…
Но не моя, мама, вина в том, что вертолет разбился… Ты уж поверь мне…
И тебе придется потерпеть и дождаться меня…
* * *
– Внимание… – прошептал старший лейтенант Валуев. – Что-то на противоположном склоне… Есть шевеление…
Гроза грозила, но грозила нам не только она.
– Вижу… – сказал младший сержант Отраднов, поднимая пулемет. – Кто-то в лохматом маскхалате ползет. Как куст. Такие обычно у снайперов бывают. Снайпера нам только и не хватает для полного счастья.
– Снайпера на склон пускать нельзя! – старлей категоричность проявил. – Они еще не знают, где мы. Будут определять для снайпера. Держи его на мушке. Пулемет выставляй… Остальные – сейчас нас понизу отвлекать будут. Гранатомет подготовьте. Накрывать, так всех сразу…
В принципе, этот пограничник вел себя как нормальный боевой командир, и просчитывал все правильно, несмотря на то что по деревьям спускаться его не научили. И мы его команды выполняли, как выполняли бы команды своих командиров.
Отраднов пулемет установил и прижался к прикладу, обмотанному под щекой половиной рукава от бушлата. Если так из пулемета прицеливаться, можно и без зубов остаться. И боевики, у который пулемет забрали, видимо, о своих зубах заботились. Мягкую свинину они не едят, а для жесткой баранины зубы надо иметь крепкие.
– Я его веду… – доложил Отраднов. – Не поднимется.
– А вот и другие… – сказал я, заметив, как тень в камуфляжке метнулась от куста к кусту. Слишком быстро для природной тени. Должно быть, эта обладала человеческими ногами. И всем остальным человеческим. И даже больше, чем человеческим, потому что в здешних краях без оружия даже тени выжить сложно.
– Не вижу, где? – спросил сосед слева, который был к этой «тени» ближе.
– Этого я держу на мушке, – сказал я. – Смотри, должны и другие быть…
– А ты не держи, стреляй… – предложил старший лейтенант. – И со снайпером пора кончать… А то…
– Нельзя пока, товарищ старший лейтенант, – поправил офицера более опытный в боевых действиях младший сержант Отраднов. – Пусть другие покажутся… Иначе мы их увидим только тогда, когда по нам стрелять начнут. А если у них минометы есть?.. А если у них минометчик хороший?.. Нельзя демаскироваться.
– Вижу еще одного… – доложил сосед слева. – Ползет… Твой, может?
– Мой замер… Ждет…
– Еще двоих вижу… – раздался голос с правого фланга. – Перебежали…
В это время со стороны упавшего вертолета, а это дистанция метров в семьдесят, раздались две пулеметные очереди и одна автоматная. Пулеметные более длинные, автоматная разделилась на три коротких. Должно быть, старший лейтенант Воронцов в бинокль боевиков увидел и показал, куда стрелять, отвлекая внимание от нас. Хороший ход, потому что такой полуслепой обстрел вреда боевикам не принес, но вселил в них уверенность, что противник не над ними завис, а где-то еще там находится, вдалеке, рядом с вертолетом. И даже в тот момент, когда они вышли к месту гибели первой бандитской группы – два десятка бородачей, повидавших в своей жизни немало трупов, – боевики не смутились. Деловито осмотрели карманы погибших, но ничего ценного, кажется, не нашли. Должно быть, они предположили, что первая группа попала в засаду, после которой федералы отошли. И расслабились, чего делать, естественно, было нельзя. И как раз в этот момент кто-то зацепил ногой за «растяжку». Взрыв гранаты произвел обычное действие – бандиты бросились к первому попавшемуся на глаза укрытию, а кому укрытие на глаза не попалось, то просто в сторону склона, чтобы хотя бы за деревом спрятаться, потому как предположили, что гранату кто-то бросил. Трое уже бежать не могли, потому что граната разорвалась у них под ногами. И момент паники сработал – две оставшиеся «растяжки» в такой ситуации, как правило, сами кому-то под ноги «бросаются». Еще два взрыва, последовавшие с небольшим интервалом, положили еще шестерых.
– Внимание! Гранатометы, огонь! – скомандовал старший лейтенант Валуев. – Остальные, огонь! Пулеметчик! Снайпера снимай…
И если первые слова команды произносились еще шепотом, то при произнесении последующих необходимости скрываться не было, и старший лейтенант почти кричал. Одна из гранат благополучно взорвалась там, где только что были боевики. И даже если они залегли, все не могли найти себе укрытие только с одного направления, потому что не предполагали, с какой стороны им ждать опасности. Разбираться, какой урон нанесла эта граната, возможности и времени не было, да это было сейчас и не важно. Вторая граната до цели не долетела, столкнувшись с каким-то стволом, и взорвалась над землей. Но разброс осколков все равно был велик, и кого-то могло достать сверху. Тут же мы включились в обстрел, а рядом со вкусом и смаком дал две очереди по противоположному склону пулемет и тут же начал нам помогать – значит, снайпер уже не представляет опасности, и младший сержант Отраднов свою первую задачу выполнил успешно…
И в этот момент нам навстречу несколько очередей раздалось. Пули рядом с моей головой ветки кусов срезали, и одна ветка мне на затылок упала. А потом солидным, чуть сухощавым баском ухнул выстрел подствольника. Стреляли навесом, и, казалось, слышно было, как летит граната, хотя, конечно же, никто этого не слышал, а граната не мина, чтобы выть при полете. Выстрел был точным. Или среди бандитов есть гранатометчик высокого класса, или это просто случайность. Взрыв грохнул на правой половине скалы, взметнув вывороченные кусты и ссыпав под склон камни. Не захочешь, но под огнем посмотришь, что там произошло. Я посмотрел…
Глава 4
1. Святой Валентин, авторитетный кидала
В принципе, я хорошо знаю, почему мне не нравится, когда меня пытаются убить. Для кого-то мое объяснение бредом сивой кобылы покажется, но я-то сам знаю, что прав, и на других мне плевать. Я знаю точно… Все потому, что я еще не начал каяться, как Давид, и замаливать свои грехи. Для этого слишком много времени надо, поскольку грехов на мне – не счесть, и Господь, как я думаю, милостивец и не допустит того, чтобы я умер не покаявшись. Вот и не люблю, когда против воли Господа кто-то поступает, то есть убить меня желает…
Есть, конечно, и другие причины, но другие – это мелочи, не стоящие внимания, типа того, что жить, как всем, хочется и прочее…
Вертолет наш, матерь его, разбился, можно сказать, удачно, если вообще можно назвать удачей то, что с нами произошло. Это тот же самый вопрос для оптимиста и, матерь его, пессимиста. Стакан с водкой налит только наполовину или сразу аж наполовину?.. Я оптимист конченый, для меня половина стакана – это сразу наполовину… И я исхожу всегда из соображения того, что могло бы произойти, если бы было хуже. Обычно это помогает с любой бедой справиться и относиться к произошедшему с большей долей веры в свою везучесть. Сколько помню, когда смотрел по телевизору, показывали, что осталось от упавшего вертолета. Мы же даже не упали. Нас заклинило между деревьев, и эти же деревья сыграли роль тормоза, когда мы таранили лесистый склон. Протарань мы эти сосны насквозь, вертолет столкнулся бы с землей и мог взорваться. Нас же сосновый тормоз остановил, за что великая ему моя благодарность. Но так, видимо, Господь распорядился, притормозил падение своей рукой и снова дал мне срок для покаяния.
Я еще в полете понял, когда в раскрытый люк выставили два пулемета, что где-то там, внизу, бандиты, матерь их, оказались и очень просят, чтобы по ним постреляли. И тогда же подумал, что если мы будем стрелять, то, естественно, стрелять будут и в нас… Но мысли не возникло, что могут вертолет подбить. Я всегда думал, что армейские вертолеты более крепкие.
А вот подбили…
Но любому человеку не отпускается испытаний больше, чем он сможет выдержать. Пришли испытания, терпи и выдерживай…
И я начал выдерживать, еще более входя в роль священника от сознания сложности ситуации. Кто, как не священник в подобном положении должен проявить дух? Не авторитетный кидала же, чье мнение мало кого здесь может заинтересовать… Кидалу здесь не поймут и понять не пожелают, это я знаю точно. Тем более что этот кидала уже предстал перед всеми в роли священника. Вывод сделают однозначный – обманувший раз, войдет во вкус… Не будут доверять. А я люблю, чтобы мне доверяли. У меня специальность такая, что без доверия – просто никуда. И если мне не доверяют, я себя неуверенно чувствую. А сейчас такой момент настал, что просто необходимо чувствовать себя очень уверенно. И мне, и всем остальным, потому что пропадать будем вместе, и не пропасть сумеем только тогда, когда друг в друга уверенность вселять будем. А кто лучше священника может вселить уверенность в других…
* * *
Хотя, говоря по правде, местный контингент скорее прислушивался бы к мнению старшего лейтенанта Воронцова, чем к мнению священника, если священник свое мнение выскажет. Тем паче мнение авторитетного кидалы мало кого заставит пальцем пошевелить. Но старший лейтенант повел себя тоже авторитетно, и я заметил, как он резковато, но справедливо отодвинул на задний план старшего по званию офицера – капитана-пограничника, который, матерь его, больше на жену ворчать умел, чем к военному делу был приспособлен. К делу, по моему мнению, больше был способен я, чем пограничник, судя по первой команде, которую он пытался отдать. То есть не я в собственном виде, а я под соусом из священнического сана. Это просто потому, что я знал, как себя вести, а капитан-пограничник сразу намеревался исправить приказы Воронцова и собственную ошибку совершить. И пяти минут не прошло, как все мы, кто слышал слова капитана, претендующего на право командовать, убедились в правоте старшего лейтенанта. Автоматные очереди раздались как раз оттуда, куда выставил Воронцов прикрытие. Торопливо выставил, но толково и, главное, вовремя. И сам в бинокль рассматривал результат своих действий.
Я в это время выполнял то, что должен был бы выполнять человек священнического сана, получивший в дополнение приказ старшего лейтенанта. То есть я подсчитывал не боевые, хотя, может быть, и чуть-чуть боевые, потери и осматривал раненых, пытаясь по мере сил оказать им необходимую помощь. Но солдаты, как могли и кто мог, оказывали помощь друг другу. Здесь у них выучка и взаимопомощь отработаны почти до совершенства, и никто им не подсказывал, никто не подгонял – делали то, что делать необходимо. Кто оказался боеспособным, сразу и без приказа со стороны к выходу направились, и их действиями уже старший лейтенант распоряжался. Из относительно здоровых на борту вертолета остались только я сам, старший лейтенант Воронцов, капитан-пограничник, лейтенант-пограничник и жена капитана-пограничника, но она, понятно, была небоеспособна по двум естественным причинам – по принадлежности к женскому полу и по издержкам, как я считаю, особенностей женского организма, то есть по способности быть время от времени беременной. Из двоих конвойных, что везли скованных наручниками трех, матерь их, контрабандистов, более-менее «ходячим больным» остался только один конвойный, которому разорвало пробившим суком сосны мышцы плеча, один из контрабандистов оказался раненым более серьезно, двое погибли.
– Что мы имеем, отец Валентин? – спросил Воронцов, когда я вернулся к нему после осмотра. – Мне бы еще хоть пять человек на противоположный склон послать.
– Всех боеспособных солдат вы уже задействовали, – тихо сказал я. – Есть один с разбитой головой, рана не опасная, но кожа на лбу сильно рассечена в нескольких местах и постоянно кровоточит, заливает глаза. Череп, с Божьей помощью, уцелел… Можете меня с лейтенантом отправить, поскольку капитан, как я слышал, тоже контужен.
– Понял… – старший лейтенант недовольно «цыкнул», но не предложил мне вооружиться автоматом и перейти под командование лейтенанта-пограничника. – Экипаж…
– Все предстали перед Высшим Судией… Будем надеяться, что они успели покаяться… – голос мой был смирен и полон высшими помыслами. – Всем нам когда-то это предстоит, и необходимо успеть, пока…
– Пока… Пока будем спускать раненых, – перебил старший лейтенант мою начавшуюся было нравоучительную речь. – Соболенко!
Лейтенант-пограничник, которого позвали, как раз вернулся с охапкой брезентовых ремней, которыми обычно, наверное, крепили груз в вертолете. Часть ремней была уже скреплена в виде прочной сетки, которой накрывали малогабаритный груз, уложенный стопками, чтобы стопки не рассыпались при маневрах вертолета. Развернув одну такую сетку, лейтенант Соболенко продемонстрировал готовый гамак, в который вполне можно с удобствами уложить раненого.
– А нам есть куда их спускать? – поинтересовался я неназойливо и выглянул из люка.
Склон был слишком крутым, чтобы гулять по нему даже здоровым людям. Но ползком перебраться куда-то с открытого места к камням все же можно было. И можно было даже переносить раненых.
– Давайте, работаем, отец Валентин, с лейтенантом Соболенко – спускайтесь, будете принимать раненых там, мы с капитаном будем их спускать… Соболенко, возьми с собой автомат. У солдат возьми, мало ли… Капитан, пока они спускаются, сходи в кабину пилотов, проверь, что там со связью. Надо сообщение на базу отправить. И о банде данные передать. Разберешься?
– Не знаю…
– Моего радиста возьми, – кивнул старший лейтенант в сторону стоящего неподалеку младшего сержанта, который разговор слышал. – У него обе руки, кажется, сломаны, но он подскажет, что включить и в какую сторону.
Капитан ушел вместе с радистом, который уже оказался рядом, готовый выполнить приказ, но держал обе руки перед собой, чтобы, не приведи Господи, не задеть ими какую-то преграду. Лейтенант шагнул в сторону к солдатам, перевязывавшим один другого, и взял, не спросив разрешения, два автомата, поскольку собственного оружия не имел. Я, не думая долго и тоже вежливого разрешения не спрашивая, сразу перехватил один из них.
– Стрелять умеете, батюшка? – поинтересовался Соболенко.
– Я, добрый брат мой, до семинарии в армии служил. Приходилось и пострелять. На стрельбище, конечно… Не в людей, понятно… Но если доведется за единоверцев встать, не оплошаю, не сомневайся.
– Мне пока тоже только на стрельбище… – без стеснения и даже с каким-то волнительным ожесточением, словно ему не терпелось применить оружие в настоящем бою, признался лейтенант Соболенко, взял мой автомат за приклад и кивнул:
– Прыгайте на ствол, по нему спуститься не сложно. Оружие я сброшу.
Спуститься, как казалось со стороны, и в самом деле не слишком сложно. Я только рясу за пояс заткнул, чтобы не мешала, перекрестился, приноровился и прыгнул, не мучая себя сомнениями. Влетел так, словно на мотоцикле в столб, и даже лбом слегка впечатался. Слава Господу, не слишком сильно. В ствол, матерь его, обеими руками и обеими ногами вцепился, и показалось, что сейчас непременно сорвусь, как ворона крыльями, взмахну руками, но полететь не сумею ни в одну сторону, кроме единственной. Но все же удержался. Вот верхолазом, скажу честно, я никогда не был. У меня даже на церковной колокольне, когда нас, семинаристов, основам церковного звона обучали, голова кружилась. Признаюсь без стыда, страшно стало, хотя высота здесь, в сравнении с колокольней, никакая, и холодный пот по спине стал ниже стекать, за брючный ремень. Хотелось держаться вот так, пока силы есть, до судороги в мышцах, и не шевелиться от боязни свалиться и по склону скатиться. Но я дыхание перевел, посмотрел через плечо, а из вертолетного люка на меня уже не только старший лейтенант Воронцов с лейтенантом Соболенко смотрят, но еще и солдаты. С надеждой смотрят, ждут, чтобы я им пример подал. Они же раненые, и дело священника их словом и примером поддерживать. И пусть я священник не настоящий, поддержать парней, от которых во многом и моя жизнь тоже зависела, хотелось. И именно своим примером в первую очередь. И я сначала пошевелился, ища одной ногой опору, нашел, потом второй ногой стал другую опору искать. Ветка под моей ногой чуть-чуть затрещала, но выдержала. А когда я вес тела распределил, и трещать перестала. И я начал спускаться. На землю спрыгнул так, чтобы плечом о ствол опереться и не упасть. Получилось. И после этого я себя зауважал, сам себе непревзойденно ловким и храбрым показался.
– Автомат! – потребовал я твердо и с ощущением собственной геройской позиции.
Мне сбросили автомат, и я поймал его так, что любой киногерой любого классического вестерна мог бы мне позавидовать. Впрочем, в вестернах ловят, кажется, «кольты» и «винчестеры», но сути это не меняет…
– Пулеметчиков поддержите… – сверху скомандовал Воронцов. – Можете весь рожок выпустить. Короткими очередями. Они покажут, куда стрелять…
– Куда или в кого? – переспросил я, уже готовый в бой вступить.
– Куда… – хохотнул старший лейтенант. – Только – куда… В кого, вам видно не будет, как и им самим. Только направление. Шумовой эффект, отвлечение внимания. Я подкорректирую.
Я понял, что он отдавал за команды, когда я еще на дереве висел. Я слышал их, но внимания не обращал, потому что этот спуск мне, честно говоря, нелегко дался.
Лейтенант Соболенко следом за мной спускался. Сначала мне и свой автомат сбросил, потом сам на дерево прыгнул. И надолго завис на стволе. Я понимал, почему он висит, потому что сам висел точно так же совсем недавно, всего-то с минуту, матерь ее, назад. Но ждать, когда лейтенант спустится, я не стал и присоединился к пулеметчикам.
– Самое дно ущелья… – показали мне пальцем. – Вон в том районе. Активный обстрел. Отвлекаем внимание, вызываем огонь на себя…
Пулеметы заговорили почти одновременно, но я не сразу к пулеметчикам присоединился, потому что забыл предохранитель опустить. А потом, после первой пробной очереди, в раж вошел и весело так целый рожок выпустил. Хотел было взять автомат лейтенанта Соболенко, но тот уже спустился и сам к нему руку тянул.
– Нормально… Работаем… – раздалась команда старшего лейтенанта Воронцова, и я увидел, что в люке уже висит блок, через который пропущены ремни. Воронцов только дожидается, когда вернется капитан Павловский, чтобы начать спуск раненых.
Мы с лейтенантом приготовились принимать первых, чтобы сразу отправить их в сторону и не мешать спускаться другим.
* * *
Раненых мы переводили, кого можно было вести, поддерживая с двух сторон, чтобы помешать человеку по склону скатиться, даже если он сам ноги еле переставляет и свалиться желает, а кого нельзя было вести, вдвоем переносили подальше от вертолета, который в любой момент мог и упасть. По крайней мере, стволы, заклинившие корпус, пошатывались разудало и не обещали жесткой надежной опоры. Да и сам склон был слишком крут, чтобы за него даже деревьям можно было бы ухватиться прочно – все корни с одной стороны наружу торчали: то ли так выросли, то ли их дождями вымыло.
Мы отправляли всех в сторону, противоположную лагерю боевиков. Оттуда, с той стороны, уже доносились звуки боя, и нам следовало людей от этого боя отвести. Мне трудно сказать, что такое большой бой. Не военный я человек, следовательно, не могу этого понять правильно. Но мне и этот бой казался большим, потому что стреляли и автоматы, и пулеметы, и гранатометы, и звуки этого боя разносились по ущелью в обе стороны, многократно усиливаясь и обрастая эхом, пугали своей неопределенностью и не несли никакой конкретной информации.
Лейтенант Соболенко, пока я помогал пулеметчикам отвлечь внимание бандитов от засады, отыскал в склоне большую каменную впадину с вертикальной отвесной стеной. Наверное, когда-то целый громадный кусок породы не удержался и из склона выпал, образовав это уютное место. По вертикальной стене даже маленький водопадик, струей в два пальца, стекал. Можно было и раны обмыть, и самому голову под воду подставить, чтобы усталость сбросить и освежиться. Я так и делал после каждого рейса, когда доставляли мы то одного, то сразу пару человек сюда, к каменной впадине.
Провожать тех, кто ходить может, это не самое страшное, хотя не скажу, что ощущение слишком приятное, когда ты снизу человека поддерживаешь, а он норовит тебе на шею опереться и тебя под уклон свалить, а ты при этом не всегда видишь, куда ногу следует при следующем шаге поставить, потому что рука опирающегося тебе обзор закрывает и зажимает нос, мешая дышать. Но вот таскать людей – для этого у меня, как оказалось, пальцы слабоваты. Не приспособлены они к тяжелому физическому труду, поскольку таковым я никогда, матерь его, не занимался, предпочитая головой работать и за счет головы себе существование обеспечивать. Это у меня всегда получалось лучше. И после каждого рейса я подолгу держал руки под струей воды. Почему-то казалось, что так пальцы быстрее отдыхают.
Первые два рейса мы совершали вместе с пулеметчиками – вчетвером нести человека попроще, чем вдвоем, хотя тоже нелегко, но потом старший лейтенант Воронцов, пока мы с лейтенантом Соболенко отводили ходячего, куда-то услал пулеметчиков. И, даже опуская для нас очередной, грубо говоря, груз, Воронцов не за работой блока следил, а куда-то вдаль всматривался и вслушивался в ленивую перестрелку, что доносилась со стороны. Сплошного шквального огня уже не было, и можно было бы предположить, что бой или к концу подходит, или перешел в позиционную фазу. Не знаю уж, как правильно эта фаза у военных называется… И мне, человеку невоенному, трудно было предположить, во что такое противостояние может вылиться. Но взгляд старшего лейтенанта беспокойство показывал. Впрочем, в меня он беспокойства не вселял, поскольку я верил, что отбиться наши парни смогут, и смогут нас, не полностью способных отбиваться, защитить.
– Побыстрее можно, батюшка?.. – обратился ко мне лейтенант Соболенко, когда я замер, прислушиваясь к выстрелам со стороны.
– Можно, брат мой, – ответил я смиренно и взял в руки концы очередной сетки, в которой нам предстояло переносить уже не раненого, а тело убитого пилота с вертолета.
* * *
– Я без тебя никуда не пойду…
Скрипучий и слегка каркающий голос беременной жены капитана Павловского раздавался сверху, когда мы вернулись к вертолету. И звучал голос категорично.
– Дуй… Тебе говорят…
– Мадам, дома командовать будете, – сухо и коротко распорядился старший лейтенант Воронцов, прерывая беседу. – Садитесь в сетку, и быстро. Иначе я вас просто без сетки выброшу.
– Вадим! – женщина к мужу обратилась. – Что он здесь раскомандовался?..
– У меня солдаты раненые, и я не буду с каждой дурой церемониться… – Воронцов разговаривал, не показывая эмоций, и уже высунулся из люка, ожидая нашего приближения.
Капитан Павловский молчал и, судя по этому молчанию, поддерживал старшего лейтенанта. По крайней мере, внешне поддерживал, а если и предыдущее поведение капитана вспомнить, то вполне может статься, что поддерживал, матерь его, всем своим пограничным сердцем. Не мое дело вникать в семейные отношения… Пусть, матерь ее, к священнику обращаются…
– Да как вы с женщиной разговариваете?!
– Заткнись…
– Заткнись, тебе сказали… – повторил и добавил свое капитан.
На этом, кажется, разговор был закончен.
– Лейтенант, батюшка… – обратился Воронцов к нам. – Я попросил бы вас побыстрее возвращаться. Положение обязывает.
Блок заскрипел. Женщину начали спускать. Она села в сетку неудобно и светила нам сверху на головы костлявой задницей. Да еще живот ей мешал чувствовать комфорт гамака. Хмыкнув, отвернулся лейтенант. Я вообще, как священнику и полагается, опустил глаза в землю.
– Да помогите же, чего стоите… Батюшка… – прикрикнула на нас Павловская.
Несмотря на беременность, мне весьма даже хотелось помочь ей выбраться из сетки самым подобающим образом, приподняв ее за шиворот. Но лейтенант уже поспешил ее под локти взять и на ноги поставить.
– Пусть сама идет… – приказал сверху капитан. – Принимайте раненого.
Его жена посмотрела снизу вверх взглядом обиженной крысы и двинулась по склону сама, чтобы не слышать дополнительных слов, которые могут быть, как она уже убедилась, и оскорбительными.
– Сразу двоих спускаем… – сообщил старший лейтенант. – Вертолет едва держится… Не ходите под ним. В обход безопаснее.
В этом он был прав. Самое большое дерево, удерживающее корпус вертолета снизу, стонало, пытаясь вцепиться корнями в землю, но корни скрипели и вырывались из каменистой земли. В любой момент они могли не выдержать многотонной нагрузки, а если упадет это дерево, остальные будут удержать остатки вертолета не в состоянии.
Блок под двойной нагрузкой заскрипел сильнее. Спускались два солдата. У одного левая рука в окровавленных бинтах от плеча до локтя, у второго обе руки забинтованы, но бинты не окровавлены. Но оба – с автоматами, и еще из сетки начали осматриваться. А едва сетка приземлилась, солдаты самостоятельно из нее выбрались, щелкнули предохранителями автоматов и с оружием наперевес двинулись в другую сторону, выполняя, должно быть, приказ своего командира. Туда, где стреляли. Я впервые увидел, как эти спецназовцы носят автоматы. Не на длинном ремне, как все солдаты, а на укороченном, так, что в обычном состоянии автомат не на животе висит, а на груди. При этом, чтобы начать стрелять, нужно вдвое более короткое движение сделать, чтобы упереть приклад в плечо.
– Еще пару принимайте…
Парами, как понял я, спускали тех, кто относительно боеспособен и может в каких-то условиях сам, без посторонней поддержки, передвигаться по земле, то есть ноги целы. По крайней мере, может перемещаться в опасное место, чтобы стрелять.
А что еще в бою надо. Не на священника же надеяться…
И не на авторитетного кидалу тем более…
Но сверху спускали ограниченно боеспособных, хотя там еще остались и более тяжело раненные, и ограниченно боеспособные сразу, без разговоров, выдвигались в передовую линию. Этот факт уже заставлял задуматься. Значит, те, кто раньше вышел в охранение, не в состоянии сдержать бандитов и наше положение не настолько уж хорошее, чтобы отлеживаться тем, кому стрелять, может быть, просто больно. Даже здорового человека отдача приклада при очереди лупит в плечо так, что синяки остаются. А уж раненому стрелять тем более больно. Тем не менее мальчишки эти, через боль перешагнув, в бой идут…
Что же там, в полутора сотнях метров от нас, происходит?
Однако что-то происходило не только с этой стороны. Внезапно автоматные очереди и с другого направления раздались, оттуда, куда старший лейтенант Воронцов семерых солдат отправил. В ту же сторону мы раненых относили и отводили. А дозор, матерь его, куда-то дальше двинул. И теперь оттуда тоже стреляли…
2. Старший лейтенант Александр Воронцов, командир взвода, спецназ ГРУ
Настоящий и порядочный капитан, говорят, терпящее крушение и тонущее судно всегда покидает последним. Но вот в чем вопрос – являюсь ли я в данный момент тем капитаном, который обязан вывести всех людей и только потом покинуть борт самому, даже и особенно учитывая то, что корпус вертолета все более и более кренится и готов в каждый момент наших действий сорваться со склона. Конечно, до дна ущелья не так и далеко, не более сорока метров, и эти сорок метров корпусу предстоит не падать, а катиться, тормозясь о стволы деревьев. Скорость скатывания стволы замедлят, хотя совсем такую тяжелую машину едва ли остановят. И я совершенно не знаю этой техники, не могу даже предположить, существует ли угроза взрыва, или, если двигатель заглох, а винты сломаны, взрыва и пожара не будет. Я даже, по большому счету, не знаю, чем эти вертолеты заправляются. Кажется, керосином… Но насколько он взрывоопасен в нашем положении – это мне неизвестно, как неизвестно и капитану Павловскому. Я спрашивал, он вообще с вертолетами мало дела имел. Я вот знаю, что здесь есть бачки со спиртом. И даже знаю, где они расположены. Спирт предназначен для противообмораживающей системы, хотя часто применяется в других целях, но, естественно, не в такой обстановке.
Конечно, по большому счету, капитан тонущего судна – это командир экипажа, а никак не командир пассажиров, а особенно только части пассажиров, каковым я являлся на момент вылета. Это все так, но экипаж погиб, а я на себя взял право командовать теми, кто остался. Являюсь ли я в данном случае капитаном тонущего судна? И должен ли я до конца оставаться на борту, хотя мое дело, скорее всего, командовать боем там, внизу, а здесь следовало бы доверить эвакуацию пограничникам. Там, на склоне, сейчас мои мальчишки, мной обученные и подготовленные, к моим командам и действиям привычные, теперь уже под командованием другого старшего лейтенанта заслоном встали. С первым противником они, кажется, благополучно и с удовольствием справились. Но к первой группе подошла помощь, и сейчас там, на склоне, мне издалека кажется, появились какие-то осложнения.
Я знаю, что у меня во взводе не осталось гранат «ВОГ-25».[8] Мы их все передали еще на перевале тем, кто нам на смену пришел. Таскать с собой лишний груз с перевала и на перевал – ненужная роскошь. И полностью освободили все подсумки «разгрузок». И взрывы «ВОГ-25» идут оттуда, где сидят наши, со скалы. А сами выстрелы из «подствольника» снизу слышатся, где наших нет. Если стреляют навесом, а стреляют, похоже, только так, потому что стрелять прямой наводкой смысла нет, если только они не хотят скалу обрушить, что, в принципе, скорее всего, невозможно, могут нашу засаду накрыть. А если есть у бандитов хороший гранатометчик, обязательно накроют, потому что на скалах, как правило, трудно найти дополнительное укрытие в дополнение к первоначальному, трудно среагировать и вовремя переместиться. Но там же, однако, и «РПГ-7» стреляли, кажется, даже парой, они-то уж точно со скалы стреляли, а взрывы уже снизу слышались. У заслона, который я выставил, не было «РПГ-7». Значит, захватили у первой группы боевиков, уничтоженной, надо полагать, полностью. «РПГ-7» с «подствольником» по поражающей силе сравнивать не стоит – разница громадная. И из «РПГ-7» можно накрыть любого гранатометчика противника. Главное, видеть его. Должно быть, не видят, должно быть, укрытие у гранатометчика бандитов хорошее, потому что со второй группой бой перешел в вялотекущий и позиционный. А без грамотного, опытного командира в таком бою трудно. Вообще ситуация непонятная, и может по разному обернуться. И многое будет зависеть от командира группы. Командир должен момент прочувствовать, когда что-то предпринять следует. Это совсем не теоретический момент, которому могут в училище научить даже пограничника. Это исключительная прерогатива боевого опыта, которого старший лейтенант Валуев не имеет, следовательно, вероятно предположить, что не сумеет он правильно себя повести в трудной ситуации.
И плохо то, что парни на скале от нас отрезаны. Чтобы им при необходимости оттуда уйти, следует двигаться по открытому и неудобному для быстрого перемещения склону. Сразу мишенью станешь, только высунешься. Когда я парней посылал, я предупредил старшего лейтенанта Валуева, что отходить с места засады будет невозможно, следовательно, необходимо работать на полное уничтожение противника, чтобы никто не мог помешать уйти. В первый раз все, кажется, получилось. И выстрелы «РПГ-7» тому подтверждение, и еще вдобавок очереди из ручного пулемета. Ребята подвооружились, потому что у нас у самих не только с гранатами, но и с патронами тоже туго, хотя первоначально к длительному бою я готовиться и не собирался. К сожалению, готовиться надо, потому что капитан Павловский сообщил мнение моего радиста, который пытается отладить разбитую вертолетную рацию, что шансов восстановить связь два-три из ста… Если не удастся, то придется ждать, когда нас искать начнут. А если грозы идут затяжные и частые, то вполне может статься, что не сразу пробиться к нам смогут. Хуже то, что мы сами от маршрута перелета сильно уклонились, обходя грозовой фронт стороной. В первую очередь искать нас будут по привычному маршруту и рядом с ним. И только потом уже расширят круг поиска. На это время нужно. Но все-таки найдут, в чем я лично не сомневаюсь. Не те сейчас времена, когда найти не могли и не имели такой возможности. И вопрос упирается только и исключительно во время. И нам это время следует продержаться. А чтобы продержаться, следует хотя бы патроны иметь. Вот потому я и обратился к своим парням, которых первоначально хотел вообще в дело не пускать. Я не команду отдавал, я просто попросил:
– Мужики. Заставлять никого не буду. Но, кто сможет автомат в руках держать, выходи… Воевать надо – работа у нас с вами такая. Задача простая – отбиваться. Есть и дополнительная – патроны беречь и патроны добывать. С патронами у нас плохо, а без патронов нам, сами понимаете, крышка.
Но здесь уже дело решает не вопрос совести, а вопрос самочувствия. Шестеро решили, что они могут. Через «не могу» – могут. Я видел, как им далось такое решение, но и лица видел, в ниточку сжатые губы видел и не видел ни одной улыбки, даже наигранной, бравирующей. Больно шевелиться было, но они пошли. Оставшиеся пятеро не могли. Они, может быть, и хотели, но не могли, и себя пересилить хотели, но боль сильнее была. Характер и у этих был не бабский, но одним характером свое тело не переубедишь. Я знаю своих парней. У меня во взводе только контрактники. Сами знали, куда шли и зачем шли служить. И ответственность все чувствовали. Но и они понимали, что бездарно погибнуть – это не героизм. Может быть, больше героизма необходимо для того, чтобы, зная, что не в состоянии быть полезным, не высовываться и не показывать свой драчливый характер. Бездумные герои – это не спецназ… Не можешь – не высовывайся, иначе не только свою голову на плаху положишь, но и других подставишь. Это закон, которому все должны подчиняться и себя ему должны подчинять.
Шестерых первых я на пары разбил, первую пару, что поздоровее смотрелась, отправил на противоположный склон. Спуститься и перейти ущелье несложно. Сложнее подняться незамеченным по склону, который не кустами, а только деревьями порос. Кусты дальше есть, над тем местом, где боевики залегли. Но туда следует еще пробраться. Хорошо хоть наши из первой засады подстрахуют, не дадут боевикам возможности голову поднять, если они попытаются оба склона проконтролировать. Со скалы видно, кто куда от вертолета, от останков вертолета, то есть уходит, и поймут ситуацию. Вторую пару сразу отправил на дно ущелья, чтобы выложили там бруствер из любого подручного материала, на случай, если бандиты будут прорываться в сторону вертолета, а последняя пара должна была прикрывать «строителей», как и пулеметчики, только с более короткой дистанции. Бруствер должен был быть достаточно большим, чтобы за ним могла укрыться хотя бы половина взвода и иметь небольшое прикрытие со спины, если бандиты и там пожелают стрелять навесом из «подствольника». Бойца, который залег за бруствером, прикроет от осколков со спины даже небольшое возвышение. Таким образом, я уже начал готовить оборонительные сооружения, начал готовить то, чем боевики обычно пренебрегают, считая ненужным затрачивать усилия в условиях непродолжительного противостояния, но я даже из теории знаю, что укрытые за бруствером несут потери в три раза меньшие, чем те, кто этот бруствер атакует. А на практике получается, что потери эти теория даже занижает. Впрочем, занижение обычно происходит тогда, когда воюет спецназ ГРУ. В других частях, слышал я, теория себя оправдывает…
И все это время мы продолжали выгружать раненых и убитых. Скрипел блок, через который мы пропустили тросик, удерживающий опускаемый груз. Тросик был тонким, но пару человек все же держал. Основное неудобство состояло в том, что он руки резал, а мы не имели элементарных зажимов, чтобы ими тросик удерживать. Такие зажимы имеются в комплекте снаряжения для скалолазания, и у нас в роте есть несколько комплектов, и есть люди, которые умеют скалы осиливать. Но кто же будет брать это снаряжение в вертолет? У меня еще руки грубые, и они терпели, когда тросик врезался в ладони, и когда он кожу сдирал. Капитану Павловскому хуже пришлось, у него кожа на руках нежная, и после первых же операций на ободранных ладонях кровь выступила. Но он, хотя сначала мне не понравился, оказался парнем с характером и не только ничего про свои руки не сказал, он даже сам на них не смотрел, молча выполняя работу. Если учесть, что голова у него наверняка гудела после контузии, следует отдать ему должное. Пограничник характер имел. Впрочем, как и второй пограничник, и как священник отец Валентин. Лейтенант внешне щупленький и физической силой вроде бы обделенный, но работает без остановки. Я догадываюсь, что носить раненых с коротким отдыхом только во время спешного возвращения к вертолету не очень легко. Но они носят. Священник вообще выглядит жилистым и неутомимым. Так, никто без дела не остался, кто может быть в деле занят, только у меня не было полной уверенности, что я именно своим делом занимаюсь.
Казалось, все идет благополучно…
Но тут ущелье принесло звуки боя с противоположной лагерю бандитов стороны.
* * *
Стрельба шла активная, как всегда бывает в первой фазе боя, когда бой возникает, кажется, из ничего, и еще не все понятно в раскладе сил, и очереди зачастую даются не прицельные, а почти истеричные, чтобы и противника испугать, и себя подбодрить, и вообще, как говорится, на всякий случай – а вдруг да попадешь в кого-то… Но я надеялся, что своих солдат хорошо учил, и они у меня к истеричности склонности, кажется, никогда не испытывали. По крайней мере, я этого не замечал и даже сам, признаюсь, гордился их вдумчивым хладнокровием. Спецназ ГРУ не приучен рвать тельняшку на груди и бросаться на амбразуру. У нас другие методы работы – беззвучное подкрадывание и атака из засады. Причем желательно, чтобы противник узнавал о твоем существовании только тогда, когда слышит выстрел и, одновременно, получает пулю. Именно таким методам ведения войны учили еще меня старшие офицеры, кто Афган прошел. Там тактика спецназа военной разведки нарабатывалась в боевой обстановке и там же превратилась в непреложные правила.
Стрельба поднялась нешуточная, и выделить в разномастности очередей те, что делали мои солдаты, естественно, возможности не было. В условиях ущелья, где эхо гуляет, вообще не было возможности определить даже приблизительно количество стволов, участвующих в перестрелке.
Бандиты пришли не со стороны лагеря, следовательно, их не должно быть слишком много. Это я предвидел. Я хорошо помнил то, что говорил командир роты в разведдонесении. Что бандиты группируются где-то в горах, готовясь к прорыву. Если они группируются и еще не сгруппировались, то естественно предположить, что и новые группы будут подходить. Естественно, подходить не со стороны перевала, не от границы, а из внутренних районов. И хороши мы будем, если вынесем раненых в ту сторону и не выставим заслон, то есть попросту избавимся от раненых, как от мешающего груза. А дело может именно так трактоваться. Наши военные следственные органы любят любые сомнительные случаи трактовать не за, а вопреки. То есть обвинять, забывая, что они не обвинители еще, а следователи.
И я выставил заслон. Правда, в него вошло только трое полностью здоровых, трое легко контуженных солдат и один с легкой рваной раной мягких тканей спины. Но все же они были в лучшей боевой форме, чем остальные, и положиться на них можно. Тем не менее интенсивность стрельбы говорила, что бой завязался нешуточный и сразу уничтожить подошедших бандитов не удалось. А если это не удалось сделать сразу, как, например, первой засаде удалось уничтожить первую группу, значит, противник значительно превосходил наш заслон количеством. Впрочем, был еще один вариант. Если бы мы в невысоких горах проводили операцию, в горах, сплошь покрытых лесом, как большинство гор в относительно плотно населенных районах Чечни, вторая группа могла бы и не услышать звуки боя, который вел с боевиками наш первый заслон. Но здесь звуки хорошо разносятся по долине, и еще эхом обрастают, отчего слышимость хорошая даже вдалеке. И подходящая банда насторожилась, выставила вперед разведку, которая и завязала с нашим вторым заслоном бой, возможно, была уничтожена, но в помощь пришли другие, и бой разгорелся с новой силой.
А я завис здесь, на борту вертолета, вместо того, чтобы командовать, вместо того, чтобы самому стрелять и выстрелами защищать тех, кого я защитить должен, хотя самому воевать, самому стрелять – это всегда несравненно проще, чем принимать решения за других, чем просчитывать варианты и посылать в бой то одного, то другого, то одну группу, то другую, ломая голову над тем, как сделать лучше, и никогда не будучи до конца уверенным, что поступаешь правильно.
Впрочем, в данной ситуации командовать мне можно было бы только каким-то одним заслоном, тогда как бой вели оба, и в стороне я мог хотя бы дополнительные меры принять, чтобы избежать дальнейших неприятностей, тогда как, завязнув в перестрелке одного заслона, был бы не в состоянии что-то предпринять, если в неприятное положение попадут парни из другого. И вообще не смог бы ничего предпринять, если бы какой-то «третий фронт» вдруг открылся. Точно такой фронт, какой я хочу открыть, только со стороны противника. А противник обязательно этот «третий фронт» попытается выставить. И опередить его можно, только командуя здесь, в стороне, вне боя. В бой вступить я всегда еще успею, но и к этому бою должен заранее подготовиться.
* * *
– Все, старлей, – только сейчас капитан Павловский руки с осторожностью одну о другую потер и, кажется, впервые обратил внимание, что обе ладони у него окровавленные.
– Все? – удивился я.
– Все.
– А радист?
– Забыл про него, – легко признал капитан свою вину.
– Я сам схожу. Посмотрю, что он смог сделать там со сломанными руками… Ремонтник из него, понятно, какой… Перчаток нет?..
– Нет. Откуда здесь перчатки?
– Тогда просто руки перевяжи… Они тебе еще понадобятся. В «аптечке» что-то болеутоляющее есть. Я видел, солдаты кетонал пили… Таблетку прими…
– Где «аптечка»? – оглянулся капитан.
Я кивнул головой на второе от люка сиденье. Раскрытая и почти опустошенная «аптечка» вертолета лежала там.
Пока Павловский собой занимался, я заспешил в пилотский отсек. Но войти в него не пришлось. Младший сержант Ярков вышел из отсека, по-прежнему держа перед собой обе руки, хотя снял уже обе с перевязи. Должно быть, работал, и перевязи мешали.
– Что? – только и спросил я.
– Я, товарищ старший лейтенант, все перековырял. Бесполезно. Из того, что осталось, только детекторный приемник с трудом собрать, пожалуй, можно. Но приемник и будет работать только на прием.
– Детекторные приемники, как мне отец рассказывал, он сам собирал, когда еще в четвертом классе учился. И я могу себе представить, что это такое, следовательно, необходимости в таком приемнике не вижу, – сказал я, понимая, что младшего сержанта мне винить в ситуации не за что и он заинтересован в связи не меньше, чем я. Если бы мог, сделал бы. Винить следует меня за то, что я надеялся на ремонт связи и неблагоразумно приказал вести неприцельный обстрел. При нашем дефиците патронов это большой мой промах как командира. Если нет связи, значит, воевать нам придется долго. А чем воевать – об этом снова предстояло мне заботиться. – Пойдем, спустим тебя. Ты один остался.
– А вы как?
– Пешком. По дереву, – не стал я вдаваться в подробности и отчитываться перед своим солдатом. – Павловский, давай бочки из хвостового отсека перекатим.
Там стояли, прочно принайтованные, две бочки с авиационным горючим. Тяжесть неимоверная. Но я прикинул, что они всегда могут сгодиться.
* * *
Если уж положено капитану последним покидать судно, то я его последним и покидал. Спускать капитана Павловского, как раненого, я не увидел смысла. Руки-ноги у него целы, а голова может и спуск по стволу выдержать, если ей сильно о ствол не биться, но, чтобы сильно удариться, разбег нужен, а здесь разбежаться негде. И пока капитан спускался, я, не пожелав стать болельщиком, в последний раз осмотрел салон вертолета. Спустили всех и все, ни одного рюкзака не оставили, ни одного патрона, как позволил рассмотреть сумрак салона. Даже мешки с грузом священника не забыли.
Сам корпус покачивало все сильнее, и я предпочел не задерживаться на борту, потому что играют с опасностью не те, кто опасности не боится, а только те, кто ее реальности не понимает или любит поработать на публику. Мне ни первое, ни второе было не свойственно, и потому я выглянул из люка, убедился, что Павловский уже вот-вот спрыгнет под дерево, но дожидаться момента его приземления не стал и прыгнул сам на ствол. Спускался я вроде бы без проблем и уже внизу чуть на голову капитану Павловскому не наступил, потому что он все еще подыскивал место, куда ему спрыгнуть так, чтобы по склону не скатиться. Я спрыгнул как раз в сторону склона, но тренированность помогла переместить центр тяжести тела правильно, и я даже не пошатнулся, тогда как Павловскому пришлось за ствол ухватиться, чтобы не свалиться. Пограничников все же не готовят так, как спецназ ГРУ.
Как раз вернулись священник с лейтенантом Соболенко, отводившие к месту общего сбора младшего сержанта Яркова.
– Там плотный бой идет, – доложил лейтенант, посматривая то на меня, то на своего капитана и так и не сообразив, кто здесь командует и кому следует докладывать.
Мне пришлось показать – кто.
– Далеко от общей группы?
– Разве здесь определишь? – пожал лейтенант еще не изношенными погонами. – По крайней мере, больше сотни метров – это гарантированно. Но я, на всякий случай, раненым солдатам, кто стрелять может, приказал залечь за камнями. Мы с батюшкой наспех пару брустверов из камней сложили.
– Брустверы следует складывать не наспех… – заявил я категорично. – Ладно. Сейчас решим, что делать. Кэп, ты за лагерем наблюдал. Сколько там человек, по-твоему?
– Мне плохо видно было… – поморщился Павловский. – Даже предполагать не буду…
Зачем тогда он вообще наблюдать пытался? Впрочем, чтобы определить количественный состав, тоже следует соответствующий навык иметь, и я зря, наверное, придираюсь. А придираюсь для того, чтобы доказать свое право командовать. Сам я в этом праве не сомневаюсь, но здесь и другие есть, кто на количество звездочек на погонах посматривает.
– Тогда будем ориентироваться на мои подсчеты, – я в действительности уже без сомнения и откровенно командовал, но капитан с этим, кажется, еще раньше смирился. – А по моим подсчетам, в лагере не менее восьмидесяти бандитов. Но мы должны учитывать, что в данной ситуации, если они готовятся к прорыву через перевал, им следует иметь никак не менее полутора сотен человек. Лучше – двести, но это, мне кажется, невозможно. Но даже сто пятьдесят стволов. А в наличии восемьдесят. Значит, они не завершили концентрацию. Восемьдесят в лагере… Еще десять подходили туда, но не добрались, вернулись к месту падения вертолета, и их уничтожили на подходе… Значит, девяносто…
– Почему девяносто? Не понял. – Павловский оказался не слишком сообразительным и считал откровенно плохо. В школе, должно быть, скверно учился. – Десять подходили откуда?
– Их не было в лагере, когда мы там пролетали. Они к нему шли. От лагеря к нам не успели бы. Они шли туда маршем, собственным джамаатом, чтобы присоединиться к большому отряду, но не дошли. Первая группа оттуда подошла позже и сейчас бой ведет. Понятно?
– Понятно…
– Значит, девяносто мы имеем в наличии. Остается еще минимум шестьдесят, которые должны подойти… Часть из них подошла и тоже в бой вступила. И мы заперты здесь без связи, при минимальном запасе патронов, без запаса провизии. А вокруг грозы гуляют.
Я посмотрел на хмурое небо. Гром время от времени то в одном месте прокатывался, то в другом, но дождь где-то в стороне шествовал, но, похоже, и к нам намеревался свернуть. По крайней мере, ветер поверху шел в нашу сторону и тучи гнал.
– А что нам грозы, – сказал священник, почесывая свою аккуратно подстриженную бородку стволом автомата. Довольно браво получилось. – Грозы одинаково неудобны и для них, и для нас. Может быть, для них более неудобны, потому что им перемещаться надо.
– А вертолетам надо нас искать, – заметил я, считая, что своим замечанием все объяснил. – А грозы не пускают…
– Я понял вас…
Священник, кажется, понял слова, но не суть. А суть была такова, что положение наше – трудно придумать хуже. А он, судя по лицу, даже чему-то доволен. Или просто лицо у него такое…
– Но во всей ситуации есть один маленький положительный момент. Пока мы держимся здесь, мы не даем бандитам соединиться и увеличиваем вероятность того, что их накроют. Будут нас искать, и их накроют. Это относится к нашему чувству долга. В противовес нашему маленькому приятному моменту существует мощный контрмомент: бандиты тоже понимают, что им нельзя задерживаться, потому что упавший вертолет будут искать и найдут их, следовательно, у них задача стоит конкретная – расправиться с нами как можно скорее. Я понятно объясняю?
– Понятно… – не слишком внятно пробубнил священник.
– Это я для того, чтобы никто иллюзий не строил. Не стоит строить иллюзии и по поводу того, что с нами будет, если бандиты нас захватят. Возможности выжить у нас не появится, поскольку любой из нас – носитель информации о местоположении банды. Следовательно…
– Следовательно, стоять будем насмерть, – опять ответил священник, хотя я ждал такого ответа от капитана Павловского или хотя бы от лейтенанта Соболенко.
– Силы у нас сильно ограничены, – продолжил я обрисовывать картину ситуации. – В наличии есть четыре офицера, священник, двадцать шесть боеспособных солдат, ничтожный запас патронов, и все. Поскольку капитан Павловский, хотя он и старший здесь по званию, имеет контузию и не имеет боевого опыта, а я здоров и имею боевой опыт и мои солдаты подчиняются только мне, я еще раз утверждаю свое право на общее командование. Нет возражений?
– Нет, – за всех ответил Павловский.
Но ответил он со вздохом, и, скорее всего, это был вздох сожаления, и я, по большому счету, его понимал. Офицер для того и существует, чтобы командовать. И он должен был бы командовать, согласно всем правилам и уставам. Однако, по своему положению и опыту, командовать должен я.
– Тогда я начинаю распоряжаться. Сначала объясняю свои дальнейшие действия. Корпус вертолета держится на честном слове и на нескольких стволах сосен. Самая крепкая сосна уже тоже едва-едва за почву цепляется. Я устанавливаю под корень сосны «растяжку» с помощью своей единственной гранаты. «Растяжка» на дно ущелья, не слишком далеко от бруствера, который вскоре будет готов. Если на нас пойдут в атаку, «растяжка» свое дело сделает, граната уронит сосну, вертолет упадет и придавит атакующих. Поэтому… Мало ли какие будут обстоятельства… По дну ущелья не ходить. Но вы все вообще пойдете в другую сторону. Капитан Павловский будет, грубо говоря, комендантом лагеря. Надо будет, по возможности, укрепить все подходы к месту, где лежат раненые. Займись этим всерьез, кэп. Лейтенант Соболенко и отец Валентин, которого я призываю на военную службу, уходят в поддержку группе, которая держит ущелье в нижней части. Довести до всех задачу: при каждой возможности пополнять боезапас за счет боевиков. Стрельбу вести преимущественно прицельную, на уничтожение. Лучше, если одиночными выстрелами. Все понятно?
– Все понятно, товарищ старший лейтенант, – как бравый солдат, опять ответил за всех священник. Но все же не удержался и свое характерное, не армейское добавил: – С Богом…
Глава 5
1. Капитан Вадим Павловский, пограничник
Никогда не считал себя неженкой и вроде бы физическим трудом не брезговал, сам показывал солдатам, как окопы копать надо, и не каждый за мной успевал. А оказалось, что мои ладони от простой вроде бы, но непривычной работы способны в клочья разорваться, а пальцы, что трос держали, до сих пор судорогой сводит. Но если еще людей спускать – это половина беды, а спускать две бочки, каждая из которых по два центнера весом… Я думал, что не удержу трос, и бочка свалится на голову попу вместе с моими руками… И сейчас ладони огнем горели, хотя я перевязал их простым бинтом, как боксеры перевязывают себе кисти эластичным. Хорошо хоть, что головная боль после таблетки кетонала как-то незаметно ослабела. Не прошла полностью, а именно ослабела. Может быть, просто стала так быстро привычной, не знаю. Но про привычные боли я много слышал и даже что-то читал. Если человек много лет страдает от какой-то травмы, то, когда травма бывает вылечена, он, случается, чувствует себя дискомфортно из-за отсутствия боли.
Да еще и какое-то нервное состояние не дает душевного комфорта. Я не про аварию вертолета и не про бандитов, которые, кажется, со всех сторон нас окружили, я про отношение ко мне лично. Воронцов откровенно отодвигал меня на второй план, хотя по званию на втором плане следовало бы быть ему. Я, конечно, человек без сильных амбиций и, наверное, не стал бы возражать, хорошо понимая, что к боевой обстановке он больше приспособлен и имеет больший опыт, как я, к примеру, мог бы дать ему урок по охране наиболее уязвимых участков границы, мог бы объяснить, где необходимо выставить скрытый пост, а где можно просто время от времени наряд по маршруту пускать, и это проблем не вызовет. Там я специалист, здесь он специалист. И все вроде бы понятно. Я даже первоначально согласился со старшим лейтенантом, что командовать следует ему, и согласился с тем, что я сразу хотел дать неправильный приказ. И все бы нормально пошло и дальше. Меня только Ксения из колеи выбила, когда я собирал рассыпавшиеся мелкие вещи в ее сумку.
– Ворона, – привычно сказал я, даже не слишком-то и стремясь нагрубить и обидеть. Это был вполне привычный тон наших разговоров. – Даже сумку в руках удержать не можешь.
– А ты воробей. На которого шикнут, и он улетает в панике, – змеей прошипела она.
Я только брови вопросительно поднял. Уже три дня, сразу после того, как я сообщил ей куда и зачем мы едем и на что уйдет мой отпуск, Ксения в атаку не переходила и молча сносила все мои высказывания, изображая невинную жертву тирана-мужа. Но что-то в ней после аварии проснулось привычно-скандальное. Да и пора бы уже… Она никогда так долго терпеть и ничего не возражать не могла. А возражения ее всегда начинались с простого, позже переходя в более сложные и изощренные формы, пока не становились гипертрофированно-извращенными…
– Воробей, бурый и незаметный. И никому не нужный, которому только клюнуть зернышко и улететь, и он доволен этим.
– Почему бурый? – не понял я, не совсем догадываясь, что еще она хочет сказать.
В моем понятии воробьев следует называть серенькими и незаметными, а бурыми обычно медведей зовут, которых не заметить бывает трудно. Но я тут же представил себе воробья и понял, что он совершенно не серенький, а действительно бурый. И даже удивился тому, что Ксения тоже иногда бывает права. Жалко, что это случается крайне редко.
– И незаметный, – повторила Ксения с ударением. – Незаметный… Незаметный… Никому не нужный… – то ли зашипела, то ли заскрипела вслед своим же словам.
– Взбеленилась, коза…
– Так коза или ворона?
– Гибрид. Продукт генной инженерии.
– Все равно лучше, чем воробей… Никому не нужный, на которого никто внимания не обращает. Капитан называется. Только называется капитаном.
– Чем ты, уродка, недовольна?.. – обозлился я.
– Тобой, уродом, и недовольна.
– Чем я тебе, крокодилу, не угодил? – продолжил я обострение ситуации, потому что сам уже начал заводиться.
Как ее побольнее ударить, это я хорошо знал и часто применял, если была в этом насущная необходимость. А такая необходимость появлялась регулярно. Вопросы, касающиеся ее внешности, Ксения всегда воспринимала особенно остро, как все уродки, не полностью понимающие, что они уродки, но подозревающие это. Я раньше тоже не полностью понимал это, только отдавал себе отчет в том, что она не красавица, и лишь со временем разобрался.
Я сказал, она бы даже подпрыгнула до потолка, несмотря на беременность и общее состояние недомогания, беременностью вызванное, но в это время корпус бывшего вертолета качнулся и чуть было не упал, что ее напугало и заставило сдержать порыв ярости. Но поток слов даже положение корпуса бывшего вертолета сдержать не могло:
– Тебе не в офицерах ходить, а кондуктором в автобусе работать.
– Отвали… – сказал я уже вяло, потому что намеревался к Воронцову вернуться.
– Как ты позволяешь собой какому-то старшему лейтенанту командовать! Олух, неужели не понимаешь…
– Как раз все понимаю, потому и позволяю. Он опытный боевой командир, он в десять раз лучше меня знает, как вести бой, у него в подчинении солдаты.
– А ты здесь старший по званию. После этого, если ты, дурак, командовать начнешь, тебе сразу майора бросят. Да еще и орден какой-нибудь навесят. Старший лейтенант понимает, что ему пора капитаном стать. А ты майором стать не хочешь.
В ее словах была значительная доля правды. Если мы отобьемся и все закончится благополучно, тому, кто будет здесь командовать, наверняка не избежать повышения и по службе, и в звании. И для меня это была бы хорошая возможность выделиться. Но Воронцов уже заявил свои права на общее командование, и в этих притязаниях тоже были солидные основания, пренебрегать которыми не стоило. Но сомнения слова Ксении во мне зародили…
И главное сомнение жило во мне самом – «если мы отобьемся и все закончится благополучно»… Чтобы все благополучно закончилось, следует еще отбиться и дождаться своих. Отбиться нам будет непросто, и я не уверен, что под моим командованием можно это сделать успешно. Нет у меня таких навыков, какие есть у старшего лейтенанта Воронцова. И нет у меня такого опыта, который позволяет принимать правильное решение не задумываясь.
Но получить звание майора раньше времени было бы очень хорошо.
Мне даже показалось, что погоны у меня слегка потяжелели под тяжестью одной большой звездочки, сменившей четыре маленькие. Я даже на погон косо посмотрел.
Я не решил окончательно, как поступить. Следует еще и к самому старшему лейтенанту присмотреться – какие команды будет он отдавать?
* * *
Старший лейтенант Воронцов тоже понимал, должно быть, ситуацию и тоже стремился к внеочередному, но естественному повышению и в должности, и в звании, поскольку по годам, как мне показалось, ему уже пора было бы получить капитанские звездочки – мы примерно одного возраста, и я свои уже недавно получил, но он, к слову сказать, кажется, и не сомневался в своем праве на командование. Пока он показывал себя нормально, хотя я лично видел спорным вопрос о том, где должно находиться командиру тогда, когда бой уже идет, хотя и не высказывал этого вслух, чтобы не выслушивать резкий ответ, как это произошло вначале, когда старший лейтенант сначала охранение выставлял и только потом хотел раненых спускать. Воронцов вместе со мной спускал раненых и убитых, одновременно прислушиваясь к тому, что творится на флангах, пытаясь по автоматным очередям и взрывам гранат определить происходящее, и снова посылал солдат, посылал даже тех, кто сам спуститься из вертолета не мог, и мы вдвоем спускали их, как тяжелых раненых, но потом они уже отправлялись дальше самостоятельно, отправлялись, чтобы готовиться к предстоящему бою. Я не смог бы послать таких в бой. Я и не попытался бы сделать этого с чужими солдатами. И в этом старший лейтенант опять выигрывал как командир. И совсем уж он выиграл, что заставило меня полностью смириться с расстановкой сил, когда объяснил, что хочет предпринять сам. Взрыв дерева-опоры корпуса бывшего вертолета придавит тех, кто находится внизу. Это однозначно. У меня даже мысли такой не возникало, когда я пытался сравнить свои возможные действия с действиями Воронцова. Нет, командир он от Бога, и с этим мне придется смириться. При этом он не просто командир, который правильно расставляет свои силы. Он еще и профессиональный военный разведчик и, одновременно с выполнением своих командных функций, выполняет работу диверсанта. Сам, без солдат… Уронить корпус на головы противнику может додуматься только диверсант, который обязан мыслить не стандартными правилами ведения боя, а теми, что соответствуют ситуации, и не упускать ни единой возможности нанести противнику урон… Свое уважение такому решению я выразил молчаливым согласием.
На этом мы разошлись.
Старший лейтенант Воронцов остался один, а лейтенант Соболенко с отцом Валентином пошли провожать меня до временного лагеря, чтобы я начал там командовать. Место для этого лагеря нашел лейтенант Соболенко, и я сразу отметил, как умело он это сделал. Если здесь и можно было найти что-то подходящее, он нашел именно это. Надо будет по возвращении не забыть отметить лейтенанта в рапорте не двумя словами, а целой темой. Я уже хорошо знаю, как командование читает рапорты о чрезвычайных происшествиях. Если офицер расписывает свои подвиги, рапорт читают сквозь пальцы. Если он описывает высокие боевые качества своих сослуживцев, это воспринимается иначе и сам автор рапорта воспринимается иначе. У нас любят скромность и всегда поощряют ее.
* * *
Лейтенант Соболенко и священник не стали задерживаться в лагере. Только лейтенант спросил, прислушиваясь к то стихающей, то вновь возобновляемой перестрелке ниже по ущелью:
– Как думаете, товарищ капитан, сколько до них?
Вопрос был, конечно, неуместен, потому что думать можно было целые сутки, но так и не додуматься до правильного ответа.
– Вот уж чего спросил, – пожал я плечами. – Измеряй шагами. Я думаю, метров пятьсот, не меньше. Звуки по ущелью далеко разносятся…
– Рядом они совсем, – возразил мне священник. – Где-то сразу за поворотом… Они позицию на повороте заняли. Так удобнее. На поворотах один склон ущелья всегда более пологий, и там можно позицию выше занять, чтобы весь проход контролировать…
Священник размышлял, как боевой офицер, повидавший на своем веку не один десяток засад и способный подсказать настоящим офицерам, как война делается. Мы с лейтенантом только переглянулись.
– Ну-ну… – заметил Соболенко. – Проверить недолго. Но если отец Валентин прав, то надо срочно укреплять лагерь. Здесь позиция тоже практически невыбиваемая.
– Только с противоположного склона стрелять можно, – опять заметил священник.
Надо отдать ему должное, я сам про противоположный склон хотел сказать.
– Это так. Значит, надо держать под прицелом все проходы на ту сторону. Но там склон хоть и не крутой, но почти открытый. Трудно незамеченным пройти.
– А если ночью… – опять правильно заметил отец Валентин. – Не думаю, что до ночи здесь все закончится.
– И сколько мы здесь сидеть будем? – из-за спины у меня спросила Ксения, подошедшая совсем неслышно.
Священник с лейтенантом переглянулись и поспешили дальше. Их старший лейтенант Воронцов отправил к нижнему посту.
– По возможности держите меня в курсе происходящего, – сказал я в спину. – Я буду дальше передавать командиру…
Последнюю фразу добавил умышленно для Ксении, чтобы обострить ее реакцию. И я не поторопился оглянуться на голос. Как стоял, рассматривая ущелье внизу, так и остался стоять.
– Постараемся, товарищ капитан, – пообещал Соболенко.
– Сколько, я спрашиваю, сидеть будем? Ты хоть на такой простой вопрос, капитан, ответить сможешь?
Эта дура всегда считает неразрешимые вопросы самыми простыми. Я уже давно устал возмущаться ее наивной тупостью. Но мой выпад относительно командира она словно бы пропустила между ушей. Однако я-то знаю, что она еще переваривает эти слова, как переваривает слова, сказанные в ее адрес старшим лейтенантом Воронцовым во время спуска из корпуса бывшего вертолета. Она тогда очень ждала моей взрывной реакции, а получила повторение слов старшего лейтенанта.
– Хоть на такой вопрос ответить я не могу, потому что этого не знаю, как не знает…
– Спросил бы у своего командира…
– …как не знает этого никто…
Я повернулся, не глядя на Ксению, и прошел туда, где сидели кучкой раненые семеро солдат и один из конвойных. С чужими солдатами разговаривать сложнее, чем со своими, тем более – с солдатами ранеными. Но я попытался взять тот же тон, что брал в разговоре с ними старший лейтенант Воронцов.
– Я понимаю, мужики, что вам тяжело. Но кто-то может мне помочь брустверы поставить?
– Руки целы были бы, я бы помог, – ответил младший сержант Ярков, тот самый радист, что пытался сломанными руками восстановить вертолетную рацию, но, как я понял, безуспешно.
Двое других все же с трудом, но поднялись. У одного была рваная рана сбоку на верхней части бедра, сразу под брючным ремнем, и рана сильно кровоточила, судя по пропитанным кровью бинтам. У второго в крови была вся голова и лицо залито кровью, но кровотечение, кажется, прекратилось, а глаза он промыл в местном хилом водопадике. Небольшая рана на предплечье работать ему не помешала бы. Там даже кровь через бинт не выступила.
Оставшиеся солдаты и конвойный только пошевелились, силы свои, что ли, испытывая, но не встали. Рваные раны, я уже знал по своему опыту, болят сильнее огнестрельных. А если еще и кости повреждены, то боль бывает близка к шоковой. У меня много лет назад, еще в курсантские годы, была такая рана, хотя и не боевая. Катаясь на велосипеде в лесу, нарвался боком на сук дерева. Не только бок порвал, но и ребро сломал. Долго потом дышать было больно.
С помощниками я определился.
– Ксения! – позвал я, не оборачиваясь.
И услышал, как она молча подошла.
– Твоя задача: проведи ревизию всех медикаментов и перевязочного материала. У кого что осталось…
– Проверю… – согласилась Ксения.
Она вообще-то знала, когда следует забыть про свою боль и работать. Особенно если цель перед собой видела. А сейчас она цель видела – что-то совершить под моим командованием, чтобы это, во-первых, отразилось на наших отношениях, во-вторых, могло бы дать толчок к высокой оценке моих действий со стороны командования. Она еще не верила и не осознавала до конца, что ее мои служебные дела уже могут не касаться. Много раз уже наша совместная жизнь была, казалось, полностью разрушена, но все восстанавливалось. Она надеется, что восстановится и сейчас. Но я-то знаю, что не восстановятся…
– «Аптечку» в вертолете оставили, ротозеи…
– В «аптечке» ничего не осталось, – заметил младший сержант Ярков.
– Таблетки. Кетонал, например… Еще с десяток таблеток. Возьми в общую базу, – подал я пузырек с оставшимися таблетками Ксении. – Они хорошо от боли помогают. Действуй! Рабочая команда: за мной!
Тропа по склону проходила как раз по оконечности нашего компактного лагеря-лазарета. И с любой стороны можно было ждать опасности. Но с верхним по ущелью направлением было все ясно, там была основная опасность от боевиков из полевого лагеря, но там же были и основные наши силы сосредоточены во главе со старшим лейтенантом Воронцовым. И если бы эти силы пропустили противника – а пропустить его они могут только в том случае, если они сами погибнут, – то и нам было бы надеяться не на что. Но здесь ситуация была относительно ясна. А вот что творится в нижней части – я не знал. И потому первый бруствер решил возводить прямо поперек тропы именно там, со стороны, в которую удалились отец Валентин и лейтенант Соболенко.
Про свои содранные ладони я уже забыл полностью. Не до того как-то было. И перевязанными руками работать можно было вполне. Я подносил наиболее крупные и удобные с моей точки зрения камни для возведения кладки; один из солдат, у которого вся голова была в крови, носил камни поменьше, а второй, сидя на уже уложенных камнях, укладывал другие, придавливая их как можно плотнее и даже просыпая щели собранной здесь же каменистой землей, и эту землю рукояткой ножа, а в самых тонких местах и лезвием утрамбовывая, чтобы камни не шатались. Стена получалась плотная. При толщине сантиметров в шестьдесят-семьдесят она имела высоту в полметра, а ближе к краю тропы и восьмидесяти сантиметров достигала. И даже амбразуры мы камнями выложили.
Я моментально взмок от такой работы, но, к счастью, мелкий и частый, тугими струями идущий дождь полил и слегка охладил тело. На прилипшую одежду я внимания старался не обращать, а когда внимание на что-то не обращаешь, это не мешает.
Хорошо, что мы со старшим лейтенантом Воронцовым выбросили из вертолета полотна брезента, которым укрывали грузы. Иначе нашим раненым пришлось бы под дождем мокнуть. Это не всегда приятно. Мне в работе это приятно. А им приятно не должно быть.
Единственное, что мне мешало, – возвратившаяся боль в голове. Каждый наклон за камнем давался с трудом, и в голове начинал гудеть большой набатный колокол. И после того как я ставил камень рядом со стеной или на стену бруствера, мне приходилось останавливаться и с силой сдавливать голову больными ладонями. Ладони были грязные, бинты изорвались, и лицо у меня тоже, наверное, было грязное, потому что я ловил взгляды солдат, и во взглядах этих была не улыбка, а маленькая искорка смешинки. Я сначала даже рассердиться хотел. Как-то не принято в армии солдатам смеяться над офицером. Но потом представил, как психанула бы Ксения, если бы заметила, что солдатам смешно на меня смотреть, и сам улыбнулся:
– Сильно чумазый?
– Есть маленько… – ответил солдат с окровавленной головой.
На этом инцидент был исчерпан. Вот бы так все инциденты исчерпывались…
* * *
До прихода отца Валентина мы закончили строить первый бруствер и успели сложить уже половину второго в противоположной стороне тропы, чтобы и верхний путь к своему лагерю перекрыть. Ко второму камни пришлось таскать издалека, и потому дело шло значительно медленнее.
Дождь к тому времени прекратился, так и не показав нам настоящую грозу, которая грохотала где-то вдалеке, но священник успел промокнуть еще раньше. И, выгляни сейчас солнце, его ряса наверняка парила бы, потому что сам он излучал настоящий жар.
– Капитан, у нас хреново дело…
– Не можете удержать? – Я оглянулся на наш лазарет, сразу прикидывая, кто сможет стрелять хотя бы лежа, если его донести до бруствера.
– Держим пока… Только держать скоро нечем будет… Патронов Господь не послал… Меня прислали предупредить…
– Соболенко командует?
– Лейтенант…
– Что он думает? Отходить будет?
– Говорит, позиция там сильная. Жалко бросать – весь узкий проход под прострелом. Они уже полтора десятка бандитов положили, сами только двоих потеряли. Их сейчас принесут сюда. Но патронов нет.
– И что же? Мне заказать их в Ханкале? – спросил я сердито. – Или здесь всем солдатам карманы вывернуть?
Сатанинские глаза священника нехорошо блеснули.
– Здесь все равно они никому не нужны. У кого есть, пусть отдадут. Там прорвутся, здесь не удержаться.
Я раздумывал над ситуацией, когда услышал идущий из нижней части ущелья шум. Это мог быть только звук вертолетных винтов. Головы подняли все. И в самом деле, маленький вертолет, скорее всего, поисковый, завис над поворотом ущелья, где-то недалеко от наших позиций. Кого он мог искать? Только нас…
2. Ширвани Бексолтанов, самодостаточный эмир
Как только вертолет опустился ниже, стало заметно светлее, хотя время от времени мы попадали в такой дождь, что он даже ветровое стекло делал совсем непрозрачным, а у вертолета нет «дворников», как в автомобиле, и стекла чистить нечем. Но дождь – не снег, вода имеет обыкновение не налипать, а стекать, и потому моменты «слепоты» вертолета были лишь кратковременными, а сама скорость полета была такой низкой, что угрозы не вписаться в поворот ущелья у нас практически не было.
Рауф чувствовал себя уверенно и спокойно, и даже что-то начал напевать себе под нос. Хорошо, что не попсу какую-то, под которую мерзкие девки на телеэкране задницей размахивают, а нормальную мелодию, наверное, азербайджанскую, потому что напевал он на азербайджанском языке, который я не понимал, только изредка узнавая слова, общие для всех кавказских народов. Такое настроение пилота говорило, что полет проходит нормально, несмотря на непогоду, и это успокаивало. Но все-таки мы летели не в космосе, где земная погода не влияет на полет, а над самой землей, и не на космическом корабле, а на маленьком вертолете, поэтому беспокойство все же оставалось.
– Входим в Змеиное ущелье, – предупредил Рауф, когда вертолет круто на бок лег и начал медленно, почти на месте, поворачивать влево. – Поворот крутой, под острый угол выходим. Ой-ей… Как же там летать… Там везде такая ширина?
– Ты там не был?
– Не дал Аллах такого несчастья на мою голову. До сегодняшнего дня…
– Это нижний вход в ущелье, – обрадовал я его. – Самое широкое место. Готовься к тому, что дальше будет местами совсем узко. Там придется подниматься выше. Но здесь сегодня большегрузный вертолет уже летел. Не испугался. И пролетел бы, если бы его не сбили.
– Нас не собьют?
– Нас ждут. Должны ждать.
– Тогда попробуем не повиснуть на деревьях.
– Большегрузный не повис. Не бойся.
– Это не есть вопрос пугливости пилота. Это есть вопрос его мастерства и дружбы со своей машиной, – сделал скромный вывод Рауф. – А вообще хороший водитель многотонной фуры может в фигурном вождении выступить лучше, чем он же на легковушке. Я на этом вертолете всего-то несколько дней. Не освоился еще полностью.
А этим сообщением уже он меня обрадовал.
Впрочем, долго радоваться мне не дали, потому что спутниковый телефон зазвонил. Определитель высветил незнакомый номер. Но я, несколько секунд посомневавшись, все же ответил, хотя на незнакомые звонки именно на эту трубку чаще всего не отвечаю:
– Слушаю вас внимательно.
– Здравствуй, Ширвани. Это Биболатов…
Значит, моим номером с эмиром поделился Зияудди.
– Здравствуй, Геримхан. Как у тебя обстановка?
Своим вопросом я слегка сбил его с толка, потому что он, похоже, заранее обдумывал свои предстоящие слова, а теперь предстояло не их произносить, а мне отвечать.
– Скверная обстановка, Ширвани. Мы нечаянно на «летучих мышей» нарвались. Вернее, не мы на них, а они на нас, и не знаю, чья здесь вина, только виноватого искать поздно… С вертолета нас заметили, и пришлось вертолет сбить. Наш пулеметчик прямо со склона расстрелял пилотскую кабину. А они не разбились. Мы сунулись добивать, чтобы нас не сдали, а там «летучие мыши». А их, сам, наверное, знаешь, с наскоку не возьмешь. А мы с наскоку и попробовали… Потери большие, а у меня каждый человек на счету.
Последние слова походили на торговлю. Торговаться я тоже умею, но знаю и другое правило: торгуешься, это еще не значит, что ты обязательно покупаешь.
– Я везу с собой троих. Хорошие бойцы. Лучшие мои парни. Они смогут тебе помочь. Да и я сам стрелять не разучился.
Геримхан откровенно хмыкнул в трубку.
– Ты сможешь помочь только тогда, когда пожелаешь с братом повидаться. Понимаешь, да?.. Если со мной на перевал пойдешь… Мне там люди ой как нужны будут.
Это была обыкновенная разведочная фраза, произнесенная обыкновенным восточным человеком. Если ты не умеешь такие фразы произносить, то тебе нечего делать среди восточных людей. Геримхан желал узнать намерения старшего Бексолтанова. Но я вообще-то своих намерений скрывать и не хотел.
– Не пойду, но своих людей, может быть, смогу тебе выделить…
Я обернулся через плечо и кивнул слушающим разговор парням, чтобы не расстраивались. Они вроде бы и не расстраивались, потому что хорошо меня знали. Никому я их, естественно, выделять не собирался, потому что надежные парни каждому эмиру самому нужны всегда. Не слишком-то много сейчас надежных, как не слишком много желающих зарабатывать себе на хлеб с оружием в руках здесь, на Кавказе, где на каждом углу или ментовский, или армейский пост, когда можно точно так же зарабатывать себе на кусок хлеба с сыром, и даже больше зарабатывать в глубине России, где только проверяют документы часто, на лицо твое и цвет волос глядя, но противостоять тебе никто всерьез не может. Там люди не спят с оружием под рукой и не готовы к тому, что мы придем заработать себе на жизнь у них дома.
– Это меня устроит, – согласился Геримхан. – Ты где сейчас находишься?
– Мы только что влетели в Змеиное ущелье.
– Очень хорошо!
– Пилот говорит, что ничего хорошего он здесь не видит.
– Дело в том, что несколько джамаатов, что шли ко мне на соединение, застряли там. Они подпирают «летучих мышей» снизу. Помоги им. У меня нет с ними связи, и я не знаю, что там за обстановка. В джамаатах только сотовые телефоны, а здесь нет сотовой связи, только спутниковая. Никакой возможности координации.
Я решил проверить Геримхана на «вшивость». Сам я знал ответ на этот вопрос, но мне было интересно, как он ответит, насколько он будет со мной откровенным.
– Я помогу, но сразу ответь на встречный вопрос. У «летучих мышей» связь есть? Они передали данные о твоем лагере? Стоит ждать, что подлетят ракетоносцы и нас просто с землей смешают?
– Честно скажу, не знаю.
Геримхан не стал меня твердо убеждать, что ракетоносцы давно бы уже прилетели, сумей «летучие мыши» передать координаты. Не стал и другие варианты искать, которые смогли бы меня убедить в безопасности его джамаатов. Значит, сотрудничать с ним можно.
– А вертолет? Пилоты могли передать, где их обстреляли.
– Я же говорю, не знаю… Потому и тороплюсь развязаться с ними, пока их плотно искать не начали. Грозы вот-вот кончатся, тогда летать будут над головами. Да и я бы в грозу на перевал пошел. В грозу хоть и скользко, зато легче.
Если бы координаты аварии были известны или тем более известны были бы причины аварии, я бы уже давно узнал об этом, потому что Вахийта ловит каждую весть, поступающую к авиационным диспетчерам. Вахийте не долго набрать номер моего спутникового телефона.
– И что думаешь предпринять?
– Я бы до темноты подождал, чтобы людей не терять. Но вдруг до темноты к ним подмога нагрянет. Меня в ущелье запереть можно запросто. Сверху, считай, уже заперт, и еще снизу подопрут, а потом просто разбомбят и прогуляются каблуками по останкам, чтобы трупы сосчитать. Поэтому приходится идти на потери.
Я не стал говорить Геримхану о своей информированности. Ни к чему его расслаблять. Прорвется он через перевал или не прорвется, хватит у него людей или не хватит, меня это мало волнует. И даже более того, я с удовольствием бы сам подставил его и его парней под пулеметы «летучих мышей». А мне важен был конечный результат только здесь, а не на перевале. Мне нельзя было расслаблять Биболатова, и даже наоборот, следовало бы обеспокоить его, чтобы он поторопился. И я уже начал прикидывать слова, которыми лучше этой цели добиться, но тут трубка стала подавать фоновые звонки, то есть показала, что мне в это время звонит кто-то другой.
Я попрощался с Геримханом, пообещав высадиться в нижней части ущелья, чтобы там помочь и обеспечить ему связь, отключился от разговора и включил просмотр пропущенных вызовов. Звонил Уматгирей. А эти звонки обычно бывают полезными. И я послал встречный вызов.
– Ширвани… – сразу отозвался Уматгирей. – С кем ты так долго болтаешь?
– Обсуждали с Геримханом прогноз погоды, то есть непогоды.
– Нашли общий язык?
– Договорились.
– Слава Аллаху. А то у меня с ним сложный разговор получился. Он только на свои сложности ссылался, но ничего не объяснил.
– Он нашел вертолет. Там куча «летучих мышей», сейчас ведет с ними бой. Я его потороплю, чтобы быстрее дело завершить. Мне плевать на то, как он перевал переходить намеревается, пусть побыстрее подаст мне попа.
– Относительно попа… Я как раз по этому поводу и звоню. Мне тут информацию подбросили, я по своим каналам прошелся, поискал и кое-что насобирал. У тебя есть некоторые осложнения, если это можно назвать осложнениями, я сам пока затрудняюсь ситуацию охарактеризовать.
– Я к осложнениям привык. Выкладывай.
– В дело непредвиденно новая сила вмешалась. Уголовники. Авторитетные. Знают, против кого работают. И вмешались. Они попа настоящего сами захватили. И подсунули своего. Профессиональный кидала… Кличка – Святой. Зовут его тоже Валентином. Он летит… летел то есть в вертолете под видом настоящего священника. Груз у него… Будь готов, что он не пожелает с добычей расстаться. Парень опытный и крутой. В крайнем случае, стреляй сразу.
– Святой Валентин… Разберемся… Это не осложнение. Осложнение в том, что там, внизу, «летучие мыши». С ними не слишком приятно воевать. Все, Уматгирей, мне пилот показывает. Мы прилетели… Конец связи…
– Сообщай, что будет…
* * *
Рауф действительно коснулся моего локтя и показал за ветровое стекло. Мы летели достаточно низко и медленно, а в этот момент вообще повисли на месте, чтобы присмотреться. С точки нашей, грубо говоря, остановки до людей, замеченных пилотом впереди, было метров сто прямого участка. Дальше шел поворот. Склон почти открытый, зарослей мало, а стволы редких сосен не способны скрыть от взгляда одновременно сверху и сбоку. Но там кто-то был. Я сразу определил, что группа состоит человек из тридцати. Это, конечно, значительные силы для помощи Геримхану, и им необходимо соединиться. Но до поворота группа чувствовала себя вроде бы свободно, однако дальше не шла. И только появление нашего вертолета, не оставшееся незамеченным, внесло в ряды джамаата что-то, похожее на панику. Естественно, что нас приняли за разведку федералов. И запросто могли продырявить корпус из пулеметов, если у них есть пулеметы – с такой дистанции мне рассмотреть вооружение было трудно.
– Твоя «вертушка» для войны не предназначена? – спросил я Рауфа.
– Моя «вертушка» не предназначена для войны. Будут стрелять, прошьют насквозь, даже из автомата. Поэтому вести боевые действия сверху не планируй. Мне не платили за то, чтобы я подставлялся.
– А если бы заплатили? – спросил я не зная для чего, потому что подставлять вертолет сам был не намерен и не планировал атаку с вертолета.
– Я бы подумал. Все зависит от того, сколько заплатят. Я и так своим местом рискую, с тобой полетев. Ты заметил, что я с диспетчером ни разу не связывался?
– Заметил… – ответил я, хотя совершенно не знал авиационных правил и не думал о том, что связь с диспетчером обязательная.
– Тогда сообразил, что я на служебном вертолете просто катаюсь. Конечно, меня прикрывают, но… Но тоже дело опасное. Я рядом с аэродромом пробный полет должен проводить. Но и там под контролем диспетчера. Сейчас, если меня радары перехватят, могут быть неприятности. А они мне не нужны. Неприятности принимаются нормально только тогда, когда они хорошо оплачиваются. Но я, в любом случае, должен хорошо подумать.
– А ты вообще-то воевал?
– В Карабахе… Немножко… Но не в воздухе… У меня тогда мой старенький вертолет сожгли на земле. Я в Агдаме жил. В ненужное место прилетел, там и сожгли. Погоревал, как над другом, и не полетел больше. На земле потому и воевал. Потом в Россию подался, дома с прокуратурой проблемы были, а здесь потеряться проще, пока все не забудется. Что делать будем?
– Давай здесь садиться. Я парней высажу, они поговорят, чтобы в нас не стреляли, а мы посмотрим, что на той стороне делается. На той стороне в нас стрелять не будут. Они ждут, что их будут искать. Примут нас за поисковиков.
– Правильно… Эмблему нашу увидят… За поисковиков примут. Только сесть мы не сможем. Метров до трех, пожалуй, я опущусь, дальше нельзя. Винт за деревья заденет. Пусть прыгают.
– Ноги переломают, – возмутился я.
– Иначе вертолет переломаем. Пусть прыгают. Место почти ровное.
– Ладно. Слушайте инструктаж. Что сказать надо…
* * *
Три метра, казалось бы, не так и много, но это тогда, когда снизу смотришь. А если сверху смотреть, то высота кажется убийственной. Однако парни приказ выполнили без сомнений. Но, на мое удивление, никто не переломал ноги. Только Висангири слегка захромал, но, судя по тому, что через десять шагов походка выровнялась, он просто связки потянул. При активной работе ноги боль в связках быстро проходит, хотя при следующем таком же прыжке может возобновиться с новой силой. Актемар с Джамбулатом спрыгнули без проблем. Джамбулат вообще когда-то в десантуре служил, и для него такое приземление проблем не составило.
За нашими действиями наблюдали издалека, не предпринимая никаких действий. Для автоматной стрельбы была дистанция великовата, а снайперов в джамаатах, похоже, не было. Да и присмотреться стоило. Если высаживается только три человека, значит, это не просто подкрепление к противнику. Подкрепление было бы более сильным и началось бы не с высадки, а с подавления позиции ракетами. Это все знают, к такому привыкли и потому не понимали, что происходит. Что вертолет может принести кого-то из своих – до этого по нынешним временам додуматься было сложно. Но парней моих, идущих вперед, без сомнения, ждали и готовились встретить. Нам с Рауфом, когда мы поднялись чуть выше, хорошо было видно. В центр вышла группа в пять человек и две группы по шесть человек. По возможности скрываясь, хотя для взгляда с вертолета эта скрытность была бесполезна, выдвинулись по флангам чуть дальше, чтобы пропустить гостей внутрь круга и замкнуть окружение. Если бы так встречаться с противником, я принял бы контрмеры. Но сейчас сомневаться не стоило, и потому я спокойно позволил кольцу замкнуться.
Разговор длился не больше пары минут. После этого Актемар подал условный знак поднятой рукой. Значит, договорились, и мы можем не ждать обстрела с земли. Обстрела с земли мы можем не ждать и по другую сторону узкого фронта.
– Летим! – дал я команду Рауфу.
Вертолет чуть-чуть забрался вверх, не больше десятка метров, и плавно двинулся вдоль Змеиного ущелья. Я из окна приветственно поднял руку. В ответ подняли руки не только мои парни, но и все остальные. Меня все-таки в республике хорошо знали и уважали, хотя официально я давно уже сложил, что называется, оружие и живу вполне легально. Кто-то, возможно, о моих современных делах и слышал, хотя я не афиширую то, что делаю, а кто не слышал, тому приятно, наверное, услышать. Короче говоря, мне показалось, что моему прибытию рады. И тем более рады возможности произвести воздушную разведку…
* * *
Линия узкого фронта пролегала как раз по крутому повороту ущелья, и я сверху сразу рассмотрел позицию, занятую спецназовцами. Скорее всего, это была линейная часть, укомплектованная солдатами. Я, помню, в бытность свою официальным полевым командиром, столкнулся с офицерской группой «летучих мышей» и еле сумел унести ноги с остатками своего джамаата. С офицерскими группами практически невозможно воевать, они цепляются, как клещи, и ты подумать не успеешь, как они уже тебя опережают. Всегда на полшага впереди, и потому приходится только бегством спасаться. С солдатами-спецназовцами, конечно, воевать попроще, воевать даже можно, хотя тоже приятного мало, потому что солдатами руководят офицеры и они тоже умеют опережать мыслью твои действия и предвидят каждый очередной шаг.
Мы летели на предельно малой скорости, и все рассмотреть труда не составляло. Спецназовцы заняли единственную правильную позицию, какую в данном положении можно было занять. Склон на повороте был слишком крутым, чтобы передвигаться по нему широкой развернутой цепью, к чему, казалось бы, склоняет численное превосходство. Но идти, минуя тропу, и не держаться при этом за редкие стволы деревьев слишком сложно. Да и то там передвигаться можно было бы лишь на четвереньках, располагаясь ради устойчивости головой кверху, и двигаться вперед боком. То есть сразу сделать из себя мишень и, читая молитвы, только ждать, когда тебя застрелят. Перекрыть тропу же оказалось легко. Но встреча спецназовцев с джамаатами, идущими на соединение с Геримханом Биболатовым, произошла, как я понял, неожиданно. Группы вышли навстречу одна другой на повороте и оказались слишком близко, чтобы успеть подумать и оценить ситуацию. Просто спецназовцы в этом случае оказались более подготовленными, имеющими лучшую реакцию и первыми среагировали – открыли стрельбу на поражение. Часть склона у поворота была усеяна трупами. Я даже считать не стал, сразу прикинув, что здесь лежит не менее полутора десятков бойцов – большие потери для небольших сил Геримхана, если учитывать задачу, которую он перед собой ставил. И за поворотом еще два тела. Это спецназовцы. Но соотношение потерь показывало явное преимущества обороняющейся стороны в тактике. В принципе, так и должно было бы случиться, потому что после первого столкновения джамааты, не ожидавшие встречи, сразу отошли, а спецназовцы, напротив, укрепили свою позицию камнями. Потом джамааты собрались с силами и пошли на штурм. Штурм провести можно было бы, но проводить его следовало более решительно. А решительности бойцам, видимо, и не хватило. Они потеряли несколько человек при атаке и еще несколько человек при отступлении. И теперь ждали, что называется, у моря погоды, изредка высовываясь и постреливая и нарываясь на встречный огонь. Впрочем, здесь потерь не несла ни одна из сторон. Я насчитал шесть спецназовцев на позиции. Один из них, судя по всему офицер, к тому же не имеющий бронежилета, махал нам рукой, принимая за своих, и показывал, чтобы мы пролетели дальше.
Офицер был, судя по всему, малоопытный. Я бы на его месте задумался: как так получилось, что мы пролетели над атакующими джамаатами и никто в нас не стрелял, хотя положительный результат такой стрельбы по большому вертолету, казалось бы, должен был вдохновить и других на охоту за вертолетом маленьким. Но офицер не задумался…
Но осуждать противника за несообразительность – грех большой, и я не стал его осуждать. Значит, нам будет легче с ним справиться.
– Давай дальше, глянем, что там.
Рауф плавно поднял свою машину выше и двинулся дальше.
И бойцы джамаатов, и спецназовцы провожали нас взглядами, в которых одинаково улавливалось даже сверху, издалека, одно – надежда. И тем и другим в данной ситуации оставалось только надеяться на помощь со стороны. И они надеялись каждый по-своему, но одни – обоснованно, другие же – без оснований…
Глава 6
1. Максим Одинцов, рядовой контрактной службы, спецназ ГРУ
При всем своем желании, мама, я никак не могу поторопиться к тебе. То есть я тороплюсь, честное слово, я очень даже тороплюсь, я даже только что второпях двоих бандитов застрелил, только чтобы вырваться отсюда и дальше к тебе поторопиться. Может, даже больше, чем двоих, потому что я и в других тоже стрелял, но в них и кроме меня стреляли, а я точно видел, что в двоих попал именно я. Я бы сам всех бандитов расстрелял, только чтобы вырваться побыстрее. Но ты же этого не знаешь, ты же, даже если я тебе это скажу, не поверишь, что я тороплюсь, ты даже в состоянии подумать, что я умышленно в эту историю влез, только чтобы к тебе не попасть побыстрее…
Такое уже было однажды, если ты помнишь… Когда я непродолжительное время в студентах ходил. Ты мебель новую хотела купить, и мы договорились встретиться возле мебельного магазина. Я в автобус сел, чтобы на эту встречу поехать, а в автобус грузовик въехал. Я тогда сильно головой стукнулся, и разбитым стеклом мне голову в трех местах слегка поранило. Поранило слегка, и крови было немного. Я от помощи врачей отказался. Просто кровь вытер, и все… Но на встречу с тобой возле магазина я опоздал. Ты уже купила мебель сама и вместе с грузчиками уехала домой. Я домой приехал, когда мебель уже была расставлена…
Помнишь, как ты не поверила мне. Ты даже сказала, что я голову сам себе чем-то расковырял, только чтобы тебе не помогать. А у меня очень сильно голова после удара болела. И я даже возражать тебе привычно не стал.
Я не могу доказать и не смогу доказать тебе, мама, как я тороплюсь к тебе.
Но я тороплюсь…
Тебе все равно остается только ждать, когда обстоятельства позволят мне превратить мою торопливость в передвижение в сторону дома.
Я тороплюсь, хотя ты этого не знаешь…
* * *
Взрыв выпущенной навесом из «подствольника» гранаты на самом краю скалы, но все же непосредственно вблизи нашей позиции, заставил содрогнуться почву под локтями, упертыми в камни. Показалось, что взрыв был не один, а сразу несколько гранатометов стреляли с разных сторон, и всю скалу накрыли. Это эхо разгулялось так разудало. И почва содрогнулась так, что невольно мелькнуло опасение, что скала не такая и устойчивая, какой кажется внешне, и вполне может осесть и свалиться под склон, увлекая за собой нас. Но она устояла, и устояла бы под взрывами еще многих, наверное, гранат. Скалы более устойчивы, чем люди.
Я в правую сторону посмотрел еще до того, как успела осесть земля, камни и пыль, взрывом поднятые, но сразу определил, что у нас потери. Такой близкий взрыв не может не стать убийственным. И он стал, судя по тому, как свесил голову с камня старший лейтенант Валуев. Это я увидел уже минутой позже. Пыль и дым осели. Земля сырая после дождя, потому и осели они так быстро. И я все увидел. Рядом со старшим лейтенантом младший сержант Отраднов лежал, и старший лейтенант, так получилось, его своим телом от осколков прикрыл, потому что Отраднов в небольшом углублении устроился вместе с трофейным пулеметом. И продолжал стрелять во время взрыва и после. А дальше, за Отрадновым, двое солдат, наоборот, на возвышении в сравнении с младшим сержантом и старшим лейтенантом лежали. Они тоже головы уронили…
А дальше я лежал. Но до меня от места взрыва метров семь-восемь, у осколков гранаты «ВОГ-25» зона поражения около пяти метров. Может быть, меня и достало вместе с комьями земли и мелкими камнями, но я это только после не ощутил даже, а осознал. Но в целом, кажется, даже не ранило. Боли, по крайней мере, не было.
– Я снял гранатометчика… – сообщил Отраднов. – Погранец убит, принимаю команду на себя! Меня слушай!.. Патроны беречь… Стрелять только прицельно.
Гранатометчик точно стрелял. И хорошо, что Отраднов сумел нас от него избавить. Есть такие спецы и у боевиков, и у нас. Они гранату, как рукой, кладут, куда захотят, и не видят разницы, прямой наводкой стрелять или навесом, уперев приклад автомата в землю…
– Наши пошли… – сказал я, заметив, как перешли ущелье и заняли позицию на противоположном склоне, чуть дальше застрявшего корпуса вертолета, два бойца. С моей возвышенной позиции это хорошо было видно, но не видно было, кажется, младшему сержанту.
– Где? – спросил Отраднов.
– Дальше вертолета… Метров на восемьдесят…
– Точно – наши? – переспросил он.
– Наши, – подтвердил кто-то, занявший позицию еще выше меня. – И внизу четверо. Все перевязаны. Воронцов раненых на работы погнал. Бруствер кладут…
– Значит, как только бруствер выложат, нас отсюда снимут… – сделал вывод Отраднов и дал очередь в кусты, заметив там какое-то движение.
И точно, из кустов кто-то выпал, сваленный очередью. Нам было видно только криво лежащие ноги, одна из которых была неестественно вывернула. Раненый не смог бы с такой вывернутой ногой лежать, обязательно бы ногу подтянул.
Наша удобная позиция была хороша тем, что до нас добраться было трудно. Четырежды еще боевики стреляли из «подствольников», но гранаты ложились далеко – три из них вообще намного выше по склону, обдавая нас после разрывов мелкой осыпью камней и падающими ветками деревьев, а одна даже не долетела до скалы, к тому же еще гораздо правее ушла. Хорошего гранатометчика, к нашему счастью, в их рядах больше не нашлось. Автоматный же и даже пулеметный обстрел еще до того, как нанести нам урон, показывал точку, из которой стреляют активно. А активная стрельба всегда отнимает время и показывает, откуда огонь ведется. И за это время мы, плохо видимые снизу, успевали с нескольких точек ответить в одну и погасить ее. Но в то же время и сами мы были здесь заперты и могли бы держаться, нанося противнику урон, только до темноты. А с наступлением темноты, не имея приборов ночного видения, мы уже стали бы только гипотетической угрозой, о которой знают, но которую не боятся, и противник мог бы пройти у нас под носом в одну и в другую сторону, если боевикам приспичит выпить, закусить и покурить в секторе нашего обстрела. На вспышку огня стрелять с такой дистанции вполне доступно. Конечно, подкрасться к нам по склону даже в темноте проблематично. Но это ничего не давало нам, поскольку наша задача была простая – удержать бандитов до того, как закончится разгрузка раненых из вертолета. Разгрузка, видимо, уже закончилась, по крайней мере, мне не видно было никакого шевеления там, у корпуса, да и старший лейтенант Воронцов оттуда ушел. Следовательно, нам уже можно было бы и покидать позицию. Но вот как это сделать под обстрелом, а миновать обстрела невозможно, пока внизу, под нами, остались живые боевики. И выбить их оттуда невозможно, потому что мы видим их не лучше, чем они видят нас… В итоге получается эффект замкнутого круга, который разомкнуть без помощи извне невозможно. Но и старший лейтенант Воронцов, должно быть, понимает положение, и, если уж он зашевелился там, внизу, значит, что-то готовит, чтобы мы могли осуществить прорыв…
* * *
Старший лейтенант Воронцов, однако, не слишком, как мне показалось, спешил. Со стороны посмотреть, он что-то искал внизу, под остатками вертолета, словно нечто важное и необходимое из корпуса вывалилось, и найти это было делом жизни или смерти. Даже на четвереньках местами ползал.
– Что он ищет? Пять рублей в прошлом году потерял? – поинтересовался кто-то из солдат слева от меня.
– Минирует, похоже… – отозвался другой.
– Чем минирует? У него в каждом кармане по «МОН-50»?[9]
Имеющиеся в роте «МОН-50» мы выставили на подходах к перевалу.
– Или «растяжки» ставит…
– Непонятно что-то… Там, среди камней…
– Старлей умеет… Замаскирует – не найдешь…
Мы молча ждали развития действий. Старший лейтенант Воронцов нам был хорошо виден, но невидим для противника, которого от него отделяли густые заросли кустарника и легкий поворот ущелья в нижней части, тогда как на склонах этот поворот никак не выражался. Но мы все равно контролировали оставшихся внизу боевиков с повышенной внимательностью. Это непреложный закон: даже если приказа не поступало, но ты видишь своего, и знаешь, что противник рядом, ты обязан прикрывать своего, тем более своего командира. А старший лейтенант Воронцов в настоящий момент стал и моим командиром. И я прикрывал его так же старательно, как и остальные. Но сам старший лейтенант словно бы и не видел этого. Мне показалось, что он, спустившись на дно ущелья, ни разу в нашу сторону взгляда не бросил.
Но любая работа имеет привычку заканчиваться. Закончилась и та, что выполнял Воронцов. И только после этого он сделал какой-то знак одному из своих парней на противоположном склоне, второй в это время с биноклем дальние подступы осматривал и двинулся от нас ближе к середине, туда, где еще четверо раненых солдат, превозмогая боль, что было видно даже издалека, спешно сооружали бруствер, перекрывая ущелье, как казалось издали, игрушечной крепостной стеной.
Старший лейтенант работу, кажется, одобрил, только сделал несколько замечаний, и срочно была усилена и поднята центральная часть стены. Только после этого Воронцов отдал еще какие-то команды, солдаты проверили патроны, отчитались перед командиром, и двое из них полезли на противоположный склон, чтобы усилить позицию первой пары. Тут же со склона спустились невидимые мной ранее два пулеметчика, которых раненые и сменили. И в нашу сторону без задержки двинулась группа, состоящая из старшего лейтенанта, двух пулеметчиков и двух раненых автоматчиков. Шли сначала быстро. Чтобы никто из боевиков не высунулся и не заметил их, младший сержант Отраднов дал несколько коротких и хлесткий очередей по кустам, предпочитая проредить самые густые, где легче всего спрятаться. По себе знаю, что при таком ненаправленном обстреле очень хочется голову в плечи вжать и от земли не отрываться, потому что не знаешь, в какое место следующая очередь будет направлена. Но в общем-то младший сержант все сделал правильно, однако старший лейтенант Воронцов остановился и в нашу сторону посмотрел, а потом отмашку рукой сделал, передавая немой приказ, Отраднову понятный. Младший сержант стрельбу сразу прекратил, потому что стрелял он, время от времени все же поглядывая на командира и ожидая его реакции.
Четверка раненых на противоположном склоне, несмотря на редкие заросли, в которых трудно спрятаться, где ползком, где на четвереньках уже приближалась к нам. Бандиты прятались от взглядов с нашей скалы. А спрятаться одновременно и со стороны противоположной они не могли. И потому очереди, оттуда раздавшиеся, как только старший лейтенант со своей группой вышел на позицию по другую сторону кустов, сразу доставили им неприятности. Но эти очереди несли не столько поражающий характер, сколько указывающий нам, сидящим на скале, и мы это поняли.
– Определить цели! – скомандовал младший сержант Отраднов. – Огонь!
Кусты мы, грубо говоря, прорубали очередями. И тут же выскочили бандиты, оказавшиеся между двух огней. Их оказалось восемь человек, хотя, по моим прикидкам, должно было бы быть меньше. Воронцов дал команду своим, мы стрельбу прекратили, как и парни с противоположного склона, а нижняя группа, оказавшись внезапно в предельной близости от растерянного противника, просто расстреляла его. Все кончилось быстро и четко, ответные неконцентрированные очереди, кажется, никого не задели.
И тут же Воронцов знаками дал команду нам. Отраднов во весь рост встал и сделал ответный знак. Видимо, это была принятая во взводе жестикуляция, и все здесь понимали ее, поэтому сразу, не дожидаясь команды младшего сержанта, начали спускать тела убитых и спускаться сами. Отраднов же продолжал переговоры с командиром. И старший лейтенант тоже понял его. И отправил одного из пулеметчиков на противоположный склон, где лежал убитый Отрадновым снайпер. Пулеметчик оказался быстрым на ноги, и когда мы с ранеными спустились, он, в дополнение к своему пулемету, держал в руках еще и импортную снайперскую винтовку, радуясь такому трофею.
Однако долго радоваться не пришлось.
– Мне… – коротко и спокойно распорядился Воронцов, и винтовка перешла в руки старшего лейтенанта, который рассмотрел ее и чуть дыхание не потерял. – «Дальнобойка». Прицел с тепловизором. Такая стоит, как хорошая машина. Патроны забрал?
Пулеметчик молча протянул две запасные обоймы.
– Значит, выживем даже ночью… – с откровенным довольством в голосе сказал старший лейтенант.
Даже я, никогда со снайперским искусством не знакомившийся, знал, что от прицела с тепловизором не могут спасти даже самые густые кусты, через которые в прицеле будет просвечивать фигура. И ночью подойти к человеку, просматривающему окрестности через такой прицел, невозможно. Впрочем, как и днем при самой хорошей маскировке…
* * *
Мы собрали все боеприпасы и гранаты. Если у меня еще был более-менее приличный запас для ведения боя, то у других оставалось совсем мало. Но боевики, к нашему удовольствию, были вооружены основательно, и наши запасы пополнили без своего, впрочем, согласия. Просто не у кого было согласия спрашивать. При расстреле с такой короткой дистанции раненых, как правило, не остается, особенно если расстрел ведется из пулеметов.
Обыскали и вещмешки и рюкзаки бандитов, забрали всю провизию, немного медикаментов и все, что могло нам сгодиться. У меня впечатление складывалось такое, что мы готовились к длительной обороне.
– Одинцов, – позвал меня старший лейтенант. – Правильно, кажется… Я не спутал фамилию?..
– Правильно, товарищ старший лейтенант, – шагнул я к нему.
– Твой командир взвода лейтенант Савин о тебе хорошо отзывался. И о твоей беде меня предупредил. Просил, если что, посодействовать. Хорошего он о тебе, короче, мнения.
В ответ на комплимент я скромно промолчал, понимая, что это только вступление к чему-то основному, и терпеливо ожидая продолжения.
– Здоровье как?
Я пожал плечами.
– Не жалуюсь. Приземлился удачно… Без последствий…
– Положение наше понимаешь?
– Более-менее…
– Тогда я объясню, – сказал Воронцов довольно хмуро и посмотрел на меня исподлобья колючим взглядом. – Хреновенькое положение. У нас куча раненых и недостаток медикаментов. Несколько человек нуждаются в срочной операции, а нет даже санинструктора, который смог бы раны зашить. В результате все раны только перевязаны, а этого мало. Более того… У нас нет провизии, хотя есть вода, которой сыт не будешь, у нас мало патронов, которые приходится добывать в бою, как сам видишь… И мало надежды на то, что нас быстро найдут.
– Мало надежды? – не я переспросил, а стоящий рядом младший сержант Отраднов.
– Мало надежды… – сказал старший лейтенант уже не так жестко, с усталостью в голосе. – Мы уходили от грозы, и потому покинули маршрут. Вертолет будут в первую очередь искать там, где ему положено было лететь. А это много километров в сторону. Чтобы исследовать каждое ущелье, сами понимаете, сколько времени необходимо. И есть боевики, которым нельзя оставлять нас живыми. Ни в коем случае нельзя… Их должно быть не менее полутора сотен. Мы уже значительно уменьшили их состав, насколько я подсчитал, на двадцать четыре человека только с этой стороны ущелья, и с другой стороны тоже бой идет. Тем не менее на их стороне перевес в численности и вооружении… И главное, в боеприпасах… Короче говоря, Одинцов… Приказ такой. Дождаться удобного момента и двинуться в путь. Дорога здесь только одна, но я дам тебе пилотскую карту. Необходимо добраться до перевала и предупредить своих. По ущелью несколько часов быстрого марша.
– А почему он, товарищ старший лейтенант? – спросил Отраднов. – Наш взвод разве хуже? Мог бы и я сходить.
– Наш взвод обучен воевать на взаимодействии. Одинцов не всегда понимает наши действия и не нарушит связь. Идти ему. Это приказ, и он обсуждению не подлежит. Одинцов. Сейчас с нами не идешь. Забираешься не слишком высоко, но выше тропы, тщательно маскируешься. Чтобы тебя ни видно ни слышно. Только предупреждаю, в стороне от скалы… Скалу наверняка расстреляют из гранатометов. Они подумают, что там снова засада… Когда стемнеет, выходишь. Соблюдаешь предельную осторожность. Инструктаж давать не буду, потому что действовать необходимо, исходя из обстановки. Где надо будет, пойдешь ползком, где надо будет, полетишь по воздуху, если возникнет необходимость, будешь пробиваться, необходимости не будет, просто уходишь и быстрее вперед. Времени на сон в пути тебе уже не отпущено… Выспаться сможешь, когда замаскируешься и будешь ждать темноты. Понял?
– Так точно, товарищ старший лейтенант, – сказал я. – Я пройду. Я бессонный.
– С собой берешь только необходимое. Лишнее оставляешь в лагере.
– Я уже оставил. Все необходимое при мне.
– Еще один важный момент. Бандиты наверняка выставили разведку вблизи перевала. Изучают подходы, ищут минные поля. Не нарвись на них…
– Буду смотреть.
– Минные поля знаешь?
– Знаю проходы…
– Бандиты тоже могут уже их знать и могут сидеть именно там. Все… Получи карту. Мы пошли. Ты – забирайся. Сделай себе нору.
* * *
Я не провожал глазами уходящих сослуживцев. Я легко переключился на новую для себя задачу, и мне было легко на нее переключиться. Разные люди по-разному относятся к возможности работать в одиночку. Кто-то вообще не может терпеть таких заданий, потому что для него чувство локтя и надежда на страховку в случае ошибки всегда значат слишком много. Человек сам может все сделать наилучшим образом, но без страховки делает это хуже, с опаской. Другим, как мне, например, гораздо легче действовать одному. Это уже характер и воспитание, и ничего больше. По крайней мере, никак не героизм, а если и героизм, то не выходящий за рамки естественной службы спецназа ГРУ.
Мне всегда было легче и проще в одиночестве, чем в коллективе. Меня ведь даже в школе еще считали замкнутым человеком или хотя бы не склонным к откровенности ни при каких обстоятельствах. Это внешнее. А если говорить о внутреннем, то я с самого детства привык принимать решения самостоятельно, а не так, как мне говорили. Здесь передо мной была поставлена именно эта конкретная задача. И я не увидел в ней ничего страшного, тем более что я находился сейчас не в своем взводе, где знал каждого и на каждого мог положиться. Здесь не надеялся на других я и на меня не надеялись. И потому к новому заданию я приступил без страха.
Осмотрев склон, место я выбрал сразу. Оно словно бы специально для меня предназначалось. Правда, рискованно близко к тропе, ведущей на скалу, где мы устраивали засаду, тем не менее слишком хорошо для того, чтобы им не воспользоваться.
Большая сосна держалась за почву под землей только одной своей стороной. А с другой стороны корни были выпячены наружу, словно прутья фигурной деревянной арматуры, и снизу прикрыты кустами. Я быстро добрался до дерева, раздвинул кусты и понял, что в выборе не ошибся. Конечно, было тесновато, но на что мне дана малая саперная лопатка? Ей ведь предназначено не только головы рубить…
2. Святой Валентин, авторитетный кидала
Я сам инициативу проявил и предложил лейтенанту Соболенко сходить в лагерь, чтобы узнать насчет патронов у солдат, которые не могут принимать участие в бою. Вернее, узнать мне следовало у капитана, а уже капитан должен был узнать относительно запаса у солдат. Так я вопрос поставил. Хотя действительная цель моего возвращения была несколько иная – хотелось глянуть, что там происходит с моим грузом. Конечно, иконы упакованы надежно, но упаковка вовсе не обещает сохранность, если с ней обращаться, как с обычными солдатскими рюкзаками. Когда мы с Соболенко переносили вещи в лагерь, я выставил свой багаж чуть в стороне от общей кучи, за самым тяжелым нашим грузом – двумя бочками с авиационным топливом, чтобы никто не вздумал устроить на планшетах стол. Потом, перед уходом, заметил, что неподалеку от моего груза устроилась, прямо перед бочками, как ее устраивали в вертолете солдаты, на кресле, сложенном теперь уже собственноручно из солдатских рюкзаков, беременная, матерь ее, жена капитана Павловского. Эта дура никак угомониться не могла. Известно, что хуже дурака может быть только дурак с инициативой. К дурам эта поговорка тоже, между нами говоря, относится. Я еще в вертолете слышал, как она внаглую вбивала клинья между старшим лейтенантом Воронцовым и своим капитаном. Цепкая и хваткая бабенка, которая и своего не упустит, и чужое прихватит. Хорошо еще, что капитан такой нерешительный, а Воронцов, напротив, категоричный и знающий, что делает. В ситуации, подобной нашей, командовать должен один человек, и командовать должен тот, кто в состоянии это делать.
Чем-то меня месторасположение жены капитана Павловского не устраивало, хотя на планшеты она пока еще, кажется, не претендовала. Но это вовсе не значило, что она не будет и впредь на них не претендовать. И мне вдруг подумалось, что дождь, который то начинается, то прекращается, грозит грозою, но в грозу не переходит, может толкнуть несуразную с моей точки зрения мадам к желанию устроить себе из моих планшетов навес. Конечно, упаковка водонепроницаемая, о ней заботился не я, а контрабандисты, которые готовили иконы к переправке через границу. Их задача была предельно конкретная – чтобы иконы не потеряли товарный вид, иначе все дело пойдет насмарку. И упаковка была, как я проверил, выполнена на совесть. Так в музеях не упаковывают…
И я вернулся, глянув, между прочим, и на свой багаж. Слава богу, не допустившему утилитарного поругания святынь! Павловская пока еще не протянула свои цепкие маленькие и скрюченные от жадности пальцы к моим планшетам. Но вот сам капитан встретил меня не слишком ласково. Я понимаю, что патроны он, матерь его, не делает не только здесь, но и вообще. Тем не менее, если бы я спросил патроны у его беременной жены, уверен, что она принялась бы искать у солдат. Тем не менее и капитан, кажется, мозгами зашевелил. Не все его извилины, наверное, еще заняты выяснением отношений с женой. Он на раненых солдат оглянулся и хотел уже было к ним шагнуть, к тем, что не могли помогать ему строить бруствер, но в это время ущелье, как классический пример аэродинамической трубы, донесло до нас сначала непонятные звуки. Лично мне показалось, что это едет колесный трактор, и даже мысль мелькнула о том, что боевики где-то трактором разжились, чтобы на нем к позициям лейтенанта Соболенко подобраться вплотную. Но трактором здесь разжиться возможности не было, да и до позиций не только на тракторе – на автокроссовой машине багги не доберешься, хотя и говорят, что багги везде проедет. Это я быстро понял. А потом и увидел…
– Ну вот, а ты говоришь, прорвутся боевики. Уже не прорвутся, нас нашли и сейчас уже наверняка передают координаты.
Вертолет прилетел со стороны нижнего ущелья. Как раз над боевиками пролетел. И наблюдателю наверняка было видно, что здесь происходит, и оценить наше положение можно было без труда.
– Через час ракетоносцы прилетят и ничего от бандитов не оставят… – проявил Павловский естественный оптимизм. – А за ними десантуру выбросят, чтобы добили тех, кто спрятаться сумеет, если мы сами их не добьем… Я знал, что так будет. Это Воронцов что-то запаниковал… Найдут – не найдут, патронов мало. Хватит нам патронов…
Признаться, я тоже словно бы чувствовал, что дело благополучно завершится.
– Что там за эмблема непонятная на вертолете? – спросил я, вглядываясь внимательнее.
В эмблемах родов войск я не силен, признаюсь, матерь их, без стеснения. «Вертухая»[10] я легко отличу по роже, а не по эмблеме. И мента тоже… А остальное меня касается мало. По крайней мере, раньше мало касалось.
Вертолет летел невысоко, и Павловский тоже всмотрелся.
– Это МЧС… Естественно, они и должны искать пропавших, кто же еще… А час мы спокойно продержимся.
– Без патронов мы и десять минут не продержимся… – резонно возразил я и перекрестился демонстративно широко. – И десять вертолетов МЧС нам не помогут. Боевики тоже не дураки, понимают, чем появление этой «вертушки» для них чревато. Напролом сейчас полезут.
Вертолет пролетел дальше, посмотреть, что в верхней части ущелья делается…
По большому счету я думал, что час продержаться мы в состоянии при любом раскладе сил. Уж очень выгодная у нас позиция, и нам не надо никого торопливо атаковать. Пусть нас атакуют, а мы будем спокойно, как в тире, постреливать одиночными, но точными выстрелами. На это патронов должно хватить. Но капитан принял меня слишком неприветливо, и потому мне очень хотелось ему возразить и поставить его на место. Не на командирское, естественно, а на достойное его…
Капитан Павловский помрачнел. Ему неприятно было, что какой-то священник, пусть и с автоматом в руках, читает ему проповеди на военную тематику. Ему, офицеру, и кто – священник… Но он гордость смирил и пошел к солдатам. Разговор был недолгим. Собрали все, что было, и даже у тех, кто помогал Павловскому бруствер строить. Набили три полных рожка и еще набрали пару горстей в камуфлированную солдатскую косынку, испачканную кровью. С этим грузом я и двинулся было к позициям нижнего заслона, но задержался, чтобы под струйкой водопадика умыться. Горная вода свежая. А лицо, хотя и мокрое от дождя, все же было липким и потным. От простой ходьбы по этому склону – уже потным. Нелегко здесь ходить. Я умывался долго и с наслаждением. А когда выпрямился и взял в руки свой груз, снова услышал приближающийся шум вертолетного двигателя. Вертолет возвращался, осмотрев все позиции. Надо полагать, что данные он уже передал, и скоро на смену ему прилетят машины более серьезные и грозные, умеющие горные долины в перепаханные равнины превращать…
Павловский смотрел в небо. Я рядом с ним остановился.
– А вы бы это, капитан…
– Что? – спросил Павловский жестко и глянул на меня волком. Не любит он, когда ему указывают. Так, кажется капитану, он авторитет теряет.
– Бруствер бы доделали. Мало ли, отступить придется. Чтобы сразу позицию занять, и бой вести. Под обстрелом бруствер не построишь.
Он хотел что-то сказать резкое, я по огню в глазах увидел, по вспышке, но в это время послышалась пулеметная стрельба совсем рядом, и вертолет начал какие-то кульбиты выписывать, чтобы от обстрела уйти. Так необъезженная лошадь, на которую впервые наездник взобрался, скачет. Только лошадь на земле, а вертолет в воздухе.
– Бандиты и его хотят сбить, – заметил я. – Опыт имеют…
– Это не бандиты… – сквозь зубы сказал капитан. – Это рядом… Там позиция старшего лейтенанта Воронцова. Он что, с ума сошел?!
Теперь и я тоже понял, что огонь по вертолету открыли не бандиты. Маленькая машина МЧС находилась как раз в том месте, где корпус нашего вертолета покоился. И что-то в поведении вертолета Воронцову, видимо, не понравилось.
Павловский обернулся.
– Бинокль! Есть у кого-нибудь бинокль? – спросил резко.
Никто ему не ответил. Бинокля у солдат не оказалось, как не оказалось его почему-то и у беременной Павловской.
Капитан зло рукой махнул.
– Точно, у старлея крыша поехала.
– Я схожу туда, посмотрю… – вызвался я, больше для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство, а вовсе не для того, чтобы капитана утешить и посоветовать ему взять командование на себя. Я понимал, что такой опытный офицер, как старший лейтенант Воронцов, глупости не допустит и, значит, наше положение не такое радужное, как кажется капитану Павловскому.
Пулеметы были не зенитные, а подбить из «ручников» вертолет проблематично. Зря только Воронцов патроны тратил. Вертолет, матерь его, ушел на скорости и мимо нас на скорости пролетел за поворот ущелья, где и скрылся. Но звук двигателей долго не удалялся. Должно быть, наблюдателю хотелось рассмотреть позиции боевиков, а те оказались более лояльными, чем спецназовцы, и не стреляли. По крайней мере, мы стрельбы не слышали…
– Дуй, батюшка, только быстро, – послал меня Павловский без мата. По крайней мере, вслух он не матерился, хотя что-то подобное наверняка держал в голове.
Я положил на большой заметный камень приготовленные для отправки патроны и «дунул», придерживая одной рукой обе полы рясы, поскольку вторая рука была автоматом занята. У меня в автомате патроны уже кончились, но набивать рожок при капитане Павловском я не стал, чтобы он не подумал, что я специально для себя патроны выпрашивал.
* * *
Чтобы встретиться со старшим лейтенантом Воронцовым, мне пришлось спуститься с тропы на дно ущелья. Дело не самое простое, потому что склон был очень крут, и приходилось придерживаться рукой за стволы. Но, поскольку в левой руке я нес автомат, придерживаться пришлось правой, а для этого необходимо было отпустить полы рясы. Как только я сделал это, полы сразу стали цепляться и за кусты, и за камни. Но я справился, спустился, а не скатился под гору. И уже через двадцать шагов после этого встретил солдат. Они несли в лагерь окровавленные тела трех убитых. Погибли два солдата и старший лейтенант Валуев.
– Как там обстановка, батюшка? – спросили меня на ходу, когда я посторонился, чтобы уступить дорогу, перекрестился сам и перекрестил тела.
– Божьей заботой, нижний пост хорошо держится. Хотя с патронами плохо…
– С патронами у всех плохо. Успехи как?
– Полтора десятка бандитов «положили».
– Потери есть?
– Двое убитых. В первом же столкновении, когда на тропе нечаянно встретились. Может, вы и туда за телами сходите?
– Некогда, батюшка… Старший лейтенант приказал сразу возвращаться.
Они прошли мимо, а я поспешил к старшему лейтенанту.
Воронцов встретил меня, сидя на камне. Посмотрел угрюмо и устало, но в общем-то вполне буднично. И прежде чем начать разговор, дождался, когда я на соседний камень сяду. Начал накрапывать мелкий и частый дождь, внешне похожий на водяную взвесь, и из-за этого сильно уменьшилась видимость в ущелье. В такой дождь к любой позиции можно подойти невидимым на дистанцию прицельной стрельбы. Воронцов это, видимо, тоже понял и знаками из какой-то непонятной мне азбуки отослал пулеметчика и солдата с перевязанной головой выше по ущелью, куда-то под вертолет, чтобы наблюдать подходы к недавно сооруженному брустверу оттуда и предупредить о подходе противника заранее. И только потом Воронцов на меня переключился.
– Давай докладывай, отец Валентин, как там дела? – сразу перешел он на «ты», но я против такого перехода не возразил, потому что в сложной обстановке так разговаривать всегда удобнее.
– Меня капитан Павловский прислал, – соврал я без зазрения совести. – Спрашивает, зачем ты обстрелял вертолет?
– Сильно требовательный капитан, батюшка?
– Сильно… До неприличия…
– Я сам хотел бы у Павловского спросить, почему он этот вертолет не обстрелял? – возразил Воронцов, уверенный в своей правоте, в которой я пока еще уверен не был, но уже начал его уверенностью заражаться – старлей, как мне кажется, ничего напрасно делать не будет, он создает впечатление психически очень устойчивого человека. – Мог бы обстрелять хотя бы из стрелкового оружия, чтобы отпугнуть и не пустить дальше. И он, и лейтенант Соболенко… Разведывательные полеты следует пресекать в самом начале, чтобы противник не имел сведений о наших силах.
– Разведывательный полет… – не понял я и от возмущенья рукавами рясы, как ворона крыльями, взмахнул. – Вертолет МЧС… Нас искали и нашли… А мы вместо благодарности пулеметами встретили. Хороша благодарность.
– Ни один вертолет МЧС в такую погоду поднят в воздух не будет. Из личного опыта знаю. Они грозового фронта всегда боятся. Сам слышишь, как громыхает…
В небе в самом деле громыхало то с одной стороны, то с другой. Да и дождик, подобный тому, что наши головы мочил, тоже полетам не способствует, потому что делает видимость, матерь ее, не самой наилучшей.
– А кто же тогда?
– Боевики.
– Да откуда у боевиков вертолет возьмется? – не согласился я.
– Трудно, что ли, захватить? Или купить вместе с пилотом… Там только два человека было. Пассажира я подстрелил. Не знаю, убил или ранил, но попал – это точно. В голову.
– Из пулемета? – я не поверил не тому, что старший лейтенант Воронцов мог попасть в пассажира вертолета из пулемета, я не поверил, что он сумел рассмотреть такие подробности.
Но старший лейтенант просто кивнул на соседний куст. На куст плащ-палатка была наброшена, а под ней стояла винтовка с большим и, вероятно, мощным оптическим прицелом. Стандартные снайперские винтовки Российской армии я хотя бы на фотографиях видел. Эта была явно не из их числа.
– Откуда такая красавица?
– Боевой трофей. «Дальнобойка»… Прицел с тепловизором. Понимаешь, что это такое?
– Понимаю.
Про тепловизоры мне, кстати, совсем недавно кто-то рассказывал. Кажется, кто-то из специалистов-«домушников» мечтал приобрести на профессиональные нужды. И объяснял суть этого прибора.
– Вот такая ситуация. Пилот, может быть, в самом деле из МЧС. Форма у него какая-то… Как у генерала из кукольного театра. А рядом с ним кто-то в гражданском костюме. Чеченец…
– И что? – спросил я. – Ведь не в камуфляже же… А если бы даже и в камуфляже…
– Почему наш вертолет обстреляли? – спросил старший лейтенант.
– Потому что с нашего вертолета их обстреляли, – ответил я уверенно.
– Неправильно. В нас бы все равно стреляли, выстави мы пулеметы или не выстави. В нас бы стреляли только потому, что мы представляем собой федеральные силы и мы увидели банду, которая готовится к прорыву через перевал… То есть мы знаем, где банда сосредотачивается и где ее можно уничтожить бомбовыми ударами. Вот потому нас и сбили, вот потому пытаются уничтожить сейчас. Ради спасения собственной жизни и выполнения собственной задачи – уничтожить.
– И что? – повторил я вопрос, хотя уже понял суть и понял, как Воронцов распознал противника. В принципе, трудно было с ним не согласиться.
– А то, что бандиты точно из тех же самых соображений обязаны были попытаться сбить и этот вертолет, маленький и совершенно не защищенный. Но они даже единого выстрела по нему не сделали. То есть они знали, что в вертолете летит кто-то свой, кто исследует наши позиции. И мне остается только сожалеть, что у меня нет под рукой крупнокалиберных пулеметов, как у боевиков. Тогда эту машинку мы бы просто искрошили. Дошло, батюшка?
– Дошло, товарищ старший лейтенант.
– Так и передай мои соображения капитану Павловскому. А теперь докладывай, что там в нижнем ущелье делается?
Я изложил положение на нашем посту подробно, расписал ситуацию и пожаловался на отсутствие патронов.
– Мы разжились у бандитов. Пусть лейтенант подумает, как это сделать. Убитых видно из-за поворота?
– Не всех. Большинство не видно.
– Выставьте прикрытие и пошлите пару человек. Пусть убитых обыщут. Что может сгодиться, пусть забирают. Убитые с вещмешками?
– С рюкзаками.
– Провизия… Мы на голодном пайке. Тоже следует добыть…
– Понадобится?
– Ждать придется долго. Ждать и драться. Для этого силы нужны… Победить нужно. Не знаю, как тебе, батюшка, а мне вот никак нельзя сейчас погибать… Дела не позволяют… И потому я намерен победить…
– Бог даст, победим… – я перекрестился.
* * *
В лагере я не сказать чтобы сильно удивился, потому что чего-то подобного, матерь его, ожидал, но забавное удовлетворение почувствовал. Капитан Павловский к моему возвращению изменился даже внешне. Он стоял у края площадки перед тропой, поджав губы и заложив руки за спину, грозный, нахмуренный и предельно решительный. Просто маршал Жуков, а не капитан Павловский. Однако ситуацию изменил, судя по всему, не сам Павловский, а его, матерь ее, беременная жена, стоящая чуть в стороне с видом заправской генеральши и поглядывающая на все и всех свысока, несмотря на свою внешнюю сутулую мелкотравчатость.
Я ситуацию прочитал и решил поиграть ею, чтобы поставить и самого капитана, и его плюгавую половину на соответствующее им место. Все было ясно: мелкая особь дала настойчивый втык своему капитану, может быть, даже пинка отвесила, хотя бы словами, и тот, в дополнение ко втыку возмущенный обстрелом несущего, как ему казалось, спасение всем нам вертолета, решил взять власть в свои руки. Причина, на взгляд капитана Павловского, нашлась весьма даже уважительная. И все дело с нашей аварией к тому же грозило скорым и благополучным завершением. Самое время власть захватывать, чтобы потом награды делить…
– И что там этот безголовый старлей делать изволит? – спросил капитан так, словно посылал меня Воронцова арестовывать.
– Безголовый старлей, брат мой, головой соображает, – ответил я спокойно и заметил, как шагнула в нашу сторону беременная мадам. – И, судя по всему, соображает гораздо быстрее и качественнее, чем священник и два офицера погранвойск, вместе взятые. И это соображение позволило ему, за отсутствием крупнокалиберных пулеметов, которые в состоянии сбить вертолет, подстрелить пусть не пилота, но пассажира вертолета… Из трофейной снайперской винтовки…
– И что там этот старлей насоображал, чтобы под суд не пойти? – спросила беременная жена капитана. А сколько в скрипучем голосе ярости и сарказма, сколько ненависти ко всем. Вот бы кого в бой послать – от ее вида боевики моментально разбегутся…
Я в ее сторону не посмотрел и начал собирать с камня патроны, чтобы отнести их на нижний заслон к лейтенанту Соболенко.
– Объясните, батюшка… – внезапно спокойно и совсем без недавнего властолюбия, вызванного накачкой со стороны жены, сказал Павловский.
Я даже зауважал его за такое умение взять себя в руки и правильно оценить положение. Да и пора бы уже капитану понять, что его команды здесь даже собственная жена не всегда готова выполнять. Разве что лейтенант Соболенко будет согласен на соблюдение воинской субординации.
Я коротко объяснил, выложив все соображения старшего лейтенанта, используя фразы того же старшего лейтенанта.
– Да, он, конечно, прав… Надо было нам сразу по вертолету стрелять. А сейчас боевикам вся наша диспозиция известна.
– Она, брат мой, и без того им известна. Диспозиция простая, но в простоте наша сила…
– Ладно, несите патроны. Вас там уже заждались, наверное. Обороняться нам придется долго. Будем надеяться, выстоим…
– Бог даст, выстоим, – я перекрестился перед капитаном, как недавно крестился перед старшим лейтенантом. – «Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня; многие говорят душе моей: „Нет ему спасения в Боге“. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом своим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня»…[11]
– Чего? – переспросил капитан, не понимая меня.
– Того… – ответил я просто. – Положимся на волю Божью, брат мой…
Часть II
Глава 1
1. Старший лейтенант Александр Воронцов, командир взвода, спецназ ГРУ
Как только вернулись парни, относившие тела убитых в лагерь, под опеку требовательного капитана Павловского, я начал расставлять солдат согласно своему задуманному плану и каждому задачу поставил конкретную, предварительно всем объяснив общую, чтобы никто своими действиями нечаянно не помешал ее выполнению.
Время шло стремительно, как всегда оно идет стремительно, когда хочется его задержать. Дело в том, что ни нам, ни боевикам не хотелось бы затягивать дело до темноты, как мне казалось со стороны, хотя я мог оказаться и неправым в этом вопросе. Нам темнота невыгодна до тех пор, пока бандиты имеют такое мощное преимущество в живой силе. Если они выйдут на ближнюю дистанцию, то имеют возможность просто задавить нас количеством стволов. А в темноте подпустить противника неприлично близко очень даже просто. Им же растягивать дело до темноты невыгодно потому, как я думал, что бандиты готовились нынешней ночью выйти к перевалу и попытаться прорваться. Иначе рискованно было бы заранее концентрироваться в долине.
Бандитам пора было бы уже показаться, но я подумал, что они ждали результатов вертолетной разведки, потом, согласно результатам этой разведки, проводили переформирование своих групп и потому задержались с очередной атакой. Кроме того, насколько я помню, сам лагерь был разбросан на значительном расстоянии, о чем говорили дымы костров. Не все сразу смогли, должно быть, собраться, не проявил оперативной решительности их эмир, и в результате мы сумели изначально подготовиться. А потом, когда они получили достойный отпор, которого получить не ожидали, наступил дополнительный момент растерянности, как это часто случается с непрофессиональными вояками. И мы уже успели подготовиться более основательно. И теперь будем в состоянии сработать более качественно и, как я и планировал первоначально, сразу на уничтожение живой силы. Это не только наше положение облегчит, это, в дополнение ко всему, исключит всякую возможность попытки прорыва на перевале. С малыми силами практически невозможно прорваться на узком охраняемом участке, к тому же перекрытом по флангам минными полями.
Теперь оставалось только ждать…
Насколько я понял из рассказа попа, в нижней части ущелья положение еще более однозначное. Там дно ущелья полностью открыто, и передвигаться в светлое время суток по дну прямо под стволами спецназовского заслона – просто самоубийственное занятие. Там можно только идти по узкой тропе, проложенной по склону. Но тропу перед поворотом перегородили бруствером и за сам поворот никого не пускают. Были бы патроны, держаться можно было бы долго. Даже ночью держаться, потому что ночи не такие уж и темные. Конечно, грозовое небо видимость снижает значительно, однако не делает темноту непроницаемой. Трудно, но можно ночью продержаться…
На нашем участке ситуация чуть сложнее. И, распределив группу, я приказал выдвигаться вперед, чуть дальше места падения вертолета. Почти в то место, где первая группа бандитов попала в нашу засаду и была быстро уничтожена. Что мы и сделали…
– Курить хочется, – прошептал устроившийся рядом со мной младший сержант Отраднов.
– Ты же не куришь, – удивился я, потому что не терпел запаха табачного дыма сам и в своем взводе держал только некурящих солдат.
– Уже три года не курю… И давно не хотелось… А теперь вот хочется…
– Это нервы… Подожди, бандиты появятся, не до того будет…
* * *
Они появились…
Естественно, не маршевой колонной…
Кусты раздвинулись не руками, а стволами, как и всегда бывает, когда передвигаются настороженно, и после короткого осмотра открытой территории вперед вышло двое. Дальнейший осмотр был более тщательным. При этом тела убитых ранее боевиков, оставленные на месте, внимания не привлекли, а зря, на мой заинтересованный взгляд, потому что под некоторыми из них были установлены гранаты. Но мы залегли все же достаточно далеко от места появления боевиков, и рассмотреть нас возможности у них не было. А на верхнюю тропу, откуда высмотреть нас было можно, они соваться не рискнули, помня еще, что там у нас был выставлен на скале сильный заслон. Можно нас было бы высмотреть и с помощью оптики, совмещенной с тепловизором, но я справедливо решил, что одна такая винтовка даже для такого большого соединения джамаатов по нынешним временам – много. Один прицел с тепловизором стоит больше двадцати тысяч долларов, а там, кроме прицела, куча всякой электроники, включающей даже связь со спутниками формата GPS, портативную метеостанцию, дальномер, синхронизированный с оптическим прицелом, и много чего еще. Очень дорогая и убойная штучка, и я, естественно, не собираюсь сдавать ее как трофей по возвращении. Такая дальнобойная винтовка очень даже пригодится во взводе, потому что сама в сложном бою стоит целого взвода и значительно усиливает его мощь. Конечно, как недостаток такой винтовки, можно говорить о ее размерах и об опасности на короткой дистанции. Противник, случается, видит снайпера и в первую очередь старается уничтожить его. Так и произошло в нашем случае, когда винтовка к нам в руки попала. Можно было бы ею уже попользоваться и уничтожить разведку боевиков раньше, чем она покажется на глаза, потому что кусты, за которыми боевики прячутся, для такого прицела не помеха – тепловизор всех прекрасно показывает. И я не удержался. Посмотрел… Правда, недолго, потому что старался не расходовать заряд аккумулятора, который здесь подзарядить негде, а у снайпера с собой не было аккумулятора запасного. Но уничтожать разведку у меня надобности не было, потому что это сразу бы отодвинуло бой на неопределенное время и показало бы бандитам наши возможности. Они пока еще могут только подозревать, что винтовка у нас, но не могут знать это точно, если только винтовку не рассмотрели с вертолета, в который я из нее стрелял. Но, судя по тому, что бандиты за кустами прячутся, с вертолета им ничего не передали, да и стрелял я из кустов, не видимый сверху. Мой выстрел отодвинул бы выяснение отношений на более поздний срок, а этого не хочется ни нам, ни противнику. Для нас ночной бой может оказаться губительным, для них он означает задержку по времени, назначенному для прорыва через перевал. Любой подобный прорыв с последующим выходом к границе заранее планируется, составляется четкий график, в котором все должно быть предусмотрено. Естественно, грозу и вертолет, из-за грозы сменивший курс, предусмотреть было нельзя. Но есть много других мелочей, которые из-за задержки могут не сработать. Например, проход дозором наших пограничников или даже проход дозором пограничников грузинских по ту сторону границы. Все это следует предусматривать, и график обязательно должен выдерживаться, иначе всегда можно нарваться на крупную неприятность. А тут мы со своим желанием помешать выполнению этого графика…
* * *
Бандиты были классическими. Бородатые загорелые физиономии и обязательные зеленые повязки на голове с надписью арабской вязью. Рассмотреть все это позволял уже не оптический прицел с тепловизором, а простой офицерский бинокль, правда, тоже трофейный, более сильный, чем штатный офицерский бинокль Российской армии. Этот бинокль позволял даже глаза рассмотреть, их выражение. Испуга в глазах, конечно, не было, только настороженность. Вообще те, кто сейчас в боевиках остался, кто не сложил оружие «под амнистию», не имеют склонности к испугу. Это все парни тертые, и мерзавцы, большей частью, отпетые, которым никакая амнистия не грозит, потому что чужой крови на них с избытком… Такие не боятся ни боя, ни смерти, ни привидений, опасаются только «зоны», на которую их отправят, если попадутся. Впрочем, здесь я, возможно, ошибаюсь. «Зоны» они боятся только в том случае, если приговором будет пожизненное заключение. А на всех других «зонах», даже среди «полосатиков»,[12] как поговаривают, чечены чувствуют себя как на курорте… А некоторые, только оказавшись там, через короткий промежуток времени снова нам в руки попадаются. По документам начнешь проверять – он, оказывается, в это время «сидит», как и положено… Жалко, конечно, что я не там служу, хотя мне собственная служба больше по душе, но и там порядок навести хотелось бы…
* * *
Первоначальная дистанция в сто двадцать метров оказалась не такой и большой – шаг за шагом, с оглядкой, с прислушиванием, при полной концентрации внимания, и вот уже дистанция сократилась вдвое, но ничего пока не произошло из того, что могло бы произойти. А бандиты сами знали, какую прекрасную мишень они собой представляют и как каждому спецназовцу не терпится пустить в них пулю, а то и целую очередь.
Разведчики осмелели и в глазах, как показывал сильный бинокль, появилась наглая расслабленность. Они как раз вышли к месту, на котором была уничтожена первая группа. Тела своих погибших собратьев не тронули. Но переглянулись и обменялись вполголоса какими-то фразами. Потом один, по возрасту младший и, видимо, подчиненный, вытащил из нагрудного кармана переговорное устройство и сказал что-то в микрофон. Это была команда. Разведчики присели на камни, все же несколько раз бросив опасливые взгляды в сторону скалы, хотя им скалу было видно плохо и их со скалы было практически не видно за кустами.
Минуты не прошло, как команда передалась по инстанции, и из кустов вдалеке вышли тремя колоннами боевики. В каждой колонне по двадцать человек. Значит, решили бросить почти все силы, оставив лишь небольшой резерв, чтобы смять нас и уничтожить. Передвигались бегом, бежать старались беззвучно, однако это получалось плохо. Выучки боевикам явно не хватало. Я бы таких в свой взвод не взял. Мои парни бегают в два раза быстрее и шума издают в два раза меньше. А как правило, случается так, что если нет выучки в одном, то точно так же недостает ее и во всем другом. Это я уже обязан учесть на будущее, когда возникнет ситуация, когда дело будет решаться не количеством стволов, а именно выучкой. А такое происходит, как правило, в каждом бое. Много раз по чуть-чуть – в итоге набегает значительное преимущество.
Связи у нас внутри группы не было, и залегли мы вдалеке друг от друга. Но я был уверен, что мои мальчишки все мои указания выполнят точно. А рядом со мной устроился младший сержант Отраднов.
– Курить все еще хочешь? – спросил я.
– Не-а… Прошло…
– Сейчас они попытаются дать нам прикурить… – заметил я.
Я правильно просчитал замысел боевиков. Они не предполагали, что я сниму группу с господствующей над проходом высоты, тем более так хорошо укрытую от выстрелов снизу. Но я предпочел на скале никого не оставлять, потому что при изменении обстановки засадная группа будет отрезана от остальных и не сможет маневрировать, когда это понадобится. А я именно за счет маневра собирался превратить бой в успешный. Умение маневрировать, разумно и остро менять свою диспозицию – это как раз то, что сведет на нет их преимущество в численности личного состава.
Все три колонны, так никем и не побеспокоенные, поскольку был приказ их не беспокоить, одна рядом с другой, благополучно дошли до места, где остановились разведчики. Последовала новая команда, и банда в три ряда развернулась веером и подняла оружие. Судя по тому, как передние два ряда уткнули приклады в землю, а бандиты в последнем ряду уперли в плечи не приклады, а рукоятки автоматов, стрелять они собирались из подствольных гранатометов. И стрелять в скалу, где недавно была засада. И навесом, и прямой наводкой. Одновременный взрыв шестидесяти гранат мог и саму скалу своротить и, при определенной точности, снести все, что на поверхности находится.
Один из бандитов торопливо пробежал между рядами, кому-то что-то подсказывая и требуя изменения прицела, кому-то, двумя пальцами взявшись за ствол, меняя направление. Похоже, это был специалист. Я даже специально его лицо постарался рассмотреть, потому что специалисты подлежат уничтожению в первую очередь. Естественно, лицо запомнил, как и коренастую фигуру с непомерно длинными руками. Значит, он – номер в списке…
При целенаправленном уничтожении любой банды, состав которой известен, всегда составляется список наиболее значимых для бандитов фигур, которые подлежат уничтожению в первую очередь. Так же, как бандиты, нападая на любое армейское подразделение, в первую очередь стараются уничтожить офицеров и лишить подразделение управления. Именно потому уже давно никто из офицеров не носит на поясе кобуру с пистолетом, чтобы не выделяться этим. Пистолет гораздо безопаснее носить в кармане или в полуоткрытой поясной кобуре под курткой, откуда его быстрее достать, чем из кармана и даже из простой штатной кобуры. Списки, хотя бы мысленные, составляются всегда. И я, точно так же, думаю, как и мои солдаты, начал список составлять. Первым в него попал старший из двух разведчиков, отдавший команду к общему выступлению. Вторым – человек, направляющий гранатометчиков. Хорошо было бы вычислить самого Геримхана Биболатова, но, к сожалению, его можно только вычислить, потому что со связью на перевале плохо, существовала только радиосвязь, по которой невозможно было передать фотографию Геримхана. Но вычислить эмира можно всегда. Этого – точно так же, как и любого другого эмира. Здесь их должно быть несколько, потому что Геримхан собрал много джамаатов. А если эмиры соберутся вместе, то можно будет и лично Геримхана вычислить. У него, думается, в руках все нити связей с той стороной границы, если он занялся организацией этого перехода. И если Геримхана уничтожить, остальные, возможно, не будут знать, что делать. Тогда с ними проще будет справиться…
Залп гранатометов в узком ущелье заставил вздрогнуть не только листву на кустах и иголки на деревьях, сама каменистая земля, кажется, затрепетала и завибрировала. Конечно, взрывы всех гранат не могли произойти в одном месте, тем не менее гранаты легли и на скале, и вокруг нее, потрясли все окрестности, не говоря уже о самой скале. И если бы я оставил группу по-прежнему там, то едва ли кто-то остался бы в живых. Гранатометчик знал свое дело и подправлял стволы не напрасно. Даже мне редко приходилось видеть такой удачный залп из «подствольников». Да что уж, редко… Мне вообще ни разу не приходилось видеть такого. Я вообще не слышал, чтобы кто-то давал залп сразу из шестидесяти гранатометов. Но, видимо, Геримхан Биболатов решил взяться за наше уничтожение всерьез и завершить его так, чтобы потерять как можно меньше своих людей, так необходимых ему для прорыва через перевал. Биболатов одного не учел – дальность полета пули многократно превышает дальность полета гранаты. И мы, имеющие перед глазами такой наглядный пример, постараемся под следующий залп не попасть…
– Отраднов! – позвал я младшего сержанта, когда еще не перестали сыпаться со склона камни. – Главного маршала местных гранатометных войск определил?
– Есть такое дело…
– С ним два человека. Разведчик и еще один, тоже распоряжается. Готовь пулемет.
Я сам взял эту троицу на мушку своего автомата, предпочитая поберечь винтовку для дел более для нее подходящих, где автоматом не обойтись.
– Огонь!
Мы начали стрелять одновременно. И тут же, с опозданием в долю секунды, включились в дело еще два наших пулемета и автоматы. Шестьдесят метров – дистанция для такой стрельбы, можно сказать, комфортная. На два десятка метров дальше уже существенно снижается точность, на два десятка метров ближе, и тебя уже по очереди определить могут с точностью до сантиметра. На четыре десятка метров ближе, и ты становишься точно такой же мишенью, как и противник, и случайное, судорожное нажатие спускового крючка уже падающим от твоей пули бандитом может стоит тебе жизни. Здесь же не сразу поймут, откуда стреляют, а пока разберутся, ты уже можешь чуть ли не рожок выпустить. Правда, только в том случае, если противник залечь не успеет. Геримхан Биболатов в очередной раз ошибся, без пользы разрядив «подствольники» своего отряда. Прежде чем бандиты сумели прийти в себя и залечь, мы уже добрых полтора десятка выкосили, если не больше. Нам помогло долгое эхо от залпа и взрывов, что разгулялось по ущелью. Бандиты не сразу поняли, что находятся под обстрелом, а когда поняли, потери уже были существенными – четверть группы уже не поднимет подствольные гранатометы в боевое положение.
И тем не менее неприцельный и хаотичный встречный огонь все же оказался достаточно сильным. У Биболатова, похоже, не было недостатка в патронах, и пули обильно полились и вдоль ущелья над нашими головами, и по склонам, с которых стреляли. Это значило, что нам пора было отходить. Именно так я инструктировал свою группу.
Запланированный отход тем и отличается от незапланированного, что имеет конкретную цель. Это может быть отход после удачно проведенной диверсии, это может быть заманивание противника в ловушку или отвлечение на себя значительных сил с тем, чтобы другие силы воспользовались моментом и ударили противника или в спину, или во фланг. Второе обычно бывает предпочтительнее, потому что удар в спину создает опасную позицию и тому, кто заманивал противника, потому что он оказывается на линии огня, только на более дальней дистанции. В нашем случае это было одновременно и удачно проведенная вылазка, и заманивание противника в ловушку.
Мы отходили заранее просмотренным маршрутом, потому не суетились, даже не торопились, хотя и не медлили тоже. Спокойно, без суеты, прикрывая перебежки друг друга. Насколько я заметил, отошли вполне удачно, без потерь. А все потому, что пути отхода были заранее просмотрены каждым и использовано каждое укрытие. Кроме того, боевики так и не смогли определить наши позиции, хотя и определили по звуку выстрелов, что мы отходим. В этом, несомненно, заслуга их командиров, потому что в условиях узкого ущелья, когда эхо перемешивает звуки собственной стрельбы со звуками стрельбы противника в невероятный на слух коктейль, это сделать сложно. Но они определили. И естественно, сделали все грамотно. Если противник рядом, его следует преследовать, не дать оторваться для перегруппировки и поиска выгодной позиции. Они же не предполагали, что наша позиция заранее заготовлена. Более того, что это не простая позиция, а уже укрепленная каменным бруствером, что сразу сводит на нет все преимущество боевиков в количестве.
Мы как раз подошли уже к своему брустверу, когда где-то там, за спинами наступающих боевиков, раздался вдруг сильнейший взрыв, мощный гул гуляющего, скачущего по скалам звука, и сразу за ним второй, словно бы от детонации. Впечатление было такое, что взорвался армейский склад боеприпасов. Но, конечно, это опять постаралось эхо, многократно увеличив объемность взрыва. Тем не менее, остановившись и оглянувшись, я увидел, как остановились в беспокойстве и наши преследователи. Я не мог предположить, что там такое произошло. Я лично никаких сюрпризов в той стороне не планировал. Я запланировал сюрприз другой, и прозвучавший не вовремя взрыв остановил боевиков в непосредственной близости от моего сюрприза. Однако отменять свою задумку я не думал, и потому, улегшись за бруствером, как первоначально и собирался, не стал полагаться на то, что чья-то неосторожная нога зацепится за мою «растяжку». Я поставил «растяжку» так, чтобы граната под корнем сосны, что в основном и держала корпус вертолета, могла взорваться и от легкого высвобождающего движения крупного, но неустойчиво устроенного камня. И я сразу вставил в свой «подствольник» единственную, имеющуюся у меня гранату.
– Что там грохнуло, товарищ старший лейтенант? – почти с восторгом спросил младший сержант Отраднов.
– Я хотел у тебя поинтересоваться.
– Может, Одинцов что-то сотворил.
– Может… Боевики его за спиной оставили. Он мог уже и двинуть в путь. Как его зовут?
– Кажется, Максим…
– Молодец, Максим Одинцов, если это в самом деле он…
* * *
Но пока нам было не до гаданий. Взрыв за спиной не остановил наступающий порыв бандитов, хотя на какой-то момент и затормозил его. Вовремя, кстати сказать. Мы как раз позицию за бруствером заняли и разобрали между собой бойницы.
Боевики вперед двинулись с прежним рвением, может быть, даже более озлобленные и обеспокоенные, а оттого отчаянные. Я буквально шаги их считал. И рукоятку своего автомата в плечо упер, чтобы как следует прицелиться по камню. Момент я выбрал подходящий. Выстрел «подствольника» прозвучал угрожающе, на пару секунд заложило ватным шумом уши, но я на это привычное состояние внимания не обращал, я вперед смотрел и убедился, что выстрелил точно. Камень вздрогнул основательно, разбрасывая осколки своего тела вместе с осколками гранаты, и за этим звуком почти неслышимым остался взрыв гранаты на склоне и треск сосновых стволов. Боевики не смогли сразу понять, что происходит. Они не остановились раньше, но остановились тогда, когда спасти их могла только быстрота ног. То есть сделали все так, как я и рассчитывал, но не так, как следовало бы им поступить, чтобы спастись. Сначала в узкую полосу дна ущелья упали стволы сосен, потом, ломая их, корпус вертолета.
– Пулеметчики! По бензобакам! – скомандовал я.
Но это было лишним. Если бензобаки не взорвались, когда мы так удачно застряли среди сосен, то они взорвались сейчас от удара о землю раньше, чем мы стрелять начали. Удар был мощным, хрустящим и звучным, где-то металл ударился о металл, выбивая искру, и этого хватило – звук взрыва и последующий выплеск брызжущего во все стороны жидкого пламени производил впечатление праздника. И только после этого я увидел, что большая часть боевиков все же успела проскочить и оказалась между пламенем и автоматно-пулеметным огнем. Я выстрелил секунды на две позже, чем следовало, и этим дал некоторым возможность еще какое-то время пожить. Вопрос заключался только в том, насколько продолжительным может быть это время…
Проскочив место, где они ощущали себя сидящими на раскаленной сковороде, боевики залегли. Их осталось чуть больше трех десятков. Все равно сила немалая, в два раза превышающая нашу. Тем не менее идти штурмом на каменный бруствер было бы самоубийством.
Боевики поняли это…
Но позиционный бой мог затянуться надолго, а это не устраивало ни их, ни нас. А иного выхода не было, потому что и отступать им было некуда – за спинами во всю ширину ущелья бушевало пожирающее даже камни пламя…
2. Капитан Вадим Павловский, пограничник
Каждый раз, когда Ксения вмешивалась в мои дела, у меня случались неприятности, и только моя вина, что я каждый раз снова и снова допускал это…
Хотя, по большому счету, неприятности у меня начались не тогда, когда она в мои дела вмешиваться стала, а раньше, уже тогда, когда я с ней познакомился. Она сама, если честно разобраться, была сплошной ходячей неприятностью. Знакомство состоялось на вечере в училище погранвойск. Туда всегда местные девки толпой валили, потому что выйти замуж за пограничника считалось престижным. Профессия военного, после многих лет загона, снова стала иметь популярность, почти как в советские времена. А профессия пограничника и в годы развала армии не много потеряла. Ну, может быть, просто в городе традиция такая была, не знаю… Или в семье у меня слышались только такие разговоры, потому что и дед мой был офицером пограничником, и отец в звании майора преподавал в том же училище, где я учился. Короче говоря, познакомился я с Ксенией на вечере. Впечатления она на меня не произвела просто потому, что впечатление производить ей было нечем, но, как часто с парнями бывает, я, как человек свободный от всяких обязательств перед другими, не отказывался от встреч с нею. А потом, когда попытался это сделать, оказалось, что такое невозможно. Сначала Ксения заявила, что она, кажется, беременна. Это послужило ей предлогом, чтобы начать разговор о браке. Это потом выяснилось, что беременности не было, а был только предлог. Тем не менее разговор зашел. А когда прозвучал мой категоричный отказ, она вовсе не смутилась и заявила, как потом заявляла часто:
– Все равно по-моему будет…
Нажим пошел со стороны, с которой я никак не ожидал. Пришел к нам в казарму мой отец, вызвал меня, в сторону отвел, долго молчал, потом спрашивает:
– За что ты меня так подставляешь?..
– Ты о чем? – не понял я.
– Я о Ксении.
– А ты здесь при чем?
– Вот ничего себе, при чем я! – возмутился отец. – Меня начальник училища сегодня вызывает, так, мол, и так, твой, майор, сын… С его, генерала, дочерью… Она беременна, а он жениться не хочет…
– Ксения – дочь нашего генерала? – удивился я.
– Ксения – дочь нашего генерала… – подтвердил отец.
– Тогда тем более не буду…
– Что – не будешь?
– Жениться не буду.
– Куда ты денешься… Из училища вылететь хочешь? И меня раньше времени в отставку? У меня еще выслуги не хватает, чтобы на пенсию уйти. Заварил кашу, сам теперь расхлебывай. Не я же должен…
– Но…
– Завтра перед занятиями пожалуй, товарищ курсант, к начальнику училища в кабинет. Хочет с тобой побеседовать лично. У меня все. Решай сам, но об отце тоже подумай…
И я увидел вдруг, что он внезапно стал старым…
Я в те курсантские времена еще не был таким уставшим от жизни человеком и вполне мог бы воспротивиться подобному насилию над собой. Я бы даже, пожалуй, с училищем расстаться решился. Если бы не отец… Он ведь так гордился династией пограничников…
Меня, короче говоря, сломали…
Все равно стало так, как она сказала…
Но я еще тогда был уверен, что это ненадолго…
Я и сейчас уверен, что это ненадолго…
* * *
Чтобы не разговаривать с Ксенией, которая опять начала что-то шипеть, хотя я не слушал откровенно и демонстративно, я отошел по тропе дальше, почти половину дистанции до корпуса вертолета одолел. Да и хотелось посмотреть, как будет строить бой старший лейтенант Воронцов. Мне было видно только частично, что происходит, тем не менее я мог составить общую картину боя. В душе два чувства: я хотел увидеть, оценить и понять, сумел ли бы я сам так бой построить. Второе, и я не сразу осознал это, хотел и поучиться. Признаюсь, что объяснение отца Валентина относительно стрельбы по вертолету меня весьма даже охладило, сразу поставило все на свои места. Воронцов очень точно и доказательно вычислил принадлежность вертолета вовсе не федеральным силам. И я признал, что сам должен был бы это сделать, но не сделал, потому что не имею опыта и не умею правильно оценивать ситуацию, когда требуется не на свои надежды ориентироваться, а на существующее положение вещей. Выводы старшего лейтенанта были просты. Но самое простое часто и является самым сложным. По крайней мере, для меня. И конечно, командовать здесь, в нашей ситуации, должен именно старший лейтенант Воронцов. И именно он, если мы выкрутимся, должен получить награду за то, что будет сделано. А если не выкрутимся, то это уже и значения не имеет. Но выкрутиться тогда, когда всеми силами командует и ведет боевые действия Воронцов, шансов несравненно больше, чем если бы командовал я. И старший лейтенант нашел удачный предлог для того, чтобы меня, не ущемляя моего достоинства и самолюбия, отстранить от попыток стать первым действующим лицом. Контузия… Голова болит неимоверно, а еще больше болит от общения с Ксенией… И потому я предпочел уйти, чтобы и от нее избавиться, и бой со стороны посмотреть, чтобы самому себе дать оценку, хотя я уже почти смирился с тем, что не могу конкурировать со старшим лейтенантом в военных навыках. Нет у меня этих навыков, потому что воинская специальность у меня другая.
* * *
Залп подствольных гранатометов был, очевидно, призван не только для того, чтобы преимущество обеспечить и обезопасить отряд от обстрела со скалы. Бандиты еще и свою мощь показать хотели. Этот залп по своему долгому звучанию мало чем уступал артиллерийскому обстрелу. Эхо постаралось… И впечатление соответствующее создалось. У меня даже появились опасения за целостность здешних гор. Оползни в горах – дело не редкое. Услышали его, я думаю, далеко за пределами даже нижнего нашего поста. И на всех он впечатление произвел соответствующее.
Кроме, мне подумалось, старшего лейтенанта Воронцова и его парней…
Если боевиков я видел за ветвями деревьев едва-едва, то спецназовцы в засаде мне были хорошо видны. И внизу, где сам старший лейтенант устроился с одним из солдат, и на противоположном склоне, где выбрали себе точки пулеметчик и два автоматчика. Должно быть, и на нашей стороне тоже кто-то позицию занял удобную, чтобы вести убийственный огонь. Так и получилось. Грохот взрывов многочисленных гранат и эхо от этих взрывов не улеглось еще, и Воронцов удачно воспользовался моментом, когда начало его обстрела не произведет на боевиков впечатления. То есть, когда они еще не услышат очереди и среагируют только тогда, когда падать начнут, грубо говоря, пачками. В этой обстановке общего гула и шума даже команду отдать невозможно. Так и получилось. Боевики понесли потери такие, каких даже я не ожидал, и все потому, что старший лейтенант Воронцов удачно выбрал время для начала обстрела. Они в эйфории от собственного мощного залпа находились, а после эйфории трудно перестроиться и трудно быстро среагировать. Тем не менее они среагировали…
Но реакция боевиков была бесполезной. Воронцов со своими солдатами отходил грамотно и без потерь, не подставляясь. Одним словом, организованно и слаженно. Заметна была сработанность. И опять я убедился, что я был бы на месте Воронцова чужеродным телом, но никак не командиром подразделения с высокой боевой готовностью. Спецназовцами командовать должен спецназовец более высокого уровня – это однозначно…
* * *
Я отслеживал весь ход боя и дальше, постепенно сдвигаясь ближе к лагерю, чтобы не угодить под неприцельный обстрел. Боевики склоны тоже прочесывали очередями, и пуль не жалели. И резким контрастом их манере стрельбы звучала встречная стрельба спецназа. Причем со стороны все вовсе не выглядело так, что спецназовцы берегут патроны. Просто они стреляли прицельно. Охотник на охоте, чтобы убить утку, не расстреливает в камыши весь патронташ. Его ружье стреляет только тогда, когда видна цель. Точно так же стрелял и Воронцов со своими солдатами, причем стреляли они весьма даже успешно. А уж диверсионная акция, ради которой я и покинул лагерь, произвела впечатление большее, чем залп из шестидесяти «подствольников». Но если падение корпуса погибшего вертолета произвело впечатление на меня, я представляю, какое впечатление оно должно было бы произвести на боевиков. К моему удивлению, все же многие из них уцелели и смогли вырваться из зоны пламени. Но они оказались запертыми в ущелье с одной стороны этим самым пламенем, с другой – каменным, прочно сложенным, хотя и без раствора, бруствером, за которым залегли спецназовцы. При этом сами боевики бруствера не имели и не имели времени и возможности, чтобы его сложить. То есть, хотя и залегли, оставались все же открытыми для обстрела. И уж совсем открытыми для выстрелов с более высокой позиции. Даже я увидел возможность для дальнейшего проведения боя, а уж старший лейтенант Воронцов увидел ее тем более. И я в этом вскоре убедился. Сам старший лейтенант остался с солдатами внизу, но выслал на склоны, на верхнюю позицию, по пулеметчику на каждую сторону. Я видел, как крадучись, пригибаясь, иногда даже ползком, забирался на склон почти ко мне младший сержант. Отраднов, кажется, его фамилия. Я слышал, как называл его Воронцов. И точно так же на противоположный склон взбирался второй пулеметчик. Конечно, в этом месте склоны были и круче, чем в других, и имели мало растительности. На такой крутизне деревьям держаться трудно, несмотря на всю прочность их корней. Правда, держались невысокие и более легкие кусты. За них пулеметчики и прятались. А оставшиеся внизу спецназовцы не давали бандитам не то что оружие, а даже голову поднять, чтобы рассмотреть нависающую над ними угрозу.
А угроза нависла серьезная, к тому же сдвоенная. При стрельбе с одного склона бандиты могли укрыться внизу, но при той расстановке пулеметчиков, которую выбрал старший лейтенант, простреливались все, грубо говоря, углы и спрятаться было просто негде. Главное, чтобы бандиты самих пулеметчиков не достали. А достать они могли, особенно из гранатометов. Но здесь уже страховку должны были обеспечить оставшиеся внизу, потому что для любого прицельного выстрела из «подствольника» требуется хотя бы немного привстать. Конечно, можно стрелять навесом, лежа на спине и уперев приклад в землю. Но расстояние для навесного выстрела слишком мало, и здесь можно послать гранату «свечой». А такая граната, как известно, падает почти туда, откуда вылетела.
И все же бандиты прочувствовали, видимо, опасность. Это я понял по тому, как они засуетились. Даже лежа в боевой позиции, именно засуетились. И главным движением, характерным для всех без исключения, было оборачивание на полыхающее за спинами пламя. Кто-то из них, видимо, увидел пулеметчиков. Или просто предположил по логике боя, что спецназовцы сделают именно такой единственно правильный в ситуации шаг. Они бы и сами такой шаг сделали, если бы не постоянная готовность парней за бруствером. Трижды бандиты пытались подняться и прорваться в сторону склона, но все три раза короткие рваные очереди валили наиболее смелых и активных, а бруствера, за которым можно было бы совершить перемещение, у них не было.
Если бы пламя за спиной стало хотя бы наполовину слабее, бандиты наверняка предпочли бы отступить, несмотря на свое значительное численное преимущество. Не совсем, конечно, отступить, чтобы отказаться от попыток таких самоубийственных атак, а с целью произвести перегруппировку и найти новые пути ведения боя, возможно, полностью тактику изменить. Это даже издали было заметно. Оглядывание – это всегда признак нерешительности и неуверенности в своих силах, которые требуют передышки и перегруппировки. Но они не имели возможности отступать, и потому должны были искать другие варианты. Я лично вообще видел единственный вариант спасения для них – оружие сложить, на что они, конечно же, не пойдут. А это значит, что бандиты остаются в безвыходном положении. Но старшему лейтенанту Воронцову в этот момент следует быть особенно осторожным, потому что безвыходное положение часто рождает отчаяние. В отчаянии у человека силы удесятеряются и он способен совершить то, что не может сделать в состоянии нормальном.
Но пока бандиты попытались опять прибегнуть к уже испытанному методу. Должно быть, кто-то дал команду, и мне было видно, как они заряжают «подствольники». Новый залп не был уже таким дружным и сильным, да здесь и не требовалось давать непременно такой. Причем опять часть боевиков стреляла по брустверу прямой наводкой из положения лежа, не жалея свои плечи, которые в таком положении получают сильнейший удар; другие – стреляли навесом. Но выстрелы навесом, из опасения сделать «свечу», получились такими, что гранаты легли в долине далеко за пределами бруствера, а выстрелы прямой наводкой не смогли пробить даже брешь в бруствере, хотя, конечно, осколки камней и гранат полетели в разные стороны, не причинив вреда спецназовцам. Бруствер вздрогнул, но выстоял, потому что камни укладывались плотно, хотя они были разнокалиберными, но это было даже преимуществом, потому что такие камни, как правило, амортизируют удар и не передают его дальше.
И в этот момент одновременно заговорили пулеметы со склонов. Я, наблюдая за боевиками, как-то выпустил пулеметчиков из вида. А они устроились на относительно приемлемых позициях, отыскав каждый для себя более-менее удобное и для стрельбы, и для укрытия место, и сразу сделали положение боевиков угрожающим. Причем стрелять пулеметчики начали опять в тот момент, когда звуки взрывов и эхо от этих звуков еще гуляли по ущелью. То есть бандиты опять не сразу поняли, в какой опасности они находятся. А когда поняли, уже понесли новые потери, потому что расстреливали их с достаточно короткой для пулемета дистанции, а если учесть скорострельность пулемета в сравнении с автоматами боевиков, то даже времени на отстреливание им было отпущено слишком мало. Была, наверное, в первый момент у бандитов возможность в отчаянный прорыв пойти. Но сделать это следовало в самый начальный момент пулеметного обстрела, пока потери были еще не такими большими. Однако тот, кто боевиками командовал, или не сообразил этого, или просто не решился, понимая, что до бруствера большинство не добежит. Вместо этого боевики снова попытались отстреливаться из «подствольников», теперь уже даже не пытаясь произвести залп. Но даже провести прицельный выстрел им не позволили. Спецназовцы за бруствером внимательно следили за противником, и каждый, кто пытался подняться, сразу попадал под несколько очередей. Потери были катастрофическими. Если эта группа раньше готовилась пойти на прорыв через перевал, то теперь о прорыве и мечтать не стоило, потому что самой группы, можно сказать, практически не существовало. И с каждой минутой боя численный состав ей уменьшался.
Я сверху хорошо видел и завершающий момент. На какое-то мгновение бандиты даже отстреливаться перестали, потом начали вставать в полный рост. Это была странная картина. Боевики вставали, не боясь быть расстрелянными. Но они вставали. И несколько человек, встав, тут же упали под пулями. Но вставали другие. Я насчитал девять человек – это все, что осталось от шестидесяти… Они вставали и презрительно отбрасывали в стороны автоматы. И даже спецназовцы внизу, даже пулеметчики на склонах перестали стрелять, не понимая, что происходит. Нам всем, конечно, не было слышно, но видно было, как один человек говорил. И говорил недолго. А потом все девять человек повернулись к брустверу спиной и не спеша, вразвалку, но уверенно пошли туда, откуда пришли, словно не было там огня, словно не было там разлитого и пылающего авиационного топлива. Они шли прямо в огонь, шли на страшную смерть, но шли без страха…
И никто не стрелял в них… К такой решительности даже у лютого врага можно относиться только с уважением…
* * *
Первым моим побуждением было спуститься к спецназовцам во главе со старшим лейтенантом Воронцовым и поздравить командира с победой. Я даже мысленно так называл его – командиром, хотя совсем недавно всерьез задумывался над тем, чтобы взять бразды правления в свои руки, как мне и полагалось по званию. Но, не знаю почему, я постеснялся того, что наблюдал за исходом боя, не участвуя в нем. У меня даже автомата не было не только при себе, у меня его не было даже в лагере. Правда, там были свободные автоматы, целых два, но все патроны унес отец Валентин, и помочь мне спецназовцам было совершенно нечем. И я был в роли постороннего наблюдателя, не имеющего возможности вмешаться в ход событий, даже если бы очень хотел этого. Чем-то наподобие зрителя на трибуне римского амфитеатра, а подо мной располагались гладиаторы. Так мне это показалось, когда бой закончился, и я такой роли стеснялся.
И потому я заспешил в лагерь, чтобы оказаться там раньше, чем вернется со своей группой старший лейтенант Воронцов, если он захочет вернуться, оставив позицию. А оставить ее можно, потому что верхнюю часть ущелья защищает огонь, и гореть останки вертолета будут еще, судя по всему, долго. Кроме того, согласно подсчетам самого старшего лейтенанта, боевиков в верхней части ущелья почти не осталось и они не могут представлять серьезной угрозы. Угрозу может представлять только группа в нижней части, где командует лейтенант Соболенко, и основные силы, конечно же, следует перегруппировать туда.
В лагере, на самом краю, у тропы, меня уже встретила Ксения…
* * *
Мне никто из друзей по училищу не говорил этого открыто, но после свадьбы с дочерью нашего генерала отношение ко мне со стороны всех, даже наших командиров, изменилось. Я это предполагал заранее, и сам бы изменил свое отношение к товарищу, который женился на дочери своего начальника училища, не испытывая к ней никаких чувств, более того, испытывая даже отвращение и к манере давления, когда ей хочется непременно добиться своей цели, и к внешности, о которой она сама, как привычная дура, относилась иначе. Командиры и преподаватели стали со мной заметно осторожнее в обращении, хотя строгостью и раньше не отличались, поскольку все были сослуживцами отца, и знали об этом, а вот друзья-курсанты стали более сдержанными в общении. Из нормального парня я насильно стал записным карьеристом, который через все переступит ради своей будущей службы. Я же таким не был, я вообще, как мне казалось, был неплохим парнем, но объяснять ситуацию друзьям я тоже не стал. Или постеснялся, или гордость не позволила… Карьерист, так пусть карьерист. От карьеры всякий не откажется, и о хорошей карьере всякий мечтает… Плохого в этом нет ничего. Плохое может появиться тогда, когда методы, грубо говоря, делания карьеры становятся сомнительными. Меня таким «сомнительным» и видели. Я не отказывался. Как бы ни называли, главное все же в том, что я сам о себе думаю. Люди всегда судят по внешним поступкам, как и по внешности человека вообще оценивают. А он внутри может совсем другим оказаться.
Но даже дома Ксения постоянно твердила мне одно и то же:
– Я помогу тебе сделать карьеру.
Она не говорила про отца, хотя я думал, что она именно это имеет в виду. Она про себя говорила, хотя и отца тоже имела в виду, но в себе все же видела основу. Она себе уготовила роль «вечного двигателя», в котором я, по большому счету, вовсе не нуждался.
Семейная жизнь не скрасила мое существование.
Относительно беременности разговора больше не заходило. А когда я спросил напрямую, Ксения только плечами пожала:
– Мне тогда показалось…
Училище я благополучно закончил. И служить поехал, благодаря стараниям Ксении и ее отца, на вполне приличное место. Там уже я начал думать о разводе. Она меня просто раздражала, и я уверен был, что мы не будем жить вместе. Время от времени мы разбегались в разные стороны. Периодически. Но каждый раз она возвращалась. О своей беременности Ксения больше не заговаривала. Ни разу… И я был только рад этому, потому что ребенок мог бы связать нас более крепко, а мне не хотелось этого… О ребенке разговоры, кстати, были. С ее стороны. Ксения понимала, что это способ удержать меня. Но это были разговоры о ребенке, но не о беременности. А это вещи разные…
И еще она постоянно лезла в мои служебные дела. Лезла и все портила. Портила мне отношения и с сослуживцами, и с командованием. И при этом постоянно отцу названивала, чтобы отец со своей стороны своим друзьям звонил, которые могут на мое командование надавить. И потому командование погранотряда на границе с Казахстаном, где я служил, очень даже обрадовалось, когда я подал рапорт с просьбой перевести меня в другую часть. Ксения об этом не знала. Когда документы были уже почти готовы, я инициировал очередной разрыв отношений. И уехал, не сообщив ей, куда…
Впрочем, ее отцу было нетрудно это выяснить. Он выяснил. Она приехать не могла или не хотела семь счастливых для меня месяцев. Я не имел информации о том, что с ней происходит, чем она занимается и даже о том, где живет. Более того, я завел себе подружку, с которой можно было не заботиться о том, что отношения перерастут в серьезные. Но однажды эта подружка сказала мимоходом:
– Я раньше даже от простого карандаша забеременеть могла. А с тобой – никак…
Сначала я пропустил эту фразу мимо ушей. И только потом вспомнилось, и появилась мысль – почему не беременела Ксения. Эта мысль привела к врачу.
– Лечиться надо… Бесплодие сейчас лечится… – сказал врач.
Приятного в этом сообщении было мало, потому что я ощущал себя нормальным мужчиной. И думал о том, что лечиться надо. А потом был звонок начальнику погранотряда от генерала, отца Ксении. А потом и сама Ксения приехала. С неприлично большим для ее мелкой сутулой фигуры животом… И объявила, что я вскоре стану отцом. Она объявила… Мне очень хотелось поверить, потому что отцом стать я все же желал, хотя и не горел желанием, чтобы матерью стала Ксения. Но все же готов был смириться и надеялся на врачебную ошибку. Это привело меня к тому же врачу. Врач выслушал и посмотрел на меня с усмешкой. Снова перелистал результаты анализов. Очки поправил.
– Это, к сожалению, случается в семейной жизни часто… Но я не ошибся…
И все же я решил проверить еще раз. У другого врача, у более квалифицированного. Для этого и взял отпуск, куда полетел вместе с Ксенией. Ей я все сказал…
* * *
Я не хотел с Ксенией разговаривать, но ей поговорить, как всегда не вовремя, очень даже хотелось. Даже рот раскрыла, чтобы что-то сказать или спросить, но я решительно шагнул мимо, и не к лагерю свернул, а двинулся к нижнему заслону. Если ходил к верхнему, почему же к нижнему не сходить. Там отчего-то тишина стоит неестественная. И не нравится мне эта тишина…
Глава 2
1. Ширвани Бексолтанов, самодостаточный эмир
– Челюсть-то мне не привязывай, она не оторвалась еще…
– А как еще перевязать? Поперек не получится, не покроем рану. Она длинная…
– Тогда вообще не перевязывай. Пластырем салфетки и вату приклей, и хватит.
Санинструктор только плечами пожал и стал делать то, что я ему приказал.
Вот проклятые спецназовцы… Этого я им не прощу… Никогда…
При всем своем мужском отношении ко всякого рода ранениям, я вообще-то всегда трепетно отношусь к своей внешности и стараюсь выглядеть привлекательным. Я люблю нравиться женщинам. Я вообще люблю нравиться. Мне всегда говорили женщины, что я красив. И что теперь со мной стало…
Мы облетали все позиции благополучно. По крайней мере, в одну сторону благополучно пролетели и даже покружили над группирующимися джамаатами Геримхана Биболатова, и я поговорил коротко с ним по телефону, передав то, что успел рассмотреть.
– Ширвани, ты опытный командир. Возглавь атаку в нижнем ущелье. Их следует выбить.
– Нет, Геримхан, – отказался я. – Я уже не эмир. У тебя там много эмиров…
– Там – пять человек. И все друг с другом не ладят, все стараются стать первыми. Они только мне подчиняются, но не друг другу. Тебе бы тоже подчинились. Ты – авторитет. По-прежнему… Сам знаешь…
Геримхан откровенно льстил. Он просто хотел прочно ввязать меня в эту историю. Настолько прочно, чтобы мне потом осталось только одно – пойти с ним в прорыв через перевал, потому что дома меня уже дожидались бы с наручниками. Однажды мне всякими правдами и неправдами, «подметанием» свидетелей и выплатой солидных сумм удалось наручников избежать, и вовсе не для того, чтобы потом доставить удовольствие человеку, которого я мечтаю пристрелить…
Обстреляли нас только на обратном пути, обстреляли там, где мы пролетали пять минут назад без всяких подозрений среди наземных стрелков. Как могли спецназовцы вычислить, кто в вертолете со значком МЧС находится, ума не приложу. Не могли они вычислить. Никак не могли? Оставалось думать, что в группе у Геримхана есть кто-то, кто находится на прямой связи со спецназовцами. Или кто-то из второй группы в нижней части ущелья, где я своих парней высадил. Информация прошла и ушла дальше, к спецназовцам. Но эта связь возможна только в варианте спутникового телефона, поскольку сотовой связью в этих местах никогда не пахло. Пулеметы нам сразу неприятности доставили, потому что обшивку в нескольких местах пробили, но Рауф попытался от очередей уходить и болтать машину из стороны в сторону. Это помогло. Но все же обшивку нам еще дважды рвали. А потом, когда уже подумали, что прорвались, одна пуля, но, хвала Аллаху, не очередь, меня настигла. Она вообще как-то по дурному пролетела. Я как раз наклонился, чтобы за стекло выглянуть, когда пуля пробила дверцу, широкой полосой прорвала мне щеку, вырвала кусок кости из скулы и, по сути дела, почти оторвала ухо, от которого осталось только два кусочка снизу и сверху. Но мне еще, как я считаю, чрезвычайно повезло… Сантиметр бы в сторону, и пуля пробила бы висок. Мне со спецназовцами ГРУ вообще везет. Тогда, когда мы от офицерской группы своим джамаатом уходили, меня две пули настигли. Одна в правый каблук, вторая в левый… Похоже на издевательство, но я не верю, что есть на свете такой стрелок, который может себе подобное издевательство позволить – расстрелять человеку на бегу каблуки… Я тогда сильно обозлился, и это стоило федералам нескольких незапланированных ранее вылазок джамаата. А каждая вылазка – это человеческая жизнь, и не одна, как правило… Сейчас, после того как мне лицо изуродовали, у меня вдруг появилось громадное желание за прежнее взяться и новые вылазки организовать. Люди есть, и не все нам деньги зарабатывать. Неплохо было бы заработать и славу…
Но это после…
– Ты из меня всю кровь выльешь, – сказал я Рауфу. – Не можешь прямее лететь? Уже давно не стреляют.
Мы уже миновали позиции, с которых нас обстреливали. На второй и на третьей позициях, как мне показалось, стрелять и не собирались, на третьей вообще нам лапками махали. Но я, несмотря на ранение, успел все же за окно глянуть внимательно и увидел направляющегося от центрального лагеря в сторону линии обороны священника. Черную рясу трудно спутать с камуфлированным костюмом спецназовца. Священник нес что-то, завернутое в тряпку, и меня посетило ощущение охотника, который видит дичь, за которой давно гоняется. То есть, конечно, я уже знал, что это был лжесвященник. Но я обратил внимание даже на то, что этот лжесвященник идет с автоматом в руке. Но мы быстро мимо него пролетели, и рассмотреть подробнее главный объект своего любопытства я не сумел.
– Рад бы, да машину повредили… Как я теперь отчитываться буду?.. Ох, нагреют меня…
– Тебе заплатят, – сказал я категорично, хотя сам в этом уверен не был, поскольку разговора о возмещении риска не было.
– Кто?
– Кто в первый раз платил, – сказал я.
– Замминистра? – хмыкнул Рауф. – С него повышения категории-то не вытрясешь. А там деньги не его. Он и с первой суммой полчаса торговался.
Значит, Рауф получил приказ от своего замминистра. Это уже информация, которую я не знал. И следующий вывод напрашивался сам собой: Уматгирей имеет непосредственное влияние на некоторых членов правительства. Это радовало, и в дальнейшем это можно будет использовать при необходимости…
– Мне надо садиться, чтобы машину осмотреть. Иначе могу вообще не долететь…
– Садись. Мне тоже надо на землю.
– А где здесь сесть можно?
– Где можно, там и садись.
– Есть, кажется, площадка…
* * *
– Готово. Будете, скорее всего, жить, эмир. И только красивее станете. Легендами обрастете. Вас в ментовских сводках будут называть Человеком со шрамом.
Санинструктор позволил себе даже улыбнуться и пошутить. Будь это санинструктор из моего джамаата, я бы ему точно такой же шрам за шуточку оставил, чтобы в сводках путаница получилась и какие-то из моих грехов на него списали. Но с чужим человеком я так поступать не стал, хотя сказал о своем желании публично и посоветовал ему знать свое место. Санинструктор отошел с легкой обидой. А он, козел, хотел за свое хамство благодарности?!.
Здесь же все пять эмиров стояли. Ждали моих действий, как ждали бы приказаний. Геримхан говорил, что у него нет связи с этой стороной ущелья. Но они словно бы знали о его желании поставить здесь командовать меня. Я не стал бы командовать. Я бы просто своим делом параллельно занимался. Но дурацкая рана меня озлобила.
– Что стоите? – спросил я не слишком ласково. – Я не генералиссимус Сталин. Садитесь. У кого здесь среди вас есть спутниковые телефоны?
Эмиры переглянулись. Один за другим головами помотали. Все правильно. Это я на всякий случай спросил. Геримхан говорил, что связи нет, значит, спутниковых трубок нет. Я вытащил свою трубку, набрал номер Биболатова и сразу включил на трубке громкоговоритель.
– Геримхан, ты видел, что произошло?
– Тебя обстреляли. Я так понял. Пулеметные очереди слышал, но моих людей там не было, значит, стреляли в тебя… Догадаться не трудно.
– А почему меня обстреляли? Почему раньше не стреляли, а потом стали стрелять?
– Почему?
– В твоем окружении есть человек со спутниковой трубкой?
Биболатов на секунду задумался.
– И что?.. – спросил осторожно.
– Пока мы с тобой разговаривали, кто-то позвонил спецназовцам и предупредил, кто в вертолете. Иначе не могло быть…
Молчание длилось еще десяток секунд.
– Что задумался? – спросил я.
Трубка в ответ донесла звук выстрела.
– Был у меня такой человек. И он как раз, вроде бы, разговаривал по трубке, когда мы с тобой говорили. Он часто звонил своему дяде в Турцию…
– А дядя был совсем рядом, в той же долине. Только это не только не Турция, это еще даже не Грузия…
– Аллах распорядится его душой… – сказал Геримхан. – Он и без того воду в отряде мутил. Ему моей власти хотелось. Я так думал… А он просто хотел помешать нам стать сильным отрядом, хотел разбить нас на группы и увести своих друзей…
– Я рад, что проблема решена. Я принял твое предложение. И подумаю, что можно сделать с этой стороны. Что ты планируешь?
– Я выступаю почти всеми силами – осталась незадействованной только дальняя разведка у перевала, пятнадцать человек, и еще здесь четыре человека, на базе. Они чуть позже вступят… Сейчас пошли за гранатометами и гранатами, которые я раньше в сторону перевала отправил. Но при этом, учитывая первый плачевный опыт, выступаю и со всеми мерами предосторожности. Но пойду, будь спокоен, уверенно, как на танке. Я просто уничтожу все живое вокруг. Чтобы спецназом здесь больше не пахло…
– Надеюсь, у тебя получится, – ответил я довольно вяло, что явно контрастировало с его пионерской приподнятой бодростью. Наверное, Геримхан в детстве был активным пионером. По возрасту он должен был им быть.
– Что ты сделаешь?
– Еще не знаю. Я ранен в лицо, меня только что перевязали. Мне следует самому сказать эмирам, кто теперь ими командует, или ты хочешь объявить это?
Эмиры слушали наш разговор внимательно. И поняли, о чем идет речь. Они сами ждали этого и желали этого, потому что подчиняться друг другу не хотели, считая каждый себя выше других, но мой авторитет был значительно более высоким, чем у них у всех, вместе взятых.
– Я думаю, они уже согласны.
Эмиры услышали.
– Согласны, согласны… – закивали головами.
Значит, вопрос уже обсуждался в то время, пока я летал над позициями спецназовцев. И эмиры пришли к самостоятельному согласованному решению.
– Тогда, Геримхан, ты начинай, я познакомлюсь с обстановкой и тоже вступлю…
– Я хотел бы начать одновременно с тобой. Мы уже выступаем… Нас время поджимает…
Хорошенькое дельце! Он что, считает меня просто «пушечным мясом»? Легко сказать – выступай… Я даже не знаю, сколько у меня стволов, какое вооружение и на что способны мои бойцы. Вдруг все они повара и санинструкторы, которые только время от времени берут автомат в руки, между моментами, когда следует мешать кашу в котле или делать очередную перевязку.
– Это исключено. Я должен присмотреться к тем, кого в бой поведу. И я не вижу необходимости в одновременной атаке…
– Ты услышишь ее. Ты обязательно услышишь. Жди… Это будет сигналом, и сигнал внесет панику в ряды спецназовцев. Поторопись, моя разведка уже дает сигнал к общему выступлению. Я пошел. Тебе же будет проще.
– Я тебе уже говорил, что с этой стороны прорваться очень сложно, – возразил я. – Нужна определенная подготовка и какая-то хитрая мысль. У меня пока такой хитрой мысли нет. А бесполезно положить людей…
– Это нас не устраивает. Тогда лучше жди, когда я с другой стороны подожму…
Я действительно, еще после первого осмотра с вертолета, уже говорил Геримхану, насколько сильна в нижней части ущелья позиция спецназа. Кажется, сразу он не проникся пониманием. Но я нашел хороший ход. Людей Геримхан старается беречь. Без людей он не сможет осуществить прорыв.
– Поджимай. Так мы можем обойтись без больших потерь. Об одном прошу особо. Мне нужен груз священника. Я только ради этого сюда прибыл. Своих мальчиков предупреди, чтобы не набезобразничали…
– Я обещал и тебе, и Уматгирею. Я пошел…
– Меня в курсе дела держи.
– Я обязательно позвоню, как только будет что сказать…
– Хорошо, я звонить не буду, чтобы не отвлекать…
– Договорились…
* * *
Возможность для атаки у отряда Геримхана в любом случае лучше, чем у моего отряда. Это я оценил еще во время воздушной рекогносцировки. Ему есть, по крайней мере, где идти, есть, где спрятаться, если потребуется спрятаться для подготовки неожиданной засады. И лучшим вариантом развития событий будет, если Геримхан перебьет спецназовцев со своей стороны, а потом перейдет и на нашу и выдавит заслон под наши выстрелы. Здесь главное, чтобы он сам под наши очереди из-за поворота не сунулся. Там, при атаке с той стороны, у Геримхана уже будет убойная позиция, тогда как сейчас убойная позиция у спецназовцев в отношении нас. И если спецназовцы, отступая, сами попытаются от Геримхана за поворот сунуться, то опять же убойная позиция, точно такая же, как сейчас у них, у нас будет.
В небе опять загрохотало. Но гроза нас щадила.
– Ширвани, если лететь, то надо уже вылетать. Нам до ночи следует выбраться из гор, – сказал подошедший Рауф.
Я посмотрел на него, как на непонимающего ситуацию простачка. Рауф понял, но его все-таки мои дела касались мало.
– Не забывай, я не подписывался на участие в боевых действиях. Поиск закончен, я свободен, но хочу помочь тебе чем смогу.
– Тебе обязательно надо лететь? – спросил я.
– После того, как эти, – он кивнул за поворот ущелья, – продырявили мне вертолет, я думаю, меня со службы выгонят с треском. Могут и под суд отдать…
Я понял его правильно. Рауф боится возвращаться, но боится и не возвращаться. И ему необходим какой-то посыл, толчок, направляющий его в нужную сторону. И потому он завел со мной такой странный разговор. Он не просит, но ждет, чтобы я подтолкнул его…
Толкаться я умею…
– Тогда что ты там потерял? Начнут следствие, будут собирать на тебя все данные, докопаются, что ты в Азербайджане в розыске. Я бы на твоем месте полетел в Грузию, продал там вертолет, а потом отправился бы искать себе новый на новом месте службы.
– У меня есть такая мысль, Ширвани, – мягко склонил Рауф голову. – Пожалуй, я твоему совету последую. Что ты предлагаешь?
– Я не предлагаю тебе пойти с нами в бой. Я предлагаю проверить еще раз вертолет, отремонтировать все, что следует отремонтировать, и ждать, когда понадобится взлететь. Пока можешь даже поспать в кабине, никто тебя не побеспокоит.
Но побеспокоили раньше, чем Рауф ответить успел. По ущелью прокатился грохот, какого я еще не слышал, хотя много лет уже воюю. Конечно, я понимаю, что это эхо создало грохот, а в действительности это было что-то другое. Из чего-то стреляли, что-то взорвалось и звук усилился многократно. Усилился так, что все вздрогнули, даже я.
– Уснуть, пожалуй, не удастся, – сказал Рауф. – В той стороне слишком громко разговаривают. А ты можешь помочь мне найти покупателя на вертолет?
– Я обещаю попробовать… Есть мысли относительно одного состоятельного типа. Правда, этот человек, боюсь, пожелает купить машину вместе с пилотом, но, возможно, я смогу его уговорить на другие условия. А вертолетчика он себе найдет и в Грузии…
– Громко разговаривают, – повторил Рауф, прислушиваясь.
Прислушивались все, в том числе и я. Грохот, походящий на мощный артиллерийский залп, плавно перерос в активную автоматно-пулеметную стрельбу. Не слишком, надо сказать, активную, но все же достаточно интенсивную, если учесть, что спецназовцев было немного. Из этого я сделал вывод, что Геримхан, как и обещал, все свои силы бросил на уничтожение горстки надоевших ему несговорчивых людей. И активно подавляет все их попытки к сопротивлению.
Но я не стал терять время. Предстояло еще посмотреть, что за парней мне навязал Геримхан Биболатов. И проверить вооружение. И вообще подумать – может быть, можно что-то самому сделать, без Геримхана, чтобы поддержать свой авторитет. Какая-то мысль в голове вертелась, но я никак не мог за нее ухватиться…
* * *
Горы родные, но камни в них предатели… Шуршат под ногами, и даже дождь шуршание не скрадывает… Шаг, еще шаг… Все в напряжении и настороженности… Предельная концентрация, предельная осторожность… Чтобы никто не услышал…
В отличие от пяти недружественных друг другу эмиров в разведку я пошел сам, чтобы самому увидеть все, понять и ощутить. Только так можно потом правильное решение принять. Эмиры, памятуя о потерях в первом столкновении и зная привычную уже всем боевую готовность спецназовцев, со мной пойти не решились. Только отправили от каждого джамаата по разведчику. Я выбрался к самому повороту ущелья, хотя первоначально планировал дойти только до середины и чуть-чуть спуститься по склону – там заросли кустов, если хорошо пригнуться и не бояться натрудить ноги, позволяли пробраться скрытно. Только один из разведчиков решился пройти со мной до конца и, естественно, трое прилетевших со мной парней. Другие разведчики остановились на полдороге, то есть там, где я и собирался остановиться вначале. Они решили, что я не смелый, а просто дурак, и вперед иду только потому, что не понимаю величины угрозы. Более того, все они, включая моих разведчиков, были в камуфляжке, я же был в простом цивильном костюме, который был хорошо заметен среди зелени кустов, омытых дождями. И все равно я не боялся угрозы… Я понимал… Я всегда прекрасно понимал величину любой угрозы и только потому оставался во многих случаях в живых. Но любая угроза становится бедой только тогда, когда сам ртом воробьев ловишь и думаешь не о том, в каком месте может враг появиться, а о том, с кем сейчас твоя жена спит. Я никогда не был женат, и потому мне об этом думать не надо…
Шли осторожно, готовые к появлению федералов в любой момент. Птица бы неожиданно из-за поворота вылетела, мы бы и ее подстрелили, потому что настрой такой был – стрелять на всякое движение. Добрались мы до того самого места, где нос к носу столкнулись наши джамааты с готовыми к бою спецназовцами. Наши тоже, говоря честно, к бою должны были бы быть готовы, потому что шли и торопились на звуки перестрелки, что далеко по долине разносились. Но эта торопливость и подвела их. Звуки перестрелки слышались отчетливо и издалека, а люди, выросшие в горах, даже если им эхо мешает, умеют понимать, откуда этот звук идет. И они пока еще были непростительно расслабленны, собираясь подготовиться к тому моменту, когда окажутся к перестрелке ближе. Они еще ничего не знали о крушении вертолета. Они вообще узнали об этом только тогда, когда я высадил троих своих парней, а сам полетел на рекогносцировку. И не предполагали, с кем ведет бой эмир Геримхан Биболатов. Но даже если бы и знали, то едва ли сумели бы предвидеть такую быструю реакцию спецназовцев. Те сразу выставили заслоны в одну и в другую стороны. И заслон с нашей стороны тут же, без раздумий, включился в бой, потому что был готов к любой неожиданности. А пять джамаатов включились с опозданием, и потому полтора джамаата перестало существовать…
Меня очень тянуло взглянуть за поворот. Просто магнитом каким-то тянуло.
Я сделал знак рукой, останавливая своих сопровождающих, и стал красться, буквально по тридцать секунд затрачивая на каждый шаг. Я даже камни под ногами мысленно прижимал к земле, запрещая им шевелиться. И прошел беззвучно. На повороте лежал большой камень. Даже не камень, может быть, а целая небольшая монолитная скала. Когда-то она свалилась сверху, и теперь тропа огибала ее. Это было самое крутое место при повороте. За эту скалу я и пробирался, памятуя, что рассматривал это место с вертолета, и тогда еще определив, что от этой скалы до бруствера спецназовцев три десятка метров.
Выглядывал я осторожно. Выглянув, сразу заметил стволы автоматов, уставленные именно в мою, казалось, голову. Так всегда кажется, знал я, что все только в тебя целятся и только тебя одного намереваются убить. Даже когда вокруг сотня других людей – все равно убить намереваются только тебя. Наверное, это какой-то закон психологии, но я давно уже привык к этому ощущению и не боялся его. Я не боялся стволов автоматов. Но я увидел еще кое-что… Кое-кого то есть… Я увидел человека в черной рясе, идущего к позициям со стороны ихнего лагеря. Священник был еще далеко. И тогда я понял, что вертелось недавно у меня в голове, какая мысль созревала, но никак не могла созреть…
Лжесвященник…
Это мой ход, и я должен сделать его мастерски.
Может быть, очень хороший шанс…
2. Максим Одинцов, рядовой контрактной службы, спецназ ГРУ
Камень за шиворот попал и мешает… Не камень, конечно, а камушек, крошка какая-то каменная, угловатая, и потому колючая. Много мусора на голову свалилось, когда содрогнулось дерево над моей головой от одновременного залпа целой толпы «подствольников». Тело мокрое и потное, и от дождя тоже мокрое, но дождь не липкий, а пот липкий, и к телу весь мусор прилип. А камушек чуть побольше глубже провалился и где-то ниже правой лопатки в тело вцепился, царапаться начал. Но раздеться в моей норе невозможно, а вне норы, когда выберусь, мне будет уже просто некогда раздеться и вытряхнуть этот проклятый камушек. Надо будет ловить момент, прятаться и пробираться как можно быстрее к своим на перевал.
Но я знаю по опыту, что какая-то мелочь, пустяк, бывает, столько неудобства доставляет, что измучает больше раны средней тяжести. И потому момент придется выбрать и этот треклятый камушек вытряхнуть.
Только после этого мощного и впечатляющего залпа я понял, почему старший лейтенант Воронцов снял нас со скалы, хотя позиция там была, казалось бы, чрезвычайно удобная для защиты прохода по дну ущелья, а меня категорично предупредил, чтобы я подальше от той же скалы себе нору нашел. На скале обзор был хороший, и стрелять оттуда было удобно. Мы сравнительно небольшим составом смогли уничтожить вдвое больше боевиков, чем нас было, при этом сами потеряли только троих. Но троих мы потеряли как раз после точного выстрела из «подствольника». Граната «подствольника», конечно, не пуля, и точно положить ее в нужное место, тем более навесным выстрелом, очень сложно. Однако гранате, как раз потому, что она не пуля, достаточно разорваться в пяти метрах от тебя, и ты уже выведен из строя. Помимо осколочного ранения еще и обязательная контузия, которая не добавит тебе боеспособности. Имея возможность дать залп из шестидесяти «подствольников» сразу, боевики обязательно накрывали скалу, и никого осколки пощадить не могли бы. Непонятно еще, как скала такую детонацию выдержала…
Потом бой пошел в нормальном русле. Наши бандитов накрыли очередями очень вовремя. Те не среагировали правильно и потому понесли потери. Но потом, памятуя еще о своем преимуществе в живой силе, вперед двинулись. Мне из норы не видно было, как отступают наши, но отступали, видимо, организованно и неторопливо, потому что боевики в атаку не бежали, а перебегали от укрытия к укрытию, и время от времени то один падал и не вставал, то другой. Правильное тактическое построение боя удачно сводило на «нет» численное преимущество наступающих. Старший лейтенант Воронцов свое дело знал.
А я знал именно свое дело, солдатское, и приступил к дальнейшему выполнению приказа…
* * *
Я же говорил тебе, мама, что очень постараюсь поторопиться. Вот я и тороплюсь… Я уже не сижу на скале, запертый с нескольких сторон – с двух боевиками, с двух скалами, через которые не перебраться, – я уже в дороге. Спешу быстрее до тебя добраться и попутно своих сослуживцев выручить. Конечно, все на это смотрят иначе, все считают, что я спешу сослуживцев выручить, а все остальное никого, кроме нас с тобой, не касается, да они, в основном, и не знают о том, что ты у меня есть и какая ты у меня есть, не знают, как и почему ты меня дожидаешься, считая часы… Не знаю только, часы до встречи или часы своей жизни… Мне бы, конечно, хотелось, чтобы было первое…
Тебе можно было бы обвинять меня, все равно, кстати, не виноватого, в том, что я сижу вместе с другими в засаде, стреляю и в меня стреляют, и не бегу к тебе бегом… Я бы даже на это не обиделся, мама, если бы это помогло тебе чувствовать себя лучше… Ты же знаешь в глубине души, что я не обидчивый… Вернее, ты так думаешь и всегда думала, когда оскорбляла меня всякими самыми последними словами, тебе легче было так думать, чтобы не думать о том, что ты несправедлива и я на тебя обижен за несправедливость. В девяносто девяти случаях из ста ты была действительно несправедлива. И я обижался. Но я держал свою обиду в себе, жалея тебя. Я думал о том, как было бы тебе больно осознать, что ты планомерно и регулярно уничтожаешь меня… Ты же в отдельные минуты могла и не уничтожать, ты сама себя винила и говорила, что любишь меня, и только добра мне желаешь, желаешь исправить меня, и потому постоянно ругаешься. А меня не надо было исправлять. Я не был кривым… И я все терпел, мама…
Я и теперь терплю… Обстоятельства не пускают меня, хотя я тороплюсь. Но я терплю и, по мере возможности, борюсь с обстоятельствами.
* * *
Когда бандиты прошли мимо меня, а я спустился на дно ущелья, мне ничего не стоило бы расстрелять их в спину. Всех, конечно, я не успел бы. Но хотя бы последних, в том числе и их эмира, который руководил боем, но сам при этом в нем практически не участвовал, потому что даже автомата не имел, только носил по-ковбойски камуфлированную шляпу со шнурком на подбородке и имел, тоже на ковбойский лад, на каждом бедре по пистолету Стечкина. Модель я по стандартной армейской кобуре определил. У «АПС» кобура характерная, которую можно в качестве приклада использовать, чтобы вести прицельный автоматический огонь. Но эмир и пистолеты не доставал. Он только рукой указующую и почти величественную отмашку делал, не пальцем даже, а рукой, показывая направление. Его слушались…
Они прошли, я спустился в нижние кусты, осмотрелся, нет ли слева от меня отставших бандитов, но там стояла тишина, и туда именно лежал мой путь. Справа шел бой, справа перебегали боевики, стреляли сами, в них стреляли, они иногда падали от пуль, иногда падали, чтобы пули пролетели над головами, а потом снова бежали. И ближе к кустам держался эмир, стараясь не попадать в сектор обстрела. Старший лейтенант Воронцов называл его, кажется, Геримханом. А фамилию я не запомнил… Но мне не нужна его фамилия. Я бы и без фамилии снял его аккуратной короткой очередью. Но передо мной задача стояла другая. Мне не надо было в этот момент бандитов останавливать, мне необходимо было остаться незамеченным и дойти до роты на перевале, чтобы привести в долину подмогу. И при этом существовала реальная опасность получить пулю в спину от своих же. Меня не видят за кустами, стреляют в боевиков, пули кусты прошивают и летят вдоль долины. В этом я убедился почти сразу, как только ступил на тропу. До поворота ущелья оставалось немногим более сотни метров, и я постарался преодолеть это расстояние, как можно плотнее прижимаясь к склону, для чего мне пришлось потерять скорость, потому что через высокие кусты идти нелегко, зато остаться в живых.
Уже через пятьдесят метров я услышал разговор. Разговаривали по-чеченски, и понять я ничего не мог. Но незнакомый язык не мешает видеть, и я увидел странное сооружение…
Четыре колеса от детского велосипеда, четыре передние вилки от того же велосипеда, закрепляющие колеса. И все это связано между собой четырьмя недлинными жердями. Причем связано так, что нет углов жесткости. Рама вихляется, как хочет, и при этом не ломается, что повышает проходимость странного транспортного средства. Одно колесо переезжает через камень, рама только изгибается в плоскости. Просто, как все гениальное. Такая телега вполне может везти груз даже по наклонной поверхности. А сама рама покрыта обыкновенным брезентовым полотном, на котором непонятный груз в связанных и к раме прикрученных мешках и еще что-то довольно длинное, тоже в брезент замотанное и привязанное к раме. Я не сразу сообразил, что это такое. Только потом по размерам и по общим очертаниям под брезентом не догадался, а только предположил, что везут гранатометы «РПГ-7». Несколько штук. А в мешках, должно быть, гранаты к гранатометам. «РПГ-7» – оружие мощное и разнесет бруствер без проблем, поэтому просто так пересидеть в кустах, дожидаясь, когда освободится путь, я не мог. В любом случае, если даже это не гранатометы, я видел перед собой двух бандитов, которые с каким-то грузом догоняли своих ушедших вперед товарищей. Решение пришло быстро, быстрее, чем я мог осмыслить последствия. Я поднял автомат и дал две короткие очереди. Бандиты упали сразу. Но тут же чуть со стороны раздались другие очереди. Теперь уже стреляли в меня. И я не видел, кто стрелял. Но и меня, наверное, тоже не слишком хорошо видели, только предполагали по звуку выстрелов, где я укрылся. А звук в тесном ущелье вещь ненадежная. И потому пули ушли в сторону. Я же оказался в более выгодном положении, поскольку видел перед собой все кусты на дне ущелья впереди, и укрыться так, чтобы я не видел их, бандиты могли только в одном месте. Я и дал туда очередь. И никак не ожидал услышать такой мощный взрыв. Куда я мог попасть, догадаться было трудно, но взрыв сопровождался не только звуком, но и пламя взлетело над кустами, из которых, естественно, никто не стрелял.
Подсказка не пришла, а упала с неба…
Подсказка в форме колеса от детского велосипеда, подброшенного взрывом. Колесо упало аккуратно, подпрыгнуло, попыталось покатиться, но упало… И еще что-то падало, в том числе и на меня – настолько сильным был взрыв. Я понял, что взорвалась еще одна телега, точно такая же, как первая. И перевозили в мешках, скорее всего, гранаты к «РПГ-7», причем гранаты уже подготовленные к боевому использованию, то есть со взрывателями. Не думая долго, я повернулся к первой тележке и дал очередь по ней. Новый взрыв заставил меня самого чуть ли не в землю вжаться, так сильно полетели осколки окружающих телегу камней…
Значит, я оставил бандитов без мощных гранатометов. И догадаться было нетрудно, что гранатометы вместе с гранатометчиками задержались, потому что были отправлены раньше в сторону перевала. Именно с таким мощным оружием Геримхан рассчитывал совершить прорыв через ряды нашей роты. Тем не менее я понимал, что это все равно было бы трудно сделать, потому что мы там, на перевале, основательно окопались, и окоп в полный профиль – это не каменный, сложенный наспех бруствер, он вполне способен защитить даже от «РПГ-7».
Не много времени прошло, и новый взрыв раздался, причем мне показалось, что небо в нижней части ущелья слегка посветлело, но посветлело не просветом в облаках, а каким-то красным отблеском. Что там еще взорвалось, я не знал, а гадать не желал. Взрыв мог нанести урон одинаково как боевикам, так и нашим солдатам, это, конечно же, меня беспокоило, но вовсе не отменяло моей задачи. Ее все равно следовало выполнять.
Мне при этом трудно было предположить, насколько облегчил я себе или усложнил дальнейшее продвижение по маршруту этим удачным для остальных бойцов взвода Воронцова действием. Но уже то, что я оставил боевиков без тяжелых гранатометов в случае попытки прорваться через перевал, тоже радовало. А я любоваться плодами своего труда долго не стал, потому что маршрут мне следовало преодолеть как можно быстрее и как можно быстрее привести сюда помощь. И потому я снова двинулся вперед по тем же кустам до самого поворота ущелья. Дальше за поворотом ущелье стало заметно подниматься, хотя и слегка сузилось, и центральная часть его должна была хорошо просматриваться сверху. Я не знал, кто там может впереди оказаться. Старший лейтенант Воронцов предупреждал, что бандиты наверняка выставили ближе к перевалу дальнюю разведку. Было бы не слишком приятно нарваться на засаду этой разведки. И потому я не рисковал, пока день, наполненный грозами, не стал к вечеру клониться, и шел по кустам, где меня заметить труднее. Так, вскоре я миновал два расположенных неподалеку друг от друга затушенных кострища. Именно затушенных, затоптанных чьими-то ногами, но еще сохранивших тепло и отдельные непрогоревшие угли. Здесь, как я понял, и была основная база боевиков. Отсюда они двинулись к месту падения нашего тяжелого вертолета. Наверное, где-то неподалеку были и другие кострища, поскольку вся банда у этих двух просто поместиться не могла бы, но искать их у меня необходимости не было.
Пока позволяло светлое время суток, я постарался найти это место на карте, чтобы лучше ориентироваться во времени, а не в направлении. Пилотская карта заметно отличается от армейских, но и с армейскими картами работают в основном офицеры, а солдатам заглядывать в них приходится лишь время от времени. Хотя работе с картами нас, конечно же, обучали, и я, помнится, даже зачет в «учебке» сдавал. Пилотская карта изобиловала какими-то цифровыми знаками, отметками, стрелками, многочисленными пунктирными линиями, непонятными для непосвященного, и сразу определиться по ней было трудно. Но все же профиль ущелья просматривался явственно, и я отыскал место, где нахожусь. И с печалью отметил, что успел преодолеть только одну шестую часть пути. А последующий путь предстоял не самый простой – чем дальше, тем уклон должен становиться более значительным, следовательно, мне предстояло постоянно в гору взбираться. Но я готов был к этому и не отчаивался. Надо переходить в режим марш-броска и увеличить скорость передвижения. Усталости я пока не чувствовал, только камень, залетевший за шиворот, сильно мешал. Я все же остановился, снял «разгрузку», снял бронежилет и куртку и вытряхнул камень. И сам удивился, насколько свежим и легким себя после этого почувствовал. И прибавил скорость. Но для этого мне пришлось выйти на середину узкого ущелья. Риск, как мне показалось, был минимальным, потому что дальняя разведка не должна была находиться неподалеку от базового лагеря. Дальняя разведка должна в бинокль разглядывать перевал и наши посты на перевале, изучать проходы и подходы, тщательно следить за всем, особенно за походами солдат за водой к источнику, потому что солдаты хорошо изучили проходы в минных полях, хотя эти проходы никакими вехами не обозначены. Боевики проходы должны изучать, если желают здесь прорываться. И потому им некогда следить за тем, что там внизу происходит. Расстояние, скорее всего, не позволяет услышать звуки взрывов, и тем более звуки стрельбы. И дальняя разведка, если не поддерживала с эмиром постоянной связи, то была не в курсе событий внизу. Но даже если бандиты в курсе событий, они пока не поспешат на помощь к своим, потому что слишком велик численный перевес у боевиков и нет у них причин беспокоиться.
А это значит, что я могу вполне позволить себе хотя бы еще на большей части пути спешить. И только в последней части придется скорость сбросить и быть предельно осторожным…
* * *
Если бы ты видела, мама, как я спешу к тебе… Я передвигаюсь то быстрым шагом, то на бег перехожу. Я стараюсь дышать ровно, чтобы сохранить дыхание на всем пути. В горах это вообще трудно. Перевал для того и существует, чтобы там переваливаться через горный хребет. А горные хребты очень, мама, высокие. А на высоте, это даже тебе, наверное, известно, существует кислородное голодание. Я еще не чувствую его, но на самом перевале, пока не привыкнешь, дышать в самом деле трудно. Через такие перевалы машины не ходят, потому что автомобильным двигателям кислорода не хватает. Задыхаются они на подобных высотах. А люди выносливее автомобильных двигателей. По крайней мере, те люди, что в спецназе ГРУ служат…
Ты, мама, мечтала увидеть во мне великого и знаменитого спортсмена, раз уж не получился из меня великий и знаменитый музыкант. Я стал только заурядным мастером спорта. Не хилым человеком, но и не звездным… А сейчас я в спецназе ГРУ служу, мама. Я не великий и не знаменитый по-прежнему, но пустили бы сейчас сюда, ко мне, на дистанцию всю сборную России по дзюдо. И я уверен, что ни один из членов сборной страны не выдержал бы этот темп. А я его выдерживаю, хотя я заурядный мастер спорта и вполне обычный, ничем от других солдат не отличающийся спецназовец.
Мне, конечно, приятно было бы рассказать тебе сейчас, как я спешу к тебе. Я в самом деле спешу к тебе, но я одновременно спешу и спасти своих товарищей. И то и другое для меня важно, потому что они сейчас находятся точно в такой же опасности, как и ты… И я даже вопрос себе задавать не буду, что для меня важнее. Ты уж не обижайся, мама, на это, и хотя бы раз в жизни попытайся меня понять…
* * *
Я в силы свои верил слепо, но уже через час пути убедился, что надежда моя начинает колебаться под встречным ветерком, что несет с гор обычную для этих мест вечернюю прохладу. Это даже больше чем прохлада. Ближе к утру эта прохлада становится если не холодом, то чем-то близким к нему. Это я еще по перевалу знал. Но сейчас ощутил многократно острее. Конечно, когда ты вспотел, когда всю твою одежду, кроме разве что бронежилета, выжимать можно вместе с содержимым карманов, холод в первое мгновение ощущается приятным, и начинаешь даже думать, что так тебе идти легче. Однако радость не долго длится. Я ведь не только вспотел, я еще и под дождем основательно вымок, хотя выше по ущелью дождя уже не было, и я даже не заметил, когда он прекратился. И мокрая моя одежда начала контрастировать с разгоряченным, сильно разгоряченным телом. Одежда начала обжигать, и особенно явственно это сказывалось тогда, когда я останавливался, чтобы привести дыхание в порядок. Дыхание понемногу сбиваться стало, и приводить его в порядок требовалось все чаще и чаще. Делается это просто. Останавливаешься, наклоняешься буквой «Г», разводишь на вдохе руки в стороны, а потом медленно опускаешь их на выдохе. И в последний момент соприкосновения ладоней выдох должен быть полным, таким полным, чтобы ты чувствовал, как воздух выходит уже не из легких, а из низа живота. Десяток таких движений, потом десять секунд отдыха просто в нормальном стоячем положении, и можно снова в путь. И вот как раз в эти моменты восстановления дыхания, когда останавливаешься, всю кожу начинает одеждой обжигать. Ощущение приятное только в самом начале, когда в первый раз останавливался, потому что в первый раз оно прошло сразу после возобновления движения. Во второй раз задержалось дольше, в третий уже казалось, что слишком надолго это ощущение пришло, а потом уже стало казаться, что оно никогда не пройдет и я осужден вечно мерзнуть. И самое скверное было в том, что само подобное охлаждение уже сбивало дыхание. На восстановление организм тратил силы, нужные для другого, для движения, и приходилось зубы стискивать, чтобы силы нашлись.
Дыхание сбивалось, а ноги в задней части бедра становились все более непослушными, словно ватными. Моя выносливость имела пределы, и я убедился, что занятия и тренировки, конечно, помогают, потому что не каждый спортсмен выдержал бы такой подъем, тем не менее решают не все. Я никогда не уставал до такой степени на тренировках, никогда… И ни один тренировочный марш-бросок не мог меня заставить самому себе признаться в слабости и ограниченности сил. Сейчас я готов уже был признаться. Конечно, только и исключительно самому себе. И я даже начал подумывать о более-менее продолжительном привале, об отдыхе, который восстановит силы и даст возможность идти дальше в том же темпе. И поймал себя на том, что как только подумал об отдыхе, так ноги сами собой стали передвигаться медленнее, и шаг уже не стал таким упругим, как раньше. Но тут, к счастью, прохладный, если не сказать больше, ветерок подул сверху с новой силой и обдал тело холодом. Я понял, что если остановлюсь надолго, я просто замерзну. В моем положении переохлаждение тела вызовет еще большую усталость, чем усталость от перенапряжения. Это придало сил, и я дальше двинулся. Я побежал дальше, хотя бежать вверх было гораздо труднее, чем идти. Я на бегу сильно расслаблял ноги, чтобы они отдыхали, тем не менее усталость накапливалась. Потом усталость с ног на плечи перешла. И я понял, что не доберусь так быстро до роты на перевале, если не сниму бронежилет.
Пришлось остановиться, снова снять сначала разгрузку, потом бронежилет, потом выбросить из карманов разгрузки все лишнее. Жалко было расставаться с трофейным пистолетом. Но я расстался. Правда, его я не выбросил, как выбрасывал моток проволоки и плоскогубцы. Пистолет я под бронежилет положил. Как сказал бы наш священник отец Валентин, даст Бог, на обратном пути заберу.
Следующие полчаса я ругал себя последними словами, что так поздно спохватился. Снять бронежилет следовало сразу, снять и тому же отцу Валентину оставить. Только конченый дурак будет бегать в гору в бронежилете, как я.
Уже плотная темнота встала над ущельем, но склоны с обеих сторон стали совсем не такими, как раньше. Сейчас каждый склон в три раза уменьшился и уже не склоном стал, а небольшой возвышенностью. Значит, я подобрался к выходу из ущелья. Отсюда до нашего перевала рукой подать. И я хорошо знаю эти места, но знаю их взглядом не снизу, а сверху. И даже знаю проход через минное поле, что находится совсем рядом. Это поле, как мы говорили, «замороженное». Мы не ходили по нему, потому что в эту сторону нам ходить было некуда. Источник с водой находился в другой стороне.
Сейчас я могу идти через минное поле как раз по проходу, который помню. Я был среди тех, кто закладывал там мины…
Только дадут ли мне пройти, вот в чем вопрос?
Я едва успел отпрыгнуть в кусты…
Впереди отчетливо слышалась чеченская речь…
Глава 3
1. Святой Валентин, авторитетный кидала
Отчего-то стало нарастать беспокойство, словно бы в воздухе что-то тонко звенело как раз на тех нотах, которые сильно раздражают… Странное и не всегда понятное чувство… Будто бы ощущение приближающейся опасности… Я с такими ощущениями, в силу своей профессии, понятно ежику, давно знаком, и обычно это служит сигналом, что следует быть предельно осторожным… Короче говоря, что менты подобрались слишком близко, и тень сторожевой вышки в углу забора с колючей проволокой грозится лечь на голову…
Здесь, однако, ментами пахнуть не может. Тогда что это?
Начала работать интуиция? Я вроде бы и с самого начала не сильно беспокоился, не опасался, что мы не сможем выкрутиться. Было ощущение, что должны выкрутиться, и выкрутиться с честью, чтобы вернуться благополучно. Я бы даже с удовольствием получил награду вместо настоящего отца Валентина, если таковую захотят дать. Не ему, естественно, а мне, поскольку ему давать награду не за что. А теперь, когда дела вроде бы хуже пока не стали и только обещают разрешиться как можно быстрее, беспокойство пришло. И не обострение ситуации тому виной, потому что я верил в старшего лейтенанта Воронцова и понимал, что такой опытный офицер не пойдет на авантюру, а в первую очередь озаботится обеспечением безопасности всего личного состава. Но что-то переменилось, и я не понимал, что именно. Почему же раньше интуиция, матерь ее, не работала?
Путь до заслона в нижнем ущелье не длинный, только вот проходить его трудно. Тропинка узкая, кривая и сильно покатая, камнями усыпанная. Камни разнокалиберные, один выше, другой плоский, третий ребром стоит, того и гляди ногу подвернешь. Я шел не быстро, чтобы не споткнуться и не рассыпать такие драгоценные сейчас патроны. Патроны ждут, патроны нужны, патроны – это то, что способно нас спасти, несмотря на подступающее беспокойство. Без патронов мы, случись попытка прорыва, удержаться не сможем, потому что здесь не Фермопильское ущелье,[13] и даже не Ронсевальское,[14] и оружие у наших противников не такое, как у древних персов или сарацин. Им не нужно будет сходиться с нами в рукопашной на узкой тропе, где одновременно толпа не поместится. Им можно будет просто перестрелять нас, не подходя на дистанцию удара спецназовской малой саперной лопатки. А свои лопатки спецназовцы, передавая друг другу оселок, любовно оттачивали только недавно на моих глазах. Они говорят, что этими лопатками при необходимости бриться могут, а при случае голову одним ударом снести. Я уже много про это дело слышал, и слышал даже, что эти лопатки бросают метров с десяти точно в лоб противнику. Правда, тренировок по лопатометанию сам не наблюдал. Насколько помню, чемпионата мира по такому виду спорта тоже не проводится…
Еще на тропе у меня возникло неприятное ощущение, словно кто-то наблюдает за мной. Человеку моей профессии важно иметь такое ощущение в развитом состоянии. И я имел его. И ощущение долго не проходило. Я даже по сторонам посмотрел: и на поворот ущелья, и вверх, на склон, который еще раньше осматривал, и пришел к выводу, что он недоступен. Но ничего особенного там не заметил. Пришла в голову мысль, что бандиты, имея в наличии вертолет, могут с него забросить группу на хребет и эта группа сможет спуститься ниже, чтобы потом обстрелять нас. Но взгляд на сам хребет мои нелепые предположения отверг. По такому склону спуститься могут только спортсмены-скалолазы при обязательном наличии у них специального оборудования…
Позиция наша была в порядке, что я издали увидел. Трое бойцов лежали за бруствером, готовые подстрелить любого, кто будет иметь наглость или наивность высунуться оттуда, еще двое и лейтенант Соболенко сидели в стороне за камнем, невидимые из-за бруствера, и потому, даже если бы там, на повороте, ситуация и обострилась, они все равно были бы в безопасности и смогли бы вступить в бой только тогда, когда в этом возникла бы необходимость.
Лейтенант Соболенко встал при моем появлении и шагнул навстречу.
– Если бы еще что-нибудь пожевать принесли, батюшка, – сказал, принимая патроны.
У меня мысль мелькнула правильная, хотя для кого-то, может быть, и не совсем суразная. Я посмотрел на убитых боевиков, вспомнил, как парни из группы старшего лейтенанта Воронцова собирали провизию из рюкзаков убитых бандитов, и понял, что и здесь есть возможность чуть-чуть подкормиться.
– Если, брат мой, очень попросишь, я схожу.
– Куда? – не понял Соболенко.
– За едой.
– Очень, батюшка, попрошу… А где они провиант нашли?
Кто такие «они», я не понял. Должно быть, лейтенант подумал, будто я собрался идти снова в лагерь, чтобы принести провизию оттуда. Святая наивность. В лагере, пока старший лейтенант Воронцов не вернется, самим есть нечего. Но старший лейтенант их накормит. Он бы, наверное, и нижний заслон тоже накормил, но мне тоже захотелось быть полезным и себя проявить. Зря, что ли, я рясу нацепил и стараюсь пример доброго христианского поведения показать. А что такое доброе христианское поведение? Это, в моем понимании, вовсе не подставление правой щеки, когда получаешь пощечину в левую. Это из другой оперы. В нашем случае доброе христианское поведение – это прежде всего сила духа.
– Провизию боевики с собой принесли. Специально для нас. Попроси, лейтенант, чтобы твои парни меня прикрыли. Я быстро… В каждом рюкзаке, – показал я пальцем, – запас провизии на несколько дней. Я, если Господь позволит, хотя бы один рюкзак, но добуду, пока бандиты мирно почивают. Прикройте…
– Опасно, батюшка. Вы не военный…
– Опасно как раз военному. Стрелять сразу будут по человеку в камуфляже, а мою рясу рассмотреть захотят. Пока будут рассматривать, солдаты успеют выстрелить.
– С Богом, батюшка…
Вот уж не ожидал такие слова от лейтенанта Соболенко, как и от капитана Павловского, услышать. Еще от старшего лейтенанта Воронцова бы, ладно… У того, кажется, нательный крестик на бечевке висит. У старшего лейтенанта на шее есть стальная цепочка. На ней, наверное, идентификационный номер, или что там еще военные носят. И вместе с цепочкой простой черный шнурок с золотистыми блестками. Такие шнурки в церкви продают, там же, где и крестики, и промышленно сделанные иконы. Специальные шнурки для крестиков. Если человек просто так, ради моды нательный крестик надевает, он наденет, конечно же, золотой. Воронцову жалованье, наверное, позволяет такой иметь. Если крестик носит не просто так, не ради моды, то или простенький серебряный, или совсем простенький оловянный. Эту тонкость я знаю давно, хотя допускаю, что женщины, например, могут быть и глубоко верующими, и носить золотой крестик. Но золотой крестик носят обязательно на золотой цепочке, которой у старшего лейтенанта нет. Значит, он крестик носит не ради моды, хотя, как большинство людей, предпочитает не говорить на эту тему и не афишировать свое отношение к вере. Но для человека его профессии – офицера спецназа, особенно офицера спецназа ГРУ, который постоянно находится на боевой службе, быть верующим – это естественное состояние. Находясь постоянно рядом со смертью, трудно не верить… Даже находясь постоянно рядом с «зоной», хочется верить и хочется вымолить себе прощение, а уж про близость смерти и говорить не приходится…
Я перекрестился трижды, чтобы всем было видно мое религиозное рвение и причину моей надежды на благополучный исход, вздохнул, перешагнул через бруствер, сделал несколько шагов вперед и остановился, чтобы прислушаться. Посторонних звуков не доносилось, и тогда я, опять подобрав полы рясы свободной рукой, чтобы не мешали передвигаться по крутому склону, заспешил к ближайшему от меня распростертому телу.
Убитый бандит лежал лицом кверху, раскрыв в полуоскале кривой рот, черная борода его была вся покрыта капельками дождя, и ослепительно белые зубы просто сияли на фоне этой бороды, как жемчуг в куче навоза. Оскал был, признаться, устрашающим. Неприятное зрелище, но у меня характер не самый робкий и меня такой улыбкой не испугаешь. Я пальцы на всякий случай к сонной артерии все же приложил. Биения крови не прослушивалось, тогда я просто перевернул тело одной рукой, поскольку вторая была автоматом занята, и тут только вспомнил, что опять забыл набить патронами рожок, а незаряженный автомат мне только мешает. Снимать рюкзак с плеч было неприятно, но не трудно. Копаться в рюкзаке здесь, на месте, я посчитал слишком опасным и решил просто отнести его целиком.
И только я выпрямился, как сбоку раздался голос с явным кавказским акцентом:
– Вот как… Теперь православные попы мародерством занимаются…
Я одной левой рукой поднял бесполезный автомат и наставил ствол на человека, к моему удивлению, не в привычной камуфляжке, а в черном, как моя ряса, вполне приличном костюме, лежащего прямо на мокрой и грязной траве. Только одна половина его лица была заклеена пластырем, из-под которого высовывались марлевые тампоны, пропитанные свежей кровью. Рана, похоже, была совсем свежей и получена уже после того, как заслон солдат столкнулся с первыми бандитами. С верхнего конца ущелья сюда пройти никто не мог. Значит, можно предположить только одно…
Человек смотрел на меня и на мой автомат без страха и даже с легкой насмешкой.
– Ага… – сказал я. – Привет.
Человек в черном костюме свой автомат на меня не наставлял. Он совсем, похоже, меня не боялся, словно знал, что оружие мое стрелять не может.
– Привет, Святой Валентин.
Вот это неприятно… Я явно не был с ним знаком, но он знал мое «погоняло», следовательно, знал и то, что я не есть священник.
– Какого тебе, матерь твою, надо?.. – решил я не затягивать знакомство и разговор на веки вечные. – Мне как, стрелять или не надо?
– Думаю, не надо, иначе тебя сразу же самого подстрелят. Со мной четыре человека.
Я не стал искать взглядом тех четверых, матерь их, что с ним пришли. Знаю этот старый фокус. Только взгляд в сторону отведешь, человек в черном костюме свой автомат поднимет. Пока он еще, кажется, вполне смирный, хотя я не понимаю, почему он оружие не поднял до того, как говорить начал. На дурака вроде бы не похож. Скорее всего надеялся договориться. Тем не менее лучше не рисковать…
– Партия будет разыграна со счетом «один-один». Только и всего…
– Не боишься смерти?
– Господь примет меня вместе со всеми моими грехами…
– Уважаю твою жизненную позицию, – усмехнулся человек в черном.
– Что там случилось, батюшка? – громко крикнул из-за бруствера лейтенант Соболенко.
Человек в черном говорил едва слышно, и до бруствера его голос не доносился.
– Все нормально, – ответил я. – Молитву читаю.
– Вот-вот… – согласился мой, матерь его, собеседник. – Если ты нас не сдал, значит, с тобой можно иметь дело. Я специально прибыл сюда, чтобы с тобой поговорить…
Я попытался показать себя более осведомленным в делах, следовательно, и более сильным. Осведомленность – это всегда сила. Моя догадка о происхождении его раны была вполне жизнеспособной.
– Я думал, тебя убили в вертолете. Так, по крайней мере, надеялся тот, кто стрелял.
– А кто стрелял, скажи мне по-дружески, чтобы я знал, с кого спросить… Я очень хотел бы с ним встретиться.
– Встретишься, если очень хочешь, и будь уверен, что он тебя не отпустит…
Это прозвучало и предупреждением, и угрозой одновременно.
– Я не из пугливых, – он потрогал пластырь на своем лице. Видимо, напоминание отдалось болью в ране. Эта стало заметно даже по голосу. Тем не менее и моя прозорливость произвела на человека в черном впечатление.
Пока он замолчал, раздумывая о чем-то, я присел, забросил лямку рюкзака себе за правое плечо, взял в руки автомат боевика, на ощупь проверил, опущен ли предохранитель, и второй ствол тоже навел на собеседника. Теперь я себя увереннее почувствовал, хотя не знал, заряжен ли второй автомат. Но, памятуя о нехватке патронов, я свой автомат положил на землю и все так же на ощупь нашел в кармане разгрузки убитого бандита два спаренных рожка; быстро переместил их к себе за пояс, для чего пришлось основательно подтянуть живот.
– Я уже сказал, что прилетел сюда специально, чтобы с тобой поговорить, – продолжил человек в черном, наблюдая за моими действиями.
– Я понял.
Я действительно понял. Если он назвал меня Святым Валентином, значит, он имеет информацию о цели моего пребывания здесь – если он прилетел сюда, то прилетел за иконами. То есть этот человек имеет непосредственное отношение к тем самым изначальным похитителям икон из церкви и желает забрать свое. Не свое то есть, а то, что он украл и желает считать своим. По себе знаю, что украденное всегда легко привыкает к новым рукам. Или, если правильнее рассуждать, наоборот – руки привыкают к украденному. Но я уже сам добыл эти иконы своим умом и своими талантами. И мои руки тоже к ним привыкли. Просчитать ситуацию нетрудно, если имеешь хотя бы малейшее соображение.
– У меня есть деловое предложение. Ваше положение безвыходно. Сдаваться вы не пожелаете, я думаю, но у вас даже патронов не хватает для полноценного сопротивления.
Он думает, что обладает хорошим глазом, и пытается меня этим удивить. Заметил, видите ли, как я засовывал за пояс спаренные рожки. Но это только слепой может не заметить. Однако он, если уж знает мое погоняло, должен знать и то, что разговаривает с профессиональным кидалой, причем высокой квалификации. Что я сразу же продемонстрировал, ловко подобрав соответствующий ответ:
– Я не знаю, как другие, но я сегодня уже выпустил целый рожок… – по-актерски радостно засмеялся я. – Одной очередью. И мне пригрозили не давать больше патронов, чтобы вас всех не распугал. Так что ты прав, патроны приходится добывать самому. Спецназ стреляет прицельно, сам можешь убедиться.
Я стволом автомата без патронов провел в сторону, а потом и на него самого, матерь его, показал, намекая на результат стрельбы спецназа. Это должно было впечатлить больше, чем его детские слова. И кажется, впечатлило, потому что человек в черном сердито поморщился и сразу после этого снова потрогал руками повязку на лице. Похоже, даже против его желания местные события и обстрел вертолета связывались воедино и напоминали о том, что спецназ стрелять умеет.
– Мне плевать на них на всех, – сердито сказал человек в черном. – У меня свои дела и свои задачи. Но я хочу, чтобы ты понял правильно, всю ситуацию обрисовать, в целом… И потому повторяю, что положение ваше безвыходно. Вас всех просто уничтожат. И только я один в состоянии вам помочь.
– Ты настолько влиятельный человек? – я позволил себе усмехнуться.
– А ты думаешь, любой прохожий может моментально собрать большой джамаат, чтобы блокировать вас? А ты думаешь, любой человек может распоряжаться по своему усмотрению вертолетом МЧС? Я, конечно, не первое лицо в республике, но далеко не последнее и имею влияние на обе воюющие стороны. А это сейчас важно…
– Так это ты их хотел вести на смерть, когда показывал дорогу к перевалу? – усмехнулся я его хвастовству. И одновременно поставил его на место. Я не менее осведомлен, дескать, чем он, в обстановке.
– Это неважно… Неважно даже, перейдут они перевал или нет. По крайней мере, это неважно для тебя, точно так же, как и для меня. Меня волнует твой груз. Вернее, меня мой груз волнует, который временно стал твоим. И я предлагаю вам всем жизнь в обмен на этот груз. Мы выпустим вас, вы можете все с собой забрать, даже оружие, но оставите мои планшеты. Я сам их упаковывал. Мои руки знают каждый угол и каждую щель.
Или сам человек в черном был слишком наивным человеком, или он меня держал за такого наивного… Неужели я не понимаю ситуацию… Пусть я не понимаю. Но старший лейтенант Воронцов прекрасно понимает ее и разложил все компоненты и составляющие по соответствующим полочкам. Так разложил, что нам всем стало понятно, почему боевики не могут нас выпустить живыми. Просто мой собеседник считает, что он один является обладателем достаточной для анализа информации. Но это его ошибка, а я со своей стороны допускать ошибку не хочу. Если я категорически заявлю, что не желаю такой сделки, меня просто пристрелят здесь же.
– А с чего ты взял, что мы не сможем вырваться? Нас начнут искать при первой же возможности. И обязательно найдут…
– Вы ушли со своего маршрута. Здесь вас искать не будут. Мой человек сидит у авиаторов в диспетчерской. Он не допустит сюда ни один поисковый вертолет. Будь уверен, об этом я позаботился.
– Серьезный ты человек, – сказал я.
– Я стараюсь, – сухо ответил человек в черном.
– К сожалению, я не могу тебе ничем помочь. Я могу только выступить с предложением к офицерам. Решения здесь принимают они.
– Ты можешь просто уйти вместе с грузом. Он не тяжелый. Шесть планшетов… Груз для ребенка… Я вывезу тебя своим вертолетом.
– Нормально… – засмеялся я. – Кто же меня выпустит с грузом?..
– Скажи, что тебе предложили, из уважения к твоему сану, свободу.
– Ты что, плохо знаешь спецназ ГРУ? – ответил я вопросом.
– Так что же?
– Придется говорить с офицерами…
– Ты обещаешь?
– Я могу обещать и не обещать, но разговаривать мне придется, потому что наша с тобой беседа уже давно, думаю, замечена… Там тоже парни не дураки…
– Иди…
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Это неважно… Если договоришься, выходи к повороту ущелья и зови эмира. Громко, не стесняясь. Здесь есть еще пять эмиров, но я главный… Здесь я командую… Меня позовут… Иди…
Я выпрямился и боком двинулся в сторону бруствера, держа в каждой руке по автомату, и по-прежнему стволы смотрели на человека в черном. Подниматься так было неудобно, да еще рюкзак, который я только одной лямкой на плечо забросил, мешал, все норовил свалиться на руку. И потому я передвигался медленно.
– Иди. Я даю тебе слово, что мы не будем стрелять. Клянусь Аллахом, чеченцы не стреляют в спину…
– А я слышал, что стреляют. В нынешние времена чеченцы стали тоже другими…
– Иди и не сомневайся. Пусть твои офицеры подумают хорошенько. Я повторять свое предложение не буду. Скоро вас придавят и со второй стороны. Тогда уже поздно будет соглашаться. А когда придавят, у меня не будет уже причин желать тебе добра… И тем более желать добра спецназовцам.
– Пока мы советуемся, ты…
– Я обещаю пока ничего не предпринимать. На раздумья даю час.
– Здесь только лейтенант. Он ничего не решает. За час мы не уложимся.
– Даю полтора часа. Через полтора часа, если ты не выйдешь к повороту, я связываюсь со второй группой, и – все…
И все же я не отвел свои стволы…
Когда я перешагнул через бруствер, небо уже начинало темнеть. Горы здесь круто и высоко вверх вздымаются. Ущелье – как трещина. И в любой трещине внизу темнеет рано и быстро. И если над горами день будет только клониться к вечеру, то у нас вечер уже будет клониться к ночи. Что-то будет происходить в темноте?..
Но происходить что-то будет обязательно…
* * *
Я перешагнул через бруствер, бросил к ногам лейтенанта Соболенко рюкзак и свой автомат без патронов, потом сбоку положил сдвоенные автоматные рожки, которые сразу же перешли в руки спецназовцев, и мне опять ничего не досталось, кроме того, что было в автомате убитого боевика. Но я понимал, что патроны я добываю не для себя, и здесь, где профессионалы воюют, любителю побаловаться стрельбой лучше свои интересы не афишировать.
Я сел, и только тогда почувствовал, что по спине у меня что-то липкое течет. Догадаться о том, что это пот, оказалось нетрудно. Дождь давно уже кончился, но я был весь мокрый, и даже лоб вытер рукавом рясы. При всем самообладании профессионального каталы у меня нет все же постоянного навыка бродить так неподалеку от смерти. Нервы на пределе были, хотя человек в черном этого скорее всего не заметил.
– Что там было? – поинтересовался лейтенант.
– Не «что», а «кто»…
– Кто?
– Бандиты, и без кожаного пальто… – в соответствии со своим саном я не мог ответить полностью поговоркой. Но меня поняли.
– И что им надо?
– Я нужен… Вернее, не я, а мой груз. То, что я везу с собой…
– Эта… – кивнул лейтенант в сторону тропы. – Контрабанда?
– Да, реквизированные у контрабандистов иконы. Должно быть, они знают больше, чем я, и там есть какая-то очень ценная. Впрочем, я слышал, что одна из них ценная, но не думал, что за ней может быть такая охота.
– Так они что, специально ради этого сюда пришли? – поинтересовался один из солдат.
Солдаты были не в курсе дела. Старший лейтенант Воронцов им не раскладывал весь сложный пасьянс, матерь ее, ситуации. Тем более с усложнением в виде появления человека, матерь его, в черном костюме. Воронцов сам пока еще об этом человеке не знал.
– Нет, – сказал лейтенант. – Специально могли только на маленьком вертолете прилететь.
– Да, этот человек прилетел на вертолете МЧС, – согласился я. – Он предлагает мне сдаться, а вас обещает пропустить. В случае несогласия обещает всех уничтожить…
– Ваш капитан, товарищ лейтенант, сюда идет. И жена его беременная… Ей-то что надо?
– Она вами покомандовать хочет. В атаку вас поведет. Собственным беременным примером, вперед животом…
– Живем, братцы… – другой солдат тем временем разобрал содержимое рюкзака. – Голодная смерть нам, благодаря батюшке, не грозит. Это как манна небесная – не было, и есть что поесть… Слава богу…
И он перекрестился, только спутал, как порой бывает, и перекрестился слева направо.
– Жалко, мусульмане сало с собой не носят, – сказал другой солдат. – Сейчас бы копчененького, мягонького… Я бы его лопаткой нарезал…
Этот солдат как раз оттачивал свою и без того острую малую саперную лопатку…
2. Старший лейтенант Александр Воронцов, командир взвода, спецназ ГРУ
– Отставить стрельбу!..
Я не мог не отдать должное мужеству бандитов и запретил своим стрелять им в спину. Пулеметчики, конечно, команду не слышали, но заметили, что мы не стреляем, и тоже воздержались. Они у меня парни понятливые.
Боевики не убегали с поля боя, они спокойно и почти величественно в смерть шли. В страшную огненную смерть… И пусть была на них злость, злость, наверное, уже на генетическом уровне, тем не менее посылать пулю в спину идущему в смерть было бы не просто неуважением к противнику. Это было бы неуважением к себе.
– Тоже хорошо придумали, патроны сбережем… Хотя теперь у нас с патронами и неплохо, – сказал младший сержант Отраднов.
Он не циник по натуре, это я хорошо знаю, но еще я знаю, что людям свойственно стесняться хороших, и уж тем более высоких поступков, но хвастаться при этом тем, что они сделали плохого. Не знаю, чем это вызвано. Но я на это с детства, с общения со сверстниками обратил внимание, и всегда помню.
Но все же недовольный взгляд на младшего сержанта я бросил. И Отраднов сразу глаза отвел. Понял, что не по делу ляпнул, и не к моменту. Такие поступки уважать следует, а не высмеивать. А совесть у Отраднова есть, раз смутился, и потому я разговор на другую тему перевел, чтобы ему не было не по себе:
– Кто-то эмира среди них выделил?
– Там самым последним какой-то тип шел. Команды отдавал… – сказал один из солдат. – Без автомата, с двумя пистолетами. На бедрах. Ковбой в камуфлированной шляпе. Сам все время рядом с кустами держался, часто прятался.
– Я эту шляпу тоже видел, – добавил другой. – Несколько раз стрелял, но он все время с линии огня выходил. Покажется, пока прицелишься, исчезнет. Я по кустам стрелял, но не попал.
– Почему я не видел? – угрюмо, недовольный собой, спросил я. – Я его специально искал…
– Он по вашей стороне шел, товарищ старший лейтенант. От вас его кусты закрывали. Вон те, что мыском выдаются.
– Накрыло его вертолетом?
Это был принципиально важный вопрос. Если Геримхан Биболатов погиб, ситуацию можно считать разрешенной. Если он жив остался, еще неизвестно, чем все может закончиться.
– Трудно сказать… Последних могло и не накрыть…
– Если у них реакция хорошая, человек пять по ту сторону остались. Может, и больше. Я как раз перед падением корпуса смотрел. И думал уже, накрыло их или ушли… Скорее всего ушли, потому что корпус медленно падал. Передние ведь проскочить успели.
Это меня совсем не обрадовало.
– Винтовка… – напомнил младший сержант.
Я взялся было за снайперскую винтовку, чтобы с помощью тепловизора посмотреть вдаль сквозь пламя, но руку остановил.
– Бесполезно… Тепловизор, он и есть тепловизор… От слова «тепло» происходит. Он тепло органического организма различает. Чем горячее, тем ярче… Попробуй сквозь такое пламя посмотреть… Здесь тепла столько, что за ним роту с танковым сопровождением не увидишь…
– Сверху… – посоветовал кто-то.
Это, в принципе, было возможно. Как раз спины последних двух боевиков скрылись в дыму и огне, и я успел увидеть, как содрогнулся один из них, передернув плечами, когда его одежду охватило пламя. В это время и взрыв раздался. Наверное, у кого-то из самоубийц граната на поясе от высокой температуры взорвалась. По звуку судить, как раз гранатный взрыв. Я тем временем схватил винтовку и начал быстро, чтобы наверстать упущенное время, взбираться по склону как можно выше, выше даже своего пулеметчика, которому сделал знак за склоном по-прежнему следить внимательно.
Окажись сейчас где-то неподалеку спрятавшийся боевик, ему ничего не стоило бы снять меня единственной очередью, потому что на склоне спрятаться было негде. И страховка несколькими стволами здесь необходима, потому что в кустах вполне мог кто-то спрятаться, а мы «зачистку» еще не проводили. Снизу парни подстрахуют, но у них нет такого обзора, как у пулеметчика. Пусть подстрахует и он…
Я забрался даже выше скалы, которую поверху вдребезги раздолбали гранатами. Хорошо стреляли. Трудно в одно и то же место столько гранат уложить. Хороший у боевиков был спец, что подправлял прицелы у боевиков всех собранных воедино джамаатов, и очень вовремя мы его уничтожили, иначе он сумел бы доставить нам еще много неприятностей и сейчас, и в будущем. Оставалось удивляться, как только скала выдержала и не упала. Слишком крут склон, и непросто на нем удержаться даже тяжелой каменной глыбе, не имеющей, подобно дереву, глубоких и прочных корней.
Но дальше склон оказался еще круче, и я последние метры вообще чуть ли не по вертикальной стене, почти бегом, кстати, взбирался, цепляясь руками только за кусты, потому что камни здесь были ненадежными, могли свалиться, и за них цепляться было невозможно. Так я добрался до верхней точки, до которой хватило сил и умения добраться, и убедился, что выше уже, при всем старании, никак не поднимусь. И только после этого стал устраиваться. Но «устраиваться» – не то слово, которое может охарактеризовать мое положение. Я обхватил локтем, с силой обняв его, более-менее крепкий куст и одной ногой оперся о куст более слабый. Вернее, даже не о сам куст, а о его корневище, потому что ветки моя нога просто смяла и сломала. И в этом положении, сам удивляясь своей обезьяньей ловкости, умудрился снять из-за спины винтовку и включить прицел, чтобы рассмотреть дальнюю часть ущелья за полыхающим пожарищем. Но тут же и убедился, что старания мои были напрасны. Прицел был слишком сильным, и рассмотреть все пространство можно было только по маленькому пятачку, хотя и подробно. Чтобы все просмотреть, мне больше суток понадобилось бы. Конечно, тепловизор помогает и сквозь кусты смотреть. Но увидеть можно немного…
Однако я вовремя вспомнил про свой бинокль. За спину длинная винтовка убиралась с б*!*о*!*льшим трудом, чем снималась, но все же убралась. А вот бинокль помог мне сразу. И семь бандитов, неторопливо, с оглядкой, уходящих вверх по ущелью, я нашел сразу. Эти уходили совсем не так, как уходили в огонь и в смерть их лесные собратья. У этих были спины согбенны, потому что на них давил груз стыда – они ушли и бросили товарищей, хотя, по большому счету, ничем им помочь и не могли бы. Но сознание стыда все равно должно было присутствовать, и спины бандитов говорили об этом красноречиво. Так всегда бывает, что впереди на войне идут лучшие и самые сильные телом и духом, и первыми погибают; и неестественный отбор, который делается войной, всегда портит мужское население любой страны, уничтожая носителей лучшего генофонда. Остаются те, кто не мог стать героем, а герои гибнут. Это истина старая и известная, и против нее возразить нечего.
Я нашел среди уходящих бандитов человека в камуфлированной, на ковбойский манер натянутой на голову шляпе с полями, загнутыми по бокам к тулье. Эмир Геримхан Биболатов как раз с кем-то по трубке разговаривал. Спутниковая, видимо, трубка, потому что сотовой связи здесь нет. Сразу возникла мысль: Геримхан прекрасно понимает, что после таких потерь ему не стоит думать о прорыве через перевал, и он вызывает сверху разведку, чтобы с ней прорваться через наши ряды и соединиться с теми джамаатами, что остались ниже нашего лагеря. Это для него единственный выход из клетки, в которую он сам себя загнал. Перевал перекрыт большими силами, и там ждет неминуемая гибель. Если дело затянется и нас хватятся, то сюда тоже будут подброшены дополнительные силы. Выход один – собрать в кулак все, что можно только собрать, и идти в прорыв, чтобы вырваться из Змеиного ущелья туда, где есть возможность рассеяться по лесам.
Следовательно, если еще не поздно, разговор Геримхана следовало пресечь.
Снять винтовку оказалось делом более сложным, чем забросить ее за плечи. Мимоходом вспомнились школьные годы, когда я биатлоном занимался, и как там ремни забрасывались. Там ремни удобные. Неплохо бы такие же сделать для своих снайперов. Но эта мимолетная мысль не отвлекла меня от главной задачи. Винтовку я снял и начал искать положение, из которого мог бы выстрелить. Мелькнула мысль, что отдача приклада может просто сбросить меня со склона, но это не остановило меня, слишком уж велико было желание Геримхана остановить и обезглавить банду. Неустойчивое положение не давало возможности замереть, чтобы прицелиться тщательно. И тогда я избрал другой способ. Есть тренировочный норматив – три секунды на прицеливание. За эти три секунды следует и прицелиться, и выстрелить. То есть подсознание, что ли, направляет твоими движениями. Только цель попадает в прицел, следует выстрел. Я опустил ствол и поднял снова. И выстрелил через три секунды…
Меня в самом деле чуть не сбросило отдачей с моей неустойчивой опоры. Стоило больших сил удержаться. Но я удержался, снова нашел равновесие и опять к прицелу прильнул. Геримхана я не нашел, как не нашел и распростертого тела, как ожидал. Только пробитая пулей камуфлированная шляпа на манер ковбойской валялась, перевернутая, и ничуть не окровавленная, на берегу вытянувшегося тоненькой струйкой ручья. Струйка была настолько тонкая, что в ручей потом не перерастала, а просто растекалась среди камней, исчезая под землей. Я был бы рад, если бы это была струйка крови… Но ни крови, ни тела, ни вообще никого рядом я не увидел. Тепловизор позволил рассмотреть и кусты. Но эмир Геримхан Биболатов догадался, похоже, из какой винтовки в него стреляли. И другие бандиты тоже догадались. Я повел прицелом вправо и влево. И нашел скалу, закрывающую мне обзор своим выпуклым пузом. Бандиты уходят за этой скалой и могут этим укрытием пользоваться до самого поворота ущелья. Там дальше место слегка возвышенное, и там будет трудно пройти в верхнюю часть незамеченными. Трудно, но можно. Вернее, замеченными, но на такое предельно короткое время, что прицелиться не успеешь. Конечно, если они неосторожно высунутся раньше, пуля их догонит без проблем. Но догонит только одного, и вовсе не обязательно это будет непременно сам эмир Геримхан Биболатов. А мне, чтобы дождаться момента, когда кто-то высунется, придется провисеть здесь невесть сколько времени. А рука уже и так затекла и настоятельно требует отдыха. Но я бы час еще продержался, провисел в такой неудобной позе и усталость бы усилием воли превозмог. Была бы только уверенность, что попадется мне в прицел Геримхан. Однако такой уверенности не было…
Я попытался посмотреть, можно ли пройти по склону выше горящего вертолета. Но с моего наблюдательного пункта видно ничего не было. Дилемма не была дилеммой. Следовало спускаться и искать возможность для погони, не имело смысла висеть обезьяной на скале, никому не угрожая. И я решительно стал забрасывать винтовку за плечи, чтобы приступить к самому сложному участку своей маленькой операции – к спуску, который, как каждый альпинист и скалолаз скажет, самое сложное во всем восхождении дело…
* * *
Мы разделились на две равные по численности и по силам группы. Первую, идущую по правому склону, возглавил я сам, вторую младший сержант Отраднов повел на левый склон. И даже пулеметчиков я разделил, хотя обычно предпочитал, чтобы они работали парой. Когда пулеметчики парой работают, они в состоянии собой взвод заменить, создавая высокую плотность огня. Установку я дал конкретную:
– Искать любой проход, любую щель. Нам следует на ту сторону перебраться и догнать ушедших. Чем дальше от огня, тем лучше. И постарайтесь сами не сгореть. Чуть что подходящее попадется, вестового за нами и бегом. Мы тоже, со своей стороны, работаем по той же схеме. Будет успех, гоним вестового.
У нас не было той решительности, что у бандитов, но они шли в смерть, а мы просто в дым, они шли, чтобы умереть, мы шли, чтобы жить дальше с возможной безопасностью, которую мы могли бы получить, догнав и уничтожив Геримхана Биболатова и остатки его банды прежде, чем он соединится со своей дальней разведкой. Дальняя разведка должна была бы быть сильной. Прекрасно зная перевал, я понимал, что следует иметь не менее десяти точек постоянного наблюдения, чтобы определить по поведению солдат проходы в минных полях. На этих точках наблюдения должны производиться смены наблюдателей. Все это требует занять немалое количество разведчиков. Однако теперь работа разведчиков не нужна, и Геримхан Биболатов, надо полагать, уже готовится встретить их. Времени у нас в обрез. Пока отряд у Геримхана не сильный, его следует уничтожить. А потом можно будет и самим вместо Геримхана разведчиков встретить. Я ради такого случая готов даже ковбойскую шляпу эмира на себя натянуть, если только до нее доберусь.
Ждать, когда кончится пожар, бушующий от одного склона ущелья до другого, бессмысленно. До начала ночи прогорит точно. Может быть, и дольше, может быть, до середины дотянет. При этом раннее, обычное для глубоких ущелий наступление темноты я ночью еще не считаю. Ночь, это когда она наступает по соответствующим им часам. И горит не только корпус вертолета и разлитое горючее. Горят стволы деревьев, первоначально сваленные самим корпусом, а потом уже свалившиеся на него сверху. Дров наломано немало, и костер получился заметный. И когда еще дрова прогорят… Помимо этого на нижних участках склона, где еще можно было бы пройти, если бы не жар и дым, загорелись уцелевшие кусты и деревья.
Моя группа попыталась пройти трижды разными путями. Первая попытка была прервана огнем, две другие – слишком крутыми для прохождения скалами. Так ни с чем мы и вернулись, и только тогда заметили, что уже подступает темнота. Сели отдохнуть, вытирая пот с лиц и размазывая по лбу копоть, но в это время послышались с противоположного склона звуки стрельбы, и я сразу встал, чтобы лучше слышать. Встали и солдаты, тоже вслушивались. Стрельба могла померещиться одному, но не многим сразу. Хотя померещиться здесь может многое, потому что в бушующем уже несколько часов пламени все трещит, и искры взлетают к небу тоже с треском.
– Стреляли… – сказал кто-то.
– Точно? – переспросил я, все еще пытаясь представить, что в огне может издать звук, похожий на несколько коротких автоматных очередей, следующих одна за другой с разными интервалами. В голову ничего не пришло.
– Точно… – подтвердили сразу несколько голосов.
– За мной!
* * *
Вестовой от младшего сержанта Отраднова встретился нам как раз в тот момент, когда мы к правому склону подбежали. То ли пот, то ли копоть с глаз рукавом вытереть хотел, но только размазал. Дыхание перевести не успел, как начал докладывать:
– Товарищ старший лейтенант, они живы… – и закашлялся.
Я дождался, когда кашель кончится, а он не кончался долго, потому что солдат явно дыма наглотался, и только после этого спросил:
– Кто жив? Отраднов с парнями?..
– Бандиты… Они в дым ушли, а не в огонь… И на склон выбрались… Там можно осторожно пробраться, по самому краю… Там дно ущелья под большим уклоном от нас, от нашей стороны в вашу. Горючка, что горела, сразу стекла. Они сначала в каменном мешке отсиделись, потом остов вертолета прогорел, и по краю дальше двинули. Жарко, конечно, но прошли.
Мы уже сами на склон вышли, но высоко подниматься не стали. Вестовой показывал дорогу, я рядом старался держаться, но удержаться рядом постоянно было трудно, потому что узкий путь приходилось отыскивать.
– Как вы на них вышли?
– Мы уже мимо прошли… Там каменный мешок есть… Углубление в склоне, кустами прикрытое. Кусты сейчас полностью выгорели, и мешок видно уже… Раньше не видно было… За кустами… А они знали… Там и спрятались, пережидали. А мы мимо прошли. Поверху… Не заглянули… А то накрыли бы их там сразу.
– Дальше…
– А потом они сами двинули. Бегом… Девять человек… Мы их увидели, когда они нас обогнали. Сразу огонь открыли.
– А они?
– Они же автоматы там еще бросили. Когда сгорать пошли. Комедию ломали… Знали, что рядом другие автоматы подберут у своих убитых.
– Только мы те автоматы без патронов оставили… Кроме самых последних… Там всего-то несколько человек…
– Оставили… А они тоже только автоматы выбросили, а рожки не выбрасывали… У них патроны свои есть…
– Понял. Они без оружия шли…
– С пистолетами. Пытались из пистолетов отстреливаться.
– Положили?
– Троих… Шестеро в дым ушли, и в дыму уже дальше… Отраднов преследует.
– Понял. Догоняем. Веди быстрее.
Хорошего в том, что еще шесть человек могли уйти и соединиться с Геримханом Биболатовым, было мало. В этом случае группа бандитов уже составляла бы тринадцать человек, и никак не меньше, но наверняка больше должно было бы подойти разведчиков с верхнего ущелья. А нас здесь, в этом заслоне, вместе с шестью не слишком тяжело раненными солдатами, было шестнадцать. И теперь, после двух таких провалов, бандиты не рискнут идти открыто. И ночь будет им помощницей. Конечно, дальнобойная снайперская винтовка, имеющая прицел с тепловизором, могла бы оказать нам большую помощь. Но где гарантия того, что у разведчиков с верхней части ущелья нет еще одной такой винтовки? Вполне может статься, что и есть… Геримхан опытный командир, и он не стал бы оставлять единственного снайпера с тепловизором в бездействии, когда тепловизор очень может помочь в разведке. Конечно, снайпер мог прийти с каким-то джамаатом на соединение с Геримханом позже, чем была отправлена разведка, но Геримхан отправил бы его наверх сразу. Вдогонку… А если не отправил, значит, там уже есть снайпер с тепловизором. И если он соединится с Геримханом, нам придется туго, потому что я, простой командир взвода, хотя и умею общаться со снайперской винтовкой, все же не специалист-снайпер, и любой сержант, закончивший снайперскую школу, или любой бандит, который прошел обучение у другого, более опытного снайпера, будут сильнее меня. Если существует такое понятие, как снайперское искусство, значит, это действительно искусство. Каждому снайпером быть не дано. И только потому, что берут винтовку с оптическим прицелом в руки, снайперами не становятся. Это я знаю хорошо, потому что стреляю, может быть, лучше всех в батальоне. Зря, что ли, был когда-то перспективным биатлонистом… Но только уметь стрелять – это еще не значит быть снайпером. В этой специальности столько хитростей и всевозможных правил, которые я знать просто не могу. А если снайпер противника знает их и если между нами будет устроена снайперская дуэль, я обречен…
Следовательно, нам было очень важно не дать отдельным группам соединиться. И потому мы спешили. Но спешили, как оказалось, напрасно. Младший сержант Отраднов со своими парнями вынырнул из дыма нам навстречу.
– Что? – спросил я.
– Не пройти… Они сразу три горящих дерева со склона подорвали. Гранату бросили. Деревья свалились и единственный проход перекрыли.
– Стреляли вдогонку?
– В дым, товарищ старший лейтенант, стреляли. Наобум… Я бы сказал, ворон пугали, только в такой дым ни одна ворона не залетит. Давайте быстрее на выход. Мы, товарищ старший лейтенант, уже все наглотались…
Я махнул рукой, давая команду своей группе разворачиваться.
Назад шли быстрее. Из дыма всегда хочется быстрее выйти, чем в него войти…
А я уже начал лихорадочно голову ломать, соображая, что нам теперь следует предпринять, чтобы это оказалось для Геримхана такой же неожиданностью, как падение корпуса вертолета на голову его джамаатов…
Глава 4
1. Капитан Вадим Павловский, пограничник
Ксения, дурная голова, как говорится, ногам покоя не дает, за мной к нижнему заслону увязалась. Грешен я, как сказал бы наш поп, признаю это и не каюсь, но я с великой надеждой подумал, что хоть бы кто из бандитов нашелся такой добрый, спас меня и подстрелил мою неумную и почти ненавистную жену, пока я сам ее не пристрелил. Но бандиты порядочные, наверное, перевелись, а непорядочные пулю на нее жалели. Так она и кандыбобила за мной.
Сначала, как от лагеря отошли, она что-то еще говорила мне вслед, стремилась догнать. Я ненавидел и ее саму, и этот шелестящий шепелявый голос, постоянно пытающийся меня догнать. Но тропа, к счастью, была узкая, ходить по ней было сложно, и вообще возможно было пройти только по одному, колонной, а я старался идти быстрее и, чтобы не слышать Ксению, начал даже что-то глупое напевать, и даже не себе под нос, а так, чтобы она слышала – и благополучно заткнулась. Чтобы я и вдруг пел, это уму непостижимо, да еще и песню какую-то из репертуара современной попсы, которую, как человек почти порядочный, близко на дух не переношу и нервничаю, когда кто-то неподалеку такую музы́ку включает. Меня с детства воспитывали, чтобы музыка и песни были для души и сердца, а современные только для задницы предназначены и для тех, кто задницей одновременно и вихляет, и думает. Я таким быть не хочу, но к этому меня Ксения вынудила. Даже до такого состояния довела, а это уже далеко за пределом…
И от собственного пения я еще больше злился. Но с приближением к брустверу, естественно, петь перестал, чтобы не приняли меня солдаты за эстрадного уродца и последнего уважения не лишили. Я и так в их мнении, наверное, не многого стою, хотя в действительности я вовсе не такой плохой человек и совсем не плохой офицер. Только мне еще не представился случай доказать это. А впечатление обо мне у всех создается по Ксении, потому что люди, как правило, считают, согласно поговорке, что «муж и жена – одна сатана»… Она не может не вызывать отвращения, и я прицепом того же отвращения удостаиваюсь. Даже со стороны священника отца Валентина. Я это отчетливо в его тоне почувствовал…
Ксения, к небывалому моему счастью, кросса по тропе не выдержала и далеко отстала. И даже ничего кричать мне вслед не пыталась, потому что «дыхалка» у нее от такой дороги сбилась. Известное дело, беременные женщины кросс выдерживают плохо. А еще лучше бывает, если они в кросс не ввязываются…
– Товарищ капитан, – поднялся при моем приближении и честь отдал лейтенант Соболенко, поднялись и солдаты, кроме двух убитых, что в стороне лежали, и священника, которому вставать не обязательно, поскольку он подчиняется не воинскому, а церковному уставу, – докладываю…
– Отставить! Позицию занять! – категорично приказал я. – И сели все, сели, быстро! Кому залегать положено – залегли! Зачем под выстрел из-за угла подставляться?
По глазам солдат я понял, что попал в точку, а лейтенант Соболенко промахнулся. На боевой позиции во время доклада, если обстановка того не позволяет, не встают даже при появлении генералов. И спецназовцам это лучше других известно.
– У нас перемирие… – Соболенко удачно вышел из ситуации, не уронив своего боевого достоинства. А он, пройдя боевое крещение, это достоинство уже получил, о чем говорил весь внешний вид лейтенанта.
– С какой стати перемирие? Вы что, переговоры уже вели? – неприятно удивился я, потому что не любил, когда какие-то важные события мимо меня проходят, хотя я имею право быть в курсе происходящего.
– Так точно, товарищ капитан, – внезапно за лейтенанта ответил священник и доложил вполне по-армейски. – Вел я переговоры, извините уж, что без вашего согласия на то, но Господь распорядился, чтобы все спонтанно получилось. Так и поговорили с человеком в черном цивильном костюме, которого старший лейтенант Воронцов в вертолете чуть не подстрелил…
– Человек в черном костюме? – из-за моей спины спросила подошедшая Ксения, и голос ее выражал одновременно недоверие и неуемное любопытство.
Отец Валентин не удостоил ее вопрос своим вниманием, дожидаясь вопроса моего. Кажется, этот священник довольно наблюдательный парень и первым из всех просчитал и наши с Ксенией взаимоотношения, и ее характер. Впрочем, еще там, в разбитом вертолете, когда Ксению высаживали, эти же взаимоотношения просчитал, кажется, и старший лейтенант Воронцов.
– Странно здесь видеть человека в черном костюме… – сказал я в раздумье. – Среди камуфлированных… И кто это такой?
– Костюм, что называется, с иголочки, словно только что от лондонского портного… – сообщил священник, словно понимал толк в костюмах. Могу предположить, что он в самом деле понимал, по крайней мере, говорил с пониманием.
– Почему же не от парижского… – съязвила уязвленная невниманием Ксения.
– Потому что в Париже на дур баб шьют, а на мужчин в Лондоне, – сообщил я внушающе, подчеркивая, что с ее интеллектом лучше больше молчать. Впрочем, это холостой выстрел с моей стороны. Она в своем интеллекте, как все дуры, вполне уверена. – И что ему надо?
– Меня… – скромно ответил священник и не потупил глаза, как того требовал тон сказанного, а наоборот, блеснул ими в подступающих сумерках весело и с задором. Ему нравилось быть главным лицом в действе.
А сумерки подступали все более активно. Вместе с темнотой откуда-то взялись несколько небольших сов, что летали над ущельем и противно и резко пищали. Пока их еще можно было рассмотреть, но, я уже чувствовал, вскоре только совы будут нас видеть. В такой обстановке удержать бруствер будет нелегко, потому что боевики могут подобраться вплотную. Словно бы напоминанием об этом появились багровые отсветы в верхней части ущелья, где горел корпус вертолета. Там долго будет светло и там держать позицию можно, если есть против кого держать. Но мне показалось, что после полученного урока, если и остался у бандитов кто-то в живых, то постарается как можно глубже в землю закопаться, чтобы никто его не видел и не слышал и найти чтобы могли только с собаками. А снова соваться в бой против спецназа – дураков не найдется…
– Объясните, батюшка, – попросил я предельно сухо, хотя и вежливо. Мне не нравилось сценическое поведение там, где бой идет.
– Ну, скажем так, меня вместе с моим багажом… Именно за ним вертолет сюда прилетел, и в вертолете человек в черном костюме…
– Багаж – это что у контрабандистов забрали? Иконы?
– Да… Иконы…
– Очень ценные?
– Я затрудняюсь ответить точно. Для меня они, – отец Валентин истово перекрестился, – все обладают одинаковой ценностью, поскольку я не эксперт и не могу дать финансовую оценку. Но тот, кто ворует иконы, кто грабит православные храмы, а в последнее время это стало частым явлением, оценку производит и обычно знает, за чем идет. Я только знаю, что одна из икон очень старая, но для церкви она ценна не этим, а тем, что на нее молились многие поколения людей, икона с ними взаимодействовала и сама пропиталась соответствующими эманациями. То есть она энергетична…
– Чудотворная… – категорично сказала Ксения.
– Нет, чудотворная – это другое понятие. Чудотворной может стать и не обязательно старая икона, и никто не знает, почему она таковой становится. Это другое понятие.
– Ну и что человек в черном костюме? Он вызвал вас? – решил я не уклоняться от темы, но тут же сам уклонился, повернувшись к лейтенанту Соболенко. – Подумай, как в темноте обороняться будем…
– Я уже подумал, – сообщил лейтенант. – Нашел место для костра, и дров мы на всю ночь запасли. Костер будет освещать только тропу и не будет освещать бруствер. Проблема с тем, что время от времени придется дрова подбрасывать. Но это будем делать под прикрытием…
– Может, уже зажечь?
– Можно… – согласился Соболенко и кивнул одному из солдат.
Тот приподнялся, встряхнул коробок, проверяя наличие в нем спичек, и перепрыгнул через бруствер. Двое других тут же высунули стволы автоматов в бойницы, внимательно наблюдая за поворотом ущелья и тропы.
Я повернулся к священнику, чтобы продолжить разговор.
– Он меня не вызывал. Он меня подкараулил, – проводив глазами солдата со спичками, стал рассказывать отец Валентин. – Мы тут с лейтенантом рассудили, что патронов мало, а провизии вообще нет, а рядом валяются убитые боевики, у которых и патроны есть, и запас провианта на дальнюю дорогу. Причем у каждого в собственном рюкзаке. Человеку в камуфляжке идти, в сравнении со мной, к убитым – рискованно. В солдата сразу стрелять начнут, а меня сначала рассмотреть попытаются. И потому мы решили, что идти должен я…
Естественно, по благодарственному взгляду Соболенко я понял, что решил это сам отец Валентин, а лейтенант здесь вообще ни при чем. Он даже и права никакого не имел священника на такое опасное дело посылать. Скорее уж сам пошел бы… Но первым додумался священник, он и пошел.
– И я, помолившись, попросил у Господа благословения и пошел.
Костер вспыхнул сначала небольшим огоньком, однако почти сразу пламя расширилось. На бруствер еще два ствола легли, и прицелы прошарили и тропу, и склон, и даже низ долины, куда отблески огня легко доставали. Место для костра Соболенко выбрал удачное, если это он выбирал. Главное, что бруствер в свете костра просматривался только с нашей стороны, со стороны же противника оставался в тени, и потому в темноте.
– У меня, честно говоря, патронов в автомате не было. Но когда этот человек позвал меня, я его сразу на прицел взял. Он поверил, что могу пристрелить, хотя предупредил, что меня тоже четверо на прицеле держат.
– Как же их допустили туда? – с укором я посмотрел на лейтенанта.
– Их из-за поворота видно не было, – сказал священник.
– И что? И до чего договорились? – поторопил я события.
– Этот человек, раненный, кстати, в лицо выстрелом старшего лейтенанта Воронцова, откровенно сказал, что ему нужен только мой груз. Ну и меня он вроде бы пожелал тоже забрать, но это не обязательное условие. Если ему отдадут груз, он сразу освобождает нам проход и выпускает вместе с оружием. На почетных то есть условиях…
– Заманчивое предложение, – усмехнулся я. – И что вы, батюшка, ему ответили?
– Что правом решающего голоса не наделен, а решают все офицеры. Он дал мне час времени на раздумья, но я выторговал еще полчаса. Почти пятьдесят минут уже, кстати, прошло…
– Я пошла… – решительно заявила Ксения. – Кто со мной? Мне одной не унести.
– Куда вы? – не понял лейтенант Соболенко.
– За грузом священника. Не собираетесь же вы из-за каких-то икон погибать здесь.
– Товарищ капитан, – не обращая внимания на Ксению, спросил один из солдат. – А что там горит?
Чем темнее становилось, тем ярче были отблески пламени из верхней части долины.
– Ваш старший лейтенант заманил Геримхана Биболатова в ловушку и обрушил на них корпус вертолета. Уничтожил около шестидесяти человек. Молодец ваш командир…
– Так кто со мной? – повторила Ксения свой вопрос.
– Иди, пока ноги в темноте можно не сломать, и сиди в лагере, – сказал я. – И не высовывайся, пока тебе не разрешат.
– Я не поняла… – она была настроена по-боевому.
– Идите, женщина, идите, – твердо добавил отец Валентин. – И не трогайте мой груз… Иначе у вас руки отсохнут… Это я вам гарантирую…
Ксения села на камень. Понимания она ни в ком не нашла. Она и не могла найти понимания, особенно после моего сообщения о действиях старшего лейтенанта Воронцова. Теперь нам осталось объединиться, и тогда можно будет остатки бандитов уничтожить.
А меня опять мысль посетила. Все уже повоевали, кроме меня. Я один остался не у дел. Головная боль от контузии почти прошла и только едва-едва отдавалась звоном в ушах при напряжении.
– И как вы, батюшка, с этим человеком в черном костюме договорились? Он что, сам к нам заглянет?
– Нет. Я должен выйти к повороту и позвать его.
– Как его зовут?
– Я спрашивал. Он не пожелал себя назвать. Сказал, что нужно позвать эмира.
– Может быть, это сам эмир Геримхан Биболатов?
– Геримхан, товарищ капитан, здесь был раньше, – напомнил мне лейтенант. – А этот, в черном костюме, только недавно прилетел.
К сожалению, Соболенко был прав. А как было бы хорошо Геримхана живьем захватить… Впрочем, насколько я слышал, спецназ ГРУ предпочитает пленных не брать. Но захват командира противной стороны всегда считалось бóльшим достижением, чем разгром противника.
– А как показалось, фигура у этого, в черном, важная?
Отец Валентин плечами пожал.
– Сам он очень даже желал похвастаться. Но я думаю, есть чем хвастаться, если прилетает сюда на вертолете МЧС. Наверное, он влиятельная фигура. Кстати, говорил, что авиадиспетчер по его приказу сюда не допустит ни одного вертолета поисковиков. Это когда он объяснял мне, что наше положение безвыходно. Он тогда не знал, наверное, что там Воронцов с Божьей помощью наворотил… И уверенность из него так и лезла…
– А что, если я на свидание с ним схожу? – спросил я.
– Зачем, товарищ капитан? – не понял Соболенко.
– Захватить попробую…
– Захватить человека, пришедшего на переговоры… – выразил свой скепсис отец Валентин.
– С бандитами переговоры не ведутся. Но я попробую сделать все в рамках приличий. Можно его на что-то спровоцировать. Кавказцы народ горячий и на провокации поддаются легко. Я все же захвачу его. Кто что по этому поводу думает?
– Мне прискорбно, что я стал причастен к провокации, – заметил священник. – Не знал я, что пограничники работают по ментовской системе…
– Это не ментовская система. Просто менты взяли ее на вооружение. Погранвойска создавались когда-то в системе ВЧК, – цинично усмехнулся я. – А ВЧК всегда, с первых дней существования, была провокатором. У Дзержинского, если вы помните, был такой заместитель – товарищ Петерс, главный специалист по провокациям. Ради того, чтобы заманить в Россию Бориса Савинкова, Петерс создал целую контрреволюционную организацию, вовлек в нее тысячи людей, которых потом расстреляли как отработанный материал… Значит, у нас старые традиции… А вы, батюшка, имеете причины, чтобы ментов не любить?
Я специально обострял и напрягал ситуацию, чтобы разозлиться самому.
– А кто имеет причины, чтобы их любить? – ответил он вопросом на вопрос. И тут же показал совсем не церковный интеллект. – А что касается товарища Петерса, то он был даже заочно приговорен в Англии к смертной казни за ограбление почты и убийства. Это до революции было. Вовремя сбежал в Россию. И потом уже, как многие авторитетные уголовники, попал под крылышко к Дзержинскому.
Желая, похоже, вернуть разговор в прежнее русло, Ксения встала, подошла и за спиной у меня остановилась. В затылок дышала. Я чувствовал, что она готова подтолкнуть меня, готова настаивать, чтобы я решился на этот рискованный шаг.
Я сказал, я предложил, но сам тут же почувствовал всю сложность задуманного. И откуда-то из желудка вдруг потянуло тоской и желанием, чтобы кто-то нашелся, кто стал бы отговаривать меня от этого. А если бы отговаривать начала Ксения, я все готов бы был ей простить, все простить и забыть, и признал бы ее своей женой. Может быть, даже хорошей женой, потому что каждая жена должна беспокоиться за мужа и удерживать его от всяких опасных глупостей.
– И что собой представляет человек в черном костюме? – вместо этого спросила Ксения.
– Он, товарищ капитан, не выглядит робким, – вяло сказал отец Валентин мне, а не ей. – И слабым тоже не выглядит…
– А капитан выглядит робким и слабым? – с вызовом спросила опять же Ксения.
Вот же, вечно лезет туда, куда не надо. С ней демонстративно разговаривать не хотят, а она всегда лезет… А мне после таких слов поздно отступать. Она знает, как меня задеть за живое. Я умею драться, и умею хорошо драться…
– Одному нельзя идти, – решил Соболенко. – Человек в черном тоже наверняка не один будет. Я с вами…
Но во мне уже сработала реакция офицера, старшего здесь по званию, которому решать и распоряжаться ситуацией.
– Нет, Соболенко, ты здесь останешься. Мало ли… Офицер здесь нужен. Я пару солдат с собой возьму. Кто в рукопашке получше?
– Все одинаковы, – ответил солдат, лежащий ко мне спиной, с автоматом, наставленным в сторону поворота тропы. – Можем пограничников поучить.
Я усмехнулся, поскольку в рукопашном бое мог бы с любым спецназовцем посоревноваться.
– Тогда пойдем со мной.
– Я готов, – отозвался солдат.
– Еще кого-нибудь возьми…
Солдат повернулся и сел.
– У нас пара наработанная.
– Как зовут? – спросил я.
– Серега… Рядовой Константинов.
– И ефрейтор Братишкин, – представился другой солдат, сидящий в тени. – Тогда мы, товарищ капитан, заранее выходим. Вы через пять минут за нами. Мы – ползком, вы – открыто. Нас не ищите, не увидите. Но мы рядом, товарищ капитан, будем.
– Годится, – согласился я.
Честно говоря, идти втроем показалось совсем, кажется, не страшным, хотя тоже опасным. Это не одному пытаться провести сложный захват. И я понаслышке знал, что представляют собой в рукопашке солдаты спецназа ГРУ. На них можно положиться, и толку с них может быть больше, чем с пяти лейтенантов Соболенко. На душе стало как-то легче, хотя и не намного…
* * *
Говоря честно, мне бы очень хотелось, чтобы появился вдруг здесь старший лейтенант Воронцов и остановил действие моего плана. Я замахнулся, не подумав. Но на войне есть принцип – если замахнулся, то следует бить. А Воронцов признаков жизни пока не подавал, хотя по времени пора бы ему было и сюда заглянуть, проверить, как обстоят дела на противоположном фланге, если уж он осуществляет общее командование. Даже обвинить захотелось старшего лейтенанта за такую неторопливую небрежность. Но остановить операцию уже не мог никто, потому что солдаты тихо ушли в темноту, уже полностью вступившую в ущелье. Я глянул на часы, чтобы зафиксировать светящуюся стрелку часов. Осталось пять минут…
Я попытался сосредоточиться и настроиться.
– Ты ему сразу пинка между ног дай, пока он не понял ничего, – стала советовать Ксения. – Он согнется, ты его за шиворот и тащи быстрее.
Вот же дура…
– Ты в конце-то концов уйдешь отсюда или нет? – возмутился я. – Твое место в лагере. Там старший лейтенант Воронцов сейчас будет. Давай дуй туда… Сообщи ему, что мы затеяли…
Она растерялась.
– Я же… Я же подсказываю…
– Я тебе не подсказываю, сколько соли в щи кладут. Уходи, ты мешаешь.
– Как я пойду в темноте? Там все ноги переломаешь.
– Хорошо бы, вместе с шеей. По крайней мере, освободишь меня от обязанности тебя убивать. Убирайся!
Ее мои слова не обидели бы. Она часто слышала что-то подобное и давно привыкла. Ее обидело то, что посмеиваются сидящие рядом солдаты. Только лейтенант Соболенко смущение от сцены испытывал и в землю смотрел, будто ничего не видел и не слышал. Посмешищем Ксения всегда стать боялась. И потому она встала с гордо поднятой головой. При ее врожденной сутулости гордо поднятая голова смотрелась смешно.
– Пошла отсюда, – потребовал я категорично. – Галопом.
Галопом она не умела, но закостыляла все-таки, стараясь всмотреться в тропу и оттого сутулясь еще сильнее.
Я взглянул на часы. Осталось две минуты.
– Автомат дайте, – потребовал я, ни на кого конкретно не глядя.
Лейтенант Соболенко протянул свой.
– Там только половина рожка. Патрон в патроннике. Осторожнее с патронами…
– Гранаты у кого-нибудь есть?
– Единственная, – сказал один из солдат и бросил мне гранату. Я поймал ее на удивление ловко одной свободной рукой и сжал с силой, чтобы почувствовать значительную силу «Ф-1».
– Отец Валентин, – позвал я.
Он встал, но не подошел.
– Я не буду предателем и провокатором. Не волнуйтесь… Я сумею убедить его, что он предатель, а предатель – это не переговорщик.
– С Богом… – священник перекрестил меня, некрещеного.
Шагнув вперед, я выдвинулся за бруствер и сел на него, глаза закрыл. Я не знаю, о чем я думал. Не о том, что будет – это точно. Я старался расслабиться и ни о чем не думать. Потом несколько раз глубоко вздохнул и полностью выдохнул. Это помогло успокоиться.
И тогда я в последний раз глянул на минутную стрелку часов, со щелчком опустил на автомате предохранитель и пошел в темноту по плохо просматриваемой тропе. Поворот ущелья на фоне уже не грозового, но все еще хмурого неба просматривался едва-едва…
2. Ширвани Бексолтанов, самодостаточный эмир
Зарево пожарища в верхней части ущелья мне на нервы действовало. Стрельбы и взрывов оттуда уже не доносилось, и неизвестно было, положил Геримхан всех спецназовцев или часть сумела оторваться и стоит ждать оторвавшихся в качестве подкрепления здесь, на повороте ущелья. В принципе, нас это подкрепление должно было бы мало волновать, потому что Геримхан все равно им в спину ударит и выдавит на нас. И потому я приказал спешно строить бруствер из камней, наподобие спецназовского. Эмиры выделили своих людей и бруствер возвели быстро. Правда, мне он показался чуть-чуть тонковатым и шатким, но наши люди не любят отсиживаться за укреплениями, и потому не обучены строительным премудростям. Они больше любят обстрелять федералов из засады и уйти, не засиживаясь долго на одном месте, иначе к федералам подкрепление подбросят, и тогда уже никакой каменный или даже бетонный бункер не спасет, не то что бруствер. Но все же за бруствером устроиться можно было в большей безопасности, и парни это оценили.
Впрочем, я не дал им долго отдыхать, хотя уже темнело. В прикрытие уложил за бруствер целый джамаат, ощетинившийся стволами, а два джамаата выставил строить второй бруствер, пониже первого, но уже в непосредственной близости к самому повороту. Если спецназовцы за поворот выйдут, чтобы с нашей стороны прорваться, они нарвутся на убийственный огонь с пятиметровой дистанции. Тогда уж вообще никакая сила будет не в состоянии их спасти, и вопрос стоит только в том, чтобы Геримхан надавил на них со всей мощью и вовремя. И еще неплохо бы знать время, когда Геримхан вперед двинет. Перед этим он обязательно должен поставить меня в известность. И пора бы уже…
Я даже руку на кармане с трубкой держал, мысленно эмира поторапливая, прикидывая место, где он может сейчас находиться, и дело, которым он может сейчас заниматься. Я поторапливал, а он все не звонил…
Конечно, я сам мог бы набрать его номер – в этом проблем нет, но знал, как раздражает телефонный звонок в разгар боя или во время преследования отстреливающегося противника. А если в засаде сидишь, то такой звонок вообще выдать тебя может. Да и договорились мы твердо, что Геримхан сам позвонит…
Еще я, сам находясь поблизости от поворота, часто на угловую скалу поглядывал. Оттуда, из-за камня, должна была появиться фигура лжепопа, если она вообще должна была появиться… Получив груз, я сразу отправил бы его в вертолет, от греха и от шальной пули подальше, туда же отправил бы якобы для охраны тройку своих бойцов, а потом выбрал бы момент, чтобы и самому в вертолете оказаться. Я бы улетел по-английски, не прощаясь, и оставив Геримхана и его эмиров решать собственные задачи самостоятельно. На то они и эмиры, чтобы самостоятельно распоряжаться. Задачи у нас совершенно разные, и решать мы их должны различными методами. Отговориться потом можно будет без проблем. Ранение в голову… Не просто в лицо, а в голову. Вполне имею право улететь…
* * *
Говоря честно, я не слишком понял этого Святого Валентина, хотя всегда считал себя человеком в достаточной мере проницательным. Однако на то он и профессиональный кидала, чтобы его трудно было понять. Плохим он будет профессионалом, если по его лицу каждый будет читать то, что в душе и в мозгах происходит. И я, по большому счету, так и не понял, сумел убедить лжепопа в том, что его положение, как и положение всех спецназовцев, запертых в ущелье, безвыходно, или нет. Может быть, я промахнулся и мне следовало начать переговоры о попе не с ним самим, а с кем-то из офицеров. Даже с тем же лейтенантом, который ничего не решает, как его охарактеризовал Святой Валентин. А он бы потом пошел по инстанции к своему командиру, и мы решили бы этот вопрос. Мне нужно было только одно – получить груз попа и улететь с ним. Конечно, я обещал выпустить спецназовцев из ловушки, если груз будет у меня. Я бы и выпустил, только, мне почему-то так кажется, что этого мог и имел право не захотеть Геримхан Биболатов, который моим приказам не подчиняется. И если со спецназовцами после того, как я прикажу их выпустить, случится беда, я не буду виноват в этом. Значит, на то была воля Аллаха… Но это уже вопрос второстепенный. А первичный – отдадут мне груз или нет. Если бы я с офицерами вел переговоры, что это изменило бы? Офицеры, конечно, ответственны за жизнь своих солдат и не пожалеют груза Святого Валентина, лишь бы не писать матерям похоронки или как там они теперь называются. Только вот поверят ли офицеры мне? Об этом можно было бы говорить только после очной встречи.
Я попробовал посмотреть на часы. Было темно, и циферблат видно было плохо. Мы костров не жгли, как спецназовцы, чтобы осветить подступы к брустверу. Наш бруствер должен был оказаться для противника неожиданностью. Пришлось подсветить фонариком, чтобы узнать время. Уже скоро час из отпущенных полутора часов минул. И в этот момент подали сигнал из-за бруствера. Железкой о камень стукнули, привлекая внимание. Глупо, потому что сами себя сразу обнаружили. Лучше бы уж совой запищали, я бы понял. Но сигнал предназначался мне.
– Что там? – спросил я.
– Тень… Отблеск костра закрыл, тень… Кто-то выглянул и спрятался…
– Поп?
– Трудно сказать…
– Эмир! – громко позвали в это время по-русски.
Это явно не лжепоп звал. У того голос гибкий, с каким-то легким акцентом, а этот более грубый, требовательный.
– Какого тебе из эмиров надо? – громко спросил я, делая шаг вперед. Я уже понял, что это кто-то от Святого Валентина пожаловал на беседу со мной, но вопросом тянул время, чтобы сориентироваться заново, раз на встречу пришел кто-то другой. Должно быть, один из офицеров.
– Того, кто в черном костюме ходит с побитой физиономией…
Он не отличался вежливостью. Но это его беда. От отчаяния люди бывают грубыми. Если подошел офицер старшего звания, чем лейтенант, который был рядом и давно уже мог прийти, значит, на другой стороне дела плохи, Геримхан дожал их. И теперь этот со злости бесится, но понимает, что бессилен. И потому будет пытаться схватиться за соломинку.
Мне отчего-то начало казаться, что стараниями джамаатов эмира Геримхана через энное количество минут груз лжепопа будет у меня в руках. Я даже готов был частично смириться с тем, что Геримхан останется в живых, в благодарность за его помощь. А потом уже необходимо будет созвониться с Уматгиреем и решить, куда с грузом лететь – в Грозный, где снова начинать опасный маршрут через границу, или сразу в Грузию. Там даже место есть, где меня вместе с вертолетом примут…
– Что ты хочешь? – спросил я.
– Это ты чего-то хотел. Ты хотел встречи…
Я не стал и дальше слишком громко разговаривать, потому что парни из незнакомых мне джамаатов тоже могут оказаться разными, и я не могу за всех ручаться. Ведь был же, кажется, кто-то у Геримхана, кто «стучал». Тот, что со спутниковым телефоном… Слава Аллаху, Геримхан быстро стреляет, без раздумий… Такой же, с телефоном или без, может и здесь оказаться. Лучше поберечься. И я, кивнув в сторону бруствера, чтобы прикрывали меня, пошел к повороту.
– Ширвани, что они хотят? – спросил один из двух эмиров, чьи джамааты строили бруствер.
– Это я сейчас узнаю.
– Не выпускай его сюда, чтобы наш бруствер не видели.
Это была правильная и важная подсказка. Но не показывать же им, что я сам об этом не подумал. Говорили при этом мы по-чеченски, и не было опасения, что кто-то там поймет нашу речь.
– А для чего иначе я иду туда? Я мог бы и отсюда разговаривать…
– И не верь этим русским. Осторожнее будь. Вдруг они попытаются тебя захватить…
– Зачем я им нужен…
– Заложник… Если Геримхан будет их давить, они пригрозят убить заложника.
Святая наивность… И, слава Аллаху, что они такие… Действительность же гораздо более жесткая вещь. Геримхан знает, что я с удовольствием убил бы его. И будет только рад, если федералы убьют меня. Правда, сам он афишировать причины нашей неприязни не станет. В случае огласки уважения он лишится, а не я. Хотя и весь наш тейп тоже покроется позором из-за Зияудди, и потому я тоже не буду афишировать причины своей ненависти к Геримхану.
– Возьми с собой своих людей, – посоветовал второй эмир.
Вообще-то этот совет не был лишним. Мало ли как могут повернуться события после того, как Геримхан надавал им под зад. Обозлены и готовы сорвать свою злость на любом…
Я осмотрелся. Актемар, Висангири и Джамбулат тут же оказались рядом. Они хорошо мной лично обучены и всегда готовы прикрыть. В том числе от любого из здешних эмиров или от Геримхана. От федералов тем более. Мне даже команду давать не пришлось, они уже опустили предохранители своих автоматов.
– Так, чтобы вас видно не было, – сказал я.
Они молча двинулись вперед.
– Эй! – позвал я.
– Слушаю… – отозвались из-за поворота.
– Я сейчас подойду… Ты сам не высовывайся, иначе тебя могут подстрелить.
– Я жду…
Там, за поворотом, есть еще один полуповорот. Есть, грубо говоря, «мертвая зона», которая не просматривается ни с наших позиций, ни с позиций спецназа. Встречаться надо именно там, чтобы в случае осложнений не нарваться на обстрел. Туда и направились мои парни. Не доходя до крайней скалы, упали на землю и растворились среди черной ночной травы и кустов. Так, что даже я их не видел…
Еще раз прикинув, как вести разговор с офицерами, я тоже неторопливо двинулся туда.
* * *
Темнота под открытым небом никогда не бывает полной, потому что даже грозовое небо имеет свой свет и свое свечение, и потому она не помешала мне рассмотреть погоны капитана. Не просто капитана, а, к моему удивлению, капитана погранслужбы, хотя Геримхан предупреждал меня, что против нас стоит спецназ ГРУ. Но спецназ ГРУ не носит зеленые просветы, хотя я видел спецназовцев только в полевой форме, а на погонах полевой формы просветов вообще не видно. Но мне почему-то показалось, что это вообще не спецназовец.
Капитан смотрел на меня сверху вниз, поскольку ростом был значительно выше, и смотрел недобро, с каким-то горьким вызовом. Горечь во взгляде понять нетрудно – положение у них такое, что будешь смотреть горько, размышляя о своем будущем.
Впрочем, явление здесь погранца меня не удивило, поскольку со слов Уматгирея, владеющего всей здешней информацией даже в далекой Швейцарии, вертолет как раз и летел из погранотряда, где забрал груз реквизированной контрабанды. Пограничник мог быть просто попутным пассажиром, а мог быть и сопровождающим Святого Валентина, хотя последнее маловероятно, поскольку лжепопу сопровождающие не нужны, и он, при своей изворотливости кидалы, вполне мог бы от него отвертеться. Я, однако, разыграл удивление.
– А что здесь пограничники делают? Я думал, мы со спецназом ГРУ воюем…
– Я же тебя не спрашиваю, что делают в мусульманской республике грабители православных храмов, – пограничник говорил грубо.
Он мне сразу показался человеком, полностью лишенным той необходимой гибкости мысли, чтобы вести мало-мальски дипломатический базар.
– В вашем положении я бы отказался от хамства… – заметил я вроде бы между делом. – Но это вопрос воспитания, а я не ставлю себе задачу по воспитанию тех, кого уже без меня долго воспитывали, но не сумели добиться приличного результата. Итак, я слушаю твои предложения…
– А я пришел твои послушать.
– Так что, Святой Валентин ничего не передал?
– Отец Валентин что-то предлагал, но меня его предложения мало волнуют. Что ты предлагаешь? Выкладывай, и постарайся побыстрее, поскольку времени у тебя мало.
Я даже усмехнулся от такой наглости, хотя и понимал, что это глупая бравада отчаявшегося человека. Но, вместе с тем, я хорошо понимал, что отчаяние может и не довести кое-кого до добра. В отчаянии бросаются грудью на амбразуру… А мне такие совершенно не по вкусу. Я всегда предпочитаю сначала сделать дело, а уже потом позволять любому совершать подвиги.
– Мне повторить нетрудно, хотя дополнительное время на раздумья я не собираюсь предоставлять…
Я услышал неосторожный и явно посторонний здесь звук справа от себя, чуть ниже по склону, в густой траве. Но не покосился туда, хотя был уверен, что трава там колыхнулась. Туда, как я видел, двинулся Висангири. Обязательно выскажу ему, когда все закончится, свое решительное «фе». Его никто слышать не должен. А что, если бы этот психованный капитан дал сейчас туда, в траву, очередь? Автомат у него, как я вижу, не на предохранителе… Просто среагирует и выстрелит… И я не помешаю ему, потому что просто не достану.
– Так повторяй.
А теперь шорох и еще какой-то звук слева пришли, выше по склону, из-за кустов. Туда Актемар с Джамбулатом двинулись. Кто из них впереди, не знаю. Но тоже не забуду выложить претензию. Не первый год со мной, пора бы и научиться быть невидимыми и неслышимыми…
– Повторю… – я начал говорить громко, чтобы отвлечь внимание погранца от шорохов в траве и в кустах, но легко сумел отрегулировать свой голос, понимая, что более громкая речь может остаться незамеченной, и потому я постарался придать своему голосу угрожающий характер, показывающий мое якобы возбуждение. – Повторю, но если в следующий раз даже генерал заявится, то ему я повторять уже не буду… Не в том вы положении, чтобы с вами церемониться. С вами вообще можно не считаться…
– Ну-ну… – сказал капитан уже мягче. – Слушаю…
Мои внешне угрожающие нотки, кажется, остановили его агрессивность.
– Я дал полтора часа на то, чтобы мне сюда доставили груз, который перевозил в вертолете ваш поп. Если за это время груз не будет доставлен, вы все будете просто уничтожены.
– А если груз доставлен будет? – поинтересовался капитан уже почти миролюбиво.
Нет, первое мое впечатление было неверным. С ним можно и разговаривать, и договариваться, только следует проявлять жесткость и напор, если хочешь добиться цели. И груз, подумалось мне, уже лежит совсем недалеко от поворота ущелья.
– Я выпущу вас… Я прикажу выпустить вас даже с оружием в руках…
– Кому ты прикажешь?
– Своим подчиненным эмирам.
Я поймал его взгляд и вдруг сообразил, что капитан совершенно не боится ни меня, ни ситуации, в которой федералы оказались, и я слишком поторопился увидеть груз рядом. Значит, что-то не так идет, как мне хотелось бы.
– Я ждал, когда ты начнешь меня обманывать, чтобы развязать себе руки, – сказал капитан. – Лжец, заманивающий в ловушку, не переговорщик… Это ты понимаешь?
– Ты о чем? – спросил я, отступая на полшага, чтобы лучше видеть каждое его движение.
Но он сделал полшага ко мне, и дистанция осталась прежней, а мне отходить дальше было некуда – тропа кончалась, и я мог бы просто упасть, начни я пятиться на склоне. И вообще пятиться здесь, когда идет такое противостояние – это не достойно мужчины-бойца. А я всегда был неукротимым бойцом…
– Я о том, что ты человек, не имеющий слова… Своего мужского слова. Ты знаешь, что ты есть никто и твой приказ ничего не может решить. Даже более того, ты прекрасно знаешь, что Геримхан Биболатов ни за что не пожелает отпустить нас, да еще с оружием… Это при том раскладе сил, который ты знаешь, а ты, я делаю на этом ударение, еще ничего не знаешь…
Он подошел ко мне вплотную и мог бы, используя преимущество в росте и в весе, просто толкнуть меня животом, и я упал бы. Вот это, насколько я понимаю, как раз недостойно мужчины – падать, размахивая руками, пытаясь удержать равновесие, даже зная, что ты его все равно не удержишь. Конечно, кто-то из трех моих парней тут же очередь даст, и капитан начнет вслед за мной падать, и уже руками не размахивая, потому что не будет уже предпринимать попыток равновесие удержать. Мертвым это совсем не свойственно… Но неудобно себя почувствую я. Именно так авторитет теряется…
– Что я не знаю? – не понял я, но догадался по глазам капитана, что я в самом деле слишком многого не знаю.
– Я начну с того, что ты знаешь… Ты знаешь, что права не имеешь распоряжаться нашими жизнями. Отпустить или не отпустить, это мог бы решить только Геримхан Биболатов. Но ему изначально нельзя было нас отпускать, с грузом священника или без него. Мы для него – носители информации о местонахождении банды, которая готовится к прорыву через перевал, а потом и через границу. Отпустить нас для него – то же самое, что самому позвонить и вызвать для бомбардировки пару эскадрилий ракетоносцев. И ты это прекрасно знаешь, тем не менее предлагаешь нам свободу, считая, что купишь нас своими обещаниями. Но ты и не собирался обещание выполнять. Как называют человека, что лжет и не держит слово?
Признаться, я не ожидал от этого капитана такой отповеди.
– Если не хочешь верить, я заставить тебя не могу…
– Ты не ответил на мой вопрос. Как называют такого человека?
Я промолчал, хотя чувствовал, как закипает что-то у меня в середине груди и даже начинает потихоньку булькать. Что это такое, знал я хорошо. Сначала это гнев, грозящий потом перейти в ярость. И было отчего проявить ярость…
Меня обманули!
Мне не поверили!..
Уверенный в своем превосходстве не только физическом, подкрепленным тремя бойцами рядом, но и моральном, на которое мне давало право давление Геримхана на втором фланге федералов, я не опустил предохранитель на своем автомате. И сейчас рука к предохранителю потянулась. Но погранец опередил меня и наставил мне в грудь свой автомат.
– Я еще не все сказал.
– Говори же перед смертью, – пригрозил я, удивляясь, что мои бойцы до сих пор не сняли его очередью. Мне даже живо представилась картина, как этот капитан ломается в своей гордой фигуре, пополам перебитый, как травинка пулей, очередью, как падает с тропы, освобождая мне место, и скатывается со склона, разрывая о камни и кусты одежду и свое мертвое тело.
– Геримхан… – сказал он.
– Что – Геримхан?
– Его джамааты уничтожены. Сам он или убит, или бежал с остатками. Перед нами остались только вы. И мы вас не отпустим. Мы вас уничтожим. Мы просто раздавим вас…
– Что ты врешь про Геримхана, – слабо возразил я, каким-то непонятным образом уже чувствуя, что он сказал правду.
– У тебя есть трубка? Позвони, может быть, он еще жив и не так быстро бежит, чтобы не суметь сказать тебе слово-другое…
У меня голова огнем горела и в ушах звон стоял. В каком-то тумане я увидел периферийным зрением, что по бокам у меня встали фигуры двоих из моих бойцов, но они почему-то все еще не стреляли в капитана. Я вытащил трубку и нажал клавишу повторного вызова последнего абонента. Геримхан ответил сразу. И сам все сказал.
– Ширвани… Они уничтожили больше пятидесяти моих бойцов… Я сейчас спешу на соединение со своей разведкой… Я дал им приказ сниматься с перевала. Мы соединимся и к утру ударим. Продержитесь там до утра. Утром соединимся…
Я нажал клавишу отбоя, даже не ответив Биболатову. Коротко глянул через плечо, желая отдать приказ пристрелить капитана, и тут же быстро посмотрел за второе плечо. Позади меня стояли двое солдат с подготовленными для удара малыми саперными лопатками. А мои не стреляли… Было темно, но я, как мне показалось, увидел на лопатках кровь…
Актемар, Висангири и Джамбулат отправились к Аллаху…
– Ты арестован, – сказал капитан. – Отведите его в лагерь.
Солдаты приняли из моих рук автомат и повели меня, ко всему равнодушного, по тропе. Капитан посторонился, пропуская нас, потом шагнул к повороту ущелья, чтобы, наверное, выглянуть. А еще через минуту с небольшим из-за поворота одна за другой разорвались шесть гранат. Я не видел гранатного подсумка на поясе капитана. Но я знал, что Актемар, Висангири и Джамбулат имеют при себе гранаты…
Капитан догнал нас быстро.
– Какой дурак приказал строить за поворотом бруствер? – спросил меня с насмешкой.
– А что? – я не понял.
– А то… Мне ничего не стоило не выходить за поворот и бросить за бруствер гранаты. Твоих бандитов просто размазало по их же сооружению. Как только такие дураки еще воюют…
Я вздохнул, но не возразил. Да и возражать-то было нечего. Должно быть, у этого капитана богатый боевой опыт – сразу сориентировался, что необходимо делать. И нам с Геримханом, доморощенным воякам, трудно с такими тягаться, и нет ничего удивительного в том, что малым составом спецназовцы уничтожили почти весь джамаат Биболатова…
Глава 5
1. Максим Одинцов, рядовой контрактной службы, спецназ ГРУ
Камень под моей ногой предательски громко хрустнул. Конечно, это для чечен местные камни не предатели, они – ихние, они всем местным – родственники, но нас они выдают с удовольствием, стоит только проявить неосторожность. Я так торопился отпрыгнуть в кусты, что проявил неосторожность…
Тем не менее на стук камня никто внимания не обратил. Бандиты шли по узкой тропе плотной толпой, говорили громко, ступали еще громче, что-то горячо и возбужденно обсуждая, и за собственным шумом постороннего звука не замечали.
Военный разведчик во мне все же сработал сразу, и я, воспользовавшись тем, что ветер тучи разогнал и высветил над их головами чистую луну, принялся рассматривать группу, то есть толпу, одновременно вставляя гранату в «подствольник». Это просто счастье, что у меня остались гранаты и что бандиты идут так плотно и так торопятся.
Шестнадцать человек, один пулеметчик, один снайпер точно с такой же дальнобойной винтовкой, что была у снайпера внизу, а теперь перешла в руки старшего лейтенанта Воронцова. Винтовка с тепловизором, и будет плохо, если такая винтовка вступит в бой против наших. Я представлял, что одна дальнобойная снайперская винтовка с тепловизором при определенных обстоятельствах и в умелых руках в состоянии решить судьбу всего боя. Снайпер будет не виден, но издалека расстреляет всех. Полтора-два километра дистанция. Его автоматом не снимешь, его даже не увидишь, если он сдуру не надумает на ближнюю дистанцию перейти, как было внизу. Там, видимо, командир такой был, что не побоялся снайпером рискнуть, выставил его на противоположный склон, потому что с дальней дистанции снайперу стрелять снизу было невозможно из-за поворота ущелья, а подняться на склон в другом месте возможности не было из-за крутизны самого склона. А как в дальнейшем ситуация может разворачиваться, неизвестно, и неизвестно, какая позиция будет у бандитов, какая будет у спецназа…
Я пропустил толпу боевиков мимо себя, коротким взглядом сразу просмотрел пути собственного отхода до прохода в минном поле, потом пристроил рукоятку автомата к своему плечу, прицелился и выстрелил из «подствольника» так, чтобы угодить как раз туда, где шли снайпер с пулеметчиком. Здесь ущелье было совсем не таким, как внизу, и грохот взрыва не оброс вибрациями эха, но сразу разнесся по окрестностям и стих. Правда всего на несколько секунд. А через несколько секунд я уже дал три короткие очереди в еще не рассеявшуюся толпу бандитов и сам сорвался с места. И только через десять шагов, когда я проскочил открытое место и углубился в кусты у противоположного склона, пули засвистели вокруг, срезая ветки кустов. Я упал, перележал первые беспорядочные очереди, потом перебежал в сторону и двинулся дальше. Моя неожиданная атака, видимо, в первый момент ошарашила бандитов, но они быстро сообразили, что стрелял по ним только один человек, человек, пришедший снизу, следовательно, это гонец от попавших в окружение спецназовцев к спецназовцам на перевале, и этого гонца требуется перехватить. Я на это, признаться, и рассчитывал, желая оттянуть время соединения разведки с теми, что остались внизу, и дальнюю разведку заманивая в ловушку, которая существенно проредит их и без того не слишком великие ряды.
Еще я понимал, что наши на перевале не оставят боестолкновение у себя под носом без внимания. И сейчас в мою сторону уже, видимо, нацелен большой стационарный прибор ночного видения, единственный на перевале, но способный и в темноте помочь разобраться в ситуации.
До минного поля оставалось чуть больше ста метров, когда я ощутил удар в плечо и упал лицом в камни. Лицо, кажется, разбил, но боли не ощутил, как и боли в плече. Подняться и побежать дальше было делом нескольких секунд. И только по ощущению чего-то горячего, растекающегося по спине, я понял, что одна из пуль меня все же нашла. Но ранение было несерьезное, и пока я еще был вполне в состоянии свой план выполнить. Только кровь, видимо, бежала обильно, но потеря крови ощущается не сразу, и я должен был успеть до своих добраться.
Я бежал, я торопился…
* * *
Я бежал, я торопился, мама, раненый, кровью истекающий, я бежал к своей роте, но я к тебе бежал тоже… К тебе торопился… Я знал: чем скорее доберусь до своих, тем скорее смогу к тебе попасть… Потому так и торопился, потому не щадил себя…
Ты жди меня, мама, я обязательно скоро приеду, и мы встретимся. Ты же одна у меня, ты самый близкий, ты единственный близкий мне человек, и мне будет очень плохо, если я опоздаю и мы не увидимся…
Я никогда не держал на тебя обиды… Я понимал, что ты бывала несправедлива ко мне, но обиды я на тебя не держал, потому что понимал – ты сама обижена, ты несчастлива и тебя жалеть надо, мама… Милая моя мама…
Жди меня…
* * *
Минное поле представляло собой вовсе не поле в обычном понимании этого слова. Это была каменистая неровная равнина, усыпанная кустами там, где кусты сквозь камни смогли пробиться. Тропа через минное поле шла длинным зигзагом, состоящим из двух сходящихся под тупым углом троп. Никаких вех, естественно, выставлено не было, потому что читать показания вех умеют все боевики. Но расположение мин было нанесено на карту командира роты, а проход отпечатался в памяти тех, кто поле минировал и ходил с минами от места посадки вертолета до места их закладки. Я как раз ходил, и потому помнил все отчетливо. И даже ночь не смогла сбить меня с толку, но вот боевиков, меня преследующих, мое поведение с толку сбивало.
Я бежал там, где можно было бежать, но направление это вело не к самому перевалу, где были вырыты наши полнопрофильные окопы и выложены каменные брустверы, а в сторону, к скальной стене, которую преодолеть невозможно. Как только боевики уловили мое направление, а бежал я, время от времени пригибаясь и чуть-чуть шарахаясь в сторону, если тропа позволяла это сделать, в общем-то по одной линии, они решили меня догнать, и для этого решили срезать угол. С точки их выхода на минное поле это казалось вполне вероятным делом. И бежали они широко рассеявшись. Мне не было видно, сколько их осталось. Для этого необходимо было остановиться и оглянуться, а я время попусту терять не хотел. Пули время от времени опять посвистывали рядом. Но стреляли редко, рассчитывая захватить живым до того, как я добегу до окопов, тем более что я, казалось, от окопов в сторону уходил, словно собирался их под отвесной стеной обойти. Да и что за стрельба на бегу… Прицелиться невозможно… Они бежали, впрочем, недолго. Хотя я даже удивился, что так далеко смогли убежать. А потом последовало сразу два мощных взрыва, а за ними и третий. Вот тогда я позволил себе оглянуться, но тоже – на бегу…
Боевики поняли, куда я их заманил. И замерли как вкопанные. И тут подал свой долгий голос наш ротный «Поднос».[15] Мина упала с легким перелетом. Боялись, видимо, меня зацепить. Это уже сильно подействовало боевикам на нервы. И они побежали. Побежали туда, где первая мина упала, памятуя, что снаряд обычно дважды не попадает в одно и то же место. Но минометчики это правило тоже знают, и знают, что к месту первого взрыва часто сбегается противник.
Боевики побежали, и опять взорвалась мина на минном поле, но этот взрыв не остановил их. А вот следующий выстрел «Подноса» оказался точным. Я даже сам остановился, чтобы посмотреть результат. Теперь уже, покинув пределы минного поля, убегало пять или шесть человек. А по проходу в мою сторону бежали, не стреляя, около десятка наших парней. Конечно, даже с ПНВ узнать меня не могли, но армейскую форму конечно же рассмотрели. И хотя автоматные стволы из осторожности были на меня наставлены, я улыбался им навстречу…
* * *
Перевязка была закончена. Делалась она не в санитарной палатке, а прямо в палатке командного пункта, хотя он, по сути дела, был просто палаткой командира роты и сержанта-связиста, которого капитан всегда под рукой держал. Другие офицеры, командиры взводов, жили не в палатках, а в окопах с маленькими блиндажиками.
Капитан Полуэктов меня не беспокоил до тех пор, пока ротный розовощекий прапорщик-фельдшер не закрыл свой модный кожаный саквояж с медицинским оборудованием. Сумка с перевязочным материалом была у медсестры, а все медикаменты фельдшер с собой таскал, словно боялся, что солдаты на них будут покушаться. Конечно, в армии всегда найдутся желающие сделать себе укол шприц-тюбиком парамидола, но у нас таких любителей, насколько мне известно, не наблюдалось. Наркоманам в спецназе ГРУ служить сложно, потому что мы всегда при боевой обстановке. А там наркоманам не место…
– А бронежилет твой где? – зачем-то ковырнув пальцем бинт у меня на спине, спросил Полуэктов.
– Бежать в гору тяжело было, сбросил все лишнее… Чтобы скорость не терять…
– С одной стороны, правильно, – сказал мой командир взвода лейтенант Савин, присутствующий здесь же, – с другой стороны, в бронежилете пулю бы не получил…
– Товарищ капитан, выступать надо… Воронцов просил сразу выступить… Он почти без патронов там… И без гранат…
Полуэктов кивнул.
– Взвод уже выступил. Остальные готовятся. Ты пойти с нами сможешь?
– Конечно, – сказал я категорично и встал с походного раскладного стульчика.
– Крови он много потерял, – заметил прапорщик-фельдшер. – А так – рана сквозная, пуля между костей прошла, повреждены только мягкие ткани. Там сухожилия могло порвать – это было бы неприятно. Остался бы без руки. Отсохла бы просто. Но Бог тебя миловал…
– Наверное, отец Валентин за меня молился, – сказал я и сам не понял, съехидничал я или сказал от чистого сердца.
– Дойдет, – решил как разрешил фельдшер. – Парень крепкий…
– Товарищ капитан, комбат на связи… – поднялся радист, снял наушники с микрофоном и протянул их Полуэктову.
Тот только приложил один из наушников к уху так, чтобы микрофон около рта оказался.
– Здравия желаю, товарищ подполковник. Да, снимаю личный состав, оставляем только боевые расчеты на стационарных постах. В любом случае они продержатся несколько часов, если кто-то сунется, но соваться, судя по всему, будет некому. Нет, мне пограничники ничего не сообщали, у нас с ними, товарищ подполковник, прямой связи нет… Так… Так… Понял. Какими силами ведется преследование? Понял… В этом случае я оставлю на перевале взвод… Нет, не пропустят… Даже если с двух сторон… Не пропустят… И погранцы помогут… Так… А по какому поводу? Нет. Извините, товарищ подполковник, я не понял… Да-да, давайте… Капитан Полуэктов, товарищ генерал… Да, я внимательно вас слушаю… Это, товарищ генерал, невозможно. Там взвод нашей роты ведет бой… Это невозможно, товарищ генерал… Разрешите, я со своим комбатом поговорю… Да… Я понимаю, что он не отменит ваш приказ… Но я хотел бы поговорить со своим комбатом… Извините, товарищ генерал… В данном случае я не могу вас считать авторитетом…
Я понял, что грядут какие-то осложнения. Капитан Полуэктов сильно покраснел и, кажется, через свое естество перешагнул, разговаривая так с каким-то генералом. Разговор внимательно слушали все, все переглядывались, но никто не мог понять, о чем идет речь и что за приказ получил командир роты.
– Товарищ подполковник… Генерал слышит меня?.. Хорошо, товарищ подполковник… Я понимаю, что вы не можете отменить приказ свыше… И понимаю, чем мне грозит нарушение приказа… Да, да, спасибо, товарищ подполковник… До связи… Связь будет, когда мы вернемся…
* * *
Командир роты молчал больше минуты, опустив руку с наушниками и глядя себе под ноги. Никому ничего объяснять не желал. Потом встряхнулся, оглядел палатку и сказал категорично:
– Выступаем. Савин, со своим взводом остаешься. Через границу прорвалась банда, состав сорок два человека. Семь человек пограничники подстрелили, остальные тридцать пять идут ускоренным маршем в нашу сторону. Сможешь сдержать?
– Не пропустим, командир. Пулеметы развернуть не долго. Другая сторона круче этой и проход уже. Там вообще не прорваться…
– Ну, и отлично. А мы выступаем…
– А что там за генерал был? – спросил Савин.
– Какой-то генерал из ФСБ… – отмахнулся Полуэктов.
– А что ему надо?
Капитан опять замер, как недавно с наушниками. Помолчал, потом все же ответил:
– Генерал дал категоричный приказ держать перевал, не пропустить прорвавшуюся группу, и ни одному солдату ни в коем случае не разрешил покидать перевал и вступать в Змеиное ущелье. Чтобы нашего духу там не было… Так, сволочь, и сказал…
– То есть?..
От удивления я тоже забыл о строгой армейской субординации и вмешался в разговор офицеров, который меня, по большому счету, не касался и вообще не должен был бы происходить в присутствии солдата. И уж тем более капитан ни при каких обстоятельствах не должен был в присутствии солдата назвать генерала сволочью. Хотя только сволочь и могла дать такой приказ. Их мое возмущение, впрочем, не возмутило, поскольку они сами были возмущены приказом генерала.
– Вот тебе, Максим, и то есть… ФСБ какие-то там свои, видимо, штучки проводит… Как раньше, рассказывают, КГБ проводило… А наши парни там погибнуть могут… На это им наплевать…
– А имеет право этот генерал нам приказывать? – поинтересовался Савин.
– Комбат сказал, что приказ получен из Москвы.
– А что сам комбат?
Комбата, как я знал, наши младшие офицеры уважали сильно. От него они не ждали несправедливости. Но я тоже могу себе представить положение комбата, которому запрещают спасать своих подчиненных, когда он имеет к этому возможность.
– Ничего конкретного… – вздохнул капитан. – Сказал, что нарушение приказа грозит мне большими неприятностями. И только… Ладно, не будем время терять… Пойдем за неприятностями. А ты здесь нас подстрахуй…
И протянул руку к своему бронежилету, разложенному на раскладушке.
– Товарищ капитан, опять комбат… – радист снова протянул наушники.
– Слушаю, товарищ подполковник, – мрачно и даже зло начал Полуэктов. – Да… Готовлюсь выступать в Змеиное ущелье… Понял, товарищ подполковник… Так точно… Конечно…
Он внезапно выпрямился, словно принял стойку «смирно».
– Все нормально будет, товарищ подполковник… Мы все за вас встанем… Каждый офицер… – капитан посмотрел на меня. – И каждый солдат…
И передал наушники радисту.
– Что? – спросил Савин.
– Генерал с гипнотическим взглядом уехал, комбат подумал и дал приказ выступать в ущелье возможными силами, но не оставлять перевал без прикрытия. Игнорирование московского приказа он берет на себя. Говорит, все равно уже пора на пенсию.
– Это он… – сказал с заметным уважением лейтенант Савин. – Комбат…
Я взялся за свой автомат.
– Ты только его к левому плечу не прикладывай, – посоветовал прапорщик-фельдшер. – А то рана может открыться. На круглые раны нормальный шов не наложишь… При перенапряжении срываются…
* * *
Вот, мама, наступил, кажется, последний, завершающий момент во всех задержках моих на пути к тебе. Осталось совсем немного пройти, потом дождаться вертолета и вылететь в Ханкалу, а оттуда уже самолетом до Москвы, из Москвы, тоже самолетом, полечу к тебе…
Конечно, на целые сутки я задержался… Но я знаю, мама, ты потерпишь, несмотря на то что всегда была такой нетерпеливой… Нам с тобой только и остается, что терпеть… У меня наш прапорщик-фельдшер спросил сразу: «От госпитализации, конечно, откажешься?» Естественно, я отказался. Какая может быть госпитализация, если мне надо к тебе спешить… И в три раза была бы рана сильнее и опаснее, я все равно к тебе бы спешил… Потому что ты, моя единственная родная душа, ждешь меня…
Я доставил тебе в жизни немало огорчения только тем, что не хотел быть таким, каким ты меня хотела видеть. Ты хотела меня видеть особенным, а я был обыкновенным… Тогда я тебе не умел еще сказать, но теперь я знаю, что из особенных, как правило, ничего особенного не получается. А из обыкновенных получаются личности… Даже я сейчас, мама, стал личностью… Тебе это трудно понять, потому что ты другими категориями привыкла мыслить, но в этом не вина твоя, а твоя беда… Но ты не волнуйся, я не буду тебе это объяснять, чтобы не расстраивать тебя…
Главное, что я спешу к тебе, и мы скоро увидимся…
* * *
Хоть и говорят те, кто в горах работал, что спускаться труднее, чем подниматься, но это утверждение относится, наверное, не к проложенным по долинам и ущельям тропам. Наверное, на скалу взобраться легче, чем с нее спуститься, и на вершину, может быть, тоже, однако мы спускались в Змеиное ущелье гораздо быстрее и с меньшими проблемами, чем я только час назад, когда задыхался от долгой и быстрой ходьбы, но все же шаг за шагом преодолевал не слишком крутой, но затяжной подъем.
Неприятно удивило отсутствие на месте моего бронежилета. Показал место капитану.
– Не ошибся?
– Точно запомнил…
– Значит, кто-то из убегающих боевиков захватил…
Но без бронежилета идти было легче. Я бы вообще мог, наверное, еще много пройти, как мне казалось. Однако, начала сильно беспокоить рана в плече. Странное дело: когда я получил ее, ощутил только удар в спину и не сразу даже сообразил, что это пуля. Догадался только после того, как почувствовал липкую и горячую кровь на спине. Но рана оказалась сквозная, и кровь, которая и спереди текла, пусть и была такой же горячей и липкой, совсем не ощущалась почему-то кровью. Хотя выходное отверстие у пули всегда бывает больше входного. А я заметил выходное отверстие только тогда, когда стал окровавленную куртку снимать. Но и тогда же, и потом, когда рану фельдшер обрабатывал, я почти не чувствовал боли. Правда, фельдшер два обезболивающих укола мне сделал. Это, наверное, сказалось. А теперь, когда уже добрая треть пути позади осталась, рана начала гореть. Наверное, и лицо у меня горело, потому что капитан Полуэктов, державший меня постоянно рядом с собой, поскольку мой родной взвод остался прикрывать перевал от предполагаемого удара с тыла, несколько раз на меня посматривал довольно внимательно.
– Как самочувствие, Максим? – не выдержал, наконец, и спросил капитан.
А у меня уже несколько минут, как начали слипаться глаза. Просто сами собой, на ходу, и несколько раз я ловил себя на том, что, когда глаза слипаются, я на миг засыпаю, а просыпаюсь уже от того, что нога куда-то проваливается и колено ногу не держит. Внешне это, наверное, смотрелось так, будто я спотыкаюсь от усталости, хотя я не усталость как таковую испытывал. При обыкновенной усталости апатия наступает. У меня не было апатии, но было странное ощущение, что если я умышленно закрою глаза плотно и не буду бороться с собой, то есть не буду открывать их насильно, я сразу же и надолго усну.
– Спать, товарищ капитан, невыносимо хочется…
– А что прошлую ночь делал?
– Спал…
– Это от потери крови, – подсказал прапорщик-фельдшер, который тоже рядом был. – Да и обезболивающие уколы тоже… Они же с наркотой…
– Крепись, наркоман. – Капитан даже руку поднял, чтобы по плечу меня хлопнуть, но рядом с ним оказалось как раз раненое плечо, и он руку удержал. – Далеко еще?
– Скоро половина пути будет.
– Идем, торопимся…
Вскоре впереди и совсем неподалеку звуки стрельбы послышались. Посланный в погоню за разведкой боевиков взвод, вернее, за тем, что от разведки осталось, похоже, противника настиг. Так, по крайней мере, можно было предположить по интенсивности огня и взрывам гранат, пущенных из «подствольников». Бандитов, кажется, расстреляли…
Мы еще на две сотни шагов спустились и догнали своих.
– Как успехи? – сразу спросил капитан Полуэктов.
– Мы шестерых преследовали, – хмуро сказал командир взвода. – Пятерых положили… Один ушел… Снайпер… Куда делся? Все обыскали…
– Я в снайпера в первого стрелял из «подствольника», – сказал я. – Мне показалось, что убил. Может, кто винтовку его подобрал. Винтовка хорошая. «Дальнобойка» с тепловизором. Дорогая…
– Может… – согласился командир взвода. – Может, он вперед убежал?
Поиски пропавшего боевика со снайперской винтовкой закончились безрезультатно. Ждать долго мы не могли, решили, что боевик каким-то образом вперед убежал, как уже предполагалось, и все вместе двинулись к близкому теперь лагерю боевиков, который старший лейтенант Воронцов с вертолета рассматривал.
У самого большого кострища остановились, чтобы подготовиться к возможной встрече с противником. Капитан Полуэктов отдавал распоряжения. Я просто так стоял в самом центре и смотрел на всех. Капитан ко мне подошел.
– Тебе, наверное, в бой и не надо. Довел нас, и хорошо. Дальше уже по карте сориентируемся. Отдохни здесь и потихоньку с фельдшером за нами двигайся.
Со стороны это смотрелось, наверное, так, что капитан, отдав распоряжения, мне докладывает о выполненной работе. Откуда у меня эта мысль появилась – не знаю… Наверное, это не со стороны, наверное, это мне в сонном бреду так показалось. Я мало что видел и почти ничего не слышал. Выстрела-то я точно не слышал. Стреляли издалека, из «дальнобойки»… В этот раз я даже не почувствовал, как кровь растекается из дыры посредине груди…
* * *
Я спешу к тебе, мама… Я очень спешу к тебе… Скоро, очень скоро мы увидимся, мама… Я уже в пути и очень спешу…
* * *
Капитан Полуэктов залег рядом с распростертым на земле телом рядового контрактной службы Максима Одинцова.
– Точно в сердце… – сказал со стороны прапорщик-фельдшер.
– Не сказал я ему, – прошептал капитан, – сегодня радиограмма пришла… Мать у него умерла во время операции…
– Значит, уже увиделись… – сказал фельдшер.
– Парня-то по-доброму следует к награде представлять за этот прорыв к нам… Пусть и посмертно… Да ведь не подпишут… Нас всех за этот марш взгреют… ФСБ шутить не любит…
– А мы их шуток не понимаем, – заметил фельдшер.
– А мы их шуток не понимаем, – повторил капитан. – Все равно представление на Одинцова напишу…
2. Старший лейтенант Александр Воронцов, командир взвода, спецназ ГРУ
Вопрос о том, дошел или не дошел рядовой Одинцов до перевала, для нас оставался открытым, и надеяться на последствия этого можно было бы только в том случае, если бы он дошел. Мы вышли из зоны пламени и дыма и дальше отошли, вообще зону освещения покинув на случай непредвиденного обстрела непредвиденным противником. Конечно, здесь не осталось уже такого противника, и все мы это понимали. Но правила есть правила, и выполнять эти правила обязательно всегда, чтобы никогда не расслабляться. Иначе наступит критический момент, и ты сможешь позволить себе расслабление тогда, когда оно недопустимо, и это приведет к беде.
На груде камней сели, чтобы дыхание перевести и дым из легких выгнать. Как-то никто не заметил, что, несмотря на сильное потоотделение, одежда на нас уже высохла, и теперь хрустела и изобиловала солевыми разводами. В том жару, из которого мы вышли, это не мудрено.
Сидели на камнях, молчали, потому как понимали, что незаконченное дело всегда считается делом проваленным. Мы не закончили разгром банды Геримхана, значит, нам следует ждать следующего удара и принимать этот удар. Численное преимущество у Геримхана, по всей видимости, все еще сохранится. А если считать и джамааты в нижнем ущелье, то это численное преимущество становится значительным. Но за нижнее ущелье я как-то был спокоен. Если там такая хорошая, почти непробиваемая позиция, как говорил священник со слов лейтенанта Соболенко, то мои мальчишки бандитов не пропустят. Да и не слышно там никакой стрельбы. Похоже на то, что бандиты застряли после первых потерь и не рвутся понести потери новые. Их можно понять… Не хотят идти на смерть и ждут, когда Геримхан с более удобной позиции нас атакует и им дорогу тоже расчистит.
Отдыхали мы около получаса. Недалекое пламя, перекрывшее ущелье, сюрпризов не преподнесло и, прикинул я, по крайней мере, еще часа три-четыре не преподнесет, потому что пройти там никто не сможет. Значит, можно в лагерь вернуться и там с мыслями собраться. Оборону следует продумать. Знать бы, что дошел до перевала Одинцов, тогда можно было бы вообще в глухую защиту уйти и ждать подмоги. Хотя уходить в глухую защиту тоже можно только так, чтобы ущелье по-прежнему держать, как перекрытое «великой китайской стеной», непроходимым. Теперь Геримхану не следует уже думать о прорыве через перевал. Его задача в нынешней обстановке может быть только одна – прорваться в места, где банда может рассеяться сначала по лесам, а потом уже разбредется по селам с тем, чтобы где-то в сельских подвалах осесть по одному или попарно на зимовку. Другого им не дано. А наша задача простая – максимально уменьшить число бандитов и не выпустить тех, кто останется.
– Двигаем в лагерь… – приказал я. – На тропе осторожнее, чтобы ноги не переломать.
Мы шли не торопясь. И не только потому, что темная тропа была опасна. Просто после колоссального напряжения наступило расслабление, и делать в такой момент ничего не хочется. Опасное состояние, если враг вдруг появится, потому что каждому требуется время, чтобы вернуть себя в боевое функционирование. Но не зарядку же заставлять парней делать. И потому, чтобы не расслаблялись совсем, я опять разделил свою группу: сам с половиной бойцов пошел по тропе, а младшего сержанта Отраднова отправил по дну ущелья до места, где наши держат оборону.
– Сначала посмотри, как там базовый лагерь снизу просматривается. Я этот лагерь сам еще в глаза не видел и не знаю, можно ли там оборону держать. Видно ли его? Впрочем, боевики должны знать, где он располагается. Они с вертолета его рассмотрели. Потом проходите дальше. Там осторожнее. Наша позиция на самом повороте, но, понятно, не вплотную к нему. Посмотреть, видно ли снизу наших, видно ли противника. Ждешь там меня. Не подходишь… Понял?
– Так точно, товарищ старший лейтенант.
– Тогда – вперед!..
Когда задача поставлена, даже такая простая задача – посмотреть – заставляет человека быть собраннее. Следовательно, боеготовность сохраняется. Конечно, мне бы самому пройти понизу и все посмотреть, но мне необходимо было посмотреть помимо этого еще и сам лагерь на предмет пригодности к «глухой защите», проверить брустверы, выставленные капитаном Павловским. Я так и не понял еще толком, что он собой представляет как офицер и можно ли на него положиться. А положиться хотелось бы.
И хотя шли мы медленно, до лагеря дошли быстро. К моему удивлению, там не оказалось ни самого капитана Павловского, ни его беременной жены. Два бруствера перекрывали тропу. Сделаны были правильно и выглядели надежными. Капитан, оказывается, делал их не сам, а вместе с моими ранеными мальчишками, которые за этими брустверами заняли позицию и встретили меня естественным окриком:
– Стой, кто идет?
Я отозвался и осмотрел место. Вообще лагерь был в хорошем месте. Единственное неудобство состояло в том, что глубину лагеря, место, где лежали раненые, убитые и выгруженные из вертолета вещи, можно было бы обстреливать с тропы из «подствольников». Но в целом работой Павловского я остался доволен.
– Капитана куда зарыли?
– Ушел на нижнюю позицию.
– А его дура?
– За ним закостыляла…
– Зачем?
– Покомандовать…
Значит, следовало торопиться туда, пока она там не начала командовать капитально и дел не натворила. Но только мы двинулись по тропе, как со стороны нижнего заслона раздались один за другим взрывы шести гранат. Судя по звуку, взрывались «Ф-1». Мне эти звуки удовольствия не доставили, потому что у моих мальчишек столько гранат набраться не должно было бы. Оставалось надеяться, что они бросали трофейные гранаты, но было опасение, что бросали в них…
Ближе к месту я поднял винтовку и, не передергивая затвор, включил тепловизор, чтобы просмотреть ситуацию издали. Бруствер мне, к сожалению, видно не было, невозможно было рассмотреть и костер, что освещал часть склона – даже непонятно было, кто этот костер разжег и кто обеспечил себе видимость, но человека на тропе, идущего в лагерь, я нашел даже сквозь густые кусты. Судя по фигуре, это была Ксения Павловская. Наверное, уже накомандовалось или же ее просто мягко попросили принять командование над ранеными в лагере. Мы поторопились ей навстречу, но перед этим я все же просмотрел сквозь прицел и дно долины. Группу младшего сержанта Отраднова нашел сразу. Тепловизор все-таки великая вещь…
Нижняя группа шла неторопливо, но нас все-таки обогнала. Им идти было понизу легче, чем нам по тропе, и потому парни двигались быстрее нас и вскоре должны были уже выйти под нижний лагерь. Естественно, на освещенный участок Отраднов не полезет, чтобы не подставиться под выстрел. Значит, шагов через сорок вообще остановится и будет ждать там моей команды. Следовательно, и мне стоит спешить. Но задержка на пути неизбежна, хотя долго разговаривать с женой капитана я не собирался. Тем более она должна быть оскорблена моим поведением при спуске ее из вертолета. Значит, и со мной разговаривать не будет рваться. Это уже легче. Тем не менее я сам спросил, когда мы встретились на тропе:
– Как там обстановка?
– Сами смотрите… – сутулая, на высушенный стручок перца похожая женщина к беседе была, к счастью, не расположена.
Мы поспешили «смотреть»…
* * *
– Капитан у нас крещение принял… – радостно, даже с каким-то непонятным мне возбуждением, встретил меня отец Валентин.
Сам капитан не спешил докладывать обстановку младшему по званию, а лейтенант опять не знал, как ему вести себя между двумя старшими, нежели он, офицерами. То ли командиру операции докладывать, то есть мне, то ли оставить возможность доклада своему командиру – капитану Павловскому. Я понимал положение лейтенанта и на уставные мелочи и несоответствия внимание мог и не обратить. Но священник ни на звания, ни на командование не претендовал, и потому чувствовал себя вольно. Как-то даже непривычно вольно для священника и чуть-чуть суетливо, словно он тому же капитану много задолжал.
– Он же был категоричный, как этот камень, атеист… – усмехнулся я и сел на камень, о котором говорил.
– «Первый мир был потоплен водой, а второй для огня бережется…»[16] – какой-то цитатой ответил священник. – Капитан у нас прошел крещение огнем. Боевое крещение то есть… И трофей весьма памятный и, наверное, ценный добыл… Вон там, ногами перебирает…
Я только сейчас заметил в самом темном месте позиции какое-то движение.
– Кто там? – спросил я.
– Тот человек, которого ты подстрелил в вертолете, – сказал наконец-то свое слово и капитан. – Человек со шрамом… Так его теперь будут звать… Но у нас в руках он, к счастью, с документами оказался, и мы можем звать его по имени. Некто Ширвани Бексолтанов, специалист по ограблению православных храмов. Прилетел за иконами, которые наш Святой вез…
– Отец Валентин, – поправил я.
– Святой Валентин, – настаивал Павловский. – Авторитетный кидала, имеющий за плечами три срока. Правда, небольших, тем не менее… Уголовное погоняло – Святой.
Я поднял в изумлении брови и посмотрел на отца Валентина, требуя взглядом разъяснения ситуации.
– Господь не допустил моего маскарада, – развел руками Святой, признавая обвинения в свой адрес. – Признаю и каюсь и надеюсь быть вам полезным и дальше, как был полезным до этого.
Он явно просил этими словами признать, что вел себя достойно и не был нам обузой.
– Как выяснилось? – спросил я Павловского.
– Вон тот сообщил… – кивнул капитан на связанного пленника.
– Он предложил мне потихоньку освободить его и дать уйти в обмен на молчание, – добавил Святой. – Мне показалось это слишком большим грехом на мою и без того грешную голову. Тогда он попросту сдал меня капитану, а капитан забрал у меня автомат…
– Зачем? – не понял я.
– Святой, можно сказать, арестован.
– Он наш, он среди нас, он отказался предать нас, а его за это арестовывают? – мне такое положение вещей не понравилось. – Ты что, кэп, принципиальным ментом стал?
Павловскому, кажется, самому такое положение не сильно нравилось.
– Ты здесь командуешь, тебе решать.
Он поднял с земли автомат и через руки лейтенанта Соболенко и ефрейтора Братишкина передал мне, а я, в свою очередь, отдал его Святому. И тут только заметил в руке капитана трубку.
– Здесь что, связь есть? – спросил я.
– Это трофей. Спутниковая. Есть связь. Я уже доложил ситуацию и координаты в погранотряд. Не понял только, что там происходит. Что-то мне невнятное ответили и рекомендовали ждать…
– Дай я позвоню, – потребовал я.
Трубка тем же путем, что и автомат, дошла до меня. Пока она была в пути, я успел спросить, что здесь взрывалось. Капитан объяснил. Довольно скромно и сухо, несколькими словами, но я в этой сухости увидел ситуацию. Павловский действовал хладнокровно и правильно.
Я принял трубку.
– А этого как захватили? – кивнул я на пленника.
Капитан и это рассказал коротко, без хвастовства, и даже принижая свою роль.
– Удивляешь ты, кэп, меня… А говоришь, что не воевал… Тебе прямая дорога после этих событий – в спецназ погранвойск. Многому их научить сможешь…
Он, кажется, комплимента ждал и не сумел скрыть довольную улыбку.
Я набрал номер мобильника комбата. Тот ответил на ночной звонок не сразу. Спал, должно быть, или не сразу решился на разговор с незнакомым абонентом. А может быть, и то и другое. Но все же ответил после долгого моего ожидания, и ответил недовольно.
– Слушаю…
– Здравия желаю, товарищ подполковник…
– Саня! – обрадовался комбат. – Докладывай.
Я доложил обстановку.
– Да, Одинцов дошел до роты, дважды вступая по дороге в бой. Рота выступила к вам. Были некоторые осложнения, но Полуэктов выступил… А осложнения остались… У меня… Что вы там натворили такого? Чем вы ФСБ помешали?
– Я не в курсе, товарищ подполковник, чем мы им помешали. Ими здесь не пахло… А что произошло? Может, объясните, чтобы я в курсе был.
– Придется объяснить, хотя не хочется. Именно, чтобы ты в курсе был. Короче говоря, приходит приказ из Москвы выполнять указания генерала ФСБ Рахманина и согласовывать с ним все свои действия. Словно бы переподчинение произошло. Тут и сам Рахманин прилетает. Такой дядька с гипнотическим взглядом. Спрашивает, что тут у нас с твоим взводом. А мы не в курсе. Мы только знали, что вертолет со связи пропал, утром обещали начать поиски с воздуха, и я готовил несколько групп для десантирования, чтобы наземный поиск начали… Потом генерал сам на карте показал, где вы. И категорично запретил выступать вам на помощь, потому что вы своими действиями срываете важнейшую операцию антитеррористического центра. Я сначала растерялся, скажу честно. А тут капитан Полуэктов позвонил и доложил, что от тебя гонец пришел, контрактник этот, Одинцов. И Полуэктов собирается выступить к тебе в помощь. Генерал и ему запретил. Я, честно скажу, при генерале промолчал, грешен… А как он уехал, сразу с Полуэктовым связался и приказал выступать. Что мне терять, все равно на пенсию пора. А капитан и без меня уже выступил. Вот только что снова был генерал, ему уже доложили, что произошло. Должно быть, пограничники, я с ними беседовал. Генерал тут у нас молнии глазами пускал, обещал под трибунал меня отдать, на что я возразил, что жизнями своих солдат и офицеров не торгую, даже если мне взамен предлагают какую-то большущую цену. Только что ушел… Уже под аккомпанемент твоих звонков…
Подполковник, как я понял, слегка любовался своими действиями. Но я оценил их. Не каждый решился бы так поступить.
– Спасибо, товарищ подполковник.
– Нормально, Саня. Жди, значит, Полуэктова. Уже давно выступил. Вот-вот у тебя будет. Сообщай мне, как дела. С капитаном у меня связи нет. Он рацию на перевале оставил. И один взвод там. Через границу банда эмира Зияудди Бексолтанова перешла. Несколько человек во главе с самим эмиром убиты пограничниками, остальные проскочили. Движутся в сторону перевала. Надо держать и там накрыть. Приказа пропустить их не было.
– Понял. Мы пока здесь работаем. Буду докладывать.
Я трубку не Павловскому отдал, а себе в карман разгрузки под его вопросительным взглядом сунул. Объяснить, однако, пришлось.
– К нам выступило подкрепление с перевала. Комбат просит докладывать обстановку. А обстановка сложная… ФСБ, похоже, желает нашей гибели…
– Как так? – не понял капитан.
– Просто. Нашей роте категорически запретили выступать нам в помощь, чтобы мы не сорвали какую-то операцию антитеррористического центра. Комбат приказал все же выступить. Не знаем, что там происходит. Может, это связано с другой бандой. Прорвалась через границу и идет на перевал. Кстати, как, говоришь, зовут твоего пленника?
– Ширвани Бексолтанов…
– С той стороны шла банда Зияудди Бексолтанова… Сам эмир при переходе убит пограничниками. Не родственник? Не встречу они готовили?
– Сейчас спросим… – Павловский поднялся и пошел к своему пленнику. Разговор нам слышен не был, но вернулся капитан быстро.
– Родственник. Родной брат. Он назвал брата женой Геримхана и говорит, что тот шел на выручку Геримхану. Совсем, надо сказать, не опечалился гибелью. Высказал к нам просьбу дать ему возможность пристрелить самого Геримхана…
– Понял, – констатировал я. – Но сидеть так долго мы тоже не будем. Что там за поворотом? Сложно прорваться?
– Бруствер выложили. После моих гранат не думаю, чтобы снова за него залегли. Там дальше, кажется, еще один бруствер есть. Там, думаю, нас ждут…
– Кэп… Ты место знаешь. Оставляю своих парней тебе. Если идти в атаку, сначала подави встречный огонь пулеметом, потом – вперед. Я с винтовкой на противоположный склон проберусь, пока темнота позволяет. С противоположного склона можно за поворот заглянуть. У меня внизу тоже пулеметчик. Его выставлю. Будет вашу атаку прикрывать.
– Годится, – согласился Павловский.
* * *
Я быстро спустился к группе младшего сержанта Отраднова. Группу отправил наверх под командование Павловского, с собой взял только пулеметчика, выбрал место вместе с ним, пользуясь тепловизором, чтобы определить сектор обстрела для пулемета, потому что в темноте самостоятельно подобрать себе позицию пулеметчик не смог бы. А сам я полез выше. Правда, теперь у меня не было такой острой необходимости забираться слишком высоко и висеть на корнях куста, подобно горной обезьяне. Мне необходимо было подняться только на пять метров выше уровня тропы противоположного склона. Там я пристроился у корня дерева, чтобы было о что опереться. И включил тепловизор.
Поворот охраняло только три человека за вторым, как и предполагал Павловский, бруствером. Остальные, в большинстве, спали, положив оружие под голову, и только четыре человека сидели в стороне и оживленно что-то обсуждали.
Дальнобойные винтовки, к сожалению, не снабжаются таким же мощным, как сам ствол, глушителем. Это по той простой причине, что стреляют из них, как правило, с дистанции, с которой выстрел не услышишь. И не учитывается то, что стрелять иногда приходится в ущелье, которое выстрел может унести далеко-далеко. Правда, есть, я слышал, и такие винтовки с глушителем, но мне такая в руки не попала…[17]
Я выбрал себе цели – уж слишком заманчиво смотрелись в качестве мишени люди, оживленно беседовавшие в стороне от других, и мне почему-то показалось, что это командиры бандитов, эмиры. Долго прицеливаться я не стал. Просто перевел для тренировки ствол с одного на другого и в последнего уже выстрелил. Отдача помешала мне сделать следующий выстрел сразу. Вернув прицел на место, я убедился, что пулю напрасно не истратил и что трое оставшихся в живых не убежали в поисках укрытия, а залегли здесь же, и мне с более высокой позиции их было видно хорошо. Еще три выстрела последовали с коротким интервалом на возвращение прицела в зону обстрела. Наверное, я обезглавил только что проснувшиеся джамааты…
Бандитов осталось, кстати, не так и много. Я насчитал двадцать два человека в лагере и тут же округлил это количество до двух десятков. Скорострельность винтовки была низкая из-за отдачи, и с простой, не дальнобойной винтовкой, но снабженной тепловизором, я добился бы большего результата.
Но звуки моей стрельбы лагерь бандитов переполошили. Довольно быстро они определили, что убиты их эмиры. Начался какой-то спор. А потом, к моему удивлению, бандиты стали сниматься с позиции. И это было похоже на бегство. Жалко, что у меня не было связи с капитаном Павловским. Хорошо бы дать ему отсюда команду.
– Огонь! – крикнул я, не надеясь, что на той стороне ущелья меня услышат.
Но меня услышал и понял мой пулеметчик. Конечно, ему видно было плохо, тем не менее движение бандитов он заметил и начал плотную стрельбу. Это послужило командой и для Павловского. Почти сразу включился второй пулемет у скалы, и за обрыв полетели гранаты. А следом за гранатами и мои мальчишки в атаку пошли. Чтобы обезопасить их, я выискивал отставших боевиков, которые пытались отстреливаться, и так опорожнил полностью магазин, поставил запасной и очень быстро расстрелял и его. И каждая пуля при этом ложилась в цель точно, потому что при такой оптике промахнуться было невозможно.
Стрелять я прекратил уже на третьем магазине только потому, что в тепловизор вполне можно было спутать боевиков с моими солдатами, уже практически догнавшими покинувших позицию беглецов.
С нижними джамаатами было покончено. Но я вовремя вспомнил про вертолет. И скоро нашел его на недалеком расширении дна ущелья. К вертолету бежало несколько человек. Я уже даже выстрелить хотел в одного их бегущих, думая, что кто-то мечтает улететь от нас, но вовремя узнал капитана Павловского. Да и то узнал только потому, что от него не отставал человек в странной для взгляда через прицел одежде. Черные полы рясы развевались по ветру, как знамена. А автоматом лжесвященник размахивал так, словно грозился разнести им весь вертолет…
Эпилог
Старший лейтенант Воронцов спустился со склона вместе со своим пулеметчиком и двинулся по дну ущелья к вертолету. Шли быстро, да и идти было недалеко. Сразу после окончания боя небо над головой стало развеиваться, и луна дно ущелья освещала достаточно. Воронцов издали увидел, что капитан Павловский стоит перед пилотом вертолета чуть ли не по стойке «смирно», а Святой Валентин уже уселся на пассажирское место.
– И что здесь происходит? – спросил старший лейтенант, подойдя вплотную.
– Подполковник Алиев, авиационный отряд федеральной службы безопасности, – представился пилот. – Это ты, старлей, своими неумными действиями нам операцию почти сорвал.
– Документы, – холодно потребовал Воронцов.
– Ты что, думаешь, отправляясь на операцию под видом пилота МЧС, я беру с собой документы офицера ФСБ?
– В таком случае я вынужден буду задержать вас до выяснения ситуации. Свяжите ему руки за спиной, – кивнул старший лейтенант солдатам.
– Ты что, старлей, совсем сдурел? – возмутился подполковник.
– Если будет на вас давить, вы знаете, как попросить его заткнуться.
– У меня, товарищ старший лейтенант, не поболтает. – Ефрейтор Братишкин саперную лопатку показал. – Острая… Язык быстро побреет…
Подполковника увели в сторону.
– Куда Святой намылился? – поинтересовался я.
– Подполковник хотел его с собой забрать вместе с грузом. Я послал двух солдат за грузом, – сообщил Павловский, сначала растерявшийся от обращения Воронцова с человеком, представившимся подполковником ФСБ, а потом испытавшим некоторое раскаяние из-за того, что сам не подумал проверить у подполковника документы.
– Возвращаемся все. Два человека… – показал старший лейтенант пальцем. – Охранять вертолет.
Назад шли гораздо медленнее, чем бежали в атаку. Словно усталость на всех навалилась. На половине пути долину осветила зеленая ракета.
– Наши подошли… – сказал Воронцов.
– Похоже, они уже у нашего бруствера…
– Похоже…
Капитан Полуэктов в самом деле встретил их у поворота ущелья. Воронцов козырнул и по форме доложил обстановку.
– И где этот подполковник?
– Ведут… – кивнул старший лейтенант на последние ряды.
– Проверить надо. Я сейчас с Ширвани Бексолтановым разговаривал. Он сказал, ему обещали одну из этих икон обменять на десять «Стингеров».
– Не хреново, – заметил капитан Павловский. – А все-таки, как выяснить насчет подполковника? Может, вашему комбату позвонить?
Воронцов молча достал трубку. Комбату так и так следовало доложить обстановку.
– Подполковник Алиев? – переспросил комбат. – Сейчас, спрошу, товарищ генерал. Да, есть такой. Генерал Рахманин хочет поговорить с Алиевым.
Подполковника как раз подвели. Воронцов сунул ему трубку.
– Генерал Рахманин…
Подполковник отошел с трубкой в сторону и разговаривал шепотом. Потом вернулся и насмешливо вернул трубку старшему лейтенанту.
– Слушаю, Воронцов.
– Генерал Рахманин. Ты, старлей, пойдешь вместе со своим комбатом под трибунал. Это я вам обещаю обоим. А сейчас выполняй все приказания подполковника Алиева и молись Богу, чтобы он тебе простил хамство.
– Вы, товарищ генерал, все равно не простите…
– Что я не прощу?
– Мое хамство. Я как раз собираюсь вам нахамить. Но только сразу ставлю в известность, что мы вместе с комбатом и с другими офицерами батальона подаем на вас встречный иск за то, что вы пытались уничтожить взвод солдат ради своих ведомственных интересов. Будьте к этому готовы. А теперь будьте готовы к хамству. Сейчас, я воздуха в грудь побольше наберу, чтобы дольше материться…
Генерал отключился от разговора…
Подполковник Алиев смотрел на Воронцова, выпучив глаза.
– Святой Валентин, – позвал лжесвященника капитан Полуэктов. – Что они тебе обещают?
– Обещают задействовать в операции и за это простить… – лжесвященник улыбался обаятельно.
– Я тут только что со связанным эмиром разговаривал, он говорит, что тебя просто подставят кому следует, чтобы тебя грохнули, а иконы забрали…
Святой улыбнулся еще шире:
– Я – профессиональный кидала, а они – дилетанты… Кто кого, посмотрим…
– Летишь? – спросил Воронцов.
– Лечу…
– Господь с тобой…
– Оставайтесь с Богом…
– Братишкин! Отведи подполковника и Святого к вертолету. Пусть летят…
Примечания
1
ПЗРК «Стингер» – переносной зенитный ракетный комплекс американского производства.
(обратно)2
«Псалтирь», пятидесятый псалом Давида.
(обратно)3
«Псалтирь», пятидесятый псалом Давида.
(обратно)4
Джамаат – боевая единица в незаконных вооруженных формированиях, способная вести самостоятельные боевые действия и включающая в себя специалистов разного профиля – кроме командира (эмира) и его заместителя в джамаат обычно входили снайперы, разведчики, минометчики, минеры, связисты, санинструкторы и проч. Численно, как правило, джамаат приравнивался к общевойсковому отделению, то есть состоял из 10–12 человек. Штатное расписание и инструкции по действиям для отдельных джамаатов были разработаны под руководством Хаттаба, когда стало ясно, что крупными формированиями боевики не в состоянии противостоять федеральным силам.
В более широком смысле, джамаат – объединение, связывающее людей одних культурных или религиозных убеждений.
(обратно)5
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (Лев Толстой, «Анна Каренина»).
(обратно)6
В вертолете сиденье пилота обычно находится с правой стороны, как в автомобилях с левосторонним движением.
(обратно)7
Эмблема спецназа ГРУ изображает летучую мышь на фоне земного шара.
(обратно)8
Граната «ВОГ-25» – осколочная граната для подствольного гранатомета.
(обратно)9
«МОН-5» – мина противопехотная осколочная, направленного поражения, управляемая. Стандартная мина, состоящая на вооружении Российской армии, предназначена для выведения из строя личного состава противника, дальность поражения около пятидесяти метров.
(обратно)10
«Вертухай» – раньше – охранники в лагерях из состава внутренних войск, сейчас – охранники из состава войск Министерства юстиции.
(обратно)11
«Псалтирь», третий псалом Давида.
(обратно)12
«Полосатики» – заключенные особого режима, которых одевают в полосатую робу.
(обратно)13
Фермопилы, Фермопильское ущелье в Греции – там триста спартанцев во главе со своим царем Леонидом ценой своей жизни задержали в узком проходе многотысячное войско наступающих на Грецию персов.
(обратно)14
Ронсеваль, Ронсевальское ущелье – там десятитысячный отряд под командованием маркграфа Хроутланда (Роланда Неистового), прикрывающего отступление войска своего дяди короля франков Карла Великого, полностью погиб, но не пустил противника в погоню.
(обратно)15
«Поднос» – 82-миллиметровый миномет 2Б14-1. Стандартный миномет в российских вооруженных силах.
(обратно)16
«Первый мир был потоплен водой, а второй для огня бережется…» – слова из песни иеромонаха Романа.
(обратно)17
Крупнокалиберная (25 мм) снайперская винтовка «Пэйлоад Райфл».
(обратно)

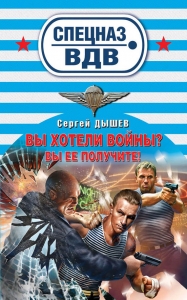


Комментарии к книге «Огненный перевал», Сергей Васильевич Самаров
Всего 0 комментариев