ЕЛЕНА БЛАГОВА АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО
Всем любящим и любимым
А бедра ее играли В том танце неутолимом, Как будто ножи блистали, Закатным огнем палимы. И, задыхаясь от страсти, От жизни, родной до дрожи, Ты понял: смерть — это счастье В объятьях, на свет похожих. Габриэль ЧавесОн прижал ее к себе сильнее. Она выгнула спину, застонала. Закинула ногу, согнув в колене, ему на напряженное, стрелой вытянувшееся бедро. Поглядела в его лицо. Правый глаз мужчины блестел живым и жадным блеском; левый — глядел мертво, ледяно, неподвижно. Он заломил ее локоть, крепко сжав в смуглых пальцах, ей за лопатку, за гибкую, как лоза, спину, и чуть не обжегся: так горяча, как пламя, бьющееся на ветру, была ее рука.
— Ты по-прежнему любишь меня?..
— Говори тише. Я слышу.
Он приблизил губы к ее вспыхнувшим губам. И рот ее как огонь. О, рот-твой-огонь, я боюсь в нем утонуть и сгореть дотла. Дотла и навсегда.
— Я… — Она резко отклонилась назад. — Я так хочу… Ну, я же хочу… О, сделай так, чтобы…
— Тише. Я делаю все правильно. Не вцепляйся мне в плечо. Мне больно.
Прибой музыки шумел в ушах. Нет, это кровь. Это их горячая, безумная кровь говорит в них, кричит, ищет выхода.
Нет выхода. Нет выхода. Нет.
— Ты…
— Я…
— Молчи. Обними сильнее. Поверни меня. Вот так. Так.
Кровь пела свою дикую музыку. Выбивал железный, неумолимый ритм маленький барабанчик: там, та-та-та-там, та-та-та-там. Скрипки плакали и выли, как волки. Красота — это безумие, и, если ты им переболеешь, тебе уже не страшна смерть. Если тебя обнять еще крепче, хрустнут твои нежные косточки. Зачем женщина — не птица? Если бы она была птица, он сбил бы ее влет. И делу конец. А так — он вынужден держать ее в объятьях и подниматься, и опускаться над ней, и пристально, будто потерял его и нашел, глядеть в ее закинутое лицо. В ослепительный свет ее смуглого лица.
— Я же хочу… Ну, я же хочу…
— Ты замолчишь когда-нибудь?!
Музыка взвилась как флаг. Он закрыл ей рот поцелуем.
— Я так хочу ребенка от тебя!.. Я устала… Все время на сцене… в танце… все время самолеты… поезда… концерты… контракты… ужас… я устала от ужаса сгорать, отдавать себя… я больше… не могу… быть…
— Прекрати!..
— …танцовщицей…
Музыка гремела. Барабанчик гремел. Кастаньеты выбивали бешеную, резкую дробь. Виолончели стонали и жаловались то органно-гулко, то бархатно, вкрадчиво. Мужчина рванул женщину за руку, и она, слегка вскрикнув, упала ему, на грудь. Его губы невольно коснулись ее затылка, ее иссиня-черных, заколотых в тугую, плотную корзину на затылке, гладких кос.
— Ты идиотка!..
— Я… наконец… хочу…
Музыка вонзилась ей под ребро, как кинжал. Она забилась. Он крепко держал ее в руках, прижимая бедра к ее раздвинувшимся бедрам.
— …родить…
— А умереть ты не хочешь?!..
— Умереть?..
И, когда музыка разливалась у ее ног подобьем красной реки, и она, цепляясь за его плечи, за руки, за локти, за маслено блестевшую голую грудь, стала, в ярко-красном, похожем на пион, платье бессильно сползать к его напряженным, с выгнутыми, вздувшимися мускулами, затянутым в черное трико сильным ногам, — он, подхватив ее под мышки, наклонился к ней, и она запрокинула лицо и из последних сил улыбнулась ему, и алые оборки на ее юбке вздрогнули, будто живые, и опали: она умирала на сцене по-настоящему, как умирала всегда в этом танце, что он поставил для нее, только для нее одной.
И они не видели, как дрогнул и стал надвигаться, падать на них массивный занавес, закрывая от них беснующийся зал; они не слышали грома рукоплесканий, свиста и выкриков: «Браво!», не слышали, как музыканты стучат смычками о пюпитры, свидетельствуя им свое почтение; они не чувствовали ничего, кроме того, что вот — все — кончилось. Конец, облегчение, скорбь, выдох. Голова женщины повисла, склонилась на плечо. В слепящем белом свете жарких софитов тускло блестели ее гладко причесанные волосы цвета воронова крыла. Мужчина упал перед ней на колени. Прижался губами к ее виску. Держал ее обмякшее, обессилевшее, потное, худощавое, легкое тело в руках со странным, смешанным чувством привычности, родства, усталости, отвращения, нежности.
Она не поднимала головы. Не открывала глаз.
Она была как мертвая.
— Мария, — шепнул он ей на ухо, задыхаясь. — Мара!..
Она не шевелилась.
Тогда он сжал ее в руках сильнее. Стиснул ее тело, ее хрупкие плечи до боли. Встряхнул. Отогнул ей голову, силился заглянуть ей под опущенные, с густо, тяжело накрашенными ресницами, намазанные синей краской веки.
— Мара, ты слышишь меня?!.. Эй… не пугай меня… И публику… Эй, Мария, прекрати дурить!.. Очнись, ну же!.. сейчас занавес пойдет… Мара!..
И занавес пошел.
Он пошел вверх и вбок, снова показывая их народу, обнажая их сплетшиеся судьбы — для равнодушных зевак, для любопытствующих зрителей, для тех, кто купил билет на представленье. На миг ему показалось: они — два скелета, и застыли, обнявшись, на дне могилы, и теперь их никто и никогда не разнимет, только разобьет их кости лопатой.
Он уже видел оркестрантов в яме. Он уже видел люстры под потолком зрительного зала, горящие, как сковородки, полные золотого жаркого. Он, стоя перед женщиной на коленях, по-прежнему держал ее, недвижную, на руках, и по его нагому, красно-загорелому, маслянисто блестящему торсу тек пот, стекал между лопаток, по выпуклым пластинам груди. Он касался губами ее лба.
Губы первые поняли. Потом уже — разум.
Ее лоб был холодный. Слишком холодный.
Нет. Не может быть.
— Нет! — шепотом крикнул он. Поднял лицо. Ему в глаза ударил золотой свет, брызнувший от шевелящихся в медной сковородке люстры бесчисленных звезд. — Не может быть! Мара…
Он отогнул рукой ее лицо. Схватил ее подбородок в пальцы. Сжал.
— Мария… — У него кончилось дыхание. — Я согласен… Все будет, как ты хочешь… Как ты… хотела!..
Зал кричал: «Браво, браво, браво, Виторес!.. Ви-то-рес!.. И-о-анн!..» Люди вставали с кресел, хлопали в ладоши, поднимая руки над головой. Они оказывали высшую почесть артисту. Дирижер непонятливо, изумленно смотрел на них, застывших на дощатом полу сцены: что это ребята, мать их за ногу, так долго не поднимаются, не начинают номер на бис! Ведь публика так неистово, дико кричит: «Би-и-ис!»
Лысый плюгавенький барабанщик, исполнявший партию маленького барабанчика в болеро, вместо аплодисментов тупо, глухо бил палочками в белую кожу барабана.
«Би-и-и-и-ис!.. Виторе-е-ес!..»
— Ну же, — сказал мужчина ледяными губами, обернувшись к дирижеру, — ну же, ты, бездарный махальщик руками, начинай, это твоя работа, начинай, давай, шуруй, пусть музыканты врежут на все фортиссимо, возьмут внимание на себя… давай!..
И он кивнул дирижеру. И дирижер понял. И взмахнул палочкой. С кем не бывало на сцене плохо. Сцена — это такая плаха, что казнила многих. А публика не должна ничего понять. Пусть она думает, что эта мизансцена задумана и отрепетирована так, что от зубов отскакивает.
Музыка ворвалась и ударила в лица красным, золотым вихрем. Скрипки плясали в руках скрипачей. Трубы кричали: «Скорей! Скорей!»
— «Скорую», — прошептал он, держа ее лицо в ладонях, — скорей…
Танец. Должен же быть танец. Он взял ее на руки. Поднялся, держа ее на руках. Поднял ее высоко, как мог.
Вихрь ослепительной боли. Стук раненого сердца. Размеренная поступь судьбы. Оркестр заиграл сарабанду.
Он танцевал с ней, недвижимой, сарабанду так, как если бы она могла двигаться и отвечать ему. Он торжественно поднимал ее ввысь. Опускал наземь. Баюкал, как ребенка. Молился ей. Гладил по волосам.
Она не шевелилась.
Музыка помогала ему. Но и музыка когда-нибудь кончилась.
Занавес упал снова. Рев оваций сгинул, потонул за слоями и складками бархата. Он вскочил, держа ее, бездыханную, судорожно ринулся с нею на руках за кулисы.
— Что с ней?..
Он оттолкнул сунувшегося под ноги помощника режиссера.
— Никто не должен знать, что с ней! «Скорую»! Быстро!
Пошагал по коридору. Из дверей артистических, из гримуборных, из туалетов выскакивали любопытные, стреляли глазами, перешептывались; кто-то окликнул его — он огрызнулся, еще быстрее зашагал вперед.
Он шел с нею на руках, а его губы сами шептали, бормотали, говорили: Мария, Мария, Мария, может быть, я что-то делал не так, я знаю, что я все делал не так, но ведь я мужчина, Мария, а ты женщина, зачем же ты сама все испортила, ты ведь не хотела так, Мария, не хотела, да?.. только не уходи, не уходи, не уходи…
Он вбежал в их гримерку. Сел на вертящийся черный стул. В зеркале он увидел свое осунувшееся, потное, скуластое, бледное лицо с запавшими щеками. Один глаз живой, другой мертвый. Однажды в мужском туалете, в Самарском аэропорту, он увидел надпись красным фломастером: «Иоанн — стеклянный глаз». Перед зеркалом валялась вчерашняя газета. «ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ». Россия. Они в России. Не в Америке, не в Венесуэле, не во Франции, не в Китае, не в Испании, не в Аргентине. Они в России, в Москве. В артистической нового концертного зала в Лужниках. И у него на руках бездыханная Мария Виторес, и ее лоб холоден как лед. И «скорая», как пить дать, прибудет через час. Это же Россия, Россия, Иван, неужели ты не понимаешь, Россия. Ты ведь знаешь свою Россию, мужик, как свои пять пальцев.
Как пять пальцев на маленькой смуглой ножке твоей Мары.
Он, не помня себя, не сознавая, что делает, взял ее холодную ногу в руки — и через прозрачное, телесного цвета трико крепко прижался губами к ее ступне.
Вбежавшие в гримерную врачи, с черными чемоданчиками в руках, запыхавшиеся, напуганные, так и застигли его — сидящего на вертящемся стуле у гримерного трюмо, целующего ногу потерявшей сознание танцовщицы.
— Что с ней?! Говорите быстро!
Он оторвался от нее. На его сухих губах, растянутых в странной гримасе, блуждала улыбка безумца. Врач с чемоданчиком в руке попятился.
— Смотрите, — медленно сказал он, — смотрите. Это я сделал с ней. Она просила меня. Умоляла. А я не хотел. Это я убил ее. Я. Я. Один я.
Подпрыгивающий за спинами сбившихся в кучку врачей его продюсер, Родион Станкевич, заверещал, как баба, замахал жирными руками:
— Не слушайте его!.. Не слушайте!.. Доктора, уважаемые, до-ро-гие, милые, пожалуйста, делайте скорее свое дело!.. артистка умрет!.. может умереть…
— Она мертва, — твердо повторил мужчина, прижимая неподвижное тело к себе хищно, собственнически. — Говорю вам, она мертва! Не подходите!
— Что вы, — голос врача донесся до него как бы издалека, — погодите… Дайте осмотреть больную…
— Иоанн! — беспомощно, тонко, по-собачьи крикнул продюсер. — Ванька!.. Что ты мелешь!.. Ты спятил!..
Станкевич шагнул вперед. Мужчина вскочил, прижал женщину к груди.
— Я не дам вам ее. Можете не стараться. Отойдите! Я не отдам ее вам!
Иссиня-черная прядь выбилась из туго заколотых на затылке кос, скользнула вниз, на локоть мужчины, как черная змея.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ПЕРВЫЙ. МАЛАГЕНЬЯ
Солнце тронуло вершины гор, их ножевые сколы, и они сначала засветились изнутри, потом вспыхнули, потом засверкали розово-ярко, остро, победно. Налетел ветер. Прямо над их головами, в прозрачном, напоенном запахами духмяных горных трав, светлом как тибаани воздухе жужжала пчела.
Они спали, не размыкая объятий.
Они ни на минуту не хотели расставаться. Хорошо бы врасти друг в друга… а еще лучше иметь крылья. И вместе летать, вместе взмывать в воздух. Глупые мечты. Детские мечты. Может быть, они еще дети?
«Любовники всегда дети, Иван. Они по-детски восторгаются друг другом. Твоя девушка хороша. Лучше всех. Неужели ты любишь эту девушку?»
Полосатый матрац, набитый сеном, под ними — как облако на фреске в сухумском храме Богородицы. Ему в твердую, как булыжник, ягодицу впилась сенная колючка, и он беззвучно засмеялся. Крепче обнял возлюбленную. Девушка спала крепко, смежив веки. Ее черные густые ресницы бросали на щеки стрельчатые тени, будто еловые ветки нависли над лицом. Такие густые ресницы бывают только у испанок. Такие черные, в синеву, волосы бывают только у испанок.
Его девушка была испанка.
Она пошевелилась. Он провел ладонью по ее смугло-розовой, пушистой как абрикос щеке. Она улыбнулась, и он губами выпил эту улыбку, вобрал ее, как вбирал в горах звонкую чистую струю ледяного до ожога водопада.
— Альба, — пробормотала она во сне, — альба…
Он уже знал, что «alba» по-испански значит «рассвет».
Он снова припал губами к ее губам. Они оба были наги, как в день рожденья. Не сознавая, что делают, лишь чувствуя друг друга и видя с закрытыми глазами, лишь желая друг друга до потери разума и сил, они, всецело подаваясь друг к другу, начали медленно исполнять свой обрядовый утренний танец, вечный танец любви. Он был бесконечен. Томителен. Он вбирал их в свою воронку, принимал в лоно огня, и внутри него они сами становились огнем.
Полог палатки был откинут, и солнце над горами набирало силу. Розовые сколы гор сверкали все нестерпимее. Пчела жужжала над их головами. Он распластал ее руки на матраце, она была его живым распятием; и он налег на нее, он распнулся на ней, пригвожденный к ней судьбой, не знающей пощады. Бедра их было не расцепить, они спаялись, приварились друг к другу раскаленным металлом. Он подавался навстречу ей, ощущая свое живое жаркое острие внутри нее плотно охваченным кольцом ее огня, и не сдержал стона. Она обняла его ногами, они оба легли на бок, и она наконец-то открыла глаза. Они оба двигались, качались в размеренном ритме, будто плыли в лодке по бурному морю, и волна качала их, качала, качала в утлой скорлупке маленькой жизни, внезапно ставшей для них — единой.
— Иван, — сказала она, задыхаясь, — Иван… Ты…
Она не договорила. Сияющая боль восставшего из тьмы солнца взорвалась в них обоих одновременно. Под своим животом он чувствовал ее маленький, потный горячий живот, вздрагивающий, бьющийся. Он целовал ее лицо, и он видел, как она теряет сознание от счастья.
— Мария!..
Горы в прорези палаточного полога уже сияли торжествующим золотом. Солнце заливало небо, горы, землю, водопад, шум которого доносился сюда, к ним. Одуряюще пахло розами. На горной пасеке у грека Сократа, где они жили в горах около снеговой вершины Дзыхвы, росло так много роз, что Мария даже варила из розовых лепестков варенье; она обрывала лепестки роз и усыпала ими их постель, их любовное простое, как у крестьян, ложе. Пчела жужжала. Он держал в руках ее трепещущее, потное, скользкое тело, целовал ее вспухшие спросонья, дерзко-нежные губы, смеялся: ты моя гладкая рыбка, ты выскользнешь у меня из рук!..
— Иван, я люблю тебя… Я… люблю…
У их изголовья лежал, засыхал круглый овечий сыр, принесенный вчера вечером напарником Сократа — армянином Ихшаном, скисало в узкогорлом кувшине молоко, медно застывал налитый прямо из сот в широкую тарелку свежий мед. Позолоченная греческая ложка, настоящая, из самых Афин, торчала в меду, и сквозь слой меда просвечивали на дне тарелки красные античные фигуры — тарелка тоже была греческой, кустарным китчем из порта Пирея, где жила родня Сократа. Пчела жужжала. Небо стремительно светлело. Мария крепче обняла его — ногами, руками, всею собой. Их губы слились, и она задохнулась.
— Ты выпил меня!..
— Я вдохнул в тебя душу…
Жужжанье умолкло. Пчела запуталась в разметавшихся по подушке, густых черных волосах Марии.
Танцовщица Мария Виторес и танцовщик Иван Метелица, сценическое имя Иоанн, танцевальная пара, знаменитая исполнением латиноамериканских танцев и танцев фламенко, солисты концертной фирмы «Ars mundi», отдыхали, раз в кои-то веки, на Кавказе, близ Сухуми, в горах, на пасеке Сократа Костаки, давнего друга Иванова отца; оттуда, с Дзыхвы, был как на ладони виден весь Большой Кавказский хребет — Кавкасиони. Они оба поднимались ближе к вершине Дзыхвы, и перед ними расстилались синие, белые, изломанные, плавные, снеговые волны бессмертных гор. И они, обнявшись, смеясь, будто паря над горами, вдыхая чистейший прозрачный воздух, чувствовали себя двумя ангелами — вот-вот взмоют в облака.
Мария была привычна к горам. Она тосковала, если долго не выбиралась в горы. Она выросла в Пиренеях.
Вернее сказать так: она выросла между синевой Москва-реки и синевой Пиренеев.
Бабушка Марии была испанка. Ее звали Мария-Фелисита Виторес. Она родила своего единственного сына Альваро в лагере на Соловках, от чернявого молоденького охранника, и дала мальчику свою фамилию. У красавца Альваро Витореса, когда он вырос и женился по страстной любви на настоящей испанке, из Испании, родилась девочка. В честь бабушки, расстрелянной на горе Секирке на Анзере, одном из островов Соловецкого архипелага, отец дал дочери имя Мария.
В конце концов, так звали Божью Мать.
И в имени ли человеческом дело, если речь идет о судьбе?
Сотри мне нимб над головой. Оборви мне крылья. Все равно я — свята. Все равно — полечу. И ты для меня, летящей, еще не вылил пулю.
Они любили друг друга до тех пор, когда солнце вкатилось на гору полудня. И снова окунались, проваливались в дрему. Ишхан, толстый одышливый армянин лет пятидесяти, осторожно подкрался к палатке, раздвинул полог. Увидел их, обнаженных, спящих. Хрипя, сопя, наклонился, аккуратно поставил около голой пятки Марии, похожей на шар из гладкой слоновой кости, большое деревянное блюдо с гроздьями темно-синего винограда. «Спят, — прошептал он умиленно, — спят. Умаялись… артисты!.. Где ж отдохнуть, как не здесь…» Пятясь, так же осторожно вышел. Мария, беззвучно смеясь, открыла сначала один глаз. Затем — другой.
— О, Мария, querida… Да ты не спишь!..
Она закинула ему голую руку за шею.
— А-ха-ха-ха-ха!.. Конечно, не сплю!.. Это ты, ты, ты дрыхнешь, как всегда, без задних пяток… А я, я рабочая лошадка, я не могу так долго спать, как ты… Ты… Иван, ты просто тюлень!..
Оскорбившись, он вскочил, будто подкинутый пружиной.
— Я?! Я — тюлень?! От тюленихи слышу!
Озоруя, он схватил ее под коленки и под мышки, поднял на руки, подбросил в воздухе. Она была легкая, хотя и не маленькая — при своем росте, высоковатом для танцовщицы и проблемном для партнера, выполняющего сложные поддержки, и женственно-округлых бедрах она все-таки была на диво легка — видно, из-за того, что кость у нее была тонкая, грудь маленькая, а прямые изящные плечи узки, и ноги, как у породистой кобылки, утонченно-сухи, точены в лодыжках и щиколотках. Черноволосая головка гордо сидела на высокой шее. Улыбка ослепляла. Она не подкрашивала губы ничем — только для выступлений, на сцену, но и потом бросила — после того, как Иван зло сказал ей: «Прекрати краситься, я же тебя все равно целую на сцене, по ходу танца, во фламенко без этого не обойтись». Он был прав. Когда они плясали классическое фламенко, это был адский костер страсти, именно потому, что страсть надлежало на протяжении танца скрывать, держать внутри себя, как держат горцы вино внутри глиняных огромных кувшинов. Они заводили публику до того, что люди в зале выли, стонали, стучали ногами, локтями о подлокотники кресел, истекали любовным соком, сжимали кулаки: мужчины — чтобы не броситься на шею своим нарядным дамам, соседкам по ряду, женщины — чтобы не обнять, задыхаясь, того, кто сидел справа или слева.
Она извернулась в его руках. Он подставил руки ей под спину. Она лежала на спине на его вывернутых ладонях, касаясь вздернутой рукой потолка высокой цыплячье-желтой, как солнце, палатки.
— Осторожно, дурень! — крикнула она ему, хохоча, дрыгая в воздухе ногой. — Не наступи в тарелку с виноградом! Ишхан принес…
Он сам захохотал, держа ее над собой, как большую коричневую рыбу — так она загорела в горах, так неистовая краска горного солнца наложилась на природную смуглость атласистой кожи.
— Да я тебе… сейчас… ногой виноградную кисть достану!.
— Прекрати, идиот, не показывай тут мне цирк… отпусти меня… а-а-а!..
Иван, продолжая держать ее на вытянутых руках, ногой потянулся к винограду, ухитрился подцепить гроздь большим пальцем ноги, согнув колено, потянул ягоды кверху, да не удержал Марию, пошатнулся, и они оба упали на полосатый матрац, на сбитую простыню, прямо на виноград, раздавив его спиной, животом, локтями, испачкав красным темным соком и простыню, и подушку, и Ишханов матрац. Запахло молодым вином. Они хохотали как безумные.
— Ну ты дурак, Ванька… Ну ты спятил совсем!.. Я же вся перепачкалась… Что, мне теперь все это хозяйство стирать прикажешь, да?!..
Мария скосила глаз на измаранную красным соком простыню. Покраснела. Это слишком напоминало лишение девственности. Первую брачную ночь. Она закрыла локтем, спиной красное пятно на простыне. На ее лицо набежала тень.
Он наклонился, оторвал губами, зубами уцелевшую, нераздавленную ягоду, наклонился над ней, смеющейся, навзничь лежащей на измазанной виноградным соком простынке, приблизил лицо к ее рту, и ягода вплыла из его губ — в ее раскрывшиеся губы.
— О, счастье мое…
Она уже вбирала губами, как сладкую ягоду, ласкала языком его язык. Его отросшие здесь, в горах, длинные темные волосы щекотали ей шею, щеки.
МАРИЯ
Я всегда ненавидела аэропорт.
Я всегда ненавидела самолеты.
Я ненавидела самолеты до глубины души. Самой святой ненавистью, какую можно представить. Я всегда боялась их — до безумия. С детства, когда меня мыкали, мотали меж двух моих многострадальных стран.
И я всю жизнь только и делаю, что летаю.
Какие яркие огни! Какая тьма снаружи… Как много людей толкутся, бегут, кричат, спешат куда-то. Спешат улететь, забыться и забыть. А может, вспомнить.
Эта гадина, наш продюсер Родион, господин Станке-е-евич, в Бога душу мать!.. — взял нам билеты на такой день, когда — по всем прогнозам синоптиков — над Москвой грохотала страшная июльская гроза и пахло не только бурей — ураганом. Я же говорила ему, кричала, ругалась по-испански: да не бери ты нам билеты на послезавтра, обождем грозу! — нет, все-таки взял. А если мы не взлетим?! А если — разобьемся?! А если молния ударит в самолет?!
«Ты трусливая собачка, Виторес, — нагло, удивительно спокойно, докуривая свою вонючую толстую сигару, сказал он. Почему этот русский вахлак любил курить сигары? Строил из себя магната, босса? — Ну, еще повизжи от страха. Никакой грозы не будет. Предсказатели все врут».
Предсказатели… все… врут…
Кто кого обдурил, сеньор Станкевич?! Синоптики — тебя или ты — меня?! У, жирная рожа. Вон он стоит. Ухмыляется. И я, дура, тоже инстинктивно строю глазки, с вызовом — похоже, как в зеркале — ухмыляюсь ему.
— Ну что? Рейс отменят?
— Если рейс в Монреаль отменят, то я застрелюсь. — Родион вытащил из нагрудного кармана светлого пиджака швейцарские часы на цепочке, кинул взгляд на стрелки, нахмурился, снова засунул в карман. — У вас, дорогие, контракт с канадцами железный, число в число, час в час. И вы подписали его, равно же как и я. И заплатите неустойку, ежели что. Равно же как и я. Потому что вы и я, зефирные мои, — одно. Одна, как говорится, сатана.
— Пусть мы умрем, да?! О, santa Maria! Гляди, Родя, какая свистопляска в небесах! Между прочим, рейс на Токио уже отменили!
— Тем хуже для тех, кто летит в Токио. Вернее, не летит.
Пока я препиралась с продюсером, подошел Иван. Он бегал в буфет — взять мне натурального апельсинового сока. Кока-колу я не пила — у меня от нее болел живот, пиво тоже не пила — быстро пьянела, хуже, чем от русской водки. Разбавленные наполовину водой поддельные соки тоже не пила. Мне всегда нужен был натуральный сок, и лучше апельсиновый. А еще лучше — живой апельсин.
Апельсин, золотое солнце детства, золотой мяч моей радости, лети. Мне в руки. Из моих рук. Шкурка, счищаясь, остро брызгает спиртом, гасит свечу…
— Ванечка, ну ты и долго! Очередь, что ли?.. — Я кивнула на огромное, как фреска, окно аэропорта. — Что творится на улице! Это безумие, лететь в такую погоду! Неужели пилоты такие дураки, что заведомо вознамерятся погубить самолет… и пассажиров, разумеется?!
Иван стоял передо мной, смеясь, высокий, смуглый, как и я, до изумления похожий на испанца, и прижимал к груди пакеты с апельсиновым соком, и блестел глазами, и блестел зубами, и кинул, как и я, взгляд на аэропортовское окно. За окном был ад. Молнии хлестали наотмашь, одна за другой, летели, как синие, зеленые стрелы. Гром грохотал без перерыва. Одна особо сильная, розово-зеленая вспышка на миг мертвенным светом выхватила из полумрака зала ожидания, озарила все лица, обернувшиеся к разгулу стихии, в ночь и тьму.
— О, хляби небесные разверзлись, — бросил Иван, косясь на Станкевича. — Querida, возьми у меня из рук, пожалуйста, свой обожаемый сок! Я запасся! До Монреаля ты не вылезешь из клозета…
— Какой ты грубый, Ванька!
Я шутя хлестнула его тонкой ажурной перчаткой по губам. На табло высветилась надпись: «РЕЙС МОСКВА — МОНРЕАЛЬ 675».
— С посадкой в Лондоне или без? — спокойно, как вождь краснокожих, спросил бритый долыса Родион Станкевич. Ну да, он вытащил из золотого портсигара свою неизменную вонючую сигару и, пыхтя, раскурил. Как я ненавидела самолеты! Как я ненавидела эту смрадную толстую коричневую сигару в толстых пальцах продюсера!
— Без, — встрял Иван. — Я посмотрел билеты. Querida, у нас же с тобой завтра концерт в зале «Ричмонд»!
— Мы не улетим, — беспомощно сказала я и уставилась в стремительно, сумасшедше мчащиеся, сшибающиеся черные тучи за окном, в ночь и бурю. Молнии магниевыми вспышками то и дело освещали мое лицо, я слепла, жмурилась и приседала от страха, и заслонялась от жестокого света рукой. — Вы что, оба сошли с ума, что ли, я не понимаю, мы же не улетим!
— Мы? — Иван, продолжая держать в руках пакеты, изловчился, зубами, без помощи рук, открыл один — ловко, как обезьяна, — отхлебнул сок. Оранжевая струйка потекла по его уже покрывшемуся щетиной подбородку. — Мы, запомни, улетим всегда. Мы же с тобой, querida, ангелы. Запомни это.
— На два слова твою герлфренд, — продюсер крепко взял меня за локоть и, пыхая сигарным дымом, отвел в сторону, обернувшись, кинул Ивану: — Весь сок не выпей, жонглер! Мы сейчас!
Оттащив меня как можно дальше от Ивана, чтобы он не мог нас услышать, лысый Родион, господин Станкевич, любитель гаванских вонючих сигар, наклонился ко мне низко, так, что я могла поймать презрительно раздувшимися ноздрями не только аромат изысканных парижских парфюмов, не только надоевший, похожий на запах горелой мастики, сизый сигарный дым, но и запах вонючего козлиного пота, — и отчетливо, разделяя слоги, будто бы я была глухая тетеря, сказал:
— Слушай меня внимательно и запоминай. Я дам тебе нечто, что ты должна будешь передать в Монреале людям, которые встретят тебя в аэропорту. Ты будешь держать сумочку в руках. Держи крепко, не вырони. Ты отойдешь к стойке бара в зале ожидания. Там барменша будет баба, негритянка. Ты попросишь у нее сто грамм кальвадоса. Не твоего занюханного сока, а хорошего крепкого кальвадоса, слышишь?! Сто грамм кальвадоса и ломтик лимона на закуску. Один ломтик лимона. Тебя узнают. Черная даст знак. К тебе подойдут двое. Они оба будут в черных очках. Не говори с ними. Молча открывай сумку, доставай, что я дам тебе, и передавай. Ни одного слова. Ни взгляда, ни кивка. Не пялься на них. Может смотреть в сторону. Косить, как заяц. Но чтобы рта не раскрыть. Поняла?!
Я смотрела на него, как если бы он был весь из чистого золота, как его антикварный портсигар, купленный, должно быть, на Кристи за идиотские, фантастические деньги.
— Если запомнила — повтори! Если не запомнила…
Я разлепила пересохшие губы.
— А если не запомнила?
— Монреаль, аэропорт, стойка бара. Барменша-негритянка. Сто грамм кальвадоса, — как неграмотной, как дефективной, снова, по слогам стал он говорить мне. Я оглянулась на Ивана. Он складывал коробки с соками в огромный пакет, держа открытую коробку в зубах. Боже, до чего он ловок, подумала я с восторгом, смешанным со страхом, ловок и любим и единствен. Другого такого в мире нет.
— Ломтик лимона. Подойдут двое в темных очках. Отдать то, что ты мне сейчас дашь. — Холодный пот потек у меня по спине, между лопатками. — А если я это — у тебя — не возьму?
Я старалась выговорить это спокойно. Так же, как говорил он, медленно, чеканя слоги.
Господин Станкевич так же медленно, даже чуть с ленцой, ответил, и его локти сильнее впились мне в плечо:
— А если ты это — у меня — не возьмешь, то я тебе закрою все твои контракты, деточка. Все. До единого. На пять лет вперед. И вдобавок лишу тебя права найти себе другого продюсера. Я знаю способы, как выбить у артиста табурет из-под ног. Много лет этим, Марочка, занимаюсь.
Толстые пальцы так вдавились мне в руку, что я вскрикнула.
— Ты наставишь мне синяков!
— Не кричи, Ванька подумает, я тебя тут насилую на глазах у всего аэропорта. Где твоя сумочка?
Он, не спрашивая меня, раскрыл замок черной маленькой сумки, болтавшейся на тонком ремешке у меня на голом плече. В зале ожидания было невыразимо душно. Молнии мелькали, как экран осциллографа. Буря стояла за окном в полный рост, белыми безумными глазами глядела на нас. Маленький сверток, с виду такой безобидный и безопасный, перекочевал из кармана его необъятного светлого пиджака внутрь моей сумки.
— А самолет не подорвется? — сухими, как наждак, губами спросила я. Мне безумно хотелось пить. За черным окном внезапно вспыхнул смертной белизной сгустившийся мрак, послышался резкий грохот, жуткий гул заполнил все вокруг. Где-то далеко, как одинокая волчица в лесу, тоскливо завыла сирена. К вою подключился еще вой, еще. Белые, с красными полосами, машины заскользили по черному дождевому зеркалу асфальта. Куда-то бежали, размахивая руками, люди. Зарево за окном полыхало все сильнее. Станкевич выпустил мое плечо из цепких пальцев. Он беспощадно дымил сигарой, не выпуская ее из зубов, чуть оскалившись.
— Самолетик упал, — процедил он надменно, не вынимая сигару изо рта. — Третий раз в жизни наблюдаю такое. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты, сама понимаешь, крошка, роковые.
Дым обволакивал его жирное, с двумя — или даже тремя? — противными подбородками, холеное лицо. Он ведь был еще молод, наш с Ванькой продюсер Станкевич. Ему от силы стукнуло тридцать пять. Он просто колоссально разжирел на продюсерских харчах. До меня все еще не доходил смысл сказанного.
— Упал? — глупо переспросила я. — Самолет?
— Ну не сноуборд же, — так же спокойно, с улыбкой процедил сквозь сигару, сквозь дым Родион Станкевич. — Хочешь, пойдем поглядим? Не думаю, что ваш с Иваном рейс отменят. Его просто отодвинут. Да, отодвинут, скорей всего. Буря скоро кончится. Такие бури быстро кончаются. Вы полетите при ясном небе. И даже звезды увидите.
Он улыбнулся мне, оскалившись, переложив языком из угла в угол рта белемнит сигары. Протянул мне руку.
— Иван, не ходи! Будь здесь! — на ходу крикнул он Метелице, и его подбородки затряслись, как студень. — Я пойду, покажу девочке отпадный ужастик! Она же еще ни разу не видела!
Он волок меня за руку. Похоже, ему совершенно все равно было, испугаюсь я или нет. Ему было интересно. Он хотел, чтобы я увидела рухнувший на летное поле самолет. Услышала крики людей, еще живых. Увидела расплющенные тела — или то, что осталось от них.
Я слышала за нашими спинами крики Ивана: «Эй, Родя, не сходи с ума! Там такая гроза!.. Лучше побудем здесь!..» Родион волок меня за собой, как козленка на веревке. Я еле поспевала за ним, бежала, наступая ему на пятки, задыхалась. Мы вылетели из двери аэропорта в ночь, под хлещущие струи ливня, и ветер сорвал с меня легкий шелковый шарф, обмотанный вокруг шеи, белой призрачной поземкой, метелицей унес вдаль, в черноту. Людской поток подхватил нас, понес. Мы бежали, машины гудели, обгоняя нас, а ливень, спринтер, обгонял нас всех, бросая струи впереди нас, перед нашими лицами.
Они, вместе с другими людьми, подбежали к рухнувшему на взлетную дорожку самолету — огромному, неуклюжему, как старинный дирижабль, аэробусу-«Боингу». Он взорвался в воздухе и рухнул, еще не успев набрать высоту; хвост отвалился и догорал неподалеку от остова, от брюха. Множество машин, служебных, медицинских, аварийных, стояло вокруг потерпевшего аварию «Боинга» плотным кольцом. Бежали санитары с носилками. На носилках лежало нечто, укрытое брезентом, простынями. Мария смотрела, расширив глаза. Станкевич держал над их головами огромный красный зонт. Его губы выгнулись плотоядно, зубы оголились в странной, садистской усмешке. А может, ему просто было холодно, и он скалился от холода.
— Гляди, киска моя, — кивнул он и наклонил зонт, тряханул его, чтобы с него стекли капли дождя, — неслабо машину расквасило! О-у, — как англичанин, протянул в нос, — кто-то еще живой… При таких катастрофах обычно не остается в живых никого… или очень мало… Гляди, шевелится…
Мария смотрела, ее губы прыгали, она не могла удержать их. Прижала руку ко рту. Санитары в черных халатах и в черных шапочках, похожие на средневековых монахов, быстро пробежали мимо них, таща длинные носилки; свешивавшаяся из-под наброшенного брезента рука, с оторванными, висящими на ниточках кожи пальцами, вдруг дрогнула и поднялась, уцелевшие пальцы хватали воздух. Смотри, приказывала себе Мария, смотри, это живой человек, он думал, что он умирает, что он умер, разбился, но он живет, он хочет жить, — а будет ли?! Ее замутило. Родион, не сводя глаз с разбитого самолета, прижал ее локоть к себе.
— Э-э, хлипкая, а танцовщики ведь должны быть крепкими и сильными, как быки! Здоровенными, как твои испанские быки! И психически неуязвимыми. — Он покосился на нее, встряхнул ее за локоть. — Сильное переживание, не правда ли?.. Вот тебе материал для трагедии. Для трагического танца, между прочим. Можешь положить это в свою образную копилку. Попроси Ивана, пусть поставит тебе такой танец — «Катастрофа»! А?.. Как тебе эта идея?.. Я — в восторге!
Она смотрела на него как на чудовище. Он говорил громко. Люди оглядывались.
— Или — «Плач над разбитым самолетом»! Колоссально… Это будет колоссально! Пластику я сам тебе поставлю… С Гришей Суриковым, он классный хореограф… Представляешь, — он понизил голос, наклонился к ее захолодавшей на пронизывающем ветру, мокрой от дождя щеке, — в какие пластические формы это все может вылиться!.. Я уже вижу этот танец… Да ты сама, милочка моя, — заворковал он, как голубь на стрехе, и подбородки сладострастно дрогнули, — ты сама — катастрофа! Я еле удерживаюсь… Боюсь только Ваньку — он мне не просто морду набьет, ежели что, он меня…
Родион не договорил. От разбитого самолета на них сломя голову неслась распатланная, простоволосая женщина. Волосы ее развевались вокруг головы, вились мокрыми змеями. Она кричала, раззявив рот, подняв руки над головой:
— А-а-а-а! А-а-а-а! Доченька! Моя дочь! Моя дочь! Верните мне мою дочь!
Ее голос был так хрипл и страшен, что даже скалящийся Родион стер гримасу улыбки с лица, отшатнулся испуганно. Женщина чуть не задела его торчащим локтем. Пробежав мимо Марии и Станкевича, она рухнула на колени прямо на мокрый черный асфальт, мерцающий, словно драгоценный лабрадор, в свете машинных фар и аэропортовских прожекторов, заломила руки, задрала голову к черному, бурному небу и завопила:
— Бо-о-о-ог! Тебя нет, Бо-о-о-о-ог! Тебя не-е-ет! Не-е-ет! Не-е-е-ет!
Мария не сводила с женщины глаз. Отчаявшаяся. Disperata. Как она страшно кричит! Ее сейчас тоже положат на носилки и увезут в больницу. У нее в этом самолете летела дочь, и она разбилась. Прилетал самолет? Улетал? Какая теперь разница. Самолета нет. Ее дочери нет. Нет ничего, кроме груды металла и искореженных костей. Человек при авиакатастрофе разбивается в лепешку. Рассказывали, что, бывает, от человека остаются только наручные часы… браслет… женские серьги. Что такое тело? Сосуд для любви и муки?! А сами они, любовь и мука, — где?! Вылетают из нас, как выдох, как дым?!
— …не-е-е-е-ет!
Мария зажмурилась. Слезы лились из зажмуренных глаз, из-под сомкнутых век. Станкевич понял — он перегнул палку.
— Идем, идем… Все, слезами горю не поможешь…
«Лицемер, ты продолжаешь лицемерить. О каком горе говоришь ты, зажравшийся шоу-бизнесмен?!» Она повернулась, стряхнула с локтя его руку, как гадкого паука, и пошла, пошла прочь от него, вырвавшись из-под его красного, как гроб, зонта, под ливень, под хлещущие струи, под сверканье молний, в открытые, ходящие ходуном двери аэропорта. А женщина, стоящая на коленях на асфальте, все продолжала кричать, воздевая к черному небу руки, и для нее навсегда Бог перестал быть, и перестала быть жизнь, да и смерть ей была уже не страшна и не нужна.
* * *
Огни. Огни городов, там, внизу, под крылом самолета.
Гаага. Лондон. Осака. Калькутта. Париж. Стокгольм. Кейптаун. Монтевидео. Осло. Лиссабон. Пекин. Гамбург. Снова Париж. И через неделю — о, проклятье, через неделю — Варшава. Она так любила Варшаву, Старе Място, аромат уютных харчевен, где подавали жареную по-польски куриную и гусиную печенку, и так не любила самолеты. Лучше бы у нее самой выросли крылья!
А танцевать? Любила она танцевать?
Если бы ей сказали: Мария Виторес, завтра к твоим ногам упадут все блага и все богатства мира, ты будешь жить в золотом дворце, есть и пить на золоте, у тебя будет все, что твоей душе угодно! но ты больше никогда не будешь танцевать! — она купила бы пистолет и пустила бы себе пулю в лоб. А если бы ей сказали: Мария Виторес, завтра мы тебе выколем глаза и изрежем ножом твое прекрасное личико, но ты будешь продолжать танцевать на лучших сценах, в лучших залах мира, и тебе будут играть лучшие музыканты мира, и лучшие партнеры мира будут танцевать с тобой! — ты улыбнулась бы и сказала: где ваш нож? Я готова!
Нет. Не так. Ты не хотела бы танцевать ни с кем, кроме Ивана. Ни с кем.
ИВАН
— И-и-и раз! И-и-и-и два!.. И-и-и-и…
— Выше ногу! Выше ногу! Выше!
— Я больше не могу… Пощади!
— Можешь. Вот так! Так тоже можешь!
— Иван… А-а-а-ах!.. И-и-и-и раз, и-и-и два… И-и-и-и три!.. И-и-и-и раз…
Она была такой мягкой и в то же время такой жесткой в моих руках. Когда я приказывал ей, она не сопротивлялась. Мария, Мариус, Мурзя, Машка, гибкая, сладострастная Мара. Я насиловал ее в работе. Я истязал ее. Я выжимал ее, как выжимают мокрую тряпку, вертел ею, как восточные раскосые борцы вертят в руках гладкие нун-чаки. И она подчинялась мне. Но — только с виду. Она подчинялась мне потому, что хотела победить.
Вы думаете, она спала и во сне обнимала меня?
Она спала и во сне видела сцену.
Сцену и только сцену.
Танец. Свой великолепный, наглый, торжествующий, чудовищно страстный, огненный танец.
Ее танец бил в башку крепче водки. Хмельнее коньяка. Ее танец заводил мужиков до того, что я видел, стоя на сцене, возле кулис, когда она, в розовой юбке с оборками, чуть повыше щиколоток, на высоких каблуках, выходила, расправив плечи, чуть поводя ими, будто незримо сбрасывала с плеч одежду, — как мужики, сидевшие в первом ряду, изнывали, вцеплялись себе в колени, клали руки на ширинки, готовые мастурбировать. Я сам мужик и знаю, что такое страсть. Не возбуждение, не кровь, бросающаяся вином в голову, а мучение и мучительство истинной страсти, неутоленной, неутоляемой, жгущей медленно и больно, как пламя. Женщина, танцуя, может свести с ума. Танец — слишком древняя и тайная магия для того, чтобы ею пренебрегать. Мара была колдуньей. Ее следовало сжечь на площади. Ну да, аутодафе, испанская старинная казнь, ты была достойна ее.
Я придумаю тебе другую казнь. Изысканней. Томительней. В постели. На подушках. Я куплю три бездарных букета роз в метро, распотрошу все цветы и усыплю простыни розовыми лепестками. Твоя юбка как роза. Смуглые руки. Ты машешь ими над головой, а я ловлю твои гибкие, как стебли, руки и беспощадно выламываю их, трясу, сжимаю, сгибаю.
— И-и-и-и раз! И-и-и два! И-и-и-и… Выше ногу! Выше! Руку на пояс! Так! Поддержка! Давай! Ну…
Я схватил ее за пояс, подсунул ногу ей под ягодицу, и она, уже как выжатый лимон за четыре часа репетиции, — я видел, как она устала! — внезапно взмыла, вспрыгнула, помогая мне, вверх легко, воздушно, как маленькая девочка, и вмиг оказалась у меня над плечом, и я снизу видел ее раздвинутые ноги в черном трико, ее обтянутую черной тканью промежность, ее темные от пота подмышки, торчащие под тонким трикотажем острые соски ее грудей, маленьких и налитых, как два персика. Я снова захотел ее. Эту женщину хотели все. Я знал это. До меня она спала со многими. Я был всего лишь ее очередной партнер. Партнер по танцу. По оригинальному танцу, по латиноамериканским танцам, по танцам фламенко. Всего лишь. Нас год назад свел мой продюсер Родя Станкевич. Он сказал мне: «Тю, парень! Ша, ребята, как говорят в Одессе-маме! Я нашел тебе такой персик! Закачаешься! Умереть не встать… Откопал, с позволенья сказать! Не девочка, а клад! Ты хоть парень и не промах, а все никак наверх не вылезешь, даром что я вкладываюсь в тебя, как студия „Парамаунт“ в Чаплина не вкладывалась в свое время! А с этой девкой ты вылезешь, и еще как вылезешь! Ты прославишься с ней, ты завоюешь с ней весь мир! Клянусь мамой, завоюешь!» — «Веди, — сказал я ему тогда, насмешливо, неверяще улыбаясь, — веди, Родя, сюда свою девочку. Я ее испытаю. И, если она окажется дерьмом собачьим, ты поставишь мне бутылку „Хеннесси“. А если она окажется тем, о чем ты мне тут так красочно распинаешься…» — «То „Хеннесси“ ставишь мне ты, идет!» — захохотал он тогда, как припадочный.
«Хеннесси» поставил я, конечно.
И не бутылку. А целый ящик.
Я привез Родиону ящик «Хеннесси» после первой репетиции с Марией Виторес.
Вы думали, после первой ночи?
До первой ночи было еще далеко.
А до первого выступления в танце стиля фламенко — рукой подать.
— Что ты меня бросаешь, как дворник — метлу!
— Что ты, дура, вопишь, как резаная… Машка…
— Я не Машка! — Задыхаясь, поправляя трико, подтягивая его на бедре к развилке стройных, умопомрачительно выточенных Богом ног, она глянула на меня наклонившись, исподлобья, и я захотел заслониться ладонью от этого яростного взгляда. — Я Мара!
— Мара, туда твою мать…
Звон пощечины. Я пошатнулся и чуть не упал.
— Если еще раз оскорбишь мою мать — я убью тебя, Хуан!
Она все еще путала мое русское и испанское имя.
ПИРЕНЕИ
Сухая земля, звон гитар, запах овечьей шерсти. Село, затерянное в горах. Ночью — лимонный срез Луны над горами. Днем — дикая жара, земля трескается от жары, как губы, и из трещин сочится розовая кровь. Урожай винограда. Давят вино. Все женщины ходят в черном. Альваро Виторес привез в село Сан-Доминго свою единственную любимую дочь.
Здесь, в Сан-Доминго, были похоронены прадед, дед и бабка жены Альваро, Марии-Луисы Носедаль. Альваро привел Марию поклониться древним надгробиям. Мария, онемев, долго смотрела на выточенные в белом камне фигуры, лежащие на каменных саркофагах — с вытянутыми каменными ногами под складками каменных белых одежд, с изрытыми оспинами времени каменными улыбающимися лицами. Слезы отчего-то сдавили ей горло. Она наклонилась и поцеловала холодный каменный лоб своей прапрабабки Марии Хосефы Фредерики Луисы Франсиски Носедаль. Она пыталась уверить себя, разглядывая лицо каменной дамы, что она на нее похожа.
Кровь — древняя красная река. Она течет и омывает берега, которых давно уже нет. А она все течет. Кровь — это почти бессмертие. Почему почти? Потому что она перетекает в твоего ребенка.
Внутри ее живота что-то сначала сжималось, потом разжималось. Горячая кровь опахивала живот изнутри, как жарким веером, томящим опахалом. Нутро заливало сладким, невыносимо тревожным. Она, стоя у надгробия, клала себе на живот руку, нажимала на низ живота. Жар поднимался с током крови по ней снизу вверх, захватывая грудь, захлестывая жаждущее горло петлей. Вот отсюда появляется ребенок. О, как же это, наверное, сладко — ребенок. Твоя плоть. Твоя кровь. Твоя жизнь. Продолжение твое. Говорят, женщины страшно кричат, когда рожают. А она? Она тоже будет кричать, когда будет рожать? Это страшно? Это… больно?
Твой ребенок появится на свет, прорастет из тебя, как побег из виноградной лозы. Твой плод. Твоя сладость.
Ей было тогда всего четырнадцать лет.
Всего четырнадцать, а она уже так плясала малагенью и гранадину, ронденью и севильяну, что в Бильбао, где жил тогда ее отец с семьей, потом в Мадриде, куда он переехал, купив там большой красивый дом, на то, как она пляшет, сбегались смотреть все соседи, и во дворе Альваро устраивал представления, после сиесты, ближе к вечеру, когда жара спадала и спускалась прохлада, и где-то далеко, будто на том свете, раздавались надоедливые гудки машин: собирайтесь все, моя дочка фанданго танцует! Сам он красиво пел и виртуозно играл на гитаре, и его исполнение древних андалусских напевов канте хондо вызывало восхищение даже у профессионалов, а ведь Альваро был любитель.
Дома он говорил с дочкой по-русски. С женой — по-испански.
Сюда, в горы, в Сан-Доминго, он приехал с гордостью: гляди, дочь, это древняя сухая земля, это горы, режущие небо, это мужчины с навахами за поясом, это твоя родина. «Папа, а ты не тоскуешь по России?» — впрямую однажды спросила она его.
И он ответил: «Тоскую».
Он возил с собою свою дочь в Россию, останавливался в Москве у друзей матери, покойной Марии-Фелиситы, подолгу жил у них — он занимался загадочным, таинственным для Марии бизнесом, она не знала толком, чем — он говорил ей, что работает специалистом по связям с Россией в филиале музея Гугенхейма в Бильбао, а попутно занимается выгодным франчайзингом, а попутно еще позиционированием уникальных испанских товаров на международных торговых московских ярмарках, — Марии было все равно, чем занимается ее отец, денег у него всегда было так много, сколько пожелаешь, и он никогда не был скупердяем.
Каменные застывшие лица, мертвый звон столетий. Живой и теплый красный и лиловый виноград за осыпающимися сельскими каменными оградами. Маленькая приземистая таверна на окраине села. Здесь они с отцом пили вкуснейшее «пино». И слишком сладкую «сангрию» — такую сладкую, что в горле щипало.
Зачем она пошла в таверну одна?
Отец расслабился. Он позволил ей многое. Он сам тут очутился внутри сонной одури времени, в сердцевине наплывших столетий, и он не заметил, как однажды вечером его девочка, надев узкое черное платье — так одевались здешние крестьянки, просто и печально, — ушла, ускользнула, уплыла по темнеющей, сине-смуглой улице к белому в ночи, приземистому дому, потому что ей захотелось одной, без отцовских пристальных глаз, посидеть за грубым деревянным столом, одной пить из высокого стакана сладкую терпкую «сангрию», одной глядеть на грубые руки и грубые красивые, будто выточенные из тяжелого камня, лица крестьян, мужчин, на дне глаз таящих звериную страсть и Божью тоску.
Она надела черное крестьянское платье и пошла в белую таверну. По каменистой улице, мимо каменных оград и одинокой, как палец, воткнутый в небо, суровой церкви пришла, толкнула тяжелую дверь кулаком. Вошла. Огляделась. В таверне, под низким потолком, стояли три низких, как черепахи, стола, на столах горели свечи в тяжелых медных старых подсвечниках. Одна свеча стояла в железной миске, воск слезами оплывал с нее. Мария села за этот стол, вздохнула и пальцами потрогала стекающий горячий воск.
— Чего сеньорита желает?
Хриплый лающий голос. Собака лает нежнее. Мария глянула вбок. За стойкой бара стояла хозяйка таверны, толстая испанка лет шестидесяти; а может, она была младше, просто рано состарилась. Мария улыбнулась ей, и ей показалось, что ее губы вспыхнули, так сильно забилась в них кровь.
— Вина.
— Вина? И все? Такой маленькой девочке нужно только вина? А может, тебе принести персик на золотой тарелке? — Трактирщица осклабилась. Под черной шерстью широкого складчатого платья жирными складками тряхнулся, поплыл живот. — А может, деточке хочется рыбки? Есть свежие форели, только сегодня муж выловил в горном ручье…
— Не надо. Бокал вина, и все.
Мария покопалась в кармане и выложила на стол монеты. Вино здесь было дешевым. Толстуха, закачавшись, выплыла из-за стойки, с поклоном поднесла ей бокал темного, как кровь, вина, ловко сгребла деньги в подол. Мария подняла бокал и посмотрела вино на просвет. И там, в бокале, в толще рубиново-алого горского вина, она увидела призрачное, качающееся мужское лицо. Она отодвинула от глаз бокал. Лицо не исчезло. Мужчина напротив, за другим столом, тяжело, неотрывно смотрел на нее.
Она встала. Встал и он. Ей стало страшно. Она пошла к выходу, забыв про заказанное вино, про романтику вечерней таверны, про все. Небритое лицо, заросшее черной щетиной, черные виноградины злых, буравящих глаз, выпуклых, как у рака, золотая серьга в ухе. Мужчина был весь в черном, как и она. Она успела заметить торчащую за туго обернутым вокруг талии матерчатым поясом искусно выточенную рукоять кинжала. «Наваха», — подумала она, и опять стало горячо внутри живота, как там, тогда, у надгробья прабабки.
Она взялась за ручку двери. На ее руку легла крепкая мужская рука.
— Тише, красивая детка, — тихо, внятно сказал мужчина, — ты поторопилась. Не спеши. Здесь такой обычай — не спешить. Кто сюда приходит, должен уважить хозяйку, посидеть, выпить заказанное вино. Тебя как звать? Ты заезжая?.. Мария?.. В карты играешь, Мария?.. Ага, играешь, это хорошо. Мягкий говор у тебя, ты не из Андалусии случаем?
— Из Мадрида.
— Ага, столичная штучка. — Человек с серьгой в ухе скривился презрительно. — Знаем мы вас, столичных штучек. — Он уже грубо тянул ее за руку обратно к столу. — Садись, садись, посиди. Не рыпайся. Что ты вся дрожишь, ты… норовистая лошадка!..
Он оценивающим взглядом окинул ее расцветающую фигуру. В Бильбао, в Мадриде на нее на улицах тоже оглядывались. Но не так. Эти глаза раздевали ее бесцеремонно. Щупали нагло. Эти глаза кричали: «Ну же, лошадка, раздвинь ляжки, подними хвостик. Я хочу узнать, каково на ощупь твое бархатное брюхо». Она села, закинула ногу за ногу, попыталась улыбнуться так же нагло, вернув дерзкую улыбку небритому мужику. Снова взяла в руки бокал и отпила сразу половину.
«Я хмелею, хмелею, хмелею. Мне нельзя хмелеть! Он возьмет меня под мышку и унесет. Он разбойник. Здесь, в Пиренеях, много бандитов, отец говорил».
— Я не дрожу. — От вина она и впрямь согрелась, кровь шибче побежала по жилам, щеки разрумянились, ступни потеплели, и ей стало спокойнее. — С чего вы взяли?
Мужчина положил руку ей на колено. Сжал колено. Животу опять стало жарко. Она увидела, что у него грязные ногти.
— Я же вижу. Не дрожи, Мария.
— А вас как зовут? — Она еще отхлебнула вина. Толстуха из-за стойки смотрела на них прищурясь, понимающе. Толстуха знала все, что произойдет, и поэтому ее живот колыхался от смеха.
— Меня? Франсиско. Я разбойник.
— Разбойник?
Она выглядела очень глупо. Он рассмеялся.
— А что? Тебе это так странно? У вас в Мадриде, что, нет разбойников? Там у вас в Мадриде бандит на бандите сидит и бандитом погоняет. Разве не так? В газетах пишут.
— А ты умеешь читать? — вырвалось у нее.
— А ты красивая. — Он послал к черту ее вопрос. — Ты страшно красивая. Ты страшная. От таких, как ты, мужики мрут как мухи. Ты целка?
Она вся залилась краской. Ей показалось — у нее покраснели, горят даже бедра, даже затылок под волосами.
— Ты грубиян. — Она тоже перешла с ним на «ты».
— Не грубее тебя. — Он глянул на часы у себя на запястье. — Поздно. Где ты живешь? У старой Коэльо? У Носедалей? Я провожу тебя. — Он встал. Встала и она, выпрямив спину, чтобы казаться выше и горделивей. — Идем!
Он протянул ей руку. «Вся в шрамах», — с ужасом отметила она, своей руки не подала. Из-за третьего, последнего в таверне, стола, стоявшего около двери, не замеченный ими, навстречу им поднялся третий поздний гость. Бокал на его столе был пуст. И бутылка пуста. Он не был пьян. Он был выше ростом, чем разбойник с золотым когтем в ухе, и его лицо было гораздо красивее — словно выточено умелым резцом из темного гранита, жесткое, резкое, губы тонкие, сведены в нитку, смоляно горящие глаза, черные пули, они уже летят в нее, они попадают в цель. Поздний гость шагнул к ним обоим и взял Марию за локоть.
— Мне кажется, ты поистине груб, мачо. («Почему у них у всех такие хриплые голоса, будто бы они напились воды со льдом?!») Ты забыл законы гостеприимства. Ты не угостил даму и сразу уводишь ее. Так не годится. Красивая сеньорита, — смуглый крестьянин слегка поклонился, — прошу к моему столу. Пепа! — крикнул он хозяйке. — Бутылку «сарагосы» и к ней тарелку фруктов! Тащи все, что есть у тебя, старуха, — виноград, персики, апельсины! Осень, созрел греческий сорт, сладчайшие померанцы, el greco… («Эль Греко, Эль Греко, это же художник, он рисовал мадонн и ангелов, они мучительно простирают руки ввысь и хотят улететь вдаль, за край полотна, за край фрески, в иную жизнь…») Сеньорита уважит того, кто ее угощает?
Они стояли друг против друга — двое мужчин, два быка, два человека, которым она понравилась, она прекрасно видела это, — и смотрели друг на друга так тяжело, сверля друг друга глазами, разрезая взглядами друг друга надвое, как острыми навахами, так ненавидяще, что ей, под перекрестным огнем этих глаз, стало смертельно страшно. Ей захотелось убежать. Скользнуть под рукой, под мышкой у первого, чернявого разбойника, наклониться, вынырнуть уже по ту сторону двери. Она, кокетливо вскинув плечо, улыбнулась трактирщице, чтобы отвлечь внимание. Не удалось. Они оба встали перед дверью, глядя теперь уже на нее, чтобы она не смогла уйти.
— Пустите, пожалуйста, — сказала она так же хрипло, как они, — меня дома ждут…
Они, казалось, не слышали этого. Тот, первый, бандит с серьгой в мочке, с вожделением смотрел на ее высокую, в задыхании вздымающуюся грудь, обтянутую черной шерстью пиренейского платья, на золотой крестик в ложбинке между грудей. Второй, смуглый, с красивым и жестким, как камень, лицом сделал неуловимое движение. Разбойник не зевал. Две навахи скрестились со звоном. Мужчины подержали над головами скрещенные кинжалы, тяжело дыша, развели руки, опустили ножи.
— До первой крови? Или…
— Или!
Трактирщица беззвучно, обнажая беззубые десны, смеялась, тряся жирным животом. Двое мужчин в ее Богом забытой таверне в кои-то веки дрались за женщину, и это было, черт побери, прекрасно. Она уж забыла, как это бывает.
Мария прижалась спиной к двери. Переводила взгляд на одного, на другого. Внезапно она захотела, чтобы победил тот, смуглый, с каменно-жестким лицом. Она была самка, и два самца дрались из-за нее. Из-за лебедицы… тетерки… оленухи. Она поняла не разумом — кровью: они дрались насмерть.
«Зачем я приехала сюда из Мадрида! Зачем отец привез меня сюда! Они убьют себя из-за меня, и завтра в Сан-Доминго будут похороны. Осень, осень, время сбора винограда!» Тот, высокий, сделал выпад, и наваха вонзилась в плечо небритого. Кровь брызнула, закапала на каменные плиты таверны, залила пол красным вином. Хозяйка не проронила ни слова. Стояла, как ступа. Улыбалась. Должно быть, была уже глубокая ночь.
Небритый изрыгнул дикое, неизвестное Марии горское ругательство, зажал раненую руку ладонью. Когда он выбросил вверх и вперед нож из-под локтя смуглого крестьянина — она не уследила. Наваха вошла под сердце. Мария охнула. Красивый крестьянин стал медленно оседать на каменные замызганные, истоптанные грязными сапогами плиты. Упал. Стукнулся лбом об пол. Небритый отер нож о штанину, переступил через неподвижно лежащее тело, уже властно, грубо взял Марию за плечо.
— Он был прав. Идем. Я тебя угощу. Угощу там, куда мы идем.
Она крикнула:
— Я не пойду!
Тогда он присел, взял ее под коленки и кинул себе на плечо, как кидают на плечо овцу, как охотник кидает подстреленную добычу. И толкнул ногой в запыленном сапоге тяжелую дверь с медной ручкой в виде головы орла с загнутым хищным клювом.
Она боролась, вырывалась. Кричала. Все напрасно. Он, чертыхаясь, связал ей руки. Завязал черной тряпкой глаза. Она не видела, куда он ее нес. Тряпка на глазах намокла от слез. Она слышала чьи-то голоса, чувствовала запах горелой смолы, жареного мяса, в ноздри проник непонятный, незнакомый и тревожащий аромат — будто бы во тьме жгли ароматическую палочку. Наконец мужчина бросил ее на землю, сорвал с глаз повязку, рассек навахой веревку на руках. Она оглядывалась, как волчонок. Она была внутри пещеры. На камнях были расстелены бараньи шкуры. Лежали горящие карманные фонарики, по-древнему горел в плошках жир. Прямо напротив Марии, без сил лежащей на камнях, сидела грузная седая старуха с серьгами в ушах, тяжелыми как колеса, тускло-золотыми; она раскладывала перед собой карты, и жир из светильника, шипя, капал на камни. Из транзистора, валявшегося около стены пещеры на странном, похожем на плаху пне, лилась нежная трехдольная малагенья. В глубине пещеры ворочались, как камни на дне реки, грубые и глухие голоса — должно быть, там происходил дележ добычи. Она тоже была добычей. Ею попользуются, это понятно. Все внутри нее оборвалось, внутри нее разверзлась бездна, пустота, и вся она, целиком, с сердцем и костями, с молча кричащей душой и перекошенным от ужаса лицом, полетела в эту пропасть.
— Они… изнасилуют меня… все?.. — Она повернула заплаканное лицо к старухе, бесстрастно раскладывавшей карты на камнях.
Старуха медленно подняла сморщенные, как кора, веки и поглядела на лежащую на земле, дрожащую от страха девочку так же спокойно, как вынимала карты из колоды.
— Нет. Ты трофей Франчо. Франчо займется тобой один. Не бойся, Франчо умелый мужчина. Тебе будет с ним хорошо. И ты ведь никому не скажешь, что с тобой приключилось, а? Иначе Франчо отыщет тебя, и тогда тебе несдобровать. А если его посадят в тюрьму, тебя отыщут его друзья. Тогда уже пеняй на себя.
Старуха вытащила карту из колоды и кинула ее, одну, поверх всех разложенных.
— Ай, яй, яй! — зацокала она языком. — Что они говорят мне! Что говорят!
— А что… они говорят?..
Шепот Марии сошел на нет. Старуха погладила карту кончиками скрюченных узловатых пальцев, будто котенка.
— Они говорят, что ты будешь странствовать по свету и умрешь на вершине славы. Ты хочешь умереть на вершине славы? А-а-ах, не каждому дано…
— А любовь? — спросила Мария, лежа на камнях, и облизнула пересохшие губы. — Будет у меня любовь? Я хочу любить мужчину… понимаешь ты, бабка, любить!.. а не быть испоганенной… — Она подползла к старухе рывком, еще, еще ближе, будто змея, по грязному полу пещеры. Быстро, сумасшедше зашептала: — Спаси меня!.. Эй, сеньора, спаси меня… Мой отец богат… Он не оставит тебя… Он даст тебе много, много денег… Его в Мадриде все знают… если что, он вас всех тут найдет… взорвет к чертям все ваше логово!.. спаси, а?.. Не давай меня… ему… им…
Ее лицо все было залито слезами. Старуха молча смотрела на нее. Карты, как живые, дрожали в ее руках.
— Я цыганка, — наконец проронила она, и слова вываливались у нее изо рта, как черные голыши. — Я вижу будущее. Ты станешь звездой. Но ты упадешь с неба. И эта ночь, сегодня, здесь, тебе тоже на роду написана. Ты хочешь пойти против судьбы? Тебе не удастся. Еще никому не удалось пойти против судьбы.
Она все помнила слишком хорошо. Оттого старалась забыть.
Она помнила, как она билась в чужих и страшных объятьях, как рыба; как кусала ненавистный чужой подбородок, воняющий табаком и перцем, и перечно-горький, пахнущий вином и перегаром рот; как ее руки рвали в разные стороны, как ее ноги расталкивали чужими, острыми и горячими коленями, как пригвождали ее бьющиеся ладони к земле, к сухим и выжженным камням грубыми, казалось, железными кулаками. Она помнила все. Зубы, что в сладострастии кусали ее. До крови прокусывали ее губы. Ставили волчьи отметины на голых плечах. Впивались, причиняя адскую боль, в соски. Она помнила эту отчаянную, немыслимую, дикую боль, когда чужая острая плоть вошла в нее и яростно разорвала ее, продвигаясь все дальше, все глубже и воинственнее, заявляя на нее свои права, протыкая ее насквозь и уничтожая ее сопротивление, оставляя лишь себя, напористую, грубую, царящую. Над ней царили. Ее распинали. Ей зажимали рот ладонью, крича: «Кусай ладонь, прокуси! Тебе же уже не больно! Тебе хорошо, не притворяйся, зверек!» Она сама не заметила, когда дьявольская боль перешла в дикую, победную радость, и она хотела, чтобы торжество победы длилось, не кончалось. Крик мужчины, яростный и хриплый, в вышине, в бездне над ней, отрезвил ее. Это все вино. То вино, в таверне. Она напилась вина, опьянела, и ей все это снится.
Она хотела это забыть, но помнила так хорошо — он, изведясь в судорогах и содроганьях, не выходил из нее, снова налился силой, отвердел, толкнул ее внутри каменным бычьим рогом. Боль накатила снова. Он грубо взял ее ноги, задрал, как овце, кинул ее пятки себе на плечи, заплясал в ней так, будто бы плясал сегидилью на деревенском празднике. Она, отворачивая от него лицо, прижимаясь щекой к холодному камню пещеры, плача, кричала: не надо! Не надо! Не надо… Она лежала в луже крови. Ее зад, крестец был весь в крови. Тот, кого старуха назвала Франчо, вонзался в нее, истязая, всю осеннюю холодную ночь, до рассвета. Он взял ее семь раз.
Лучше бы он убил ее навахой. Зарезал, как овцу.
Нет, все это ей приснилось. Ей все приснилось. Она все забыла. Все, до капли.
— И-и-и раз! И-и-и-и два! Поддержка! Батман! Батман, Машка!
— Я не Машка… твою мать!..
Отец был в ярости. Он кричал: «Кто?! Скажи, кто! Я перестреляю весь Сан-Доминго, если ты не скажешь!» Она, сжав зубы, молчала.
Он увез ее на машине в Мадрид. «Мы ничего не скажем матери!.. У тебя нет разрывов?.. Он не покалечил тебя?..» Она впервые видела, как взрослый мужчина рыдает, как ребенок. «Не так… не так это должно было быть у тебя, у моей дочери!..» Две недели она проплакала, лежа на диване, отвернувшись к стене. Телефон в кармане дорожной сумки напрасно трезвонил. Мать заботливо подносила лекарства, горячее питье, куриный бульон в фарфоровой чашке. «Девочка переутомилась. Слишком много занятий в колледже. Это типичное нервное перенапряжение. Ей надо сменить обстановку. Ей надо поехать в другую страну». Мария-Луиса внимательно смотрела в лицо мужа, поправляла на виске иссиня-черную прядь, выбившуюся из прически. «Куда, Альваро?.. В Швейцарию?.. В Англию?.. Я поговорю с Джо Ланкастером насчет Оксфорда… Заодно и язык улучшит…»
Через месяц слез и лежания лицом к стене, однажды утром, Марию стошнило. Ее рвало мучительно и жестоко, выворачивало наизнанку. Воздух вокруг нее пах по-иному. Пища пахла по-иному. Когда мать внесла в ее комнату на жостовском расписном подносе, привезенном Альваро из России, жареную курицу, ее снова скрючило в невыносимой рвоте. «Девочка отравилась!.. Альваро, звони в госпиталь Святой Лусии…» Она забилась в угол дивана. Ощерилась, как пойманный охотниками лисенок. «Я никуда не поеду!» Мать, с подносом в руках, попятилась к двери. Она никогда не слышала от дочки такого истошного, отчаянного крика.
Она загнала рвоту глубоко внутрь себя. Она заставила себя улыбаться, смеяться, есть и пить все, преодолевая отвращение, танцевать, преодолевая слабость и желание прилечь и уснуть. Единственное, что она ела жадно, смакуя, с наслаждением, это виноград. Она ела его гроздьями, обдирая ягоды быстро, как голодная коза — листву с куста.
Через полтора месяца отец отправил ее учиться в Москву, в Высшую школу бальных и этнографических танцев Натальи Смоленской. Ее взяли в Школу без экзаменов, после того, как она станцевала перед комиссией зажигательную петенеру.
Еще через три недели она почувствовала, как внизу ее живота что-то оборвалось. Дикая боль скрутила ее прямо в танцзале. Девочки окружили ее, сбились в испуганную, верещащую стайку, кричали: «Врача! Врача!» Она не помнила, как ее, на носилках, погружали в карету «скорой помощи». Боль отняла у нее сознание. Очнулась она оттого, что кто-то злой нетерпеливо, раздраженно хлопал ее по щекам. «Очнись же! Очнись! Больная Виторес, просыпайтесь, живо!» — рассерженно говорил высоко над ней, в небесах, низкий женский голос по-русски. Она разлепила веки. Широколицая докторша в круглых и огромных совиных очках удовлетворенно вздохнула: очухалась!.. — и перестала лупить Марию по щекам. Мария ощутила, что лежит голым телом на резине. Резина неприятно холодила тело. Вошла санитарка, грубо окунула тряпку в ведро с хлорной водой, грубо ляпнула тряпкой об пол, завозила ею взад-вперед, подтирая пыль в палате. «Что со мной?.. Где я?..» Врачиха обернулась уже от стеклянной, замазанной белой краской двери. Такой же замазанный белым плафон висел под страшным грязным, в трещинах, потолком. «Выкидыш у тебя был, поняла?» Она смотрела тупо перед собой. Услышала откуда-то сбоку тихое бормотание: «Она иностранка, она ничего не понимает, она не знает по-русски этого слова…»
Сестра сделала ей успокаивающий укол. Ночью к ней явились три чернокосых молодых цыганки, оттуда, из бандитской пещеры в горах близ Сан-Доминго. Она склонились над ней, щекотали монистами и косами ей шею, шептали: «У тебя, Мария, никогда больше не будет детей. Никогда. Никогда». Она закрыла глаза. Ее веки превратились в чугун. Ее глаза превратились в соль. Ее рот превратился в камень. Пока она лежала в больнице, она ничего не говорила. Соседки по палате думали, ах, бедняжка, она еще и немая. Когда из Мадрида вызвали отца и он прилетел, не помня себя от горя, она, глядя на него черными запавшими глазами без дна, только сказала ему: «Папа, я хотела назвать его Альваро, у него уже были ручки и ножки, у него уже были глазки, а скажи, он уже любил меня или еще нет?»
МАРИЯ
Карты. Они ложатся, как надо. Они черно-красной рекой текут из-под руки, из-под сухих, похожих на корни сосны пальцев, из рукава. Меня учат гадать.
Знаменитая московская предсказательница, прорицательница и ворожея, цыганка Лола, учит меня профессионально гадать.
Лола знаменита. Она зарабатывает большие деньги. Москвичи бегут к ней толпой, деньги текут рекой. Доллары, рубли. Иная валюта. Лолина реклама висит в метро. На рекламном стенде Лола, улыбающаяся, в красно-синем тюрбане, расшитом золотыми звездами, намазанная ярчайшей в мире помадой, белые зубы, белые белки глаз на смуглом южном лице, держит в руке веер карт, внизу надпись-слоган: «СУДЬБА КАК НА ЛАДОНИ». Лола сама оплатила рекламу. Реклама дорого встала ей. Все хотят иметь свою судьбу на ладони — и дорого платят за это.
У Лолы дома забавно. У нее комнаты втекают одна в другую, просматриваясь насквозь, и это называется анфилада. У нее старинный буфет с цветными стеклами. На стенах вперемешку православные иконы и тибетские мандалы. К ее огромному портрету маслом, писанному знаменитым Витасом Сафоновым, приделаны настоящие золотые, круглые и массивные, как автомобильные шины, таборные серьги. Время от времени Лола встает, подходит к буфету, наливает в хрустальную маленькую рюмочку из маленького, будто игрушечного, графинчика себе питье, выпивает, мне не дает. Допинг? Доза? Жадность? Тайна? Водка, настоянная на цыганских травах? Я молчу. С погасшей люстры над столом свисают красные шелковые ленточки. На широком, накрытом белой как снег скатертью столе горит свеча красного воска. В блюдо налита вода. На дне блюда лежит золотое кольцо. Перед свечой стоит зеркало, старое трюмо. В трюмо отражаются десятки, сотни свечей. Бесконечный ряд. Бусы света рассыпаются, катятся вдаль, навек уводят взгляд за собой. Опасно смотреть в Лолино зеркало. Ты можешь уйти туда за дорогой света насовсем.
«Ты испанка, — твердит мне Лола, — ты понятливая, в тебе течет такая кровь… Ты должна видеть будущее! Ты андалузка?..» Я родилась в Бильбао, шепчу я. «А, страна басков, — кивает Лола и закуривает длинную коричневую сигарету. Ее черные, прошитые серебряными нитями седины, волосы крыльями птицы ложатся на виски, на уши. Тяжелые, как у той, давней, пиренейской старухи, серьги дрожат в морщинистых мочках. — Страна бешеных басков! Так ты тоже бешеная, девочка?..»
«Я не бешеная, — бормочу я. — Я хуже. Я безумная».
«Почему ты безумная?» Кажется, Лола ничему не удивляется.
«Потому что я рабыня. А я так хочу стать свободной».
«Стой, дай увижу. Рабыня — чего?.. Рабыня денег?.. Рабыня своей сцены?.. А-а… стой, вижу… ты любишь двоих… а тобою помыкает третий!..»
Проклятье. Чертовка. Она действительно видит все.
Все, да не все. Она немножко ошиблась. Скосила свой Третий Глаз. Я люблю одного. Меня любит другой. А третий и правда подмял меня под себя и думает, что все, что он победил.
«Гляди, я кладу сюда тебя, это ты, червонная дама, а это я кладу тебе под сердце, а это — на сердце, и, видишь, сбрасываю карту, а сюда кладу три, чтобы…»
«На сегодня довольно, Лола, — говорю я и вынимаю из сумки кошелек. — Я устала. У меня еще вечером репетиция в танцзале на Моховой, потом я еду к спонсору наших выступлений в Токио, потом хочу принять сауну. Если я у тебя засижусь, я ничего не успею. Чао.» Я кладу на край стола три купюры. Лола незаметным движением стряхивает их со стола себе в подол, как хлебные крошки. «Когда, Марочка, придешь?.. Знаю, знаю, что завтра…»
Ким. Иван. Родион.
Лола не угадала все до конца.
Может быть, будет еще один.
А может, их у меня будет сто двадцать один. Тысяча двадцать один. Плевать я на них на всех хотела!
Я сбегала по лестнице Лолиного дома на Тверской так, будто за мной гнались. Я гнала на машине до своего дома на Якиманке так, будто меня преследовали. Когда я открывала дверь — о, хитрый финский замок с девяносто девятью секретами!.. — я инстинктивно оглянулась. Нет, никого. Почудилось. Скорей внутрь. В дом. В прибежище. В укрытие. Скорей.
Захлопнуть дверь. Закрыться на все замки. Сердце бьется, как у подстреленной на охоте утки. Тебя не подстрелили, Мария, нет. Тебя поймали в силок. В капкан. Тебя загнали. И выхода — нет.
Он — четвертый — тот, кого не угадала бедная знаменитая Лола — может позвонить в любой момент. Вырасти, как гриб после дождя из-под земли.
Но я еще не знаю его имени.
КИМ
Он познакомил меня со своей партнершей, представив скупо: «Это мой отец, Мария, прошу любить и жаловать», — но не сказав, кто я такой и чем в жизни занимаюсь. Он не хотел пугать эту милую испанку, так хорошо и правильно говорящую по-русски, будто бы она родилась и выросла на Ордынке.
Если бы Иван сказал, кто я такой и чем я занимаюсь, она… Что сделала бы она? Рассмеялась? Испугалась? Презрительно вздернула черноволосую головку? Плюнула мне в лицо? У нее очень пухлые, вишневые губы, очень большие, как черные озера, глаза, очень ослепительные, в голубизну, зубы, очень смуглая кожа, очень черные, в воронью синеву, густые волосы, очень тонкая талия, очень точеные бедра. Она вся «очень». Она вся «слишком». Когда она случайно сбросила расшитый золотой нитью тапок с ноги, я нашел, что у нее очень маленькая ножка.
Такими рисовали в старинных книгах райских гурий… или пери, как их там. Она не похожа на испанку. А на кого? На индуску? Ванька сказал — она чистокровная испанка. Нет, не совсем. Ее дед был лагерный охранник откуда-то, кажется, с Печоры… или с Соловков. Семейные легенды? Быль? Мне, откровенно говоря, все равно. Она улыбнулась мне, показав ровные, как круглая подковка, зубы.
Мы мило сидели за аперитивом, мило говорили, мило улыбались. Я тоже кивал и улыбался. Я не сознавал, что теряю голову. Я понял, что ее потерял, только когда приехал домой, сотовый завыл в кармане «Интернационал», я поднес телефон к уху, буркнул: «Метелица слушает!» — а мне знакомый, слишком знакомый голос раздельно сказал: «Завтра, угол Садово-Черногрязской и Большого Харитоньевского, пять вечера, черная „волга“ 88-УТ, шофер, седок. И седока, и шофера. Обоих. Желательно без дублей. Двадцать тысяч». Я слушал в трубке отбой и понимал, что я потерял голову. Потому что я слушал заказ, а видел перед собой ее. Эту черноволосую испанскую танцорку. Видел, как она смеется, закидывая голову; как ест апельсин, и сок течет у нее по губам и пальцам; как она неумело курит, отгоняя дым рукой, и снова хохочет; как взмахивает густыми, будто у дорогой куклы, ресницами, опасно взглядывая на меня. Я слушал заказ, а перед глазами у меня торчала, как спица в колеснице, эта смуглая кокетка, и мне хотелось протянуть руку и сначала нежно коснуться рукой ее щеки, а потом грубо рвануть пальцами вниз ворот ее легкого платья, разрывая ткань.
Если бы Ванька сказал ей, что его отец — киллер, интересно, что бы она стала делать? Вскочила бы с кресла, крикнула: убирайтесь?! Мило улыбнулась?
Пять вечера. Садово-Черногрязская. Бойкое, однако, место. Милицейских машин прорва. Не так-то просто уйти. Надо четко продумать систему ухода. Запасная машина. Перебежки дворами. Или — с этажа — снять квартиру на сутки — винтовка с оптическим? Верная «моська»? Нет, не пойдет. Машина — верткая собачка, мелькнет в потоке и растворится, улизнет, и лови ее за хвост. Надо быть рядом. Ждать на дороге. Угол, он сказал, угол Харитонья и Садовой… Нормально. Позвоню Славику. Он будет ждать на Чаплыгина. Пройду дворами. Вырулим в Лялин. Потом — на бульвары. На Садовом кольце нас изловят в два счета. Потом со Славкой выкатимся на явочную на Покровском, в машине останется Голованов, он поменяет номер, домчит на Юго-Запад, заведет тачку в гараж. Все шито-крыто. Или сразу рвануть к Аркадию? Сразу вытрясти из него монету?
Если все будет хорошо, заявлюсь к ней, к этой чертовой цыганке, с букетом роз и бутылкой хорошего коньяка. Она пьет коньяк? Или она лижет, как кошечка, сладкий ирландский шоколадный ликер? Или ей вообще нельзя ни спиртного, ни сладкого, и она блюдет и сохраняет свою сногсшибательную фигуру?
Киллер Ким Иванович Метелица, бывший биатлонист, бывший неоднократный призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, экс-чемпион, ныне вольный стрелок, ушедший на вольные преступные хлеба, муж и отец семейства — жена — владелица салонов «Версаль»: занавеси, портьеры, гардины, все для вашего домашнего дизайна! — и две несовершеннолетних дочери, помимо старшего сына Ивана, от предыдущего брака, — был влюблен как мальчишка. Ему было страшно себя, страшно будущего. Впервые он испугался своей профессии, поневоле, в страшное время, избранной им. Он испугался, что однажды не он убьет, а его убьют. И он больше никогда не увидит эти пухлые сливовые губы, эти черно-синие блестящие, гладкие волосы, эти черные глаза…
«Ах, эти черные глаза!» — зазвучала у него в голове старая, потрепанная песенка, будто с плывущей, хриплой старой пластинки. Чушь! Он крепкий, здоровый взрослый мужик. Он слишком серьезным делом занимается, чтобы все вот так враз взять и кинуть ради первой попавшейся юбки. И потом, не дури, Кимушка, сказал он себе, закуривая «Кент» и затягиваясь дымом до одури, до опьянения, это же девушка твоего Ваньки. Как ты смеешь, старый ловелас!
Ловеласом он не был. Он честно влюбился в свою портьерную даму, честно развелся, честно женился, честно родил детей. Обе жены, и брошенная и нынешняя, были им довольны. Он зарабатывал достаточно и хорошо обеспечивал обе семьи. Правда, для хорошего заработка нужно было ни много ни мало — время от времени убивать живого человека. Того, кого ему заказывали. Он работал чисто. Он делал все, соблюдая инкогнито. Он делал все так, что еще ни разу его заказчикам, среди которых были и очень высокопоставленные персоны, не приходило в голову, посредством другого киллера, убирать неаккуратного исполнителя. Его учили хорошо стрелять. На зимних Олимпиадах он выбивал все пять мишеней на огневом рубеже за рекордно короткий срок, и без промаха, без использования запасных патронов. Он работал в жизни без запасных патронов и без запасных секунд. Он укладывался в минимальное время дистанции. Он всегда шел на мировой рекорд.
Впервые в жизни он, легши на живот на холодный снег, перед огневым рубежом, и прицелясь, щуря глаз, держа винтовку у плеча, видел, как трясется перед глазами мушка. Он не мог выстрелить. Он не мог выстрелить в судьбу. Надлежало отбросить оружие прочь, в сугроб, вскочить, выпрямиться и пойти, раскинув руки, навстречу судьбе.
И перед пляшущей мушкой, улыбаясь, сощурив глаза от блеска резучего алмазного снега, у него на дороге, между черной мишенью — черноволосой, вожделенной женщиной с длинными ногами и такой улыбкой, что весь мир, казалось, должен пасть к ее ногам — и им, спятившим от бабы на старости лет, стоял, вскинув руки, его сын.
* * *
— Наложи краску сюда! Да, вот сюда! А румян хватит. Не переборщи. Много румян на роже — это дешевка.
Гримерша Марии, крохотная, тощая молоденькая девушка с кривым, скошенным на сторону, носиком-клювом, с тонкими язвительными губами, которые, когда она улыбалась, тоже странно ползли вбок, наползали на щеку, отчего искренняя улыбка получалась кривой и вымученной, вздрогнула всем тщедушным тельцем и так и застыла — с руками, вздернутыми в воздух, с зажатыми в пальцах щеточками, косметическими карандашами, коробочками с румянами. Она-то, профессионалка, уж знала, сколько, как и куда румян накладывать на женскую мордочку. Однако прикинулась незнайкой. Хозяин — барин.
— Хватит, Мария Альваровна?..
— Я же сказала, Надя! И так хорошо!
Гримершу звали Надя. Мария не интересовалась особо, откуда она и кто она. Ей посоветовали девочку, порекомендовали — она и взяла. Своего визажиста для выступлений, для концертов непременно надо иметь. С тряпками она пока справляется сама, врожденный вкус ей не изменяет, да и сама она умеет шить, спасибо матери, научила там, в Мадриде, — а вот грим — дело прехитрое. Надя так Надя, пускай, и потом, она дешево берет. Мария платит ей гроши, а трудится девочка в поте лица. Утренний макияж, дневной макияж; вечерний; концертный; ночной, для посещения баров и ночных клубов; особо торжественный — для приемов, для выступлений в посольствах, для международных конкурсов; гастрольные краски; московский грим; грим после бани; косметика лучших фирм; самые питательные кремы; самые модные в этом сезоне тени, помады, духи… По совету Нади Мария выписывала модные журналы с косметическими рецептами и наставлениями. По рекомендации Нади покупала помаду «Clinique» в Donna Caran boutique, духи «Guerlain», тени в Valentino shop, румяна у Армани. Как хорошо было не думать о том, как искусней подкраситься! Легкие руки визажистки делали все сами, делали все за нее. Ее голова была занята танцем. Бабьи проблемы — глазки, лапки, губки, бальзамы для тела, маски из земляники и клубники для лица — легли на узкие плечи этой Надежды-искусницы, этой лилипутицы, этой северной карлицы. Ну да, она же с Севера, откуда-то из Архангельской губернии, а там все такие вот крошечные, как букашки, как карликовые заполярные березки. Жалко девчоночку, росточком не вышла. Мамочка вовремя не пичкала ребенка гормоном роста.
— Спасибо, Надюша! — Мария встала и с высоты своего роста покровительственно глянула на малютку. Черт, еще и ножки кривые, как у рахита. Да, такая — не станцует… — Мне пора. Ты не видела ключ от машины?
Гримерша вскинула на Марию большие, прозрачные, почти стеклянно-белые, как льдины, глаза.
— Вот он, Мария Альваровна!
Гримерша взяла ключ с крышки рояля. Протянула Марии. Мария, изогнув губы в улыбке, положила ключ в карман широко светлого пиджака от Черрути. Услужливая девочка. Ты для нее — хозяйка. А как все-таки приятно, когда ты для кого-то — хозяин. А если ты для кого-то — раб?
Она передернула плечами. Иван. Она — рабыня Ивана? Чепуха.
«Врешь, ты его рабыня. Он вертит тобой как хочет. Он, вместе с этим своим толсторылым Родиком, решает, куда, в какую страну вам ехать. Он изматывает тебя на репетициях, как будто ты деревянная, на ниточках, марионетка, а не живая женщина. Ты для него — его позиционирование, Мария. Его реклама. Его известность. Его деньги. Да, она, талантливая, может быть, даже гениальная Мария Виторес, — всего лишь деньги Ивана Метелицы! Переживи это! Перевари, если можешь!»
— Пока, Наденька. — Мария щелкнула замком сумки, вынула стодолларовую купюру, добавила еще пятьдесят, протянула девушке. — Кажется, я еще не расплатилась с тобой за июнь? Твое жалованье.
— Мерси. — Надя сделала смешной книксен, став еще меньше ростом, и, вспыхнув, смущенно зажала деньги в кулаке. — Завтра я вам нужна?
— Нет, дружочек. Завтра отдыхай. Завтра я весь день у станка. Не до грима.
— Не забудьте на ночь намазать лицо кремом с выжимкой из персиковых косточек… тем, швейцарским!..
— Не забуду.
Улыбнувшись, Мария пропустила визажистку вперед. Девушка, подхватив сумочку и зонтик — грозовое выдалось в этом году лето, — послала Марии неуклюжий воздушный поцелуй и, стесняясь, убежала. До чего смешна, как зверек… бурундук, выхухоль. А дело свое знает хорошо. Никто не знает, что у нее работает одна из лучших визажисток Москвы.
Мария закрыла за собой дверь. Прекрасная квартира. Она жила в элитной квартире, в роскошно отреставрированном и заново отстроенном доме напротив отеля «Президент». Она купила ее на свои, заработанные деньги. Они с Метелицей, с их танцами — оригинальными и народными, с их новой бальной программой, с их участием в престижнейших конкурсах спортивных танцев, наконец, со свежей, только что сделанной суперпрограммой «Моя Испания» покорили весь мир, и деньги потекли к ним рекой. К ним обоим. Но главная в дуэте — это же ты, ты, только ты, Мария! Твой партнер — только твоя рама, твое обрамление, твое бесплатное приложение, запомни!
Она спустилась вниз в лифте. Почему она боялась лифта? Она не могла бы себе это сказать. Потому же, почему и самолетов?
Или это вообще была такая странная клаустрофобия?
Ее машина, верткая и маневренная «БМВ», мирно ждала ее около подъезда. И машину ты тоже купила на свои денежки, Мария; так что ж тебе жаловаться на жизнь? Все у тебя есть, девочка. Только ты никогда, никогда, слышишь, никогда не купишь себе дом в Сан-Доминго.
Она щелкнула кнопкой, дистанционный «сторож» весело пискнул, она всунула ключ в дверцу — и застыла. Из-за машины прямо на нее пристально глядели холодные, бесстрастные, белые глаза.
— Госпожа Виторес?
— Да, я. — Она постаралась держаться как можно спокойней. — Кто вы? Что вам нужно?
Мужчина даже не считал нужным скрывать, что он выследил ее. Презрительно-устало глянул на часы, всем видом давая понять: долгонько же ждал я тебя, козочка, пока ты там, у себя, красилась-мазалась.
— Я? Кто я такой, вы узнаете скоро. Открывайте дверь. Садитесь в машину. Я сяду вместе с вами. Вы поедете туда, куда я скажу вам.
Она старалась изо всех сил оставаться хладнокровной. Ее мысль безумно-быстро билась в ней, билась, билась в ритме колотящегося сердца.
— У меня в кармане кнопка срочного вызова моей личной охраны.
— Не врите. У вас нет никакой личной охраны. Мы все узнали. А легкомысленно жить в Москве без личной охраны, нет? Правда, охране надо сейчас дорого платить. Или вы никогда не думали об опасности?
— Я закричу, — холодным голосом сказала она
— Попробуйте.
Мужчина с глазами пронзительно-светлыми, будто у него в череп были вставлены две слепяще-ярких белых лампы, быстро вытащил из кармана пистолет. Черный круглый рот дула высунулся из-под полы пиджака. «В этом сезоне модны светлые пиджаки, вот и у Родиона такой же», — зачем-то подумала Мария.
— Понимаю. Уберите. — Она повернула ключ, зло дернула на себя дверь. — Садитесь. Сюда, на заднее сиденье.
Человек, удовлетворенно усмехнувшись, спрятал пистолет в карман. Плюхнулся на сиденье. Мария уселась, положила на руль руки. Счастье, что ее пальцы не дрожали.
— Куда едем? — «Черт, черт, отец же говорил, и Иван говорил, и все говорили — Москва криминальный город, и Россия криминальная страна. Я не верила. Я смеялась. Я слишком беспечно жила. Все мы можем на ровном месте вляпаться в дерьмо. Вот и я нарвалась. Я не думала, что это когда-нибудь произойдет со мной. Я думала… а, к черту все, что я думала! Все полетело к черту, Марита, ты же понимаешь. Какая я дура, что я не попросила Ивана купить мне пистолет! Или, на худой конец, газовый баллончик. Какая это, оказывается, насущно необходимая вещь… здесь и теперь». Она крепче вцепилась в руль, чуть повернула голову к захватившему ее.
— В Лефортово.
— Куда именно? Улица?
— Первая улица Энтузиастов, двадцать пять. Вы хорошо знаете Москву? Мне не сесть за руль?
— Нет. Я достаточно знаю город. На «Авиамоторной» я покупала кое-что для своего автомобиля. Там, в Лефортово, хороший рынок.
Машина снялась с места. Они ехали, беседуя, как милые попутчики. Марию разбирала злость. «Идиот, идиот. И я — идиотка. Если я ему нужна, он меня не застрелит, если я внезапно… что? Остановлю машину, выпрыгну и брошусь бежать? Кинусь под ноги любому милиционеру? Наберу номер, выдернув из сумки сотовый телефон? А если не нужна? Ему, разумеется, дороже своя жизнь, а не моя. Он будет спасать свою шкуру и убьет меня». Она вдруг ощутила, как это просто, как обыденно — убить человека. Вот она есть сейчас, натянуто улыбается, бросает незначащие фразы, ведет машину. Один — выстрел в затылок — и ее нет. Нет, будто не было. И больше не будет никогда.
«Так вот что такое смерть. Вот что такое ужас смерти. Лефортово, там же рядом где-то знаменитая тюрьма. Он не выстрелит тебе в затылок, Мара. Не выстрелит. Он хочет, чтобы ты вместе с ним приехала к нему, в какое-то его логово. Кто он? Банальный шантажист, вымогатель денег? Больной? Маньяк? Безумец? Непризнанный гений танца, который хочет принудить Марию Виторес… к чему? Чтобы она оставила Иоанна и взяла в партнеры его? Бред. Что-то другое. Что? Что?!»
Руки и ноги бессознательно, автоматически делали свое дело. Она вела машину так, будто бы исполняла танец. Танец во сне. Быстрый, четкий — и в то же время призрачный, замедленный. Руки двигались, ноги двигались, душа не двигалась. Душа застыла, замерла, преодолевая страх. Страх накатывался черной волной. Плавящийся на солнце асфальт дороги летел под колеса. Светофоры мигали глумливо. Она чуть не сбила кошку, ошалело перебегавшую через автостраду. Спасся зверек? Попал под чьи-то колеса? Она не успела рассмотреть. Она гнала машину все быстрее, все злее. «А если мы врежемся? Пусть врежемся. Наплевать. Не жалко. Что ты городишь! Жить надоело?! У тебя, между прочим, через пять дней выступление в Лионе! А потом — в Токио! А потом — участие в грандиозном фольклорном шоу „Драгоценная планета“ в Сиднее! И вы с Иваном должны везде танцевать! Везде! И в Сиднее, и в Лионе, и в Гонконге, и в Токио! Контракты подписаны! А ты хочешь сдохнуть?! Если даже ты сама захочешь — ты не сможешь! Потому что Станкевич раскопает твою могилу, сделает из тебя зомби и убьет тебя еще раз!»
Светофоры мигали. Летела дорога под колеса. Летели мимо люди на тротуарах. Люди уже были странно чужие, немые, искусственно-деревянные, потусторонние, — жители другой планеты, не той, по которой в «БМВ» ехали они оба. «Авиамоторная». Лефортово. Повернуть налево. Вот мост через железнодорожное полотно. Грохот электрички, свист гудка врезался в уши.
Мария свернула на улицу, названную тем, кто взял ее в плен. Ехала, глядя прямо перед собой. «Уж наверное, сам посмотрит номера домов».
Он положил руку ей на плечо. Она вздрогнула, как от ожога.
— Здесь. Остановите машину. А лучше бы въехать во двор.
Она сделала, как он сказал. Двор был замусоренный и грязный. Марию поражало в России это безразличие к месту, где человек жил, проживал свою жизнь. Приводился в порядок только центр. Да и то только фешенебельные, аристократические улицы. Ближе к окраинам лоск исчезал. Оставались неряшливость и пренебрежение. Пренебрежение человека к самому себе. Она, испанка, не понимала этих безногих, перевернутых скамеек, этих изрезанных ножами, искалеченных подъездных дверей, этих гор грязных рваных газет на газонах. Как люди здесь не любили себя! А кого — любили? Или — что? Деньги? Своих правителей? Своих ближних? Свои бирюльки в своем доме? Боже, какое счастье, что она испанка.
«Тебе пришел конец, испанка. Тебя сейчас заведут в четыре стены, банально, кроваво изнасилуют, да еще и снимут на кинопленку, уникальные кадры. Мария Виторес в объятьях лефортовского урки. Урка, так, кажется, по-русски называется этот… грубый, страшный уличный бандит?.. разбойник?.. уже отсидевший в тюрьме…»
Мужчина уже открыл дверцу и галантно подавал ей руку. Он отнюдь не был похож на урку. Он был похож на дипломата. На актера из популярного фильма. На…
Светлые, очень светлые, почти белые глаза. Глаза как у волка.
Он смеялся.
Она оттолкнула его руку и выскочила из машины, чуть не зацепившись высоким каблуком за резиновый коврик на полу салона.
— А вы смелая девушка, — смеясь, сказал он. — Я думал, вы побледнеете, будете умолять меня… звать на помощь. Вы этого не сделали, хвалю.
— Я не нуждаюсь в вашей похвале. Куда идти?
Он столь же учтиво, как в старинном менуэте, взял ее за локоть и подвел к двери подъезда. Набрал код на домофоне. Гнусавый голос прогудел:
— Кто-о-о?..
— Я привез фиалки с Якиманки. Полную корзину, как вы просили.
Дверь медленно отъехала. Когда они вошли, так же медленно, неотвратимо закрылась.
Они поднялись на лифте на седьмой этаж — Мария запомнила цифру. Она все видела, слышала и ощущала сейчас ясно, холодно, четко. У нее и впрямь куда-то подевался страх. Удивительная ясность мысли; и память, память работала вовсю. Зачем? Чтобы потом рассказать Ивану? Вдруг она не выживет? Лифт с зеркалами; зеркала подвешены выше человеческих голов, для кого? Кто будет в них смотреться? Инопланетяне? В углу кабины — окурок. И надпись, процарапанная ножом на стене: «Витек гей». И выше — еще одна, выжженная горящей сигаретой: «ЕСЛИ ТЫ ИЗМЕНИШЬ МНЕ, Я ТЕБЯ УБЬЮ».
Она старалась не глядеть в светлые, как вода, глаза похитителя. Лифт дернулся, остановился, двери с шипеньем разъехались. Перед дверью квартиры Мария задрала голову, увидела черную, как паук, цифру на медной овальной табличке: «25». Двадцать пятая квартира, седьмой этаж. И дом двадцать пять. Легко запомнить.
«Тебе ни к чему это запоминать. Тебе эти цифры никогда больше не понадобятся. Тебя убьют, а косточки твои закопают на пустыре… или отвезут труп и сбросят куда-нибудь в карьер в Кузьминках… в грязное озеро около Московской кольцевой… Тебе двадцать пять, Марита, тоже двадцать пять…»
Залязгал ключ в замке. Дверь распахнулась. На пороге стоял маленький, плюгавенький человечек, с виду — вокзальный бродяга, правда, одетый с иголочки — красивая, только из бутика, модная «тройка», золотая цепочка часов свешивается из кармана жилета, начищенные башмаки блестят, как собачьи носы. Человечек сказал, как чихнул:
— Проходите, господа! Уж заждались!
Мужчина, похитивший Марию, подтолкнул ее вперед. И она переступила порог, чуть не сшибив гномика-аристократа с ног.
Такую вызывающую, до противности, слащавую роскошь она видела впервые. Всюду золото. Позолоченная лепнина. Подушки, вышитые золотом. Золотые и бронзовые вазы на постаментах. Отлитые из серебра фигурки нимф, коней, Меркуриев и Персеев. Натюрморты в тяжелых позолоченных багетах — дыни, персики, ананасы, вылизанный кистью до приторности виноград на огромных, во всю стену, холстах. Везде в шкафах — хрусталь, и белый и цветной, хрустальные горки. Тяжелая мебель красного дерева. Цветной паркет. Старинные столики с инкрустацией. Антикварные тарелки и блюдца — Гарднер, Кузнецов. И старинное золотое цыганское монисто, привешенное к двери. Чтобы входящие задевали головой, и чтобы звенело.
Мария коснулась мониста рукой. Золотые монетки тихо зазвенели, будто нежно шептали ей что-то.
— Садитесь, — плюгавенький мэтр подвинул ей стул. — Поговорим?
Она опустилась в кресло красного бархата. В таком, должно быть, сидели маркизы… короли. Из какого Эрмитажа эти сволочи его стащили? Украли… купили за десятки тысяч долларов?..
— Я слушаю вас.
Человек с пронзительно-светлыми глазами шагнул вперед. Он не садился. Он стоял перед ней, сидящей, и его светлые глаза летели сквозь нее навылет.
— Госпожа Анна Луиса Мария Виторес, подданная Испании, в настоящее время живущая в России, известная танцовщица, исполнительница народных, этнографических, древних, реконструированных, бальных и спортивных танцев, а также неподражаемая испольнительница танцев фламенко. — Он слегка наклонил коротко стриженую голову. Его очень светлые, почти белые волосы казались седыми, если б не чуть золотистый их отлив, если бы не молодое, сыто-гладкое лицо с торчащими, нервно ходящими ходуном под гладко выбритой кожей скулами. — Вы передавали некий пакет в Монреале двум людям, которые подошли к вам в баре аэропорта? Отпираться не имеет смысла. Это были вы.
Мария не опускала взгляда, не шевелилась. Смотрела мужчине в лицо. Прямо в белые глаза.
— Должен отметить, что вам это хорошо удалось.
Она молчала.
— Мы хотим предложить вам продолжить столь успешно начатое. С несколько иным креном… хм-м-м… в сторону, быть может, для вас шокирующую… или пугающую, но я убедился, что вы не из пугливых. Нас устраивает, в вашем конкретном случае, что вы — гражданка другой страны, и одновременно отлично говорите по-русски, в силу обстоятельств вашего, э-эм-м-м, происхождения. Нас устраивает ваш социальный статус артистки. Нас устраивает… м-м-м… ваш возраст. Ваш возраст, ловкость, свежесть, ваша красота, наконец. Это все ваши козыри в нашей, хм, с вами игре. Вы молчите?
«Что я должна им говорить? Гады. Они меня вербуют, это ясно. Или — что-то другое? Слушай, Мара, слушай. Что будет, если ты им скажешь „нет“?»
— Угости гостью коньяком, Витя. — Светлоглазый покосился на роскошный старинный итальянский буфет восемнадцатого века с цветными витражами. Дверца буфета была открыта, и внутри поблескивала армада разномастных коньячных бутылок. — Она слишком напряжена. Ей надо расслабиться. Хлебнуть коньячку и расслабиться… разогреться. Она, мне кажется, замерзла. — Он посмотрел на нее так, что ей показалось — он прикоснулся обеими руками к ее голой груди. — Вот так, спасибо, да, эти бокалы, темно-зеленые! Ах, как пахнет. — Он поднес бокал к носу, втянул воздух. — Итак, ваше здоровье, богиня фламенко! — Он легонько стукнул бокалом о ее бокал. — Вы продолжаете молчать? Это в высшей степени бессмысленно. Вы даже не поинтересуетесь, что я вам предлагаю?
Она молчала. Потом наклонила голову. Волосы, гладко зачесанные, блеснули сине-изумрудно, мрачно. Она поднесла бокал к губам и отпила сразу большой глоток. «Мне надо оглушить себя спиртным. Но не напиться. Храбрости прибудет. А если я напьюсь, они сделают со мной Бог знает что. Держи себя в руках, Мара». Белоглазый тоже пригубил коньяк, прикрыл глаза.
— М-м-м, вкусно. Тот кальвадос, в Монреале, был вкуснее? Ну же? Вы что, не помните?
Плюгавенькая крыса снова сунула цепкую крючковатую лапку к горлу бутылки. Старинные часы на стене напротив пробили пять. За тяжелыми черными шторами, закрывавшими окна, должно быть, вовсю плясало фанданго сумасшедшее июльское солнце.
— Ты, дрянь! — Внезапно рванувшаяся вперед, к ее горлу, рука стиснула ей глотку, опомнилась, выпустила, схватила ее за подбородок. Другая рука дернула ее за плечо, как картонную, неживую куклу. Рывком подняла со стула. — Овечкой прикидывается! С Жирным спала, нехилый гонорар получала, как сыр в масле каталась, приказы выполняла, а сидит, лягушка, глазами хлопает! Делает вид! Ах, сейчас потеряю невинность! Ах, спасите-помогите! Прожженная шлюха! — Рука оттолкнула ее подбородок, чуть не свернув скулу на сторону, и Мария не устояла на ногах, упала боком, ребром, больно, на буфет, зацепив бокал, уронив его на паркет. Бокал разбился с легким звоном. — Брось притворяться! Мы прекрасно знаем все про тебя! Мы осведомлены! Мы знаем, на кого ты работаешь! Смогла работать на Жирного — будешь работать и на нас! И на нас ты будешь работать старательней и чище, лучше, чем на Жирягу! Лучше! Лучше!
Она, вцепившись руками в буфет, глядела на похитителя остановившимися глазами. Мужчина отряхнул руки, поддел носком ботинка осколки бокала на полу. Остро, невидяще глянул на старинную картину в роскошном вычурном багете, изображающую купание Сусанны. Сусанна трогала ногой воду в маленьком квадратном бассейне, по бокам бассейна торчали лысые головы старцев; сквозь толщу воды просвечивало уроненное на дно жемчужное ожерелье. Мужчина сплюнул себе под ноги.
— Почему ты молчишь?! Хочешь, чтобы тебя ударили по-настоящему?!
Она молчала.
ИВАН
Я до сих пор помню наше первое выступление.
Я чуть с ума не сошел тогда.
Я чуть с ума не сошел от нее, когда мне ее впервые привел Станкевич. Она взмахнула ресницами — и все, я уже был готов. Она сделала вот этак, руку на бедро положила, чуть подбоченилась, прищурясь, весело рассматривая меня из-под ресниц, словно диковинное тропическое насекомое, — и я уже пропал. Я же не знал тогда, кто она такая, зачем Родион приволок ее ко мне. Я не знал, кем она будет для меня. Что она взорвется потом внутри страны, откуда родом был ее отец, как бомба — и все выжжет, испепелит вокруг.
Помню, как я глянул на нее, постарался тоже подбочениться, тоже — надменно, чуть заметно, фыркнуть: надо же, какая цаца. И, наверное, после Московского хореографического такая мымра?.. Я не знал тогда, что она испанка. Думал — может, грузинка… Когда жирный Родька толкнул ее в спину ко мне и возопил: «Мария Виторес, вива Испанья-а-а-а!» — я все понял. Родька нашел мне экзотическую девушку для подтанцовок?! А может, и еще одну?.. Я оглянулся, ища глазами другую девушку. «Я нашел тебе партнершу, — жестко сказал Станкевич. — Вдвоем вы станете знамениты. Я нашел тебе потрясающую пару. Представь себе, она танцует все фламенко. Она танцует фанданго. Она танцует даже олу! Олу могла танцевать, по воспоминаниям современников, лишь одна танцовщица на свете — Анна Дамиани! И та жила в семнадцатом веке, мир ее праху… Любовница Веласкеса, между прочим…» Я знать ничего не хотел ни о какой любовнице Веласкеса. Я шагнул к ней, к этой синеволосой белозубой гордячке с ногами, что росли из подмышек, и внезапно властно и нагло обнял, взял ее за талию. И повлек за собой в стремительном, спонтанном танце. Ну же, козочка, покажи класс!
И она показала.
Она тут же поняла, что я от нее хочу.
И мы вдвоем, едва увидевшие друг друга, еще не познакомившиеся, лишь глянувшие друг на друга презрительно и нахально, мы — на глазах у трясущего подбородками от смеха Станкевича — станцевали такой сумасшедший танец, что мне до сих пор жаль, что нас не записали на пленку хоть скрытой, хоть открытой камерой!
А первое выступление врезалось в меня навек. Горячим сургучом. Печатью. Клеймом. Клейма ставят рабам. Клейма ставят преступникам. Клейма ставят каторжникам. Мария навек поставила на мне несмываемое клеймо любви. О, как же я ненавидел ее на первом выступлении!
Мы готовились к нему долго. Станкевич изнасиловал нас репетициями. И я с наслаждением изматывал, истязал, крутил Марию в батманах и поддержках, заставлял ее вздергивать ногами у станка: «У тебя нет достаточной гибкости в коленях! У тебя бедра не ходят свободно! Ты вся как замороженная! Работай! Работай! Работай!» — а она, казалось, была двужильная. Она оказалась двужильнее меня. В нашей битве проиграл я. И как же она классно выиграла ее! На самом шоу!
Станкевич задумал экзотическую программу. Он захотел поразить насмерть взыскательную и объевшуюся премьерами московскую публику. Публика давно уже не была благодарной. Публика хотела жареного. Жареных уток. Жареных газетных фактов. Жареных трупов в сожженных дачах. Жареных концертов.
Станкевич придумал столичной публике жареное шоу.
Оно называлось: «АУТОДАФЕ».
Мы вдвоем, одни, без кордебалета, без подтанцовок, без никого, должны были, средствами танца, создать целую картину, огромную фреску, где образы средневековой Испании и трагедии нынешнего дня, обвалы взорванного террористами World Traiding Center и дикие костры, на которых жгли еретиков, крест прежний и распятие сегодняшнее должны были, по идиотской задумке Родьки, сплетаться и переплетаться, и мы оба, Мара и я, должны были быть одновременно и героями-исполнителями этого супершоу, и красной нитью, прошивающей насквозь весь спектакль-дуэт. Этой нитью, разумеется, была любовь.
И любовь наша должна была разворачиваться в пылком, сначала строгом и страстном, потом — безумном, вихревом, диком фламенко, где, доведенная до экстаза, в конце сумасшедшего танца — олы — танцовщица сбрасывает рывком одежды и пляшет на сцене голая. Изображая соитие. Изображая разлуку. Изображая отчаяние. Изображая, самое главное, огонь, на котором ее, еретицу, сжигают на главной площади города.
Мы готовились тщательно и отчаянно. Но я сам не ожидал того, что произойдет на спектакле.
Билеты были раскуплены заранее: Родион позаботился о рекламе, разрекламировал нас как только мог и где только мог. О нас писали «Kosmopolitain» и «Elle», «Караван историй» и «Арт-хроника», о нас вещало радио «Серебряный дождь» и «Эхо Москвы», и все только и делали, что нагнетали страсти: «Спешите видеть! Это невероятно! Дикое настоящее фламенко оживает в этом мужчине и в этой девушке, словно созданных для страсти и друг для друга!» А мы друг друга почти ненавидели. Я — потому, что я желал ее, а она меня — нет. Она — потому что она думала, что я по-настоящему ненавижу ее, и возвращала мне мою ненависть бумерангом.
Вся Москва была сверху донизу оклеена афишами и увешана, как новогодняя елка, орифламмами, протянутыми на улицах над головами прохожих и гладкими железными спинами машин. За два часа до выезда на выступление Мария вбрасывала в рот странные таблетки — либо допинг, либо успокаивающее, я так и не понял. Потом она, обернувшись к нам с Родионом, грациозно выгнув спину, сказал, не глядя на нас — мы видели только ее затылок: «Мне нужно домой. Я быстро. Вы выезжайте одни. Без меня. Я подъеду к залу». Родион пожал плечами: мол, брыкливая девчонка, пес с ней, пусть делает что хочет. Авось не опоздает.
Перед концертным залом на Новослободской уже проходу не было от желающих попасть на «АУТОДАФЕ». «Нет ли лишнего билетика?!» — цапнула меня за руку девица в супермини, с вытаращенными глазами; девица прижимала к груди маленькую японскую собачку с такими же выпученными огромными глазами, хлопала намазюканными ресницами, и я не сразу понял, что это не девица, а парень — голубой, а похоже, и трансвестит. «Представьте, нет!» — нервно крикнул я и грубо отцепил от своего локтя его руку с длинными налакированными ногтями. Черт, мужик, сменивший пол… Никогда не пойму… Ведь быть мужчиной — такое счастье. Это свобода… сила… это жажда поиска, храбрость, это… риск, пусть даже ты напорешься брюхом на военную железяку под водой… А женщиной? Каково это — быть женщиной?
Женщина. Загадка. Богиня. Дьявол?
Или — океан, вглатывающий, вбирающий тебя всего, с потрохами, без остатка?
«Фу, какой грубиян!» — кинул мне вслед этот, с накладными грудями. Я бежал вперед, за мной Станкевич. Мы думали, мы опоздали. Опаздывала она.
Станкевич, тряся подбородками от негодования, все набирал и набирал номер ее сотового. «Отключила, поганка! Чтобы ей, видишь ли, не мешали!» Я молчал. Думал отчего-то о том, как же хорошо после выступления выпить пару- тройку бутылок пивка с хорошей жирной воблой, и чтобы в вобле, в ее брюхе, была сухая мелкая оранжевая икра. Танцору нельзя пиво, от него, проклятье, толстеют.
«Никогда не верь женщине, потому что она…» Станкевич заткнулся, потому что в гримерку, хлопнув дверью, входила Мария.
Я заткнул себе рот кулаком, чтобы не закричать. От чего? От удивления? От ужаса? От восторга? Черт знает от чего?
Да, это было черт знает что.
Мария послала к черту все наши продуманные костюмы, все тряпки, сшитые под руководством Станкевича, весь грим, наложенный по команде Станкевича. Перед нами была не Мария. Перед нами была… уж и не знаю, как сказать.
Перед нами была Смерть.
Тяжелый черный балахон. Тяжелые складки. Скрывающие от взоров все, вплоть до пяток. Капюшон, надвинутый на лоб, на лицо. А вместо лица…
Вместо лица у Марии, из-под низко надвинутого балахона, просвечивал череп.
Натуральный череп. Кость белела из-под обвислой траурной ткани.
Я стоял как истукан. Я лишился дара речи. Станкевич очнулся первым. Присвистнул: «Ну ты и стерва! Что ты мне хочешь этим сказать, девочка? Что ты сегодня выступать не будешь, а, это самое, грубо говоря, значит, умирать собралась, так?..» Мария молчала. Смерть стояла перед нами. Портрет Смерти в натуральную величину, в полный рост. Хочешь не хочешь, мы смотрели на нее. В пустые глазницы черепа. В скалящиеся зубы. В безносую харю.
Мы смотрели Смерти-актерке в лицо, и мне стало не по себе. Я сделал шаг к ней, чтобы сдернуть, стащить с нее этот жуткий балахон, сорвать эту маску, но она сама опередила меня, и черная ткань черной тучей легла к ее ногам, и череп отлетел, упал на диван, и там, под чернотой, она была одета тоже черт-те во что! Я никогда не видал таких платьев! По крайней мере, никогда не танцевал с бабами, одетыми именно так!
На Марии была ярко-розовая юбка с множеством оборок, похожая на махровый цветок — на гвоздику, на пион, — едва прикрывавшая колени. Это было бы полбеды.
Сверху… ее грудь…
Я не удивился бы, если бы ее грудь была обнажена.
Я не удивился бы, если бы ее грудь была закутана в прозрачный газ. В рыболовную сеть. В грубую мешковину. В любое тканое человеком полотно.
Но ее грудь была закована.
Закована в жесткую темную, как темный мед, медь.
Медь. Железо. Латы. Рыцарские латы.
Какой театр она, умалишенная, ограбила?! С какого Рыцаря Печального Образа латы стащила?!
Станкевич ударил кулаком в медный панцирь. Заорал: «Откуда ты это взяла?! Раздевайся сейчас же! До выхода осталось, кляча, всего пятнадцать минут! А ты даже еще не разогрелась! У-у-у, задница…» Мария отодвинула от себя его кулак, как вещь. «Не мешайте мне. Иван, — обернулась она ко мне, и глаза ее заблестели неожиданно просяще и покорно, как у овечки, — это задача. Задача, понимаешь? Ты должен, танцуя со мной сначала малагенью, потом севильяну, потом, уже в полном безумии, последнюю олу… ты должен… стараться… снять с меня этот панцирь… не руками, понимаешь?.. а любовью… Ты должен меня любить так, чтобы эта скорлупка… ну… упала… чтобы ты вынул меня из-под нее — живую!.. чтобы ты не дал мне умереть… хоть меня, по сценарию, и сжигают на костре… понимаешь?..»
Я, кажется, начинал понимать. Она переиграла весь сценарий! Она хотела все сделать по-другому! Хотела сама! Ей не нужен был никакой Станкевич!
Ей нужен был я.
Она проверяла меня на прочность.
«А ты… не отчебучишь ничего там, на сцене?.. Рисунок танца остается, надеюсь, тот же?..» Она пожала плечами. Что означало: а черт его знает!
И она снова натянула на себя черный балахон, приладила к лицу маску Смерти, запахнулась, закрылась локтем, и я проклинал все на свете, а особенно тот день, когда Родька эту испанскую авантюристку привел ко мне.
И мы вышли на сцену, а зал сначала взорвался, потом притих. Зал будто молился нам тишиной.
Мария стала танцевать. Я забыл о себе. О своем танце. Меня не было. Она заполнила, заполонила все — и зал и небеса, и меня и себя. Она маячила передо мной черной Смертью. Она взмахивала надо мной руками, как взмахивает Смерть косой. Я, казалось, видел и чувствовал, как катится, скошенная, с плеч моя голова. Она падал на пол, застывала черной горой. Публика недоумевала: вот это наряд! Публика оторопела, когда Мария, при особо мощном минорном аккорде гитар — а на шоу «АУТОДАФЕ» нам аккомпанировала не одна, не две, не три — ни много ни мало двадцать гитар! целый оркестр! — после моего отчаянного жеста, когда я заслонился от смертного видения рукой: уйди! Не хочу! Я еще не твой! — внезапно сбросила балахон. Я пропустил тот миг, когда черный балахон Смерти сорвался с ее плеч и, несомый дикой музыкой — уже звучала не севильяна, а огненная, сумасшедшая ола, — полетел в дальний угол сцены. Мария танцевала босиком, так, как и надо было в древности танцевать фламенко. Все каблучки и туфельки придумали потом. Во времена Гойи кокетничали каблучками. Во времена Анниты Дамиани олу плясали босиком, а после этого танца женщина отдавалась мужчине, понравившемуся ей.
Публика пялилась и на ее грим. Это не было лицо женщины, испанки. Это было лицо языческой богини. Казалось, ожил древний иберийский идол. Она накрасилась странно — набелила смуглые щеки, отчего ее мордочка казалась мраморной, густо насурьмила брови, и что-то грозное, мужское появилось в лице, — а на виски и уши у нее с затылка свисали, спускались странные круги, будто колеса, — металлические? сплетенные из ниток? картонные?.. — а в мочках у нее висели такой же формы, но поменьше, тяжелые золотые серьги — как они не мешали ей танцевать! Позже я узнал, что таков был древний обрядовый наряд жительниц Пиренеев. Зал охнул, увидев ее в вызывающе сексуальной юбке и в медных латах, закрывших грудь, живот и спину.
Зал хотел наготы, а музыка гремела.
И я встал над ней, над иберийской богиней, на цыпочки, с поднятыми вверх руками, с опущенными вниз пальцами. Я был мужчина, и я должен был победить ее. Победить богиню, поклоняясь ей.
Это был танец двух безумцев. Танец ожившей статуи и спятившего тореро. Я был тореро, а она была повелительница пиренейских быков, женщина-рыцарь, закованная в броню девственности и неприступности. Смерть обратилась в жизнь, но жизнь эта была медная, железная, как были железными все боги, которым люди служили от века — деньги, оружие, короны владык. И я должен был выпустить на свободу иную жизнь, теплую, горячую, живую.
Я вился вокруг нее веретеном. Я грубо ронял ее на пол. Я старался придвинуть губы к ее губам, чтобы поцелуем снять медное заклятие — напрасно. Я заносил руку над ее головой, будто бы в руке был кинжал, чтобы напугать: сейчас вонжу наваху под ребро! — ее ярко накрашенные губы усмехались. А гитаристы, ударяя по струнам, все убыстряли темп, а ола закручивалась в тугую пружину. Публика уже истомилась до последней степени. И мне удалось сорвать поцелуй с губ Марии. Настоящий. Горячий. Поистине любовный.
Ибо в ту минуту, когда я, взмокший от олы, целовал ее на сцене, я уже любил ее.
И — вот оно! Где, какие она нажала кнопки, заклепки на медной блестящей скорлупе? Тяжелый звон раздался — это латы падали, звеня, на доски сцены. И легкий шорох — это упала к ногам Марии розовая юбка в оборках. Когда я поднял голову, на ней уже не было древних иберийских украшений. Ни серег. Ни налобников. Ни этих жутких колес на ушах. Ни лат и юбки. Она была голая. Она смеялась. Только пот посверкивал над губой. И глаза блестели.
Выжженная земля Кастильи. Выжженные камни Пиренеев. Выжженная танцем жизнь.
Последние такты олы. Последний выход.
Я схватил ее в объятья. Она прижалась ко мне крепко, так крепко, будто была со мною в разлуке целую жизнь. Ее рука скользнула мне вниз, к развилке ног, где мой напрягшийся дротик уже готов был лететь навылет, сквозь нее. Я снова почувствовал на своих губах ее губы. Ее жаркие, влажные, потные губы — и чуть не спятил. Ее язык быстро лизнул мой язык, она оторвала лицо от меня и быстрее молнии опустилась передо мной на колени. И губы, что целовали миг назад мой рот, прижались к черной тонкой ткани трико, где под тонкой паутинной полоской трикотажа вставал на дыбы мой зверь, мой жеребец. Она совсем рехнулась, акт на сцене!
Ее губы нашарили там, внизу, под вот-вот готовой разорваться тканью трико, мое торчащее естество — и мгновенно вобрали, сжали, и зубы укусили, и я застонал, и, слава Богу, гитарные переборы заглушили этот стон, этот ужас.
«Мария, что ты делаешь, опомнись», — прошептал я, но разве она слышала мой жалкий шепот в буре музыки, поднявшейся вокруг нас! Гитары неистовствовали. Мария вскочила на ноги, запрокинулась, ее маленькие ножки резво, быстро побежали, перебирая, по навощенным доскам. Ола гремела. Гитаристы выжимали из инструментов последнюю кровь.
Мария еще раз обняла меня в танце, и я снова поцеловал ее — уже не помня себя, уже видя только ее одну, желая ее с невероятной силой. Публика вопила и хлопала в ладоши. Я чувствовал под своим животом, затянутым в черное трико, ее голый горячий живот. Я поразился тому, какая красивая была у нее грудь. У всех моих партнерш, с кем я танцевал раньше, у всех козочек кордебалета были груди, хоть немножко, да обвислые. Я никогда еще не встречал у женщины грудей совершенной формы. Две живых смуглых чаши, идеально ровные, гладкие, высоко поднимающиеся. И соски торчат как ягоды.
Когда она успела стереть с лица грим? Белила, помаду? Когда отвернулась к заднику сцены, выплясывая олу, показывая вопящему залу свой голый круглый зад?
Когда она повернулась и предстала передо мной и перед зрителями передом, во всей красе, крики и свисты, как на футбольном матче, перекрыли музыку.
Я подумал: люди шли на танцоров, а попали на секс-шоу, но это же не закрытый ночной клуб, это сцена, и что завтра напишут наглые папарацци? А думать было уже некогда. Музыка неумолимо катилась к концу.
Мария подняла руки над головой, посмотрела на меня, и я понял: я теперь уже не тореро, я — инквизиция. И я приговорю ее. И я сожгу ее. И она взойдет на костер.
Не помня себя, я простер вперед руку, ставшую деревянной, железной. Теперь я превратился в железо, а она была живая. Я выносил приговор, а она горела в живом огне. Она прижала пальцы ко рту, искусно изображая отчаяние. Мы поменялись ролями. В начале танца она была Смерть, я молил о пощаде; теперь она молила меня: оставь меня в живых, любимый мой! ведь ты так любишь меня! — а я беспощадно возвышался над ней железной статуей, бестрепетным Командором, священником, исполняющим букву великого и незыблемого церковного закона. Любовь — грех! Свобода — грех! Жизнь — самый большой грех, ибо только мертвые счастливы, а душа бессмертна, и ей надлежит спастись от греха.
И я был ее столб, куда ее привели исполнить аутодафе; и она была огонь, в котором горела, и она, живая, протягивала из огня мечущиеся руки к народу: спасите! Умоляю! А во мне все остановилось. Дыхание, движение, жизнь. Я смотрел на эту испанскую девочку, выделывающую на сцене такие чудеса, что и цирковые артисты померкли бы перед этим шоу, что держала в своих руках, между своих быстрых танцующих ног она одна, — я был тут совершенно ни при чем, я был каким-то статистом, какой-то вещью, которой она виртуозно вертела, и в то же время я был ее возлюбленным, и она любила меня — пусть хоть так, хоть на сцене, хоть понарошку! Я стоял каменным идолом. А она падала передо мной на колени, распластывалась на досках сцены, умоляла меня, протягивала ко мне руки, лицо, всю душу протягивала она ко мне, и ее тело при этом беспрерывно танцевало, металось, вспыхивало, угрожало, молило, соблазняло, кричало: отпусти! Я же твоя! Я же любила тебя! Отпусти!
Оставь — мне — жизнь…
Костер горел. Я стоял как столб. Она вскинула руки последний раз, ее нагое смуглое тело дернулось, выгнулось в судороге. Она легла, стоя на коленях, лицом на доски, согнувшись, как дитя в утробе матери, и только ее руки вскидывались над ее черноволосым затылком, судорожно взбрасывались, раз, другой, третий. Все. Затихли. Сложились, как крылья.
И гитары ударили резко, мощно — и настала тишина.
Настала такая тишина, которая бывает только раз в жизни у артиста. Может быть, у кого-то это бывает несколько раз в жизни, не знаю.
И минуты две, три зал молчал.
Мария лежала, скрючившись, у моих ног. На секунду потустороннего холода и ужаса мне показалось, что она и вправду мертва.
Все молчало. Пахло намазанными мастикой досками, сценическими опилками. Пахло сладким женским потом. Пахло не смертью, а жизнью. Черный балахон валялся вдали, в углу.
И зал взорвался. Зал взорвался, зашелся в крике, в воплях: «Браво-о-о-о!», «Би-и-и-ис!», «Виторе-е-е-ес!», «Еще-о-о-о!». Мария не поднималась с колен. И тогда я дал незаметно знак — опустить занавес.
Когда занавес пошел вниз, она вскочила как ни в чем не бывало. И я поразился, какое же веселое и озорное было у нее лицо.
— Пока я тут лежала, головой вниз, у меня вся шея затекла, — весело сказала она, растирая шею, морщась. Я смотрел на завитки черных блестящих волос внизу живота. Она инстинктивно закрылась рукой. — Что смотришь, Иван? Дай быстрей балахон. Я буду выходить кланяться одетая! Все, все закончилось, понимаешь, все!
Я едва успел подхватить балахон, она едва успела накинуть его на себя и завернуться в него, как занавес снова пошел вверх. Мы, держась за руки, вышли к рампе, залитые ярким светом. Что творилось в зале! Я не могу это описать. Такого не творится и на рок-концертах. Такого, думаю, не было ни на «Скорпионз», ни на «Центурионе», ни на Шевчуке, ни на Земфире. И на Монсеррат Кабалье такого не было. И на Лючано Паваротти. И на Коле Баскове. И на Хосе Каррерасе. И вообще ни у кого и никогда.
«Виторес! Виторес!» — завывал зал. Мы кланялись, взявшись за руки, как в детском саду. Ее крепкие пальцы до боли сжали мои. На ее губах сияла заученная сценическая улыбка — все тридцать два зуба. Ее грудь под черным балахоном вздымалась часто, высоко, и мне стало жалко ее — бедняжка, как она задохнулась! Аплодисменты нарастали, и она снова подвела меня к краю сцены, мы поклонились, как марионетки, и она повернулась ко мне.
«А ты неплохо танцуешь, — разлепив губы, довольно громко сказала она, чтобы я услышал ее через рев зала. — Вот только прыжки тебе не удаются».
Я обалдел. Прыжки мне не удаются! Прыжки, видишь ли! Неплохо я танцую, скажите-ка! «Я не лягушка, — пробормотал я сквозь зубы, — ищи себе, девочка, другую жабу».
Так мы обменялись любезностями на сцене, у рампы, в виду беснующегося зала. Молодежь взбрасывала руки в воздух, размахивала зажженными зажигалками. Кто постарше — просто неистово били в ладоши. Мужики орали: «Би-и-ис!» Им снова хотелось увидеть, как танцует на сцене абсолютно голая женщина. Мария плотнее запахнулась в балахон и поклонилась низко-низко, прямо по-русски. Я смотрел на ее затылок, когда она кланялась. Мне безумно хотелось прижаться губами к этим жарким черным волосам, к детски беззащитной шее.
Станкевич не произнес ни слова. Я ждал, что он выкатит на Марию целую бочку восторгов, упреков, ужасов, исхлещет ее придирками, как бичами, будет обнимать, целовать и тискать! Он не произнес ни слова. И это было ужаснее всего. Мы, все трое, погрузились в машину Станкевича, и он довез сначала Марию до ее отеля. У нее еще тогда не было ее роскошной хаты на Якиманке — она снимала номер в отеле «Президент». Вернее, она наполовину с Родионом. Родион бестрепетно вкладывал свои деньги в нее. Он знал: если не вкладываешь, ничего в результате не получишь.
Только когда мы доехали до отеля, завернули к крыльцу, Родион оторвался от руля, повернулся к Марии и тихо спросил:
— Ты хоть знаешь, крошка, что сегодня произошло?
— Знаю, — тоненько ответила Мария. — Я поимела успех.
Она сказала не «у нас», а «у меня», отметил я тут же, и кровь обиды бросилась мне в голову. Я, Иван Метелица, на вторых ролях! Ну, погоди, пиренейская коза…
— «Поимела». Дура. Ну, дура. Так по-русски не говорят. Вернее, говорят, но это, видишь ли, это плохое слово. «Он поимел ее в постели, на полу, на рояле, на подоконнике и в ванной». Трахнул, понимаешь? Трахнул. Ты дура в квадрате. В кубе. Не успех, — так же тихо, устало произнес Станкевич, глядя прямо перед собой в лобовое стекло на крыльцо отеля «Президент», — а фурор. Ты произвела фурор. Такое в мире бывает нечасто, милочка. Ты зазналась?
Мария повертелась на сиденье, изображая нетерпение. Я видел — она скорее хотела выпрыгнуть из машины, подняться к себе в номер, принять ванну, душ, кинуться на диван и замереть распластанной, без мыслей.
— Нет, я не зазналась, — сказала она, и я впервые услышал в ее голосе легкий, еле уловимый акцент. — Зазнаться — это, по-русски, воз…гордиться?..
Станкевич посмотрел на нее, как на пациентку клиники Кащенко.
— Вроде как, — сказал он. — Наподобие. Типа.
— А вы не хотите, типа, посидеть после такого фурора? — сказал я. — Возьмем сейчас пару бутылочек чего покрепче, фрукты, мясо — и - к Марии в номер…
— А вы не хотите, типа, дать мне отдохнуть? — сказала Мария. — Я сегодня, типа, танцевала в шоу «АУТОДАФЕ». И я, типа, хочу принять ванну и спать. Спать! Спать! Спать!
— Ты хочешь спать с кем из нас? — спросил Родион, сверля глазами ее грудь под черным балахоном — она набросила его поверх платья, имитируя плащ, и ей очень шел, оказывается, и черный цвет. — Кто тебе, типа, больше нравится?
Я не понимал — он смеялся, издевался или говорил серьезно. Мария вздернула носик. Подхватила сумку с одеждой и гримом.
— Мне, типа, больше нравится Метелица. Но я, ребята, сегодня занята. Я влюбилась в метрдотеля и буду сегодня спать с ним. Чао!
Дверца хлопнула. Мы оба провожали взглядом черный балахон Смерти, развевавшийся за спиной Марии, а шла она очень быстро, стремительно, почти бежала, взбегала по ступенькам крыльца и у дверей, обернувшись, помахала нам рукой и послала озорной воздушный поцелуй.
Я всю ночь проторчал у отеля. Я, как школьник-идиот, смотрел на освещенное окно ее номера — я вычислил его на девятом этаже. Потом свет погас. Я продрог в легкой куртке. Станкевич, прощаясь со мной, только спросил: «Что, бродить по Москве пойдешь? Ромео недобитый? Не сходи с ума, давай ко мне, выпьем, а то действительно двигай домой, я тебя отвезу». Я помотал головой. Ее окно сейчас для меня было важнее всего.
Рано утром, в шесть утра, когда рассвет уже залил розовым холодным молоком небо над Москвой, я не выдержал. Я рванул на себя дверь отеля. Сонная администраторша за толстыми стеклами внизу недовольно вскинула брови: кого черт несет в такую рань? Я прикинулся ягненочком. «Вы понимаете, здесь, у вас в отеле, живет артистка, с которой я вчера выступал. Она улетает сегодня в другую страну, вы понимаете, у нее рейс из Шереметьева в двенадцать, она уже сейчас будет вставать, она соберется и уедет, поймите, а я привез ей важные новости от ее продюсера, мы теряем время, вы же понимаете…» Я врал гостиничной даме, нагло и вместе просительно глядя ей в глаза. Я гипнотизировал ее. Я молился: Боже, сделай так, чтобы эта тетка оказалась по крайней мере доброй! Я ощутил, как мало на свете добрых людей. Злыми мир кишел. Черт, у меня не было с собой ни шоколадки, ни цветочка, приличествующих случаю. «Нет, нет и нет! — возмущенно выкатила глаза дама, и кок пышной прически над ее головой так же возмущенно дрогнул. — Никаких встреч! Еще шести нет! Такая рань, люди спят! Постыдитесь! Если вы идете к любовнице, это не…» Я вытащил из кармана стодолларовую купюру и осторожно положил на стеклянный стол перед окошечком. Другого выхода у меня не было. И других денег с собой — тоже.
Стодолларовая бумажка исчезла вмиг. Дама тонко улыбнулась. Крашеный кок дрогнул сыто, удовлетворенно. «В каком номере живет ваша… хм… артистка?..» Я номера не знал. Я никогда не бывал тут, у нее в отеле. Администраторша спросила имя, я его назвал. Дама немного покопалась в компьютере. «Девятый этаж, номер…» Цифры я услышал уже на бегу. Я уже бежал к лифту как угорелый.
Я забил, застучал в дверь ее номера всем собой — кулаками, лбом, кажется, даже локтями. Я чуть не падал ничком, на пол, от страсти, охватившей меня. Теперь я знал, каково это — сгорать на костре любви. Что это совсем не красивые словечки. Что это — мука из мук.
За дверью сначала было тихо. Потом послышалось шевеленье, шуршанье. Потом маленькие быстрые ножки подбежали к двери, и оттуда я услышал медленное, сонно-тягучее: «Да-а-а-а?..»
Это была ее манера. Я потом узнал ее. Привык к ней. Это ее тягучее, сонное, как сиеста, жарко-испанское: «Да-а-а-а…»
— Мария, открой. — Я задыхался. — Открой, Богом прошу!
«Интересно, она католичка или православная?.. Православная — откуда?.. От верблюда?.. У нее же отец тоже испанец, Родька говорил…»
Замок клацнул. На пороге стояла она, заспанная, со спутанными смоляными волосами, с запекшимся во сне ртом, совершенно голая. Она терла глаза рукой. Не видела меня спросонок. Я схватил ее в руки, как хватают драгоценную птицу, которую подстерегают в засаде всю жизнь, и вот она сама в руки слетает, яркая, светящаяся всеми перьями, чудесная, родная.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ВТОРОЙ. СЕГИДИЛЬЯ
Вы будете использовать ее? Будем. Она благодатный материал. Другой такой попадает в руки крайне редко.
Как вы намереваетесь ее использовать?
По прямому назначению. Она женщина. Этим все сказано. Она женщина молодая, невероятно красивая…
Ну это вы уже загнули, шеф!.. Есть и красивее…
…не перебивайте. И очень опытная в любви. У нас есть сведения.
Откуда вы знаете об ее опыте? Вы спали с ней?
Не задавайте глупых вопросов. А если спал?
Не верю. Она не позволила бы себе…
Не верьте, это ваше дело. Я перехожу к существу вопроса. Она необучена, ее надо обучить. Нам выгодно, чтобы эта женщина работала на нашей стороне. Она принесет нам немалую пользу.
А если ее переманит другой лагерь?
Если это произойдет, я сам убью ее.
И вам ее не будет жалко? Все говорят — это жемчужина танца двадцать первого века. Вы убьете национальное достояние.
Я делаю то, что нам с вами необходимо, поймите. Я вижу большую выгоду от ее работы на нас.
Что вы собираетесь ей поручать?
Это другой разговор. Сначала ее надо научить. Потом уже поручать и приказывать. Технология тут одна, она не поменялась с эпохи Клеопатры, Лукреции Борджиа, Джульетты Гвиччарди, Мата Хари, Цинтии, Кошки. Эта женщина будет ложиться в постель с военачальниками, командирами, шефами террористов, с главами теневых группировок, с олигархами, с правителями, может быть, даже с президентами и королями. И выпытывать у них те сведения, которые они могут рассказать, под хмельком, в угаре любви, сумасшедше красивой и искусной в любви женщине, ночью, под одеялом. Или без одеяла, как вам будет угодно.
Глупости. Вы думаете, военные или коммерческие тайны мужчины, даже под хмельком и в угаре страсти, так легко выбалтывают своим женщинам? Ведь им, с кем она будет ложиться, доподлинно будет известно, что эта женщина — шлюха.
Эта женщина — великая артистка. И им будет известно, что они ложатся в постель с великой артисткой. И им будет это очень лестно.
* * *
Она хорошо помнит, как все было там, в Монреале. Они с Иваном спустились по самолетному трапу, и она перевела дух. Созерцание той катастрофы, в Шереметьеве-2, подействовало на нее страшно. Тогда, в грозу, их самолету все-таки разрешили вылет, благо стихия успокаивалась, и кое-как они взлетели. Мария весь полет до Монреаля, все десять часов в самолете, продрожала как заяц. Чуть только «Боинг» снижался или его трясло в воздушных ямах, она вцеплялась в подлокотники, стискивала пальцами колени, прижимала ладонь ко рту, боясь закричать от страха. Иван сердито смотрел на нее: что за причуды! Это что-то новенькое в нашем репертуаре, Мара, ты же всю жизнь летаешь по небу как птичка, ты же, моя прелесть, всегда была такая смелая! Ну нет у меня с собой успокаивающих таблеток, нет! Только твои обожаемые соки! Заказывала, что ж не пьешь?.. Устыдившись, она выпила прямо из коробки сок, склонила голову Ивану на плечо и задремала.
А потом, выйдя из железного бочонка, половину суток болтавшегося между небом и землей, она почувствовала себя так, будто родилась во второй раз. Какая глупость! Неужели теперь она так и будет летать, трепеща, как осиновый лист? После пережитого воздушного страха передача этого паршивого пакета Станкевича каким-то казалась ей чем-то незначащим, мелким, чепуховым. Будто выбросить в пепельницу окурок. В урну — грязную салфетку.
В здании монреальского аэропорта она без труда нашарила глазами стойку бара. «Ах, Иван, я так перенервничала, мне надо выпить». — «Выпить? С каких это пор ты у меня, Мара, стала пьяницей? — Он измерил ее насмешливым взглядом. — В таком случае я тоже выпью. Вместе с тобой. Вон бар, пойдем?» Она стрельнула глазами туда, сюда. Вскинула голову. «А вещи? Мы что, потянем туда, к бару, наши чемоданы? Стой здесь с вещами. Я быстро… мо-мен-таль-но, так это по-русски?..» Он не успел ей ничего сказать. Она упорхнула. Черная сумочка болталась на плече на тонком ремешке.
Она подошла к стойке. Так и есть, все, как сказал эта морда Станкевич. Негритянка-барменша. Мария обворожительно улыбнулась толстой черной тетке. Внезапно она напомнила ей ту, трактирщицу в Сан-Доминго. «Сто кальвадоса… и ломтик лимона». Она внимательно следила, как барменша, раззявив в широкой улыбке черногубый рот, наливает в стакан прозрачный, как топаз, кальвадос. Барменша сделала незаметный знак рукой — подняла руку розовой обезьяньей ладошкой вверх, чуть согнула пальцы. От аэропортовской толпы отделились двое. Подошли к ней. Непроницаемо темные очки скрывали глаза. Марии стало не по себе. «Это сейчас все кончится, это все скоро кончится», — сказала она себе, щелкнула замком сумки, вытащила сверток. Что в нем? Наркотики? Оружие? Бомба? Уран-236? Документы? А может, просто деньги, просто банковские чеки, векселя, пачки долларов? Она так и не развернула сверток, даже в туалете «Боинга» — боялась. Если Станкевич будет приказывать ей передавать такие свертки своим людям во всех аэропортах всех городов мира, куда они с Иваном летают с выступлениями, — она уйдет от этого гадкого продюсера. Он занимается черт-те чем. Он опасный тип. Надо… как это по-русски… делать от него ноги?.. Мало ли концертных организаций! Мало ли продюсеров — и в Испании, и в России, и в Америке! Мало ли театров танца! Да если она захочет, она уйдет в Имперский балет Майи Плисецкой! Да если она захочет, она сделает свой театр, театр Марии Виторес, сама! Она уже созрела для этого! Уже… выросла… Маленькая девочка, любящая танцевать в патио — внутренних двориках — в Бильбао и Мадриде, уже выросла…
Мужчина протянул руку. Черные очки блеснули. Мария вложила сверток ему в руку. Что надо теперь делать? Улыбаться? Сказать несколько любезных незначащих фраз по-английски? Поворачиваться — и бежать прочь сломя голову? «Вы одна?» Английский мужчины, взявшего сверток, прозвучал холодно и высокомерно, как из уст английского короля. «Нет, меня ждут», — ответила она тоже по-английски, так же надменно. «Жаль. Мы бы пригласили вас на аперитив», — подал голос второй, в точно таких же темных очках, чуть пониже ростом. Она заставила себя улыбнуться. «К сожалению…» Черная барменша усмешливо разглядывала ее, ощупывала глазами с головы до ног. Мария наклонила голову и, повернувшись, быстро, быстро пошла к Ивану, который в отдалении ждал ее около груды чемоданов.
О этот вечный груз! Артист — вечный бродяга! Они возили с собою повсюду вороха ее сценических тряпок, ибо они сами себе были — фирма, сами себе были — театр на колесах. Сами себе, а львиную долю денег, Мария подозревала, по договорам все равно получал Станкевич.
«Родион — не простой продюсер, — билась в ней мысль, пока каблучки, как в танце сапатеадо, в испанской чечетке, стучали по гладкому полу аэропорта. — Родион — сволочь. Он та еще стерва. Он занимается черт знает чем. Черт-то знает, а я?! Я-то тут при чем?!»
«Господи, как ты долго! — Иван сморщил лицо, как разобиженный младенец. Все мужчины дети, подумала она раздраженно. — Ну и как канадская выпивка? Лучше русской? Или испанской?..» Мария подняла руку и погладила его по загорелой щеке. «У тебя уже щетина отросла. Отличный кальвадос. Просто огненный. Я взбодрилась». — «А почему же от тебя не пахнет водкой?» — удивленно спросил Иван, наклоняясь к ее губам, чтобы поцеловать ее. Она ответила на поцелуй, ожгла Ивана черными кострами огромных глаз. «Потому что я закусила лимоном».
Кальвадос в тонком стакане и жалкий ломтик лимона на блюдце так и остались там, на столике в баре. Она так спешила, что даже не выпила. Иван не должен знать, что она делала там. Благодарение Богу, если он не увидел ее возни с этими мужиками в темных очках. А если увидел?
«Ну что, в гостиницу?.. Или к профессору Майхановичу в гости?.. Майхановичи, между прочим, нас ждут…» У нас заказаны номера в отеле «Монреаль», ты же сам заказывал, с улыбкой сказала Мария, я после этого перелета как пьяная и без кальвадоса.
И они поехали в гостиницу, взяв такси прямо у здания аэропорта; и Мария смотрела на ясное, синее, без единого облачка, канадское небо и думала о том, что эти двое, в черных очках, наверняка знают, кто она, и, если она им понадобится, чтобы с ней передать что-либо в таком же поганом свертке Станкевичу в Москву, они без труда найдут ее — явятся к ней на спектакль, да и только.
Они ехали в такси по Монреалю, и повсюду Мария, поворачивая голову, и там и сям, видела их с Иваном афиши, расклеенные по городу: «IOANN AND MARIA VITORES. ARS MUNDI», «MARIA VITORES AND FAMOUS IOANN», «THE GREATE FLAMENCO. MARIA AND IOANN»… Она обернула лицо к Ивану. «Любимый, — проговорила она тихо, и у нее сильно билось сердце, — любимый, ты будешь плакать обо мне, если я умру?»
КИМ МЕТЕЛИЦА
Я все исполнил чисто — там, на углу Харитонья и Садово-Черногрязской. Чисто — не подкопаешься. Ушел дворами, как и хотел. Славка ждал меня в машине. Я плюхнулся на сиденье и выдавил:
— Теперь вези к Аркадию. Расчет сразу. И налом.
Славка вырулил на Садовое, рванул в сторону «Курской». Насвистывал модную песенку Пугачевой: «Будь или не будь, сделай же что-нибудь… Будь или не будь — будь!» Я оборвал его:
— И ты не боишься так шуровать по Садовому? Полчаса спустя! А вдруг заловят?
— Ништяк, не остановят, — процедил сквозь зубы Славка, — я во дворе когда стоял, номер поменял. Ловкость рук и никакого мошенства. Скоро технологии повысятся. Будем брать с собой на дело аэрограф и перекрашивать, к хренам, машину в тихом месте. В таком вот закутке, где я тебя поджидал. Нитра сохнет мгновенно. Бац — выезжаешь — менты ищут красную машину, с одним номером, а едет синяя, с совсем другими цифрами на заднице. А? Прикол?
— Прикол, — согласился я. — Еще какой прикол. А как ты думаешь, будут когда-нибудь летающие машины?
— Будут, — со знанием дела кивнул Славка, сворачивая с Садового кольца в переулки, выруливая на Таганку, пробираясь на шоссе Энтузиастов. — Еще бы не будут! Летающие машины — это, брат ты мой, дело уже недалекого будущего. Вся проблема в том, что сталкиваться они будут почем зря, биться, как яйца. В каких воздушных коридорах они будут летать? Ведь они же не самолеты! Удобно, да, по земле железные букашки ползать не будут… зато сталкиваться лбами будут частенько, и нам на головы железки будут падать… бам-с, приятель, и тебя — нет!
— И на земле катастрофы бывают. И поезда в крушенья попадают…
— Бывает, все бывает! И у девушки беременность бывает! — запел Славка, раскачиваясь за рулем из стороны в сторону, как старый еврей в синагоге. — Аркадий нам с тобой сколько обещал отвалить?
— Пятак.
— Что ж, негусто. Вот Помидор тоже чисто сработал, ну позавчера, у английского посольства, из винтовки с оптическим, стрелял из хорошего места, сволочуга, из дома напротив, сильно подготовился, умник, все рассчитал, — и договорился за двадцатник. А нам с тобой пятак на двоих — по две с полтиной на рыло — ну это ж разве деньги, браток? Для Москвы это не деньги, чтобы прожить месяц-другой. У меня ж все-таки две семьи, брат. Не семьи, а семьищи! Ловелас я, ты ж знаешь… девок развел целый гарем, детей расплодил!..
— Ну ты просто племенной баран, Славка, — сказал я, сдерживая улыбку. — Ты просто библейский родоначальник. «Род Мстислава Пирогова» — неплохо звучит?
— Недурно. — Славка рванул руль налево, чуть не врезавшись на краю тротуара в старушку с кошелкой. На шоссе был аншлаг. Машины катили впритык друг к другу, терлись боками, как животные на водопое. Угораздило Аркадию кинуть нас на дело в час пик. Может, оно и хорошо, в толкотне менты не скоро разберутся, что к чему. — Звучит, понимаешь, как «род Осла», «род Козла»… или «род Орла»?.. Все, ушли мы, сто процентов, ушли!
— Не говори «гоп», пока не перепрыгнул. Кати. Уже Лефортово. Все, приехали. Заворачивай во двор. Не имеет ли смысла поменять номер во второй раз?
— Имеет. Щас поставлю тачку и поменяю.
— Они у тебя, Славик, зарегистрированные?
— А то как же.
— И этот — чей?
— Много будешь знать — задница морщинами покроется.
Мы заткнули машинешку в дальний угол Аркадьева двора, между двух металлических гаражей-«ракушек». Славка поменял номер. Через пять минут мы уже сидели в роскошной, а ля царский дворец, гостиной Аркадия и уже, откидываясь на спинки кресел, с наслаждением пили все, что щедрый хозяин выставил на стол: кьянти, привезенное из Флоренции, коллекционное «Перно», классический «Абсолют», темно-красную испанскую «роху». Закуски из холодильника были вывалены горничной, по приказу хозяина, самые разнообразные: от сыра с плесенью до горок зернистой икры в фарфоровых антикварных вазочках. От фруктов стол ломился. Тонко нарезанные севрюжка и буженина пахли возбуждающе. Славка налегал на апельсиновый сок. Видимо, он переволновался, глотка пересохла, пить хотел парень.
— Ну что, орлики, — Аркадий сыто улыбнулся, наклонил голову, и я увидел смешной светлый хохолок, будто золотистый петушиный гребешок, у него на стриженом затылке, — поздравить вас? Или еще рано?
Он имел в виду деньги.
Заказ надлежало оплачивать.
Я прекрасно знал, что Аркадий Беер — жмот.
Он только прикидывался щедрым.
— Поздравить, поздравить, — залопотал Славик, налегая на буженину, отправляя в рот вилкой, прямо с тарелки, сразу три ломтя, зажевывая добрых полстакана «Абсолюта», — еще как поздравить, Аркаша!.. прямо со страшной силой поздравить… Ты же сам видишь — все о’кей…
— Значит, поздравить, — медленно, тяжело произнес Аркадий, следя, как Славка пьет и ест. — Ну что ж. Я выдам вам гонорар. — Он положил крепкую, красивой лепки, как у артиста или пианиста, руку на грудь: должно быть, там, под лацканом, во внутреннем кармане, лежали наши деньги в конверте. — Но это еще не все. Я приготовил вам сюрприз. Я приготовил вам подарочек. Прелестный подарочек, между нами говоря. Да это подарочек для нас всех. Если этот подарочек, правда, еще будет себя хорошо вести. Ну да мы его научим, я оптимист!
Славка оторвался от буженины и икры, которую, уже зарозовев и завеселев от выпивки, беззастенчиво зачерпывал столовой ложкой. Уставился на Аркадия непонимающе.
— Какой такой подарочек, Арк?..
Аркадий хлопнул в ладоши. Горничная испуганно вбежала, потом понятливо скрылась. Тут же вошел дюжий бодигард, закинул за спину руку, сделал знак другому, стоявшему за дверью. Раздались торопливые шаги, сдавленные ругательства. В гостиную ввели, вернее, вволокли упирающуюся девушку. Смоляные волосы были спутаны, висели вдоль щек, струились по груди. Черные огромные, как торфяные озера, глаза испепеляли нас гневом, яростью. Губы закушены. Я быстро поискал глазами следы побоев. Не нашел. Гады, бить женщину! Это было бы слишком низко. Впрочем, Аркадий знал массу болевых приемов и бить тоже умел — в живот, в печень, под ребро, не по лицу, лицо такой красотке надо было сохранить, конечно, хоть с лица воду не пить, как известно. Девушка повернула голову, подняла лицо навстречу мне — и я чуть не вскрикнул. Вовремя удержался. Сдержанность украшает мужчину, Ким, ты знаешь это.
Это была Мария.
Мария Виторес собственной персоной.
Партнерша и девушка моего беспутного гениального Ивашки.
Мария, вызвавшая во мне дикую страсть, которую я целенаправленно убивал в себе, растаптывал, как мог.
Я не ходил на ее концерты. На ее спектакли. На ее громкие скандальные шоу. Не смотрел телепередачи с ней и о ней. Закрывал глаза, проходя мимо афиши с ее кроваво намалеванным именем. Не замечал ее рекламных, во всю стену, фотографий в метро, на перекрестках, на вокзалах. Ее раскручивали по первому разряду, а я в упор не видел ее! Потому что я влюбился в нее, а это надо было пресечь в корне. Сын! Сын танцевал с ней. Сын любил ее. Сын владел ею. Это была территория чужой любви. И я не имел никакого права на вход туда. Тем более — на владение чужой собственностью. Тем более — на похищение ее.
— Ким Иванович, — сказала Мария Виторес побелевшими губами, — здравствуйте… Вы что тут…
— Вы знакомы? — Белые стеклянные глаза Аркадия переползли с Марии на меня. — Это меняет дело. Впрочем… — Он резко обернулся ко мне. Вертел в руках позолоченную чайную ложечку из сервиза королевы Марии-Антуанетты, купленного на аукционе «Филипс» в Париже. — Давно ты ее знаешь?
— Недавно. — Рот мой пересох. Мария пристально, из-под спутанных волос, смотрела на меня, прожигая взглядом. — Недавно, Арк, клянусь. Она танцует с моим сыном, и Иван…
— Иван тебя с ней познакомил, понятно, так. — Аркадий сощурился. Улыбка жестко прорезала его щеки. — Звезда, туда-сюда. Запал, что ли?
От его глаз-буравов невозможно было укрыться. Я собрал в кулак всю свою волю. Всю старую спортивную злость. Заставил себя презрительно, весело улыбнуться. Даже хохотнуть.
— Еще чего, Арк. Охота была. У меня ж баба молодая, я ж недавно развелся и женился по любви, между прочим. Клин клином не вышибают. Ты ж понимаешь, у нас, у мужиков, так. У меня на таких, черных галок, — я сглотнул слюну, — не встает. Мне беленькие курочки нравятся. Белокурые бестии.
Моя жена была белокурой, и Аркадий это знал.
— Бестии, — задумчиво сказал Аркадий. Бодигарды, втащившие Марию в гостиную, крепко держали ее за локти. — Эта — еще та бестия. Но мы ее все равно сломаем. Черная галка, говоришь?.. Будет черная орлица. Будет пикировать с небес на врага. И когтями вырывать из него душу.
Когтями вырывать душу? Что он имел в виду?
Аркадий встал из-за стола. Походкой офицера подошел к Марии. У него и впрямь была офицерская выправка — никакой расхлябанности, никакой мафиозной избалованной вальяжности, подобранность, строгость, надменность. И эти белые злые глаза под чистым и высоким, таким благородным лбом. И эта офицерская чистенькая, аккуратная стрижка, только сейчас из юнкерского училища, из артиллерийских казарм, и прямо на плац, пред светлые очи государя-императора: «Ура! Ура! Ура-а-а!»
— Посмотри, как я работаю, Поучись, — бросил Аркадий мне через плечо. Сделал знак бодигардам, они отпустили девушку, отшагнули назад. Аркадий взял ее за подбородок. — Ну как? Образумилась, испанская курица, или снова будем говорить на разных языках? Я на русском, ты на испанском? Ты русский понимаешь, гадюка? Или ты понимаешь только это?
Он сделал незаметное движение. Я был прав, он работал чисто. В какую болевую точку на ее совершенном теле ударил он? Я не смог заметить. Она закусила губу от боли, и ее подбородок прочертила тонкая красная полоса крови.
— Дрянь, — сказала Мария по-испански. Аркадий усмехнулся и пожал плечами.
— Не понимаю. Теперь я не понимаю тебя.
Я изо всех сил сдерживал себя, чтобы не выскочить из-за стола и не вонзить тупой столовый нож Аркадию в шею. Славка утер рот салфеткой, рыгнул. «Ну и хороша девчонка», — прошептал.
— Прекрати вливать в себя спиртное и жрать, — тихо сказал я ему, — видишь, Арк устроил для нас веселое шоу. Предлагаю поглядеть.
Лучше бы у меня выкололи глаза. Лучше бы сердце вырвали. Я убиваю за деньги людей, да. Счастлив мой Бог был, да, но до сих пор мне заказывали только мужиков. Баб мне не заказывал никто. И Аркадий тоже. Я еще никогда не убивал женщину. Я никогда не бил ее. Больше всего на свете я хотел сейчас убить Аркадия. Или так врезать ему, чтобы он надолго отключился.
— Ты дрянь, — сказала Мария по-русски, ставя на него черную печать расплавленной смолой глаз, — слышишь, ты дрянь. Я никогда не буду делать того, что ты требуешь. Я уже сделала однажды то, что мне приказали. Все. Больше не буду никому подчиняться. Хочешь, убей меня!
Вот теперь я видел, что она испанка. Она высоко, гордо подняла голову. Отбросила со лба пряди волос. Ее лицо внезапно озарилось светом, будто бы она увидела, ощутила нечаянную радость. Легкая улыбка мазнула по припухшим вишневым губам. Щеки заиграли румянцем. Она подбоченилась, выставила ногу вперед, и я видел, я ясно видел — она дразнит Аркадия, она вызывает его! Она издевается над ним! Она смеется над ним!
Я видел светловолосый стриженый затылок Беера. Затылок напрягся. Затылок свело бешенством. Я понял — еще миг, и Аркадий ударит ее так сильно, что этот удар может оказаться для Марии последним.
И я вскочил, как укушенный.
И я схватил в руку большую хрустальную рюмку, доверху полную водкой «Алтайской», заказанной Аркадием в самом Барнауле и доставленной в Москву на его персональном самолете, и схватил в другую руку бокал, и быстро, слепо плеснул в него немного красной «рохи», и быстро подошел к ним, смотревшим друг на друга, как два зверя.
— Вас никто не собирается убивать, сеньорита, — галантно сказал я, следя за голосом — чтобы не задрожал, не сорвался. — Вас тут будут любить. — Я сделал усилие и повернулся к Аркадию, и подмигнул ему. Я презирал себя, я хвалил себя: «Да, Ким, ты делаешь все правильно. Ты все правильно делаешь, Ким». — Первый, кто вас будет любить, — это господин Бе…
— Аркадий, — перебил меня Аркадий. Верно, ей не надо знать фамилию шефа. Я чуть не прокололся. Пятьсот минус из гонорара.
— Я вас уже люблю, — сказал я нагло и радостно, и сам поразился — каким правдоподобным сумасшедшим карнавальным весельем звучал мой голос. — А третий, кто будет любить вас, это…
Я не успел оглянуться на Славку. Аркадий взял Марию под мышки обеими руками. И, кажется, слегка приподнял от пола.
Она не шевелилась. Продолжала молча, прямо смотреть на него. Я думал, это будет унизительно для нее. Нет, скорее это было смешно для него. Он держал ее как куклу, как ребенка, которого хотят посадить на горшок.
— Ха-ха-ха, — сказал Аркадий раздельно, — да ты, крошка, оказывается, легкая как перо. А выглядишь рослой, каланчой. Жрешь мало, да?!
Мария молчала. Я глупо стоял с бокалами в руке.
— Отпусти ее, Арк. Я хочу выпить с ней.
Он опустил ее на пол. Я втиснул ножку хрустальной рюмки в ее безвольно повисшую руку.
— Держите, — сказал я по-прежнему весело и нахально, — ну, держите же! Что вы спите на ходу?!
Я увидел, что на ее скуле, около уха, темнеет, расплывается большой синяк. Значит, он все-таки бил ее по лицу.
Она взяла рюмку. Поглядела на водку.
— Дайте мне ваше вино, — тихо произнесла она, глядя на бокал «рохи» у меня в руке.
Я поменялся с ней бокалами. Легонько стукнул рюмкой о ее бокал. Аркадий смотрел на нас с ненавистью. Его белые глаза светились, как у василиска.
— За любовь, — нагло сказал я, глядя Марии в глаза.
— За любовь, — сказал она и тихо добавила по-испански: — Per amor.
Когда мы выпили, я кинул хрустальную рюмку за спину. Она разбилась о каменные плиты роскошного пола Аркадьевой гостиной. На мелкие кусочки.
Мария мгновенье смотрела на свой бокал, где еще плескалась красная «роха». Затем одним глотком допила вино, размахнулась и тоже швырнула бокал об пол. Осколки брызнули, засверкав, как звезды, в свете антикварной люстры, конец девятнадцатого века, Франция, из коллекции наследников Полины Виардо, прямо на безупречно отутюженные брюки от Фенди, на башмаки от Армани неподвижно стоявшего Аркадия.
АРКАДИЙ
Я был взбешен.
Я никогда не бывал так взбешен, когда у меня лопались счета в заграничных банках. Когда по моему приказу не убивали того, кого нужно было убить. Когда неловкий подельник губил на корню выношенное годами дело.
Я не был так взбешен, когда из подожженного мною административного здания, где сгорели все компрометирующие меня и систему, созданную мной, бумаги, все дела, заведенные на меня, все доносы и наблюдения, ушел целым и невредимым один-единственный человек, знаток, свидетель, хранитель и составитель бумаг, и, спасясь, унес с собою и сохранил все копии. Я решил проблему. Я самолично убрал человека, тет-а-тет, и это принесло мне, кроме морального удовлетворения, еще и охотничью радость мужского поединка.
Сейчас я был взбешен по-настоящему впервые в жизни.
И я узнал вкус бешенства.
И я хотел скорее взорваться. Чтобы осколки моего бешенства разнесло взрывом. Чтобы дать выход накопившейся слепой и глухой ярости. Чтобы уничтожить. Растоптать. Победить ту, что вызвала во мне этот приступ умалишенья.
— Ты, — сказал я, стоя посреди хрустальных осколков, наступая на них ногой, и из-под моей подошвы донесся противный хруст, — ты, коровья лепешка. Ты, фиглярка чертова. Я ж покажу тебе, что такое коррида по-русски. Ты поглядишь сейчас… бой быков, дура…
Я, не осознавая, что я делаю, схватил ее на руки и кинул себе на плечо, как кидают убитую добычу, дичь, подстреленную косулю или козу. Какой она оказалась сильной! Жилистой! Она извернулась, ударила меня кулаком по спине, вцепилась зубами мне в плечо, я заорал, и она сползла по мне на пол, на голые керамические белые плиты, выписанные мной из Италии, из мастерской «Quatrocento». Я не помнил себя. Я ринулся на нее, навалился на нее, повалил ее на пол. Прижал ее спиной к холодной плитке. Лег на нее.
— Ты, — прошипел я, лежа на ней, — ты сейчас узнаешь, что такое настоящий танец. Как танцуют в России. Как танцуют, вздергивают ногами, кричат от боли. Ты думала, танец — наслаждение? Танец — это подчинение. Танец делают мужчины. И бабы танцуют под их дуду.
Мои руки дернули, сорвали с нее юбку. Мои скрюченные бешеные пальцы разорвали застежки на брюках. Бодигарды стояли у двери, как вкопанные — каменные стражи. Она билась подо мной, вырывалась, и это было одновременно и безобразно, и соблазнительно. Она застонала — стекла впились ей в кожу голой спины. Или это я уже вошел, вонзился в нее, как их эта чертова наваха?!
Когда я раздвигал руками ее сильные, стройные, напрягшиеся смуглые ляжки, я понял, как она сильна. Я понял, почему она так выносливо, так бесконечно могла танцевать, пребывать на сцене, когда других танцовщиков уносили за кулисы, бывало, с сердечными приступами после ее знаменитых шоу. Я понял, что она настоящая duende — сумасшедшая, охваченная пламенем. Она боролась со мной и сгорала в этой борьбе, как на костре. Аутодафе. «АУТОДАФЕ», черт побери, так, кажется, называлось одно из ее супершоу?!
И я не понял, как, когда я вошел в нее; как забился в ней; как, на глазах двух своих телохранителей и двух киллеров, чисто выполнивших мой заказ — Славки Пирогова, застывшего за столом с вилкой в руке, на которой дрожал ломтик осетрины, и Кима Метелицы, застывшего перед нами, лежащими на полу, — я насиловал, насиловал, насиловал эту женщину, которая не была женщиной, о нет, которая была ведьмой, была ветром, была неизвестной мне необоримой силой, а я хотел заставить ее служить себе, — а она по рожденью не была прислугой, а была свободно летящей птицей.
— Ты! — крикнул я, быстро, сильно прокалывая ее собой. — Ты, танцуй! Танцуй подо мной! Танцуй, девка, ну же, ну же, ну!..
Я схватил ее за щиколотки и бросил ее ноги себе на плечи. Я услышал, как мой киллер Ким Метелица невнятно, словно захлебнувшись водкой, словно хотел, наклонившись, блевать, сквозь зубы пробормотал: «Querida».
— А вы, быки, что стоите! — Я чувствовал, как ее пятки бьют меня по спине, как ее ногти вонзаются мне в затылок. — Бандерильи в руках матадоров! Коррида началась!
МАРИЯ
Я услышала, как он крикнул — им или мне? — рьяно, дико: «Коррида началась!»
Я слышала хриплое дыхание этого человека надо мной. Я видела над собой его задранный подбородок.
Я не видела его глаз.
Я, пребывая здесь, у него в доме, поняла лишь одно: они хотя сделать меня своей вещью, и жестокая игра со мной — это лишь способ, прием заставить меня подчиниться им. Знал ли он Станкевича? Были ли они в паре? Кого они хотят сделать из меня?
Я уже догадывалась, кого.
Почему — именно — меня?!
Лежа под ним, задыхаясь, я вспоминала всех мужчин, которым глядела в лицо снизу вверх. Я молода; у меня их было не так много. Я вспомнила того, с кем я была впервые, и резкая, острая боль разрезала меня пополам, как нож режет жареное мясо. Я для них — мясо; я для них — вещь; я для них — мясо, вещь и женщина. Женщина не может станцевать шедевр сама. Она может станцевать только волю мужчины, избравшего ее.
Они думают так. Они! Думают! Так! Они — не мачо!
А я — маха?! Ты — маха, querida?!
Пиренеи. Мои Пиренеи.
Франчо. Мой Франчо.
Гадалка. Моя гадалка.
Та старая цыганка, раскладывавшая старые пожелтелые карты в пещере, где ты? Лола тебе в подметки не годится. Я что, сама должна нагадать себе судьбу?!
И какая же она у меня, моя судьба? Такая же красивая и несчастная, как я?!
Хриплое дыхание. Боль. Тяжесть. Я задыхаюсь. Я не хочу.
Я счастлива. У меня есть мой Метелица. У меня есть мой неподражаемый Иван.
Иван — узнает?!
Никогда. Он не должен этого знать.
Женщина умеет скрывать. Женщина — это пещера. Темная пещера, и за скалами, в узких лазах хранятся тайны, которые никогда, никогда не увидят люди при свете дня.
Даже если я стану той, кем они хотят меня сделать, никто и никогда не узнает ничего.
* * *
Он сменил кнут на пряник. Он услал всех бодигардов, расплатился с Кимом и Мстиславом, привел себя в порядок, даже извинился. Он сказал: «Я напился водки, она ударила мне в голову, простите». Он перешел с ней, распятой им на полу, на «вы». Он сам провел ее в ванную, чтобы она смогла принять душ и расчесать волосы. Он усадил ее в кресло эпохи кардинала Мазарини, поднес ей бокал хорошего коньяка и хорошую сигарету на подносе, сам щелкнул зажигалкой у ее рта. Он не успел ее поцеловать или укусить. Она, лежа на полу, отворачивалась от него и сжимала губы и зубы. Он следил, как она пьет, курит, сидит перед ним в кресле, заложив ногу за ногу, презрительно смотрит на него. «Смотри, смотри, — думал он, глядя на нее без улыбки, — ты слишком яркая жар-птица, чтобы тебя отпустить просто так. Я все равно исполню с тобой, что задумал».
Он говорил ей об изменившемся мире. О том, что пирог пространства разрезается и делится уже по-иному, нежели раньше. Что время великих сражений умирает, а бог смерти остается жить и требует новых — иных — жертв. Каждый сражается за свое, кровное. А врет себе и другим, что сражается за великую идею.
Он подлил Марии в бокал коньяка. Налил и себе. Поднял плоский темно-зеленый бокал. Прищурив один глаз, посмотрел на нее. «Вы знаете, Мария, смерть — это гипноз. Не глядите в глаза Танатоса. Тайный слоеный пирог не разрезать. Если я вам скажу, что я сам — Танатос, вы не удивитесь?»
«Нет, — сказала Мария, отпивая из бокала коньяк. — Я уже ничему не удивлюсь. Вы сильный мужчина. Вам необходимо направлять свою силу. Лепить из нее кубики и шары. Бомбы и пули. Вам это приносит деньги, не так ли? Как вы уничтожаете своих врагов? При помощи яда, кинжала и пули, как во времена Цезаря Борджиа и Равальяка? Или вы знакомы с другими способами? Как вы, вы сами, господин Танатос, ведете вашу войну?»
Он не улыбнулся. Ни единый мускул у него на лице не дрогнул. Мария смотрела на светлый золотистый бобрик его коротко остриженных волос, на родинку в углу рта, напоминающую кошачью царапину. «Я веду ее по своим правилам. Я зарабатываю на ней большие деньги. Но не думайте, что она только личная, моя война. Я веду ее против тех, кто рискует, оступившись, отдав неверный приказ, сбросить всех нас в тартарары. Вам ведь не очень-то хочется в тартарары? Нет? — Он опрокинул остатки коньяка себе в глотку. Поставил бокал на серебряный поднос. — Почему мой киллер назвал вас каким-то странным испанским словом?» Губы ее слегка дрогнули. «Querida, по-русски — „дорогая“, „милая“, так Иван зовет меня. Когда в хорошем расположении духа. Возможно, он так называл меня в присутствии отца». Он пристально посмотрел на ее губы, в ее глаза. Она достойно встретила его взгляд. «И долго вы с ним знакомы?» — «С кем?» — «Со старшим Метелицей». Она подумала, наморщила лоб. «Немного времени. Недели три, не больше. Иван меня с ним не знакомил раньше».
Часы в гостиной пробили поздний час — медные низкие раскаты перешли в хрустальные, тонкие, нежные, звезды звона повисли в пустоте, стихли. Зачем он спрашивает ее о Киме? Ким — отец Ивана, она знала только это. Теперь она узнала еще и нечто другое. Ким — заказной убийца. Ким — работник властительного босса. Она будет тоже работницей властительного босса?
«Кто вы такой, Аркадий?» — спокойно спросила она, откинувшись в кресле. Она успела замазать синяки на лице тональным кремом в ванной. Он поразился ее самообладанию. Ну да, она же танцовщица, это значит — актриса, но он никогда бы не подумал, что умеет так хорошо играть. Тем лучше. Этот ее талант — умение держать себя в руках, умение перевоплощаться — тоже пригодится. Он вспомнил, как ее тело билось под ним. Волна вожделения, еще более яркого и острого, накатила на него, чуть не скрутила его. «Я? Я хозяин театра теней. Вы разве еще не поняли?» Ей казалось — он смеялся.
«Что я должна делать, чтобы… — Она помолчала. Повертела в руках пустой бокал. — Чтобы вы меня не убили?»
«Работать на меня».
«В чем будет заключаться моя работа?»
«В собирании и передаче разнообразных сведений, которые мне нужно будет или собрать для себя, или передать по назначению».
«Что это будут за сведения?» Как она ни старалась не показать виду, она побледнела.
«Вам скажут об этом. Главное — вы должны будете уметь говорить с нужными мне людьми на понятном им языке».
«Что это за язык?» Она бледнела все больше.
«Я, по крайней мере, знаю только один язык, которым владеет женщина, чтобы добраться до секретного сейфа внутри мужчины и умело открыть его».
«Я вас не понимаю». Ее лицо стало цвета белой шелковой гардины над окном в гостиной.
«Язык постели».
Он ждал, что она в возмущении вскочит с кресла, снова закричит: «Сволочь! Не буду! Никогда не буду! Лучше убей!» Она молчала. Прямо, расширив свои огромные, как размахнувшиеся крылья махаона, черные глаза, смотрела на него.
Наконец она разлепила губы. «И вы… вы будете мне платить за это? Да?»
«Резонный вопрос. Конечно, буду. За любую работу надо платить. За вредную и опасную — вдвойне. И даже втройне. Вы не будете обижены… querida».
Она не опускала голову. Она не говорила ничего. Он сверкнул глазами.
«Вы сколотите состояние, пока вы живы и работаете у меня».
«Меня не интересуют деньги», — тускло, ровно произнесла она. Он ждал этих слов.
«А что вас интересует? — Он чувствовал, как у него под брюками вспухает, растет и вырастает безумный зверь, неукрощенный, жаждущий этой молоденькой волчицы, так спокойно сидящей в кресле перед ним. — Мужчины? Виллы за границей? Драгоценности, украшения? Так все же это деньги, Мария. Деньги, обращенные в…»
Она перебила его.
Ее голос был так же тих, тускл и ровен, почти призрачен, ненастоящ.
«Меня интересует ребенок».
Он опешил. Изумился. Насторожился.
«Какой ребенок?»
«Мой ребенок».
«Ваш… ребенок? — У него похолодели колени. — У вас есть ребенок? Плод тайной страсти? Вы держите его… хм… вдали от света? От себя? От вашего партнера? Где он? В России? В Испании?»
«Его нет».
«Как — нет? — Он уже ничего не понимал. — Он умер?»
«Я хочу родить ребенка. Я. Хочу. Родить. Ребенка, — задыхаясь после каждого слова, сказала она. — Это все, чего я хочу. Я с ума сойду, если этого не будет. Ради этого я буду жить. Я зря просила вас, чтобы вы меня убили. Не убивайте меня. Я буду работать на вас».
МАРИЯ
Он сказал мне: тебя надо обучить. Я заплачу большие деньги за твою учебу. Ты должна сказать своему продюсеру и своему партнеру, что та берешь отпуск на месяц и улетаешь на Канары. На Мальдивы! На Галапагосы! На Майорку! В Гренландию! В Антарктиду! На Марс! Куда хочешь!
Я не спросила его, знаком ли он со Станкевичем. Вероятность была фифти-фифти. Я уже была достаточно известна в России, чтобы он сам меня нашел, знал, кто я такая. И в то же время этот пакет, который я по приказу Родиона передала неизвестным в Монреале, до сих пор жег мне руки. Я еще не знала, чему я буду учиться; что будет заставлять меня делать Аркадий. Я знала только одно: черт связал нас всех крепкой веревкой, больно врезающейся в тело пенькой. Одной ржавой цепью черт нас связал. И мне нужно стать той, которою я никогда не была. Стать хитрой. Стать подозрительной. Стать слишком умной, чтобы перехитрить тех, кто поймал меня в сеть. Я вырвусь, я выпутаюсь из сети, сказала я себе! А сердцем так слабо верила в это, что слезы теперь на каждом шагу душили меня.
«Родион, — сказала я после выступления в Кремле, где в краснобархатной ложе, встав, подняв над головой руки, мне хлопал в ладоши сам Президент, — Родион, я слишком устала. Мне надо отдохнуть. Отпусти меня на месяцок на море, а?»
Станкевич оторопел. Брови на его жирной роже полезли вверх. Подбородки возмущенно дрогнули. «На месяцок? А ты не переборщила в просьбе, случайно? Раньше я отпускал тебя на недельку — на Кипр, на Крит, в Геную, на пляжи Бангалура, и ты, наоборот, хныкала и стонала, что, мол, долго отдыхать, умру с тоски, соскучусь? Месяцок? Не многовато ли? Я поставил ваши с Ванькой шоу-программы, между прочим, после осеннего турне по Японии — в Сиднее и в Аделаиде… потом слетаете на Тасманию, дураки, поедите винограду, там как раз второй урожай!..» Я растянула губы в улыбке. Приблизила лицо к его толстой харе. «Ты поставил точные числа выступлений в Австралии?» Он отрицательно помотал головой: нет, я только договорился, ты сама будешь выбирать удобное время! «Ну вот я и выбираю, — я обнаглела и потрепала его за толстую гладкую щеку, — я выбираю в Токио первое сентября. Красный день календаря. А Австралию — через двадцать дней. Виноград на Тасмании уже кончится?»
Я видела: он зол, но он не может мне перечить. Согласие было получено.
Оставался Иван. Иван, с его бешеным нравом, Иван, который не расставался со мной ни на один день. Он любил меня; я любила его. Как любой мужчина, кто любит свою подругу, он привыкал к моему присутствию, к моему положению рядом, он уже становился собственником, и он бесился, если я куда-нибудь уезжала одна — на день, на два, на уик-энд к знакомым, на обучение белой магии к Лоле. Где я? Что я делаю? Не изменяю ли ему? Почему я имею право на собственное пространство и собственное время? Я не должна его иметь!
Я закрывала глаза. Иван, я была там-то и там-то… Я делала то-то и то-то… Я не делала ничего плохого… Клянусь, ничего… Он плохо верил. Он кусал губы. Он улыбался натужно. Он целовал меня так, будто давал мне пощечину. И, чтобы выместить на мне свою ревность, он тащил меня заниматься: «К станку!» И выматывал меня так, что с меня семь потов сходило. Так оригинально он мстил мне за мое отсутствие. За пребывание не с ним.
Что же будет сейчас? Как я скажу ему?
Иван, Иван… Милый… Родной… Querido…
Как я скажу, вернее, не скажу тебе о том, что…
Ты никогда не скажешь этого ему.
Ты же далеко не все сказала ему.
Ты не рассказывала ему свою жизнь — не рассказывай и дальше.
Он твой партнер. Он твой любимый. Он не священник, не исповедник твой.
И даже не твой родной отец.
Папа, где ты! Папа, почему от тебя так давно нет писем!
Ты в Бильбао? В Мадриде? С мамой? В деревне в Пиренеях? В разъездах по миру? Милый, родной папа, говорят, что пол ребенка зависит от отца: это отец, вбрызгивая в женщину струю любви и жизни, зачинает в женщине либо мальчика, либо девочку. Господи, тогда, в больнице, кого они убили во мне? Девочку? Мальчика? О, не надо, не надо, querida. Это был мальчик. Мне так хотелось, чтобы это был мальчик. Девочки так сильно страдают в жизни. Хотя наслаждение, что испытывает женщина в любви, по словам старых знающих испанок, в девять раз сильнее того, что испытывает с женщиной мужчина.
Ну и что? Вся сила женщины — лишь в этом? И ей более ничего не дано?
Отчего же залы, стадионы, дворцы так стонут от счастья, когда я, в розовом, пышном, с ворохом оборок, сильно открытом платье, в том, в котором издревле танцуют фламенко, выхожу на сцену, высоко подняв над головой руки и соединив растопыренные пальцы, победительно улыбаясь, пристукивая каблуками? Значит, мне дано что-то, чему нет имени, но что заставляет меня поверить: я не напрасно живу на свете?
Папа, пришли мне письмо. Умоляю, пришли. Тебе одному я могу рассказать, что со мною случилось. Но не теперь. При встрече.
Холод обдал меня, и я подумала обреченно: если мы встретимся.
И весело, сердито отогнала от себя эту черную мысль.
— Иван, я уезжаю.
— Куда?
Голос стал жестким. Шершавым, как наждак. Все, как должно быть.
Она легко улыбнулась, подошла к нему, изогнула талию, обольстительно положила руки ему на плечи.
— Отдохнуть.
— Ты устала?
— Да, я устала. Надо набраться сил. Понимаешь, я оказалась действительно не железная.
Они тихо шли по набережной Москва-реки, мимо старинных зданий, мимо торговых домов и маленьких кафе, мимо иностранных банков и вросших в землю ампирных особняков, где раньше жили, пировали, скандалили, рожали детишек и давали балы графья и князья — пышная аристократия Москвы, а теперь ютились кустарные фотостудии и профессиональные рекламные агентства, столичные дворники и актерская богема. Иван поддерживал Марию под руку. Хмурил брови. Ему совсем не нравилась эта ее идея — посреди лета все бросить и мчаться на чертово море, на чертов солнечный желтый песочек, жрать чертову пляжную пиццу и чертовы ананасы и авокадо. Работать! Он хотел работать. Танцевать. Он хотел делать карьеру. Его танец с ней, с Марией, принесет ему громадные дивиденды. Карьера — это священно. Любой день, не посвященный карьере, вычеркнутый из деланья карьеры, — пропащий день. Он не любил отдыхать. Он любил танцевать с ней. Отдыхал он с нею иногда ночами, обнимая ее. Этого, считал он, довольно.
— И куда же мы поедем, Мара?
Она вздрогнула. Посмотрела на блестевшую под вечереющим жарким солнцем, перламутрово играющую воду.
— Я поеду одна. Я хочу отдохнуть одна.
— Одна? — Он крепко сжал ее локоть. Они не прервали шага. — Почему одна? Ты шутишь, Мара? Куда это ты поедешь одна? Без меня?
Ветер отдувал от ее смуглой щеки иссиня-черную густую прядь. Ветер целовал ее сильно открытую, под декольте дерзкого летнего красного сарафана, высокую грудь. Она так и не сказала ему ничего. Она не сказала ему, кто ее похитил, как над ней издевались, как она была с другим мужчиной, овладевшим ею против ее воли. Как ее завербовали, и как она согласилась работать на них, ничего не зная о своей работе, кроме одного: она должна будет спать с другими, не только с ним одним. Зачем? Она пока не понимала. Она согласилась потому, что она хотела от него, от Ивана, ребенка. Она хотела жить. Она хотела танцевать. Она хотела стать матерью. Все остальное было неважно.
Она не знала, куда ее новые хозяева хотели послать ее на учебу.
— На море, — сказала она, глядя на солнечные блики на воде, прищурясь. — На море, все равно куда. Лишь бы было море, солнце и песок, и галька под животом, я так люблю ее перебирать. И шум прибоя. И очень синее небо, без единой тучки. Здесь, в России, слишком дождливое лето. Мне здесь холодно. Я мерзну.
— Даже со мной? — Иван остановился у парапета, взял Марию за локти, повернул к себе. Всмотрелся в ее беспечное, улыбающееся лицо. — Ты мерзнешь даже со мной?
Она взяла его лицо в ладони. Он прочитал в ее черных сияющих глазах беспредельную любовь.
— Я никогда не мерзну с тобой. Мой горячий. Мой единственный. Мое все. Моя жизнь. И все же я хочу на море одна. И я поеду на море одна. Влюбленным надо расставаться, тогда их страсть будет при встрече еще безумней.
— Ты такая мудрая, как старуха! — Он чуть не выругался, повернулся, пошел вперед один, без нее; потом остановился, обернулся. Мария стояла у парапета. Не сдвинулась ни на шаг, чтобы идти за ним. — Все-то ты знаешь… учить… меня!.. — Он дернул головой вбок, будто ему сдавливал горло воротник рубашки. Исподлобья глядел на нее. — Ну? Почему ты стоишь? Почему я должен тебя ждать?
Она спокойным, медленным шагом подошла к нему. По реке бежал маленький прогулочный катерок, украшенный множеством флажков, на катерке кто-то веселый гудел в медную, жарко блестевшую на солнце трубу, играл аккордеон, что-то пели нестройным, пьяным хором. Подойдя к нему вплотную, она взяла его под руку, и его обдало восторженным жаром при одном прикосновении ее руки.
— Ты будешь меня ждать. Я отдохну и приеду. Ничего страшного не произойдет. — Она обернула к нему голову, и он мог бы поклясться, что в ее глазах блестели слезы. — Я люблю тебя.
Катерок убегал прочь по Москва-реке. Пение пьяной компании на палубе затихало вдали. На сером старинном здании на набережной горели, как начищенные, золотые буквы: «BANK SOCIETE GENERALE VOSTOK».
* * *
БЕЕР
Мы это сделали, но они этого хотели.
Мы взорвали èõ òüìó потому, что они, люди, этого давно хотели. Они все только притворялись, что хотели света, счастья, свободы и добра. На самом деле они тайно и сильно хотели мрака, горя, тюрьмы, ужаса и зла. Они хотели заглянуть в бездну, ибо бездна пьянит, засасывает. Она привлекательна. Она прельстительна. Они хотели дойти до края. До предела. Быть свидетелями конца. Поприсутствовать при последнем страхе. При мистерии исчезновения. Ах, как это было красиво! Смерть — как это захватывает! Свидетели, те, кто видел, сказали себе: Боже мой, дьявол задери, ведь это шедевр!
Я мастер Последнего Шедевра. Смерти не нужна маска. Хорошо быть не ряженым — настоящим зверем. Открыто клацать клыками. Не надо притворяться. Будь тем, кто ты есть. По-настоящему убивай и пей настоящую кровь.
Но ходи по людскому лесу тихо. След в след иди, волк. И соблюдай дистанцию.
Ибо если ты — убийца, то сейчас каждый — такой же убийца, как ты.
Я продаю слово. Я продаю знак. Я продаю своих воинов. Я продаю убийство, а также копию убийства. Перетекает из жилы в жилу черная кровь. Все перемешалось в этом замечательном мире? Похоже, так. Дорого ли вы купили ваше счастье, господа? Не миф ли купили вы? Не хлеб ли из опилок? Не мороженое ли из бумаги? Не мясо ли из резины? Сказка хороша, не спорю — хотя бы на один вечер. Наслаждайтесь. Обманывайте себя. Все равно наступит день, когда дом, где вы спокойно пьете чай, с грохотом рухнет в тартарары, когда многолюдный пляж, где вы нежитесь на солнышке в вашем бикини или в плавках-шортах от Версаче, превратится в бушующее море огня.
* * *
Гул самолета. Гул самолета в ушах.
Когда самолет приземлился в столице той страны, куда господин Беер, плоть которого, ненавистную и острую, она навек запомнила в себе, взял ей билет, она вышла из самолета, слегка шатаясь от тягот сумасшедше длинного беспосадочного перелета, и ее лицо было закутано темной вуалью, спускавшейся на глаза с маленькой, по ретро-моде, черной шляпки. Господи, если бы мама видела ее!
Беер сказал ей на прощанье, ядовито смеясь: там, в том городе, роскошный океанский залив, он называется Ла Плата. А твоя Школа, где тебя будут учить навыкам твоей работы, будет стоять на берегу реки Параны. Жаркие деньки тебе предстоят! Искупаться захочется! А некогда, крошка, некогда будет. Она промолчала, ничего не ответила, отвернулась.
Такси остановилось около нее, когда она, прислоняя руку к лицу, пытаясь отвести от глаз, содрать непривычную вуаль, вышла из здания аэропорта на площадь. Дверца машины открылась. Она села в нее одновременно нагло и робко, уверенно — и заторможенно, как во сне. Она чувствовала себя автоматом.
Она и была автомат. Живой автомат.
Она просто очень хотела танцевать.
И очень хотела ребенка.
Для этого ей надо было просто жить. Жить — и больше ничего.
Она видела мрачный, стриженый затылок черноволосого шофера. Она знала эту страну — она бывала здесь на гастролях с Иваном. Здесь говорили на ее родном языке. И немного — на португальском. Может быть, где-нибудь, в каких-нибудь кварталах, здесь можно услышать и русскую речь. Что делает иностранец, попавший в незнакомую страну? Он выучивает первым делом простые слова, насущные фразы: чтобы купить хлеба и молока, чтобы найти нужную улицу в городе. Для этого существуют разговорники, оттуда можно выудить простые вопросы и простые ответы. А большего и не надо. Они так много летали с Иваном по свету, что не только не было охоты учить языки стран, где они танцевали — все языки сплетались, сливались в один, клекочущий и гогочущий, животный, птичий, человечий ли, скотный ли двор. Она не рискнула заговорить с шофером. Что она могла сказать ему? «Как здоровье? Как живете? Спасибо, что довезли?» Он затормозил машину у огромного, мрачно-серого здания со странно маленькими окнами. Будто безглазый дом. И все окна задернуты черными шторами — она разглядела из окна такси.
— Выходите, — скупо обронил шофер. — И прощайте.
«Он сказал „прощайте“, а не „до свиданья“, — смятенно подумала Мария, щурясь сквозь черную вуаль на железную дверь над низким каменным крыльцом.» Она поднялась по ступеням. Рука поднялась, чтобы нажать кнопку звонка. Железная дверь распахнулась наружу. Она вошла, и дверь с лязгом закрылась за ней.
Одетый в камуфляж высокий человек, ни слова ни говоря, повернулся, сделав жест, чтобы она следовала за ним. Он пошел по темному коридору, еле освещенному тусклыми плафонами высоко под потолком; она — за ним. Они шли долго по мрачным коридорам, и у нее все больше кружилась голова. Наконец человек в камуфляже остановился перед железной дверью, всунул ключ в замок, толкнул дверь рукой. Снова сделал жест: проходи. Она прошла в комнату. Огляделась. Она поняла, что это будет ее спальня.
Все верно, она должна была здесь где-то жить.
Теперь, на этот месяц, эта камора… эта камера с голыми стенами, железным шкафом для одежды и белья, железным квадратом стола, привинченного к полу, черным холодильником и железной кроватью с панцирной сеткой, как в больнице или в тюрьме, будет для нее домом. Она зажмурилась под вуалью. Солдат, встретивший ее, по-прежнему ни говоря ни слова, повернулся и удалился. Мария закрыла дверь на замок, повернув ключ, и плашмя упала на кровать.
Она не знала, сколько прошло времени. В дверь постучали. Она вскочила, будто и не дремала вовсе. Рослый солдат в камуфляже стоял перед нею с подносом в руках. Поднос был уставлен едой. Она поблагодарила солдата, наклонив голову; он по-прежнему молчал. Она взяла поднос у него из рук, поставила на стол, обернулась и сказала по-испански: «Muchas gracias».
Солдат ушел. Она, не снимая шляпку, откинула ото рта, с подбородка вуаль и стала есть. Еда была простой, неизысканной — вареная картошка в миске, капустный салат, томаты, пара кусков жареной морской рыбы в металлическом судке, воняющей йодом и тухлыми водорослями, кефир, сок. Когда она, запрокинув голову, пила сок из стакана, в спальню кто-то беззвучно вошел. Мария обернулась, поставила стакан на железный стол. Вошедший был в генеральской форме. Его китель был весь усеян наградами, будто бы его владелец собрался на парад. Мария утерла губы. Генерал заговорил с ней по-английски. Она старалась понять все.
— Мы приветствуем вас, мисс Виторес, в нашей школе. Учтите, времени у нас с вами немного, а успеть надо многое. Режим здесь достаточно жесткий. Спать вам придется мало. — Он нехорошо усмехнулся. Мария рассматривала его сухое старое лицо, его тонко поджатые ядовитые губы. — У вас в комнате в любое время могут появиться наши инструкторы. В первую очередь вас будут учить читать карты и составлять схемы.
— Схемы… чего?..
Губы Марии внезапно пересохли. Она только сейчас осознала, в какую игру она втянулась против воли.
— Схемы расположения войск противника. Его военных баз. Складов его оружия и боеприпасов. Дислокаций и передислокаций. И многие другие схемы. В частности, — тонкие язвительные старческие губы улыбнулись, — вы должны будете назубок знать схемы наиболее действенных современных истребителей-бомбардировщиков. В том числе и невидимки — «Стеллс», и самолеты программы «Меру», и…
Старик замолк. Молчала и Мария. На миг ей показалось: в тюремной каморе школы для международных шпионов идут часы. Громко идут: тик-тик, так-так.
Или это стучало у нее в висках?
Или это… стучали… ее кастаньеты… ее кастаньеты для олы… для сегидильи… для сапатеадо… те, что она оставила там, в Москве…
— Так, хорошо, — сказала она сухими губами. — А еще?
— Еще вы должны будете в скором времени знать и различать типы кораблей и подводных лодок. Знать, чем опасна та или иная конструкция лодки или корабля. Та или иная модель пушки. Ракеты. Истребителя. Вас будут посвящать в новейшие разработки оружия, ведущиеся в крупных странах мира. Мир втягивается в новый виток насилия, и надо уметь противостоять насилию. Обезвреживать его.
— Насилием?..
Ее язык опередил ее. Старый генерал, откинув голову, как огромный старый кондор, прищурясь, сверху вниз, как со скалы, поглядел на нее острыми камешками глаз.
— Вопрос по существу. Разумеется, насилием. Вы правы. Ничем другим его не остановишь. С ворами надо говорить на воровском жаргоне, тогда они тебя поймут. Со смертью — на языке смерти.
— Почему… не любви?..
Он медленно повернул к ней все лицо. Теперь круглая, чуть расплющенная, с резьбой морщин, загорелая тарелка его лица находилась напротив ее лица, ее широко открытых под вуалью глаз.
— А вы что, монахиня, что задаете мне такие вопросы? Вас же прислал ко мне Беер?
— Я танцовщица.
— Танцовщица… Хм!.. Все равно. Хоть судомойка. Мне это все равно, откровенно говоря. С любовью в нашем мире дело плохо, видите ли, сударыня. А вы что, сами этого не понимаете? Вам недостаточно доказательств? Вам еще не объяснили? Сегодня вечером для слушателей фильм. Поучительный весьма. После занятий с инструкторами и ужина вас вместе с другими слушателями Школы отведут в кинозал. Советую вам смотреть это кино возможно более внимательно.
Генерал поднялся с железного стула с деревянным сиденьем, упершись руками в колени, кряхтя. Под кителем явственно обозначилось брюшко. Вдруг он сделал шаг к ней. Протянул руки. Она не успела отшатнуться. Он медленно, бережно снял с нее шляпку с вуалью. Положил на кровать. Нежно коснулся заскорузлым большим пальцем ее вспотевших, пахнущих соком губ.
Лучше бы она не смотрела этот фильм. Не смотрела, не смотрела!
Но у нее были глаза, и они глядели на все это сами. Без ее ведома. Не подчиняясь ее приказу.
Губы ее шептали: «Танатос, Танатос». Нельзя смотреть в его глаза. Зачем она в них глядит?
И что такое смерть, господа?! Что такое смерть?!
Мария сидела в темном кинозале, сцепив зубы. Пальцы ее вклеились в подлокотники кресла. Она шептала себе сквозь зубы: caprichos, caprichos. Не было нового Гойи. Была только она. Она одна. Вот ЭТО — станцевать?!
Она и ЭТО станцует, господа. Дайте срок.
Завтра?!
Нет, сегодня. Уже сегодня. Ждать нельзя.
Она станцует Злу — Зло?!
Она станцует Злу — Добро. И забеременеет от Ивана. И родит мальчишку. Лучше всего мальчишку. Девочки же так страдают. О, девочку не надо, они же так страдают.
Экран погас. Слушатели, не переговариваясь друг с другом, хлопая сиденьями кресел, вставали и расходились из кинозала — каждый в свою спальную камеру.
О Боже, Боже, Боже…
Она быстро перекрестилась в темнеющем зале, где экран уже задергивали плотным черным занавесом — справа налево, по-православному, так, как крестился отец. Она ведь тоже православная. А шепчет всегда, когда страшно: о Мадонна, о Мадонна…
Придя к себе в спальню, она откинула суровое одеяло с матраца; подошла к окну и отдернула черную штору. Окно выходило прямо в белесое, прожаренное на костре солнца, чуть красноватое небо. Оно напомнило ей небо Пиренеев. Далеко внизу текла широкая печальная река. Ни мать, ни отец, ни Иван, ни проклятый Родион, никто и никогда не узнает, где она была и что делала весь этот месяц. Она намажется французским кремом, искусно имитирующим здоровый южный загар. Ее глаза будут блестеть, на смуглой груди будет болтаться маленькая ракушка-рапана на дешевой бечевке, в ушах — сверкать забавные сережки красного золота. «О, я прелестно отдохнула в Египте!.. Я, знаешь, в Каир решила лететь в последний момент, ты уж, Ванька, извини…» И он скажет зло, чуть выдохнув, сгорая от страсти — ведь месяц не обнимал ее: «Querida».
Она рухнула на койку, не раздеваясь. Она не могла раздеться и идти в душ. Ей казалось — из душа вместо воды текут тугие струи крови.
Когда она проснулась, на подушке рядом с ней лежал огромный, чудовищной величины апельсин. Мария, медленно подняв руку, взяла плод в пальцы, поднесла к лицу, понюхала жадно. Она очень любила апельсины, как всякая испанка. Кто принес ей его? Тот солдат, что приносил еду?.. В комнате не было часов, но она и без часов догадалась — еще очень рано. Темно-лиловое небо только наливалось розовым молоком рассвета. Она вспомнила рассвет там, в горах Кавказа, около Дзыхвы, в Абхазии, с Иваном. А может, апельсин ей принес генерал?
Через две недели она уже хорошо и доподлинно знала, что находится внутри подлодок, кораблей, бомбардировщиков, каков принцип работы новейшей противоракетной защиты; однажды на занятиях кровь бросилась ей в лицо, она вздернула голову и сказала, прямо глядя в глаза инструктору:
— У меня уже в глаза рябит от ваших дурацких схем!
Инструктор не обиделся, не возмутился. Они все здесь были холодны и выдержанны, как выдержанное хорошее «порто».
— Отдохните, — английский инструктора был безупречен, — немного отдохните, мисс Виторес, вам это пойдет на пользу. Может быть, вы хотите потанцевать?
Ни тени улыбки не промелькнуло на красивом, холеном мужском лице. Она не знала, плакать ей, скандалить или смеяться. Вечером она уже разминалась в тренажерном зале. Тренажеры, для свободы ее движений, генерал приказал сдвинуть все в одну сторону, к стене.
И Мария вздергивала ноги выше головы, боясь, как бы мышцы не увяли, не застоялась кровь в жилах. И старый генерал приходил и, скрестив руки на груди, стоял в дверях зала, тяжело глядел на нее, на молодую девушку, на мировую знаменитость; ему за нее отлично заплатили, чтобы она училась в его Школе. Все, кто выучивается в его Школе, будут работать на Смерть. В Смерти правых и виноватых нет. В ней повинны все. Повинна, быть может, и эта смуглая испанская девочка, после разминки и сотни приседаний и отжимок так самозабвенно, бешено танцующая сегидилью, что у него, у старика, мороз идет по коже и все мышцы горят и сжимаются в паху, причиняя забытую сладкую боль.
ЛОЛА
Проклятье, даже поспать как следует не дадут. С утра трезвон! И этот, угрюмый, а красивый, между прочим, стервец, с утра пораньше заявился. Хочет, чтобы судьбу открыла! «Я тебе, — говорю, — ее уже сто раз открыла. Ты ж ко мне, сердешный, уж четвертый раз являешься; и не жалко тебе твоих кровных денежек? Я ж, видишь, как дорого беру!» Мрачнеет, но стоит на пороге. «Меня, — и смотрит так пронзительно, пристально так, как на допросе, будто пытать меня сейчас будет, — не цена интересует. Меня настоящая моя судьба интересует. Ну, суеверный я, суеверный! Черт знает какой суеверный! — И выкладывает на стол кучу купюр. И я облизываюсь, жадно гляжу, эх, милый, и щедрый же ты, думаю, а я страх как люблю щедрых мужиков! Сейчас, думаю, я тебе, сердешный, все такое хорошее — ух!.. — нагадаю!.. — Скажи мне, Лолочка, не таясь… красиво скажи… честно… чтоб все честь по чести… как у меня будет с ней?.. Все ли сбудется?.. Я — с ней — буду или нет?..»
А я уж знаю, про кого речь идет. Про Машку мою, про кого же еще! Приклеился он ко мне с Машкой, как банный лист!
Отец, тоже мне… Ивашкин отец… Он — ей — в отцы годится! Да вдобавок еще и папаша парня ее… Стыд… Что говорить, не знаю. Я уж все сказала, что можно языком наболтать. А он, видишь, в четвертый раз прет! И с утра, пока посетителей нет, пока горничная, продрав глаза, на кухне кофе со сливками жадно, как кошка, лакает…
Ну, думаю, давай я ему про Машку все-все без утайки выложу. Погадаю так, чтобы он, гад такой влюбленный, на всю жизнешку гаданье то запомнил. «Раздевайся, — говорю, — с себя все скидывай!» Изумился. Как, говорит, все? И исподнее — тоже? И плавки?.. Кричу: «И плавки! И носки! И крест нательный, ежели — носишь, конечно!»
Разделся. Секунду глядел на меня — остро, страшно, прежде чем плавки скинуть. Скинул. А я-то баба красивая, хоть и толстовата, и седина уже у меня в прядях посверкивает, а мордочка у меня будь здоров, гладкая да ухоженная, губки свежие, глазки стреляют туда-сюда, грудь высокая, пышная, и вся я вообще-то очень женщина, в соку да на пару, ну, у него естество-то и зачикало, шевельнулось, заплясало. Пляски — почище чем у моей Мары! Клюет, клюет на бабу-то, хоть и втемяшил себе в башку, что любит одну Мару… Любит — одну, а переспать может — с тысячью. Стоит и глядит на меня уничтожающе. И я ему говорю так спокойно, грудь свою оглаживая: «А теперь ложись на стол. — Киваю на застеленный белой чистой скатертью большой стол за своей спиной. — Ложись спиной на стол, лицом вверх! И поведу руками по тебе! И все с тебя — руками — считаю! Всю грязь твою! Все алмазы твои! Все прошлое твое! Все будущее!»
Он шагнул к столу. Лег. Естество торчит торчмя. А поджар да красив, сволочь. Не хуже сынка-танцовщика. А может, даже и интереснее. Слабость у меня к пожилым мужикам. Они помужественней будут, чем слащавые сопляки. Жизнь, век за ними. Будто черные ли, радужные крылья. А за теми — что? Да ничего пока. Вино одно да девки. Геронтофилка я проклятая! А сама-то стареть не хочу, не-ет… «И с ней что будет у меня, прочитаешь?..» Голосок дрожит. Замирает. «Да, — говорю, — все считаю. Ты — хорошая матрица. Ясная. Незамутненная. Просто как в ясную лунную ночь Библию читаешь. Молчи! Расслабься!»
Наклонилась над ним. Руки сначала ему на виски положила. Он глаза закрыл. «Ну, Ким Метелица, что видишь?..» Он слегка улыбнулся. Ему очень шла улыбка. Он становился моложе на двадцать лет. «Вижу фиолетовые полосы… лиловые сабли, серебряные… Стоп! — вдруг заорал. — Стоп! Вижу… Ее лицо вижу… Плачет… Она плачет, Лола! Чем я могу ей помочь?!»
Гляжу — и у него по щекам слезы потекли. Я веду руками все ниже, ниже. Над щеками, слезами залитыми. Над торчащими острыми скулами. Над шеей с синей, вздутой бьющейся жилой. Повожу ладонями над грудью, над мощными пластинами грудных мышц. Эх, до чего спортивный дядька, и формы не теряет. Веду руками дальше… застывают ладони над сердцем… и я закрываю глаза… и теперь начинаю видеть — я.
Я вижу сначала темную, клубящуюся тьму. Потом эту тьму прорезает луч. Луч высвечивает из шевелящейся, дышащей тьмы странные картины. Я вижу Кима, целящегося из револьвера. Слежу за его взглядом. Вижу искаженное ужасом лицо человека. Пуля настигает того, в кого целится Ким. Я понимаю: я вижу, как Ким Иванович Метелица, мой клиент, стреляет в человека, и человек падает мертвым. Мое видение не может быть ложью. То, что я считываю с человека, никогда не может быть обманом. Я, не открывая глаз, держа по-прежнему руки над сердцем мужчины и всею собой чувствуя его резкие, яростные толчки, тихо, не разжимая губ, спрашиваю: «Ты… убил человека?.. Когда?..» Тишина. Мертвая тишина. Только слышно, как под руками, под горячей кожей ладоней бьется сердце.
И в тишине раздается его жесткий, тихий голос: «Недавно. Вчера».
И я спрашиваю снова, и мне страшно от этого вопроса:
«А ты… убил впервые… или…»
Он отвечает быстрее. Прыгает через страх тишины.
«Нет. Не впервые. Я уже много убил людей».
«Тогда ты…»
«Да, я убийца, — без паузы, тут же отвечает он. Сердце прыгает под моей ладонью, как лягушка. — Я наемный убийца. Ты все верно считала. В обморок не падай. Читай, что там дальше? Что будет со мной и с ней? Со мной и с нею вместе! Будем ли мы…»
Он не договаривает. Я веду руками дальше. И мои руки застывают над тем, чему от века молятся бабы и чего они вожделеют. Мужчина уже не плачет. Он ждет, что я скажу. Напряженно ждет. Под моими ладонями становится горячо, огненно. Я не открываю глаз. Я молчу. И он молчит.
«Ну… что ты видишь!.. Лола!.. Говори!..»
Я молчу. Мне трудно говорить. А ему трудно лежать под моими руками. Кожа ладоней, пальцы очень близко. Наклонись — близко и губы. Мужчина всегда ждет ласки. Чем знаменитая гадалка отличается от простой корейской секс-массажистки? Да ничем. Мы обе женщины. Мы все — женщины, когда рядом с нами мужчина.
Я молчу, держу руки над его вздыбленным естеством, и мужчина стонет, выгибается под моими руками. Я не выдерживаю сама. Пальцы ложатся на напряженно выпрямленный, жаркий живой ствол, нежно ощупывают его. Я отдергиваю руки и тихо говорю: «Ты будешь с ней, Ким. Но добром это не кончится».
Он весь подается вперед. Я открываю глаза и вижу, что он глаз не открыл. Как большой, красивый старый загнанный зверь с закрытыми глазами, пойманный и помещенный в загон или клетку, он мечется по столу, и глаза его прижмурены, и он кричит мне отчаянно:
«Почему?! Почему это не кончится добром! Что ты видишь! Что ты видишь, быстро говори!»
Я кладу руку на его губы, и он кусает мне пальцы. Он истекает соком. Он истекает желанием. Он исходит желанием узнать будущее.
Если мне дано увидеть будущее правдиво — а это так, — то плохи же твои дела, старый мальчик, плохи.
А еще хуже дела Мары. Зачем ты связываешься, Машка, с целой кучей вожделеющих тебя кобелей?! Конечно, ты красивая сучка, это понятно, и танцуешь ты будь здоров, но вела бы ты лучше, девочка, здоровую и спокойную жизнь…
Кто нам приготовил спокойную жизнь?! На какой тарелке, на какой сковородке нам ее поднесут?!
Голый мужик передо мной на моем рабочем столе. На белой скатерти. И Бог — или дьявол — сожрет его так же, как других. Брешешь ты все, Лола, сама себе. Его сожрут люди. И косточки схрупают.
«Ну что?! Что ты видишь?!..»
Молчать больше я уже не могу. Разлепляю губы.
«Она погибнет».
Мужчина отворачивает от меня седеющую голову. Его четкий суровый профиль — на снежно-белой камчатной скатерти, как на белом холсте, на фреске.
«И я… буду этому виной?»
Я молчу.
«А что… со мной?.. Что будет… со мной?!..»
Я ни за что не скажу ему, как я увидела его. Не скажу, потому что нельзя человеку знать час свой. А гадалка — та еще сволочь, она ведь, коварная цыганка, может и ошибиться, и с три короба наплести вранья. Я улыбаюсь ему, лежащему навзничь. Прижимаю сухой смуглый палец к ярким губам.
Молчание — спасение. Но не всегда, о гадалка. Говори ему лучше о другом. О том, что еще ты увидела, считала с его поджарого сильного, как у зверя, тела, кроме лежащего навзничь, размытого туманом виденья бездыханного тела Марии. Ишь ты, киллер. Не было еще у меня клиентов-киллеров. А может, и были, Лолка, да тебе они о том не говорили.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ТРЕТИЙ. ХОТА
Она явилась перед Иваном гордая и странная, дикая, как пантера, и удивительно похорошевшая. От нее за версту дышало южным морем и слепящим солнцем. Казалось, она даже пахла апельсинами, вся пропахла ими, спиртовой терпкой коркой, влажной цедрой. Загорела до невозможности, чернее эфиопки, и в ушах покачивались странные, будто тропические, гигантские, в виде двух серебряных змей, с виду тяжелые серьги. Она проследила за его взглядом. Ударила по одной серьге пальцем. Легкая посеребренная пластмасса закачалась над ее загорелой шеей.
— Ну что же ты? Чемоданы бери!
Она кивнула на два чемодана, стоящие у ее ног. Улыбка обнажила ее ровные красивые зубы. Что-то в ней появилось такое странное, чужое, он и не мог словами выразить, определить, что. Будто бы она была вся, до капельки, его — и вдруг самую капельку, чуть, стала — не его.
— Чемоданы? Изволь. — Он наклонился, подхватил чемоданы. — О, какие тяжелые! — Попытался изобразить удивленную улыбку, она вышла вымученной. — Подарки тянешь?.. Почему телеграмму не дала?
Она перешагнула порог. Он, с чемоданами в руках, попятился.
— Сюрпризом хотела.
— Узнаю тебя, Мара! Узнаю! — Он выкрикнул это, и ему стало легче. И ее улыбка тоже вроде бы помягчела, не так каменно застыла на смуглом лице. — Вечные эти твои штучки! Ну давай, раздевайся. Какая ты молодец, что из аэропорта — прямо ко мне! — Он поставил чемоданы на пол, привлек ее к себе. Заглянул в лицо. — Соскучилась?
Мария отбросила рывком головы волосы со лба. И прическа у нее новая, отметил он, она чуть ли не впервые распустила и подстригла свои гладкие черные густые волосы, что всегда так аккуратно, пуритански сурово укладывала в пучок на затылке, чтобы они не мешали ей танцевать. Ну да, она же была на юге! Она же купалась в море, ей нужно было облегчить свою испанскую тяжелую косу, остричь… Совсем рядом были ее сочные, вишнево-алые губы. Над верхней губой сверкали алмазинки пота. Он приблизил губы к ее губам и слизнул языком, будто сладость, эти мелкие соленые капли.
— Иван…
Он уже целовал ее, закидывая ее голову назад, перекидывая ее через руку, отгибая, как в танце. Она уже задыхалась. Целый месяц без него. Целый месяц без любви. Умереть можно.
— Умереть можно, как я по тебе соскучилась…
Он уже нес ее на руках к кровати. Кинул на кровать, будто добычу. Рассмеялся возбужденно, сбрасывая с себя джинсы, рубаху.
— Отлично, что я тебя дома застала… Много у тебя тут было всяких шлюшек без меня?.. Как ты тут времечко проводил?.. Весело, а?..
— Вкалывал, — пробормотал он, уже голый, падая на нее, прижимая ее всем телом к кровати, раскидывая ей руки, покрывая ее щеки, шею безумными, быстрыми поцелуями. — Вкалывал, Мара! Что ж я еще тут делал, по-твоему?! У нас с тобой, между прочим, турне по Японии, ты забыла? Станкевич с меня с живого не слезал.
— Что ж партнершу себе временную… вместо меня… не взял… а?.. — Она извивалась под ним, ее ноги обнимали его ноги, ее живот приклеивался к его обжигающему животу. — Муляжик такой… уточку подсадную, а?.. Все легче было бы репетировать… Отрабатывать па… движения…
— У нас с тобой, querida, давно все отработано и так, — он задышал тяжелее, чаще, перевернулся на спину, подхватил ее под мышки, посадил на себя. — Ну иди же ко мне, иди, любовь моя!
И она раскрыла над ним ноги, как лепестки, и впустила его в себя, вцепившись крепко пальцами в его плечи, и закачалась над ним, будто плыла на корабле, и бурное море поднималось под килем, под стрелой бушприта.
МАРИЯ
Я раздвинула ноги над ним и села на него, вонзила его в себя, как вонзают кинжал. И на миг мне показалось: он и есть кинжал. Живой кинжал, и он меня убьет собой.
Двигайся. Двигайся, Мария. Ты же в любви, как в танце. Ты же так по возлюбленному соскучилась. Ты же…
Ребенок. Ребенок. Я забеременею. Я должна забеременеть сегодня. Этим вечером. Этой ночью. Я даже в душ не пошла после дороги. Я сразу легла с ним в постель.
Забыть. Хоть на минуту, на час, на два — забыть. Забыть Беера. Забыть Школу. Забыть старого генерала. Забыть этого солдата в камуфляже, что без стука входил рано утром с подносом, полным отвратительной еды, в мою дверь. И в камере пахло вареной картошкой. И вареным мясом. И моей жизнью, сваренной, как яйцо, вкрутую.
Я забуду все.
Забуду?
Я отныне буду ТАК ЖИТЬ. Это будет моя жизнь.
Это будет твоя жизнь, Maria, querida.
Двигайся! Двигайся! Двигайся! Люби его! Люби его! Люби!
Нас всех все равно взорвут когда-то. Мы все взлетим на воздух. Нас всех разорвет в клочки. Красные клочья, красные кровавые хлопья полетят по черному ветру. Кто остановит катастрофу?! Старый генерал?! Богатый идиот Беер?! Я?! Тысячи таких, как я?!
А кто же ее разжигает?
Те, кому это нужно. Кто заработает и на этом.
Ты же, плясунья, пляшешь и получаешь за это деньги.
Господи, Иисусе великий, какое же счастье, что я сплю и не получаю за любовь деньги! А ведь тысячи, миллионы женщин — получают!
Господи, любимый, любимый, любимый… Ты подо мной… Ты — надо мной… Ты — во мне… А я, ты же видишь, я же всегда — в тебе… Даже тогда, когда меня нет рядом…
— Мара, Мара… Я безумею… Я обезумел тут без тебя… Одичал… Я не представляю, что будет, если ты…
Не договорил. Какое счастье, что не договорил! Я поняла, что он хочет сказать. Судорога ослепительного счастья выгнула нас кверху, скрутила, и, обнявшись, сцепившись, намертво склеившись, мы, крича, упали с постели, хохоча и плача, покатились по полу, благо у Ивана весь пол был устлан коврами. Отдышавшись, глядя мне в лицо прищуренными, излучающими радость, своими шальными черными глазами, — о, как же он был похож на испанца, я бы поклялась, что он в моей Испании родился, не здесь, в унылых снегах! — он спросил меня, касаясь губами моего вспотевшего лба:
— Марочка, голубка… а поедем завтра на вечеринку к отцу?.. К нему на дачу, в Старую Купавну… Там озеро, прелестный сосновый бор… грибные места, между прочим… Мы искупаемся там, хотя я понимаю, это не твое роскошное море… Кстати, как назывался этот твой курорт?.. Ну, где ты была?.. Ты же так и не сказала мне…
— Не успела, — я улыбнулась ему и коснулась губами его губ. — Ты слишком быстро обнял меня, Ванька. Я была в Египте. Солнце жарило там будь здоров, как на Меркурии. Из меня весь жир вытопило, видишь?.. А к твоему папаше мы, разумеется, завтра поедем. Он у тебя такой славный, отец.
— На меня похож?..
— Это ты на него похож, дурачок.
Он уткнул лицо мне под мышку. Вдохнул мой запах. Внутри у меня все мгновенно похолодело, застыло. Я вспомнила ту богатую комнату, роскошную люстру, венецианские зеркала, антикварные флорентийские столы. И лицо Кима Ивановича Метелицы. И лицо его напарника, жующего устрицы. И лицо Аркадия Беера — над моим лицом. Как они на меня вышли? Благодаря Станкевичу, скорей всего. Ну да, Станкевичу, конечно. Иначе откуда бы Беер узнал о том, что я передавала какой-то чертов сверток в монреальском аэропорту?
Аэропорты. Самолеты. Гастроли. Гул моторов. Взлет. Пристегните ремни! Вам принести освежающей воды, леди?
Я не леди. Я сеньорита. Я незамужем. Но я хочу замуж. Я хочу ребенка. И я хочу жить.
Схемы. Карты. Извивы, извилины военных карт перед глазами. Безупречный, чистый английский язык. «Вы еще плохо говорите по-английски, мисс. Мы вас научим». Они занимались со мной языком четыре часа в день. Каждый день. И каждый день эти чертежи. Если бы меня сейчас посадили за штурвал «Стеллса», я бы, кажется, без труда подняла его в воздух. Старик генерал, ты остался доволен мной! Ты сказал мне: «Что ж, танцуй, пока танцуется. И будь готова к тому, что тебе дадут задание в любой момент. В любой, слышишь? Когда мы пожелаем. Когда ты будешь нужна». И я послушно наклонила голову. Я уже была чужая вещь. Уже — не Мария Виторес. Меня продали. Я продалась. Волк Беер сказал: ты будешь получать за работу деньги. Зачем мне эти деньги? Они будут пахнуть кровью. Я зарабатываю деньги своим искусством! Я и без того богата! Богата?..
Накопи своему будущему сыну на квартиру. Накопи. На хорошую, богатую, элитную квартиру в Москве. А разве ты хочешь, чтобы он жил в Москве? Почему не в Испании? Не в Мадриде? Почему — не на золотых Мальдивах?!
Меси, меси тесто ужаса. Может, испечешь что-нибудь.
Я могу разбиться. Я могу разбиться в самолете. Я не хочу разбиться! Я — не хочу — катастрофы!
Ты уже разбилась, Мария. Ты разбилась вдребезги. Делай хоть вид, что ты вся целенькая и хрустальная.
— Как ты считаешь, — я потрепала Ивана за мокрые волосы, — в чем мне лучше ехать на эту вечеринку твоего отца? В том королевском вечернем платье, что ты мне подарил на день рожденья? Или чем проще, тем лучше?
— Оденься в черное, как испанская крестьянка. Тебе идет черный цвет.
И она оделась в черное, как и присоветовал ей Иван.
И они собрались и поехали на эту никому не нужную вечеринку на дачу к его отцу, и с ними увязался Станкевич, явился не запылился, пристегнулся, как накладной карман, приклеился липучкой. О, как же она не хотела его видеть! Эти два трясущихся подбородка. Эти золотые часы «Ролекс» на жирном запястье. Эти поросячьи глазки, что остро, умно ощупывали ее, будто искали на ее теле изъяны: так обыскивают при досмотре, при шмоне в тюрьме. И она тоже стреляла в него глазами. Тоже — просвечивала его зрачками насквозь. Знает ли он, где она была весь месяц? Подействовала ли на него эта фальшивая сказочка о вожделенном отдыхе на синем море? Если он знает — будет ли он еще заставлять ее делать то, что она сделала в Монреале? Или он и Беер — одна команда?
Команда. Связка. Компания. Да, возможно, они одна компания, так и есть.
…Когда веселая дачная компания уже сидела за накрытым столом, под стройными краснотелыми соснами, и Ким уже держал в руках запотевшую, только из холодильника, бутылку «Алтайской», и обжигал хохочущую Марию беглым взглядом, и гости шумели и вскрикивали: «Выпьем — и купаться, и на озеро, скорее!..» — а хозяин, обводя всех глазами, шутливо грозил пальцем: покуда женин пирог с грибами не съедите и свининку домашнего копчения не отпробуете — никуда не пущу! — Марии, перед всклень налитой рюмкой, пришла в голову мысль. Она была такой ясной и простой, что она даже вздрогнула от ее жестокой, нечеловеческой простоты.
А ведь Станкевич попросту продал ее Бееру. Продал. Как продают вещь. Как продают драгоценный антиквариат. Венецианское зеркало. Рубин Великих Моголов в оправе из мелких бриллиантов.
Продал. Да, он продал ее.
Почему?!
«Продать живого человека опасно и выгодно. Ну да, опасно, потому что человек, выполняя опасную работу, может умереть. А выгодно — потому что он, работая, может все время приносить тому, кто его купил, деньги. А драгоценность денег не приносит. Она, правда, тоже дорожает… но медленно, с годами, с веками».
— Вы почему не поднимаете вашу рюмку, Мария? Тост мой не понравился? Или вы водку не пьете?.. Бросьте, мне Ваня сказал, что очень даже пьете.
Она очнулась. Повернула голову. Прямо перед ней стоял хозяин. Ким Иванович Метелица. У него было бледное, слишком бледное лицо. Рюмка слегка дрожала в руке. Она заставила себя улыбнуться. Глазами сказала ему: «Прошу, не вспоминайте, что было там, у Беера. Вы не видели этого. Забудьте». Его глаза ясно, твердо сказали ей: «Я не видел этого. Забыл».
— Выпьем, Мария?.. — Он поднял рюмку.
Она осторожно, как скорпиона, взяла со стола свою.
— За что?
— Три великих русских вопроса: что делать, кто виноват и за что, — он усмехнулся. Гости галдели, кое-кто уже опрокинул в рот водку, торопливо закусывал, поддевая на вилки снедь. Мария поймала глазами за дачным, богато накрытым столом веселое лицо Ивана. Иван улыбался ей, смеялся. Сделал ручкой. Рядом с ним сидела его мачеха, молодая жена Кима, беленькая женщина, с виду простушка, с овечьими кудерьками на висках, довольно хорошенькая — губки, глазки, все на месте. — За что, Мария? — Он склонился к ней, и она услышала его уже водочное, алкогольное дыхание. — За что мужчина влюбляется в женщину, Мария? За что она его не любит? За что она любит другого? Вообще — за что мы все так наказаны?
— Чем? — беззвучно спросила она.
Гости звенели рюмками, позвякивали ножами о тарелки; ветер трепал верхушки корабельных сосен, и они гудели, раскачиваясь тяжело, как корабельные мачты в бурю. Ким прозвенел своею рюмкой о ее рюмку, дрожащую в ее маленькой смуглой руке.
— Любовью.
Далеко, через лес, доносился свист бегущей электрички, перестук колес.
Она сама не поняла, как она вышла из-за стола, как, почему пошла за сосны, туда, за красные, горящие в лучах заката стволы. Скрыться от посторонних глаз, укрыться в чащобе, в бору. Она не знала тут и половины приглашенных. Это все были приятели Кима и Ивана, родня и знакомые его молодой жены. Она забрела за сосны, нашла тропинку, ведущую в лес; медленно пошла, побрела по ней. Ей не надо было пить так много водки. Много? Две рюмки? В Испании она пила красную «роху» кувшинами, и ничего. Это просто голова кружилась, голова болела. Красные круги плыли перед глазами. Она еще не осознавала, что после Школы оказалась в России. И теперь ей надо будет каждый день, каждый час ждать телефонного звонка. И резких, четких слов в трубке: «Это ты, агент V25? Здравствуй. Ты завтра летишь в Японию? У тебя первое задание в Японии, готовься. Для инструктажа приезжай по адресу, запоминай…»
Слишком кружилась голова. Мария обняла сосну, как человека. Как обнимала мужчину. Ивана. И тех, кто был у нее до Ивана. Их было не так много. Но всем, кто был с ней, всем было хорошо. Она могла и умела дарить любовь. А ей? Ей было хорошо? Или лучше, чем с Иваном, — никогда и ни с кем? Потому что она любит Ивана, да?
«За что Бог нас всех наказал — любовью?.. Да, кажется, так он сказал… Странный человек этот его отец… Странно так смотрит на меня… Не притворяйся перед самою собой, Мария, он смотрит на тебя так потому, что он хочет, он желает тебя… Ну и что, меня все желают… Особенно когда я танцую… Я вызываю танцем — желание… Я — всеобщая возлюбленная… Площадная Афродита… Афродита Пандемос… Меня все хотят, и этот мужик, состоящий из одних костей, жил и сухожилий — тоже… Меня волнуют его глаза… Его руки… Почему?.. Потому, что он похож на Ивана?.. Ну да, верней, это Иван похож на него…»
Она крепче обняла сосну. Ее платье прилипло к потекам душистой желтой смолы. Она стала оседать, не выпуская ствол, вниз, на траву, на сосновые иглы. Закрыла глаза. Странная музыка звучала в ее голове. И она не услышала, как сзади зазвучали осторожные, вкрадчивые, как у зверя, шаги, как к ней подошел человек. Она почувствовала только чужие горячие руки на своем затылке, на своей шее. И горячие губы приникли к ее шее. Целовали. Чьи-то зубы укусили в плечо. Шепот обдал кипятком ухо: «Милая, милая… милая!.. Мария…»
Она расцепила руки. Оторвалась от сосны. Попыталась повернуться. Мужчина, обнявший ее, крепко держал ее, не выпускал, прижимая ее спиной к своей груди. Он ничего не говорил. Она тоже молчала. Пылающие губы снова прочертили огненную дорожку поцелуев от ее затылка — по шее — к спине, к оголенному в летнем декольте хребту. Он не поворачивал ее к себе, будто бы не хотел быть узнанным. Что это не Иван, не игры Ивана — она поняла сразу.
— Пустите… кто вы!.. пустите…
Мужская рука просунулась ей под мышку, нащупала грудь. Шепот снова вонзился в ее ухо:
— Я с ума сойду… Никогда еще… ни одну женщину… никогда…
Она все-таки была танцовщица. Она ловко извернулась. Ей удалось проскользнуть под его рукой, вынырнуть из-за его плеча, как если бы она прыгала с вышки в бассейне — и вынырнула, и жадно глядела ввысь, вверх. Снизу вверх — на его лицо.
На миг ей показалось, что это Иван. На один миг.
Это был не Иван. Это был Ким. Его отец.
— И что? — выхрипнул он ей в лицо, схватив ее за запястье, заламывая ей руку за спиной. — Что, кричать будем? Мальчика позовем?.. Зови, зови. Собирай народ. Да только ведь Иван тебе не поверит. Он скажет: шлюха! Это она виновата! И… будет прав…
Ее глаза темно, страшно, как два черных провала, горели в лесных сумерках рядом с его лицом.
— Почему же? — вышептала Мария так же хрипло, — Почему он будет прав? Разве я завлекла тебя? Разве я захотела тебя?! Это ты меня захотел!
— Ты тоже хочешь меня. — Он крепче сжал ее руку. — Ты тоже хочешь меня! Еще и потому, что я — это он! Мы оба… твои! Знаешь, в твоей родной и любимой Испании есть такая старая сказка — женщина ведет на водопой двух быков, черного и синего…
— …и один из них должен быть принесен в жертву у самой воды, да?!.. И его кровь, жертвенная кровь должна стечь в текущую воду, чтобы у этой женщины было счастье… Знаю! — Мария дернула плечом, чтобы сбросить с себя его цепкую руку. Вечерело. Солнце горело красным янтарем лишь на самых верхушках сосен. Внизу, там, где стояли они, уже было темно и сыро, пахло сухой хвоей, маслятами. — Я знаю эту сказку! И что?! Кто-то из вас должен умереть, да?! А я должна достаться тому, кто останется жив?! Как вы все глупы, сволочи! Почему вы мне не даете жить! Пустите меня! Я люблю вашего сына! Не вас! Вы… мне…
Она не успела сказать: «противны». Ким одним властным движением привлек ее к себе. Заглянул прямо в глаза. И, не дав ей опомниться, не давая ей додумать: сейчас вопьется мне в губы губами, и я буду отталкивать его, вырываться, бороться с ним!.. — внезапно опустился перед нею на колени — как она, минуту назад, опускалась на колени перед сосной, обнимая ее.
— Деточка, родная моя… Самое дорогое в мире существо! — Его голос сошел на нет. Она стояла, возвышаясь над ним, коленопреклоненным, и с изумлением глядела на него, воздевшего лицо к ней. — Святая моя! Я не прикоснусь к тебе, если ты этого не захочешь. Я… никогда… Ты понимаешь, никогда!.. Но я не могу без тебя. Я идиот. Я влюбчивый идиот. Влюбчивым идиотам трудно живется на свете. Бабник всегда ищет женщину краше… лучше прежней… но я же не бабник, Мария, пойми, я не Дон Жуан… Я… я занимаюсь страшными вещами… Так все сложилось… Жизнь так сыграла, ха-ха… У меня нехорошая профессия… не дай Бог тебе… — Он на миг умолк. Пожирал ее глазами. У нее все сильнее кружилась голова, и она словно сквозь пелену слышала, что он ей говорит, тяжело дыша, сбиваясь, будто не стоял перед ней на коленях, а бежал, боясь не успеть. — Я слишком много видел плохого… И хорошее тоже — видел… Я — мужик… Понимаешь, я — мужик! А мой сын, хоть он и классный танцор, — хлюпик! Он маменькин… и папенькин сынок! Он — козявка! А мужик, Мария…
Он перевел дух. Задрав голову, он смотрел на нее, как верующие глядят на Мадонну в храме. Мария, что же ты стоишь как вкопанная? Погладь его хотя бы по голове. Улыбнись ему. Дай голодному кусок хлеба. Дай страдальцу кусок хлеба, Мария! Он же ждет! Ты же видишь, он ждет!
— Мужик, Мария, это не козявка. Он не будет хныкать, умолять… просить… ждать… Но он и не насильник, насиловать свою любовь он тоже не будет… Что сделает настоящий мужик, Мария?!.. Ты же испанка… догадайся!..
Он обнимал ее колени. У нее в горле пересохло.
Она не могла не ответить ему правду.
Она эту правду, мужскую, мужицкую, чуяла всей кожей. Эта правда текла и переливалась уже у нее под кожей, как кровь.
— Он… отобьет ее… Он влюбит ее в себя! Заставит полюбить…
— Верно. — Он, не вставая с колен, сжал руками ее руки. — Он победит ее любовь своей любовью.
— Встань…
Это вырвалось у Марии против воли. Зачем она сказала это! Шепнула… Она не смогла понять, как он вскочил, как пружиной подброшенный, как его лицо оказалось снова напротив ее лица. И вместе с последними лучами закатного красного солнца, в мохнатом и благовонном вечернем сосновом бору, он прижался губами к ее губам, и отдающимся и борющимся, и противящимся и влекущим, и открывающимся, как цветок, и возмущенно дрожащим: прочь! Поди прочь!
Он взял ее руку и положил себе между ног. Властно прижал. Не отрывая своих губ от ее губ, расстегнул молнию на джинсах. «Смотри, — говорила его рука ее руке, — какую силу, какое безумие ты выпустила наружу. Какое безумие тебя ждет. Ты мое счастье и мой ужас. А я — ужас твой. И его не умертвить уже. Не убить. Не загнать в кувшин спокойствия и благополучия и не запечатать сургучом. Перед нами — бездна, Мария. Видишь, как я сильно, страшно желаю тебя?!» Ее рука, тоже против воли — или следуя иному, тайному повелению — погладила огромный выступ чужой жизни, сжала, пальцы провели вверх-вниз по раскаленному, будто железному тугому стволу. Жизнь входит в жизнь. Так было всегда.
«Он — его отец, его отец, так нельзя, этого нельзя», — шептали ее губы. Он подался к ней ближе. Рука, прижимавшая ее к себе, осторожно задрала ей юбку, помедлила, будто молча спрашивая: можно? «О, можно, можно, — сказали ее безумные пальцы, говорящие с его плотью на языке огненного молчания. — Еще как можно. Ты же Иван. Только Иван, состарившийся на много лет. На целый век. На вечность. Ты мудрее Ивана, ты сильнее его. И ты будешь любить меня крепче. Вернее. Безусловнее. Ты полюбишь меня навек. А Иван — он любит меня на день, на два. На третий — найдет себе новую красотку. Новую партнершу. И сделает с ней новый танец. Так люби же меня, старый Иван. Люби меня. Видишь, я открываюсь тебе навстречу. Мои врата распахнуты. Не бойся. Люби. Я сошла с ума. Ты тоже сошел с ума. Все люди сумасшедшие в любви. Люби!»
Она тоже подалась вперед, задрала ногу, согнула ее в колене и положила Киму на бедро. Он весь дрожал от несбыточного. Когда-нибудь это должно было сбыться. Вот так, здесь, в лесу? В двух шагах от дачной пирушки? От его сына, смеющегося, пьющего водку за накрытым под соснами столом?.. Со сколькими мужчинами она была в жизни? Он не хотел этого знать. Последним был даже не его сын. Последним был его шеф, Беер. Ну и что. Это было на его глазах. Чудовищно, дико. Но это не меняло дело. Ее месяц не было в Москве, она уезжала отдыхать на море. Какая же она смуглая, как персиковая косточка. И пахнет персиками и вишнями. И немного — апельсинами. Он крепко взял ее за лодыжку, потом за щиколотку, приподнял выше ее ногу, сам слегка присел, направил свой горящий, истекающий живой смолой факел туда, в ее разверстую тьму.
Ее стон. Ее стон сквозь зубы. Похоже, она не ожидала, что он такой большой и раскаленный. Он… обжег ее там… внутри?..
И не успел он вонзиться в нее глубже, глубоко, до самого ее женского дна, он только вошел в нее, разрывая ее там, в невидимой и сладкой тьме, делая ей больно, понимая, что то, что они делают, — больно для всех, преступно и безвыходно, как она забилась на нем, как животное, пораженное на охоте метко брошенным копьем, забилась и закричала на его горячем копье, живая, счастливая, несчастная, радостная, умирающая, — они оба не поняли, что с ними, и оба, схватясь друг за друга, вцепившись друг в друга, содрогались, испытывая в один миг то, что не повторится потом ни с ними, ни с кем другим на всем свете. Ибо дающий любовь — любовь и получает. Берущий любовь — со своею любовью одинокий и остается.
Не ослабевая, он, держа ее, легкую, под мышки, насаживал ее на себя, все двигаясь и двигаясь в ней, и она, теряя сознание, назвала его в сумасшествии страсти: «Иван…»
— Я не Иван, я Ким, — прохрипел он, — Ким, слышишь… И ты — теперь — моя…
Она, закрыв глаза, одною ногой стоя на сухих, гладко скользящих под стопой сосновых иглах, другой — обвив его талию, впустившая его внутрь себя, улыбалась. Потом закусила губу до крови. Слезы заструились по ее щекам. Он понял, почувствовал в наступившей ночной темноте, что она плачет. Слизнул слезы с ее щек. Выдернул себя из нее. Застегнул ширинку. Опустился опять на колени. Нашел губами ее лоно, прижался ртом и языком к вершине перевернутого нежного треугольника, набухшего внезапной, порочной страстью, еще пахнувшего им самим — терпко, горько, соленым морем.
НАДЯ
Красочки… гримы… блестки… гели… Персиковые шампуни, накладные ногти, синяя и зеленая махровая тушь для ресниц — парижская… Духи от Черрути… Духи от Фенди… А эта помада, просто так бы живьем и ел ее, очаровательная помадка, цвета спелой сливы, она так идет к ее губам… И к моим?!.. И к твоим тоже…
«Ах, девочка Надя, чего тебе надо?.. Ничего не надо, кроме шоколада…»
Ах, девочка Надя, так что же тебе в самом деле надо? У тебя прекрасная служба. Масса провинциалок мечтают о таком месте. И масса москвичек. А ты? Архангелогородочка, как там на Севере погодочка?.. Давно ли ты с Севера дикого сюда, в столицу, ломанулась?.. И неплохо, надо отметить, ломанулась, особо удачно… Хорошие курсы визажистов закончила… И платила, надо сказать, не так дорого… Мамушкины, бабушкины денежки, за всю жизнь скопленные, за иконой в красном углу в избе спрятанные, — за полгода растрясла… А они там, бабенки-то ее северные, шепчутся, плачут, крестятся-молятся: у, наша девонька, наша свечечка, в Москве устроилась, лишь бы счастьице нашла, никаких денежек не жаль, все, все отдадим, душу положим…
Как это бабушка шептала, молясь? «Душу положить за други своя»?.. За кого она душу положит?.. За друга?.. Ну да, за друга… Друг милый, друг сердечный…
Друг сердечный спит с другой. Друг сердечный и не подозревает, что он любим больше жизни. Друг сердечный — слишком высоко летит, он орел поднебесный, яркая звезда, знаменитость, а ты ему кто? А ты козявка на капустном листе, гусеница-закорючка, шавка подзаборная. Он тебя в упор не видит. Ты же хотела из-за него броситься под поезд, Надюша, дура. Под электричку. Возле платформы Левобережная, где ты снимаешь комнатенку. Возле дубовой рощи, что осенью становится такой пронзительно, щемяще золотой.
Вот так, красочки мои, помадочки. Вот так, милые. Ну и что, что он на меня и не смотрит! И не посмотрит никогда! Хозяйка, конечно, красотка. Куда мне до нее. Зеркало отражает меня, уродку. Несчастную птицу с длинным кривым носом. Несчастную козу с кривой козлиной мордой, со скошенной вбок козьей улыбкой, и кажется, вот-вот я заблею перед зеркалом: «Бэ-э-э-э». Маманя, я тебя не виню, что ты меня такую родила. Ты ж сама раньше все твердила мне: «С лица воду не пить, Наденька! Не родись красивой, а родись счастливой! Ты будешь счастливой, дочушка, вот увидишь, будешь…» Жду-пожду, а счастья все нет и нет. Москва все съела, поглотила. Я думала: Москва — это счастье. Кто здесь живет — уже и счастлив. А когда пожила здесь — ух, нажилась!.. Намыкалась… С этой чернявой испанкой, танцоркой — мне повезло…
Тебе не повезло с ней, Надька. Ты же ненавидишь ее. Ненавидишь. Когда-нибудь ты убьешь ее. Ты не выдержишь.
Или лучше — уйти? Убежать? Рассчитаться?
И потерять место, да… Такое хорошее место…
Не место. Нет. Возможность видеть его. Друга сердечного. Ее сердечного друга. Этого… хлыща… нахала… гада… Иоанна. Господина Метелицу. Красавца Ваньку. Хотя бы раз в день. Хотя бы раз в неделю. Раз в месяц — когда он в своей шикарной машине заезжает за ней, черной испанской вороной, ее хозяйкой, чтобы везти ее на концерт.
Однажды он подарил тебе духи, Надька. Такие хорошие французские духи. «Черрути 1881» — было написано на коробочке. Очень маленькая коробочка, и духи, наверное, подумала ты тогда, на вес золота. Интересно, продаются на вес золота индийские слоны? Ты тогда еще, тупая деревенщина, не знала, что в таких крошечных флакончиках продаются пробные духи. Так называемые «пробники». Чтобы попробовать: подойдет тебе этот запах или не подойдет.
«Осторожно, двери закрываются! Следующая станция Ховрино!»
Ого, Ховрино. Скоро мой Левый берег. Я живу на Левобережной рядом с Домом художника. Беспокойный домишко. Все девять этажей ночью гудят. До пяти, до шести утра. Свет горит, гитара брякает, песни доносятся, пьяные вопли и выкрики; на балконы выбегают художники, их жены, их натурщицы, их чада и домочадцы, то хохочут во все горло, то матерятся, то бутылки со звоном вниз бросают, то зимой, в Новый год, елку, всю в горящих свечах, на балкон выволокут и любуются. Что, если бы кто-нибудь из пьяных художников написал мой портрет? Я лучше убьюсь насмерть, с девятого этажа брошусь. Нарисуют уродину — для страху, что ли? Кому уродина нужна? В какой музей? В музей уродов, что ли?
А может, такой музей на свете и вправду есть? Смех смехом…
Нет, я не уродина. Я ничего себе выгляжу, если подкрашусь. Если подмалююсь так, как я — подмалевываю — ее… Ее, Марию Альваровну, черную галку, жердь худую… Не бреши, она не жердь, у нее классная фигурка, все у нее на месте, и бедра, и попка, и грудь… и нос… и губы…
Ерунда все! Я просто успокаиваю себя. Никакая краска не изменит длинный нос и кривой рот. Бледные, как у чахоточной больной, щеки еще можно подмазать румянами. Бесцветные глаза увеличить, притемнить тенями. Козявочный росточек — подправить высокими, как ходули, каблуками, толстыми «платформами». Но чем ты подправишь всю себя?! Всю себя, испорченный, комом, первый блин?!
Первый — и последний… У твоей маменьки ведь больше не было детей там, в деревне под Архангельском, никого не было, кроме тебя… Тебя-то с трудом выродила… Они с бабкой в тебе — души не чают… Ты для них — красивее всех… Они и не подозревают, как ты бьешь, колотишь себя в грудь перед зеркалом, как яростно щиплешь веснушки на скулах, на лбу, на носу…
Кап, кап — две слезы — на кожаную сумку. Крепче держи сумку, когда носишь, к животу, к груди прижимай, у бедра не мотай. Сейчас ловко крадут денежки, вмиг кошельки вынимают, а сумочку чик — и разрежут, оглянуться не успеешь. И плакала твоя зарплата месячная тогда. И в Архангельск матери ты уж тогда ничего не пошлешь, ни копейки. Получать баксы от этой красивой танцующей собаки и менять их, кусая кривые губы, на рубли — на Ленинградском вокзале, на Ярославском, в тесных смешных, как мышеловки, обменных окошках! Разрежут сумку… разрежут… крепче держи…
Разрезать бы ей лицо, сволочи. Все в кровь порезать. Кухонным ножом, тесаком. А потом — тем же тесаком — под ребро.
«Осторожно, двери закрываются! Следующая платформа Левобережная!.. Граждане, просим вас соблюдать в вагонах чистоту и порядок!.. Торговля с рук в вагонах электропоездов категорически запрещена!.. Налагается штраф в размере…»
Протолкнуться к двери. Народу сегодня битком. Как в праздник. Кто наложит на нее штраф и в каком размере за черные, тяжкие мысли? Скорей домой, в бедняцкую квартирочку, в тесную каморочку. Там пахнет из подвала гнилым и сладким. Там на стене висит архангельская северная икона красно-зелено-золотого новгородского письма, что с собою в Москву дала ей бабка. Надо встать на колени перед иконой и помолиться. Одинокие люди должны молиться. Одинокие девушки не должны торчать возле гостиницы «Интурист» на Тверской, вылавливая себе любовь на одну ночь. Ну и что, что у них больше баксов, чем у нее? Зато у нее — честно заработанные. Богоматерь на иконе нежно улыбается ей, а глаза у нее плачут. Красный хитон горит, как костер. Младенец на ее руках, весь в золотых пеленах, с лицом старика, поднимает два коричневых пальчика вверх, пронзает ее глазами навылет, как двумя пулями. А она все мелко крестится, бормочет молитвы, какие знает, а потом плачет, трясясь плечами, уткнув лицо в маленькие, как рыбки, ладони. Визажистка знаменитой танцовщицы Марии Виторес ночами плачет перед старой северной иконой, как круглая дура, потому что любит безответно того, с кем Мария летает по свету, как большой золотой махаон, гребя деньги лопатой в подол. Все врут сериалы. Богатые не плачут. Плачут только бедные несчастные уродки. Зачем тебе чужая земля, Надька? Вали-ка ты отсюда на свой Север. Он тебя и согреет, ледяной родной Север, и приютит.
АРКАДИЙ БЕЕР
Они с Метелицей через неделю летели в Японию. Это было хорошо. Это было мне на руку. Я и не думал, что Мария, с ее капризным характером, с ее комплексом знаменитой танцовщицы — «публика у ног моих, а ты, муравей, кто такой?!» — с ее сильно развитой испанской гордыней, так быстро сломается и переделается в Школе моего старика, Рудольфа фон Беера. Отлично иметь в руководителях тайной, однако известной в определенных кругах шпионской Школы в Буэнос-Айресе собственного родного дядюшку! Рудольф звонил мне, пока она была там. Рудольф сообщал: бесподобная девочка, все схватывает на лету. А уж фотографирует документы при прохождении теста на быстроту в логове врага — просто идеально. Не подкопаешься. Старик сказал мне: мы запирали ее в подвале, где в шкафах были спрятаны документы, дали в руки микрофотоаппарат, приказали: снимай, что успеешь, через десять минут здесь будут люди. Если не выполнишь задание — отправим тебя на заведомо опасную работу завтра же, в такую яму, откуда живой не выберешься, ну да, это припугивание, но действует безотказно. «Она отсняла все документы, Арк! — кричал мне старик. — Понимаешь, все! За десять минут! Успела найти! И успела спрятать! Когда шаги инструкторов уже раздавались на лестнице в подвал, она уже стояла у шкафов, улыбаясь, и держала в руке тряпку — вроде как пыль протереть, имитируя горничную, и под перчаткой в одной руке у нее была отснятая пленка, в другой — фотоаппарат! Это было фантастично, Арк! Я никогда не видывал в моей Школе ничего подобного!» — «Она же танцовщица, дядюшка, — сказал я ему как можно спокойнее. — Она безумно ловкая. У нее каждое движение на сцене рассчитано. Думаю, мы с тобой не промахнулись. Мы воспитали классный кадр. За такую девочку могут много дать на шпионском рынке. Но мы с тобой ее не продадим, верно?»
Достаточно того, что я сам ее купил. Станкевич заломил цену. Я никогда не стоял за ценой, если речь шла о моем будущем.
Старик фон Беер, ты и не подозреваешь, на какие дела я, твой племянник, буду отправлять ее.
Мария, Мария, Мария. Орудие в моих руках. Орудие смерти.
Смерть нынче продается и покупается на рынке, как и все остальное. Я продаю смерть. Я продаю ее тем, кто ее покупает. Моя смерть дорого стоит. Вот тут я никогда не продешевлю. И для того, чтобы родить безупречную, точную, верную смерть, мне нужен верный, точный, безупречный человек. Исполнитель. Виртуоз. Танцовщик, который никогда не ошибается. Всегда ступает на ту половицу дощатой сцены, что приведет его к взрыву аплодисментов в конце.
К взрыву. К новому взрыву.
Мой человек, которого я дорого продам, чтобы он сделал новый взрыв в ожидающем новых взрывов мире, — у меня в руках. Прелестная женщина. Как она билась подо мной на полу! А эти двое сидели и жрали. И пили. Какое самообладание у Метелицы. Я же видел — Мария ему нравится. Пусть он не заливает мне про свою белокурую жену. Не хотеть Марию невозможно. Она сама никогда не поддастся смерти. Она никогда не проколется. Ее никогда не поймают. Если такую исполнительницу поймают — она запросто проглотит ампулу с цианистым калием, и не охнет. Но она не даст себя поймать. Она слишком хочет жить. Что такое она бормотала мне о ребенке? В ее глазах так ясно, отчаянно было написано: ребенок, ребенок, хочу родить ребенка, и ради этого буду жить и пахать на вас, сволочи. У нее умер ребенок? Бедная молодая мама. Ничего, родит другого взамен. Лет через десять. Когда наработается на меня всласть. Когда я с лихвой верну деньги, что отдал за нее Станкевичу — и заработаю на ней, на ее ловких ручках, быстрых ножках и умной головушке столько, сколько и не снилось никому в подлунном мире.
Никому!
Как все просто. Как я все просто и гениально придумал! Одна-единственная красивая девочка, и больше никого. Никого! За подобный артистизм полагается и награда, да. Ну ничего. Я вознагражу ее. Собой, ха-ха.
Я успею ей надоесть, пока она работает на меня. Она будит во мне зверя. Ее ненависть возбуждает меня. Ненависть, сопротивление. Я же боец, я должен побеждать. За это мне никто не платит денег, я сам себе плачу. Наслаждение — лучшая плата за битву.
Был солнечный день, и на Москву, как золотой корабль, издалека, с севера, парусами далеких холодных туч наплывала осень. Еще было жарко, я расстегнул воротник рубашки. Отпил немного апельсинового сока из бокала. Рассеянно взял в руки большой апельсин из блюда с фруктами, поиграл им, как мячом. Я делал вид, будто мне делать нечего, нечем заняться, но это все был блеф. С минуты на минуту я ждал взрыва дел. И он не замедлил воспоследовать.
Хлопнула дверь. Мой бодигард, стоявший у двери, вздрогнул и подтянулся, пожирая глазами вошедшего.
— Здравствуй, Станкевич.
— Здравствуй, Аркадий. Отлично выглядишь.
Ее продюсер сделал шаг ко мне, протянул руку. Я не встал из-за стола. Продолжал держать апельсин в руке. Другую руку протянул Родиону.
— Летят в Японию?
Какое лисье, осторожное пожатие у этого мерзавца. И жирная, потная противная рука.
— Да, летят, Аркадий. Еще как летят.
Он пожирал меня глазами. Он наверняка хотел от меня узнать, дам я ей первое задание в Токио или нет. Сейчас, держи карман шире, жирный. Теперь она моя. И более ничья. Но если только ты, собака…
— Если только ты, собака, навяжешь ей на шею свои собственные заморочки, берегись, Родион. Не суйся к ней с разной своей мелкой чепухой. Тебе мало было того, что в Монреале тебя чуть не застукали? Ребята Сакса оперативно сняли на пленочку этих твоих двоих, которым она передавала твои материалы. Они едва успели передать пакет по назначению, но сами не успели спастись, их взяли. Хорошо, она успела уйти. Выскользнула из поля зрения вовремя. А эти…
Я сплюнул в пепельницу. Поиграл апельсином. Станкевич, тряхнув студенистыми подбородками, мертвыми белесыми глазами глядел на апельсин.
— Что с ними?
— С кем, приятель?
— С Майклом и Плюгавым.
— А что ты думаешь, с ними могло произойти? Убрали, конечно.
— Их убили… сразу?..
Его толстая отвратительная морда вся страдальчески наморщилась.
— Не очень. Потрясли, разумеется, а вдруг бы что вытрясли. Кроме пленки, не смогли вытрясти ничего. По причине присутствия большого мужества и сильного героизма. Не выдали цепочку. А цепочка у тебя в Канаде, видимо, большая. Длинная. Звеном больше, звеном меньше — какая тебе разница?
Я видел, как он из поросячье-розового стал мучнисто-бледным.
— Ты, как ты можешь… Плюгавый… Я же с ним… начинал…
— Начать и кончить, как говаривал мой немецкий дядюшка Рудольф когда-то, — я поднес апельсин к носу и с наслаждением вдохнул острый запах апельсиновой шкурки. — Ждешь, что я тебе о Марии скажу? Я тебе о ней не скажу ничего. Ты сам о ней все знаешь. Но если ты только сунешься к ней…
Я улыбнулся Станкевичу, показав все зубы. Он опустил глаза и передернул под пиджаком плечами. Пиджачок от Версаче, и последней модели, надо отметить. Жирняй всегда любил прибарахлиться.
— А весело быть продюсером?
Внезапность моего вопроса слегка ошеломила его.
— Не совсем. Бывает утомительно. Я закурю? — Толстые пальцы, дрожа, нашарили в кармане золотой портсигар, вынули сигарету, поднесли зажигалку. Дым обволок физиономию толстого Будды. Да, он все больше походил на жирное японское божество, на щекастую богиню смеха Даруму, да вот только не смеялся почему-то. — Я ведь с тебе с просьбой пришел, Аркаша. Не откажи.
Я не любил, когда меня просили. Я не страдал царской болезнью. Любая просьба меня настораживала. Нажав ногтями на шкурку, я стал чистить апельсин. Терпко запахло спиртом, уходящим летом. Станкевич уставился на мои пальцы, на апельсин. Выпустил клок серого дыма, блеснул в кривой улыбке золотым зубом.
— Слушаю тебя внимательно, приятель.
— Аркадий, не в службу а в дружбу, ты не поможешь мне… — Он сглотнул. — Ты мне не поможешь убрать с дороги одного лишнего человечка? Мешает мне очень эта фигура. Работает под бизнесмена, совместные предприятия, совместные банки, туда-сюда… двойное гражданство у мужика… делишками вертит, как волчками… все в руках горит… искусно скрывается… а на деле…
Он замолчал. Я, очищая апельсин, просвечивал его взглядом.
— На деле, договаривай, на российские спецслужбы работает?
— Видишь ли, Аркадий, ты и сам знаешь — у нас с Испанией непростые отношения именно сейчас, из-за наших олигархов, что там подчистую земли скупили… И на севере, и на юге… На юге, на море — в особенности… И Утинский, и Бойцовский… И этот… Козаченко… И Прайс… И теперь еще Адамович… Куча магнатов… Спасаются в Испании, что ли?.. будто бы Испания — спасательный плот в бурю, в штормягу… и правда, хорошая страна, безопасная, теплая… Ужасы Франко давно забыты… Никаких тебе военных капричос… Жизнь — дешевая… не как в соседней Франции, где все втридорога… климат идеальный… И правительство смотрит сквозь пальцы на то, что русская мафия в Испании оседает, как накипь на стенках чайника… Денежки-то везде одинаково пахнут, Арк!..
— И что ты хочешь этим мне сказать? — Я разломил надвое очищенный апельсин. Мне в лицо брызнул кисло-сладкий сок, я отер ладонью щеку. Протянул ему половинку апельсина. Он взял ее жестом автомата, робота.
— Я не знаю, на кого он работает, Аркадий. Честное слово, не знаю! Но то, что мои люди в Испании прокалываются и попадаются один за другим, это факт! И я, представь, устал от этого! И когда я вышел на него, на этого типа…
Сок. Какой сладкий сок у этого золотого фрукта. Я втянул сок губами. Так я втягивал ее губы, когда я брал ее тут, на полу, на глазах у почтеннейшей публики. Я сказал Станкевичу глазами: ешь, что же ты не жрешь такую вкуснятину, чудак? И он закусил дольку. И у него сок потек по подбородку.
— Ты заподозрил его и захотел его убрать, это понятно. У тебя что, своих людей нет под рукой, чтобы его убрать? Или они запрашивают слишком высокую цену?
Станкевич слизнул языком сок с губы. Затолкал в рот всю половинку апельсина. Я терпеливо ждал, пока он прожует.
— Видишь ли, Аркадий…
Я молчал. Рассматривал золотой перстень с печаткой у себя на безымянном пальце.
— Видишь ли… он… я узнал…
Теперь замолк он. Я видел — ему отчего-то было трудно говорить. Жмотина, явно скупится дать хорошему киллеру хорошую сумму. Меткий стрелок должен оплачиваться, дурак! Иначе меткий стрелок запросто уходит к другому. Как женщина.
— Он живет в Севилье? В Бильбао? В Гранаде? В Малаге? В Мадриде?
— В Мадриде.
— Что тебя смущает, Станкевич? Что ты мнешься, как красная девица? Денег нет? Так я дам тебе. Одолжу. — Я ухмыльнулся. — Пусть твои люди немного поработают, не мои. Они ведь у тебя тоже не безрукие и не слепые, правда?
Сильно пахло съеденным апельсином. Сильно пахло жареным с кухни — повара готовили курицу с чесноком по тайскому рецепту. Сильно пахло по-восточному терпким табаком Станкевича.
— Правда.
— Не прячь глаза!
Он поднял жалкое, жирное лицо. Вымученно улыбнулся.
— Вся штука в том, что этого испанского козла зовут Альваро Виторес.
Мы помолчали оба. Я осознавал сказанное. В дверь всунулась кудрявая головка веселой горничной, она прощебетала умильно:
— Аркадий Вольфович, кушать сейчас будете или попозже?..
— Валяй! — крикнул я ей. — Валяй, все на стол мечи! Отпразднуем будущую жертву. — Я остро глянул на Станкевича, снова подносящего сигарету ко рту трясущейся рукой. Я не понимал, как такой слабонервный парень может быть и шумно-рекламным продюсером, и главой преступной группировки. — Тебя смущает, что это отец Марии? Может быть, они просто однофамильцы?
— Нет. Я узнал. Родной отец.
— Не дрейфь, старик. — Я подмигнул ему. — Я пошлю на дело одного из своих лучших ребят. Кима Метелицу пошлю. Он бьет без промаха. Еще ни разу не прокололся. И ни разу не был взят или подбит. Уходит классически, не оставляя следов. Никто никогда ничего не узнает. ФСБ будет слабо его взять. И испанской полиции. И Интерполу — тоже. Даже если бы Интерпол весь, насквозь, состоял из мастеров кунг-фу и айкидо. И из монгольских стрелков из лука, что попадают в глаз тарбагана на расстоянии шестидесяти шагов. Метелица, кстати, не был в Испании. А чтобы ему не скучно там было, такому ловкому парню, в такую жару, там в начале осени самая жара стоит, я ему туда для развлекаловки красивую девочку пошлю. Вот Марию и пошлю, она давненько, как я понимаю, дома не была.
— Марию?
Я наслаждался открытым от изумления ртом Станкевича. Его округлившимися глазами. Его хриплым, одышливым дыханием.
— Галочка, скажи, чтобы еще апельсинов принесли! — крикнул я в открытую дверь гостиной.
— Как… Марию?.. Одну?..
— Зачем же одну, старик. С Иваном в паре. Великий Иоанн и великая Виторес — снова в Испании! Сумасшедшие концерты! Сногшибательное шоу! Последний писк Марии и Иоанна — пламенная ола на сцене Мадридской Оперы! Они танцуют абсолютно нагими! Новый Эрос в искусстве танца! Народ валом валит! Цены на билеты поднимешь до умопомрачения! Небывалый аншлаг!
Сигарета дрожала в зубах Родиона. Золотой портсигар дрожал в его пальцах-сардельках. Горничная в высоко поднятых руках, ослепительно улыбаясь, внесла в гостиную блюдо с апельсинами. Поставила перед нами. Я потрепал ее по румяной щечке. Ущипнул за грудь под кружевными оборками фартука. Сунул ей за корсаж апельсин. Она убежала, обдав меня всего улыбкой, свеженькая, хорошенькая. Безотказная. Она всегда, Галочка, могла утешить меня. Даже когда я этого не просил. И я хорошо ей платил за ее веселую службу.
— Они полетят вместе? В Испанию? С выступлениями?
— Вместе. В Испанию. С выступлениями. Ты правильно понял.
— Это ты делаешь для того, чтобы…
— Чтобы дочь могла оплакать и похоронить своего отца.
— Нет! Ложь! Для того, чтобы твой Метелица… это отец Ваньки, я так понял?!.. подразвлекся с Машкой, да?!..
— Не без этого. Мужчина есть мужчина. По-моему, он к ней неровно дышит.
— Они полетят туда вместо Японии? Это невозможно! С Японией уже все подписано! Ты подведешь меня под монастырь!
— Не вместо Японии. После Японии. После того, как они завершат триумфальное турне по Стране восходящего солнца. Мы же не можем лишать японцев такого шикарного праздника, верно?
Я взял с блюда апельсин и кинул ему, как мяч. Он растерянно, неловко поймал его. Прижал к белому пиджаку. Он всегда испытывал слабость к белому цвету.
— Значит, они полетят в Мадрид все трое?
На Станкевича жалко было смотреть. Я вынул сигарету из его золотого, идиотски роскошного портсигара.
— Все трое, старик. Святое семейство, картина Мурильо. Бессмертное полотно Сурбарана. Сурбаран отнюдь не был бараном, в отличие от тебя.
Я подмигнул ему и выпустил дым ему в лицо. Мне нечем было замаслить едкую остроту. Галочка еще не подала испанского оливкового масла к столу, к курице с чесноком.
* * *
Они собирались в Японию как сумасшедшие. Мария все кидала в сумки и чемоданы, как безумная: и это взять, и это взять, еще и это! Она забылась на миг. Ей показалось: Школа приснилась ей. Кошмарный сон, один из жутких снов, что не забываются, но и не помнятся особо. Сон, который ты отодвигаешь вглубь себя, далеко внутрь, под сердце, в реберную клетку, и никогда не выпускаешь наружу. Она забылась, бегала по квартире, была весела, схватила трубку, набрала испанский номер отца: «Папа, мы с Ванькой летим в Японию! Да, в Токио! Да, еще никогда не были! Папочка, что тебе из Японии привезти?.. Морскую ракушку?.. Морского ежа?.. Я привезу тебе старинный японский веер!.. Ты будешь обмахивать маму!..»
«Мара, ну зачем так много вещей… Ты совершенно не можешь жить просто! Нам не нужно тащить с собой столько барахла!» Иван недовольно морщился. Она все бросала и бросала тряпки в сумки. Он выхватил сумку у нее из рук, стал вываливать все платья на пол. «К черту твои наряды! Во всех ты, душенька, нарядах хороша! А без нарядов — еще лучше! Маха моя, маха… обнаженная?.. или еще нет?!..» Играя, бесясь, он повалил ее на диван. Стал целовать. Она отворачивала лицо, хохотала, укусила его за ухо, как волчонок. Потом отвернулась всерьез, уткнулась лицом в подушку. Отчего-то помрачнела, как туча. Он, чтобы утешить ее, потрафить ей, опять запихнул все тряпки в сумки: видишь, я сделал все по-твоему, только не дуйся! Она лежала лицом вниз в диванных подушках, без движения, молчала.
«Он не знает, что я изменила ему. Не знает. Не знает! Я подлая. Я плохая. Я несчастная. Я — влюблена в его отца?! Его отец великолепный любовник?! Или как?! Нет, нет, нет… Все не то… Я — люблю — Ивана?! Или…»
Он щекотал ее шею шарфом. Потом зло сплюнул, вскочил с дивана.
«Ты, Мара, капризная кошка! Все-то тебе не так! Быстро собирайся! Через час такси в Шереметьево! Что тебе, неможется, что ли? Таблетку съешь? Успокоительную…» Она резко повернулась к нему. Он никогда не видел у нее таких яростных, широко распахнутых глаз.
«Уйди!»
«Куда я уйду? Тебе собраться надо! Я-то уже собран! Мне-то что! Пару плавок, трико, джинсы, концертные костюмы — и делу конец!»
Она смотрела на него, как на призрак. Конец, конец, делу венец. По-русски «конец» — мужское ругательное слово. Дворовое, заборное слово… подзаборное. Мария провела ладонями по лицу. Когда она отняла руки от лица, глаза у нее снова были мягкие, нежно-влажные, и она снова весело улыбалась. Будто сняла с себя руками накипь мрака.
«Ты прав. Конец близок! Вперед! Труба зовет!»
В раскрытые сумки снова полетели шмотки. И они оба вздрогнули, когда резко, будто взорвался, заиграл бодрый военный марш ее мобильный телефон, небрежно брошенный под ворохом платьев на диване.
Она ринулась к трубке. Схватила ее. «Алло! Алло! Виторес у телефона!» Она всегда говорила по-европейски — «Виторес у телефона», «Виторес слушает».
Иван изумленно смотрел на нее. Она сильно побледнела. Впилась в трубку пальцами так, что кожа возле ногтей посинела. Застыла с полуоткрытым ртом. Замерла.
«Что, Мара, что с тобой!.. Что случилось!..»
«Да. Хорошо», — мертвенно-равнодушным голосом сказала она в трубку.
МАРИЯ
— Алло! Виторес у телефона! — сказала я бодро в дырки трубки. До такси только час, а еще надо собраться и поесть, ухитриться перекусить, ну не в аэропорту же мы будем перекусывать, дома полно еды! Не забыть сказать Наде, чтобы последила за холодильником, разморозила его, я не успела… И сказать, чтобы чем-нибудь вкусненьким тут полакомилась, осетровой астраханской икрой, например, трепангами…
— Агент V25? Слушайте внимательно. Завтра утром вы высадитесь в аэропорту Токио. У стойки регистрации билетов вас будет ждать агент Каро. Он одет в белый костюм и в соломенную шляпу, два передних золотых резца, темно-синие очки «макнамара». Он передаст вам сверток. Вы должны будете, по приезде в Токио, выйти из вашей машины, спуститься в ближайшую станцию метро и положить этот сверток так, чтобы никто его не заметил. Потом уходите как можно быстрее. Как можно быстрее, вы поняли меня? Вы слышите меня? Отвечайте!
Я вцепилась в телефон. Иван смотрел на меня, как на помешанную. Должно быть, я сильно изменилась в лице. Усилием воли я взяла себя в руки. Выдохнула в трубку:
— Да. Хорошо.
Далеко, на том свете, загудели гудки отбоя. Я слушала их, как слушают симфонию. Как слушают последние гитарные аккорды вихревой, трагической хоты.
Иван вынул трубку у меня из рук. Положил на подушку. Вышитая мамой испанская подушечка, на черном шелке — огромная махровая, пышная роза с золотой сердцевиной. Женщина — роза. Она раскрыта навстречу мужчине.
Мария, ты сука. Ты обычная сучка. Ты сучка, задравшая хвост перед первым попавшимся кобелем. Твой Иван и не подозревает, какая же ты грязная сучка. Ты — роза?! И он же никогда не бросит в тебя камень, никогда, никогда. И не сорвет тебя, и не изомнет, и не растопчет.
— Мара, что стряслось? Что с тобой? Кто это звонил?
Как он старается говорить спокойно. Как ему хочется, чтобы у меня все было хорошо. Он боится. Чего он боится? Что меня уведут у него из-под носа? Что я заболею? Умру? И гастроли отменятся?
Он больше всего на свете любит свои шоу, Мария. Он любит выступления. Он любит свои гастроли. Почему — свои? А потому, что ты для него — всего лишь его партнерша. Его талантливая, гениальная, красивая, милая, удобная, техничная партнерша. С которой так удобно и радостно спать. С которой так весело ездить по свету. Сколько сторон света вы уже объездили?! А ему все хочется ездить и ездить. Потому что он в силе. Он — в славе. Он — зарабатывает деньги. Он зарабатывает деньги тобой, Мария. Тобой! Твоим гибким, сильным, звериным, бесподобным в танце телом! Он хочет, чтобы вы — вдвоем — всегда торговали танцем! И больше он ничего не хочет! Он не хочет ребенка от тебя! Ты же так просишь его о ребенке всегда! Ты умоляешь его… ты…
— Это? — Я проглотила слюну. — Это… Лола.
— Кто такая Лола? — Его голос посуровел.
— Гадалка.
— А, эта… Реклама которой повсюду висит в метро? Такая… цыганка?.. в монистах…
— Да. Она.
— И что она от тебя хочет? Почему ты с лица спала?
— Что значит… по-русски… «спала»?
— Вся белая стала. Как мука. Что эта Лола, черт ее задери, тебе такого сказанула?!
— Не ори на меня. Она сказала мне… что… чтобы я берегла себя в Токио. Потому что… ну… она же ясновидящая… она… видела меня во сне…
— Договаривай!
— Мертвую.
— Фу, какая чушь. — Иван шумно выдохнул и пожал плечами. Недоверчиво, искоса глянул на меня. Кажется, он мне не особенно поверил. — И это все?
— Это все. Лола врать не будет. Лола слишком меня любит. Мы подруги.
— Когда это вы успели подружиться?
— С каких это пор ты меня ревнуешь к женщине?
Я вскочила с дивана. Растерянно оглядела россыпи цветных тряпок. И это все мои тряпки, с ужасом подумала я. И это все накручивает, наверчивает на себя женщина, чтобы быть модной, красивой, загадочной, обворожительной, чтобы нравиться мужчине и публике, чтобы танцевать на сцене. Сверток! Какой-то чертов сверток я должна буду сунуть под лавку или кинуть на рельсы под поезд в токийском метро. Что это значит, Мария? Не строй из себя круглую дуру. Это значит, что в этом свертке — смерть. В этом свертке — смерть, Мария! И пусть тебе никто ничего не говорит! Смерть!
— Я убью тебя, Арк. Я попрошу Кима. Я убью…
— Что ты бормочешь, Мара?! Что ты бормочешь?!
Я схватила с кресла черный севильский халат, расшитый желтыми и алыми розами, и уткнула в него пылающее лицо.
— Прости меня, Ванечка, родной. Черт знает что я бормочу. Я так расстроилась. Я так верю ее видениям. То, что она видит, всегда сбывается. Я так не хочу умереть, Ванечка. — Я рванулась к нему, чуть не упала, зацепившись ногой за чемодан. Он подхватил меня, сел в кресло со мной на руках, как с ребенком, я сидела у него на коленях и прижималась головой к его груди. Сухие, бесслезные рыдания сотрясали меня. Я поняла, что я выполню задание. Исполню приказ. Я поняла, что это за задание. Я слишком поздно поняла, кто такой Аркадий и его свита. — Я не хочу умирать. О, я не хочу!.. я…
Я подняла к нему горящее, как головешка, лицо. Он взял мое лицо в руки, как цветок. Как розу. В его глазах я прочитала жалость, недоверие, любопытство, тревогу. А любовь? Любовь я прочитала в его глазах или нет?
— Я хочу, чтобы мы родили ребенка, Ванечка, — задыхаясь, сказала я. — Давай купим домик где-нибудь в Пиренеях… хочешь, на Майорке… хочешь, в горах над Сухуми… где хочешь!.. И родим ребенка, Ваня, ребенка… Я так хочу ребенка от тебя… Я так хочу — мальчика… Отличного, крепкого мальчугана, хулигана, танцора… похожего как две капли воды на тебя… Ваня! Я хочу родить! Я женщина! Ты же понимаешь, я же женщина! Я же… Ну как ты не понимаешь!
Настоящие, предательски-теплые слезы полились у меня по щекам, по шее, скатывались на голую грудь в вырезе сарафана. Иван вытер мне мокрое лицо ладонью.
— Пятнадцать минут до прихода такси, — сказал теперь он мертвым, бесцветным голосом. — Ты ради ребенка бросила бы танцевать, Мара? Бросила бы свое фламенко? Наше фламенко?
— Я устала гореть на костре! — крикнула я сквозь рыдания. Он грубо оттолкнул меня от себя.
— А от поклонников ты не устала?! Кто такой этот Арк, которого ты хочешь убить?! И при чем тут мой отец?!
* * *
Самолет, огромный, чудовищный, страшный зверь. Как любого зверя, тебя надо кормить. Тебя кормят горючим, адским топливом. Заливают горючее в баки, и ты урчишь, наслаждаешься, развиваешь скорость, рыгаешь и плюешься огнем. Ты пробегаешь в широком небе немыслимые расстояния — их не пробегает ни ветер, ни облака. Люди в твоем брюхе одолевают пространство вместе с тобой. Но ты устаешь. Брюхо твое тощает. И иной раз ты даже не можешь выпустить свои когти, чтобы впиться ими в бетон посадочной дорожки. Свои шасси. И тебя пилоты, сходя с ума от ужаса и напряжения воли, сажают на брюхо, и ты так звереешь от голода и бессилия, что ломаешься пополам, истекаешь кровью, и огонь вырывается вон из твоего нутра, пожирая и тебя, и все твои кишки, и несчастных, орущих людей в твоем железном чреве.
Сколько часов они летели до Токио? Она не помнила. На нее волнами накатывал страх. Она сидела, выпрямившись, в кресле, не касаясь спиной спинки кресла, словно в нее вместо хребта вставили стальной стержень. Стюардесса приносила еду и питье на подносе — она качала головой: не надо, спасибо. Ей приносили плед, укутать ноги: холодно же в салоне, вы простудитесь! — она слабо улыбалась, прикладывала палец ко рту: о, спасибо, не надо. Когда стюардесса прикатила на тележке крепкие напитки в плоских широких бокалах — ром, коньяк, — Мария глядела мимо хорошенькой девушки, за штору иллюминатора, во тьму, в пространство. Стюардесса, наклонившись, решив позабавиться с красивой, слишком грустной пассажиркой, всунула ей в пальцы бокал коньяка. Мария вздрогнула. Заглянула в бокал. Поднесла к носу. Вдохнула запах спирта, медового винограда.
— Попробуйте, — улыбаясь, нежненько прозвенела голоском стюардесса, — это один из лучших коньяков мира, испанский «Гвадалквивир».
Она вздрогнула снова. Испанский?.. О, она обязательно попробует. Стюардесса ускользнула по проходу между креслами, катя перед собой изящную тележку. Мария сделала глоток. Сгусток пламени покатился по горлу, обдал глотку жаром, потом подпалил сердце, оно вспыхнуло и взорвалось. Она закрыла глаза. Закусила губу. Она положит сверток в токийском метро, и люди взорвутся. И она получит за это деньги. А если она этого не сделает? Если она этого не сделает — ей пустят пулю в лоб. И она никогда уже не родит ребенка. Никогда.
Ты платишь за одного своего ребенка жизнями других, сказала она себе, и это слишком большая плата, тебе не кажется? Она надела наушники. В наушниках играла тихая, успокаивающая музыка. Когда их самолет будет падать, музыка будет играть все такая же тихая и нежная, умиротворяющая. Так устроен мир. Музыке все равно, живешь ты или умираешь. Музыка всегда жива, и всегда одна.
А ведь Иван не знает, чем занимается его отец. Не знает. И она об этом узнала случайно. У Аркадия. Не узнала — догадалась. А потом, тогда, там, в лесу в Старой Купавне, Ким сам проболтался.
Если убийство нынче становится профессией — почему бы и ей не принять участие в диком карнавале? Страшная пляска, Марита. Почище зажигательной арагонской хоты. О, тебя хоту учила танцевать старая Хосефа Гранадос! Старая Пепа знала толк в хоте. Она танцевала хоту по всем правилам. Она выходила во двор их дома в Сан-Доминго в короткой и пышной, до колен, юбочке, голени ее были охвачены красными чулками, перевязанными крест-накрест черными подвязками, на ногах у нее были черные матерчатые туфельки, кружева нижних юбок, густо-розовые, взвивал сухой жаркий ветер; старая Пепа, с лицом таким морщинистым, что оно гляделось ржавой от старости абрикосовой корой, и с серьгами в ушах такими огромными, что они напоминали золотые тыквы, с бубном в руках, таким же старым, как она сама, выходила, горделиво на середину двора, поднимала руки с бубном вверх — и, размахнувшись, ударяла сморщенной ладонью в бубен, а тут и вступал, вскинув голову, ее седой петух, ее муженек Пакито, он сильно ударял пальцами о гитарные струны, и пошло-поехало, гитара уже исторгала эти зажигательные, трехдольные взлеты, взмахи, всплески, взвивы; и старая Пепа, наклонив шею и встряхивая бубном, уже ударяла ногой об ногу, как молодая, а Пакито, стоя поодаль, играл все рьянее, все настойчивей, будто хотел оборвать все струны, переломить гитару надвое — сколько же в нем было огня, в старике! — а Пепа уже шла по кругу двора, и мать Марии, Мария-Луиса, уже хлопала в ладоши и щелкала пальцами, и вскрикивала: «Оле!», подбадривая танцовщицу; и уже не разглядеть было коричневого измятого лица старой Пепы — она была снова молодой и горячей, и еще ни одного ребенка не родилось у нее, и еще ни одного из них не убили на войне, и еще смоляные косы были у нее, а грудь высокая, будто два круглых жарких апельсиновых шара было спрятано там, под черным арагонским платьем. «Оле! Оле!» — кричала маленькая Марита и тоже хлопала в ладоши. И, не выдержав, выбегала на середину двора, к Пепе — танцевать вместе с ней. И танцевала, подняв смешные маленькие ручки над головой, притопывая ножонками точно как Пепа. И Пакито бил по гитарным струнам, гортанно восклицая: «Хота-а-а-а!»
Этот скорпион Беер заполучил в убийцы танцорку. Танцорка, ты должна станцевать ему танец. Такую хоту, какую он никогда в жизни не видел. И не увидит.
Под ней, далеко внизу, летела, плыла, синела в тумане Япония. Древняя страна, дальние острова. Сколько стран они уже с Иваном перевидали? Почему у Родиона была такая мелово-белая рожа, когда он сажал их в самолет? Он же всегда такой розовый поросеночек. Есть повод пугаться? Повод бояться есть всегда. Христос учил бедных людей не бояться. Боящиеся, говорила ей мать, это значит неверующие; они только притворяются, что они верят, а страх ест их изнутри, и они будут гореть в аду вместе с магами, волхвами, преступниками, чародеями, гадальщиками, разбойниками, ворами, прелюбодеями и убийцами. Лолочка, подруга, и ты будешь гореть в аду тоже, Лолочка? Ты же такая красивая, такая бойкая и умная. Ты же видишь будущее. Ах да, будущее запрещено видеть. Плохая ты христианка, Мария. Ты бы хотела увидеть свое будущее.
А что, если будущего у тебя — нет?
Самолет стал снижаться, терять высоту. Проваливался в воздушные ямы. Снова взмывал вверх. Мария вцепилась в ручки самолетного кресла. Рядом безмятежно, задрав подбородок, спал Иван. Он был, как всегда, в отличной танцевальной форме. На него не действовало ничего. Ни ее слезы и рыдания. Ни ругань и матерки Станкевича. Ни бесконечные перелеты из страны в страну. Ни смена часовых поясов и дат. Ни изнурительные репетиции. Он никогда не болел, не ныл, не хныкал, не капризничал. Он всегда улыбался. Он всегда был подобран, как хищный зверь для прыжка. Он всегда был двужильный. А сейчас он просто спал, похрапывал, наслаждаясь полетом, как наслаждался бы хорошим вином, и бисеринки пота выступили у него на висках.
О, как же он похож на испанца, подумала Мария обреченно. Никогда бы не подумала, что он русский. Кто были его предки? Все мы состоим из плоти и крови своих предков. Только души у нас всех разные. Русский испанец, великий Иоанн, с врожденным блеском танцующий фламенко, разве тебе не видится во сне, что я тебе изменила? Что я изменила тебе — с твоим отцом?
Тишина. Какая провальная, мертвая тишина.
Не бойся, Мария, это закладывает уши. Самолет круто идет вниз.
Ей хотелось крикнуть: сейчас мы разобьемся! — и она сдержалась, сцепила крепче зубы, и так впилась пальцами в ручки кресла, будто попугай когтями — в решетку клетки. Самолет, как же я боюсь тебя! Как ненавижу тебя! Я когда-нибудь разобьюсь, это точно, подумала она с ужасом, борясь с подступившей к горлу тошнотой. Огромная железная машина быстро, пугающе стремительно скользила вниз, к земле, и земля приближалась неотвратимо, как судьба.
«Судьба. Моя судьба. Зачем я поймана, как птица? Я же вольная бегунья. И у меня сильные и длинные ноги. И я танцую хоту так же хорошо, как танцевала ее когда-то старая Пепа во дворе в Сан-Доминго. Быстрей, самолет! Или уж падай и разбивайся к чертям, или садись! Пусть мы останемся живы! Боже! Дай нам…»
Она зажмурилась. Стюардесса пропела: пристегните ремни, мы приземляемся в аэропорту столицы Японии Токио, просьба к пассажирам — не курить… Иван открыл глаза, когда самолет так наклонился носом вперед, что маленький раскосый мальчик рядом с ним чуть не вывалился из кресла, даром что был пристегнут ремнем. Ребенок закричал, заплакал, Мария вздрогнула, встрепенулась. Иван, сощурившись, брезгливо глянул на восточного мальца.
— Ишь, как орет-то! Боится…
Мария смотрела в лицо Ивану. Зачем он так глядит на ребенка? Так… презрительно…
«Он никогда не захочет ребенка от тебя, — вдруг подумалось ей беспощадно и жестоко. — Никогда. Несмотря на то, что он желает и хочет тебя. Но это же не любовь, Мара. Это — опьянение мужчины — женщиной. Только и всего. А любовь — это когда мужчина хочет от тебя ребенка. Когда он спит и видит вашего общего ребенка, придумывает ему имя, шепчет тебе, обнимая тебя: я хочу, чтобы у него были твои глаза… твоя улыбка… Он же не любит тебя, Марита! Он любит только твое тело! И твой танец! И деньги, что ты ему приносишь!»
Самолет выпустил шасси, и весь железный корпус сильно тряхануло. Навстречу уже бежала бетонная посадочная полоса. Зубы Марии застучали друг об дружку. Она плотно сжала губы. Японский ребенок в кресле рядом с Иваном по-прежнему громко плакал, и она, через торчащие колени Ивана, перегнулась к нему, приголубила его, погладила по голове.
— Не плачь, маленький, не плачь…
Мальчик, плача, косыми черными глазками исподлобья глядел на тетю, говорящую на непонятном языке.
«Сколько раскосых мальчиков и девочек я погублю сегодня в метро? Десять? Сто? Что я делаю? Зачем я таким оригинальным образом схожу с ума? Ведь это опасно, Мария, так жить, ты же просто сойдешь с ума, ведь это же так просто». Она закусила губу. Ребенок, под ее ласково скользящей рукой, перестал плакать, заблестел смоляными узенькими глазенками, умильно, как котенок, глядел на нее. Отчего дети и звери всегда так похожи? Ребенок, ребенок. Это был мальчик. У нее тоже был мальчик. Врачи сказали ей. Врачи сожалели: малышка сама, что ей, четырнадцать лет, не удержала. Матка инфантильная еще, слабая. Франчо, это был твой сын. Ты помнишь меня, Франчо? Ты забыл меня. У тебя было таких девушек еще тысяча, миллион. Мужчина летит над женщинами, как коршун. А женщина затаилась, распластала по земле крылья и ждет.
— Токио, — сказала она тихо, повернувшись к Ивану. — Ваня, Токио. Ты здесь бывал?
— Да. — Он широко, как лев, зевнул. — Не так давно.
— Еще до меня?
— Еще до тебя. Мы же всего год вместе.
— Год?..
Ее это потрясло. Год? Всего год? Это очень мало. Жалкий год, как это мало. А кажется — они прожили жизнь. Прожили? Разве теперь все в прошедшем времени? Да, в прошедшем. После того вечера в сосновом бору.
Самолет разворачивался, круглил, нырял носом вперед, ворчал, утихал, останавливался — и наконец остановился. Раскосый мальчонка улыбнулся Марии, обнажив смешные беззубые десны. Она улыбнулась ему в ответ и чуть не заплакала. Иван отстегнул ремень, поднялся с кресла, разминая усталые мышцы.
— После такого перелета только и попрыгать у станка. Ты знаешь о том, что Родион снял здесь для нас один из лучших репетиционных залов?
Когда они сходили по трапу, он сбегал по ступенькам первым, впереди нее, и он не обернулся, не подал ей руки. Небо над Японией было ясным, летним, жарким, хоть уже начиналась осень. Дни поминовения погибших в Хиросиме уже прошли.
«Теперь нужно как-то отколоться от Ивана, чтобы… Регистрационная стойка, ну да, вон она… И кто-то в белом костюме, да, действительно стоит там… в темных очках… Почему они все, как в дешевых фильмах, — в темных очках?.. Иван отчего-то странно, подозрительно смотрит на меня. Или мне это кажется? Я скажу… Я скажу ему…»
Мария поднялась на цыпочки — якобы рассмотреть цифры на электронных аэропортовских часах. Обернулась к Ивану. Лицо ее расцвело лихорадочным румянцем.
— О, японское время, Ваня! — Губы ее растянулись в улыбке манекена. — Япония — страна суперэлектроники, лучшие в мире компьютеры, отсюда, судя по всему, и начнется Третья Мировая, ее японские компьютеры начнут, ты не находишь?.. По-местному — уже десять вечера, ай-яй-яй, мы успеваем в Токио в метро?
— Зачем нам метро? Мы доедем в отель прямо на такси. Здесь шоферы понимают по-английски, успокойся.
Из румяной она сделалась серой. Улыбка с лица не сошла, как приклеенная.
— О, правда? Это очень удобно. А где наш отель?
Иван произнес название улицы по-японски. Она пожала плечами.
— Ты знаешь, где это?
— Знаю. Я останавливался именно там, когда гастролировал здесь с трио «Электрик». Я сам водителю дорогу покажу. Дорожки тут классные, увидишь! Туннели тридцатого века… Подземные города, подземные автострады! Роскошь техники и дизайна! Так что не волнуйся, котик…
— Я не котик. Я Мария Виторес!
Он вскинулся.
— Что я такого сказал тебе! Что ты окрысилась?!
— Я не крыса! Я Мария Виторес!
— Ого, гордыня в нас вон как заиграла…
На ее глаза набежали настоящие слезы. Настоящее, гордое испанское бешенство вскипело в груди. А кто-то холодный, издевательский, внутри нее отмечал ехидно: «Так, так. Вот так, хорошо. Верно все делаешь. Развязанная ссора. Ты убегаешь. Вроде бы в туалет, поплакать. Но на ходу кидаешь: езжай сам в свою пятизвездочную „Плазу“, я на такси и сама доберусь! Я тоже знаю английский!»
Мария, прижимая к себе сумку, шатнулась вбок. Отбежала от Метелицы на два шага. Он стоял весь бледный. Она могла бы поклясться, что в его глазах вспыхнула ненависть.
— Я тоже знаю английский! — крикнула она Ивану. — Провались ты со своими котами и крысами! Отстань от меня! Я… сама доеду!
И она побежала, побежала от него, зигзагами, криво-косо, сначала петляя по огромному залу аэропорта, потом, увидев указатели «WC», — на них, как лодка идет на створный знак. Сумка через плечо, где паспорт и деньги, знание английского, вот весь ее багаж. Все чемоданы возьмет Иван. Пусть думает, что она поссорилась с ним. Пусть думает все что угодно.
Она влетела в надушенный, чистый как операционная, блестяще-кафельно-мраморный туалет, пахнущий лавандой и розами, хорошим мылом и отчего-то немного шоколадом, заперлась в кабинке, прислушалась к своему неистово бьющемуся сердцу. Ей стало страшно. Там, у стойки, ее ждет человек по имени Каро. Самолет из Москвы прилетел давно, он давно ждет. Смотрит на часы. Девушки с черными, заколотыми на затылке волосами, в ярком, черно-желтом, по японской моде, платье нет как нет. Сверток жжет ему руки. Или — карман брюк?
Надо отсидеться здесь пять минут, спустить воду и вылезти. Надо взять у этого Каро сверток и выкинуть его в первый попавшийся канализационный люк.
И потом — получить пулю в лоб даже не в Москве. Прямо здесь, в Токио. От того же Каро. Каро — явно человек Аркадия. Или тех, кто в Токио непосредственно связан с Аркадием. Японцы хладнокровны, они с ясной головой и холодным сердцем совершают и убийство и самоубийство. На Востоке другая психология смерти. Что ты знаешь о смерти, девочка? Только то, что твой ребенок умер, не дождавшись рожденья?
«Девять месяцев. Девять месяцев внутри мрака, тьмы. Серебряной тьмы. Девять месяцев маленький человек живет в красной теплой соленой тьме, и ему там сладко, сладко. Он зреет, как плод, переворачивается в утробе. Он поет песни и сосет палец, и слушает музыку, и плачет, если печалится. Он грезит. Ему кажется — он не родится никогда. И наступает рождение. Страх. Боль. Ужас. Красные огни. Красные водопады. Красные взрывы. Все взрывается вокруг, рвется с хрустом, обрушиваются потоки огня, воды, жестокого яркого света. Голову сдавливает обруч смыкающейся и раздвигающейся пещеры. Человека насильно выталкивают из теплой родной темноты. Из сладкого красного молока и киселя, в которых он купался. Молочные реки… кисельные берега… Девять месяцев. Сколько было моему мальчику? Четыре? Пять? Сколько ему оставалось дожить там, во мне? А если я выйду из туалетной кабинки, а меня застрелят в упор? Или из винтовки с оптическим прицелом — в зале аэропорта? За то, что я вовремя не подола к Каро и не взяла у него…»
Она осторожно, как мышкующая лиса, вышла из кабинки, огляделась. Никого. Дверь хлопнула. Она прижала к себе сумку. Маленькая грациозная японка, смешно семеня вывернутыми ножками в стучащих по мрамору гэта, в темно-лиловом шелковом кимоно с огромным красным бантом на спине, похожая на японскую куклу, процокала в свободную кабинку, мельком глянув на Марию и на всякий случай вежливо кивнув ей, незнакомой. Японцы вежливый народ. Они и с незнакомцем учтиво поздороваются. А владыку на торжественной аудиенции, если надо, самурайским мечом без страха поразят.
Мария, с колотящимся сердцем, пошла, потом побежала быстро, стремглав. Иван, судя по всему, плюнул и уехал в отель один. Скорей. Скорей, а то этот очкастый Каро уйдет! Уже ушел!
Она летела как на крыльях. «Ты так спешишь, чтобы взять у него из рук смерть?..» Он стоял и ждал ее. Восточные люди терпеливы. Восточные люди понимают: с девушкой могло стать плохо в дороге, она могла быть в медицинской комнате аэропорта, могла просто посидеть на скамье на свежем воздухе, поглядеть в широкое небо. Не все хорошо переносят перелет.
Темно-синие очки впечатались в нее двумя темными печатями.
Она протянула руки, чтобы взять то, что он принес. Старалась на него не смотреть.
— Посмотрите на меня, — услышала она тихий, твердый голос. — Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Я хочу видеть ваши глаза.
Лицо против лица, обнаженные глаза — против задраенных темными стеклами, закрытых. Человек по имени Каро взял ее за руку, и она не отстранилась. Он глядел на нее из-под темных очков, а из его руки в ее руку в это время незаметно перетекла смерть.
— В сумочку, — услышала она снова его английскую тихую речь. — Положите в сумку, закройте на замок. Вы поедете с вашим спутником? На такси?
— Я поеду одна. — Она не видела его глаз, и ее это тревожило.
— Вот как. В таком случае выходите сейчас из аэропорта, идите прямо к стоянке такси. Подождите меня десять минут. Я ждал вас дольше. Я выйду следом. Я на машине. Вы поедете со мной. Дорогой побеседуем. Быстро.
Он улыбнулся ей. Она по смуглоте скуластого лица, по низкому росту — он был ниже ее — поняла, что он японец. Английский его выговор был безупречен. Она повернулась, пошла к стеклянным сияющим дверям выхода. Самолеты гудели, садились, взлетали. Она вышла на улицу, и ей в лицо ударил, чуть не сшибив ее с ног, теплый, будто с моря, сильный, как мужчина, вечерний ветер. Она поймала его губами, и ей показалось, что он соленый.
«Ким, Ким. И — Иван! Ким, красавец, наемный убийца. Много ты убил людей? Я сейчас убью их больше, чем ты убивал по заказу всю свою жизнь. Я последняя дрянь, Ким. Помнишь ту сосну? Ты вынимал иголки у меня из прически. Моя коса растрепалась, и в ней застряли хвоинки, листья, жучки. А над соснами горели звезды, помнишь? Сильный, красивый, страшный, ибо ты отправляешь народ за деньги на тот свет, безумно влюбленный в меня Ким. Ты потерял голову, правда? Так же, как твой сын потерял ее когда-то. Но твой сын ее быстро нашел. Нет, нет, Иван все так же любит меня! Он растерзает любого, кто посягнет на меня. Ким, а если он узнает? Он убьет тебя, Ким? Или ты убьешь его?! Ким, ты убиваешь людей, как тореро убивает быков на арене. Ты тореро, Ким. Ты ослепительный тореро. Я сошью тебе короткую куртку для корриды из блестящего белого шелка и разошью ее золотой нитью. Я сошью тебе роскошный костюм для убийства, Ким! Ты будешь ездить в нем на убийство! На дело… Любое дело надо делать артистично, так говорил мне отец… Мир помешан на убийстве. Разве только сейчас? Разве это не мы, испанцы, выдумали мрачную, великолепную, страшную корриду?! Праздник смерти. У смерти тоже бывает праздник. Красивый праздник. Отметим праздник смерти вместе, Ким?! Черные трико, золотом расшитая куртка, окровавленный нож в руке. И поверженный бык рядом, и его мертвый сливовый глаз с выкаченным белком синеет страшно и тяжело. И тебе больше не опасны его острые выгнутые рога. Иван, ты рогат! А разве ты мой муж, Иван?! Разве я давала тебе слово? Обручилась с тобой? Ким! Ким! Кто будет твоим быком, Ким?! Кого ты пронзишь навахой, ударишь в загривок — или полоснешь по горлу, под подбородком, там, где течет мощная кровеносная жила, как красная река?!»
Японец тронул ее за локоть. Ветер развевал ее волосы.
— Вот и я. Идите, прошу вас, к той машине, красной, направо.
«И „мицубиси“ красная, как кровь». Мария распахнула дверцу. Мужчина стронул машину с места. Она пошла свободно и плавно, как по маслу. Какие дороги! Асфальт глаже зеркала. Тридцатый век, сказал Иван?
Навстречу им понеслись огни, огни, огни. Ночная автострада завораживала своим бесконечным ленточным бегом. Огни вспыхивали, когда они въезжали под землю и долго, долго, целую вечность, ехали под землей, потом внезапно вырывались на волю, под яркие разноцветные фонари, под звезды, в перекрестья и развилки свивающихся и развивающихся дорожных серпантинов. У Марии слегка закружилась голова. Она поднесла руку ко лбу.
— Вам плохо?
Мужчина не сбавил скорости. Он вел машину так, как если бы он был первоклассный пилот и вел самолет.
— Простите, — она попыталась улыбнуться. — Вы слишком быстро едете. Я не привыкла ездить в машине с такой бешеной скоростью.
— Здесь хорошие дороги, не бойтесь. И потом, я летчик. Я знаю, что такое вести машину. Любую. Наземную или воздушную. У меня есть и яхта. Вы красивая. Если бы у нас с вами было время, я бы покатал вас на яхте по морю. У меня отличная яхта в Иокогамском порту. У нас нет времени. Ни у вас, ни у меня. Вы танцовщица?
— Да. — Она снова попыталась улыбнуться. — Вам сказали?
— Мне сказали не очень много. О многом я сам догадался, когда увидел вас.
Она быстро обернула к нему лицо. В ее широко открытых глазах бешено плясали ускользающие, бегущие мимо огни.
— И о чем же вы догадались?
— Зовите меня Каро.
— О чем вы догадались, Каро?
— О том, что нельзя безнаказанно использовать в качестве простого инструмента сильный свежий ветер. Ветер взбунтуется и сам все порушит. Камня на камне не оставит от людских конструкций.
«О чем он? Ах да, он говорит о ветре. Дура, он говорит о тебе! И о тех, кто купил тебя! Да, ты можешь взбунтоваться. А если взбунтуется пространство вокруг тебя?! Если взбунтуется земля, по которой ты идешь?! Воздух, сквозь который ты летишь?! Потому, что ты преступница, а ни земля, ни вода, ни воздух преступника — не носят?! Врешь, еще как носят. Половина человечества — преступники. И что? Живут себе преспокойно. Хлеб жуют. А ты…»
Огни летели мимо. «Мицубиси» пронзала ночную тьму, юрко ныряла в туннели. Мария прикрыла глаза. Под Токио — подземный город? Что же наверху, над землей?.. Он сказал, он летчик. Он ведет машину, как самолет. Они разобьются оба. Какое счастье было бы разбиться с любимым. Кто твой любимый, Мария? Иван? Ким? Ким? Иван?
— Да, я такая. — Она слегка улыбнулась. — Если я останусь завтра жива, приходите завтра на мое шоу. Вы же видели афиши по всему Токио? Мария Виторес, Иоанн…
— Если я останусь завтра жив, я назначаю вам свидание у статуи Будды в Императорском саду. Но я должен завтра умереть.
Он, держа одну руку на руле «мицубиси», другой рукой снял синие очки и повернул к ней лицо. Два узких жестких глаза вылетели сквозь нее, пронзив ее, как две стрелы.
Она глядела непонимающе.
— Умереть? Как?
— Я камикадзе. Я получил задание. Думаю, что те, на кого вы работаете, не осмелятся дать вам задание, что заведомо окончится вашей смертью.
Дорога летела под колеса. Японец нажал кнопку, зазвучала тихая, странная музыка — кто-то дергал, щипал нежные струны, они внезапно взрыдывали, вскрикивали, как от боли, звуки таяли, как льдинки в кулаке. Далекий женский голос запел о несбыточном. Мария смотрела в узкоглазое холодное лицо смертника.
— Вы должны умереть по приказу?
— Я так воспитан. Мои прадеды, деды были самураями, и я тоже самурай. Я самурай и камикадзе. Если я подчиняюсь приказу — я подчиняюсь ему до конца.
— Вы считаете невозможным избегнуть смерти, даже если это возможно?
— Я летчик. Я должен врезаться в чужой самолет. Это будет мое последнее деяние на земле.
Огни слепили ей глаза. Влага невылившихся слез стояла в них.
— Но ведь погибнут люди! Много людей!
— Вы не понимаете одного. Погибают всегда те, кому надлежит погибнуть. Кого небеса вознаграждают быстрым и легким переходом в состояние бардо. Это очень трудно объяснить. Вы ведь христианка?
— Да. Я христианка. Говорите, я постараюсь понять.
— Все просто. Нас сюда поселяют, и нас отсюда берут. Душа вечно странствует, вселяясь каждый раз в новое тело. Ваша душа может вселиться в собаку. Или в царицу. Или в лягушку. Или в убийцу.
— Я и есть убийца, — вырвалось у нее.
— Вы? Вы не убийца. Вы просто маленькая красивая девочка, которая…
Огней становилось все больше. Огромные небоскребы вырастали, как мертвые каменные, стальные пальцы, как вскинутые в отчаянии руки, из-под земли, из дегтярного мрака, прорезаемого молниями фонарей и вспышками реклам. Они въезжали в город. «Иван говорил, в этом городе невозможно бывает дышать, люди ищут автомат, где можно купить, за несколько иен, глоток воздуха, сладкого кислорода. Я задохнусь здесь».
— …которая хочет счастья. Разве нет?
— Да.
— Вы влипли. И вы хотите вырваться. Вырывайтесь, пока не поздно. Если бы я не умирал завтра, я бы отбил вас у всех ваших мужей и любовников и женился бы на вас. Метро, вылезайте.
Мужчина остановил машину резко, Мария чуть не врезалась лбом в стекло. Она открыла дверцу, одной ногой ступила на черный гладкий асфальт, обернулась — и сидящий за рулем положил свою руку на ее руку, лежавшую на спинке обтянутого мягким бархатом кресла.
Миг. Один миг. Молния взгляда. Прощание — молния. И быстрее молнии — бешеный, безумный, торопливый, страшный, последний поцелуй, мужчина ищет губами губы женщины — в последний раз в жизни, женщина выдыхает себя в мужчину, плача, в первый и последний раз, как мать, что дает грудь ребенку — желая, жалея, кормя, благословляя.
— Прощайте… Каро!..
Он задыхался. Она, раздувая ноздри, чувствовала, как от него пахнет сандалом и пряным потом, как от коня.
— Завтра, когда вы будете танцевать, завтра. Я должен сбить самолет завтра, в десять вечера. Над аэропортом. В это же время. — Он посмотрел на машинные часы. Его губы сжались в ниточку. — Ступайте!
Она отбежала от машины. Обернулась. С непроглядно потемневшего, набухшего тучами неба внезапно ринулся вниз, полил дождь. Черный дождь. Черные капли били ее по плечам, по щекам, шлепались вокруг нее на асфальт, разбивались. Дождь — тоже камикадзе. Он падает на землю и разбивается. И не воскресает. Никогда.
— А в кого я превращусь, если умру?! — отчаянно крикнула она, выдергивая из сумки зонт, распахивая его над головой. Зонт рвал у нее из рук ветер. Струи дождя летели косо, несомые ветром, потом рушились отвесно, били в зонт, как в гонг. — В лошадь?! В корову?!
Он высунулся из машины. Враз вымок, весь, до нитки. Их глаза ярко, бешено, слезно блестели в свете ночных токийских фонарей.
— Берегите себя! — крикнул он пронзительно. — Вы превратитесь в царицу! В императрицу! Вы слишком красивы! Прощайте!
МАРИЯ
Я вошла в это метро. В это чужое, непонятное метро. В каждой стране свое метро. Душный, грязный сабвей Нью-Йорка. Скучное, кафельное, как баня, метро Парижа. Сумасшедшая лондонская подземка, где скинхеды убивают, железными цепями по головам, бедных зазевавшихся ниггеров и арабов. Чинное метро Монреаля. Бойкое и веселое метро Сиднея. Метро в Токио было немного странным. Отчего здесь пахло сандалом? Ребятишки курили травку? Верующие возносили молитвы Будде? Я поискала глазами статую Будды в какой-нибудь нише. Не нашла. Что в свертке? Я тоже камикадзе. Сейчас я кину сверток на рельсы, и все взлетит прямиком в небеса, к их ушастому, улыбающемуся глупой улыбкой Будде. Куда мне его кинуть? Быстро, тебе же сказали — быстро.
Я огляделась воровато, повела носом туда-сюда, как зверек. Гурьбой бежали дети. За их спинами болтались ранцы. Куда дети в Токио бегут в поздний час? Половина одиннадцатого, не слишком поздно для столицы. В столице люди ложатся далеко заполночь, не как в провинции. Я склонила голову, послушала. Из сумки не доносилось никакого тиканья. Значит, это не часовой механизм? А что же это такое, если не бомба? Что можно запихать в такой небольшой сверток ужасного, страшного? Тебе же не сказали, что в нем. Может быть, в нем скрытая камера, которая будет отснимать людей, как подопытных кроликов или меченых китов?
Там ужас, Мария. Там ужас, слышишь. Тебе же приказано быстро убираться отсюда, как только ты бросишь ужас в укромное место.
Я снова огляделась. Вот каменный выступ стены, и под стеной — углубление, похожее на выдолбленный арык. Для стока воды?.. Раздумывать было некогда. Дыхание зашлось. Я не сознавала, что делаю. Я быстро вынула сверток из сумки, положила его в нишу под стеной, мгновенно повернулась — и быстро пошла прочь, побежала, полетела, будто за мной гнались. Наверх! Я выбегу на поверхность и возьму такси. Отель, я помню и название отеля, и название улицы. Здесь же все шоферы… понимают… по-английски…
Я пулей вылетела из метро. Тишина. Никакого взрыва. Может, все это мне приснилось?
— Taxi! Taxi, please!..
Машина тормознула передо мной. Косоглазый шофер весело скалился мне.
— О, miss, very beautiful girl! European girl, yea?..
Я рухнула на сиденье. Раскосый парень что-то спрашивал меня. Я не слышала. Слезы уже лились, лились, как этот ливень, черный сплошной дождь, по моему еще живому, белому лицу. Только сейчас я, своими руками, сделала дьявольское дело. Теперь ты всеми своими танцами не оттанцуешь грех! Ты не в царицу превратишься, если здесь помрешь — в жалкую жабу в японском пруду…
— Прыжок лягушки в старый пруд напомнил мне о тишине…
— What? What lady speeks?
Слезы застилали мне лицо горячей прозрачной вуалью, как свадебной фатой. Я думала, я на свадьбе в Испании буду гулять. Иван, прости меня! Иван, может, я коварная, может, я безумная, может, я шлюха! Но я не могу забыть твоего отца! И он ведь меня не может забыть, я знаю это!
Я приехала в отель «Плаза» в двенадцать ночи. Узнала, в каком номере остановился Иван Метелица. «О, знаменитый Метелица?.. пожалуйста, мисс, в четыреста десятом…» Под потолком в отельном номере горел цветной глаз телевизора. Иван, мрачный, напившийся пива, лежал, отвернувшись лицом к стене. Делал вид, что спал. Дверь была открыта — он ждал меня. Да и я ведь не маленькая девочка — нашла же и гостиницу, и номер, и его.
— Хорошо, хоть не водку пил. — Я повертела в руках пустую бутылку из-под пива. На столе стояло еще три бутылки. — Я пью апельсиновый сок, ты пиво. Мы квиты, Ванька. Прости, я погорячилась. Ты душ принимал?
Молчание обрушивалось на меня холодным душем. Со мной не желали разговаривать. Ну и ладно, дуйся, черт с тобой, а я в душ пошла. В теплый, в горячий. Я любила русскую горячую баню и горячий душ. Камикадзе сделал свое дело и остался жив.
Я долго стояла под струями душа, улыбалась себе в зеркале. Слез больше не было. Мне казалось — по мне текут, сползают черные струи, нефтяные, грязные. Я не могла отмыться от грязи — грязью. Сколько денег мне заплатит Беер за японский ужас?
Я вымыла голову персиковым шампунем, намазала лицо кремом, поприседала прямо в ванной — раз-два, раз-два. Косточки размять, так, отлично. Завтра с утра в репетиционный зал. Вы с Иваном завтра танцуете ни больше ни меньше — шоу «Коррида». Родион специально для вас обоих поставил. Как по заказу. Будто знал.
Я, голая, легла рядом с Иваном, продела мокрые руки ему под мышки. Его сердце билось под моей ладонью, как пойманная птица. Я прижалась к нему животом, продела ногу между его ног.
— Мне не нравится это па, — его холодный голос ударился об отельную стену. — Отодвинься.
Я отодвинулась. Закрыла глаза. Через мгновение я упала в черную бездну, откуда может не быть возврата. Будто бы я была вусмерть пьяная, напилась вдоволь «рохи», сладкой малаги, дикого разгульного хересу.
А утром, когда Иван вскочил и включил этот висящий под потолком, как скворечник, телевизор, все новости — и токийские, и мировые — трещали, верещали, кричали, гудели лишь об одном: в токийском метро, на станции, имя которой мне вовек не произнести по-японски, прогремел взрыв, распыливший ядовитый, удушающий газ, и погибло много людей, и выживших еле спасли, и многие находятся в больницах между жизнью и смертью, и… Иван холодно переключал каналы. По всем каналам передавали одно и то же. Он обернулся ко мне. Его губы шевелились, но я не слышала, что он говорит.
— …Ты слышишь или нет?! — донесся до меня наконец, будто издалека, с неба или с гор, его рассерженный, резкий голос. — Ты будешь сегодня танцевать в «Корриде» или нет?! Что ты сидишь как каменная?! Идем на репетицию! Собирайся! Ты умывалась?! Ты взяла из Москвы кипятильник или я опять должен с утра пораньше рыскать по буфетам и добывать тебе твой обожаемый апельсиновый сок?!
Тихо. Было так тихо, как в церкви. Отчего-то мне захотелось сейчас услышать орган. Не православный хор, а тягучий, полновесный, торжественно-горестный орган. И чтобы ветер накатывал с моря. И чтобы волны музыки, разбиваясь о мою слабую грудь, потопили меня, погребли.
Они танцевали «Корриду» в одном из лучших концертных залов Токио. Здание невероятной архитектуры, одновременно и дворец восточного императора, и космически-страшное окно в бездну будущих времен.
Музыку для этого шоу она выбрала сама.
Не классику. Не Бизе. Не Щедрина. Не Альбениса. Не Гранадоса. Не де Фалью.
Она выбрала для «Корриды» бессмертные напевы старого, как подлунный мир, фламенко и канте хондо.
«Я танцовщица фламенко, — сказала она как-то раз Ивану, — ею я и умру».
«И-о-анн! И-о-анн! — скандировал зал. — Ма-ри-я! Ма-ри-я!»
Сцена погружена во мрак. Из мрака свет выхватил стоящие у рампы три фигуры: смуглую стройную молодую женщину в пугающе-ярком платье — черный, туго обтягивающий грудь лиф, ярко-алая, цвета крови, юбка, вся в пышных оборках и воланах, как пион, чуть ниже колен, — затянутого в черное трико смуглого сурового мужчину, брюнета, с гордо откинутой назад головой, с навахой, висящей у пояса, с разбойничьей щетиной на подбородке, и поодаль — великолепного красавца, бойца с быками: короткая куртка расшита золотыми нитями, красные трико не скрывают породистой мужской стати, на лице — улыбка, в кулаке — край слепяще-красной тряпки. Мулета. Красавец-тореро держал в руке мулету. Когда он повернул голову и поглядел на пару, стоявшую перед ним, улыбка с его лица медленно, будто растаял лед, исчезла. Теперь у них у всех были каменные, суровые лица, как на древних иберийских барельефах.
Зарокотали из-за кулис, из-за занавеса гитары, и низкий, тревожащий голос взмыл над залом и темной сценой, хватая за душу. В вышине разгорался свет. Золотой рассвет. Alba. Женщина повернула лицо к Черному, потом откинула руку в сторону и резко отвернулась. Весь ее вид говорил: «Я больше не хочу тебя». Волны света выхватили из тьмы подобие амфитеатра, уступы спускающихся вниз, к арене, рядов. Гитары забили в руках у незримых гитаристов чаще, страстнее. Женщина вскинула руки, развела их в стороны, будто хотела обнять того, кто перед ней. Черный встал на цыпочки, поднял руки над головой, перебирая ногами, пошел, пошел к ней — а она, улыбнувшись, выскользнула из-под его руки и, протянув руки вперед, пошла, танцуя, играя плечами, глазами, руками, всем телом, к тому, что стоял, сжимая в руке мулету, поодаль — к Золотому.
И Золотой встрепенулся. Золотой взмахнул мулетой. Взял мулету в обе руки и повел, повел ею в воздухе перед собой, идя по кругу на арене, будто бы вел красной тряпкой перед носом разъяренного быка.
Ослепительный. Золотой. Гордый. Гордая голова на высоко посаженной крепкой шее. Лицо красивое, с отпечатками лет и былых страстей. Морщины в углах губ. Морщины под глазами. Следы прожитой жизни. Письмена пережитого. Это все видит Женщина — лицо Золотого близко. Морщины замазаны гримом, зал их не видит.
Невидимый бык напал, тореро отбросил алую тряпку вбок. Победительно, празднично взглянул на Женщину. Она, танцуя, все шла к нему, распахнув объятия, шла — прямо на арену, где Золотой сражался с призрачным черным зверем.
Красота любви — сильна и зверина, и жестока, и необъяснима. Разве может быть один мужчина на всю жизнь и одна женщина — на всю жизнь? Ошибаются те, кто думает, что так может быть. Любовь жестока к тому, кого разлюбили. Возвраты к разлюбленным бывают, но редко, и не у людей с горячей кровью. Горячая кровь, ты — проклятье. Как распахнуты мои объятья тому, кто сейчас побеждает тьму!
Женщина подошла к тореро, тяжело дышащему, стоявшему на арене, и одними губами сказала ему: «Ты убийца, но я люблю тебя. А его — больше не люблю». И Золотой улыбнулся, и, не выпуская мулету из руки, на один короткий, слепящий миг сжал Женщину в объятиях и поцеловал. И выпустил. И оттолкнул от себя: иди! Лети! Ты — свободна!
И мгновенно обернулся к летящему на него невидимому быку, и выставил перед собой, меж своею грудью и его острыми рогами, мулету, тонкую тряпку, что не защитит от смерти — ею можно со смертью лишь поиграть, не больше. А Черный там, вдали, оставленный, брошенный, под неумолчный рокот гитар опустил голову в ладони, и плечи его сгорбились, застыли. И музыка рокотала все сильнее, все отчаяннее.
И Женщина, после поцелуя Золотого, внезапного и властного, постояла миг, тоже опустив голову, как и Черный, а потом…
Потом — как с ума сошла. Как взбесилась. Это был танец-боль, танец-вихрь. Это был великий, сумасшедший танец-бред, такое только во сне могло присниться, как она танцевала. Она взбрасывала руки над головой, а ее тело в это время все вибрировало, дрожало, ходило ходуном; она перегибалась, чуть не ломаясь в хребте, назад, выставляя небу груди, обтянутые черным шелком, поднимая юбку за край и бесстыдно обнажая перед зрителями, перед затаившим дыхание залом свои смуглые быстрые ноги; и Золотой метался между ею, зазывающей его страстным танцем, и быком, который незримо носился по арене и готовил рог свой — проткнуть своего убийцу, умертвить, победить. Рог быка — повторенье естества мужчины. Любовь и смерть, как же вы рядом! Ослепительный, великий тореро, Золотой, прекрасный, танцуй, играй со смертью! Все мы играем со смертью. Все мы боимся ее. И только ты один, Золотой, ее не боишься. Потому что ты смел. И потому что для тебя твоя жизнь без твоей Женщины — ничто, пустота, мелкая монета, увядшая роза, что бросают на арену, а потом наступают на нее сапогом.
И гремела, звенела в выси золотым бубном великая, яростная хота. И трое людей, женщина и двое мужчин, самозабвенно танцевали ее, не зная, когда же — конец.
Красная мулета взвивалась. Алые юбки взлетали. Смуглые женские ноги на миг обвивали ноги тореро, обтянутые красным трикотажем. Тонкие женские руки закидывались за шею Золотого. Публика затаила дыхание. Это уже был не танец. Это была сама страсть, выплеснутая наружу, освобожденная от заклятья. Страсть утверждала себя сполна, целиком. Ей было все равно, что о ней скажут, как о ней подумают. Страсть испепеляла все вокруг себя, а сама жадно, неистово хотела жить. И Золотой, взмахнув мулетой последний раз, выбросил вперед руку с невидимым кинжалом, и невидимый бык свалился у его ног, потому что Женщина отступила назад и в ужасе зажала рот рукой, чтобы не закричать.
И Черный, вперившись в них глазами, застыл.
А гитары рокотали победно и празднично, музыка журчала горным ручьем, а потом, как обезумевшая, взорвалась, и огненные обломки музыки полетели по залу, по небу, над головами, сыплясь вниз, обжигая, убивая. И тореро стоял рядом с поверженным быком, протягивая руки к Женщине, и она выбросила вперед плечо, из-за плеча радостно глянула на Золотого — и вошла, вплелась, как алая нить, в эти жаждущие, жадные руки.
И они двое слились, спаялись, стали одним. Их было не различить. Не разорвать. Не разрубить.
И Черный шагнул вперед, и гитарный обвал внезапно утих.
И в полной тишине — было слышно, как бьются сердца — Черный положил руку на плечо Женщине и рванул ее за плечо, пытаясь оторвать от Золотого.
И Золотой схватил ее за руку, взглядом говоря: «Не смей! Ты моя!»
И она поглядела сначала на одного, потом на другого. И они выпустили ее, оба, из своих рук.
И она отошла, босая, в сторону, к горящему пламени рампы. И Черный, как молодой бык, наклонив голову, глядя страшно, темно, исподлобья, пошел за ней, след в след.
И она уперла руки в бока, вскинула голову и прямо поглядела в лицо ему, Черному, а он пожирал глазами ее лицо. Так недавно он еще целовал это лицо. Так недавно они, обнимаясь, играли и смеялись вместе. Пили апельсиновый сок. Чистили апельсин и разламывали его надвое. Пополам. На равные, веселые доли.
И Женщина, выдвинув руку ладонью вперед, покачала головой. И он понял: отойди! Не мешай! Не стой на дороге! Моя дорога — только моя! А не твоя! И ничья!
«Ты любишь его? — спросил он страшным, пламенным взглядом. — Ты любишь его, скажи?!»
И Женщина улыбнулась Черному улыбкой, как две капли воды похожей на улыбку Золотого. И Черный понял: все кончено. Теперь она — зеркало другого. Теперь в ней, как в зеркале, отражается жизнь Золотого. И все она врет про свою дорогу. Про себя, свободную. Женщина всегда принадлежит мужчине. Сначала одному, потом другому. И так всегда. И нет у нее своей дороги. Нет.
«Ты моя!» — крикнул Черный ей глазами. И она подняла, зажав в кулак, как мулету, свою красную пышную юбку и наотмашь хлестнула Черного юбкой, позорно, обидно, оскорбляя. И ударила его в грудь маленьким смуглым кулаком.
И тогда он выхватил из-за пояса наваху.
И гитары ударили, вспыхнули мощно, и огонь дикой музыки охватил их обоих, стоявших слишком, опасно близко друг к другу.
И Золотой не успел понять, как это случилось, ахнуть не успел, ринуться на помощь, как Черный взмахнул кинжалом и ударил Женщину под ребро.
И, вскинув руки, она замерла. Обернула лицо к Черному. Он стоял с кинжалом в руке, дико глядел на нее. А она падала, падала, падала, а потом опять, вскинувшись, поднималась, как подбитая влет птица, поднималась и, подняв руки вверх, к рассветному небу, молилась: дай мне жизнь! Оставь мне жизнь, небо! Я хочу жить! Я так хочу жить!
И, зажимая рану рукой, смотрела на того, кто ударил ножом ее, смеясь: ты не добился ничего, я все равно люблю его, его, Золотого. Я любила тебя! А теперь люблю его! И больше ничего! И ты, жалкий, жестокий, со своей жалкой навахой…
Музыка взвилась алой мулетой. Золотой кинулся вперед. Золотой выхватил свой незримый кинжал и занес его над тем, кто убил его любовь.
И они так стояли друг против друга — Черный и Золотой. Убийца и готовый убить. Братья. Родня — ибо Женщина, падающая на землю, к их ногам, любила и того, и другого.
И она наконец упала на землю, раскинув руки, как для объятья, закинув голову к небу. И ее остановившиеся глаза говорили одному широкому небу: я твоя.
И мужчины, стоявшие друг против друга, выронили из рук кинжалы. Гитары лязгнули, зазвенели — это холодная сталь зазвенела о выжженную землю. Алые юбки Женщины задрались, обнажая загорелые ноги. И оба мужчины, плача, рыдая, опустились на землю рядом с ней, неподвижной, и Черный уткнул лицо в ладони, а Золотой поднял руки над головой, застыв в отчаянии.
И гитары били и били, струны звенели и рокотали, хота летела над залом, и низкий, звучный, хриплый, то тяжело-медовый, то бешено-летящий, легкий как птица в полете, женский голос пел, кричал, шептал за сценой, рядом, близко, о любви, что изначально обречена на земле, о жизни, что мы не прожили еще, и о смерти, которой — нет.
И падал занавес, и ошеломленные люди в зале плакали, вцепившись пальцами в подлокотники кресел, будто бы падал самолет, и они, привязанные к креслам ремнями, вцеплялись в кресла, в локти соседей, оборачивая испуганные лица друг к другу, крича: «Так вот какие вы, жизнь и смерть!» Эти трое станцевали им всем жизнь и смерть, да так, что мороз шел по коже, и хлопать в ладоши и кричать «браво!» и «бис!» не хотелось, казалось святотатством; земля стремительно неслась навстречу, и под крыльями раненой, падающей жизни была только любовь, которую невозможно убить и присвоить.
Занавес опустился. Мария все не вставала с дощатого пола сцены. Иван вскочил. Японец, танцевавший Золотого, тореро, — его сосватал в их шоу Станкевич, раскопал здесь, правда, не в Токио, а в Осаке, в Высшей танцевальной школе Накамуры, — с беспокойством наклонился над ней, лежавшей на сцене навзничь и глядящей в потолок остановившимися глазами. Японец схватил Марию на руки, затряс, залопотал на ломаном русском:
— Просниси!.. Просниси!.. Мария, девуска такой холосий, так холосо танцевать севодни, не нуно!.. Не нуно умираси!.. Не нуно умираси поправда!.. Поправда — не нуно!..
Иван побледнел. Тоже склонился над Марией. Стал бить, хлопать ее по щекам. Закричал:
— Очнись! Очнись, Мара! Ты что! Спятила! Сейчас занавес пойдет! Кланяться надо! Ну!
Ресницы дрогнули. На смуглые щеки медленно взбегала краска.
«Господи, я же должна встать. Встать и кланяться. Я — клоун. Я — вечный фигляр. Танцовщица, как это романтично! Я же всегда хотела танцевать, зачем я обижаю танец… Я станцевала ему — все. И он — понял?! Ни черта он не понял! Я уже столько лет прошу его о ребенке! Я хочу быть с ним! С ним?!.. Хотела…»
— Да, — сказала она хрипло, шепотом. — Да, я сейчас. Ваня, не переживай. Не тряси меня, не бей по щекам, они же не… резиновые… — Она через силу, с трудом приподнялась на руках, обвела затуманенными глазами сцену, декорации амфитеатра, красную тряпку, неряшливо валявшуюся рядом, загородки загона для быков. — Занавес уже пошел… сейчас…
Она оперлась на руки японского танцовщика и Ивана. Сделала шаг вперед, к рампе. Занавес уже стремительно полз вверх. Зал сотрясался от аплодисментов и криков. На миг ей показалось: это все ей только снится, снится. Беснующийся зал. Крики, свисты, платочки в руках, цветы, летящие на сцену. На одно мгновенье вопящий зал показался ей подземельем метро, где кричат, беснуются в ужасе и отчаянии, плачут, рыдают, орут люди, оставшиеся в живых после взрыва ядовитого газа. Она закрыла глаза. Сцена была залита ярким, ослепительным светом. Иван грубо подтолкнул ее в спину:
— Кланяйся!
Она поклонилась, как марионетка. Будто кто за невидимые нитки держал ее, дергал ее руки и ноги, в кромешной тьме и вышине смеялся над ней.
— Куда ты?! Дура! Ты спятила!
— Нет. Я в своем уме. Я в аэропорт.
— Ты что, идиотка?! Ты хочешь улететь?! У нас же турне по Японии! Тур-не, слышишь?! Или ты оглохла?! У нас же завтра еще два выступления в Токио! У нас концерты в Осаке, в Нагасаки, в Иокогаме…
«У меня яхта в Иокогамском порту, прекрасная яхта, я бы пригласил вас, мы бы чудесно провели время на море», — вспомнила она слова того, кто вез ее на своей «мицубиси» в Токио и выбросил, как выловленную из моря рыбу, около станции метро. Она накинула на плечи плащ, стояла перед Иваном, вскинув голову. Вот так же она стояла перед ним час назад, на сцене. Артистическая бурлила восторженным народом. Поклонники рвались получить автограф. Переводчики отталкивали наседающих: «Погодите, погодите! Дайте артистам отдохнуть хоть секунду! Сейчас все ваши просьбы исполнят!» Родион не полетел с ними в этот раз. У Родиона дела в Москве. Он вытаскивает из глубины крупную денежную рыбу. Он врет, что будет финансировать их новый с Иваном проект. А может, и не врет. Ей все равно.
— Ты даже не переоделась! Что все это значит, Мара?! Ты пугаешь меня! То одна убегает из аэропорта, то теперь, опять одна, без меня, бежит обратно в аэропорт! Это, между прочим, не так близко, как тебе кажется! Что случилось?! Ты можешь толком мне сказать?!
— Ничего. — Она плотнее запахнулась в плаще, будто ее знобило. — Я просто хочу туда съездить.
— Какого… — Он чуть не выругался. — Какого дьявола ты туда хочешь! Что тебе там надо?! Апельсинового, мать твою, вечного сока?! Или поглядеть, как вшивые самолетики взлетают и садятся?! А может, — до него что-то стало доходить, — может, у тебя там назначена встреча?! Какая-то важная встреча?! И я ничего не знаю об этом?! А?!
— Ничего у меня там не назначено. — Она повернулась к нему спиной. — Можешь ехать со мной, если ты так хочешь. Просто у меня предчувствие.
— Предчувствие?!
— Я чувствую, мне надо там сейчас быть.
Они взяли такси и вместе поехали в токийский аэропорт.
Едва они успели вылезти из машины, как тут же в воздухе раздался грохот взрыва, и прямо над ними, в ночном небе, вспыхнуло дикое, рвущееся, растущее на глазах вверх и вширь пламя. Мария выскочила из такси, ринулась вперед. Остановилась. Задрала голову. Отовсюду бежали люди, кричали по-японски, по-английски: «Dizyster! Dizyster!» Сильный ветер срывал с голов шапки и шляпки, рвал платки и шарфы с шей. «Катастрофа», — произнесли по-русски ее холодные губы.
Она вздрогнула. Рука Ивана нашла ее руку, сильно, до кости, сжала. Зачем он сжимает ее руку? Хочет ободрить? Хочет попросить прощенья за все последние грубости свои? Он же любит тебя, Мария, любит. Не обижай его. Все мужчины — дети.
А Ким?
Она на миг закрыла глаза. Рука Ивана была теплая, горячая. Он молчал, слава Богу, ни о чем не спрашивал ее. Она поняла, что выкрикнул по-английски, задыхаясь, мужчина, пробежавший мимо: «Он протаранил „Боинг“, это явно диверсия, это террорист! Все приготовлено заранее!» Далеко, у кромки летного поля, кричала и плакала женщина. Женщина от века кричат и плачут над покойниками.
Кричать. Плакать. Оплакивать. Ее сын. Ее маленький, нерожденный сын. Ее мертвый мальчик. Никогда она не увидит его. Не услышит. Не обнимет, как всех своих мужчин. Никогда.
Она может только сплясать в его честь прекрасную пламенную хоту.
Японец, суровый безымянный камикадзе. Тебе приказали — ты сгорел. Вспыхнул и растворился в огромном, черном безумном космосе. И вместе с тобой вспыхнули и сгорели люди. Что чувствует человек в момент взрыва? Может быть, он даже не осознает, что с ним происходит? Ведь это доли, доли секунды, Мария… А человек, когда рождается и умирает в родах, не успевает осознать кровью своею, что происходит с ним, отчего кончается, не вспыхнув, его крохотная жизнь? А в любви? Что человек осознает в любви, кроме своего задыханья и своего горя, внезапно становящегося счастьем? А в танце?
Камикадзе. Она тоже — камикадзе. Она тоже вспыхнет и сгорит. Это ее удел.
Любить… Родить… Кто завербовал ее?.. Кто обрек ее на постоянный черный ужас… Зачем…
— Мария, — услышала она у своего уха внезапно ставший нежным, просительным голос Ивана, — Мара, Марита, Машенька моя, ну что ты стоишь тут, пойдем-ка в вокзал, погреемся… холодно же тут…
Она повернулась. Благодарно поглядела на него. Улыбнулась ему. Его щеки вспыхнули от ее улыбки.
Ветер рвал полы одежд. Люди бежали. Кричали.
Машины подъезжали, сирены взвывали, гудели, огни метались в слепой ночи.
Он ни о чем, ни о чем так и не спросил ее.
А потом было триумфальное турне по Японии — такое же триумфальное, как всегда у них, в любой стране их ждал триумф, так всегда у них было. Они выступили в Осаке, показывали сначала «Корриду» — и пленили зрителей, потом шоу «Альборада» — и приворожили их, потом показали «Аутодафе» — и вконец потрясли публику. Знаменитый кукольный театр в Осаке специально для них, как бы в подарок им, бесплатно показал спектакль театра кабуки. В Нагасаки их привели на чайную церемонию к родне древней японской императорской семьи, на знаменитую тя-но-ю. Мария, поджав под себя ноги, сидела на красном мягком ковре, ей подносили чай в пиале, свежие ягоды в маленьком фарфоровом блюдце, и на, смеясь, пыталась благодарить по-японски, сложив руки лодочкой и прижимая их к груди. Когда они приехали в Иокогаму, перед Марией во всю ширь распахнулось море. Сейчас, осенью, оно было густо-синее, темно-изумрудно-бирюзовое, под легким бризом идущее мелкой, как чешуя, рябью; оно переваливалось, словно бы перекатывалось с боку на бок, повторяя выгибы и впадины земли, дышало и двигалось, как огромный чудовищный зверь, и Мария, присев на корточки перед водой, улыбнулась морю, как зверю, протянула руку и коснулась кончиками пальцев воды. «Еще теплая, Иван, дай я искупаюсь!» — упрашивающе сказала она, но он покачал головой, безмолвно говоря: еще чего, простудишься, закашляешь, отменятся концерты, что я буду делать, неустойку Родиону платить? В Иокогаме их принимали особенно восторженно. Цветы летели на сцену дождем. Газеты пестрели статьями о них. «Лучшая танцевальная пара мира» — так назвали их в глянцевом иокогамском VIP-журнале, поместив на обложке и на первой странице их фото — Мария обнимает за талию Ивана, Иван ослепительно улыбается, глядя вбок, в пространство. Почему не глядя на Марию? Потому что мужчина и должен глядеть вверх, вперед, в пространство, а не на свою женщину, ведь он же не юбочник, не маменькин сынок и не подкаблучник, он свободен и смел, он думает всегда широко, на много времени опережая нынешний день. После выступлений их просили подписывать журналы с их фотографиями, и у Марии онемела рука от раздачи автографов. Она трясла ею в воздухе, сгибала, разгибала, хохотала.
А вечером шла в иокогамский порт, бродила вдоль молов, пирсов и причалов, глядела на океанские лайнеры, горделивые, белые, ширококрылые, пристававшие и отчаливавшие, призывно гудящие, дымящие гигантскими трубами, и ее глаза неосознанно, напряженно искали в туманной сизой морской дымке яхту. Его яхту. Яхту камикадзе. Быть может, она еще стояла здесь, привязанная к причалу мощной цепью, ее еще не отвязали, не конфисковали, не передали безутешной родне. Если родня не знала, кто он такой — а скорей всего, не подозревала, — то семье сообщили просто: погиб в авиакатастрофе. Только и всего.
Густо-синяя вода накатывала на гранит парапетов, на уходящие вдаль, в ночную ультрамариновую тьму, причальные пирсы, торчащие, как белые пальцы. Мария ловила ноздрями соленый морской ветер. Над головой шумели реликтовые, длинноиглые иокогамские сосны. Здесь, в Иокогаме, на море, в думах о погибшем летчике, Мария поняла, какая серьезная игра — жизнь. Серьезная? Но всего лишь игра. И надо суметь виртуозно сыграть ее. Роскошно станцевать. И если она сможет артистично обмануть тех, кто купил ее, присвоил, и сумеет забеременеть и родит, играючи, и сумеет выиграть у тех, у кого не выигрывал никто и никогда, — значит, она не зря будет жить на свете.
От кого ты хочешь забеременеть, Мария? От Ивана? От Кима? От Кима? От Ивана?
Отец и сын. Сын и отец.
Лицо Кима всплывало перед нею из тьмы. Она вздрагивала. Море перекатывало перед ней свое могучее соленое тело, вздрагивало синей нервной шкурой. Ким взял ее не насильно. Он взял ее потому, что она сама этого пожелала. В них течет одна кровь, в Киме и в Иване. Они оба любят ее. А она? Кого любит она?
На миг в ней промелькнула синей молнией мысль: «Я вернусь в Москву и убью Беера». Беер не снабдил ее оружием. Боялся. Ее отлично научили стрелять там, в Школе. Старый генерал сам ставил ей руку. Глазомер у нее был хороший. На учебной стрельбе она отличалась, выбивала двадцать очков из двадцати. Она попросит пистолет у Кима и придет к Бееру. «Врешь сама себе, ты не сможешь убить его, ты его не убьешь, а просто попугаешь. Ну и что? Он прикажет своим охранникам, и те придавят тебя, пугальщицу, как козявку». Она знала об одном: долго она у Беера не выдержит. Она сама себя убьет. Здесь, в Японии, отлично владеют этим искусством. Она пока не сможет сделать себе ни харакири, ни сеппуку. Но если ее обучат — сможет.
К черту харакири. К черту сеппуку. Под пронизывающим морским ночным ветром она просовывала руку под плащ, клала себе на живот. Прислушивалась. Тебе все равно, от кого ты забеременеешь, бойкая пиренейская коза?!
Как жаль, что бабушка умерла. У нее в Москве никого из родни не осталось. А ее дед? Кто был ее дед? Что, если ей найти ее деда? Отец сказал — его отец, если верить рассказам его матери, был молоденьким парнишкой, охранником в лагере на Соловках, и он охранял барак, где отбывала срок Мария-Фелисита Виторес вместе с другими заключенными, русскими и эстонками, белорусками и казашками, кореянками и украинками; вот одна испанка в этот интернационал затесалась, и парнишка-вохровец на нее клюнул, не вынес такой знойной, необычной красоты. Были ли они влюблены? Был ли это роман? Или парень просто изнасиловал красивую чернокосую зэчку? Или — просто купил за кусок хлеба, за ржаной кирпич, заманил в лес, на гору Секирку, и там, за чахлыми северными елями, в кустах, в колючем подлеске… на отсырелой, жухлой прошлогодней траве, на белых, как кости, камнях, врезающихся в плечи, в лопатки, в нагой крестец… Альваро сказал ей: «Я не знал отца. У матери не осталось его фотографий. Какие фотографии в лагере, Мария? Моя мать лишь говорила: я Фелисита, я счастливая, мне выпадет счастье, и мой сын мне его принесет. А ты — мое счастье, Марита! Любое дитя — всегда счастье родителя!» А если дитя — несчастье, серьезно, наморщив лоб, спрашивала она отца, если только горе ребенок приносит, тогда как быть?
Решено. После Японии она поедет в Испанию. Станкевич что-то брехал про то, что их снова зовут, хоть с новыми, хоть со старыми программами, в Севилью, в Бильбао и в Мадрид. Если Иван не захочет ехать — она поедет одна. Поедет и будет танцевать одна, соло. Это будет ее личное фламенко. Танцевала же одна великая Анна Дамиани, портрет которой рисовал когда-то Диего Родригес да Сильва-и-Веласкес.
В Испанию. Она попросит жирного Родиона. Она предъявит права.
Права — на что? На свободу?
В этом мире никто не свободен ни от чего. Все связаны друг с другом жестокой порукой. Все завязаны в тугие узелки на одной суровой веревке. И каждый — узник другого. И каждый — пленник и заложник.
Она стояла, глядела на темное восточное море, и море, дыша тяжело, вздыхая прибоем, молча утешало ее медленной, тяжкой лаской волны.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ. ФАНДАНГО
КИМ
Я узнал, что она в Москве.
Я узнал об этом не от Ивана. От Беера.
Я позвонил Аркадию, и он, как бешеный, заорал в трубку: «Я заработал массу денег, ты, Метелица драный! Я заработал кучу денег! Все мои делишки обделаны как нельзя лучше! Я и не надеялся, откровенно говоря, что все так гладко проскользнет! Это блеск, старик, это просто блеск! Все получилось идеально!» Я не сразу понял, что речь идет о его японской операции. Чем он там занимался, хрен знает. Возможно, связался с мощной группой наркоторговцев; а может, подрядился кого-то убрать — и убрал, жаль, не моими руками; и там же, там же были мой Ванька и она, там, в Японии, и до меня не сразу дошло, что в трубку мне орет этот бесноватый: «…приехала! Как царица, как Катька Вторая, приехала! Не подступись к ней!» Кто как царица, глупо спросил я, а сердце у меня уже екнуло и застрочило между ребрами, как пулемет. «Пума испанская, краля, выпендрежница наша! Мария, блин, Виторес! Бойкая девчушка оказалась! Все сделала как надо!» — «Я так и знал, что она будет иметь бешеный успех», — холодно сказал я в трубку. Аркадий захохотал как безумный. Потом будто поперхнулся. Помолчал. «Да, она имела там бешеный успех. И цунами ее не смыла в море, представляешь?!» Она сама как цунами, подумал я. Как вихрь. Тайфун. Тайфу — «вихрь» по-японски. Гейш высшего класса называли в Японии «тайфу». Со сколькими мужиками спала тайфу Мария? Разве тебя это должно интересовать, киллер Метелица?!
Она приехала, она приехала, билось во мне маятником, бубном, она приехала, звенел внутри бесконечный колокол, и я могу завтра, нет, сегодня, нет, тут же увидеть ее. Я кинул в трубку Аркадию: «Задания какие будут?» — «Подзаработать хочешь? — усмехнулся Беер. Я воочию увидел его светлые, как два скола льда, жестокие глаза, сивую короткую стрижку, две борозды-морщины, прорезающие кожу лица возле губ. — Похвальное желание, господин Метелица. Нет, пока для вас работенки нет. Может быть, завтра-послезавтра появится. И зачем тебе так много денег, Метелица? Дом на Ривьере покупать собрался? Виллу в Монте-Карло?» Я рассмеялся в трубку. «Нет, детишек молочишком подкормить. И старшую — учиться отправить. Велика уже Федура-дура, в Гарвард учиться просится. Отказать, понимаешь, не могу. Они сейчас все так, молодняк, за бугром хотят образовываться, сам знаешь».
Сердце стучало как колокол. Я сунул телефон в карман. Она здесь! Скорее к ней!
Старый дурак, ты с ума спятил совсем. Если они только что прилетели, представь ее. Она спит. Приняла ванну и спит. Она отпахала двадцать концертов за десять дней и дрыхнет у себя дома без задних пяток. Она прилетела с другого конца планеты. Десять часов с Москвой разница, старый идиот! Ты дашь ей отдохнуть?! Ты… зачем ты собираешься к ней, старый осел, ведь там может быть… там может быть — твой сын!
Твой… сын…
Я бросил натягивать новые, вчера купленные у Версаче джинсы. Опомнился. Замер. Нет, все впустую! На меня опять накатило. Ее губы. Ее глаза, темные, сладкие, страшные. Ее груди. Ее горячая гибкая шея, так и ложащаяся под мои губы. Ее торчащие дыбом твердые, как гранитные, соски, напрягшиеся в смертельном, неистовом желании. Ее пылающий, гладкий, как перламутровая внутренность раковины, бархатистый живот, горячий, нежный, и моя рука скользит по нему, все ниже, ниже, и палец погружается во тьму и влажный огонь, будто в сердцевину раскрывающегося цветка. Я, в умалишении, застонал и положил себе руку на вставшую дыбом, упрямую, победно-жесткую природу. Уд и дух! Неужели вы — одно! К черту. Все к черту! Она. Только она!
Я, выругавшись, резко дернул «молнию» вверх, затянул на талии ремень — не вздохнуть. Я и так был всегда тощий, а тут похудел, страдая, еще больше. Моя белокурая женка подозрительно глядела на меня. Ахала: «Да ты не заболел ли, дорогой?..» Заболел! Да, я заболел. Я заболел ею. Я заболел опасно. Если так дальше пойдет — руки дрожать будут, я потеряю квалификацию, я потеряю кусок хлеба. Я разучусь стрелять. Деньги с собой? Вперед!
Машина завелась лишь с десятого раза. Я, сидя за рулем, уже беспощадно матерился. Улицы мелькали передо мной дикой каруселью. Бульвары, проспекты неслись, катились колесом. Я был белкой в колесе. Я спешил, ехал к моей любимой. К моей бессмертной возлюбленной. Что я, говорил я себе, я окончательно сбрендил, у меня же было столько баб, что никому и не снилось, еще когда я был известный спортсмен, вокруг меня всегда вились девки и бабы, как пчелы вокруг медового цветка, я был меткий стрелок, я прельщал их и выстрелами в яблочко, и самим собой, да, я всегда был самец что надо, неотразимый, и у меня всегда были бронированные яйца, — фу, как ты пошл, Метелица, что ты городишь, но ведь это правда, бабы липли ко мне, я считался у них шикарным мужиком, мужиком что надо, суперкласс, номер один, просто Шварценеггером каким-то, Сталлоне новым я у них считался, и это я выбирал всегда, а не меня выбирали, и я пытался быть возлюбленным, и был им с доброй сотней баб, и я пытался быть семьянином, и я был им, сначала с одной хорошей бабой, потом — с другой, и вот я, старый мерин, внезапно, встретив Марию, понял, что такое любовь. Что — такое — настоящая — любовь! Когда — не можешь — без — нее…
Я не мог без нее. Я уже не мог без нее. Это означало — я погиб?
Теперь я знал, что такое погибель. Что такое баба — погибель мужика.
Эта чернявая ушлая гадалка, Лола, эта знаменитость, баксы под свою толстую дынную грудь кучами гребущая, мне не все сказала. Что-то бестия утаила. А я знаю, что. Она утаила видение про смерть. Все хотят праздника, торта, вина, любви, золота и денег, и никто не хочет — про гибель. А она приходит в разгаре праздника. В разгаре буйного танца. И кто робкий, тот тушуется, сгибается перед ней в поклоне. А кто посмелее — приглашает ее на танец. «Сеньора смерть, мы просим вас за дверью подождать! Мне Анна будет петь сейчас и Мара — танцевать…» Мара, Мара. Мария. Погоди, я ведь уже еду к тебе. Еду уже.
Вертящееся колесо улиц. Жернова станций метро. Цветные конфетти бегущего, сыплющегося люда. Мария. Мария. Мария. Я слепой. Я веду машину плохо. Я рискую разбиться. Я еду к тебе.
Я взбежал по лестнице стремглав, как мальчишка. Когда я так бежал к женщине? Я не помнил. Никогда. В первый раз. Все должно когда-то быть впервые. Я не думал о том, у нее ли сейчас Иван, отдыхает ли она, хочет ли она меня сейчас видеть. Я чувствовал одно: если я сейчас же не увижу ее — я умру.
Я не звонил ей — я знал, что она дома. Я видел это сердцем.
И когда я позвонил к ней в дверь, в ее квартиру на Якиманке, и она открыла мне не вдруг, не сразу, а я еще слышал из-за двери ее медленные, ленивые шаги, — да, она отдыхала, нежилась в постели, да, я потревожил ее покой, ее dolce far niente, — я смог только протянуть руки навстречу ей. Протянуть руки — как протягивал бы всего себя.
— Dios, — сказала Мария по-испански, — Dios, Dios…
И она вошла в мои протянутые к ней руки, как вошла бы в раскрытые двери.
Расстояние. Его нет, когда двое становятся одним.
Это было страшно. Слишком страшно. Страшнее, чем взбираться по отвесной скале в горах — вверх, к вершине. Синие облака, разреженный воздух. Ты можешь умереть в любую минуту. Но тебя хранит Бог, разверзая перед тобой две пропасти — пропасть-бездну под тобой и пропасть-небо — над тобой.
А в середине — вы оба, преступные.
Что вы преступили? Все. Все, что можно.
А если бы она была моей дочкой? Да, она вполне могла быть твоей дочкой. Твоей испанской дочкой, Маритой, ласкушей, лиской, хохотушкой. Когда вы становитесь одним, трудно и бессмысленно задавать себе такие вопросы. Дочь, нежная кожа, кровь бежит в узких сиреневых жилках на висках, на тонких запястьях. Это почти инцест, ведь ты — женщина моего сына, и по годам ты мне дочь, я знаю, что я сумасшедший. В любви сумасшедшие все. Все. Без исключения.
Расскажи мне, что такое работать киллером. Что такое убийца. Они лежат сплетясь, плотно прижавшись друг к другу, без зазора, их горячие животы сплавлены, и ее нога, согнутая в колене, лежит на его ноге, и пальцы щекочут его кожу, и от этого еле слышного прикосновения он теряет голову.
Толкать, толкать себя, вперед, к ней, подавать себя, пронзая собой ее — насквозь. Ей это нравится. Она хочет этого. Она раскрыта перед тобой, как алая, душистая роза, и ее красота пьянит тебя, ты пьян. Ты пьян ею, и ты не вытрезвишься никогда. Уже никогда. Все. Ты погиб.
Разве погибнуть — это значит родиться вновь?
Да, выходит так. Ты умер — ты рожден. Киллер, любимая, это гадкая работа. Это не профессия, конечно, не думай обо мне плохо. Это работа. Это такая дикая, мерзкая работа, и я вынужден ее делать, чтобы… Чтобы — что? Договаривай! Чтобы твоя семья не умерла с голоду? Да, чтобы моя семья не умерла с голоду. Две семьи, точнее. Да хоть сто семей, ты не должен, не должен убивать людей, получая за это деньги! Почему ты так побледнела? Не надо. Не пугайся. Хочешь, я брошу свою работу ради тебя? Хочешь, я пойду по миру? С сумой, с котомой? Хочешь, пойдем по миру вместе, ты умеешь танцевать, я умею крутиться колесом на ковре, я ведь занимался спортом, кроме биатлона, я занимался когда-то борьбой и гимнастикой, я смогу делать тебе красивый фон, когда ты будешь плясать на улицах; все будут говорить: глядите, плясунья и гимнаст, дадим им денег, чтобы они могли прокормиться, выжить, они ведь такие красивые!.. Да, ты красивый. Да, у тебя повадки старого гимнаста. Скажи, ты хорошо стреляешь? Да? Да. Иначе я не был бы киллером. Ты сказала — «старый», ты что, считаешь меня стариком? Нет. Ты не старик. Ты моложе всех. Ты мой. Ты единственно мой.
Да. Я единственно твой.
А Иван? Иван — разве уже не мой? Разве ты… смог бы ты убить Ивана, если бы…
Зачем ты говоришь мне об этом. Зачем, Мария. Об этом нельзя говорить. Замолчи.
Он кладет пальцы ей на губы. Потом приближает рот к ее губам. И медленно, тихо, потом все сильнее, быстрее начинает раскачиваться, толкаясь, быком бодаясь, в нее, лишь в нее, туда, внутрь, глубже. «Dios, Dios», — снова шепчут ее губы. Он гладит ладонями ее гладкие груди, и она шепчет по-русски: какие у тебя шершавые руки. Корявые, смеется он. Слезы на его глазах. Ты плачешь?.. Я плачу от счастья. Я никогда не плакал от счастья. Он берет зубами сначала один ее сосок, потом другой, и она, закинув голову, танцуя, насаженная на его острие, тоже смеется от неиспытанной прежде радости. Мы соединены. Мы слеплены. Мы теперь — вдвоем. На всю… жизнь?..
Она меняется в лице. Белая простыня испуга накрывает ее лицо. Так накрывают певчую птицу тряпкой в клетке. Только не белой тряпкой, а черной.
Что такое вся жизнь, Ким? Что такое — жизнь?
Скажи… Он стонет. Он двигается в ней все сильнее, все страстнее, все упорнее, все крепче прижимает ее себе рукой. Она вжимается в него; она меньше его ростом, и она становится его частью, его птенцом, спрятавшимся под его распахнутыми крыльями. Ты слышишь, я весь в тебе? Слышу. Еще. Проникни глубже. Возьми меня совсем. Так, как меня не брал еще никто. Никогда.
Какое страшное слово — «никогда». Как оно темно. Темно и слепо. Не говори его никогда.
А ты уже сама только что сказала.
Тьма… Ты веришь, что там, когда мы умрем, — только тьма? Тьма и больше ничего?..
Нет. Там тьмы нет. Там есть ты, всегда ты, до могилы только ты — одна ты — и свет.
Он, исполняя ее просьбу, вонзился в нее до конца, всадил себя в нее по рукоять, как всаживают в плоть кинжал, острую, наточенную на точиле наваху, и она вскрикнула от неожиданности, а потом он увидел, как внезапно лицо ее начало расцветать, распускаться ало, пышно, душисто, расцвели глаза, заалели щеки, вспыхнули два лепестка вишнево-алых губ, исцелованных, искусанных им, и он понял — она достигла того, о чем мечтала, последнего края блаженства, и перешла за этот край, за предел, вкусив рая, о котором, быть может, и не мечтала. И это сделал с нею он, он! И он, забыв о своей радости, прижал ее к себе, стонущую, пылающую, теряющую сознание, дышащую тяжело, как в бою, и только сейчас, лишь теперь ощутил, как изливается в нее — всею дикой радостной влагой, всей накопленной втайне, не покалеченной сотней заказанных ему убийств, всей нежной сохраненной для нее, горячей жизнью. И она забилась в его руках, затрепетала, как пойманная бабочка, и он боялся: вдруг слетит, осыплется золотая пыльца! — и поймал губами, вобрал ее последний страстный стон, как вбирают каплю сладкого вина из опрокинутой бутыли.
Она еще содрогалась на нем. Он еще сжимал ее в объятиях, пребывая в ней, втыкаясь в нее слепо и празднично.
Зачем это все случилось?.. Затем, что все человеку на роду написано.
Он поцеловал ее сильно, глубоко, всасывая ее язык и кусая ей губы, и вдруг, оторвав свое лицо от ее лица, прикоснулся губами к ее губам так тихо и нежно, будто — помолился.
И она тихо, тихо, еле слышно сказала: теперь пусть будет все что угодно… Все что угодно…
И он повторил так же, едва слышно: да, теперь пусть будет все что угодно.
Они лежали навзничь на кровати, раскинув руки. Спали.
Они спали сладко, будто не спали десять дней и десять ночей, будто месяц шли, брели по дорогам, и вот добрели до ночлега, и вот упали и спят, вкушая сон, как сладкий мед.
И они не сразу услышали, как в дверь кто-то настойчиво, долго звонит.
Мария проснулась оттого, что в уши лез, ввинчиваясь, пронзительный, наглый звонок. Она открыла глаза. Не сразу поняла, где она, что с ней. Страны и события замелькали, мешаясь, пугая ее воспоминаниями, красотой, ужасом. Она поняла, что у себя дома. Повернула голову. Рядом с ней на кровати лежал и спал человек. Он не слышал звонка. Он спал так крепко и сладко, что его было пушкой не добудиться.
Мария, просыпайся, Мария. Звонят! Иди открывай!
До нее только сейчас дошло, что рядом с нею на ее постели спит Ким Метелица, отец Ивана. И что в дверь запросто может звонить Иван.
«Коррида, коррида», — забилось в ее голове. Застучали кастаньеты. Зазвенели тимпаны. Замотались туда-сюда под ветром цветные бандерильи. Пикадоры выехали на конях, потрясая пиками, обвитыми алыми лентами. Коррида началась! А ты что тут делаешь, маленькая черноглазая девочка, а?! Ты — зритель? Или ты тут не последняя лошадка? Из-за тебя все началось, а, признайся?!
Твой выход. Это твой выход, Марита. Наплюй на все и выходи. Ведь уже дали третий звонок.
Она вскочила голая с постели. Ким спал, не просыпаясь. Она босиком, таясь, перебежками пробежала к двери спальни, выбежала в прихожую. Опомнилась. Схватила со стула халат. Накинула. Иван так любит этот халат — черный, шелковый, расшитый крупными алыми розами. Черный и красный — испанские цвета. Черная земля, красная кровь. Другого люди за века ничего не придумали.
Сейчас она откроет дверь, и Иван прямо с порога, все поняв, убьет ее. Как? Всадит ей наваху под ребро?! Ха-ха, что за бред. У него же с собой нет ножа. Он же пришел к тебе. Просто пришел к тебе. «А может быть, это вовсе не Иван, что я гоню истерику», — прошептали ее пересохшие губы.
Нет, он все поймет. Спальня просматривается насквозь. Все двери открыты. Голый Ким лежит на кровати, лицо закинуто, худое тело, изнуренное любовью, раскинулось, полное сна и блаженства, раскинуты руки, он обнимает пространство, еще напитанное ею. Он обнимает все, что есть она. Он и во сне продолжает любить ее.
Он тебя не отпустит Марита. Если… если ты останешься жива.
Иван убьет тебя! Не сейчас. Сейчас он повернется и уйдет. Он убьет тебя завтра. Подстережет тебя вечером. Револьвер он найдет где хочешь. Купит у друзей. Одолжит у Станкевича. Разве за этим дело станет?
Ближе к двери. Шаг, еще шаг. Босые ноги мерзнут. Дует по полу. Осень. В Москве уже осень, Марита. Где твоя жаркая Испания?! Где твой виноград?! Твои апельсины?!
Пересохшие губы внезапно жадно, жарко захотели апельсина. Она облизнула губы. Сделала еще шаг к двери.
И снова в дверь настойчиво, гневно, протяжно позвонили.
Она бесшумно, неслышно подбежала к двери. Затаила дыхание. Замерла. Прислушалась. А если это не Иван? Отчего ты решила, что это Иван? Вдруг это почтальон! Вдруг это тебе телеграмма? От мамы, от отца… Из Мадрида…
Она бросила взгляд на часы в прихожей. Час ночи! Почему телеграмма не может быть принесена в час ночи? Это Иван. Он приехал на машине. Он не любит метро. Он так любит сервис. Хотя иной раз, когда опаздываешь, метро выручает, а на земле, на дорогах — трафики, сплошные «пробки».
Он не опоздал, Мария. Он не опоздал.
И она, закусив губу, внезапно разозлившись на себя, на свою трусость, щелкнула замком и рванула дверь на себя.
— Здравствуй, Мария, — сказал Иван, блестя глазами.
Она отступила на шаг.
— Здравствуй… Иван…
— Почему ты такая бледная? — Теперь он сделал шаг к ней. — На тебе просто лица нет. Ты болеешь? Нет?.. Измерь температуру. Вообще в Японии ты, со своими заморочками, со своей нервностью, мне мало понравилась. Что с тобой, Мара? Ты стала совсем другая. Прости, но у меня такое странное чувство… — Он еще шагнул к ней, и она отодвинулась. — Что за тобой кто-то следит. И ты знаешь об этом, и всячески прячешься от слежки. И, что самое странное, у меня ощущение, что надсмотрщик этот — я, и прячешься ты — от меня.
Он вскинул руки, чтобы ее обнять. И его глаза наткнулись на ее глаза. И руки опустились.
— Мара!..
— Не трогай меня.
Дверь в спальню была открыта. Сейчас, вот сейчас он поднимет глаза. И увидит его. Его, его, его. Своего отца.
— Да что с тобой, в конце концов?!
Он поднял глаза. Он увидел.
Далеко, в полумраке комнат, в нагромождении стульев и мебели, в разбросанных снежно-белых простынях, — разметанное по постели сухое, поджарое смуглое тело, худое тело атлета и аскета, бойца и убийцы. Тело мужчины, родившего его на свет. Тело мужчины, сегодня многажды обладавшего его женщиной.
Он не рассмотрел, кто там лежит не кровати. Его тело, его мышцы сработали быстрее, чем его разум. Прежде чем он успел опомниться, его рука уже заносилась в воздухе. Он ударил Марию по лицу, больно, наотмашь. И она, в своем черном атласном халатике, расшитом розами, не удержалась на ногах, пошатнулась, свалилась на паркет прихожей, больно ударившись ребром об угол платяного шкафа.
— А-а-ах!..
— Ты… Ты!.. шлюха… я знал…
— Иван, послушай…
Он шагнул к ней, лежащей на полу. Двинул ее в бок ногой, отталкивая ее от себя, как оттолкнул бы поганое, паршивое животное.
— Ваня!..
— И это ты просила, умоляла меня о ребенке!.. Ты… ты после этого… знаешь, кто ты?!..
Он задохнулся. Не мог говорить. Повернулся. И пошел — туда, в спальню, где увидел нагое тело другого мужчины.
И остановился. Замер. Прямо на пороге спальни перед ним стоял, голый, с простыней на бедрах, сжимая кулаки, с желваками, перекатывающимися на скулах, его отец.
— Что?!.. Отец…
Ким разлепил запекшиеся губы, с трудом отодрав их одну от другой, будто они слиплись, замазанные медом, патокой.
— Ну да, отец. И что мы с тобой будем делать, сын?
— Ничего… — Иван повел пустыми глазами вбок. — Ничего… Я знал! — выкрикнул он хрипло. — Я знал, я чувствовал, что у нее кто-то есть! Я понял… я понял еще в Японии!.. Но я не думал… что это…
— Что это я? — Ким шагнул вперед, к лежащей на полу Марии. Просунул руки ей под мышки. Поднял ее. На скуле у Марии расцветал кровоподтек. Ким поднял голову. Нашел сына невидящими глазами. — Ты ударил ее?
Иван не прятал глаз. Оскалился, как волчонок. Напоминал сейчас загнанного зверенка, лисенка. Вспомнил вдруг, как отец его побил, когда он был маленький, когда он столкнул с высоких качелей соседского Женьку, а Женька упал, да так неудачно, что раскроил себе череп и ударился виском, и, как ни воевали со смертью врачи, умер в больнице — сильно голову зашиб. Отец тогда так отлупил его в отчаянии, что мать, испугавшись сама за жизнь своего чада, плача, вырывала маленького, орущего благим матом Ваньку у него из рук.
— Я! Ты бы… — Он глотнул воздух ртом, как рыба. — Тоже ударил!
— Я? Ударил? — Ким тяжело, исподлобья глянул на Ивана. — Я пальцем ее не трону. Если она уйдет к другому. Если она вернется к тебе. Если она будет жить с нами двоими. Если она еще тридцать раз выйдет замуж и родит тридцать детей от других мужиков. Мне важно одно, запомни. Одно. Чтобы только она — была. Была. У меня. Чтобы она жила.
— Врешь! — Пронзительный крик Ивана сотряс комнаты. — Все врешь! Это ты сейчас так говоришь! А стоит ей махнуть хвостом налево…
По щекам Марии лились слезы. Ким опустил ее на стул. Опустился перед ней на колени. Глядел на нее. Она вспомнила: в церкви Сан-Доминго крестьянка в черном, старуха Долорес, так глядела на лик Божьей Матери.
— Хвостом? — Ким взял ее за руку. — У моей Марии нет хвоста. Нет лап. Нет когтей. Она не дьявол. И она не шлюха. Так получилось, сын. Так… получилось.
Он вскочил на ноги. Встал прямо перед Иваном, близко. Смотрел ему глаза в глаза.
— Ты, гад…
Иван вцепился ему в голое плечо. Ким тряхнул рукой, скинул его руку, как муху. Стояли, дрожали, пожирали друг друга глазами. Молчали.
Мария, испугавшись, встала со стула. Хотела подойти к ним, положить им руки на плечи, унять, утешить, расцепить, прошептать: ну что вы! Не надо! Помиритесь! Ничего же не произошло! Я одна, одна во всем виновата, меня и казните! А зачем же друг друга…
Она не успела. Кто из них прыгнул, наскочил на другого, как вихрь, как дикий зверь? Она не помнила. Она не вспомнила это и потом. Мясорубка заработала. Бешенство вспыхнуло, как порох. Двое взрослых мужчин, не поделивших одну женщину, набросились друг на друга, и бойня началась мгновенно и жестоко, будто шла всегда и просто продолжалась. Иван рубил воздух руками. Норовил попасть отцу в лицо, в глаз. Ударить по голове. Ким знал приемы. С закушенною губой он, забыв о том, что перед ним — его сын, применял приемы самые болевые, самые жестокие, и Иван охал, приседал и корчился от боли, но, молодой, сильный, с проворством волка бросался вперед, ударял жестко, точно — в печень, под ребро, под глаз. Если бы они оба были на ринге, зал мог бы визжать и плакать от восторга. Но тут не было ни ринга, ни зала. Мария прижала руки ко рту. Ей подумалось на миг: как жаль, что ее не было там, в том самолете над токийским аэропортом, в котором разбился и сгорел камикадзе Каро. Сходя с ума, видя, как двое, кого она любила, кого обнимала и кому отдавалась, не просто бьют, но уже убивают друг друга, она крикнула, и халат с розами на ее груди разошелся, обнажая ее розово-коричневое тонкое тело:
— Прекратите! Я…
«Они убьют, убьют друг друга», — билась в висках шальная и такая верная мысль.
— Я… вызову милицию! Я позову на помощь!
Она ринулась в спальню — найти телефон, позвонить. Позвонить кому-нибудь! Просто — позвонить, выкрикнуть в трубку: «Помогите!», выплакать накативший волной древний ужас… Иван рванулся за ней. Поймал ее рукой за полу халата. По его лицу струями текла кровь. Отец расквасил ему нос, и из носа по подбородку текла юшка; кровь испятнала подбородок, стекала из углов рта — видно, и зубы были выбиты.
— Куда летишь! — страшно крикнул он. Она не могла смотреть на его лицо. — Куда! Стой, стерва! Любила кататься, люби и саночки возить! Ты, может, и тогда, летом… на море-то… с ним ездила!..
— Нет! Нет! — крикнула она.
Он с силой дернул ее за полу халата. Шелковая ткань порвалась, хрустнула по шву. Разодралась, свисала черными клочьями, как крылья вороны.
— Ездила! Приехала… такая цаца!.. А я-то, наивняк, думал… Думал — устала моя Марочка, отдыхать поехала… сил набраться…
Мария вырвала из его цепкой руки лоскуты халата. Прижала к груди, пытаясь накрыться охвостьями шелка.
— Я не жена тебе!
У нее вырвалось это болезненно, гневно, горделиво. Только жен так бьют! Только с жен так спрашивают! И только в России! У них в Испании…
«У нас в Испании еще хлеще бывает, — подумала она внезапно с испугом, — там тебя за то, что ты поглядела на другого, твой мужчина может так измочалить, что небо… как это по-русски… с овчинку покажется… У нас в Испании… Навахи, ножи… В колодцы в деревнях изменниц сбрасывают… В Пиренеях — в пропасть, со скалы… Ведь танцуем же мы с Иваном „Корриду“!.. Это — почти с натуры… что же я-то говорю…»
— Ты?! — Иван схватил ее за плечи грубо, с силой повернул к себе. Держал ее, как свою, принадлежащую лишь ему, вещь. — Ты? Мне? Не жена?!
Оттолкнул. Она полетела спиной в шкаф, врезалась лопатками, поясницей в стеклянные полки, и стекло, разбитое тяжестью ее тела, посыпалось наружу, на паркет. Осколки стекол впились ей в кожу. Теперь и у нее тоже по локтям, по запястьям текла кровь.
— Ты мне не жена?! Так давай поженимся! Давай поженимся, черт побери!
Ким, озверев, ринулся к Ивану — и, уже не осознавая себя, не понимая, что творит, в забытьи и бреду бешеной мести, видя только кровь женщины, которую он полюбил без памяти, только ее страдание слыша и чувствуя, размахнулся — и так ударил Ивана в висок, что он, отброшенный прочь силой неистового, распаленного отцовского кулака, вскинутый в воздух, отлетел к кухонной раскрытой двери — и Мария закричала, видя, что все бесповоротно, что сейчас произойдет непоправимое, сейчас…
— А-а-а-а! Ваня! Ваня! Ванечка!
Из-за кухонной двери торчал острый железный крюк. Мария иногда вешала на него то фартук, то цепляла за него поварешку, но чаще ворчала: ох, попросит она Ивана выдернуть этот никчемный крюк с корнем вон из стены!
Иван летел виском прямо на этот железный крюк.
В последний миг он повернул голову.
Он напоролся на крюк левым глазом.
КИМ
Он напоролся на железный острый крюк глазом. Он проткнул себе глаз.
Я видел, как из проколотого железным выступом глаза фонтаном брызнула кровь.
И я услышал, как он закричал.
Как Иван закричал. Мой сын Иван. Которого я зачал. Которого мне родила моя первая жена. Которого я нянчил, таскал на руках, кормил, менял ему ночью мокрые пеленки и ползунки. С которым ходил в походы и плавал в реках и озерах. Которого отдал в лучшую танцевальную школу Москвы, потом — в хореографическое училище, потом…
А потом я бросил их с матерью. Потому что полюбил другую женщину.
Я слышал его крик. Я видел, как кровь стекает из пронзенного насквозь глаза по его лицу. И я не слышал, что я тоже кричу. Это мне потом уже сказала Мария.
Я кричал, не помня себя. Так же, как я бил его насмерть, не помня себя.
Помнит ли вообще человек себя, когда он слишком сильно чувствует? Или он не помнит ничего? И память — это слабая охранительная преграда, и настоящая сущность человека — темная, слепая, звериная, дикая? Сущность убийцы? Значит, это верно, что я сделался наемным убийцей? И это настоящая моя профессия, мое кровное дело, и ничто другое?
Мария бросилась к нему. Мария встала перед ним на колени.
Так же, как я миг назад вставал на колени перед ней.
— Ива-а-ан… Ива-а-ан… Ива-а-ан!..
Плакальщицы. Так плакали у нас в деревне плакальщицы.
У нас в северной деревне, далеко, там, где солнце полгода ходит по кругу летом, не падая за горизонт, а зимой по дегтю неба отвесно встают золотые и кровавые всполохи. «А-а-а-а!.. А-а-а-а!.. Родименькаа-а-ай!.. Молоденька-а-ай!.. Бог себе свое забра-а-ал… А-а-ай!.. Ай-и-и-и-и…»
В глотке у меня пересохло. Я шагнул негнущимися ногами вперед. Я диким, сдавленным голосом сказал ей:
— Дура. Не плачь. При чем тут слезы. Надо скорее «скорую». Скорее! Я сам вызову. Где у тебя телефон?
Мария обернулась ко мне, не вставая с колен. Сквозь рваный халат виднелись ее смуглые груди, что я целовал час назад. Золотой крестик на тонкой цепочке. Острые ключицы. Впалый живот. Она подняла ко мне залитое слезами лицо и крикнула:
Это ты убил его!
НАДЯ
Я проснулась от телефонного звонка. В моей каморке на станции Левобережной, у жадной и несчастной старухи, что сдавала мне эту жалкую квартирешку, стоял старинный телефон — черный, тяжелый, как гиря, с рожками, на которых лежала трубка, похожая на гантель. Трезвон посреди ночи? Кому я понадобилась в такую рань? Осенний рассвет чуть брезжил. Зевнув, как лев, я еле приподняла чугунно-тяжелую трубку.
— Але-о-о-о…
— Але, это Надя? — Голос ворвался в мое сознание, еще отуманенное крепким сном. — Надя, але, але, ты слышишь меня?! Наденька!..
Я ничего не могла понять спросонок.
— Мария Альваровна?.. Это вы, Мария Альваровна?..
— Надя, приезжай! Садись на первую электричку… на автобус… поймай такси, я тебе денег дам, за мой счет… только приезжай, прошу тебя, скорее! Твоя помощь нужна!
— Помощь?.. — Я плохо соображала. Икона Богородицы смотрела на меня из угла строгими, мученическими черными глазами. «У Божьей Матери глаза непроглядно-черные, как у госпожи Виторес», — подумала я внезапно. — Что случилось?.. ну да, я сейчас… я умоюсь, оденусь…
Голос умолял, просил, в нем звенела неподдельная слеза.
— Случилось ужасное, Надечка! Я тут… сейчас одна… Никого… Иван…
— Что с Иваном?!
Я крикнула это в трубку слишком уж истерично. Слишком отчаянно. Так кричат только очень близкие люди. Иван Метелица, блестящий Иоанн. Ты никогда не был мне близким человеком. Я не приближалась к тебе и на пушечный выстрел. Кто я была такая для тебя? Да никто. Никто, и звать меня никак. Замухрышка. Кляча. Клякса. Гусеница. Гусеница, что никогда не станет куколкой, и тем более — красавицей-бабочкой. Слишком испуганно крикнула я!
Поймет она? Рассердится? Посмеется надо мной?
— У Ивана… глаз…
— Что?!
— Ранен глаз! Он проткнул глаз насквозь!
— Как?! Почему?!
— Надя, приезжай… Не могу тебе все по телефону… Собирайся, выезжай, прошу тебя, я с ним, он ничего не помнит от боли, стонет, плачет, я сделала ему перевязку, дала успокаивающие таблетки… может быть, они снотворные, он задремал… но ему плохо, очень плохо!.. А у меня же в Москве никого… ты сама понимаешь…
«Ах, вот ты и влипла в историю, вот тебе и плохо, вот ты и несчастна, вот ты и одинока», — злорадно, на один миг яростно и злобно, подумала я, выпрыгивая из теплой постели в холодный воздух каморки, судорожно нашаривая одежду, напяливая на себя дешевые трусики, колготки с Черкизовского вещевого рынка, комбинацию, купленную с рук у размалеванной подмосковной девки на станции Крюково. Ты, знаменитая танцорка, богачка, обласканная жизнью красотка, вот ты и обожглась, у тебя… Я замерла, с грошовым лифчиком, обшитым бумажными кружевами, в руках, от обдавшей меня кипятком мысли. Иван! Это же Иван! Это он проткнул себе глаз! Иван… солнце мое… Иванушка… Господи…
«Господи, спаси и сохрани, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй раба Твоего Ивана и меня, грешную», — бормотала я бабушкины молитвы, быстро влезая в платье, быстро шнуруя черные ботинки, быстро бросая в сумку не краски и коробки с гримом — лекарства, вытащенные из аптечки, висящей на стене в кухне, бинты, вату, ампулы с обезболивающим — с анальгином, с максиганом, — одноразовые шприцы, ура, я их тоже нашла, всего два, они валялись на полке за холодильником, это левобережная старуха, владелица каморки, делала уколы от блох своему любимому коту… «Иван, Иван», — бормотали замерзшие губы. Всунув руки в рукава плаща, я побежала на станцию стремглав через осеннюю дубовую рощу, и золото-красные, коричнево-рубиновые, рыже-палевые дубы шелестели надо мной, их листья перебирал, один за другим, в пронзительной синей вышине холодный ветер, и я грела дыханьем руки, и бежала еще быстрее, уже видя бегущую навстречу мне электричку из-за мощных дубовых стволов.
Я не помню, как я доехала до Ленинградского вокзала. Как добиралась в метро до Якиманки. Как взлетела, не чуя ног под собой, на этаж к моей хозяйке. «Ну, открывай, открывай, красивая гадина. Тебя покарал Бог. Тебя настигла кара, за то, что ты…» За что могла постигнуть Марию Виторес Божья кара, я не додумала. Дверь распахнулась. Мария стояла на пороге. На ней лица не было. И одежды на ней тоже не было, подумала я сначала. Потом рассмотрела — нет, все же на ней мотался, болтался рваный черный, с красными розами, вышитыми гладью, испанский халат. «Кто ей разорвал его?» — подумала я растерянно. Она схватила меня за руку и силком втащила в прихожую.
— Что ты встала, как каменная! — выкрикнула она мне в лицо. — Что торчишь! Спасибо, что приехала! Давай, давай, шевелись!
И, напугавшись, что что-то не то говорит, что я отшатнулась от нее, как от припадочной, внезапно кинулась ко мне, будто я была ее мама родная, обняла меня, прижалась ко мне мокрой щекой:
— Надюшечка, миленькая… Как хорошо, что ты есть… Что ты у меня есть… Что ты — приехала… Мы теперь вместе… Ты меня не кинешь?.. Ты… мне… поможешь?..
— Дайте раздеться, Мария Альваровна, — сказала я, видя в зеркальных шкафах прихожей свои побелевшие губы. — Где Иван Кимович?
Она кивнула головой на спальню:
— Там.
Я втолкнула ноги в тапки. Мне хотелось немедленно, скорее пробежать в спальню, наклониться над кроватью, но я сдержала себя, шепча себе: двигайся медленнее, ты видишь, она смотрит на тебя, как на спасительницу, как на святую, она была одинока, а теперь не одинока, все зависит сейчас от тебя, и ты, только ты должна узнать, что тут произошло, и не подать виду, что Иван дорог тебе, что ты молишься на него, что он для тебя — первый и последний… первый и последний… Я не помню, как я вошла в спальню. Помню странный запах, чуть сладковатый, чуть соленый. Запах крови.
Первое, что я увидела, — это повязка на его лице. На глазу. Бинт, ложащийся белой метелью поперек лица. Комок ваты под бинтом, уже весь пропитанный кровью. Я чуть не закричала. Мне сделалось дурно.
— Иван… Иван Кимович… — Я обернулась к стоящей в дверном проеме Марии. Она держалась за косяк, чтобы не упасть. — Принесите теплой воды, Мария Альваровна! И чистой ваты! Желательно стерильной! И йод, если чистого спирта нету!
Она, моя хозяйка, красивая стерва, делала все беспрекословно. Она тащила мне стерильную вату. Свежие бинты. Принесла миску с теплой водой. Пузырек йода. Флакончик, на котором было написано на наклеенной бумажке: «Spiritus vini 96». Непонятно, где могла до сих пор болтаться «скорая»? Должна же приехать «скорая»!
— Мария Альваровна, вы «скорую» вызвали? — Мои руки исправно, ловко делали свое дело. Я была не только визажисткой. Моя тетка из архангельской деревни была умелой, опытной фельдшерицей. Она научила меня делать уколы даже толстокожим свиньям, заболевшим рожей, не то что людям. Я ловко отламывала стеклянные сосульки ампул. Ловко вытягивала лекарство шприцем. Ловко смазывала ватой, смоченной в спирте, руку Ивана. Кажется, он дремал. Или — терял сознание от боли? — Выбросьте пустую ампулу куда-нибудь! И переоденьте этот рваный халат! Вдруг кто-то придет! Неудобно!
— Наденька, что бы я без тебя делала… — Ее голос шелестел, как сухие осенние листья по асфальту. — Как хорошо, что ты приехала… Ты все умеешь…
Она смотрела на меня, как на богиню. Закусив губу, я всадила иглу в мышцу. Иван стал медленно розоветь. Застонал, не открывая уцелевший глаз.
— Это сильное обезболивающее, максиган. «Скорая» где, я вас спрашиваю?
— «Скорая»? — Она будто не понимала, что ее спрашивают. — Ах, «скорая»… А «скорая», видишь ли, Надюша… уже была…
Ее черные глазки забегали туда-сюда, зашустрили, замельтешили, кидаясь, как испуганные собачки, в разные стороны. Что-то не то! Что-то не так! Не было тут никакой «скорой»! Почему?! Или и вправду была, а у Марии что-то с головой… от ужаса, от горя? Все-таки Иван — ее… Ее… мужчина… партнер… и она… она — любит — его?..
Я старалась равнодушно, спокойно глядеть на Ивана, закинувшего голову на подушках вверх, неуклюже, с вывертом шеи. Я боялась, что Мария прочтет в моих глазах все — и выгонит меня отсюда к лешему, к чертовой матери. И никакая Божья мать тут мне не поможет.
На цыпочках я вышла из спальни. Мария вышла вслед за мной. Да, ее лицо было странным, будто искалеченным, будто бы наискось порезанным ножом, — все искривленное отчаянием, будто стыдящееся чего-то, словно скрывающее что-то постыдное, и губы вздрагивали, будто бы страшное недоговаривали…
— Мария Альваровна, что тут произошло? — Я стояла перед ней, маленькая козявка, держала, иглой вверх, пустой одноразовый шприц, смотрела на нее строго снизу вверх, а она стояла передо мной, выше меня ростом вдвое, и на ее измятое страданием лицо было жалко поглядеть. — Вы не можете мне сказать, что тут произошло? Или все-таки можете?
— Тут чуть не произошло убийство.
Она сказала это так просто, буднично, и вот теперь-то Наде стало по-настоящему страшно.
— Убийство? Ивана… хотели убить?..
— Да. Хотели. Но и он хотел тоже.
— Кого?!
Маленькая визажистка вся сжалась в комок. И Мария это почувствовала.
«Почему она так выкрикнула это? Взвизгнула? Какое неподдельное отчаяние! Будто бы напали на ее родного брата… или мужа. Какое она имеет отношение к Ивану? Она же всего лишь моя личная визажистка, и я плачу ей за работу. При чем тут такие страдания? Она слишком хорошо умеет делать уколы. Где она научилась так их делать?.. Ах, да мало ли где. На курсах медсестер. Пес с нею! Она просто добрая девочка и очень переживает. Но я ей все скажу. Я иначе не смогу».
— Своего отца.
Надя вздрогнула вся. Всем телом. Будто по ней, по ее телу, пропустили мощный разряд тока. Альваро рассказывал — были такие пытки током, и в Испании, и в Чили, в Сантьяго, и в Уругвае. Хитрая инквизиция двадцатого века. Двадцать первый наступил, и какие новые аутодафе придумает он?!
— Как это понять — своего отца?
— Очень просто. Они дрались. Не на жизнь, а на смерть. Если бы Ким не ударил так сильно Ивана, и если б Иван не проколол себе глаз, то Иван бы убил отца. Это точно. Иначе быть не могло. Так что все случилось… к счастью.
Мария криво улыбнулась. Ее веко подергивалось. Искусанные губы вздрагивали. Под глазом, на скуле, багровел огромный синяк. Надя цепким глазом высмотрела все. И почти вычислила.
«Они дрались из-за бабы. Из-за нее! И от кого-то из них она получила по заслугам. От кого? От Ивана! А при чем же тут Ким Иванович?! А при том… при том…»
Ее впалые бледные щечки стали совсем белыми, чуть синеватыми, черные тени под глазами углубились, все веснушки выступили на щеках и переносице, рассыпались рыжим просом. Водянистые рыбьи глаза потемнели, позеленели, как у русалки, от горя и ярости.
— Я поняла, — сказала она колюче, ледяно, будто бы между зубов у нее на паркет Марииной квартиры сыпались острые льдинки. — Я все поняла, Мария Альваровна. Они дрались здесь из-за вас. Ким Иванович и Иван Кимович. И вас ударил… Ким Иванович. За Ивана. Потому что вы вертихвостка. Потому что вы… — Она проглотила слюну. — Вы Ивану изменили. Вы кокетка. Вы были с кем-то другим. И Ким Иванович пришел и защитил сына. Он наказал вас. Он отомстил вам. И Иван взбесился и обиделся за вас. И полез на отца. Он…
— Что ты мелешь, Надежда, — мертвым, пустым голосом сказала Мария, стоя напротив нее неподвижно, как мумия. — Что ты городишь. Какая месть. Чушь не пори. Меня ударил Иван. За то, что я была с Кимом. Я любовница Ивана. Я стала любовницей Кима. Я любовница их обоих. Они приревновали меня друг к другу. Они дрались здесь из-за меня, да. Как два быка из-за коровы. Как два самца. Они оба любят меня, понимаешь?!
Надино лицо стало цвета сухих сливок. Потом ее скулы вспыхнули лихорадочно, багряно. Она скосила глаза. Перед нею, на крышке рояля, лежала связка ключей. Связка ключей от квартиры Марии. Она облизнула наждачно-сухие губы. Судорожно сжала кулачки.
— А вы?! — Крик сломался в вышине, превратился в птичий клекот. — Вы любите… кого?!
Лицо Марии было строгим и печальным. Кривое измятое отчаяние медленно покидало его. Краска взошла на бледно-смуглые щеки. Углы губ чуть приподнялись в дерзкой улыбке. Глаза темнели, распахиваясь, без дна.
— Я люблю их обоих.
МАРИЯ. КАНТЕ ХОНДО
…о, зачем, зачем Ты послала мне такое испытание, Дева Мария, бессмертная тезка моя. Россия, до чего ты несчастная страна! Я думала — ты станешь счастливой для меня. Здесь покатилось под откос колесо моей судьбы. Может быть, мой дед совершил какие-то страшные преступленья, о которых я не знаю, и теперь они ложатся на мои плечи, в отместку мне, в возмездие?! Может быть, мои предки содеяли нечто такое, что страшным грехом передалось, как яростный факел, через века, и тянет меня вниз, и давит, и ввергает в пламя ужаса и тоски?! Божья Матерь, Матерь Божья, тогда я молю тебя — возьми из рук моих чашу страшных грехов предков моих! Я, я искуплю их грехи, я одна! Я сделаю все, чтобы их искупить. Иначе они лягут на него… на моего ребенка, что еще не рожден! Лягут на любимых моих! О, Божья Мать, я ж люблю их двоих! Их обоих, обоих люблю я! Им обоим принадлежу! И что, это тоже — грех?! Да, это грех, если поглядеть оттуда, с Твоих синих небес! С небес синих и светлых, как мои Пиренеи… Может быть, тот лагерный охранник, дед мой, человека убил?! Может быть, моя бабка кого-то предала, и преданного ею повели на расстрел, сбросили в адскую яму?! Мы не знаем ничего о предках своих! А их грехи тяжким грузом лежат на нас… И не дают нам покоя… И сжигают нас во сне и наяву, и обливают нас нашею кровью и кровью наших любимых, и отнимают у нас детей, и насылают болезни и тьму на родителей — дотоле, доколе мы не осознаем их, грехи поколений, и не взмолимся: отведи тьму от меня и от всего будущего рода моего! Не дай роду, Божья Мать, закончиться на мне! Пошли мне наследника! А мне, знаешь, Божья Мать, Дева Мария, все равно, от кого он родится, от Ивана или от Кима. Я люблю их обоих, и от любого из них я с радостью, с чувством великого счастья понесу семя. Мой бесплодный живот! Он высох. Он жаждет жизни и новой, толкающейся в меня изнутри крови. Реки крови текут, когда люди убивают людей; и реки крови текут в нас, перетекают из мужчины в женщину, чтобы женщина зачала и родила. Я тоже зачала когда-то! Но Ты, Божья Мать, рассудила верно: сыну разбойника нельзя было явиться на свет. Я хотела любви, и я ее получила сполна. Вдвое больше получила я, чем Тебя просила. И теперь прошу я Тебя, Дева Мария, — дай мне ребенка! Сына — дай! И, когда я рожу сына, я схвачу его на руки и убегу с ним от этого жестокого мира. В горы. В Пиренеи. В одиночество. На Соловки. В Иокогаму, туда, где дышит и шевелится соленый синий океан. Я убегу от злого мира, от людей, что заставляют меня убивать, от людей, обучивших меня следить, шпионить и причинять зло; убегу далеко, и они не найдут меня вместе с ребенком моим. Ты же, Мария, бежала когда-то с Сыном Своим в Египет! Я убегу от тех, кто распинает и насилует меня, туда, где только свет и море, где солнечная вода и сладкие апельсины в густо-зеленой глянцевой листве, где не разбиваются о землю самолеты, где не взрываются зданья, где я буду тебя, о милый нерожденный ребенок мой, купать в теплом море, давать тебе теплую сладкую грудь, танцевать с тобою — у кромки прибоя — медленное, нежное, сладкое, как манго, фанданго… И розовые фламинго будут грациозно подходить к нам, поджимая ноги, и клювами целовать тебя, сын мой, в светящееся темя, в светлый и нежный затылок…
АРКАДИЙ БЕЕР
Мой дядюшка, мой важный генерал Рудольф фон Беер сегодня позвонил мне, из своего дальнего далека, собственной персоной. И представьте, он беспокоился об этой стерве. О Марии Виторес. Он спрашивал, как ее успехи. Как ее первое дело. Состоялась ли первая акция, как завершилась, успешно ли. Я проинформировал его скупо и точно: не волнуйтесь, дядя, ваша подопечная показала класс. «Зачем тебе нужен был этот чудовищный, абсурдный взрыв в Токио? — печально спросил он меня жестким, хрипло-режущим, как у говорящего попугая, далеким голосом. — Нелогичное деяние. Неапостольское. Если ты мне объяснишь сей акт, я буду крайне рад». Кажется, фон Беер не столько сокрушался о народе, погибшем в токийском метро, сколько искренне пожалел мою стервочку. Потому, что ей, видишь ли, пришлось пойти против христианских максим.
«Вы не понимаете, дядя, — терпеливо, как ребенку, по слогам сказал я ему в трубку. — мне нужен был этот взрыв. Мне! Я в перспективе сильно опираюсь на Восток. Ультралевый Восток и ультраправый Восток — это почти одно и то же. Правые японцы клянутся убить всех, кто помешает им вернуть на трон Светлейшего Императора. Левые — уничтожить всех, кто будет мешать делать на Востоке царство всеобщего равенства, братства и справедливости. На самом деле они все втайне ждут владыку из России, и чем он мощнее будет, богаче и жесточе, повторяя архетип всех восточных владык, тем быстрее и с удовольствием они ему подчинятся. Я пытаюсь играть роль такого владыки, поймите! А что касается моей крошки… — Я помолчал. — Мария преодолела себя. Ей нужно было преодолеть себя. А мне нужно было ей помочь. Невозможно же всю жизнь прожить с розовой повязкой на глазах. Мир гораздо проще и жесточе, чем она себе представляла. Она впервые прикоснулась к настоящему делу людей на земле. Люди только и делают, что убивают друг друга. И получают за это деньги. А она думала — наоборот. Любить и быть нищим! Христос в юбке! Танцующий Христос! Я протер ей глаза, только и всего. Шучу, дядя. — Я стал серьезным. — Мне нужен был взрыв этого газа больше, чем японской секте „Аум“, спятившей на препровождении народа в мир иной, к Бонпо-Будде, в край безбрежной нирваны и лучезарного сомати. Кстати, „Аум“ сотрудничала с „Красной Японией“, вы знаете об этом?» — «Тебе заплатила „Красная Япония“?» — без обиняков спросил старик. «Разумеется, как вы догадались». Я был чересчур любезен. Я даже назвал ему сумму, хоть это и негоже было говорить по телефону. Мои телефонные речи могли прослушиваться и прослушивались, скорей всего. Пеленг, теперь у спецслужб это было просто. И все же я рискнул. Я был доволен Марией. Мне хотелось передать торжество и злорадный праздник моей души тому, кто там, за океаном, строго, молча, хрипло дыша в трубку, слушал меня.
Военная косточка, старый служака. Ты все знаешь о вражде людей. Ты, потомок тевтонов и германских наци. Да ведь и я, в некотором роде, их потомок тоже. Понимаешь ли ты, чем я занимаюсь? Чем занимаются мои люди? Ты догадался: сейчас все продается и покупается. Продается и покупается война. Чужие жизни. Чужие смерти. Существование целой страны можно продать и купить. А потом продать снова. И сделать на этом хорошую выгоду. Все дело в выгоде, господа! Деньги — мерило бытия! Вы разве еще не все это поняли?
«Ну что ж, племянник, до встречи, пока, — проскрежетал старик. — Если надумаешь дать своей работнице отдохнуть — присылай ее сюда. Я найду ей здесь, в Школе, койку и харч. У нас ведь тут красивые места, между прочим. Зимой — лето, в заливе вода как парное молоко». Я хохотнул в трубку: «Вы не влюбились ли часом?» — и добавил про себя: старый хрыч, курочек пощупать любит. И подумал зло, жестко: я тоже, здоровый, сильный, молодой, буду когда-нибудь старым хрычом, и тоже влюблюсь в молодую, и буду волочиться за пахнущей юными духами юбкой, и пялиться на юный горячий танец. «Нет, я не влюбился, — отчеканил фон Беер. Его английский резал мне уши. — Я просто подозреваю, что ты к ней клеился, а она тебя отшила по всем правилам, сковородкой по башке, племянничек, и теперь ты будешь ей мстить, мстить работой, заваливать ее опаснейшими заданиями, заставлять работать на износ, до тех пор, пока она не свалится или не проколется, и ее не пришьют где-нибудь в темном углу, на людном перекрестке или, может быть, в воздухе, в брюхе летящего в Африку или в Сингапур самолета». — «Ее могут запросто пришить в летящем в Африку или в Сингапур самолете, как обыкновенную жалкую заложницу, — улыбаясь, кинул в трубку я. — Не волнуйтесь так о вашей ученице. Она способная. И нахальная. И сильная. Она выдержит мой ритм. Она привыкла вкалывать на сцене и в репетиционном зале, у нее выносливость как у лошади Пржевальского. Всех благ вам, дядюшка… и красавице Аргентине также». Я положил трубку. Черт побери, как этот родственничек говорлив! Старость — не радость. Словесный понос. Недержание мочи. Ночной энурез. Отчего он так печется о Марии? Отчего эта красивая молодая волчица всех так сразу подминает под себя? Ну ничего, я сделаю на ее красоте, на ее пресловутом артистизме свою игру. Я ей в лицо сам сказал, какую!
Танцы, танцы. Все на свете есть танец. Бредовый, страшный танец, и вся штука в том, чтобы его искуснее станцевать — стремительно там, где надо торопиться, медленно и плавно там, где удовольствие надо растянуть. Я завязывал под горлом под белым крахмальным воротничком новой итальянской рубашки черный галстук-бабочку от Фенди, как вдруг, запыхавшись, стреляя глазами, ворвалась горничная Галочка, прижала лапки к груди, к кружевному белоснежному фартуку, залепетала:
— Аркадий Вольфович… Аркадий Вольфович!.. Там… там…
Я повернулся от зеркала. Измерил Галочку вдоль и поперек ледяным взглядом. Ко мне никто не смел врываться без доклада, просто так, суматошно. Куда глядели бодигарды? Галочкины глаза, и без того большие, превратились в два черных огромных блюдца.
— Извините, пожалуйста, там… там Ким Метелица пришел! Он… ворвался… прибежал… он весь… избитый, кажется… На него кто-то напал…
— Галя! — Я впился в нее глазами. — Прекрати истерику! Ким вооружен?
— Не знаю… Кажется, безоружный…
Так, черт бы взял моих работничков, с кем же он ночью подрался? Если с милицией — дело неважнецкое. Придется сильно откупаться. Если менты коррумпированные — на сделку легко пойдут, все можно славно уладить. Если идейные — дело сложнее. Хлопот мне с моими людьми! И дорого же я им плачу за их блестящий профессионализм! Такого Кима потерять…
— Где он?
Галя растерянно показала на дверь и рассеянно поправила белую накрахмаленную оборку фартука. В ночной клуб нельзя собраться, отдохнуть… поиграть на бильярде… пострадать над рулеткой!.. Только хочешь расслабиться…
В комнату уже входил Метелица. В мою спальню, в святая святых — мой наемный киллер, мой слуга, моя купленная вещь. Я смолчал. Испепелил его глазами. Прожег насквозь.
Я не узнал подобранного, всегда подтянутого, бодро-насмешливого, бравого Метелицу. Передо мной был человек-тряпка. Человек-руина. Казалось, с него сыпалась пыль. Он был одет, но мне показалось — с него кожа сползает клочьями.
— Ким! Что с тобой?
Он сделал шаг ко мне.
Сделал шаг — и упал.
Упал, цепляясь за стул. За край кресла. За край моего письменного стола.
И перламутровая раковина с Мальдивских островов, которую я привез домой недавно — мне ее подарила бойкая мальдивская проститутка-туземка на память об одной безумной ночке на берегу звездно-искрящегося, теплого как глинтвейн моря, — упала со стола на пол и разбилась вдребезги. На тысячу кусков.
— Арк! — Его крик пулей впился мне в грудь — я даже пошатнулся. — Арк! Все пропало! Я убил его! Я… Я проткнул ему глаз! Он теперь слепой! Он…
— Кто?! Кто на тебя напал?! Кого ты убил?! Отвечай! Не тяни кота за хвост!
Я подскочил к нему. Зло затряс его за плечи. У него вся морда была в синяках. Вся рубаха — в крови.
— Арк, я ударил его страшно… Таким ударом обладатели Зеленого пояса убивают врага… Так ударить… Я… Я с ума сошел, Арк… Я вообще сошел с ума, Арк!.. Убей… — Он пополз ко мне по полу на коленях. Рванул рубаху на груди. Под ребрами виднелись синяки, кровоточащие ссадины. — Убей меня! Я не хочу жить!
— Да кого ты покалечил, дурья башка, черт тебя возьми совсем, говори скорей, а не хочешь, тогда иди на…
— Я Ваньку изувечил!
Еще минута прошла, прежде чем я понял, что он искалечил собственного сына.
Испания. Эти двое должны ехать в Испанию. У Метелицы в Испании — задание. Щекотливое, важное. Он еще об этом не знает. А его сын, партнер моей зубастой козочки, так я понял, окривел на один глаз. Или папаня выбил ему оба глаза? Надрались, что ли, оба вусмерть? Накачались до чертиков?
Никаким алкоголем, никакой водкой от Метелицы не пахло. Взгляд его, тяжелый, безумный, блуждал по окнам моей спальни.
— Что ты от меня хочешь, Ким? Помощи?
Мой холодный тон отрезвил его. Он начал понемногу приходить в себе.
— Помощи?.. Да… Наверное…
— А конкретно?
— Если Мария пойдет в милицию и заявит на меня — чтобы ты меня…
— Закрыл грудью, я понял. Нет проблем. При чем тут Мария? Это все произошло на ее глазах?
— Да.
Метелица опустил голову.
— Ты знаешь, что ты через две недели летишь в Испанию?
— Я? В Испанию?..
— Ты не ослышался. В Мадрид. Я заказываю тебе там одного кента. Ты уберешь его. Чем скорей, тем лучше, как поют в одной старой опере.
— Через две недели…
Его лицо принимало осмысленное выражение. Он вытер запекшуюся кровь с подбородка полой выпроставшейся из-под ремня рубахи.
— А чтобы тебя там не задавил грустняк, я пошлю с тобой пару гнедых, запряженных зарею. Они станцуют тебе лучшую на свете сегидилью. И лучшее на свете болеро. И лучшую на свете сарагосану. И лучшее на свете фанданго. И вообще все самое лучшее они станцуют тебе.
Глаза Кима превратились в два раскаленных бурава. Он закрыл лицо растопыренной пятерней. Из-под пальцев его глаза продолжали жестоко расстреливать меня. Если бы он подучился у какой-нибудь шарлатанки Лолы, он, возможно, мог бы убивать не пулей из пистолета, а глазами.
— Мой сын… Мой сын не поправится за две недели! Он сейчас ляжет в больницу…
— Он поправится, — жестко сказал я и вытащил из кармана пачку сигарет. — Я положу Ивана в лучшую больницу, где все самое лучшее. Он поправится за неделю. Ему сделают операцию, которая стоит пятьдесят тысяч долларов. Ему вставят новый глазик. Еще лучше, чем прежний. Ты сам, папаша, ничего не заметишь. Не отличишь. И подмигивать им он сможет так же. И танцевать сможет. История знала и одноглазых актеров, и одноглазых танцовщиков, и одноглазых…
— Бандитов. Сожалею, что у меня два глаза. Я готов выколоть себе оба, только чтобы Иван…
— Заткнись, фонтан, сказал Козьма Прутков. Тебе что, жить надоело? Это мы мигом устроим. В Испании вы все втроем, — я усмехнулся, — станцуете зажигательную рабалеру на площади в Мадриде, и вам набросают песет полную шапку. А после Испании, друзья мои, я вас всех троих отправлю в Аргентину. Надеюсь, продюсер Ивана мне поможет? Латинская Америка, ведь это же так романтично, ведь это же так карнавально, так…
— Наш карнавал почище латиноамериканского будет. Аркадий, прости. — Он тяжело, как недобитый бык, кроваво-красными глазами глядел на меня. — В какую больницу ты собираешься положить Ваньку?
— В закрытую. В элитную. В свою. Где я лечусь сам. — Я ослабил на горле хватку «бабочки». — Скажи мне правду. Вы оба напились?
— Нет.
— Тогда какого…
Ругань застряла у меня в глотке.
— Из-за бабы.
— Из-за бабы?!
Лицо Кима напоминало ледяную маску, занесенную снегом.
— Мы любим с ним одну бабу на двоих.
Я закурил сигарету. Бросил пачку на кровать, застеленную ирландским клетчатым пледом из шерсти тонкорунных овец.
— Я, кажется, догадываюсь, кто эта баба.
Он шагнул ко мне и наложил пальцы мне на рот. Он совсем обнаглел.
— Молчи. Никогда не говори. Никому.
* * *
Он, очнувшись после операции, не сразу понял, где он и что с ним. Потом резкая боль в левой глазнице вернула его к реальности. И все же он не верил. Глаз, его глаз! Видеть одним глазом! Тот, удаленный, горел огнем дикой боли под горой белых марлевых повязок, под поземкой наверченных бинтов. Ему вставили, вживили новый, искусственный; наобещали с три короба — что этот чудесный, волшебный протез будет выглядеть как настоящий, живой глаз, что он сможет моргать, что он сможет чуть ли не видеть. Он не поверил ни одному слову врачей и сестер, что, склоняясь над ним, щебетали, обманывали, ворковали, утешали. Когда его на каталке везли на перевязку в операционную, из его здорового глаза текли, впитываясь в бинты и простыни, мелкие, жалкие слезы.
Мария приходила в больницу. Сидела у его изголовья. Кормила его с ложечки. Разламывала своими нежными тонкими пальцами фрукты — апельсины, грейпфруты, абрикосы, — всовывала ему в рот сладкие дольки. Ее слезы капали ему на перевязанное лицо. Наклонившись к нему, она прошептала: «Я даю тебе слово. Я клянусь тебе. Больше никогда…» Он поймал ее руку своей рукой, выпроставшейся из-под одеяла. Крепко сжал. Она сморщилась от боли. «Правда? — прошептал он, его улыбка была похожа на рыдание. — Это правда, Мария?.. Это все мне приснилось?.. Скажи, это все мне приснилось… там, в твоей спальне…» — «Да, это все тебе приснилось, — с натугой, через силу выдавила она. — Конечно, это все тебе приснилось, Ваня. Я сказала тебе — я сдержу слово. Не волнуйся ни о чем. Поправляйся. Мы скоро поедем в Испанию. В Мадрид. К моему отцу. Мне уже Станкевич сказал. Я так давно не видела отца и маму. Станкевич молодец, что устраивает нам испанские концерты. А ты, врачи сказали, поправишься через две недели». Ой ли, покачал он головой, вряд ли! Сказки! «А если отец придет… ты… не откроешь ему дверь?..» — вышептал он смиренно, нежно, жалко. И Мария, склонившись над ним, закрыв глаза, так же тихо сказала: «Нет. Не открою».
Уже через неделю сняли швы. Он ходил без повязки. Через десять дней его уже выписывали. Он мог моргать, правда, с трудом, морщась от боли — мышцы век не были повреждены.
Через две недели они с Марией вылетали в Мадрид.
Все эти две недели, пока Иван лежал в больнице, Мария не спала ночи. Она лежала, широко раскрыв глаза, и глядела в потолок. Ее сотрясала дрожь. Она ждала. Она молилась, чтобы Ким пришел — и она молилась, чтобы он не пришел. Она вздрагивала на каждый стук за дверью в подъезде. Она вскакивала с кровати, заслышав свист за окном. Она падала ничком в подушки, закрыв лицо руками, и так замирала, лежала долго, заклиная свое бешено бьющееся сердце: не бейся, не бейся, ты выпрыгнешь из груди, ты задушишь меня.
Ким не пришел.
Он не пришел к ней домой ни в одну из ночей.
И все же он приходил к ней — каждую ночь.
Нет, не во сне он к ней приходил.
Он простоял все ночи напролет, все две недели, пока Иван лежал в больнице, внизу, около дома Марии, под окном Марии, подняв голову, уставив глаза в темноту, ловя взглядом золотой, призрачный свет ее окна.
Стоял и дрожал на осеннем ветру. Ветер бил его в грудь, золотые листья крутились, шуршали по земле вокруг его ног. Он плакал без слез. Слез уже не было. Была одна любовь — великая, беспредельная, испытанная им впервые и напоследок в большой и страшной, летящей быстрее пули, мгновенной жизни.
МАДРИД
— А вот водичка свежая!.. Свежая, свежая, чистая, зубы ломит, какая ледяная!.. А вот свежие абрикосы, только что из Гранады!.. Абрикосы из Гранады!..
— Купите свежие газеты, сеньор!.. Свежие газеты, газеты, газеты!.. Последние новости!.. Самолет разбился в Буэнос-Айресе!.. В Буэнос-Айресе разбился самолет!.. Погибли все пассажиры!.. Все без исключения!.. Ищут «черный ящик», не могут найти!..
— Сеньоры, сеньоры, не проходите мимо, лучшие в мире кадисские апельсины!.. Померанцы из Кадиса!.. Лучшие женщины в Кадисе — и лучшие апельсины тоже в Кадисе, самые яркие, самые сладкие!.. Сок так и брызжет… не оторветесь!..
— А вот ожерелья из ракушек, из ракушек ожерелья!.. Самая мода в этом бархатном сезоне — разноцветные ракушки на леске!.. И в гости, и на пляж, и на изысканное благородное парти!.. Последнее ожерелье!..
— Обезьянка нагадает вам, уважаемые сеньоры и сеньориты, судьбу!.. Своею лапкой вытащит из колоды карту, и я вам скажу, что вас воистину ждет!.. Моя обезьянка — лучшая гадалка во всей Испании!..
Мария и Иван, взявшись за руки, шли по залитому солнцем, гомонящему, веселому Мадриду. «Один из самых веселых городов, Ваня, какие есть на земле, — шепнула ему Мария на ухо. — Я покажу тебе здесь все свои любимые места!..» Иван оборачивался, глядел на нее. Стеклянный глаз, слишком похожий на настоящий, из лучших пластических материалов, стоял в глазнице неподвижно, насквозь просвеченный солнцем, как агат. Что-то пугающее, мертво-застылое было в нем. Издали было незаметно, что глаз искусственный. Мария не спрашивала, как Иван себя чувствует. Координации движений он не потерял. Правда, врачи предупредили, что сейчас большой танцевальной нагрузки на организм давать нельзя, противопоказаны резкие движения, подъем тяжестей и всякое такое; значит, танец разрешен медленный, плавный, без поддержек — это значит, игровой. Да в «Корриде» у них как раз поддержек нет, там как раз одна сплошная игра. Эти двое, Золотой и Черный… Мария закрывала глаза, подставляла мадридскому солнцу лицо. Она никогда не думала, что она поставит танец — а он сбудется в жизни.
Теперь — нет, никогда. Она не подойдет к Киму на пушечный выстрел. На… пистолетный. После того, как отец и сын чуть не убили друг друга…
— Ваня, тебе купить такую красивую наваху? — Она остановилась около торговца ножами, который сидел прямо на асфальте прокаленной солнцем площади, разложив перед собой на атласных подстилках свою опасную продукцию. — Гляди, какие изумительные ножи! Ты почувствуешь себя настоящим Хозе! Я знаю, женщина не дарит своему мужчине нож, он должен его выкупить… ну, заплатишь мне символическую денежку!.. песету…
— Если я захочу тебя убить, Мара, я воспользуюсь не ножом. — Он покривился в улыбке. — Я придумаю что-нибудь более эффектное. Отравление, например. В лучших традициях испанских королей и грандов.
— Что ты болтаешь! — Мария шутя щелкнула его купленным на площадном базаре, сложенным веером по лбу. — Я не хочу погибать в корчах… в ужасных мучениях!
— Обещаю, что я найду для тебя яд мгновенного действия.
Они оба рассмеялись, глядя друг другу в глаза, делая вид, что им обоим ужасно весело. Мимо них по площади шуршали машины. Солнце здесь припекало вовсю, даром что стояла осень. Здесь осень иная. Она золотая и жаркая, как апельсин. Его Мара съела здесь уже столько своих любимых апельсинов, что он удивляется, как это она сама в апельсин не превратилась. Она ничего не ела, пока он лежал в больнице, и сильно похудела. Пусть хоть немного отъестся! Ест жареное на решетках в камине испанское мясо, ест свинину, приготовленную по-каталонски… эти свои красные шары, померанцы… Ест осьминогов с Бискайи, с приправой из кориандра и гвоздичного корня… Для танца оно, конечно, хорошо, что она сейчас тощая, да ему все равно сейчас нельзя делать поддержки… но для ее фигуры пухлость — это не слишком… Все должно быть в меру — а кто ее, меру, когда-либо знал?..
Они, как сговорившись, оба словом не обмолвились о Киме. Как его и не было. Да так, наверное, оно и лучше. У Кима своя жизнь; у них — своя. Они приехали сюда на обычные гастроли. Странная гастроль у них сейчас в Мадриде — всего один концерт. Да и тот — в закрытом зале. Продюсер его, Ивана, бережет. Выполняет предписания врачей. Зрители все равно все уже знают из газет, от папарацци. Потеря глаза великого Иоанна обросла невероятными слухами и домыслами. Последний газетный миф звучал так: Иоанн сражался с бандитом-насильником, напавшим на его прелестную партнершу, у бандита в руках был нож, Иоанн напоролся на нож, но защитил честь прекрасной Виторес. Что ж, недалеко от истины, подумал тогда он, хрустя «желтой» газетенкой. Пусть сочиняют что хотят, все идет на пользу славе. А те, кто будет созерцать его в шоу впервые, и не заметят, что у него глаз ненастоящий. Врачи в закрытой клинике, куда отвезли его отец и Родион, сделали все не подкопаешься, legi artis.
— Мара! — Он остановился, взял ее за руку. Она одарила его солнечной, сияющей улыбкой. Ее похудевшее лицо обрело новую, странно-пугающую, чуть диковатую, как у горной косули, красоту. — Нам ведь что-то надо купить к столу твоему отцу! Что едят в Испании? Что любит Альваро?
— Альваро? — Мария огляделась вокруг, разыскивая взглядом на рынке мясные ряды. — О, вон туда пойдем! Там мясо. Папа любит хорошее мясо. И хорошо, на огне, на углях, приготовленное.
— Как наш кавказский шашлык?
— Да, как наш кавказский шашлык. Острое, политое острым соусом, с чесноком, с приправами… и горячее, только что с огня. Но надо выбрать мягкое мясо, от только что убитого…
Внезапно она побледнела. Ухватилась за его руку. Прикрыла глаза. Постояла, ловя воздух раздувшимися ноздрями.
— Тебе дурно, Мара?..
— Да. Мне немного стало плохо. Прости, пожалуйста.
Когда они стояли в мясных рядах и Мария, тыкая вилкой, придирчиво выбирала мясо, по-испански, бойко торгуясь с продавцами, она подумала: мне стало плохо оттого, что я подумала об убитом животном — или оттого, что, быть может… Она боялась думать дальше. Она, расплачиваясь, вынимая из кошелька песеты, прислушивалась к себе. Слушала себя внутри. Сердце ее замирало. Неужели… Неужели…
Они купили к столу еще зелени, картофеля, свежих устриц, свежих фруктов — абрикосов, груш, алых яблок, любимых апельсинов, дынь, — и, нагруженные покупками, добрались до остановки автобуса. Солнце било прямо в лицо Марии, она заслонилась от солнца рукой — и не заметила против солнца, в тени, что отбрасывала огромная театральная тумба, худого, поджарого мужчину, быстро отпрянувшего, скрывшегося за тумбой, когда она отняла ладонь от лица.
* * *
— За вас, дорогие мои! — Альваро Виторес поднял бокал с густым черно-красным «порто». — Я счастлив, что сегодня в моем доме такая прекрасная пара! Моя дочь, доченька, которую я люблю больше жизни, в которую вложил душу… — На миг голос его пресекся. Он овладел собой. Белозубая улыбка навахой прорезала его смуглое, уже испещренное морщинами лицо. «У него уже такие же морщины, как у Кима, — подумала Мария внезапно, — такие же… Боже, я никогда не думала о том, что мой отец может постареть… Я не думала никогда, сколько ему лет…» Она перевела взгляд на мать. Мария-Луиса умиленно, восторженно смотрела на дочь и ее друга. «А мама все такая же. Мы, женщины, никогда не стареем. Мы и умираем молодыми». — И ее замечательный друг! Спутник! Верю — любимый! И хочу надеяться, что…
Иван резко встал. Бокал в его руке дрогнул, и на белоснежную скатерть вылилось несколько капель вина.
— Вы правильно надеетесь, уважаемый Альваро. — Он обвел глазами всех, кто сидел за столом: Альваро, Марию-Луису, служанку Химену, старушку госпожу Обрегон, давно жившую в доме в качестве приживалки и компаньонки, здорового и мощного, как молодой бычок, парня Хоселито, помощника хозяина, и затаившую дыхание Марию. — Я делаю вашей дочери официальное предложение. Сегодня… сейчас. И я счастлив, что я делаю это в Испании, на ее родине… на родине ее предков. Считаю, что моя встреча с Марией судьбоносна. И что, какие бы испытания нас ни ждали… а мы уже через многое прошли… — Мария видела, как вспыхнули его загоревшие на испанском солнце щеки. — Мы будем вместе в жизни. Я только теперь понял, что мы созданы друг для друга. И мы…
Он оборвал себя. Все уже было сказано. Высоко подняв бокал с «порто», похожим на темную кровь, он опрокинул его себе в глотку. Мария тоже встала. У нее сильно кружилась голова. Необъяснимый, странный страх сковал ее изнутри. Не давал двигаться рукам, говорить языку. Она преодолела себя. Она вся дрожала.
И бокал с вином в ее руке дрожал.
— Иван… Отец… — От волнения она перешла на испанский. — Мама!.. — Она беспомощно обернулась к матери. Мария-Луиса прижала палец к губам. — Я… счастлива… Я… Я давно мечтала… Я…
На один безумный миг перед ее глазами встало лицо Кима. С резкими чертами. В разрезах морщин. С летящими вперед и навылет, как пули, темными глазами. Сурово сжатый рот молчал. Глаза говорили ей: «Ты ошиблась. О, как ты ошиблась. Ты сделала не тот выбор. Мне жаль тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя до могилы».
«Мы вместе уйдем туда, Ким?!» — чуть не выкрикнула она. Сцепила зубы.
— Детка, я счастлив твоей радостью! — воскликнул Альваро. Мария-Луиса заплакала, уткнула нос в обеденную салфетку. Мария повернулась к Ивану. В ее глазах стояли алмазные озера невылитых слез, ресницы дрожали и играли, как крылья черных махаонов. Все их ночи с Иваном, все их дни, все их танцы. Вся их жизнь, подаренная им Богом. Неужели все это должено зачеркнуться, погубиться одной той ночью с Кимом? Одной прорвавшейся, как река из плотины, вспыхнувшей ночным взрывом страстью?!
«Нет, нет, нет», — дрожа, сказали глаза и губы. Я люблю тебя. Я люблю только тебя. Она стукнула бокалом о его бокал. «Порто» из ее бокала брызнуло, пролилось в его. Я люблю только тебя, Иван!
«Не обманывай себя. Ты любишь другого. Не лги ни себе, ни ему. Сейчас ты все ему скажешь. Все. И выйдешь из-за стола. И соберешь чемодан. И, не танцуя шоу „Коррида“ в закрытом зале Мадрида, улетишь в Москву, к Киму. Ты заплатишь неустойку Родиону. Ты сделаешь все открыто. Жестоко. И правдиво. Мария, ты же всегда так любила правду! Всегда…»
Дурнота накатила. Она, борясь с тошнотой, смотрела на куски жареного мяса, лежавшие на большом стальном блюде. Сервиз «Цептер», она привезла его матери в подарок. В Москве «Цептер» стоил гораздо дешевле, чем в Испании, хотя Испания, она уже понимала это, помыкавшись по свету, по сравнению с дорогущей Москвой, одним из самых дорогих городов мира, и заламывающей невероятные, какие угодно, цены Россией, считалась дешевой страной. Мясо! Жареное мясо! Она так любила жареное мясо… так любила… Она жарила его на каминных решетках, и сок капал на угли, и жир таял, шипел на живом, веселом огне… И она посыпала мясо перцем и сушеным чесноком…
— Мне плохо, — шепнула она, не сводя с Ивана слезно блестевших глаз, — меня тошнит…
Альваро раскинул руки в стороны. Он торжествовал. Он обнимал их обоих взглядом.
— Помолвка! Обручение! Ура! — и добавил по-испански:
— Будьте счастливы на всю жизнь!
Старушка Обрегон трясла седой головой. Она не расслышала в застолье и половину слов, но понимала, что творится нечто важное, все поднимают бокалы, смеются и плачут, пьют и наливают еще, и Хоселито бежит куда-то, оттолкнув ногой стул, и несет в обеих руках еще бутылки, и все обнимают друг друга и целуются, и Мария-Луиса, всхлипывая, выносит из спальни маленькую коробочку, а там, внутри, на черном бархате, золотые обручальные кольца, она давно их приготовила для своей дочки, вот ведь как все получилось, дочка нашла свою судьбу в России, ну да, все верно, ведь за спиной Альваро — Россия, и за Россией — будущее, Россия — великая держава, что бы с нею ни приключалось, да молодые будут жить где хотят, они уже богатые, они купят себе дом в Испании, да хоть где, хоть в Америке, хоть на Майорке, хоть в солнечной Аргентине, хоть под Москвой, где хотят, это уже они решат сами… Иван наклонился к Марии. Строго глядя на нее живым глазом, вытер ей большим пальцем слезу, стекающую по пылающей щеке. Она уткнула щеку ему в подставленную ладонь. Как она хотела защиты! Ласки! И покоя, покоя…
— Мара, — тихо сказал Иван, заглядывая глубоко ей в глаза, — Мара, ты любишь меня? Я прав? Теперь ты довольна?
Она, прижимаясь мокрой щекой к его руке, закрыла глаза. Из мрака, из тьмы наплыли, приблизились единственные глаза. Единственные губы шепнули: «Ты всегда будешь моя. С кем бы ты ни была. С моим сыном. С чужим мужиком. С тысячью чужих мужчин. Ты придешь ко мне. Ты вернешься».
Они, уже жених и невеста, вольно и беспечно бродили по Мадриду. Мария веселилась как ребенок, показывая Ивану свои любимые фонтаны, свои любимые бульвары, скамейки, где она готовилась к экзаменам, набережную Тахо, где она ныряла в реку прямо с парапета, и полицейские свистели ей: «Купаться запрещено!» Они бродили по залам Прадо, и Мария замирала у огромных композиций Веласкеса, у женских портретов Гойи, у маленьких этюдов Мурильо. «Я закажу Витасу Сафронову в Москве твой портрет», — шепнул ей на ухо Иван. Она сморщила нос: возьми бумагу и сам нарисуй! Как те, малеванцы на Старом Арбате…
Время шло и бежало, летело и останавливалось, и опять махало невидимыми, легкими крыльями. Завтра у них было выступление. Очередное выступление в череде их выступлений. Обычная работа. «Хочешь вдохновиться, Ванька? — спросила она его. — Я поведу тебя на настоящую корриду. Она будет сегодня вечером на стадионе Дель Торо». Мне одеться шикарно или не слишком, меня же будут узнавать, улыбнулся он, наши физиономии на всех афишах по всему Мадриду, меня узнают, да и тебя тоже, может, нам надеть черные маски?.. «Дурак, — сказала Мария, улыбаясь, — ты наденешь черный костюм, который подарил тебе в день нашей помолвки папа, я — сарафан, веер возьму. Сегодня вечером будет очень жарко. Мадрид просто изнывает от жары».
Жара. Вечная испанская жара.
Она вздрагивала, если у прохожего, идущего рядом с ней, в сумке или в кармане начинал играть мелодию мобильный телефон.
Ей чудился надменный голос: «Агент V25, будьте готовы. Пойдите на Главный Мадридский почтамт, ждите у входа. К вам подойдет женщина в черном платье с красной розой на груди. Она передаст вам букет цветов. В нем — пистолет. Вы подниметесь на третий этаж почтамта, откроете дверь под номером 99, войдете в комнату, распахнете окно. Окно выходит во двор. Он безлюден. Внизу, под окном, должны пройти двое мужчин в черных смокингах. Вы убьете того, у кого из кармана смокинга будет торчать белый платок. Пистолет с глушителем. Выстрела никто не услышит. Вы забираете пистолет с собой, осторожно выходите, идете к набережной Тахо. Постарайтесь незаметно выбросить пистолет в воду. Выполняйте».
Она, чтобы скинуть наваждение, крепко, больно сжимала руку Ивана. Он пожимал ей руку в ответ. Улыбался. Его черные волосы падали ему на лоб, на глаза. Она не замечала раньше, как он красив и как смертельно, неистово похож на отца. Да, безумно похож, только Ким всегда коротко стригся, почти брился, как скинхед. Ему бы мешали длинные волосы стрелять. «Боже мой, я брежу. Мне позвонили — или это я все придумала? Мара, Мара, если так дело пойдет, тебя увезут в больницу, где безумные, скалящиеся люди весь век сидят за решеткой. А если Беера, а с ним и тебя, отловят, ты окажешься за решеткой так или иначе, ты ж понимаешь. Дьявол!» Конечно, ей приснился наяву, прислышался приказ. Что может приказать ей Беер? Он грозился, что она будет спать чуть ли не со всем военным миром. И в постели выуживать из крутых военных мужиков ценные сведения. Бедные мужики, без бабы они никуда. Что бы мужчины делали без женщин? Они бы не смогли воевать друг с другом, это уж точно.
Они с Иваном взяли машину и быстро доехали до стадиона Дель Торо. Прямо перед стадионом возвышалась статуя быка, сработанная из чисто-белого, светящегося под солнцем мрамора. Солнце уже клонилось к закату, и небо наливалось розовым соком вечера. На арену уже выводили быков. Пикадоры, на маленьких юрких лошадках, уже скакали по кругу, по краю арены, вздымая вверх украшенные красными лентами пики. Мария и Иван нашли свободные места, уселись — под гомон и гогот собравшейся на стадионе толпы, среди разнаряженных, с розами в петлицах, мужчин, завитых и ухоженных, как к празднику, женщин, густо надушенных пряными духами. «Юг, это Юг, Иван, ничему не удивляйся. Ты увидишь корриду воочию. Может, это тебе поможет… для того, чтобы по-иному станцевать Черного». Они оба снова обменялись улыбками. Мария нашла руку Ивана. Сжала. Теперь он отчего-то казался ей ребенком. Ее ребенком.
«Что, если я беременна? Он знает, что я была с его отцом. Все равно в ребенке, так или иначе, будет его кровь, их кровь, кровь семьи Метелица. И я не смогу толком определить, чей это ребенок, Ивана или Кима. Нет, сможешь! Сможешь, когда он родится, и ты рассчитаешь день и час зачатья!» На арену не спеша, чуть вразвалку, вышел тореро. Мария чуть не ахнула: какой молоденький мальчик. Как их Хоселито. Что Хоселито делает у них дома? Живет. Помогает отцу. Он у него и наборщик текстов на компьютере, и грузчик, и почтарь, и посыльный. Иногда Хоселито исчезает куда-то на ночь. Может быть, у него есть девушка. У всех всегда кто-то есть. Человек — зверь, живущий в паре. Человек не может без пары. Одиночество страшнее смерти, кто это сказал?..
«Гляди, Мара, тореадор-то какой замухрыстый, в нашем сценарии Золотой ему не чета», — толкнул ее Иван локтем в бок. Вытащил из сумки апельсин. Начал очищать. В ноздри ударил хвойно-спиртовый дух порванной шкурки, брызнувшей соком цедры. Запах русского Нового года, подумала Мария, апельсины и мандарины в России — зимнее лакомство, когда вокруг идут снега, торчат елки у витрин магазинов, метет метель… Метель. Метелица. Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет. Смела меня метелица, смела и замела. Не проехать, не пройти.
Мальчик-тореро поднял руки над головой, обернулся к публике, к гулко рокочущему, как море, полному людей амфитеатру и послал всему стадиону воздушный поцелуй. Потом раскинул руки, и мулета красным квадратом повисла на его напряженных пальцах, и ветер взвил ее, отогнул, прилепил алую ткань к жилистым, тощим бедрам. На тореро был наряд простой и традиционный — трико и короткая куртка. Трико белые, какие были у тореро во времена Гойи; куртка светло-голубая, густо расшитая серебряной нитью. Они все, тореро, то золотые, то серебряные. Жизнь — праздник. Смерть — праздник вдвойне. Если тебе пропорет рог быка, хорошо предстать перед Богом нарядно одетым.
Выпустили быка, и Мария по-испански крикнула: «El toro! Ole!» И вцепилась в руку Ивана. И уже не соображала ничего. Буйство корриды захватило ее сполна, как захватывало во все века ее предков с горячей кровью, жаждавших зрелища смерти, как заключенный жаждет воли. Иван глядел с любопытством, немного с отвращением: ему претил такой вид смерти, вид этого древнего спорта, где побежденный, бык или человек, обязательно должен умереть. Единоборство! До него дошло: жизнь — это единоборство. Или ты — его, или он — тебя. Третьего не дано.
Бык наклонил голову, ринулся вперед. Маленький худенький тореро стремительно отвел мулету. Бык разъярился, стал рыть копытом опилки арены. Мария слышала сопенье быка. Толпа вокруг разжигалась, люди выкрикивали: «Оле! Оле!» Молодой тореро быстро, в мгновение ока, обернулся вокруг себя и, снова оказавшись напротив быка, дразняще махнул красной тряпкой перед носом у храпящего зверя.
И бык, наклонив рога низко, к самой земле, разъярился по-настоящему. Он замычал густо, низко, басом, потом взревел, как ревет, призывая на бой, труба — и двинулся на тореро медленно, но так мощно и неуклонно, бесповоротно, что трибуны замерли. Люди затаили дыхание. Каждый почувствовал вкус крови на губах. Вкус начинающегося единоборства. «Я убью тебя, жалкий человек», — слышалось в реве быка. И худенький юный тореро внезапно, поднявшись на цыпочки, стал взрослым и жестоко-суровым. Постарел на десять, на двадцать лет.
И Мария едва не ахнула, узрев это превращенье. Время! Что такое время? Мы не знаем, что оно такое. Мы живем на земле свой срок и не знаем часа своего. А рог незримого быка уже ищет, ждет нас, чтобы насадить на себя.
Черный бык рванулся вперед. Тореро уклонился от атаки. Мулета взвилась высоко вверх, к жаркому вечереющему небу, прочертив небосвод огненной полосой. Издали казалось — тореадор держит над головой алый факел. Мария кричала вместе со всеми: «Оле! Оле!» Сунула два пальца в рот. Засвистела пронзительно. Иван отшатнулся. Он не представлял, что его невеста умеет так хулигански, пронзительно свистеть, так оглушительно кричать. Мария, это его нежная Мария! Это был совсем другой человек. Он видел перед собой чужого человека. Испанку. Раскрасневшуюся, неистово-возбужденную, опьяненную током древней жадной крови. Зверь и человек, это возбуждает. Почему она так не бесилась, не разрумянивалась, созерцая их с отцом драку — из-за нее? Потому, что ни у того, ни у другого в руках не было мулеты?
«О чем я думаю, — подумал он презрительно, с отвращением к себе, — зачем я все это ворошу. Даже если бы я лишился обоих глаз, я все равно был бы с ней. С этой горячей девкой. На роду мне так, что ли, написано?» Вдруг его ожгла мысль: а ведь жизнь велика, еще много будет девок, много женщин, танцовщиц, солисток и кордебалетниц, а жениться, может быть, надо не на актрисе, а на хорошей хозяйке, на девушке из северной деревни — оттуда, откуда все его предки родом. Чтобы стряпать умела, и стирать умела, и убираться, и детей бы рожала — и мужа всегда ждала, отовсюду, любого, трезвого ли, пьяного, с кучей любовниц и с горою долгов, и все бы прощала, тихая, боязливая, любящая. С Марией так не будет. Вот у нее, у Машки, есть девчонка-визажистка, тихий такой, маленький сморчок, дурнушка, от горшка два вершка, — вот на ком надо жениться, дурак! А не на красавице-танцорке! Она тебя, Иван, перетанцует все равно. И не охнет. Ваше обручение, не самообман ли это?! Не Ким — так кто-нибудь другой вырастет из-под земли на ее пути… Изменившая раз изменит и дважды. Это закон. А ты разве такой собственник, Иван? Разве сейчас не другой мир и другой век, и женщина разве не свободна так же, как мужчина?
Нет. Не свободна. Женщина сделана из мужского ребра. Для женщины Богом писаны другие законы.
Худой тореро сделал на арене почти танцевальный пируэт. Полы голубой курточки, расшитой серебром, распахнулись, и под расстегнувшимся кружевным жабо, на коричнево-смуглой худой груди, под закатным солнцем просверкнул золотой крестик. Ни один тореро не выходит на арену, не помолясь и не поцеловав Распятие. Мария знала это. Она слышала рядом с собой частое дыхание Ивана. Бык крутанулся, взрыл копытами опилки и песок. Уродливые, огромные тени быка и тореро ложились на песок арены, скрещивались, метались. Взгляды людей скрещивались, соединялись на тореро и быке, расстреливали их обоих, заклинали, следили за ними, куда бы они ни рванулись на открытой пустой арене. Тяжко быть под взглядами толпы, вдруг подумала Мария. И мы, танцоры, — тоже под взглядами толпы. И каждый из нас — убийца?
Она представила Кима — под дулом своего пистолета, наведенного на него. Она — его киллер. Она убивает его тем, что уходит от него. Тем, что сделала выбор. Она убивает его тем, что она — не с ним. А с его сыном. Убить ведь можно не только пулей. Убить можно повернувшейся спиною, ставшей чужой, презрительно-надменной жизнью. Убить — и не воскресить! А есть ли воскресение? Есть ли воскресенье?! Есть…
Тореро двигался изящно, как в танце, и крутился, вальсируя с мулетой, вокруг ворочающегося тяжело, будто гири были привязаны у него к рогам, раздувающего черные ноздри коричнево-бархатного быка. Пахло потом и мочой. Бык взвивал хвост, рыл и рыл копытами опилки. Они золотой половой летели на трико, на куртку, в лицо юноше. Мария видела — по вискам, по шее худого тореро текут крупные капли пота. Тяжек любой труд. Труд смерти — вдвойне.
Он танцевал и танцевал, и бык ревел и ревел, разъяряясь все сильнее. И было ясно — взрыв близок. Сейчас все зависело от быстроты, от последнего точного удара. Кто кого? Солнце садилось. Небо наливалось солнечной кровью. Увядшие розы в прическах у женщин пахли опьяняюще. Мария не сводила глаз с тореро. Иван закусил губу. Он загадал: если тореро убьет быка, Мария останется с ним. Если бык повалит тореро…
Дикий оглушающий вопль вылетел из тысяч глоток. Стадион взревел. Бык, сделав неуловимое движение головой вверх и вбок, взмахнул рогами. Оба рога вонзились в живот бесстрашного мальчика. Вскинув руки и выхрипнув: «Dios!» — тореро начал падать. Он долго, целую вечность, падал на песок арены. И не упал. Бык опять подхватил, насадил его на рога. Теперь он пропорол ему рогами грудь под ребрами. Кровь темными потоками заструилась из прободенного тела на темно-золотые опилки. Женщина рядом с Марией, крича: «Viva el toro!» — вынула из густых кудрей ярко-красную розу и, размахнувшись, бросила ее на арену. Бык понес, потащил на рогах тело юноши, страшно ревя, и пикадоры, стараясь перекричать его, перекрыть его рев надсадным ором, ринулись к нему на своих лошаденках и стали всаживать ему в загривок бандерильи, и ударять его пиками в бока, в ребра, в грудь. Бык тряс холкой, пытаясь сбросить бандерильи. Обливался кровью. Алые потоки сползали по черно-коричневой шерсти. Обессилев, пронзенный, раненный во многие места, зверь, подогнув ноги, рухнул на песок. Тело тореро упало с его рогов, покатилось, как куль, по арене к барьеру, к зрителям, и из всех глоток снова вылетело отчаянное: «А-а-а-а!»
И бык обернулся к трибунам. Он повернул голову к людям и так ненавидяще, так осмысленно поглядел на них, что стадион на миг умолк, замер. Люди смотрели в глаза умирающему зверю. Зверь смотрел в глаза убившим его людям. О чем они думали? О том, что жизнь все равно коротка, и неважно, часом раньше или часом позже уйти в небытие?
«El toro! El toro!» — шептали губы Марии. Иван сидел на скамье как каменный. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Молчащий стадион был страшен. Она уйдет от меня, билось в его висках, она все равно уйдет от меня, и я рухну на опилки, на мусор, на доски сцены, как этот поверженный бык. Как этот молоденький тореро, который больше никогда…
На арену выбежали люди с носилками. Иван глядел одним глазом на то, как уносят с арены то, что было секунду назад человеком; миг назад — здоровым, сильным зверем. Мария не отрывала глаз от проколотого рогами быка худого тела тореро, лежащего на носилках. Рука мальчика свисала с носилок вниз, касаясь опилок. Внезапно вспыхнула, взорвав динамики изнутри, праздничная оглушительная музыка. Толстая чернокудрая девица рядом с Марией обмахивалась веером. Было невыносимо жарко, хотя солнце уже садилось, ударяя из-за амфитеатра вверх снопами умирающих лучей. «Лучший из тореадоров Мадрида, Хулио да Сильва, — сказала пухлая девица, доверительно наклонившись к Марии, быстро-быстро махая веером. — Виртуоз был парень, даром что такой молодой. Я все корриды с ним посещала. Как работал — восторг! Не повезло ему сегодня. Ну да с каждым бывает. Вы не знаете, отпевать будут в соборе Санта Крус или где в другом месте?»
Они возвращались домой, к Виторесам, молча. Ни слова не проронили.
Молча поднимались по лестнице их мадридского особняка. Молча садились ужинать. Мария-Луиса осторожно заглядывала им в лица: не поссорились ли? «Нет, маммита, — сказала Мария нехотя, зачерпывая ложкой сметанный соус и поливая тушенное кусочками мясо с цветной капустой, — мы просто сегодня были на корриде, и тореро бык убил. Жалко мальчишку, молодой. Чуть постарше нашего Хоселито». Мать не говорила ничего. Альваро попытался выпить с Иваном вина — тот отказался. «Завтра выступление, Альваро. Я предпочитаю перед шоу не пить. Мышцы слабнут. Это только кажется, что вино — допинг. Совсем наоборот».
Мать постелила им в комнате, выходящей окнами в сад. Абрикосы и апельсины в саду посадила сама Мария — в детстве, когда они с отцом выкапывали лунки в сухой земле для саженцев, привезенных из Пиренеев, а потом усиленно поливали молодые деревца, чтобы не засохли, прижились. Четыре года назад Мария собрала богатый урожай абрикосов. Апельсины еще не плодоносили. Кровать у них с Иваном в родительском доме была широкая, как плот. Плыви, плот, неси нас по течению… куда унесешь?..
Мария задремала, обняв Ивана рукой за шею. Ее больше не тошнило. Она могла спокойно есть мясо. Даже после убийства тореро и быка, увиденных сегодня на корриде на Дель Торо. Она вздыхала, постанывала, не могла уснуть. Посреди ночи она встала и накинула на себя легкий капроновый халатик, делавший ее похожей на фею. «Воздуха, мне надо воздуха, мне надо подышать. Какая страшная жара. Такой жаркой осени не было уже в Испании много лет». Она, осторожно ступая, спустилась по лестнице в сад. Весь дом спит. Ее родной дом. Сколько воспоминаний! Сколько сожалений… Ее первый танец во дворе со старухой Пепой… Ее первые книжки… «Овечий источник» Лопе де Вега… «Дон Кихот» Сервантеса… Габриэла Мистраль… Лорка… Чавес…
Ночной ветер потрогал полу воздушного прозрачного халата. Крупные звезды стояли над Мадридом. Далеко слышался шум машин, большой автострады, ведущей отсюда — на юг, в Севилью и Кадис. Она вспомнила лицо мертвого мальчика, его труп, откатившийся к барьеру арены. Руку, волочившуюся по опилкам, свисавшую с носилок. Вот и все, Мария. Вот и все. Как все просто! Кто же убьет тебя?
«Кто убьет меня, Господи? Хочешь ли Ты, Господи, этого?»
Сзади нее послышался шорох.
— Мама, ты? — тихо окликнула она ночную тьму.
Никого. Тишина. Должно быть, это ветер отогнул жесть с карниза.
И снова шорох. Хлопнула дверь. Она обернулась.
— Папа! Тебе не спится, как и мне? Ты вышел…
Сухой хлопок выстрела разорвал темную ткань жаркой ночи. Отец, стоявший на крыльце, выходящем в сад, вскинул руки — так, как вскидывал их над головой торо, взмахивая красной мулетой, как вскидывает танцовщик фламенко, ходя кругами около красотки, — пошатнулся и упал, хрипя и царапая пальцами воздух, горло, камень крыльца. Попытался встать. Задушенно крикнул. Повалился на крыльцо. Вздрогнул. Затих.
Мария еще не поняла, что он умер. Что его застрелили. Откуда? Кто? Никого не было в саду. Ни тени. Ни хруста шагов. Ни шороха, ни треска больше не слышалось. Полная тишина. Первые, предрассветные птицы робко, тихо чирикали в гущине пожухлой от жары листвы абрикосовых деревьев.
— Папа, — сказала она, протянув руки вперед, к нему, — папа… Ты что… Зачем… Кто тебя… Папа…
Она, как слепая, подошла к нему. Капроновый халатик разошелся на груди, на животе. Она, полуголая, села перед телом отца на корточки.
— Мне это снится, — прошептала она по-русски, — мне снится все это… Я сплю… Я сейчас проснусь… Папа!..
Она взяла его голову в руки. Глаза уже закатились. В углу рта выступила струйка крови. Она схватила его, прижала к себе, баюкала, как ребенка: баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай, — твердя себе: мне все это снится, снится, снится… Тишина. Шепот листвы. Фруктовый сад. Они посадили его когда-то вдвоем с отцом. Чем занимался ее отец, она не знала. Отец не знал, чем занимается она. Он знал только, что она хорошо танцует. И что весь мир рукоплещет ей.
— Папа, — сказала она еле слышно, — не умирай, пожалуйста… Я умею петь только колыбельные песни… Я не умею — погребальные…
Она сидела на крыльце и баюкала отца, и пела ему нежные колыбельные песни, cancion de cuna, до утра, до той поры, пока служанка Химена, проснувшись рано, едва рассвело, не отправилась за свежим молоком и творогом в ближайшую лавку и за овощами и фруктами — на рынок возле автостоянки. Химена увидела ее первая, закричала, заплакала. Побежала за Марией-Луисой. Весь дом проснулся. Когда Иван увидел ее, сидящую на крыльце и баюкающую мертвого отца, и как она вскинула голову, выставив руку вперед, и замотала головой, и прокричала надсадно, надрывно: «Уйдите все! Я вам его не отдам!» — он понял: судьба безлика, у нее нет лица, и невозможно простому смертному прочитать, что там, в ее плотно прикрытых глазах, ничего не видящих вовне, глядящих и зрящих — внутрь.
А когда ее от отца оторвали, и напоили лекарствами, и умыли от слез, и ввели в спальню, и уложили на кровать, и Иван сел на кровать возле нее, держа ее за руку, боясь, что она, как птица, вот-вот улетит, взмоет в небо, он, морщась от напряжения, сказал, пристально глядя ей в лицо, в пустые, как жаркое небо над ареной корриды, неподвижные глаза: Мария, тут зазвонил твой мобильник, я сдуру ответил, кажется, кто-то безумно ошибся, какую-то несусветную чушь порол, требовал какого-то агента вэ-двадцать пять, говорил по-русски, без акцента, я сказал, что ошиблись, там молчание, потом такой ровный голос, да, извините, мы действительно ошиблись, нет, это была просто шутка, просто розыгрыш, игра такая, желаем вам всего доброго, будьте здоровы и счастливы, — что все это значит, Мария, кто хочет тебя разыграть? Кому ты оставляла номер своего мобильника в России? Тысяче людей, хочешь ты сказать, да?.. Кто же из этой тысячи такой остроумный?.. Агент вэ-двадцать пять, ни больше ни меньше, шпионские игры… Бездарные боевики… Я думал сначала — может, это Родион балуется, да на голос Родиона вроде непохож…
«Плюнь и разотри, — услышал он над собой ее ровный мертвый голос. — Делать кому-то нечего. Веселятся. Перепутать номер телефона можно запросто. Никто не застрахован». Она закрыла глаза, лежа на кровати лицом вверх. Попросила жалобно, тоненько: «Укрой меня пледом, всю, с головой. Мне холодно».
Альваро Витореса и тореро Хулио да Сильва отпевали вместе, в один день, в огромном мадридском соборе Санта Крус. Народу собралось пол-Мадрида — публика пришла проводить в последний путь своего любимца тореро. Еще один гроб стоял рядом, скромно — его словно бы никто и не замечал. В гробу лежал, скрестив холодные руки на груди, черноволосый, с проседью в иссиня-черных прядях, еще нестарый мужчина, с благородными чертами лица — возможно, представитель старого рода. Старые люди в соборе шушукались: «Из грандов?.. из идальго?.. Рано умер, болел?.. Да нет, его, говорят, на охоте подстрелили… Что вы, сеньора, это же типичное политическое убийство, сеньор Виторес занимался большой политикой, кажется?.. вовсе нет, его подстерегли ночью на улице и убили из-за того, что он должен был крупную сумму денег — и не вернул… Ах, ах, какая жалость… Мир теперь стал такой, да, жестокий…» Мария стояла у массивной каменной колонны, выпрямившись, вся в черном — черное платье, черный платок на голове. Ее глаза были сухи. Она выплакала все слезы. Здесь, в церкви, она стояла гордо, молча, и, пока играл орган, обрушивая на головы людей невыносимый свет дальней, занебесной музыки, она старалась вспоминать отца. Свое детство. Себя у него на коленях. Его, молодого, веселого, в Пиренеях, с ружьем, в охотничьих сапогах, на скалах. Его, сажающего с нею в саду абрикосы. Его на улицах Москвы, с мороженым в руках, показывающего на афишу модного фильма: «Идем сейчас? Сеанс через пять минут!» Отец…
Она перекрестила лоб по-православному, справа налево. На нее косились закутанные в черное старухи. Орган гудел нестерпимо. Она зажала ладонями уши. Подошла, поцеловала отца, низко, в пол, поклонилась гробу. Прощай, папа. С кем мне еще в этой жизни, пока живу, предстоит проститься?
На кладбище она тоже не вымолвила ни слова. С ней пытались заговорить. Ее локтей, рук касались чужие руки. Она вздрагивала, отодвигалась, молча глядела вбок, в пространство.
Когда ей сказали: брось земли на могилу, брось!.. — она наклонилась, как механическая кукла, взяла в пальцы сухую кастильскую землю, бросила туда, в разверстую страшную яму. Нет, там нет ее отца. Там — чужое, застреленное мертвое тело. Куда увезли того мальчика, тореро? Кто его оплакал? Кто бросил горсть земли в его могилу?
Она уехала с кладбища одна. Иван не заметил, как она ускользнула от всех, исчезла.
Она сначала поймала такси; потом вышла из машины, заплатив шоферу деньги, извинившись; пошла пешком, толком не зная, куда, зачем идет. В Мадриде наступил вечер. На улицах, горящих кровавым неоном бешеных реклам, было много красивых женщин. Толпами слонялись бритые мальчики, лысые девочки с автомобильными шинами серег в ушах, с блесткими пирсингами в ноздрях, в проколотых бровях, с татуировкой, просвечивающей сквозь прозрачные рубахи, с косячками в зубах. Рекламы вспыхивали и гасли, дразня, зазывая. «SEX-SHOP» — взорвалась над головой Марии красная надпись. И красная неоновая девушка с голыми круглыми грудями стала вспыхивать и гаснуть, быстро, дробно, будто танцевала чечетку с кастаньетами, над вывеской порно-магазина. Зачем люди ходят в секс-шопы? Они очень одиноки, должно быть. И им хочется получить наслаждение оттого, что другие, такие же одинокие, заходят в тайные, порочные лавчонки, воровато оглядываясь, а иные и нагло, нахально, торжествуя, а иные — равнодушно, деловито, спеша, как в супермаркет, и покупают для себя искусственные фаллосы и резиновые вагины, а значит, не они одни страдают, а весь мир, выходит, такой — одинокий, страдающий, жаждущий если не настоящего, то хоть жалкого, искусственного счастья.
Она оглянулась. По другой стороне улицы, вызывающе вертя задом, шла черноволосая женщина, ее смоляные волосы были разбросаны по плечам, яркая цветастая складчатая юбка била ее по голым смуглым щиколоткам. На запястьях мотались тонкие золотые браслеты. «Цыганка», — безошибочно определила Мария. Женщина опередила Марию. Прошла еще немного по улице. Оглянулась, почувствовав на себе взгляд Марии. Какие же они чуткие, цыганки. Как они ловят кожей, спиной малейший чужой взгляд, на них обращенный. Они — древнее племя, они пришли когда-то из Индии. Может быть, они действительно знают будущее?
Ей вспомнилась та цыганка, гадалка, в пещере близ Сан-Доминго, когда ее изнасиловал бандит Франчо. Ей вспомнилась ее подруга Лола. Лола делает деньги на своем древнем таинственном ремесле, что ж, это и к лучшему. Она уже человек другого века. А эти — ходят по дорогам, юбками пыль метут. Детей часто нечем кормить. Если за гаданье денежку в смуглую лапку не сунут… тогда — единственный выход — денежку либо еду — своровать?.. Цыганка снова оглянулась. Остановилась. Остановилась и Мария. Минуту обе женщины смотрели друг на друга. Потом Мария, не выдержав темного, бездонного взгляда цыганки, перебежала к ней, на ту сторону улицы, прямо под носом у возмущенно сигналящих, бешено мчащихся машин.
— Простите, сеньора… — Мария задохнулась. — Вы не погадаете мне?
Она протянула цыганке руку.
Та взяла руку незнакомки, ничуть не удивившись натиску.
— А сколько дашь?
— А сколько хочешь?
— Сколько не жалко.
— Идет. — Цыганка склонилась над ладонью Марии. Мария ощутила слабый аромат душицы, исходящий от черных, кольцами, пышных волос женщины. — Все равно у тебя денег скоро много, много будет, зальешься деньгами по макушку. Кровь свою нынче хоронила?
— Да. Откуда знаешь?
— Лусия знает все. Видит все. — Цыганка медленно водила грязным, заскорузлым пальцем по ее ладони. Мария рассмотрела, что она не так уж и молода, как показалось на первый взгляд; мелкие морщины были рассыпаны вокруг глаз, растрескавшийся от жары рот обнажал желтоватые, уже изъеденные временем зубы. Сине-сливовый крупный, как у лошади, глаз косился на Марию всезнающе и дерзко. Монисто из маленьких медных монеток позванивало на ее голой шее. — Двое схватились из-за тебя. Есть и третий. И ревнивица есть, ух, ее берегись. Убить тебя может, а сама маленькая, дьяволица, как головастик. Близко ее не подпускай. Все четверо на тебя зуб имеют. Берегись всех четверых. Никому не верь. Это тяжко — никому не верить. Но тебе надо так жить. Иначе — крышка тебе. Стой!
Цыганка крепко стиснула ее руку. Мария инстинктивно прижала локтем к себе сумку. Чего доброго, нападет, наскочит, сумку выхватит — и была такова. Таких случаев и в Мадриде, и в Нью-Йорке, и в Москве — пруд пруди. Уличные цыганки везде одни и те же, бестии. Лусия вскинула голову, и Марии показалось, что глаза гадалки вонзились, как спицы, в ее глаза, проколов ее голову насквозь. У нее внезапно сильно, невыносимо заболела голова. Сознание стало мутиться. Ночная улица, мигающие, прыгающие рекламы закрутились перед лицом диким колесом.
— Что… что ты сказала?..
Мария боролась с собой, чтобы не упасть. Тошнота опять подступила к горлу.
Как издалека, она услышала над собой хриплый голос гадалки:
— Берегись старого… Старого — берегись!.. Он тебя из-под земли найдет… Твоя с ним встреча — неизбежна… Сегодня… сейчас…
— У меня будет ребенок, скажи?!..
— Что ребенок, заладила — ребенок да ребенок, от смерти еле спасешься, дорогая…
Улица закрутилась быстрее, стремительнее. Покатилась мимо нее цветным неоновым шаром. Мария не устояла на ногах. Упала. Все заволокло серым туманом. Когда она очнулась, сумочки с косметичкой и деньгами при ней не было. Она пощупала карман черного траурного платья. Пластмассовая рыбка телефона, слава Богу, мирно лежала в кармане. Проклятая цыганка убежала, довольная успехом своего колдовства и вечерней добычей. Сколько у нее с собой было денег?.. А, разве важно, она не помнит… не помнит…
Любезный прохожий подал ей руку: вставайте, сеньорита! «Разве можно так напиваться, вы же ведь еще такая молодая! О, молодежь не понимает, что вино — это вовсе не безобидно…» Спасибо, я не пьяна, вскинула Мария голову, опираясь на руку прохожего, меня ограбила цыганка, я сама виновата. Она заморочила мне голову, простите, благодарю вас.
И быстро, быстро пошла по улице прочь. Тошнота не проходила. Теперь у нее нет денег, и она не сможет добраться домой ни в такси, ни в метро. Она пойдет пешком. Она поглядит на свой любимый Мадрид.
Около кафе «Дон Кихот», где она любила когда-то сидеть с коктейлем в руках, с книжкой Сесара Вальехо на коленях, навстречу ей метнулся из вечерней фланирующей толпы поджарый, в ослепительно белой рубахе, смуглый мужчина. Морщинистое лицо казалось темно-лиловым в фантастическом свете синих и розовых фонарей. Прежде чем Мария смогла понять что-либо, ее уже схватили и сжали, сцепили сильные жилистые руки, крепко прижали к себе. И сухие горячие губы покрыли все ее лицо, глаза, шею быстрыми поцелуями.
И, когда она поняла, что это Ким, ее руки сами закинулись ему за шею.
Ее руки захлестнули его. Так волна захлестывает сухой, выжженный берег.
Ее губы сами, не повинуясь ей, нашли его губы.
И вся она так подалась навстречу ему, так обвила его всею собой, что он задохнулся и стиснул ее в объятьях до звона сердца, до потери разума.
— Ты!..
— Ты…
— Откуда ты?..
Поцелуй. Молчание. Они пили друг друга, как умирающие от жажды в пустыне.
— Не спрашивай. Молчи. Из Москвы. Откуда же я могу быть?
— Кто тебе сказал, что я здесь?
— Я читаю газеты. Я видел у Беера твоего продюсера.
Мария схватила Кима за плечи. На них оглядывались прохожие. То розовый, то синий, то золотой, то кроваво-алый свет реклам бил им в лицо, фонари заливали их сиянием. В свете фонарей они походили на двух призраков.
— Беер знает Станкевича?!
— Они дружат. Так я понимаю. Тебе это интересно?
Их губы снова нашли друг друга. Говорили друг другу без слов: я твой, я твоя, как же ты этого не понимаешь, я же не могу без тебя, ну да, да, и я тоже не могу, мы не можем, не сможем друг без друга, мы пропали, мы обречены.
— Ничуть. Мне интересно, почему ты здесь очутился.
— Ты спрашиваешь. Ты круглая дура.
— Да, я круглая дура.
— Я не мог больше без тебя. Я захотел увидеть тебя.
— Так просто?..
— Да. Так просто. Ничего проще любви нет на свете… родная.
Он в первый раз назвал ее так — «родная». И ее сердце зашлось. Губы снова слились. Они пили, впивали дыхание друг друга. Мария слышала, как бьется сердце Кима под белой рубашкой, под смуглой кожей, под ребрами.
— Не обманывай меня. Ты здесь не только из-за меня.
— Может быть. Это неважно.
— Я из твоего ребра.
— Да. Ты из моего ребра. Отойдем в сторону. Здесь есть какая-нибудь скамейка?
— Вон скамейка. Идем.
— Я не выдержу. Я возьму тебя на этой скамейке. И полиция арестует нас, как нарушивших…
Они отбежали к скамейке, приткнувшейся около маленького фонтана. Голые коричневые дети играли в фонтане, брызгались водой, хохотали, взвизгивали. Ныряя, вылавливали со дна монетки — песеты, сантимы, пенсы. Ким сел на скамейку, Мария, не помня себя, села ему на колени. И почувствовала, как там, внизу, под ней, напряглась, восстала мощь его неодолимого желания — ее, только ее одной в целом свете. Она ощущала коленями, бедрами его живую наваху. Ей хотелось крикнуть: пронзи меня! Она обвила его шею рукой. Снова его губы — под ее губами. Его руки обхватили, обняли, как две живых чаши, ее груди. Она, откинувшись, чуть не закричала от радости.
— Не трогай меня так… я закричу…
Он сжал пальцами ее соски. Сам застонал. Засмеялся.
— Я так счастлив чувствовать тебя. Ты моя навек.
— Да. Я твоя навек. Сегодня хоронили моего отца.
Он крепче прижал ее к себе. Зарылся лицом в ее шею, в волосы, выскользнувшие из тяжелого пучка на затылке.
— Сегодня?
Казалось, он не удивился.
— Да. В соборе Святого Креста. Ты знаешь о том, что мы с твоим сыном обручились?
— И где вы хотите венчаться? Там же? В Санта Крус?
Он спросил это так спокойно, что она не поверила — он ли это ее спрашивает.
— Может быть. Не знаю. Ты понимаешь, — она, сидя у него на коленях и вся дрожа от того, что смертельно желала его, — ты понимаешь, что нам нельзя быть вместе?! Ты хоть понимаешь это?!
Он закрыл ей рот поцелуем. Откинул ее голову назад. Голые мальчишки, вылезшие из фонтана, увидев их, целующихся, засвистели пронзительно. Они отпрянули друг от друга.
И тут загудел фальшиво-победный марш мобильный телефон у Марии в кармане. И она выдернула его из кармана, и нажала кнопку, и отчаянно закричала по-испански:
— Виторес у телефона! Виторес у телефона!
— Агент V25? — Полярный холод пахнул от далекого голоса, размеренно, надменно говорящего по-русски. — Слушайте внимательно задание. В мадридской гостинице «Насьональ», в номере двести сорок восемь, остановился человек, к которому вы должны сегодня прийти. Через два часа. Администрация гостиницы информирована о вашем приходе. Вас пропустят в номер беспрепятственно. Вы представитесь этому человеку работницей фирмы, обслуживающей богатых клиентов и обеспечивающей их ночной досуг, и скажете, что заказ девушек из этой фирмы входит в число сервисных услуг элитной гостиницы. Вы проведете с ним ночь. Ваше задание заключается в том, чтобы узнать от вашего клиента конкретные сведения. Слушайте, какие, и запоминайте. Сведения о…
Холодный далекий голос перечислял все, что Мария должна была выудить у чужого человека ночью, в отеле, в постели. Она повторяла неслышно отвердевшими губами слова, что говорил голос. Потом голос сказал: «Вы все поняли? Повторить?» — и она сказала в трубку так же холодно, ледяно: «Все поняла. Повторять не надо». Ким вынул телефон из ее похолодевших пальцев. Положил ей в карман.
— Тебе идет траур. Это был звонок из Москвы?
— Да.
— Он?
— Да. Его человек. Он приказывает мне. И я делаю.
— Что ты должна делать сейчас?
— Идти в гостиницу «Насьональ». В двести сорок восьмой номер.
Ким, криво улыбаясь, вынул из кармана кусок пластика.
— Что это?
Она глядела непонимающе.
— Карта. Здесь деньги.
— Какие деньги? Чьи деньги?
— Твои. Я привез тебе твой гонорар от Беера. Здесь очень много денег, Мария. Тебе и не снилось. Вам с Иваном хватит, — он снова криво усмехнулся, — на всю оставшуюся жизнь. И танцевать не надо.
Мария вырвала у него пластиковую карту из пальцев. Размахнулась. Хотела бросить. Он схватил ее кулак в свою руку, внимательно поглядел на нее. Она все еще сидела у него на коленях. Мальчишки плескались, верещали в фонтане, ныряли на монетками. Они с Кимом глядели друг другу в глаза.
— Уйди, — сказала она беззвучно. — Если все так, то уйди.
— Все хуже, чем ты думаешь. — Он положил руку ей на голое, выбившееся из-под траурного крепа плечо. Погладил ее по шее, как оглаживают взбесившееся или раненое животное. — Все гораздо хуже, Мария. Я должен тебе это сказать, Мария. Я убил твоего отца. Беер мне его заказал.
Она не помнила, как падала головой вниз в воронку, в черный, глубокий омут. Ее засасывало, втягивало, оттуда не было возврата, и она молила Бога: пожалуйста, не вынимай меня оттуда, мне там хорошо, не вырывай меня и не бросай снова туда, где кромешный ужас. Когда она очнулась, она поняла, что лежит на руках у Кима. Он стоял с ней на руках около здания одного из лучших отелей Мадрида.
— Очнулась? — спросил он. — Держаться на ногах можешь? Иди.
Он опустил ее на землю. Она пошатнулась и уцепилась за его плечо.
— Куда?
— В двести сорок восьмой номер, ты же сказала.
Она выкрикнула ему в лицо:
— Я не пойду! Лучше умереть! Убей меня, как убил отца!
— Тише, не кричи. Швейцар вытолкает тебя взашей. Это работа, Мария. Люди на земле по-разному работают. Мы же не виноваты, что у нас с тобой такая работа, а не другая. Иди.
Она сделала два шага по направлению к гостиничным, ярко освещенным стеклянным дверям. Остановилась. Обернулась к Киму. В ее глазах полыхало отчаяние.
— Ты… толкаешь меня… в постель… к другому человеку?!.. После того… как ты… так… сейчас… хотел меня?!.. И я… и я тебя тоже…
Она задыхалась. Не могла говорить. Ким шагнул к ней. Взял ее лицо в руки.
— Сними этот траурный шарф с плеч. — Он сдернул с нее черную шелковую тряпку. — А если тебя спросят, почему ты вся в черном, скажи: это национальный испанский цвет. Думаю, там, в номере, иностранец. Но ты же хорошо знаешь английский. Для испанской «ночной бабочки» — очень хорошо.
И он снова толкнул ее в спину, уже сильнее, жесточе. Она обернулась и крикнула:
— Я убью тебя! За то, что ты убил отца!
— Убей. Пистолет при мне. Я знаю, что ты хорошо стреляешь. — Он улыбнулся. — И тогда все наши мучения разом закончатся. Знаешь, я устал жить. Дети выросли, бабы все одинаковы, что еще ждет? Да ничего, кроме нового ужаса. Я внутри ужаса живу, это мой быт. Если бы не ты — я бы, может быть, сам отсюда ушел. — Он сунул руку в карман, не стесняясь и не боясь редких ночных прохожих, вытащил пистолет. Взвесил на ладони. — На! Держи! Стреляй! Здесь будешь или в подворотню зайдем?
Мария в ужасе, как на огнедышащее чудовище, остановившимися глазами глядела на него. И внезапно кинулась ему на шею. И ее смуглые локти вскинулись над его головой. И его губы уже искали, мяли, тискали, жесткой печатью вжимались в ее губы.
— Мария, Мария, Мария, — шептал он ей в волосы, целовал плачущие глаза. — Мария, ну можно ли быть такой глупой? Мария, мы оба попали в тиски, но это же ничего не значит, Мария, мы же одно, мы же одно, одно… нас разрубит только смерть, помни это, знай это… Прости меня… прости, прости… Выхода нет, где выход, если бы я это знал, если бы я только знал выход — мы бы с тобой сразу, сразу же, вдвоем, глупое мое существо, любимое, родное, вечная кровь моя, стремглав побежали туда…
Она оттолкнула его, вытерла ладонями мокрое лицо и пошла, шатаясь на каблуках, в траурном платье, в котором нынче хоронила отца, к ослепительному парадному входу в «Насьональ». Ким следил за ней глазами, пока за нею не закрылись двери.
МАРИЯ
Я не помнила, как я под утро пришла из гостиницы домой.
Я не помнила, что я сказала Ивану в свое оправдание.
Я не помню, как мы танцевали на следующий день во дворце бизнесмена Игнасио Лопеса шоу «Коррида». Помню — после «Корриды», когда я сидела за кулисами, бессильно уронив руки на колени, ссутулившись, невидяще уставившись в пространство, а девочки-гримерши обмахивали меня полотенцами, как боксера после нокдауна, ко мне подошел сам Игнасио Лопес, заказавший у Станкевича это наше единственное выступление, и опустился передо мной на одно колено, низко наклонился и прикоснулся губами не к моей руке — к моей ноге, к ступне, обтянутой лишь прозрачным, в цвет тела, тонким трико.
Все сведения, добытые мною той мадридской ночью у крупного военного босса Америки, генерал-майора авиации США Джеймса Клэйвела, я наговорила на диктофон. Диктофон я обнаружила у себя в кармане, рядом с моим телефоном. Так же, как и пластиковую карту «Western Union» с моим жалованьем за мое шпионство, положенным мне щедрой рукой негодяя Беера.
Ким чуть не убил моего жениха. Ким убил моего отца. Ким своей рукой дал мне деньги за то, что я убила в Японии много людей в метро, своею рукой толкнул меня в спину, прогоняя в постель чужого человека, отвратительного мне, и своей же рукой всунул мне в карман рабочий миниатюрный шпионский диктофон. Как жаль, что я не взяла у него еще и пистолет. Он бы мне не помешал.
Я, как и Ким, выбивала на стрельбах двадцать очков из двадцати. Меня в Школе учили стрелять из положения стоя, сидя, лежа, на коленях, с колена и навскидку.
У меня просто руки чесались пострелять. Выстрелить в наглую светлоглазую морду Беера.
Но не в Кима. В Кима — никогда.
Я поняла, что я люблю его. И эта любовь — мне приговор.
И даже если бы Ким убил мою мать, всех моих родных, и навел бы пистолет на меня, и спустил бы курок, — и в этот последний миг я бы все равно, черт меня побери, безвозвратно погибшую тварь, — любила бы его.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ПЯТЫЙ. ГРЕНАДИНА
И мы прилетели в Москву из Испании, и началась жизнь, которой мог жить далеко не каждый сильный и выносливый мужик, не то что нежная женщина.
Я не мечтала о такой жизни.
За какие грехи мне судил ее Бог? За то, что я не удержала во чреве своем своего первенца? За то, что плохо и мало любила родителей своих? За то, что танец для меня стал превыше всего, мой успех стал для меня единственной целью, что я поставила себе, сцепив зубы и сказав себе: добейся! Ты станешь лучшей танцовщицей мира! Ты будешь танцевать в таких шоу, которых мир еще не видел! С тобой, мадридской девчонкой Маритой, будут снимать фильмы, за тобой будет тянуться шлейф поклонников, и лучшие хореографы будут припадать к твоим ногам, мечтая поставить спектакль, шоу, один лишь танец — с тобой, только с тобой! И ты поимела успех, Мара. Мария и Иоанн — это звучало навесь мир, плыло над миром! Но ты забыла о том, что ты — женщина. А когда ты вспомнила об этом, твоя судьба изломалась и перегнулась, как танцовщица в классическом па аргентинского танго, затылком — до самых пяток.
Мой телефон трезвонил постоянно. «Агент V25? Слушайте задание. Вы должны пойти на перекресток Поварской и Нового Арбата, встать спиной к зданию новоарбатской почты…». «Агент V25? Слушайте приказ. Садитесь в метро, поезжайте по Люблинской линии до станции „Братиславская“…». «Агент V25? Идите к храму Христа Спасителя. Войдите в храм. Там будет идти служба. Станьте слева от алтаря. К вам подойдет женщина в черном платье и красной косынке, она передаст вам…». Но больше всего я боялась услышать в трубке: «Агент V25? Поезжайте сегодня вечером по адресу: Фрязевская, одиннадцать, квартира пятьдесят шесть. Вам откроют дверь, спросите Андрея Завалишина. Вы представитесь девочкой из фирмы для услуг по эротическому массажу. Он действительно вызывал такую девушку. Вы проведете у него ночь. Возьмите с собой диктофон…» Я брала с собой не только диктофон, но и бутылку коньяка, и пачку снотворных таблеток, и упаковку презервативов. Я готова была взять с собой еще и хороший сильнодействующий наркотик. Коньяк и снотворное предназначались отнюдь не для клиента. Для меня. После ночи, проведенной по приказу Беера, я запивала дома пару снотворных таблеток стаканом коньяка, закрывала дверь на все замки, в том числе и на новейший финский, с девяносто девятью секретами — от него у Ивана ключей не было, — ставила квартиру на сигнализацию и, уже без сознания, рушилась на кровать.
А потом? Что потом? Потом, проснувшись, вставала под холодный душ. И стояла под душем до посинения. И растиралась махровым полотенцем до покраснения. И с ног до головы намазывалась персиковым швейцарским кремом для регенерации кожи. Мне хотелось сменить кожу. Содрать эту, оскверненную, и нарастить, приклеить новую. Когда надо мной поднималось и опускалось чужое, храпящее и сопящее тело, я закрывала глаза и говорила себе: это все скоро кончится, Марита. Это скоро кончится. Когда ты забеременеешь, ты удерешь от них от всех. И ребенок будет только твой. Твой — и больше ничей.
И Ты воспитаешь его одна. Сама. Без никого. Как хочешь ты. Одна ты.
Иван не надоедал мне. Казалось, он даже опекал меня. Он не спрашивал, почему я часто не открываю дверь. Почему от меня часто пахнет коньяком. Я никогда не опаздывала на репетиции. Он никогда не посягал на приватность моего жилья на Якиманке. Не стремился тут же, став моим женихом, опередить события и зажить со мной одним домом. Он не торопил время. Я тоже не торопила его.
Я проклинала его, время.
Ибо каждый день и каждый час, проведенный не с Кимом, вне Кима, без него, казался мне лживым, пустым, преступно потерянным временем.
А я не знала ни адреса, ни телефона Кима, хотя узнать его у Ивана была бы пара пустяков. Пустяков? Я же поклялась Ивану, что больше никогда… Я твердила себе: живи, живи своей жизнью. Ким, не вторгайся в мою. Пусть мы, как темные рыбы, поплывем в людском море бок о бок, рядом, но — не вместе. Рядом, ведь это не вместе, правда?.. Я произносила сама себе беспомощные и беспощадные монологи. Я понимала, что я крепко попалась в лапы Аркадия Беера, что он теперь отныне — не навсегда ли? — мой полноправный хозяин, — а в жирную рожу Станкевича мне частенько хотелось плюнуть, загвоздить ему по лысеющей башке вывернутым из мостовой на Красной площади старым булыжником. Время текло и утекало сквозь пальцы, и я измеряла его теперь не каждым новым танцем, как раньше — каждым новым днем, прожитым после очередного ледяного голоса в трубке: «Агент V25, на углу Никитского бульвара и Большой Никитской вас ждет черная „волга“, номер 22–78, вы подойдете и сядете в машину, водителя зовут Тарас, вы проведете с ним вечер и ночь, возьмите с собой диктофон, вы должны задать ему три вопроса, слушайте и запоминайте…» Я измеряла время каждый днем, прожитым без Кима.
И время, текущее для других, для меня однажды остановилось.
Я перестала чувствовать, ощущать его ход.
Я поняла, что времени — нет.
А есть только мы, плывущие и танцующие там, внутри, в нем, навеки застывшем, остановленном, и лишь нами стоячая вода времени просвечивается насквозь, и лишь от беспомощных взмахов наших ног и рук, от толчков наших барахтающихся в жалкой земной любви тел оно, время, движется и вздрагивает, течет и набегает прибоем на равнодушную, каменно-жесткую землю.
* * *
И настал день, когда Беер пригласил меня к себе на день рожденья.
На свой собственный день рожденья.
Скажите пожалуйста, какая цаца! Больше всего на свете я хотела бы сдать его в этот торжественный день в руки ФСБ. Но я прекрасно понимала: он не один. За ним — люди. Тайная группировка, мощная, разветвленная, пустившая щупальца в разные страны. Сеть Беера крепко опутала мир, и я — всего лишь маленькая рыбка-уклейка, попавшаяся в ее ячеи, туда, где бьют хвостами могучие тунцы и серебряные сельди, драгоценные осетры и умнейшие дельфины… «Стань умным дельфином и вырвись из сети, — шептала я сама себе, — ну неужели тебе это так трудно, ты же умная, ловкая, хитрая, сообразительная, Марита, ты же так красиво ускользаешь из-под руки партнера на сцене в стремительной гренадине, так ускользни из-под острого, как пистолетное дуло, локтя Беера! Удери в другую страну! Тебе же все равно, от кого у тебя будет ребенок. Иван, Ким… Плюнь на них и роди дитя от какого-нибудь чернокожего туземца в Новой Зеландии! Чем дальше ты смоешься, тем труднее тебя будет отыскать… Да никто, может, особо и не будет искать тебя, ты ведь мелкая сошка…»
День рожденья. День рожденья. Что этой сволочи купить в подарок?
Гад, ведь он будет ждать подарка.
Почему мир так устроен, что мы вынуждены улыбаться и дарить подарки людям, которых мы хотели бы убить? Стереть в порошок? Уничтожить?!
Я отправилась за подарком для Беера в магазин рядом с моим домом, на Якиманке. Еще чего, буду я рыскать по всей Москве, разыскивать для него невиданные роскошества! С каким бы удовольствием я преподнесла ему в фарфоровой вазе кучу свежего дерьма! Я мысленно взнуздала себя, как лошадь. Пластиковая карта, мой неслыханный гонорар за мою адскую работу, валялась в новой сумочке, что я приобрела себе взамен той, украденной в Мадриде цыганской Лусией. Из этих денег, сказала я себе, из этих поганых денег я куплю ему, козлу, первое, что попадется мне на глаза или под руку.
И я вошла в маленький магазинчик, и там, ура, был целый отдел всякой подарочной блесткой шикарной мишуры; и я подошла ближе к прилавку, и продавщица, молоденькая девочка, сначала пялилась на мои ноги, обтянутые колготками «Levante», я была в мини-юбке и в длинном черном, расстегнутом, метущем полами улицу осеннем макинтоше и в лакировках от Гуччи на высоких, десять сантиметров, каблуках; а потом девочка подняла глаза — и увидела мое лицо, и узнала меня.
— Ой, Мария Виторес, гляди! — Девочка ущипнула за локоть напарницу, оживленно болтающую с кассиршей. — Ой, Мария, здравствуйте, вы сегодня прекрасно выглядите, мы так рады, что вы у нас… Что вам подобрать? — Девочка смотрела на меня умильно. — Что желаете?
Я кинула взгляд на магазинную полку — и мне в глаза бросилось яркое, слепяще-алое, стекающее вниз атласной красной рекой, переливающееся багряным, оранжевым, малиновым.
— Что это? — Я показала на буйство красного атласного огня.
— Это? — Девочка с готовностью сдернула с витрины струящуюся ярко-алую ткань. — Это, знаете, чудо что такое, это мы получили недавно, точнее, только вчера, это замечательная атласная красная скатерть, ноу-хау, понимаете, белые праздничные скатерти уже немодны, все покупают только цветные, синие, красные… даже черные, представьте себе!.. сейчас в моде даже красные и черные свадебные платья… как ни странно, ха-ха… Видите, какая прелесть! Играет!.. Похоже на красную парчу, правда?.. хоть это и атлас… но особой выделки шелк, вы понимаете, бельгийский…
Я взяла ослепительно-красную ткань в руки.
И сердце мое замерло. Потом забилось, как бубен. Как барабан. Как маленький барабанчик в безумном танце болеро.
Мулета. Это была мулета.
Это была не красная импортная скатерть из Брюсселя. Это была настоящая мулета, и тореадор шел с нею на быка, дразня зверя, играя ею перед самым его носом, перед бешено вылезшими из орбит, затравленными глазами.
Я куплю эту мулету. Я подарю ее Аркадию.
— Сколько?
— О, совсем недорого, совсем…
Девочка назвала цену. Я вытащила из сумочки кредитную карту. Мне, подобострастно улыбаясь, завернули в красивую упаковку алую ткань.
Я подарю тебе, сволочь, мулету, думала я, садясь в машину. Я подарю тебе мулету, думала я, поднимаясь в лифте в двадцать пятую квартиру в доме на Первой улице Энтузиастов, я подразню тебя. На красной ткани не будет видна красная кровь. Чья кровь? Я не додумала. Рука уже нажимала на кнопку звонка. Уже мелодичный звон раздавался в глубине огромной элитной квартиры. Уже телохранитель открывал дверь, подозрительно-придирчиво, грозно ощупывая меня волчьими глазами: кто я, своя ли, не принесла ли с собой оружия или взрывчатки, не выстрелю ли прямо сейчас хозяину в лицо? Исправно служат службу. Хороших цепных псов Беер набрал.
Алая ткань сквозь прозрачный пакет жгла мне руки. Бьющееся сердце жгло мне ребра. Кто будет сегодня у него в гостях? Для всех приглашенных я — известная танцовщица фламенко. Для Беера — агент V25. Еще — для Станкевича и Метелицы-старшего, если они оба сегодня будут здесь.
Я во весь рот улыбнулась бодигарду. Стерла с лица улыбку. Надменно посмотрела поверх его долыса выбритой головы.
— К хозяину. Возьми пальто. Повесь.
Молниеносным движением я сбросила макинтош на руки опешившему охраннику, не подозревавшему, что он сегодня еще и гардеробщик. Огладила на себе тугое, подчеркивавшее мою грудь и тонкую, как у осы, талию, блестящее черное, с ниткой люрекса, нагло-короткое платье, купленное в Мадриде в Доме моделей Паломы Пикассо. Выставила колено перед угрюмым бодигардом.
— Все в гостиной?
— Да. — Он не знал, как меня назвать: мисс, сударыня, барышня, мадам, госпожа. Русский язык потерял обращение к женщине и к мужчине — главное в Европе. Сеньорита. Я же сеньорита, дубина, хотелось мне сказать ему. — Как доложить?
— Как? — Я думала один миг. — Агент вэ-двадцать пять.
— Прямо так и сказать?
— Прямо так и сказать.
Он, косясь на меня, пошагал впереди, грузно переваливаясь с боку на бок, всунул голову в украшенную лепниной дверь гостиной. Из-за приоткрытой двери донесся гул, повалил табачный дым, поплыл звон бокалов, смешки и пересмешки, праздничные возгласы. Цветная пестрота богатого пиршества, изысканно-разгульной вечеринки донеслась до меня из-за двери и обожгла меня. И мне до боли, до слез захотелось порушить, хулигански разрушить эту богатую, наглую праздничную идиллию. Ким убил моего отца… по чьему приказу?!
Все внутри меня будто обварило кипятком. Я догадалась.
Какая же я дура была раньше. Как я не поняла!
— Спасибо, — сказала я бодигарду, похлопав его по бычьей шее, — проваливай.
И, крепко сжимая в руке сверток, вошла в гостиную.
Все лица повернулись ко мне. Все фигуры обернулись ко мне. Все руки с бокалами, все намазанные, насурьмленные глаза, все голые шеи и плечи в блестящих камешках, все жирные хари над атласными галстуками, все приоткрытые для тостов и восхвалений хозяина, лживые, врущие, льстящие рты — повернулись ко мне.
— О, Мария! — Оскаленные зубы хозяина сверкнули навстречу мне остро, ножево. Светлые глаза прошили меня пулеметной очередью. — А я вправду думал, что ко мне агент. Джеймс Бонд, ха-ха-ха!.. в юбке… Очень, очень рад видеть вас! Господа, Мария Виторес собственной персоной!
Вывернулся, гаденыш. Гости зааплодировали. Лакеи наливали в бокалы шампанское. Я вернула Бееру праздничный оскал улыбки. Протянула сверток.
— Поздравляю! И желаю.
— Чего? — Острый, летящий навылет сквозь меня, белый взгляд. — Или кого? Может быть, меня?
Нервное, лебезящее хихиканье стоящих рядом, тех, кто услышал и оценил плоскую остроту. Звон бокалов, крики: «Разворачивай! Показывай, Аркашка, что тебе испанка подарила!» Злая дрожь, обнимающая мои колени, руки, ступни. Усилием воли я подавила в себе дрожь ненависти. Постаралась придать голосу и улыбке сплошное очарованье. Я ведь все-таки была актриса. Я не утеряла еще врожденного и наработанного на сцене артистизма.
Он медлил брать сверток. Чего-то боялся? Тянул время? Хотел меня смутить? На миг мне показалось — в его белых глазах робота мелькнуло человеческое.
И тогда я рванула хрустящую прозрачную упаковку. И дернула вверх сложенную вчетверо ткань. И алая, кроваво-дикая мулета взвилась перед лицом Беера, и я схватила другой рукой ее край, и так, держа красную тряпку двумя руками, встала перед Беером, встала прямо, гордо выгнув спину, плотно сдвинув ноги — так, как стоят в позе страшного, последнего торжествующего танца перед быком — тореро.
Поднялись крики, визги: «Браво!.. Браво, Испанья! Красиво придумано!.. Ай да Виторес, отмочила…» Среди выкриков и смеха я различила настойчивое: «Коррида! Коррида! Танец! Танец!»
Скоро уже вся толпа гостей, обернув ко мне разгоряченные, пьяные, скалящиеся в смехе лица, скандировала, хлопала в ладоши:
— Та-нец! Та-нец! Та-нец!
Я махнула красной тряпкой перед лицом Беера.
Перед мордой быка.
И толпа зрителей затихла.
И бык наклонил голову. И раздул ноздри.
Белоглазый, сивый бык. В Астурии бывают такие быки. Мой покойный отец, что погиб по приказу этого дьявола, возил меня в Астурию, когда мне исполнилось десять лет, и там я видела корриду с таким вот белым, как старый мерин, быком. Тореро тогда убил быка. На светлой шкуре рубиновой вышивкой горела алая кровь. С самых дальних трибун ее было видно. Меня тогда вырвало, и я горько плакала, забившись отцу под мышку. Это была моя первая коррида. Мать потом ругалась, кричала: «Ну можно ли было нежную девочку возить на этот ужас, сам подумай, Альваро!»
Я еще раз махнула мулетой и тихо, отчетливо сказала:
— Ну же, дерьмо. Ну же. Потанцуем. Поиграем. Нападай. Нападай в открытую. Гости твои просят. Давай.
И бык разъярился.
Бык разъярился мгновенно. Масла в огонь больше не пришлось подливать.
Жестко глядя мне в глаза глазами прожженного убийцы, он так же тихо и отчетливо сказал мне, чтобы слышала только я одна:
— Что ж, поиграем. Ты подписала себе приговор. Тебе, вижу, очень хочется на тот свет. Я же тобой не дорожу, падаль. Ты же уже добыла мне то, что я хотел. Ты поработала на меня. Хочешь унизить меня? Растоптать меня? Я вижу тебя насквозь. Потанцуем, сука, если тебе так неможется.
И только он ринулся на меня, сделал выпад, чтобы схватить мулету в кулак, как я, испанка, истинная пиренейка, горянка, всосавшая искусство танца с молоком матери, я, наблюдавшая потом, после первых слез, корриду множество раз и изучившая досконально все движенья тореро, все его повороты и нападения, изгибы его увертливого тела и неожиданные взмахи мулеты в его ловких и сильных пальцах, — только он рванулся ко мне, как я, встав на цыпочки и подняв мулету над его стриженой сивой головой, развернулась к нему спиной и резво, ловко отшагнула вбок. Беер чуть не упал на паркет. Я слышала, как он грязно выругался.
— Ах ты…
А я уже снова стояла перед ним, сдвинув ноги и вывернув носки туфель наружу. Классическая стойка тореро. И мулета — перед его разъяренным лицом — в моих откинутых вбок, вытянутых как палки руках, напряженных, застывших на миг.
И снова его бросок. И мой поворот. И сдавленное хриплое ругательство.
И мы выходим, незаметно для себя, на середину огромной гостиной, и на гладком паркете скользят мои ноги в «лодочках» от Гуччи, его ноги в модельных башмаках от Версаче.
И все смотрят на наши лица. И все смотрят на наши ноги. И все смотрят на алую слепящую мулету у меня в руках, что навек перестала уже быть красной брюссельской модной скатертью, последний писк, супердизайн, а манит и дразнит злого быка, когда-то бывшего человеком.
И я, не видя лиц, на меня обращенных, чувствую их — всею кожей. Я двигаюсь точно и рассчитанно. Чутье ведет меня. Бык бросается вперед — я уклоняюсь от него резко и изящно, как в танце. Да это и есть дикий, страшный танец. Танец-ужас. Танец-насмешка. Танец-бред.
Судьба есть бешеный, необъяснимый танец-бред. Все мы совершаем движенья и жесты. Делаем па. Фуэте и батманы. Повороты и поддержки. Отбиваем чечетку страха. Задираем ноги в канкане. И ускользаем от рогов сужденной смерти в черно-алой, жестокой корриде.
Бык ринулся — и увернулась. Мулета взлетела. Ударила воздух перед вытянутыми руками, перед кулаками человекобыка. Я прямо, весело и нагло взглянула на него. Я говорила глазами: ты, глупец. Ты, бык-дурак. Я же играю с тобой. И ты поиграй.
И он понял. Он наконец понял, что от него хотят. Народ хотел танца. А он сражался всерьез. Я играла, а он хотел меня подцепить на рога всерьез!
— Ты, — хрип его резанул меня по лицу, по горлу, как лезвие, — ты, танцорка… Танца хочешь?.. Идет…
И он прекратил наскакивать на меня с кулаками, с загнутыми крючьями пальцев, и поднял руки над головой, как это делают истинные испанцы в гренадине, в выходе фламенко.
Полная тишина настала в гостиной. Люстра над головами чуть позванивала на сквозняке — окно было открыто в ночь — всеми хрустальными висюльками. Я держала перед быком мулету строго, развернув алую ткань полностью, алым флагом, перед безумной мордой. Казалось, с зубов Беера капала слюна. Его лицо заливало потом. Я видела — он устал. Я изрядно измочалила его. Так, так, отлично! Теперь ты знаешь, сволочь, почем кусок хлеба танцора! Почем кусок хлеба наемника! Почем кусок смерти загнанного быка! Загнанного человека, ты, дрянь…
Он стоял перед мной, подняв руки над головой. Я стояла перед ним с широко растянутой мулетой. Публика молчала. Хрустально звенели подвески люстры. И я слишком близко подошла к нему с мулетой. И я, ничего не говоря, взяла мулету в левую руку. И так же молча, ничего не говоря, занесла над ним руку, как заносит ее тореро, чтобы всадить в горло быка острую наваху.
И я громко, со звоном, что отдался во всех углах гостиной, ударила человекобыка по щеке.
Это был мой удар навахой. Это была моя месть ему. Это было мое торжество. Это был мой подарок ему — на его день рожденья.
— Лучше бы ты никогда не родился, Аркадий Беер, — сказала я так же тихо и внятно, приблизив к нему потное лицо.
И бросила красную тряпку ему под ноги.
И наступила на нее ногой, будто бы попирала ногой его поверженное тело. Будто бы на грудь ему наступила, на его белоглазое, гладко выбритое, ненавистное лицо.
«А теперь будь что будет, — сказала я себе. — Пусть трибуны беснуются. Может быть, он выкинет меня в окно. Выбросит с балкона. Но я сделала, что хотела. Отец, ты можешь быть доволен».
Вся кровь отлила от его лица. Он стоял передо мной, бык, наклонив лобастую голову, и в его глаза было страшно заглянуть. «Сейчас он ударит меня», — подумала я мгновенно. Но не отшагнула от него. Не опустила голову.
И он, продолжая так же тяжело, набычась, страшно глядеть на меня, запустил руку назад, за спину, и вытащил из кармана своих праздничных портков револьвер.
Я не разбиралась в марках револьверов. Я видела — револьвер увесистый, серо-стальной, с длинной рукояткой, с широким отверстием дула. Черный глаз дула уже глядел мне в лицо. Я так и знала, что этим все кончится. Отлично! Мне надоело жить так, как меня принудили жить.
— На колени, — прохрипел Беер судорогой глотки. И страшно, весь налившись багровой кровью, завопил: — На колени!
На колени? Мне — на колени?!
— Стреляй, — отчетливо сказала я ему. — Я перед тобой никогда не колени не встану. Стреляй!
Тишина в гостиной. Только хриплое дыхание Беера. Только впившиеся в нас обоих, горящие глаза приглашенных на праздник.
Он вытянул вперед руку с револьвером.
Я ни минуты не сомневалась — он выстрелит.
Сейчас. Вот сейчас!
На миг, на короткий и ослепительный миг вся жизнь промелькнула перед моими глазами. Промелькнула — и погасла. Так гаснет пламя свечи. Я знала, знала, что меня убьют когда-нибудь. Мне моя Лола, пугаясь, отворачиваясь, разбрасывая веером карты Таро по столу, невнятно, щадя меня, пыталась это сказать.
Ребенок… Мой нерожденный мальчик… Отец, не продолжится твой род…
И из толпы, затаившей дыханье, выступил вперед человек. Все тут были в костюмах от Климентович и в смокингах от Валентино — он один был в белоснежной рубахе, заправленной в узкие, плотно обтягивающие мускулистые стройные ноги, черные джинсы. Я не взглянула на того, кто вышел вперед. Я и без того знала — это Ким.
Ким Метелица, ты же киллер. Ким Метелица, убей своего хозяина!
Бодигарды убьют тогда нас обоих. Толпа разорвет нас в куски. И это нам суждено. Толпа не прощает великой любви. Чернь не прощает преступной любви, выставляемой напоказ. Люди не прощают счастливой паре красивого Эроса. Они не прощают любящим — счастья.
Ким шагнул еще и оказался между нами.
Между дулом пистолета Беера, направленного на меня, и мною, ставшую ногой на скомканную красную мулету, лежащую, как мертвый зверь, на полу.
— Отойди, — одними губами выхрипнул Беер. — Отойди, Ким. Не мешай мне.
— Давай и меня вместе с ней.
Ким заслонил меня собой. Он заслонял меня спиной, расставив руки, и я чувствовала слабый манящий, переворачивающий все во мне запах его пота, исходящий от его рубашки. Ким, любимый. Ты сам сказал — мы уйдем отсюда вместе. Только вместе. Твое видение — сбудется?!
Толпа, что же ты молчишь… Тебе любопытно, толпа?!..
Тебе всегда любопытно, во все века…
— Ты, живой щит. — Вместо голоса из глотки Беера излетал наждачный скрежет. — Пропади. Последний раз говорю…
Ким выбросил назад крепкую смуглую руку и отодвинул меня в сторону рукой. Беер вскинул револьвер, вцепившись в рукоять, и оскалился. Я поняла — вот сейчас он выстрелит! И, мгновенным движением откинувшись назад, толкнув меня всем корпусом, торсом, Ким повалил меня на пол, и я упала на паркет, и все шпильки повыпали у меня из пучка, и волосы мои, иссиня-черные, которые я ненавидела лютой ненавистью, ибо они мешали мне во время танца, всегда хотела остричь, и которые так безумно любил Иван, распуская их, любуясь ими, купаясь лицом в их смоляных волнах, как в море, распустились и разбросались по паркету, как черные живые змеи. И Беер нажал на курок как раз тогда, когда Ким, бросившись на него, как хищный кот на охотника, схватил его за запястье и взбросил его руку с револьвером вверх, и пуля попала в шнур, на котором держалась массивная хрустальная люстра, висевшая прямо над пиршественным столом, и огромная люстра стала падать вниз, и упала со страшным шумом и звоном, погребая под собой стол с россыпями яств, визжащих, закрывающих головы руками, бросающихся врассыпную людей, обломки посуды, разбитые бутылки с вытекшим на скатерть вином и коньяком, вилки и ложки из серебряного старинного флорентийского сервиза, купленного на аукционе антиквариата в Бергамо, стулья и кресла, веера дам и цветы в упавших на пол вазах. И, пока Ким держал руку Беера вот так, вверх, поднятой к потолку, железной хваткой, Беер палил, палил, палил из револьвера в белый свет, как в копеечку, и сколько пуль он выпустил, я не считала, видно, многозарядной была его железная игрушка.
— Ким! — крикнула я пронзительно. — Ким, бежим! Он всех перестреляет! Ким, у тебя твоя пушка с собой?!
Беер изловчился и ударил Кима ногой в живот. Я снова закричала. Метелица боднул его головой в подбородок, зубы Беера лязгнули, изо рта у него потекла кровь. Он выплюнул зуб на паркет. Праздничные дамы визжали, присев, за раздавленным гигантской музейной люстрой столом. Кое-кто из гостей упал на пол животом, полз по-пластунски к изукрашенной лепниной двери. Беер сделал страшное усилие и освободился от железной хватки Кима. Теперь руки у него были развязаны, и он вскинул револьвер и выпустил из него в Кима пулю. Последнюю.
Миг. Один миг.
Время вздоха.
И воздух остановился и застыл торосом в моей груди.
Мой киллер, ты не сплоховал. Ты упал на пол рядом со мной в то время, когда в тебя летела пуля. И напрасно Беер нажимал еще и еще, и еще раз на курок. Все! Он расстрелял обойму.
Пустота. Хрустальная руина, под ней — погребенный богато накрытый стол.
Ким говорил мне: все надо делать быстро, Мария. Все, кроме любви.
Беер заорал, обернувшись к застывшим у двери охранникам:
— Пушку мне!
И, пока он это орал, Ким вскочил на ноги и выхватил из-за пазухи, из-под чисто-белой рубахи, свою собственную пушку. Свой пистолет. Тот самый, что протягивал мне на ладони там, в Мадриде, чтобы я — убила — его.
И наставил его на Беера, на хозяина своего.
— Все, мужик, — сказал он спокойно, буднично даже. В разгромленном зале его слова отдались легким звоном среди хрустальных обломков, среди разбитой утвари и зеркал. — Мы с моей женщиной больше у тебя не работаем.
Беер стоял посреди зала, расставив ноги, раскинув руки. Его черный смокинг делал его похожим на жука-плавунца. Его пальцы взбешенно шевелились. Вокруг него стыло, очерчивалось пустое пространство. Пустота. Он стоял в пустоте. Его лакированные башмаки отражались в навощенном паркете.
— Как? — Голос дракона. Взгляд василиска. Пальцы, как когти ящера. — Как ты сказал? С твоей женщиной? Повтори!
— Я люблю Марию Виторес, Арк. Я люблю ее. И я спасу ее от тебя. Даже если для этого мне придется пустить и себе, и тебе пулю в лоб.
От стены отделился и бросился вперед одетый в камуфляж бодигард. Он выстрелил из массивного «браунинга» — раз, другой. Промазал. Третий не успел. Ким, развернувшись, уложил его на месте. Женщины визжали. Мужики ползли по полу к раскрытой в ночь двери балкона. Ким, прищурившись, прицелился и уложил второго телохранителя в тот момент, когда тот, размахнувшись, бросил через головы гостей свой пистолет Бееру. Бодигард, обливаясь кровью, хрипя, катаясь по полу в предсмертных судорогах, умирал, а Беер, ловко подпрыгнув, поймав брошенное ему оружие, злорадно высверкнув глазами, прицелился в Кима.
И так они стояли и целились друг в друга.
Дуэль.
Это была дуэль по всем правилам. Дуло в дуло. Лицо в лицо.
И между ними было совсем немного шагов.
Я бы с такого расстояния попала Аркадию в зрачок, не то что в лоб.
И теперь я…
Теперь я ринулась вперед. Теперь я встала между ними — как Ким вставал между мной и Беером.
— Стреляйте в меня оба! Ну! Что же вы!
Умирающий охранник отвратительно хрипел. И Беер, держа пистолет наведенным мне в переносицу, проговорил, раздавливая башмаком хрустальную льдинку люстры на паркете:
— Ты! Мария! Слушай меня! Не время, конечно, трепаться об этом, но у нас другого времени уже нет. Я хочу тебя. И я заполучу тебя. Я хочу тебя давно, с тех пор, как я насиловал тебя тут, на полу этой гостиной, на его глазах. Я забыть не могу, какая ты женщина. Я делаю тебе предложение. Здесь и сейчас. Я еще не был женат. Я презирал женщин. Ты — единственная, кто мне нужен. Ты будешь моей женой. Соглашайся! Иначе я убью и тебя, и его! Он все равно не успеет!
И я, с сердцем, бьющимся, как пойманный голубь, в сдавленной ужасом глотке, видела будто в тумане, будто пьяная в дым я была, как Ким прыгнул вбок и выстрелил, и Беер выстрелил одновременно с ним, и они оба попали друг в друга; и Беер упал, продолжая держать оружие и целиться, и стрелять, а на белой рубахе Кима расцветало ярко-алое огромное пятно, как чудовищный красный цветок — на белом снегу, и я подумала, что он убит, а он в мгновение ока подхватил меня под мышку и потащил, поволок к балкону, и, обернувшись к гостям, стрелял, стрелял, стрелял неостановимо, это потом он мне сказал, что у него двадцатичетырехзарядный «руби», последняя модель, — и Аркадий тоже стрелял и не попадал, и страшно вопил, матерясь, и я чувствовала, как рубаха Кима пропитывается его живой, горячей кровью, как кровь течет под рубахой и вытекает из-под рукава, течет по его голому запястью, перетекает на мою голую руку, и я теряла сознание оттого, что мне казалось — это меня убили, это моя кровь течет и вытекает из меня навек, — и мы вывалились из гостиной на балкон, и Ким заглянул вниз и тоже выругался, и крикнул мне: скорей, а то сейчас прибегут бодигарды снизу, из подъезда!.. или кто-нибудь из гостей вызовет милицию!.. — и я глянула с балкона вниз и закричала, у меня замерло сердце от страшной высоты, и я крикнула Киму в лицо: мы разобьемся, мы не спустимся отсюда! ты с ума сошел! — и у него лицо стало каменное, гранитное, как скала в Пиренеях, и он выдернул из кармана джинсов моток шпагата, и в одну секунду морским узлом, накрепко, привязал его конец к балконной решетке, а другой сбросил вниз, как рыбак бросает в реку леску с катушки спиннинга с грузилом на конце, и крикнул мне страшно: давай! Хватайся! Ты первая! Крепче держись и скользи вниз, я за тобой, я буду отстреливаться, закрывать тебя! Руки обдерешь, но это ничего, мы должны уйти, слышишь?!.. должны уйти! — и я закрыла глаза, зажмурилась крепко-крепко, как в кошмарном детском сне, и ухватилась за шпагат, и перекинула ноги через перила, и, вцепившись в жесткий стебель шпагата, заскользила вниз, и резкая боль разрезала мне ладони, и я хваталась кровавыми ладонями за веревку и падала вниз, шепча: Божья Матерь, помоги, спаси, — и я почуяла, как напрягся шпагат, это Ким повис на нем, скользя вниз вслед за мной, и мы с ним оба стремительно, обдирая о шпагат руки в кровь, неслись к земле, а она была так далеко, как из космоса видели мы ее, и Ким, подняв пистолет, стрелял вверх, стрелял, стрелял, потому что сверху стреляли в нас, стреляли, стреляли, — и, падая вниз, к земле, крича от боли в ободранных до мяса, окровавленных руках, я понимала, что он ранен, и, быть может, даже смертельно, и я подумала: если его убьют, я подхвачу у него из руки падающий пистолет и пущу себе пулю в висок, мне не жить, не жить без него, — и земля приближалась так быстро, будто мы оба падали в самолете, так стремительно неслась земля нам навстречу, как несется навстречу подбитому, горящему самолету, и два самолета наших жизней еще летели, еще держались на встречных потоках тугого воздуха и ветра, еще не подбили им крылья, — и внезапно шпагат оборвался, выскользнул из моих рук, короток он оказался, не досягнул до земли, и я полетела с высоты вниз, а земля, родимая, оказалась рядом, ночная сырая осенняя земля, и Ким, подогнув ноги, спружинил, ловко спрыгнул рядом со мною, упавшей постыдно-грузно на землю, как мешок с картошкой, и я, лежа на земле, крикнула ему:
— Ким! Я люблю тебя!
— Я тебя тоже! — крикнул он и подхватил меня на руки. Из-под моего локтя поднял пистолет и выстрелил, и еще раз выстрелил вверх. Пули свистели вокруг нас. Страшный крик раздался сверху — Ким попал в стрелявшего. — Бежать можешь?! — Он опустил меня на землю. Я сделала шаг и застонала. — Нога, понятно! Вывихнула! Или сломала! Теперь уже все равно! — Он взвалил меня себе на плечо, как взваливают добычу. — Нам надо в мою машину! Скорее! Они сейчас выбегут из подъезда, его люди! У меня второй пушки с собой нет! А в этой — патроны сейчас кончатся! У меня один выстрел, от силы два…
И так, со мной на плече, как с подбитой в горах ланью, он пробежал в осенней ночи расстояние от дома до машины, стоявшей за углом, и время, пока он бежал, показалось мне вечностью. Он вырвал из кармана ключ от машины. Всунул его в дверцу. Втолкнул меня в машину, сбросил внутрь, на сиденье, как куль. На моих колготках были пятна крови — я хваталась за колени окровавленными руками. Ким рухнул на сиденье с другой стороны. Хлопнул дверцей. Положил руки на руль. И у него руки были все в крови.
— Ловко мы с тобой, — он обернул ко мне перепачканное кровью лицо. — Живы. Это главное. Теперь вперед. Вперед!
— Куда… вперед?!
Он завел мотор. Рванул руль вправо, еще вправо. Круто забрал вправо, мгновенно вырулил из темного ночного двора на дорогу. Сзади стреляли. Попали в заднее стекло, разнесли его вдребезги; пуля застряла в сиденье. «Только бы шину не прострелили, прострелят колесо — догонят запросто», — подумала я. А машина уже мчалась по улице, вылетала, как пуля, на шоссе, и я опять зажмурила глаза — так быстро Ким гнал машину, быстро, как мог.
— Куда мы?! Куда, Ким?!
Ким молчал. Гнал машину. Я плакала, кусая губы, глядя на ночную, мокрую от стремительно пронесшегося дождя дорогу, и на черном, как вакса, асфальте блестели, расплываясь и мерцая, как нефтяные радужные пятна, отраженья сумасшедших ночных фонарей.
— Ты думаешь, Мария, нам некуда податься в Москве?
— Не вези меня к себе! Беер знает твой адрес! Если он жив — его люди тебя мгновенно найдут!
— Хорошо. Тогда поедем вон из Москвы.
Он остановил машину далеко за городом, в поселке, название которого Мария не смогла рассмотреть на плохо освещенном дорожном указателе. Темные тени елей, лиственниц вдоль дороги. Старые деревянные дома, старые дачи. Один напрочь сгоревший дом — только черный горелый скелет выступает, облитый лунным светом, из мороси и тьмы. Лунная осенняя ночь. Тучи рвет резкий ветер. Марии холодно. Она ежится в черном тонком платье. Золотая нитка люрекса блестит в свете Луны, когда Ким вынимает ее на руках из машины.
— Куда мы приехали?.. Чей это дом?..
— Славика.
— Какого Славика?..
— Моего напарника. Наемного киллера, как и я. Славки Пирогова. Ты его помнишь. Он был со мной в тот день, когда Беер тебя…
Он не договорил. Мария закрыла ему рот рукой.
— Не надо. Не надо, прошу тебя.
— Не буду.
Он донес ее на руках до крыльца. Старый деревянный дом походил на облезлый деревянный терем — с коньками, с башенками, с полусгнившими резными наличниками; темные ветхие доски обшивки просматривались насквозь, как прозрачный старый черный мед. Ким поставил Марию на ноги, пошарил рукой на полочке, прибитой над дверью.
— Ага, ключ тут. Считай, мы дома. — Он открыл дверь, поднажал на нее, забухшую от сырости, плечом. Внес Марию в сенцы. — Ух, какой сырой дух! Славка давно здесь не был, не топил. Сейчас натопим печь, согреем воды, я тебя обмою… и чаю заварим. У Славки тут зимние запасы чая и сахара. Может, и сухари, и консервы отыщем. И начнется наша новая жизнь. Как нога?
— Больно…
— Потерпи. Потерпи… жизнь моя.
Он пронес ее сквозь темные комнаты, стены были срубовые, не оклеенные обоями, из углов сумрачно глядели старинные часы и старые диваны, кованые сундуки и старинные, с витражами, облезлые буфеты, а в них тускло, таинственно поблескивали старые рюмки, старые чайники, старые стопки и старые, с отбитыми горлышками, графины, — и опустил на старый, запевший всеми торчащими пружинами, обшарпанный диван, и сам стал на колени перед диваном, и взял ее лицо в руки, и долго, долго смотрел на нее.
— Где мы? — тихо спросила Мария.
— На даче у Славкиной бабушки. Бабушка умерла недавно. Дача осталась. У Славки другая дача, роскошная. До этой — руки не доходят. Она у него вроде укрытия. Так, вроде сундука. Хранилище старых вещей.
— И чужих неубитых жизней. Которые кто-то хочет убить.
— Вроде того.
— Как ты? — Она погладила его висок. Ее ладонь загорелась, как от ожога. — Ты ранен?
— Пустяки. Над такими ранами солдаты смеются.
Лунный свет заливал их обоих. Они казались призраками среди старых ненужных вещей. Погибшее время старыми скелетными руками обнимало их.
— Иди поставь греться воду. Тут плита? Или надо растопить печь?
— Тут баллонный газ и дачная маленькая плита. И печка. Я поставлю сначала воду на газ, а потом растоплю печку. Дров тут навалом, да они отсырели, разжигать буду долго.
— Поцелуй меня.
Он наклонился и сначала поцеловал ее окровавленные, израненные руки. Потом поднял голову, и его губы наткнулись на ее губы.
И бешеная, ничем не остановимая радость затопила их.
Мы голые, и здесь сыро и холодно. Но нам жарко. Твое поджарое тело — жар. Ты — печь. Я горю и сгораю в тебе. Ты горишь и сгораешь во мне.
Он поднялся над ней и снова вонзился в нее. Сладость и боль захлестнули ее, и она вернула ему его порыв, подавшись вперед, сжимая его ребра своими ногами, стискивая крепко, как всадница стискивает бедрами ребра коня. Он задвигался в ней сильно, часто и мощно, и вдруг замер, затих.
Не шевелись. Не двигайся. Не делай движений. Слушай меня. Молись мне.
Он застыл. Застыла и она. А там, внутри, совершался страшный и сладкий труд страсти. Тело мужчины, все превратившееся в болезненно-сладкое острие, пронзало тело женщины, замершее под ним в долгой, длинной судороге вечного мгновенья. Оба замерли, а счастье росло и вырастало. Своими жалкими телами они пытались поставить преграду, запруду растущему наслажденью. Не смогли. Неподвижность не спасла их. Он взял женщину рукою за закинутый затылок, и она вся выгнулась в его руках, под ним, сотрясаясь в сильнейшей судороге сладости и боли, теряя сознание, шепча: еще!.. еще… И он, не выходя из нее, поднявшись над нею, снова ударил в нее острым живым, дымящимся копьем.
Боже. Боже. Боже! Я — так — люблю — тебя!
Dios. Dios. Dios. Bessa me. Поцелуй меня.
Я буду целовать тебя всегда. Всегда, пока не умру.
И я тоже. Пока не умру.
Если ты будешь с другой, я тебя убью.
Если ты будешь с другим, я убью тебя и себя.
Мы будем жить. Если мы сегодня остались жить, мы будем жить, правда?!
Он, не выпуская ее из рук, поворачивается на спину. Он весь в крови. Пуля прошла насквозь. Бок поцарапан. Сейчас согреется вода, и мы с тобой смоем с себя кровь. Я хочу, чтобы твоя кровь была во мне. Я хочу родить ребенка от тебя. Ты не беременна от моего сына? Нет. Я хочу зачать твоего ребенка. Только твоего. Это будет твой последний сын. Сядь на меня. Вот так. Не шевелись. Я буду ласкать твою грудь. Подними грудь так… обеими руками… вот так. И я сожму твои соски пальцами. И вберу их губами. Так, так, так… Сладко тебе? Вечная моя!
Он бьет в нее снизу, резко, сильно; раз, другой, третий; потом замирает, и, полный плачущей жалости и нежности, проникает в нее медленно-медленно, будто бы гладит ее по волосам, будто слезой течет по ее щеке. Их руки, испачканные в крови, находят друг друга, ласкают, терзают, и их кровь смешивается, и подсохшая кровавая корка сдирается безумной лаской, и кровь снова льется — на старую диванную обивку, на торчащие, как скелетные кости, пружины, вонзающиеся в их распаленные тела. Она, держась за его подставленные руки, поднимается над ним, сидя на корточках, согнув ноги в коленях, держа его живой раскаленный стержень внутри себя, и насаживает себя на него сначала медленно, мучительно-томно, потом все быстрее и быстрее. Ее белозубая, в темноте, улыбка превращается в маску отчаяния, в смех неистового счастья. И, когда он уже не может сдерживаться и кричит, кричит на весь старый темный дом, не боясь, громко, задыхаясь, торжествующе, и, выгнувшись, вбрызгивает в нее, в безумии скачущую верхом на нем, обжигающую струю живого огня, она чувствует ожог внутри себя, и вцепляется ему в плечи, всаживая в него ногти, и склоняется к его жадно раскрытым губам, и приникает к ним ртом, языком, и они оба, сплетясь, содрогаясь, крича, падают с дивана и, обнявшись, катятся по полу, по старым сырым и грязным половицам, катятся как живое колесо, колесо жизни, теряя сознание, волю и разум, превращаясь в поцелуй и объятье, в запах и свет, в боль и видение любви в лунном свете, в пятно крови на старой выщербленной половице.
Он сидел на корточках перед печью. Бросал туда дрова. Сырые поленья и старые черные замшелые доски громко трещали, с трудом разгораясь. Он был упорен. Пламя заполыхало, выпрастываясь, вырываясь наружу из чугунной печной дверцы. Он хотел прикрыть дверцу. Услышал ее голос с дивана:
— Не закрывай. Я хочу видеть огонь.
Он пошевелил кочергой стреляющие золотыми искрами дрова. Пламя лизнуло ему руки.
— Мы подожжем дачу. Гляди, как разгорелись. Любо-дорого.
— Мне дорого все, что тут происходит с нами. Мы же живы, живы, Ким. Я до сих пор не могу понять.
— А я уже понял. Когда целовал тебя — уже понял.
Он видел в полумраке, прорезаемом оранжевыми и ярко-золотыми сполохами огня, ее белозубую улыбку. В темноте она выглядела слишком смуглой, как креолка или мулатка.
— Темнокожая моя. Стройная моя. — Он поднялся с корточек, отряхнул колени от мусора и пепла, подошел к ней, лежащей, присел у ее изголовья. Тронул рукой ее разметавшиеся по плечам, спутанные волосы. — У тебя ночные волосы, тебе кто-нибудь это говорил?
— Мне говорили все что угодно. Я забыла. Мне важно, что говоришь мне ты. Только ты.
Он взял ее руку и стал целовать ее пальцы — один за другим. Потом взял ее пальцы в рот, как леденцы, нежно посасывая. Она засмеялась, потом, глядя на него широко открытыми глазами, застонала, выдохнула: «Поцелуй…» Раздвинула ноги. Он положил руку ей на живот. Смуглый, атласный живот. Вместилище жизни. Его пальцы гладили бархатистые влажные лепестки ее лона, проникали внутрь. Он приблизил лицо к развилке ее ног, припал губами к твердой, влажно-соленой жемчужине женского вожделения, взбухшей под завитками черных волос. Женщина. Его женщина. Наконец он дождался ее.
Она ощутила его жадный жаркий язык внутри себя, как язык огня, и, громче застонав, сжала ногами, коленями его голову. Он вытянул руки и положил ей на гладкие, потные, будто облитые маслом, груди. Оторвался от нее. Поглядел на нее. Его глаза ничего не видели от сумасшествия любви.
— Я хочу тебя постоянно. Я хочу тебя всегда. Это безумие. Я не думал, что так бывает в жизни. Мы оба сошли с ума.
— Да. Мы сошли с ума.
— Я старше тебя на сто лет.
— Хоть на двести. Мне все равно.
— Если меня не убьют, я все равно умру раньше тебя.
— Нет. Мы вместе. Только вместе.
— Иди ко мне!..
— Подожди. Я слишком хочу к тебе. Оттого мне драгоценно… подождать. Лучше поговорим. — Она взяла его руки в свои, гладила, ласкала. Он сел на диван, продавив тяжестью пружины. Она, улыбаясь, коснулась кончиками пальцев его влажного торчащего вверх мужского копья. — Ты похож на героя. Ты и есть герой. Женщины всегда любили героев. Ты всех победил. Всех перестрелял.
Он поцеловал ее в шею.
— Ты простила мне, что я убил твоего отца?
— Зачем ты это сделал?
— Я не думал, что это твой отец. Думал — однофамилец. Догадался, уже когда сделал это. И испугался.
— Чего? Что я больше не буду с тобой?
— Да. Мне уже ничего не важно в жизни. Ни жена, ни дети. Ни мое треклятое киллерство. Ни мое будущее. Только ты. У меня будущего нет без тебя. Давай убежим.
Ее пальцы гладили, сжимали, нежно ласкали его напрягшийся уд.
— Ложись на меня. Скорее.
Он исполнил ее просьбу. Она раскинула ноги и руки, как живой крест; он лег на нее и нежно, осторожно вошел в нее. И так они лежали опять недвижно, и он, обняв ее за плечи, покрывал легкими, еле слышными поцелуями ее щеки, ее глаза, ее скулы, ее раскрытые губы.
— Видишь, как я люблю тебя. Видишь. Видишь.
— Да. Всегда.
— Ты замерзла. Здесь очень холодно. Сейчас от печи станет жарко. Чайник вскипел. Я слышу, как он шумит на плите. Принести тебе горячего чаю?
— Тогда оторвись от меня.
— Это тяжело.
Она оттолкнула его, уперлась кулаками ему в грудь. На его ребре запеклась кровь. Она коснулась раны, охнула:
— Мы забыли о ней… Теплой воды, скорее, бинт найди!.. Я перевяжу…
— Даже не думай. Мне не больно. Пуля прошла сквозь мышцу. Это не рана, а царапина, она только с виду страшная.
Через минуту он уже сидел на корточках возле нее с чашкой крепкого чая. Над чашкой поднимался пар. Изо ртов у них тоже шел пар, как у лошадей. Мария наклонилась над чашкой, отхлебнула чаю.
— Горячо!..
— Сейчас согреешься.
Пламя бушевало в печи, вырывалось наружу, как золотая птица из чугунной клетки. Мария пила чай, громко прихлебывая из чашки, обжигаясь, дуя на чашку, на пальцы, смеясь, и он смеялся тоже, и тоже отпивал из чашки, смешно надувая щеки, и громко стреляли в печи сырые поленья, и Мария вздрагивала: как из пистолета. Они выпили весь чай из чашки. И, когда чашка оказалась пуста, они, держа ее вместе, вдвоем, в озябших руках, поглядели друг на друга. И Мария сказала:
— И что мы теперь будем делать, Ким, если уж мы остались сегодня живы?
КИМ
И я ответил ей вопросом на вопрос:
— А что бы ты хотела, чтобы было, родная моя?
Трещали дрова в печи. Пустая чашка еще была горяча. Вот так и жизнь. Так и любовь. Она, пока есть, пока ее тепло звенит в сосуде, еще горяча. А потом время проходит. И наступает зима. И метель заметает все, что горело и пылало и вырывалось наружу из чугунной двери.
Я видел, как она побледнела.
— Я не знаю. Я просто люблю тебя. Я боролась с собой. Я пыталась закрыться от тебя Иваном. Я даже хотела с ним обвенчаться. Там, в Мадриде, в соборе Санта Крус, сразу после похорон отца. Чтобы Бог встал между мной и тобой.
— Ты могла бы обвенчаться сто раз. Это ничего бы не изменило.
— Да. Теперь я понимаю это.
Наши глаза входили друг в друга, как миг назад входили друг в друга наши тела.
— И что же? Приказывай, королева. Все исполню.
— Я не королева. Я простая женщина. И я хочу женского счастья.
Я глубже заглянул ей в широко распахнутые ночные глаза.
— Ты большая танцовщица, Мара. Ты великая танцовщица. Ты сможешь бросить сцену? Ради простого женского счастья?
Я заглядывал, засматривал в ее немигающие, бездонные глаза все глубже, все пристальнее, и она не выдержала. Веки ее дрогнули и опустились. Она молчала.
И я молчал.
Мы молчали оба. Долго молчали.
И я понял отличие между ею и собой. Моя жизнь пробежала, промелькнула, и в ней было все. Я брал золото на олимпиадах и плакал в вонючих раздевалках, женился и разводился, рожал детей и убивал людей. Я прошел огни и воды и медные трубы. И, пройдя все это, я встретил ее. И кроме нее, мне ничего больше в жизни не надо было.
А ей, ей еще надо было в жизни — все.
Все, что она не пережила, чего не прожила.
Она еще хотела странствовать. Она еще хотела любить — быть может, не одного меня. Она еще хотела рожать. Она хотела падать и ошибаться, танцевать и срывать бешеные аплодисменты. Она хотела успеха и отчаянья, смерти и воскресенья. Она хотела видеть землю, лететь над ней высоко, широко раскидывая еще не израненные крылья. А я хотел только лишь жить с ней. Быть с ней одной. И больше ничего.
И чашка выпала у нас из рук, упала на пол и покатилась по половице к горящему в печи огню.
КАНТЕ ХОНДО
Машина несется по дорогам. Машина летит, и шины шуршат по мертвому асфальту. Двое в машине молчат. Огни улиц несутся мимо, вспыхивают и умирают вокруг них. Огни во тьме. Всегда огни во тьме.
В молчании крутятся колеса. В молчании тот, кто за рулем, курит. Пятно крови на белой рубахе из красного превратилось в коричневое. Ну, горячим шоколадом испачкал на празднике, не беда, жена застирает. Женщина смотрит в окно. Не глядит на того, кто за рулем. Если посмотрит — пропадет. Голова закружится, и она опять упадет в бездну. Горит содранная кожа на ладонях. Они на даче нашли йод и залили ладони, раны и царапины йодом. Йод — кровь земли. Кто расстреляет землю? Какая пуля потребна, чтобы землю — убить?
И кто зальет йодом раненую, горящую душу?
А может, душа — это насмешка Бога над нами, и она вдунута при рожденье в нас лишь для того, чтобы мы поняли: и она, и любовь тоже смертны, как и мы сами? А бессмертен лишь в небесах смеющийся Бог?
Машина летит. Улицы мелькают, как карты, что бросает из пальцев гадалка. Лола, где ты! Погадай мне, что будет! Тяжелые мужские руки на руле. Руль влево. Руль вправо. Верти руль жизни, мужчина. Тебе это пристало. Женщина, слепо гляди в окно. Главное — не плакать. Слишком много слез проливают люди. Когда танцуют фламенко — тогда не плачут. Тогда превращаются в пламя, что бьет наружу из чугунной тюрьмы, из каменной печи тела.
Машина летит, и ее заносит на поворотах на влажной от дождя, скользкой дороге. Осень! Уже черная осень. Запомни эту старую дачу, мужчина. Больше такой дачи не будет никогда. Запомни эту пылающую печь, женщина. Больше никто не разожжет в ней такой огонь.
И мужчина останавливает машину у знакомого женщине дома. И, первым выйдя, настежь распахивает дверцу. И женщина ничего не видит от слез, застлавших глаза. Не может встать, подняться, выйти наружу. И мужчина, наклонившись, вынимает ее из машины, как вынимают больного ребенка, и, прижимая к себе, поднимается с ней на руках по ступеням крыльца, входит в подъезд, поднимается вверх по лестнице, и она, обхватив рукой его сильную шею, плачет уже без стеснения, в голос. Плачет, уткнув лицо мужчине под мышку, туда, где кровавое пятно расползлось по белому льну рубахи.
И, держа ее на руках, мужчина носком башмака грубо стучит в закрытую дверь.
И дверь открывают.
И мужчина, глядя прямо в лицо тому, кто стоит на пороге, держа на руках ту, что, обняв его, к груди его крепко прижалась, говорит тихо и строго:
— Возьми любовь мою, сын. Обвенчайся с нею. Я сжег за собой все мосты. Я уеду отсюда далеко-далеко. Вы оба меня не найдете.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ШЕСТОЙ. АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО
ИВАН
И моя Мария стала тише воды, ниже травы.
Нет, жизнь из нее не исчезла. Я постарался сделать так, чтобы она отвлеклась, развлеклась и забыла, что случилось с ней и с нами со всеми. Я попросил жирнягу Родиона заключить контракт с австралийскими концертными фирмами на приличный срок, не на неделю, не на две, и мы с ней на всю осень, до самой зимы, до декабря, улетели в Австралию, и даже на Тасмании побывали. Там, в южном полушарии, лето было в разгаре. Мы вдоволь поели тасманийского винограда, как Мария и мечтала. Мы танцевали там все свои знаменитые шоу — и «АУТОДАФЕ», и «Менин», и «Арагонскую хоту», и «Плач гитары», и, конечно, «Корриду», и меня удручало лишь одно — что после «Корриды» Мария валялась в истерике, у нее было плохо с сердцем, она теряла сознание, и я отпаивал ее каплями, всовывал ей в рот таблетки, ну да, все нами пережитое, оно накладывало отпечаток на танец, я понимал. Я сам танцевал «Корриду» как умалишенный, единственный мой глаз заплывал слезами, и я все время видел Марию в объятиях отца, и скрипел зубами так, что они могли раскрошиться, и страшным усилием воли отгонял от себя наваливающийся на меня мрак прошедшего. Работа! Это единственное, что было в мире реального — и нашего. Мария больше не твердила мне о ребенке. И я был рад. Какой, к черту, ребенок, когда она сама, после того дня рожденья у какого-то чертова теневого магната, где случайно — или неслучайно?.. — в толпе гостей оказался мой бешеный отец, и где все перепились, выхватили пушки и начали, как дураки, палить друг в друга, еле осталась жива? Она пыталась рассказать мне о том вечере. Заплакала. Не смогла. Я сам махнул рукой: что было, то было! Работа, работа! До седьмого пота! Наш танец, блестящий, неповторимый! Не дети, а танец — вот что останется в мире от нас. И я поклялся: я сделаю все, чтобы затмить всех танцоров, что рискуют танцевать фламенко! Мы с Марой — единственные!
Из Австралии я позвонил Станкевичу. «Родька, — сказал я в трубку, играя беспечным, сытым голосом, — Родька, будь другом, придумай нам с Марой турне по Южной Америке! Там же с восторгом примут испанские танцы! А хочешь, мы для латиносов и отдельную программу подготовим! Целую сюиту! Я тут уже подумал… Возьмем и забьем целый венок бальных латиноамериканских танцев! Аргентинское танго — самба — румба — хабанера — а в финале, на закуску, чтобы публику разогреть капитально, — болеро! Можно даже на „Болеро“ Равеля танец поставить — закачаешься! Как тебе идея?.. Обалденно может получиться, да?..» Там, далеко, в Москве, Родион секунды три сопел в трубку. Обдумывал сказанное мною. Сквозь помехи и хрипы, через материки и океаны донеслось: «Ты гений, Ванька. Только танцы эти надо сейчас, в нынешнем веке, знаешь как ставить?! По-новому! С драматургией! Это должна быть не просто сюита танчиков, что латиносы на тропических попойках пляшут, вертя задами! Это должна быть драма! И праздник, и трагедия!.. Так! Все! Все, старик, я загорелся! Договариваюсь с латинчиками… С Бразилией, с Венесуэлой… с Аргентиной!.. Аргентина — Ямайка — пять-ноль… Вы там с Марией, пока торчите в Сиднее, сможете начать работать над новым шоу?!.. А?! Что молчишь?!.. Не слышу!.. Але-але!..» Я заорал в трубку: «Да слышу, идиот! Слышу! Сегодня же начинаем репетиции! Я сам все танцы поставлю!» В трубке взорвались сипы и хрипы. Я расслышал только визг Родиона: «Как там Мария?!.. Здорова?..» Здорова, старик, выкрикнул я натужно, здорова, здоровее не бывает!
И мы с Марией стали работать. У нас оставалось одно выступление в Австралии — в Канберре. Пока мы торчали в Сиднее, в лучшем отеле — Станкевич всегда бронировал для нас лучшие гостиницы, — мы уже начали репетировать. Мария никогда не танцевала ни самбу, ни румбу. Немного знала хабанеру. Очень увлеклась новыми образами — дерзкими, сексуально-праздничными, карнавальными, разнузданно-пьяными и детски-наивными. Древняя грация латиноамериканского танца открывалась перед ней, а испанская кровь довершала начатое. Я понимал: мы с этим новым шоу не только завоюем весь мир — мы поставим его перед нами на колени.
Самыми трудными для Марии были два танца: аргентинское танго и болеро. Музыку болеро она знала — это был танец, известный ей, — но ей не доводилось его танцевать в жизни. «Я боюсь этого танца, — сказала она мне, когда я показал ей, в репетиционном зале, один, соло, все болеро, от начала до конца, а она лишь подтанцовывала мне, ловя с полужеста мои па, угадывая драматургию, ведь болеро было танцем для двоих. — Это танец-катастрофа. Это… ну, когда падает самолет. Там женщина в конце умирает, ее убивает мужчина, так я понимаю. Или они умирают вместе?» Я, весь потный, станцевавший болеро под собственное ритмическое бормотание: там, та-та-та-там, та-та-та-там, — изображавший глоткой мелодию, а языком — маленький барабанчик, — вытер ладонью мокрый лоб и сердито кинул: «Какая разница! Да, это танец смерти! А ты что, в „Корриде“ смерть не танцевала?! Или в „АУТОДАФЕ“?!» Она опустила голову. Улыбнулась. По ее вискам тоже тек пот. Иссиня-черные пряди вымокли в поту, она забрала их пальцами за уши. «Танцевала. Не сердись. И еще станцую». Я испугался, что сказал лишнее, попросил взглядом прощения. Мария отвернулась. Повернулась ко мне спиной. Стала спускать с плеч черное трико. Не стесняясь меня, голая пошла в душ, и я видел ее перламутровую спину, ее коричневые точеные бедра, ее круглые и твердые, как две Луны, ягодицы.
Мы успешно станцевали в Канберре. Нас принимали на ура.
Станкевич звонил каждый день. Беспокоился. «Я же не смогу посмотреть, что вы там напридумывали с этой сюитой! Вы же сразу из Австралии летите в Прагу, потом в Буэнос-Айрес!..» Я успокаивал его: не дрейфь, старик, у нас уже почти все готово. Вот только с болеро немного повозиться осталось, а так — все в ажуре.
И жирняй вопил мне в трубку: «Ты, Ванька, слушай, там же зима, там же как раз наступает время карнавала, вы Новый год, так я понимаю, встретите в Сиднее, а в январе у вас, ты помнишь, шоу в Праге, а потом вы сразу летите в Аргентину, сразу после Чехии, у вас нет уже никакого времени, чтобы прохлаждаться в матушке-Москве, и попадаете, слышишь, прямо в объятья карнавала, ты сечешь, старик, вам же крупно повезло, все эти ваши самбы-румбы-болеро там будут все, скопом, плясать на улицах, в натуре, это же какая пища для ума, вы ж там такого для ваших шоу поднаберетесь — ум помрачится!..» Не помрачится, кричал я весело, спасибо тебе, Родька, ты классный продюсер, ты делаешь все как надо, а в России публика от нашего нового шоу просто сдохнет, бабы будут писать кипятком в панталоны, ведь сейчас все просто сошли с ума на бразильских и аргентинских сериалах, от ящиков не отрываются, пялятся на то, как эти темпераментные латинос поют и прыгают, — а мы что, хуже?! Мы прямо в яблочко попадаем, старина, как ты догадался!..
И Новый год у нас был австралийский, и это было очень экзотично. Весь Сидней полыхал огнями, светился и брызгал рекламами. На улицах пили шампанское. Мы катались в парке на карусели и выпили две бутылки шампанского на двоих, и Мария опьянела, и я тащил ее до отеля на руках. Она спала, открыв рот, у меня на плече.
За время пребывания в Австралии мы заработали много денег. Я сосчитал.
Мы уже могли купить с ней красивый большой дом, где хотели. В любом уголке большого мира.
Когда, уже в новом году, она разлепила глаза на гостиничной подушке, я поцеловал ее и спросил: «Когда мы поженимся?» Она отвернула от меня голову. Я видел на белой подушке ее смуглый профиль, как на древней монете. «Теперь ты ко мне пристаешь с женитьбой», — тихо сказала она.
МАРИЯ
Больше мне не было звонков на мобильный телефон.
Мой мобильный телефон молчал.
Потому что я его отключила.
Я умерла для Беера. Беер умер для меня.
Конечно, он найдет меня в Москве. Но я предпочитала не думать о том, как и когда это произойдет.
Мне казалось — я уже не боялась смерти.
Потому что я слишком привыкла думать о ней. И я видела ее воочию. Слишком близко. Ее черный глаз — пистолетное дуло.
«Агент V 25, приказываю вам…» Мне никто больше не приказывал. Я была свободна от приказов. Иван сказал мне, что после гастролей в Чехии мы летим через океан, в Аргентину. Я улыбнулась. Страна моей шпионской Школы! Я найду старого генерала и передам ему привет. От кого? От себя, разумеется.
Мир падал в воронку времени. Мир разрывался надвое, натрое, на множество рваных кровавых кусков от мин, подложенных на рынках, от бомб, брошенных в океанские паромы, от самолетов, на бреющем полете врезавшихся в многолюдные билдинги. Мир придумал себе новый ужас, но я больше не хотела в нем участвовать. Конечно, Аркадий найдет меня. И, может быть, убьет. Но до того, как это произойдет, я сделаю свое новое шоу, и я станцую болеро, я так хочу его красиво, по-настоящему станцевать. Его, болеро, на земле еще никто не станцевал по-настоящему.
Иван спросил меня: «Почему ты не взяла с собой в это турне эту свою девчонку, эту замухрышку, Надю? Тебе же тяжело все время гримироваться самой. А девчонка очень смышленая. Быстрая такая, ловкая. Как циркачка. Раз-два — и мордочку тебе размалевала. Что пожмотилась, а? У нас же денег, Мара, просто куры не клюют. И курочка бы счастлива была, сколько впечатлений. Она от сиднейских фонтанов в обморок бы немедленно упала. А Прага? Сказочный городишко! А карнавал у латиносов! Супер!» Я скосила на него глаза: а что ты так печешься о девчонке? Что так заботишься? Я, что ли, надоела? Он расхохотался. «Да, немножко надоела! Мужик же должен иногда питаться свежатинкой!»
Шутка. Это была всего лишь шутка. Я щелкнула Ивана пальцем по носу и сказала серьезно: «В Буэнос-Айресе много русских эмигрантов, как и в Париже. Буэнос-Айрес — наполовину русский город. После Второй мировой туда сбежало много немцев, чтобы удрать от Нюрнбергского судилища, и много русских, чтобы спастись от верной гибели в ГУЛАГе. Там наверняка есть православный храм. Вот там мы и обвенчаемся, милый. И ты перестанешь смотреть на всяких недоношенных уродок. Я не хочу венчаться по-католически, хоть мать у меня и католичка. Я хочу венчаться по-русски. Отец бы одобрил это».
Иван, играя, повалил меня на отельную кровать и выдохнул мне в ухо: «А знаешь, кроме шуток, кто мне звонил сегодня?.. Твоя капустная гусеница… Надя!.. Я оставил ей номер своего телефона на всякий случай. Ты же свой отключила, Машка! А зачем? Поклонники измучили, надоедают?.. Так я ж не ревнивый…» Странная кривая улыбка застыла на его красивых губах. Я вздрогнула. Надя? Зачем звонила Надя? Что-нибудь случилось в Москве? «Да нет, ничего особенного. — Иван потрепал меня по щеке. — Не бери в голову. Просто, мне кажется, эта твоя гримерша в меня как кошка влюблена».
АРКАДИЙ БЕЕР
Я видел ее сегодня во сне.
Она и Иван, ее партнер, сын этой сволочи Метелицы, в моем сне стояли на летном поле, в аэропорту, и садились в самолет. Уже к самолету подвезли трап, и пассажиры поднимались по ступеням, по резиновому ковру, и стюардессы стояли в дверях, проверяя билеты, и я так ясно видел этих двоих — этого хлыща, красавца Ивана Метелицу, мнящего себя суперзвездой, и эту наглую испанскую ведьму, эту танцующую дрянь, посмевшую… А что она посмела, впрочем? Она посмела всего лишь дать мне пощечину. Она унизила меня. Она совершила надо мной казнь — хуже настоящей казни. Она смогла это сделать! Никто не смог!
Я видел во сне — они садились в самолет. И я хохотал про себя, злорадно, я знал — самолет должен разбиться, он обязательно должен разбиться. Он грохнется, этот красавец самолет, потому что я приказал подложить в него взрывчатку. И мина взорвется тогда, когда самолет будет лететь над океаном. И они оба утонут. Нет, позже! Он взорвется над городом. Над аэропортом. Над посадочной полосой. И самолет упадет на серый бетон, и развалится надвое, и у него отвалится хвост, и в салонах будут гореть и кричать люди, и они, эти двое, они тоже сгорят. Ее волосы! Его руки! Их поглотит пожар. И их глаза лопнут и вытекут. Жаль, я этого во сне не увижу.
Она не моя. Она не стала моей. Она только раз была моя — там, на полу моей гостиной. Она отвергла меня. Она любит другого. Она наставляет Ивану рога. Если бы она была моей женой и изменила мне — я убил бы ее. Зачем медлить? Она отвергла меня — я уничтожу ее. Ах, жаль, Метелица-старший сгинул! Иначе я заказал бы ему — ее. Возлюбленному — возлюбленную. Ах, какая дивная мелодрама! Во сне не приснится!
Во сне я видел их обоих, Ивана и Марию. А вот Кима не видел. Ким был по ту сторону сна. Ушел во тьму. Такие киллеры, как Ким, на дороге не валяются. Если он задумает отомстить мне — он выстрелит метко, особенно, если добудет хорошую винтовку с оптическим прицелом и подстережет меня где-нибудь на верхнем этаже. Выстрел из окна в собственного шефа… в бывшего шефа. Ах, как романтично! Его пуля разнесет мне голову вдребезги. У моего киллера никогда не бывало промашек.
Но Метелица не сделает этого. Метелица по-дурацки благороден. Он выше этого, так он думает. Неподкупный. Он не будет убивать из мести. Хорош неподкупный. Я ему по десять штук «зеленых» за убийство платил. Ну, ведь не каждый день он выезжал на работу. Отдыхал месяцами. Нет, нет, все-таки я его плотно загружал. Горячее времечко было.
Сон, чем ты закончился? А ничем. Они сели в самолет, и самолет взлетел. И, когда он взлетел и уже прочерчивал, прорезал темное ночное небо огненной полосой, я до крови закусил во сне губу — и проснулся.
И сказал себе: нет, Арк, ты должен их обоих найти и поставить все на место.
Ее — уничтожить.
Его — тоже.
Ее — страшно. Чтобы сполна вкусила ужас униженья.
Его — милостиво. Он все-таки был мой работник. И много сделал для меня. Пусть он разобьется во взорванном мною самолете.
А Ивана пощажу. Иван не сделал мне ничего плохого. Иван отличный танцовщик. Пусть живет и танцует дальше. Он забудет ее. Столько красивых девушек на свете.
ЛОЛА
Ишь ты, какое солнышко! Зимнее солнце, золотым гвоздем стоит в густо-синем небе. Москва вся горит и вспыхивает, как глазурь на прянике. Машины заносит на обледенелых дорогах. Вчера мне мой приятель позвонил, шишка в министерстве, голосок дрожит-трясется: «Лолочка, душечка, вы мне все правильно нагадали, спасибо вам не знаю какое, вы ведь как в воду глядели, махаончик мой, я чуть на машине в стену храма Божьего не врезался, так меня протащило, — гололед!..» Я засмеялась в трубку: верь мне, голубчик, верь! Карты все правильно говорят! Особенно если на них посидеть, попочкой их погреть, чтобы они еще тепленькими разбросились…
Что-то Мара давно не звонит. Ну, да Мара — известная гастролерша. Небось, все по своим Америкам да по своим Индиям мотается. Жизнь в самолете, как не надоест? Фигаро здесь, Фигаро там… А что, если на Мару погадать?.. Картишки-то сейчас все мне про нее и откроют.
Села я не на стул, не на диван — на пол, на персидский ковер. Колоду новую открыла. Посидела на колоде, уж это как водится. Телом своим карты погрела. А то неправду скажут. Тасовала долго, пришептывала над ними: всю правду, карты, скажите, дайте верный ответ, в свидетели Бога Живаго призываю, Бога-отца Адонаи, Императрицу Тарокк и Белую Тару, женское воплощение великого Будды! Все боги, сюда, на помощь мне! И Ты, Божья Мать, не таись, головку-то с иконки склони ко мне, видишь, руки мои умелые снуют, карты по ковру разбрасывают… Марочка, Мара, где же ты, девочка моя, что так надолго запропастилась, своей Лолочке не звонишь, не приезжаешь…
Так. Червонная дама. Это ты, Мара. Твоя стать. Под сердце тебе карту положим… На сердце… Сюда отбросить — три, к тебе — одну… Отбросить — три, к тебе — еще одну… В головах положить… В ногах разложить… Слева… Справа…
Ах, вот ты о чем думаешь, Марочка дорогая!.. В головах-то у тебя сплошные удары! Так и мыслишь о том, что на тебя кто-то черный из-за угла нападет, больше ни о чем не думаешь, бедняжечка моя!..
А в ногах-то у тебя этот, молоденький твой, плясунчик, валяется… И ножками ты его попираешь… Этого, Ваньку своего… Однако не бросаешь, все танцуешь с ним, все танцуешь, потому что он для танца тебе нужен…
Так, так… На сердце у тебя… Откроем, ну-ка… Вот что у тебя на сердце, деточка!.. Вот что… Ревность у тебя на сердце, ревность… Да не твоя, крошечка моя, а змеи подколодной, что тебя, тебя ревнует… Тебя извести хочет… Черная дама, дама пик… Что она хочет приготовить тебе на закуску?.. Пулю?.. Веревку?.. Яд?.. Вот вино выпало, пьяная, винная карта… Может, в вино, сладкое, вкусное, она, ревнивица, тебе яд подмешает?!.. Да кто ж сейчас ядом-то пользуется, чтобы убить… Старинный способ это, ретро… Если у дамы денежки водятся — пачкаться не будет, киллера закажет… Наподобие этого, твоего, старого ловеласа, Метелицы…
Ну, раз-два-взяли… Перевернем… Ты, синий попугай с красной макушкой, что орешь, каркаешь хрипло, щелкаешь клювом-крючком?!.. Не гавкай, птица… «Жрр-р-рать!.. Жр-р-р-рать!.. Гор-р-р-рячо!.. Гор-р-рячо!..» Жрать хочешь, мясца дать?.. Хищник ты мой… Даже птица говорящая — и то хищник… Что ж о людях-то толковать… Под сердцем у тебя… Под сердцем…
Ты все о ребенке мне пела. Скажи да скажи, Лолочка драгоценная, когда я рожу! Когда забеременею!.. И кто у меня будет — девочка или мальчик!..
У тебя под сердцем — не твой ребенок.
У тебя под сердцем — он. Вот он, твой старик, Мара! Вот — дурацкая, роковая страсть твоя! Я ж говорила — выкинь, выкинь его из головы! Наемный убийца, сколько людей перестрелял… и ты, такая изящная, такая светлая, влюбилась — в такого!..
Господи, попугай, не каркай! Дай сосредоточиться… Так, разложу сейчас последний веер… Что было, что есть, что будет… Для дома, для сердца… И — чем сердце успокоится… Карты, карты, умоляю, не соврите, на всю правду гадаю, на всю кровь вас кидаю!..
Что было?.. А все было. Пальба была большая. Народу много полегло. Одни выстрелы, одни смерти и слезы, пиковые черные слезыньки. Что есть?.. Дороги есть тебе, Мара. Одни дороги. Дороги по земле; дороги по морю; опасные, быстрые дороги по воздуху. Да не ты ли мне сама говорила, что самолетов боишься?! Что будет… Ах, что же с тобою будет, красавица… Попугай, сволочь, да заткнешься ли ты наконец… Будет — праздник! Праздник сплошной выпадает, Марочка, карнавал! Пляши — не хочу! Гляди, и накрытые столы, и яства, и вина залейся, и павлины цветные хвосты распускают, и золотые райские птички на твоих плечах поют! Откуда карнавал-то?.. ума не приложу…
Для дома… Марочка, а что ж для дома-то тебе выпало? А нету у тебя дома. Нет, выходит так! Что с квартиркой-то с твоей на Якиманке станет?! А-а-ах… Карта — огонь… Пожар… Фу-у-у, ну и ну… Чьими же это ручонками?.. Сама, что ли, сигарету бросишь?.. Или кто из гостей обронит спичку, зажигалку, окурок?.. Или… кто со зла… нарочно… А для сердца… Для сердца…
Для сердца — вот она, любовь этого. Твоего крестового старого короля. Вот она, крестовая девятка, тут как тут. Не смоешь ничем. Не отлепишь. Зря стараешься. Впечатался в тебя этот убийца-старик этой черной крестовой девяткой. И эта любовь — не от добра, Мара, не от Бога. Убьет он тебя этой своей любовью. Потому что у него, кроме его безумной любви, ничего больше в целом свете нет. Я водила по нему руками. Его жизнь с его тела считывала. Он мужик будь здоров, все у него стоит, как у молодого. И сломался он на тебе, Мара, сломался!
Ну?.. Чем сердце твое, детка, успокоится?..
Откинем карту… У всех карт рубашки новенькие, глянцевые, а у этой… У этой — отчего-то — истрепанная…
А-а-а-ах!..
Черная пика. Черный топор. Туз пик. Удар. Горе. Смерть.
Я накрыла карту ладонью. Закрыла глаза. Мара, Мара, Мария… Синий попугай, щелкая клювом, все вопил: «Жр-рать!.. Гор-рячо!..» — над моей головой, раскачиваясь, как маятник, в позолоченной клетке.
БЕЕР
Я набирал и набирал номер ее мобильника. Сладчайшее сопрано неизменно, по-русски, по-английски и по-испански, сообщало мне: «Абонент временно отключен, попробуйте позвонить позднее». Дьявол! Она думает, она от меня таким детским образом удрала. Ну ничего, дайте срок. Они с Иваном все равно никуда из Москвы не денутся. С любых гастролей, а домой вернутся. А не вернутся — у меня есть агенты, что найдут, если надо, любую покупку недвижимости на имя Марии Виторес в любой стране мира. Человек — не иголка в стоге сена. Тем более — Мария.
Да что она мне так в душу запала, эта черноглазая ведьма?!
Ведьма. Она ведьма. У нее, в ее испанском роду, точно были ведьмы. Ведьма и ведьмак — отличная была бы пара. Неужели ты сам веришь, Арк, что она будет твоя? Неужели ты способен присвоить, прикарманить ее — ее, всю сотканную из дерзости и свободы?
Но ведь она работала на тебя. Работала, и послушно.
Значит, у тебя есть шанс.
Ты можешь взять ее только испугом. Только измором. Только страхом.
А если она не испугается?
Тогда ты сделаешь так, чтобы ее лицо никогда больше не глядело на тебя. Ни живьем. Ни из мрака воспоминанья.
Номер. Семь цифр. Семь московских цифр. Лишь бы этот жирный пеликан был дома.
— Слушаю!..
Голосок заевшийся. Уже четвертый подбородок у прохвоста растет.
— Родион, хай. Это Аркадий, узнал? Дела-то как? Неплохо? Так я и знал. У тебя же не может быть иначе. — Кажется, он не уловил в моем голосе насмешки. — Маленькую справку хочу навести. Эта парочка, гусь да гагарочка, когда с гастролей в столицу нашей родины вернутся? Кстати, где они сейчас?
Станкевич — я это понял — задрожал губой.
— Нн… Н-не… Н-не знаю… Нет, знаю, конечно, Арк… Они — в Австралии… Но где сейчас, не знаю… У них же турне, разве я могу отследить!.. Номер я для них заказал в Сиднее, в гостинице «Австралия»…
— Ты знаешь телефон их номера в «Австралии»?
— Д-да… Да, знаю…
— Перестань трястись. Ты непохож на делового человека. Тебе надо подлечиться, поехать на хороший курорт. Диктуй телефон!
Станкевич, заикаясь, продиктовал. Потом спохватился:
— Эй, Арк, стой!.. Ведь они сегодня, кажется, да, именно сегодня улетают оттуда!.. в Прагу…
— Ага, в Прагу. Там тоже выступления?
— А ты… как думал?..
— Никак. Потом?
— Потом…
— Не тяни кота за хвост!
— Потом — в Латинскую Америку…
— А точнее?
— Мы не в гестапо, Арк…
— Мы в гестапо, Родион. Куда они летят из Праги?
— В Аргентину…
— В Буэнос-Айрес?
— Так точно, герр штандартенфюрер…
— Не издевайся. Я ж тебе как отец родной. В Аргентину, это интересно. Это более чем интересно. — Я, придерживая трубку возле уха щекой и подбородком, закурил. Глубоко затянулся. Следил, как сизый дым усиками дальневосточного лимонника расползается от моего рта, от сигареты вверх, в разные стороны, ветвится и тает. — Это как раз радостная новость.
— Ты… хочешь с ней поговорить по телефону, Аркадий?.. Я знаю, что произошло у тебя на дне рожденья… Мне рассказали…
— Вся Москва знает, что произошло у меня на дне рожденья. Это лишь добавило мне славы, не так ли? Прошу об этом со мной не говорить. Когда они оба будут в Москве?
— К концу февраля, я так думаю…
— Думаешь или знаешь?
Я был беспощаден. Станкевич вздохнул. Я прямо-таки видел, как он, расставив жирные ноги, сидит и отдувается в кресле, отирает пот со лба батистовым платочком от Джорджо Армани, посматривает на свои золотые «Ролекс» — опаздывает к очередному денежному мешку, заказчику шоу Иоанна и Марии. Недурные деньги делает толстяк на плясунах. Подфартило ему. А я купил у него живой товар, а товар возьми и дай мне пощечину, да и сбеги от меня. Ужо тебе, девка. Вернись только.
— Двадцать восьмого февраля у них большое шоу в Лужниках, вместе с гитаристом из Барселоны Антонио Кабесоном и Имперским балетом Майи Плисецкой. Будет нечто. Придешь?.. Приходи, я сделаю тебе контрамарку… Сто контрамарок, для всех твоих друзей… Я тебя умоляю, Арк, не трогай девочку, дай ей станцевать это шоу, дай, дай…
— Не канючь, как старая перечница. Никто не собирается устраивать темную этой темной лошадке. Но проучить ее немного следует. Я найду косметические способы, Станкевич, не накладывай в штаны. Чао.
Я бросил трубку в кресло. Я заплатил за эту курву деньги. Деньги? Не в этом дело. Она уже их с лихвой отработала — и в Японии, и в Испании, и в Москве. Я обманываю себя, не в деньгах все дело. Все дело в том, что она ударила меня по щеке, будто быку ножом по горлу полоснула, а я хочу ударить ее.
Хочу ударить, потому что…
Я втянул в себя дым так глубоко, как мог, и все в голове заволокло дымом.
Потому что, как все они, кретины, люблю ее, люблю, как последний маразматик, как последний драный кобель, собачниками на задворках не отстрелянный.
Это было трудно сказать себе.
Сказав это себе, я понял непреложно: или я, или она. Или мы будем вместе, или от нее останется мокрое место. Груда мяса и костей. Кучка пепла. Сизый табачный дым.
НАДЯ
— Але… Але!.. Это… Австралия?..
— Да, это Австралия. Да, крошечка, это Австралия! Да, это я, Иван! Я узнал тебя, крошка! Как тебя плохо слышно, просто ужас!..
— А я вас хорошо слышу, Иван Кимович…
Господи, Ты услышал молитвы мои. Господи, он взял трубку! Я слышу, слышу его голос!
Голос любимого человека… слаще любой музыки в мире…
Я дрожала и тряслась, сгорбившись, дыша в трубку, наклонившись над ней, как над колыбелью, и тяжелая, как гиря, черная трубка столетней давности телефона в моей руке дрожала и тряслась тоже, и я земли не чуяла под собой от счастья — я слышу голос Ивана, он отвечает мне! А что дальше говорить — я и не знала…
— Але!.. Але!.. Надя, тебя вообще не слышно, куда ты пропала!..
Я прижимаю ладошку к груди. Маленькую, сухенькую, как у старушки, ладошку. Под ладонью — мое сердце. Оно как птица. Оно вот-вот выпрыгнет. Вылетит из клетки.
— Я здесь, здесь, Иван Кимович… Я вас слышу…
— Надя, прекрати называть меня по отчеству! Я что, папаша тебе?!.. Скажи, как там в Москве?.. Оттепель?.. Здесь такая жара стоит — хоть ложись и помирай!.. Але!..
Любимый голос перекрывает расстояния, уничтожает их. Минуты летят. Неумолимый счетчик отсчитывает их. Я заплачу из своего жалованья, что платит мне эта сучка, большую сумму. Все, все жалованье заплачу я за счастье слышать любимый голос. Так мне и надо. Я — без этого — жить не смогу.
— В Москве?.. В Москве собрались сносить гостиницу «Интурист»!.. А еще Монсеррат Кабалье приезжает, вместе с Хосе Каррерасом… А еще скинхеды побили много народу на Рижском рынке, очень много жертв, там снег был весь в крови… А еще… Еще…
«Еще я люблю вас», — хотелось выкрикнуть мне, вышептать в трубку, и я с трудом удержалась, чтобы это не вырвалось, не вылетело из груди.
— Ну все, Надюша, ты там, небось, на сто долларов наговорила!..
— Нет, нет, не бросайте трубку!.. — Дикий страх объял меня — оттого, что сейчас все закончится, что оборвется нить голоса, счастья. — Нет, я еще хотела вам сказать!..
Я судорожно придумывала, что бы сказать. Ничего не лезло в голову. Время безжалостно отщелкивало мгновения. «Я кажусь ему полной дурой», — в отчаянии подумала я. И тогда я крикнула в дырки трубки:
— Иван Кимович, запишите мой адрес! И мой телефон! Позвоните мне! И приезжайте ко мне! Пожалуйста! Когда прилетите в Москву! Только… только один! Без…
Я не могла вымолвить ее имя. Ее ненавистное имя.
— Без Марии?.. Один?.. К тебе домой?.. А что?..
— Я вам что-то важное скажу! И покажу!
«Ты скажешь ему: люблю. Ты покажешь ему себя. Без одежды. Жалкую. Тощую. Завитую на мелкие бигуди. С залысинами. С родинками на носу. С веснушками в пол-лица. Ты покажешь ему осколок человека. И скажешь: вот я, бери меня. Как бабушка моя говаривала: тоща да мала, кошке на ночь погрызть не хватит…»
— Покажешь?.. Але!.. Говори адрес!.. Записываю!..
Чудо. Немыслимое, невероятное чудо. Такого просто не может быть. Он — великий человек — записывает на клочке сиднейской газеты адрес, где я живу, козявка, мушка, голодный мышонок.
— Платформа Левобережная!.. Улица Библиотечная…
— Надя, ты что, не плачь!.. Ты что рыдаешь, ну это уж из рук вон, Надя!.. Прекрати рыдать!.. Я приеду к тебе, говорят тебе, приеду!.. Клянусь тебе!.. Только перестань плакать, хорошо?!..
— Хо… ро-шо…
— А Марии?!.. Марии ничего не надо передать?!.. Может быть, дать ей трубку, ты с ней сама поговоришь?..
— Ой, не надо, не надо, не надо!.. Пожалуйста, Иван Кимович, не надо!.. Все… до свиданья… я буду ждать вас…
Я уже не слышала, что он кричал мне на прощанье. Дикие, глухие рыданья, как налетевший ураган или землетрясение, трясли, сотрясали меня, все мое маленькое, неуклюжее, костлявое тело, мои руки-кочерги, мою спину-доску, мою голову — гнилой капустный кочан. От какого пьяного зэка, под какой колючей проволокой, в кустах полыни, родила меня мать там, на Белом море, что такая я уродина получилась?! Чьи грехи я тащу за собой, тащу волоком, как поморы через протоки к морю по весне лодки волокли?!
МАРИЯ
— Так танго не танцуют! Это не танго! Тем более не аргентинское! Здесь набор вполне определенных па! Я же тебе все уже показал! И не фантазируй, пожалуйста!
Выпад. Выгиб назад. Ступить назад носком, опуститься на пятку. Партнер поддерживает тебя под спину. И ты можешь выгнуться назад еще раз — так низко, как пожелаешь. Даже коснуться затылком пола. Это удобно, когда у тебя на затылке косы, и заплетены в корзиночку.
У меня на затылке косы, и они заплетены в черную корзиночку. И крепкая рука партнера — под спиной. И выгиб. Ребра вперед. Живот вперед. Живот втянуть. Колени чуть согнуть. Руку отвести в сторону, вбок, ладонь прямая, пальцы прямые, не крючить их, как птичьи когти, ни в коем случае.
Агент V25… Как тебя отгибали, выгибали, крутили… Там, на тех постелях, о которых Иван никогда, никогда не узнает… А что, если — давно знает?..
— Раз!.. Два!.. Трам, па-па, па-пам! Сюда!.. Назад!.. Назад, ниже, я тебе говорю! Ты что вся, как вареная макаронина?!
Иван и впрямь гнет меня как спагетти. Я подчиняюсь ему. В моей голове, как стремительные тропические рыбы в теплой лагуне, проносятся мысли. Они очень просты: нам надо обвенчаться в церкви, прежде чем шлепать дурацкие штампы в паспорта. Венчание — это настоящее. Штамп — это пошлые чернила. Когда нас обвенчают, я забуду Кима. Забуду этого старика. Забуду этого киллера. Забуду этого морщинистого бабника. Забуду этого…
«Я никогда не забуду тебя, возлюбленный мой. Ибо ты был и есть единственный возлюбленный мой; и другого у меня вовеки не будет, даже если горы сдвинутся, и моря зальют землю, и птицы погибнут на лету, и звезды почернеют в небе».
— Не ори на меня! Так?!
— Да! Так! Сколько раз тебе повторять! Так!
Он берет меня за руку и крутит вокруг себя, и я перебежками семеню, задрав потное лицо к потолку. Аргентинское танго, ты крепкий орешек. Ты не даешься мне. Там, в Аргентине, как и у нас в Испании, все время стоит такая жара, и кости танцоров размягчены жарой, и тела их умащены розовым маслом, и головы их затуманены сладким крепленым вином из старых просмоленных бочек, и женщины там не плачут от несчастной любви, а смеются, готовясь к карнавалу, шьют себе маски ягуаров и туканов, пираний и пум, разрисовывают себе тела яркими цветными красками и подвешивают к мочкам на цепочках золотые мандарины. Мы увидим карнавал! Я буду танцевать на аргентинском карнавале! И на моем плече будет сидеть ручная красная, как рубин, колибри! Или — лучше — ручной маленький павлин, и он будет то распускать, то складывать сине-золотой, зелено-изумрудный хвост, как веер…
«Ты пойдешь в свою шпионскую Школу, Мара, где ты училась проклятому ремеслу. И найдешь старого генерала. И пригласишь его на карнавал. Он старый, как Ким?.. Он старше Кима. Ненамного. На каких-нибудь пять, шесть лет. Ты погладишь погоны у него на генеральском мундире. Погладишь его морщины. И поплачешь у него на груди. Что ты мелешь сама себе, Мара, генерал же не мать тебе! Мама, мама, я сегодня же дам тебе в Мадрид телеграмму…»
— Выпад! Что зеваешь! Ртом ворон ловишь?! Назад! Назад, Машка, и ниже, ниже! Косами пола коснись!
— Я не Машка! Я Мара!
Я отгибаюсь назад и внезапно с силой ударяю Ивана кулаком в грудь. И он отлетает спиной к балетной стойке, и больно ударяется об нее хребтом.
— Дерешься… гадина!..
— От гада слышу. — Я вытерла пот со лба тыльной стороной ладони, стряхнула с шеи соленые капли. Трико было — хоть выжимай. — Ванька, давай на сегодня закончим — сил моих уже нет никаких! — и пойдем-ка посмотреть Прагу? Злата же Прага!.. Или — не Злата?.. Я же тут еще ничего не видела! Ни Карлова моста, ни костелов, ни дома Моцарта… ни Рыцаря, который, ты говорил, с золотым копьем, в позолоченном шлеме, грустный такой, стоит прямо в реке, во Влтаве… Ты врал мне — это красивейший город Европы, не считая Венеции!.. Так пойдем же его посмотрим наконец!..
Агент V25, ходи по красивым улицам, гляди на красивые зданья, кокетничай с красивыми мужчинами, но помни, что за тобой следят. За тобой следят везде и повсюду. За тобой следуют по пятам. И однажды, в совсем неподходящем, неожиданном, странном месте, где-нибудь в кабинке фуникулера или в сортире, пахнущем духами и лимонным мылом, к тебе подойдут сзади, положат руку тебе на плечо и скажут: здравствуй, Мария. И, Мария, прощай.
Я стянула с плеч вниз, как это делала обычно, черное репетиционное трико. Иван глядел на мою голую грудь, на мои темные, почти черные, как у всех брюнеток, соски своим единственным глазом. Стеклянный его глаз блестел жестко, мертво в мертвенном свете белых, ровно гудящих под потолком ламп.
* * *
Танго ей не давалось, зато давалось болеро. Танго было для нее танцем хоть и драматичным, но все же чересчур кокетливым. В танго женщина все равно кокетничала с мужчиной, завлекая его, насмехаясь над ним. А в болеро…
Болеро было танцем жестоким. Жестким, абсолютно мужским. И это нравилось ей. В болеро мужчина диктовал свою волю. Но и женщина, что стояла напротив него, пристально глядя ему в глаза, тоже диктовала ему волю — свою. Она не сдавалась. Двое в болеро были два равносильных борца. Два равномощных воина. Воитель и воительница. В болеро, единственном танце в мире, женщина показывала мужчине свою настоящую силу.
И в единственном танце в мире — в финале болеро — мужчина женщину — убивал.
Болеро было победой мужчины. И его поражением.
Ибо нельзя мужчине женщину — победить.
Победить женщину — склониться перед ней. Попросить прощенья. Превратиться в саму нежность, припав тяжелым горячим лбом к ее стопам. А если ты, мужчина, бросаешь женщину наземь, заставляешь ее склониться перед тобой, простираешь над ней руку воли и власти — ты терпишь поражение. Ты убиваешь сам себя. И ты этого не понимаешь — до той поры, пока ты, гордый властелин, оставшийся один, не согнешься однажды в три погибели в единственном рыдании: Боже, верни мне ее.
Борьба женщины и мужчины в болеро неописуема. Это можно лишь станцевать. Еще ни один танец фламенко не возбуждал ее так, как возбуждало болеро. Иван диву давался — откуда в его женственной Маре столько жилистой силы, столько неутомимой страсти. Поворот! Маленький барабанчик бьет: там, та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Это стук сердца? Это стук каблучков. Это стук кастаньет. Это стук секунд. Время. Время любви. Время смерти. Время судьбы.
Мария, отогнув шею и наклонив голову, сцепив колесом руки за спиной, отшагивала от бросающегося к ней Ивана, перестукивали ее каблучки. Там, та-та-та-там. Иван настигал ее, как коршун. Властно хватал за плечо. Поворачивал к себе. Миг они глядели друг другу в глаза — две хищных птицы, два зверя, сошедшихся на лесной тропе. Мужчина и женщина — вечные враги. И не победит никто. Если не победит никто — кто-то из двоих должен умереть. Он так любит ее, что убьет ее любовью. А она? Она любит его?
Она молчит. Она отвернула голову. Ее глаза глядят в пол. Потом внезапно вскидываются ресницы, и черные радужки ослепляют, и черные зрачки вонзаются двумя огненными стрелами прямо в сердце. Она молчит о любви. И никому о ней не скажет. Даже ему, кто, раскинув руки, как крылья, налетающим из облаков коршуном нависает над ней.
И маленький барабанчик стучит, выстукивает жесткий, жестокий ритм, неуклонно, механически отбивая смертную чечетку: суждено. Суждено. Суждено.
Они успели подготовить всю сюиту «Латинос» в Праге.
Из Праги в Аргентину они вылетали с уже готовой программой. Так, два-три штриха осталось доделать, не больше. Они тщательно подобрали с Иваном музыку. Аргентинское танго и хабанера шли под запись. Самба, румба и болеро — под живую музыку. Станкевич выписал из Гаваны гитаристку Анну-Лизу Амиго, из Монтевидео — ансамбль «Анды», из Мадрида — гитарное трио «Лас Вегас», и только из Москвы выслал в Буэнос-Айрес одного-единственного исполнителя, зато самого важного: барабанщика. Партию маленького барабанчика в «Болеро» Равеля должен был исполнять в новейшем супершоу Марии и Иоанна «Латинос» не кто иной, как с виду такой же маленький, как сам его барабанчик, плюгавенький, зачуханный, с белесым хохолком жидких волосенок на темени, растерянно, враскосец глядящий, будто бы на него напали из-за угла или он тяпнул двести грамм красного, чуть раскосый, как китайчонок, вечно в мятом и грязненьком пиджачке. — одиозная фигура оркестра Гостелерадио, барабанщик, ударник-профессионал Матвей Петрович Свиблов.
* * *
Когда там, в вышине, на высоте одиннадцать тысяч метров, они болтались в самолете, забрасывавшем их в Буэнос-Айрес, Мария подумала: да, они две птицы, две перелетные птицы, а Ким — охотник. Он прицелится метко… и выстрелит — в кого?..
Ей сильно хотелось спать. Она дремала, склонив голову на плечо Ивана. Их руки соприкасались на подлокотнике самолетного кресла. Их пальцы… Их пальцы сплетались… Скоро на их безымянных пальцах будут гореть золотые кольца…
Аэропорт в Буэнос-Айресе был похож на все остальные аэропорты мира. Гул самолетов, толчея у стоек и касс. Она вздрогнула, вспомнив аэропорт в Монреале. Что было тогда в том свертке? Она не узнает этого уже никогда. А что, если никогда больше не возвращаться в Москву? К Станкевичу? На свою Якиманку? К щедрой на крики «браво!» московской публике? В лапы к Аркадию Бееру? Что, если Москва — уже прожитая жизнь? И не надо, не надо больше ступать в эту воду?
Мама… Испания… Вернуться…
Зажить с Иваном в своем доме… В доме в Сан-Доминго… Выстроить там их семейный дворец, новый Эскурьял…
Они сошли с самолета, и их встретили люди, что ждали их, и привычное такси отвезло их в привычный отель. Отель — вот наш дом отныне и навсегда! И другого не будет.
В России была зима, и холодные ветры били наотмашь железными рукавицами в лицо, и метель заметала крыши, дома и дороги, — а здесь стояло жаркое лето, все цвело и пахло, горы ярких золотых и алых овощей и фруктов лежали на лотках, дети ели на улицах ложками разрезанные на половинки авокадо, матроны защищались от солнца белыми шляпами с широкими полями, а усатые, как коты, мужчины — соломенными сомбреро, и все уже готовились к карнавалу — его дух был разлит в воздухе, в мареве истомной жары. И в заливе Ла Плата океанская вода переливалась в лучах утреннего солнца всеми цветами радуги, и соленый океанский ветер обдувал лица, страстно целуя в губы красивых женщин.
И разносчики даров моря, снуя по улицам с деревянными лотками на груди, зазывно кричали: «Рыба, рыба! Свежая рыба! Кальмары, кальмары! Щупальца осьминогов!.. Свежие трепанги!.. Лобстеры, свежи лобстеры!.. Раковины, покупайте отличные большие океанские раковины к карнавалу!..»
И они с Иваном целый день отдыхали в роскошном отеле, в номере люкс — Станкевич, в кои-то веки, не поскупился на люкс; плескались в мраморном джакузи; нежились на балконе в шезлонгах, подставляя лица солнцу; ели манго и авокадо, бананы и любимые Мариины апельсины, запивая их легким белым вином и крепким «porto negro»; и только, когда Иван обнял ее и недвусмысленно приблизил к ней лицо, щекоча губами порозовевшую на солнце мочку ее маленького уха, она отодвинулась от него и томно, лениво-устало сказала: хочу спать, Ванька, нам надо выспаться, завтра вечером у нас с тобой первое выступление, я не смогу станцевать финальное болеро, если я не высплюсь как следует. Не с тобой, прости. Я лягу одна. У нас же люкс, у нас же тут три сногсшибательных комнаты, мы же тут можем свой собственный карнавал устроить, правда?..
КИМ
Я не мог. Я не мог без нее.
Я не мог без нее ни дня. Я очумел. Я отупел. Я понял, что я погружаюсь в черный омут. В омут безлюдья; безвоздушья; бесстрастья; безделья. Я потерял работу. Я скрывался на даче у Славки. Я позвонил жене, моей беленькой кудрявой болонке, и сказал сдавленным голосом в трубку: «Прости, все так вышло. У меня есть женщина. Ее зовут Мария. Она моя жена перед Богом. Я ухожу из дома. Я ухожу от тебя. Я теперь больше не работаю у Беера. Я теперь не знаю, где я живу. Может быть, я уеду из Москвы. Совсем. Тем более, что меня в Москве могут подстрелить ненароком. Я тут напортачил малость. Хозяин недоволен мною. Я оставил тебе все заработанные у него деньги. Перевел все со своего счета на твой. Ты и девочки, вы проживете. У меня на жизнь есть пока». Я выслушал все взорвавшиеся в трубке вопли, рыдания, угрозы, причитания, просьбы, мольбы и упреки. Я молчал, слушая это. Потом сказал: «Я весь протянут к этой женщине. Она — жена другого». — «Кого?!» — завизжал, зазвенел отчаяньем голос женщины, которую я любил, с которой жил и родил детей. «Моего сына», — ответил я. В трубке повисло долгое, страшное молчание. Теперь молчала она. Потом я услышал голос чужого человека. Этот чужой, холодный и презрительный голос металлически, железно вычеканил: «Тогда иди на…»
Я понял, что я больше не вернусь в тот дом, где меня послали на… Это было невозможно для меня. Какие-то вещи я смог бы сделать. Какие-то — не мог ни при каких условиях. Никогда.
Старая Славкина дача, сырая зима, оттепели, метели, дрова. Дрова таяли стремительно. Я понимал, что, конечно, по большому счету сдался я Бееру, но пес его знает, Аркадия, он запросто мог отыскать меня в Москве, под Москвой, за бугром, где угодно, и его человек мог залепить мне хорошую маслину в лобешник или в грудь. Я бы не хотел быть застреленным в спину. Мне в детстве, когда я начал заниматься биатлоном, снился кошмарный сон: я бегу, меня догоняет враг, я лезу через забор, забор высокий, старые серые, черные, гнилые доски, я цепляюсь рубахой за гвозди, карабкаюсь вверх слишком медленно, — и я уже слышу, как тот, кто гонится за мной, дышит рядом, громко и хрипло, и я слышу противный свист пули, и я чувствую, как пуля вонзается мне в спину, застревает внутри меня, в легких, и я понимаю: это смерть. Все, меня убили! И мне становится жарко. Внутри все заливает жаром. Я понимаю: это кровь, она обрушивается внутри меня, как кипящий водопад, я знаю: пуля все разорвала во мне, и сейчас я умру. И я падаю, цепляясь руками, ногтями за забор. Сползаю по забору вниз. И дикий, последний страх — страх пустоты — страх того, что там — за последней гранью — НИЧТО — охватывает меня всего. И звон, дикий, оглушительный звон крови в ушах. Это оглушает меня, все застит последний страх.
И я просыпаюсь, преодолевая этот страх. Я мечусь по кровати, катаю голову по подушке, заставляю себя проснуться страшным, нечеловеческим усилием воли, и еще минуту, две слышу у себя в голове, во всем теле дикий звон, будто бьют в набат, будто звонари колышут, крича, на всех колокольнях огромные басовые колокола. И мать склоняется надо мной, в ее руке мокрое полотенце, она кладет мне его на лоб и крестит меня, и шепчет, чуть не плача: «Ким, Кимушка, детка, тебе опять страшный сон приснился… Господи, забери от детоньки моей страшный сон…»
Жизнь — страшный сон. Только я вот все никак не проснусь.
А время, что я не спал, а жил — было единственное время: с Марией.
Моя черноглазая испанка. Моя дикая, смуглая цыганка. Да, это я, а не он, я твой тореро. Я твой тореадор в расшитой короткой золотой куртке. А все, кто бегает у ног моих и твоих, кто пытается проткнуть меня рогом, а тебя — взвалить на спину и унести прочь от меня — поганые черные быки. И я их всех убью. Всех. У меня рука набита, ты это знаешь.
А если… ты?.. Если ты… сама… меня… разлюбишь…
Ведь мы — одно…
Тогда я… тебя… сам… и потом… себя… Ибо без твоей любви — нет мне жизни, нет…
Но ты любишь меня. Я знаю.
Ким, старый дурак, о чем ты думаешь! Ты — маньяк! Ты спятил на этой танцовщице! Вот она — молодец, она взяла себя в руки! Я внушал себе, что я маньяк и идиот — и не верил себе, и смеялся над собой. И ворошил кочергой в печи на старой даче Славки Пирогова отсырелые дрова, пристально, тяжело глядя в огонь, и понимал: она хоть и далеко, а любит меня, и никогда не разлюбит, даже если моря высохнут, и реки потекут вспять, и звезды посыплются с неба на землю, как снег, и солнце повернется к людям обратной черной стороной. Я встану перед ней, вырасту из-под земли — и она кинется мне на шею! И я крепко обниму ее — так крепко, что хрустнут ее тонкие и выносливые косточки танцорки.
Женщина, что не умеет хорошо плавать, скакать на коне и танцевать, не годится и для любви. Это она говорила мне. Это мудрость древних басков.
Баски, древнее племя Испании… Баски, горный народ Пиренеев… Бискайский залив, густая синева моря, звучный и странный язык, женщины, что носят на головах уборы в виде огромных золотых и медных колес… Цыгане, поющие на дорогах, гадающие в тавернах, ночующие в пещерах… Все, как тысячи лет назад… Только белый крестик самолета — в пустом, белесо-жарком небе…
Я глядел в огонь, на буйную пляску пламени. Огонь тоже пляшет олу. Огонь вырывался из печной дверцы, опахивал жаром мое морщинистое лицо. Каждый день, прожитый без нее — новая морщина. Старость, я не боюсь тебя. Если я пуль не боялся — тебя ли мне бояться? Я готов был закрыть глаза, сложить руки на груди и умереть здесь, на этой заброшенной даче, и чтобы меня никто не нашел, ну, пусть Славка найдет, приехав через полгода и обнаружив мой зловонный труп на бабушкином диване с торчащими пружинами. Но я понимал: надо жить. Надо жить, потому что я в жизни еще раз должен увидеть ее. И это свидание с ней — это еще год, еще пять, еще десять лет моей жизни. И огонь плясал все буйнее, все невоздержанней, рыжие лисьи хвосты сплетались и расплетались, рушились оранжевые небоскребы, разевались красные хищные пасти, взрывались алые снаряды, и малиновые искры летели в разные стороны, обжигая руки, и золотые зерна падали на пол, сыпались во тьму; и я увидел — там, в сполохах огня, пляшет она, Мария, пляшет, поднимая золотые руки над головой, и ее жаркое, красное смуглое тело все выгибается навстречу ему, и я чуть не сунул руки в огонь, чтобы выхватить из пламени ее — и застонал, и опустил голову в колени, стыдясь себя, своего навечного, неизлечимого сумасшествия. Да, я был нормален! И вот я сошел с ума. Я сунул руку не в огонь — за печку, туда, где была спрятана от крыс, чтобы не уронили в шкафу, в старом посылочном ящике початая бутылка дешевой «Старорусской», купленной в здешнем сельмаге. Я отвинтил затычку и глотнул из горла. Где она теперь? Кто об этом знает? Станкевич? Беер? Московские сплетницы-газеты? Надо завтра утром купить газету на станции.
И я выпил из горла, без закуски, всю водку из бутылки, а потом заплакал, закрыв лицо рукой, как плачут дети. А потом уснул прямо на полу, перед печкой и тлеющими рубиновыми углями в ней, под вой метели, под свист ветра за окном, уснул на старой даче, как спят только в раннем детстве, постанывая после слез, всхлипывая во сне.
И я купил назавтра, темным метельным утром, закрываясь от хлещущего в лицо снега рукой и воротником куртки, ворох свежих газет на станции электричек. Развернул первую, и сразу же, с разворота, на меня глянуло ее лицо.
«Блестящие исполнители танцев фламенко Мария Виторес и Иоанн — триумф в Аргентине! Буэнос-Айрес — у ног неповторимых танцовщиков! Новая танцевальная сюита „ЛАТИНОС“ — новое слово нового века в танце!»
Так. Она в Аргентине.
Она в Аргентине, так далеко, за океаном.
Но ведь когда-нибудь она вернется в Москву.
Неужели она так испугается собаку Беера, что они с Иваном попытаются скрыться за занавесом надолго?
Она… с Иваном… Невозможно…
Я все равно видел их вдвоем на постели. Сплетшихся. Вместе.
Ветер вырвал газету у меня из рук и поволок ее по снегу, как раненый бык волочит за собою по опилкам арены впившуюся в окровавленный бок бандерилью.
* * *
Она надела шляпку с вуалью. Посмотрелась в отельное зеркало в прихожей их сногсшибательного, как у королей и президентов, номера люкс.
Она не хотела, чтобы ее на улице узнали. О ней уже вовсю писали аргентинские газеты. О ней и об Иване. И она не хотела, чтобы на нее на улице показывал народ.
Она прекрасно помнила этот адрес. И этот угрюмый многоэтажный дом на отшибе, на окраине города, на пустыре. Дом, из одиночных камер которого было видно только выжженно-светлое, бездонное небо.
Школа. Школа нечеловеческой жизни. Школа приказной смерти. Школа слежки человека за человеком, за которую платят деньги.
Процокав каблучками по отельному коридору, она спустилась в лифте на улицу, таясь, поминутно оглядываясь — как бы кто не заподозрил, что это она, Мария Виторес, что она идет по Буэнос-Айресу одна, и куда же она идет, и почему не в окружении свиты, папарацци, продюсеров и телеоператоров? Никого. За нею слежки не было. Никому не заплатили большие деньги, чтобы следить за ней. А впрочем, кто знает.
Она взяла такси и коротко приказала водителю: «Улица Реконкисты». Шофер кивнул головой, машина стронулась с места. Она закрыла глаза. Перед глазами встало лицо Кима. Почему у тебя такие коричневые щеки, спросила она одними губами, обеспокоенно, как мать, почему у тебя такие припухшие веки, ты что, много пьешь, тебе же нельзя пить, у тебя не будет верной руки при выстреле, и у тебя же сердце, у тебя же возраст, — чепуха, услышала она в ответ его молчание, мне можно пить, потому что я не могу не пить, я должен заглушить вином, водкой твое отсутствие в жизни моей, закрыть дурманом это пустое место, где нет тебя со мной, эту пустую половину кровати, эту пустую, мертвую половину сердца, ты что, не понимаешь этого? Она видела его глаза. Они остро, словно расстреливая ее, глядели на нее. Не убивай меня глазами, прошептала она ему, не убивай меня руками, не убивай меня любовью своею, я же вернусь к тебе, я же…
«Что вы там шепчете, сеньора? — недовольно спросил водитель, искоса глянул на нее, и Мария догадалась: „Он думает, что я наркоманка, бормочу, накурившись или уколовшись“. — Реконкиста, приехали. Или вам дальше?» Нет, спасибо, кивнула она головой, вот, возьмите. Выпрыгивая из машины, она услышала изумленный вопль таксиста: «Но по счетчику ведь гораздо меньше, сеньора!.. У меня нет сдачи, куда вы!..» Она уже бежала, летела вдоль набережной. Вот он, залив! Ла Плата… Сине-золотой сейчас, вечером, блестящий под закатным солнцем гладким алым зеркалом… Сюда втекает могучая река Парана… Отсюда, где она стоит и глядит на залив, на белые дома, лепящиеся по берегу, виден порт… Да, красивый город… А когда она училась в Школе, она не видела города. Они все жили в тюрьме, взаперти, в огромной серой тюрьме, и их считали по головам, как скотов, и их выкликали по номерам, как заключенных; и они глядели на небо через решетки маленьких, под потолком их одиночных спален, похожих на камеры обскуры окон.
У этого зданья нет адреса. Зато у него есть хозяева. Зачем она сюда идет? Что она здесь забыла?
Старый генерал. Она лишь теперь догадалась, что он похож на Кима. Он просто похож на Кима чем-то неуловимым, и ради этого она идет к нему. Чтобы взглянуть на него. Чтобы, возможно, попить с ним коктейля в баре. Она — его — пригласит в бар? Почему бы нет? Это очень по-русски. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Иван говорил ей, что так танцуют в России на деревенских посиделках, в сельских клубах. «А сейчас — белый вальс!.. Девочки, вперед!..»
Девочка, вперед. Ты почти у цели. Не тушуйся. Он будет рад, этот твой генерал. Пригласи его на свое шоу.
Она позвонила в дверь условным звонком. Она помнила его. Дверь открылась. «Вы безоружны?» Она позволила себя обыскать. Охранник, выслушав ее, кивнул головой: следуйте за мной. Коридоры, темные слепые кишки; металлические двери с номерами, за каждой дверью — жизнь, изломанная, как у нее. Охранник провел ее в хорошо знакомую ей комнату, на двери которой была прибита стальная табличка с надписью: «Rudolf fon Beyer, general». Набрал код. Дверь отъехала, въехала в стену. Она перешагнула порог. Старик сидел за столом, сгорбившись. Когда она вошла, он поднял голову от бумаги, что читал. Он не удивился. Его лицо не дрогнуло. Он разжал губы и сказал тихо:
«Вот ты и приехала, V25. Твой шеф искал тебя. Он звонил мне из Москвы. Какими судьбами?»
У меня здесь концерты, сказала она так же тихо. Я буду тут выступать.
«Меня пригласишь?» Она глядела на его лицо, изрезанное резцом старости. С ужасом подумала: да ведь это и я буду такая же, точно такая, коричневая седая испанская старуха, и мой Ким скоро будет точно такой же, страшный, коричнево-изморщенный, как старый дуб. Люди уходят отсюда не молодыми и красивыми, не гладкокожими и белозубыми, а — вот такими, как этот старик за столом, с прищуром чуть раскосых индейских глаз, с немецкой выправкой прямого позвоночника, с нависающим над ремнем военных брюк грузным брюшком. Она осознала, что подумала о Киме: «мой Ким». Мой! Ее. Собственность. Человек — собственник. Почему она никогда не думала об Иване: «мой Иван»?
«Садись, Виторес. Расскажи о себе».
«О себе не буду. Не хочу».
Генерал встал из-за стола. Оперся о стол узловатыми мозолистыми пальцами.
«Расскажи тогда, что хочешь».
Она сглотнула. Приподняла пальцами вуаль. Он увидел ее глаза. Вот теперь он понял. Близко подошел к ней. Взял ее за локти. Заглянул ей в глаза. Какие у него холодные руки, подумала она, ему надо бы здесь сидеть в перчатках. Или устроить тут камин. Они ничего не говорили. Глядели друг на друга. «Мой племянник очень страдает, — наконец медленно проговорил генерал, не отрывая глаз от Марии. — Он звонил мне. Спрашивал, не тут ли ты. Хочешь, позвоним ему сейчас?» — «Я не знаю вашего племянника», — удивленно сказала она. «Как же не знаешь? Это твой шеф. Неужели ты не догадалась, что мы родня? А фамилия?» Беер, Беер, фон Беер, фон Беер, забили барабаны у нее в голове. «Теперь догадалась», — произнесла она, улыбаясь кончиками губ. Старик выпустил ее руки. Закурил. Она нюхала табачный дым. Он спросил ее: так позвоним? «Не надо. Мы в ссоре. Я не хочу его видеть. Я… убежала от него. Я не хочу у него работать».
«За тебя заплатили деньги, девочка. Ты обязана работать», — внятно сказал старик. Она опустила голову. «Я приехала к вам не для того, чтобы жаловаться на жизнь. Я просто приехала. Я завтра танцую в зале „Ла Плата“. Приходите на мое шоу. Я буду рада видеть вас в зале». Старик усмехнулся: «Я не могу являться открыто на такие многолюдные сборища. Я засекречен. Моя Школа — моя тайна. Я сам тоже — закрытая коробочка. Я отвык от торжеств. Но на тебя я пойду. Мне рассказывали про тебя всякие чудеса».
Они говорили не по-английски, а по-испански. Ей было и легко, и тяжело. Тяжело — потому что слезы сдавливали горло. Легко — потому что чем больше она смотрела на старого генерала, тем сильнее она понимала, как она любит Кима. Они и вправду были похожи. Не чертами, нет. Внутренним, необъяснимым. Она смотрела на него долгим, нежным взглядом, и старик возвращал ей взгляд, и все больше проникались пониманием друг друга — слова, разговоры им были не нужны. Так прошло несколько минут. Он положил руку ей на плечо, затянутое в черную шерсть. «Если бы я был молод, я бы женился на тебе. А может, и нет. Может, я бы просто любил тебя так, издали, не опошляя тебя стиркой и готовкой пищи, потому что тебя нужно любить так — счастливо и свободно. Ты очень свободный человек, Виторес. И очень опасный. Твоя опасность — в твоей свободе».
Стремительно вечерело. «Завтра карнавал, — сказала она тихо. — Все уже готовятся. Девушки сегодня ночью не будут спать». — «Не только девушки, — сказал старик. — Я нынче ночью тоже спать не буду». Он включил настольную лампу на столе — старинную, позапрошлого века. Лицо Марии вспыхнуло, озарилось мягким золотом. Старый генерал откровенно любовался ею. «Вы знаете о том, что сейчас идет Зимняя Война?» — внезапно спросил он. Она переспросила: что, что? Какая… Зимняя?.. Ну да, зима же, февраль… А где?.. «Везде, — холодно сказал старик. — Зимняя Война идет всегда и везде. Потому что, когда там лето, здесь — зима. И значит, Зимняя Война идет всегда. Ей нет конца. И ты, Виторес, участвуешь в этой войне в ее авангарде. И я тоже. Но я устал. Мой срок выйдет скоро. А ты еще увидишь Войну во всей красе». Что это за Война, тихо повторила Мария, и кто ее развязал? «Необъявленная и без видимых причин, — так же тихо ответил старик. — И на ней может погибнуть кто угодно, где угодно и когда угодно. В этом вся ее сложность по сравнению с предыдущими войнами мира».
Вуаль слегка трепетала на сквозняке. Окно в кабинете было открыто. Соленый океанский ветер врывался в него, отдувал сине-черную прядь волос Марии, выбившихся из-под шляпки. Мария сказала: «Генерал фон Беер, у меня к вам есть просьба. Одна-единственная. Ваш племянник, отправляя меня на задания, никогда не вооружал меня. Прошу вас, дайте мне оружие. Пистолет. Револьвер. Все равно. В револьвере хоть и меньше зарядов, но зато он всегда готов к стрельбе. С пистолетом возни побольше, зато там…» — «Много патронов, а значит, много выстрелов, — докончил он за нее. — Ты рассуждаешь правильно. Если я подарю тебе хороший пистолет, как ты меня за это отблагодаришь? Поцелуешь?» Он расстегнул кобуру, вытащил из кобуры черную, лаково блестящую «хамаду», протянул ей на раскрытой ладони, как протягивают детям конфету. «Только не употребляй лекарство не по назначению. Как ты вывезешь его из страны? Тебя же обыщут в аэропорту, если железка зазвенит, а она зазвенит у тебя в чемодане. С дипломатической русской почтой?» Она кивнула. Взяла оружие. Шагнула к нему. Старое, исчерканное временем лицо оказалось совсем близко. Она поцеловала его так, как если бы целовала Кима. Но это был не Ким. Жесткие губы встретили ее губы, властно раскрыли их, изучили, приняли, благословили. Оторвавшись от нее, генерал сдернул с пальца железное кольцо. «Мои предки, солдаты Фюрера, носили. Мой дед… и мой отец. Я ведь из потомков немцев, после сорок пятого года бежавших через Атлантику на лиссабонских кораблях в Бразилию, в Аргентину. Мой брат сдался в плен и застрял в России. Женился на русской. Привет твоему шефу… если помиришься с ним». Он надел ей на палец железное кольцо. Она сжала руку в кулак, ощущая холод военной стали, холод времен.
Всему приходит конец. Она затолкала пистолет под лифчик, под черное шерстяное платье. Подошла к двери. Постояла еще минуту, неотрывно глядя на него.
Время. Время и боль между ними. И жестокие законы жизни, сделавшие их теми, что они есть. «Если тебе вдруг понадобится моя помощь — обратись ко мне. Не стесняйся. Я приду на твое шоу. Я куплю ложу, всю, и сяду там один, в тени портьеры. Меня никто не увидит, не бойся».
Она вышла из здания, когда уже стемнело и город погрузился в пылающее море огней. Огни фонарей и звезд в заливе, огни по склонам холмов, неоновые жилы улиц, слепящие фары машин. Огненные глазницы домов и небоскребов. Горящий человечий муравейник. Один из муравейников земли. В ночи муравейник пылает огнями, горит и шевелится, и бессонные муравьи все ползают, ползают, пытаясь добыть, отнять, родить, разрушить, продлить, взорвать, украсть, подарить. Жалкая попытка жизни. В жизни нет ничего важнее смерти.
Она прижала руку к груди, где под платьем холодил тело кусок черного металла. У нее теперь есть защита. Не Иван, нет. Что Иван? Он слепой на один глаз. Она теперь сама отстреляется. От всех. Если на нее нападут. А потом бросит «хамаду» Рудольфа фон Беера в Ла Плату. В Москва-реку. В Японское море. Потому что убить человека, глядя ему в глаза, можно только один раз.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД СЕДЬМОЙ. БОЛЕРО
КАРНАВАЛ
И настал этот день.
Великий день Буэнос-Айреса!
Это карнавал, карнавал, шептали губы. Только раз такое можно пережить — ибо нет двух похожих карнавалов, как нет двух похожих красавиц-креолок в Буэнос-Айресе!
Утро было затаенным. День — сгущенным, как сладкое молоко. К вечеру все напряглось, наэлектризовалось, стало сверкающим и жадным, ждало, томилось, умоляло, готовилось к прыжку — и внезапно взорвалось ярчайшим светом, неумолимым блеском, сплошным, как серебряный ливень, фейерверком! Карнавал обрушился с высоты, как водопад Анхель! И шум цветного сумасшедшего водопада, грохот бешеного ливня, золотых булыжников обвала музыки, нарядов, смеющихся лиц, танца, блеска мишуры, блеска серег в ушах женщин, блеска синих негритянских белков под смоляными кудрями и розового жемчуга — на смуглых шеях креолок и индеанок, вечный шум жадной жизни, хотящей отдаться и овладеть, обнял весь город. И залив Ла Плата сверкал под огромной зимней Луной, словно черное зеркало, и небо смотрелось в него — ясное, с мириадами хрустальных звезд.
В родной Испании Мария, бывало, тоже веселилась на зимних карнавалах и маскарадах.
Но здешнее сумасшествие!
Да, Аргентина, твой темперамент, пожалуй, и кастильский, и каталонский, и арагонский, и даже андалузский — переплюнет… Это же сон! Ей снится сон! Такого — не бывает на земле!
Она смеялась, когда они с Иваном вышли из отеля — и сразу попали в вихри и цветную поземку уличных танцев. Шоколадные мулаточки с выпрастывающимися из кружевных, белопенных, как сливки, платьев, смуглыми плечами, лихо отплясывали, вертя задами, зажигательную румбу. Белокожие, черноволосые кудрявые испанки и португалки вертелись, откидываясь назад, беря себя руками за кончики грудей в вызывающей, возбуждающей ламбаде. Мальчишки — негры, мулаты, индейцы, квартероны, самбо — катились по улицам колесом, кидались под ноги, просили закурить, и им бросали толстые сигары; а они в ответ бросали в прохожих апельсины и мандарины, и Мария, смеясь, поймала брошенный парнем-квартероном, красивым, как ангелочек со старинной картины, огромный, как оранжевая Луна, апельсин — и тут же запустила в шкурку зубы, очищая его.
— Мара, о Боже, ну и ну… Я впервые такое вижу! А мы тут живы останемся?!..
— Ванька, открой рот… — Она вбросила ему в рот половину апельсина, и он чуть не поперхнулся. — Забудь все! Окунись в это море! Это море радости… счастья…
— А ты, надеюсь, не забыла, куда мы с тобою идем?..
— Как забыть! На наше шоу! И мы идем на него, танцуя! Такого у нас с тобой, кажется, не было никогда…
Они передвигались по улицам пешком — ибо все шли пешком, машины, автобусы и иные железные повозки карнавал стер с лица города влажной горячей рукой, сейчас все высыпали на улицы и бежали по ним — куда?.. к океану?.. — и пели, и прыгали, и катились колесом, и нет, вон там, там белые лошади тянули повозку, тележку со стоящими наверху грудастыми девчонками, одна черная, другая желтая и раскосая, у девчонок лица были размалеваны, как у воинов племени масаи, красной и синей краской, в руках они держали веера из страусиных снежно-белых перьев, обмахивались ими и верещали на всю улицу:
— Колдуньи! Колдуньи с Рио-Гранде! Мы колдуньи с Рио-Гранде, подходите к нам, мы снимем с вас сглаз, а на ваших врагов наведем порчу! О-ля-ля! Спешите!
Наведу-ка я порчу на Беера, подумала Мария весело. Ей сегодня не хотелось печалиться. Сегодня она во что бы то ни стало хотела быть веселой. Они доберутся пешком до зала «Ла Плата» как раз вовремя за два, нет, за три часа, она все рассчитала, через эту танцующую и кричащую, пьяную нарядную толпу раньше и не пробраться. Она наклонилась к Ивану и цапнула его за руку:
— Эй, Ванька, гляди-ка!.. Мальчишка птиц продает!.. Разных, в клетках и без клеток, и попугаев и туканов… а туканы какие красивые, клювы у них как радуги, они немного на попугаев похожи!.. и павлинов, видишь, павлинов!.. У него на плече павлин сидит!.. ручной, видишь, зерно с ладони берет… Цирк!.. Гляди, все у него птиц покупают, давай и мы купим!..
— Куда тебе, Мария, птица?.. Ты что, ее в Россию повезешь?.. Тебе же не разрешат…
«Мне и пистолет не разрешат. Однако я его провезу. Как — это уже мое дело. А птицу…»
Они, проталкиваясь сквозь карнавальную толпу, подошли ближе к парню-негру, продающему птиц. Парень был черно-синий, гладко-потный, лоснящийся, лиловый, белки его глаз горели бирюзово, будто бы у него была не голова, а выкрашенная ваксой тыква, и внутри нее пылали свечи. Мария, подобравшись к нему ближе, разглядела, что у него, всего обвешанного клетками и усеянного птицами — птицы, распевая и клекоча в клетках, вцепившись в него коготками, сидели на нем, в рукав ему впился крупный синий, в красном беретике, ара, на правом плече сидел какаду, а на левом…
— Колибри! — закричала Мария, и негр вздрогнул и улыбнулся широко, во весь рот. У него не было двух передних зубов — должно быть, выбили в драке. — Маленькая колибри! Гляди, Иван, она как рубин! Как индийская шпинель, ало пылает, горит вся… Я куплю у него колибри! Я сегодня буду с ней танцевать! Я знаю, как это обыграть! Погоди…
— Мара, не дури!..
Она уже продиралась сквозь прыгающих возле негра девочек-нимфеток, сплошь унизанных пирсингами: пирсинги торчали у них на скулах и над бровями, в ноздрях и на запястьях, на одной, особо нахальной, из одежды были только индейские мокасины, крохотная полоска золотой парчи, изображающая трусы, и ослепительно переливающиеся бусы на высокой, как башня, шее, — и алмазно блестевший пирсинг, как коготь попугая, блестел у нее в черной чечевице соска. Затрясла парня за плечо. Колибри взмахнула крохотными крылышками и покосилась на Марию умным рубиновым глазом.
— Сколько?! — выкрикнула она по-испански и показала пальцем на колибри. Негр крикнул ей в ответ, перекрывая уличный гам и визги волынки, треньканье гитар и зазывные крики разнаряженных ночных бабочек:
— Колибри?! Да на что мне такая пчела! Это же не птица, а муха! Мне бы попугаев своих продать, а эту — даром бери! Дарю!
И парень сдернул с плеча птичку, зажав ее в кулак, и посадил, прицепил, как брошку, к платью Марии, и она снова крикнула:
— Почему не улетает?! Ручная?
— Заколдованная! — крикнул негр. — Заговоренная! Сегодня все заколдованное, сеньорита! Она от вас сегодня ночью не улетит! Это ваше счастье! Любите его! Лелейте его!
И Мария наклонила голову, смеясь, и поцеловала маленькую рубиновую, с золотыми крылышками, ручную колибри в красную головку. И Иван сердито дернул Марию за руку:
— Идем же! Мы опоздаем! Нас забросают тухлыми яйцами и гнилыми помидорами! Двигай ножками!
— Ножками?! — Мария окинула его испепеляющим взглядом с головы до ног. — Да, я подвигаю ножками! Я сейчас потанцую! Вместе с ними со всеми!
И в наступающей южной ночи, в налетающем с океана свежем соленом ветре, на улице, полной ряженых, хохочущих, трясущих страусиными и павлиньими перьями на головах, поющих песни, дующих в дудки, трещащих трещотками и кастаньетами, размалеванных людей, она стала, взбрасывая вверх руки, обжигая Ивана блестящими, как в бреду или после стакана текилы, безумными белками широко распахнутых в ночь глаз, танцевать румбу. Триоли румбы, бешеные триоли. Две креолки подскочили, завертелись в румбе вместе с ней. Откуда-то из мрака вынырнул сам весь черный, как ночь, длинный, как баскетболист, негр, подхватил Марию, крепко обнял черной рукой за талию, повел, повел в румбе, и она, блестя зубами, отгибаясь на руке партнера, победно оглядывалась на Ивана: черт побери, почему ты не пляшешь, ведь мы танцоры, а это же — карнавал!
И налетал из теплого живого мрака ночи резкий и сильный ветер. Мял и взвивал юбки и волосы женщин. Перья страуса на головных уборах. Цветные флаги, стяги, штандарты, полотнища, плащи — все, что могло трепетать и развеваться.
И казалось, вся ночь, весь мир вокруг трепещет и дрожит, и летит по ветру в вечный праздник, чтобы не вернуться в горе никогда.
— Мария! — беспомощно крикнул Иван. — Ты полоумная! Мы бесповоротно опоздаем! Брось танцевать на улице, пойдем же, пойдем скорей в «Ла Плату»… querida!..
Она не отвечала. Она закидывалась и вертелась в страсти танца, и мнилось, она впервые испытывает ее. Иван, прищурясь, закуривая, защищая пламя сигареты рукой от ветра, подумал: это удивительная женщина, Мария, сколько бы ее ни била жизнь, она всегда встает, поднимается, смеется, борется, танцует, и всегда, как впервые, отдается тому, что любит. Тому… кого?..
«Я устала, Иван, нам надо выспаться хорошенько… Я утомилась, Иван, у нас был такой мучительный перелет… Нет, Иван, сегодня — нет, у меня веки тяжелые, как чугун, ты же видишь, я уже засыпаю…»
Он закусил губу. Тому, кого любит, отдается она!
«Иван, мы с тобой должны обвенчаться там, в Буэнос-Айресе, в русской церкви, если там есть русский храм!.. Иван, ты мой жених, мы обручились при моем отце и моей матери… Иван, перед нами все будущее… Иван, я хочу родить ребенка, сделай мне ребенка!..»
Ложь. Все ложь. Все страшная, подлая, наглая ложь.
Она любит другого. Его отца.
Проклятье. Проклятье.
Он выплюнул сигарету и сжал кулаки. Его зрячий глаз воткнулся в танцующую на ночном ветру Марию, как копье. Негр сладострастно вертел ее, и юбки вихрем закручивались вокруг ее смуглых бедер, а потом, схватив за талию, крепко прижимал ее живот к своему животу. У латиносов не танцы, а прилюдное соитие. В танце они просто совокупляются, сволочи. Так нельзя танцевать. Нельзя!
Он подскочил к ним, танцующим, и схватил Марию за локоть. Дернул к себе, отрывая от негра, вырывая из самозабвенья. Она оглянулась на него еще невидящими, полными темного горячего наслаждения глазами.
— Что ты?! Пусти! Слышишь, румба же еще не кончилась! Еще звучит… музыка!
Она задыхалась. Негр, танцевавший с ней, грозно двинулся на него и что-то выхаркнул по-испански — верно, ругательство. Мария сказала ему по-испански на ухо что-то, и негр, ухмыльнувшись, отступил в ночь. «Сказала, наверное, что я ее муж. Или ее мачо», — вне себя подумал Иван.
— Нам надо идти. Слышишь, идти!
Мария поправила волосы. По ее губам блуждала, то гасла, то вспыхивала сумасшедшая улыбка. Так она раньше улыбалась в страсти, когда мы с ней все время были вместе, с горечью и ненавистью подумал он.
— Нам не надо идти, Иван, — сказала она. Золотая цыганская серьга в ее мочке дрогнула. Улыбка острием мачете кольнула ее щеку. — Нам надо только танцевать. Нам только танец один и остался.
* * *
Зал «Ла Плата» гудел. Народу в зале было — как черной икры в открытой ножом банке, если глядеть с высоты, сверху. Разрекламированное шоу танцовщиков из России привлекло сюда, в «Ла Плату», чуть ли не весь Буэнос-Айрес. Аргентинцы, обожая танец, коронуя и обожествляя его, привалили глядеть на шоу «Латинос» целыми семьями. Премьера шоу совпала с началом карнавала, и это было превосходно: сразу после опьянения искусством мастеров — на улицу, в гомон и блеск живого карнавала, в вихри и сладострастные стоны живого танца — на улице, на тротуаре, на набережной, на приморском песке, в дышащей океанской солью и кориандром ночи! Дали уже третий звонок. Женщины в зале обмахивались веерами. Было невыносимо душно. Кондиционеры работали вовсю. За кулисами Мария сидела перед зеркалом в гримуборной, накладывала на лицо последние штрихи краски. Ее черные, с отливом, как вороново крыло, волосы сегодня были не уложены в тугой пучок на затылке, как всегда, а, завитые, свободно струились по плечам, по спине. В ушах болтались массивные кольца золотых серег. Она вызывающе ярко накрасила губы. Навела глаза, густо насурьмила верхние веки, нижние оттенила розовым и синим. Иван стоял сзади, уже одетый, готовый, дрыгал ногами, чтобы не остынуть, сгибал и разгибал руки, разминал пальцами мышцы. Ненавидяще, слепо смотрел Марии в спину. Рядом с зеркалом, на гребешке Марии, изукрашенном поддельными самоцветами, вцепившись в слоновую кость коготками, сидела купленная Марией у мальчика-негра колибри.
— Третий звонок, — сказал он, еле сдерживая себя. — Третий звонок, Мария. Сейчас нас позовут на сцену, а ты все еще малюешься. Тебе не кажется, что надо было все-таки взять в такое большое турне с собой Надежду? Она же мастер. Ты бы так не потела над боевой раскраской.
Мария застыла перед зеркалом со щеточкой для румян в руке. Смотрела своему отражению в глаза. Две Марии пристально смотрели друг на друга.
— Не кажется, — ее намазанные ярко-коралловой помадой губы дрогнули. — А почему это у тебя так голос дрожит, когда ты говоришь мне о Надежде? Ты мне о ней говоришь не первый раз. Ты мне ею уже за все это время, еще с Испании, все уши прожужжал.
«Так, так, отлично, она ревнует, — на миг его охватило торжество и злорадство. — Так, она ревнует к серой козявке! С лица воду не пить, как говорится. Полюбишь и козла… и козу, ежели сподобишься. Она ревнует к этой серой гусенице Наде! Продолжай так же, Ванька, сделай ей больно! Сделай!»
— Прожужжал? — Он шагнул к зеркалу, наклонился над ней, сидящей, и вынул у нее из руки щеточку. — Вполне возможно. Славная девочка. Еще ребенок, правда, несмышленый. Но талантливая визажистка. Далеко пойдет. Еще, глядишь, как Коко Шанель станет. И от нее исходит нечто… нечто сексуальное, как ни странно. Такое странное очарование. Знаешь, когда ее ручки бегали по моему лицу, помнишь, она гримировала меня для концерта в зале «Олимпия» в Париже, я испытал чувство, близкое к оргазму.
Мария встала. Оттолкнула рукой коробочки с красками, румянами, пудрой, тенями для век, помадами и кремами, лежащие горой перед зеркалом. Шагнула к нему. Он не успел ахнуть. Оплеуха прозвучала одновременно с шумно открывшейся дверью гримуборной.
— Сеньора Мария, сеньор Иоанн, — смущенный импресарио кашлянул в кулак, согнулся в три погибели, — веселятся артисты, а может, ссорятся, а может, репетируют эпизод шоу, черт их разберет! — прошу на сцену, публика ждет, полный зал, аншлаг… скорее, музыканты уже настроили гитары!
Мария отшагнула от Ивана. Иван смотрел на нее, как пловец, выпавший в Амазонку из перевернутой пироги, смотрит на крокодила. Или на пиранью.
— Сейчас, — сказали по-английски его губы отдельно от него. — Сейчас мы выходим. Мария, соберись. Извините, господин Санчес. Семейная сцена.
Он повернулся и пошел к выходу из гримуборной. Он слышал, как шаги Марии, ее четкие каблучки, ее туфельки с металлическими подбойками, в которых она танцевала раньше сапатеадо и сегидилью, стучат ему вослед.
Танго. Сколько их было, разных танго, на земле от сотворения Богом танго, аминь.
Утомленное солнце нежно с мо… нежно с мо… нежно с морем проща-а-алось… Заезженная пластинка. Былые годы. Юность отцов, зрелость дедов. Юность Кима. Черная пластинка крутится, аромат счастья, белых ландышей, сирени, первого поцелуя. Слезы, когда уводят из квартиры, где крутится черная пластинка, навек — в лагерь — в тюрьму — на расстрел — чтобы скинуть без вести, без имени, без памяти — в наспех вырытый на окраине города или в глухой тайге, страшный ров. Нежно с мо… Нежно с мо… С морем прощалось…
Танго «Кумпарсита». Беспечное — и трагическое. Улыбка сквозь рыдания. Четкий ритм. Ритм танго — ритм сердца. Танго «Чарли». В русских эмигрантских кабаках Парижа, в притонах Сан-Франциско, здесь, в Аргентине, в портовых ресторанах Буэнос-Айреса, самозабвенно танцевали его.
Но это все — не настоящее аргентинское танго. Настоящее аргентинское танго — вот оно. Они с Марией танцуют его. Они воскресили его нынешнему веку — из небытия.
Ненависть в руке, обнимающей тонкую талию. Ненависть в больших женских глазах, вскидывающихся навстречу суровому лицу, плотно сжатым губам.
Выгибаясь, вертясь, хватая на лету в поддержках и быстрых пробежках по сцене руку Ивана, она думала: вот сейчас, впервые в жизни, он стал очень похож на отца.
Ее сердце молчало. Ее сердце просто работало. Работало, как поршень, как насос. Все ее существо работало, четко и отлаженно, как механизм, совершая работу, которой она отдавала с юности всю себя. Она двигалась по сцене в танго изощренно и умело, то поддаваясь партнеру, то лукаво ускользая от него, и в этом виделась вся ее неистребимая женственность, вся изящная лисья хитрость, странно и внезапно переходящая в гордый вызов, в торжество открытого, жесткого взгляда, пронзающего насквозь, как пикой в бою. Аргентинское танго, какой же ты праздник! Женщина приходит к мужчине на миг. И этот миг она обращает в вечность. И он верит этому. А когда вечность проходит, и она уходит, горделиво вскинув голову, он этому не верит. Он преграждает ей путь. Он грудью встает перед ней, прожигает глазами, простирает к ней руки: моя! Только моя! Не верю, не верю! И тогда она, в страстном повороте, сначала обвивает его за шею рукой, и оба застывают в поцелуе, а потом, не дав ему опомниться, делает шаг вбок и назад. И он застывает с протянутыми в воздухе руками. Потому что музыка гремит и ярится в последнем рыдании, а она — уже ушла. Каблучки простучали. Стальные подковки отзвенели. Гитары бросили рокотать. Тишина.
«Иоа-а-а-анн!.. Вито-о-о-орес!.. Браво-о-о-о!..»
Она, за кулисами, быстро отерла пот со лба. Он подхватил из рук помощника режиссера чистое полотенце, промакнул лицо, боясь смазать грим.
— Ну ты даешь… Ты в ударе…
Ненавидящие глаза. Ненавидящие руки. Хвалящий язык. Он хвалит ее, чтобы не дать себе взорваться, поняла она.
— Ты тоже.
— Грим не смазал?
— Жаль, Нади тут нет, чтобы подправила.
Гитары зарокотали снова. Губные гармошки взвыли, загундосили. Забрякали сушеные косточки в шарах маракасов. Эта музыка могла запросто поджечь и поднять каждого. Даже паралитика. Даже умирающего на смертном одре. Они оба, взявшись за руки, выскочили на сцену, под шквал аплодисментов. Следующим номером шоу была самба.
Самбу танцуют негры, и румбу тоже. Как назвать того, в чьих жилах течет негритянская, испанская и индейская крови вместе? Такого человека называют здесь — самбо. И он танцует самбу лучше всех.
Лучше Марии и Иоанна самбу здесь не танцевал никто. Все в зале это поняли. Люди поднимались из кресел, вставали на цыпочки, обнимали друг друга за шею, пританцовывали, попадая в ритм и такт вместе с огненной парой. Скоро весь зал, все ряды танцевали вместе с ними. Кое-кто взобрался на кресла. Молодежь зажигала фонарики, свечки, зажигалки. Народ подпевал — на мелодию самбы существовало много слов, — и Мария, танцуя, сама подпевала сумасшедшим аргентинцам, и глаза ее, обращаясь на Ивана, блестели торжествующе: это триумф!
За самбой музыканты заиграли румбу. Этот танец шел быстрее. Темп увеличился. Скорость танца понесла их обоих вперед. Иван шепнул ей на ухо: Машка, только не выложись сейчас вся, у нас с тобой еще впереди хабанера, а потом болеро, финал, к болеро мы должны прийти как огурчики, а не как выжатые лимоны. Она шепнула ему в ответ: на хабанере отдохнем, а еще раз назовешь меня Машкой — убью!
«Это я тебя убью», — выдохнул он и в танце, в незаметном па, приблизив к ее лицу губы, укусил ее за ухо. Шутка? Да, конечно, шутка. Она вспомнила про пистолет. Она спрятала его там, в отеле, в дорожную сумку, в боковой карман. Если их отельная горничная воровка — пошарит, найдет без труда.
И румба звучала, и огромный зал «Ла Плата» танцевал вместе с ними; и гитаристы, с гитарами в руках, сами пошли в танце по сцене — музыканты тоже люди, им тоже хочется повеселиться, ведь сегодня карнавал! И гремели, взвиваясь в руках, сушеные тыквы маракасов! И чернявые мальчишки с губными гармошками в руках дудели в них что есть сил, сидя на краю сцены, свесив ноги в зал! И без перерыва после румбы началась хабанера, и юбки Марии развевались, когда Иван безжалостно вертел ее на вытянутой руке, как веретено — она сегодня для шоу «Латинос» надела пышную, чуть ниже колен, снежно-белую юбку, и сильно открытый белый шелковый лиф не скрывал ни точеной высокой шеи, ни твердых, будто стальных, ключиц, ни наливных смуглых грудей, ни подвижной сильной узкой спины. А когда белые, как махровая гвоздика, пышные юбки поднимались на миг в дерзком па — выше ногу, выше, Мара! вот так! — народ видел, тоже на миг, завиток черных волос под треугольником белого шелка.
В хабанере они и правда отдохнули. Размеренный ритм, плавные па. Они будто плыли над залом в теплом океане. Она, держась за его плечо, сказала сквозь зубы: «Немного осталось». Он покосился из-за ее плеча в зал. «Публика совсем спятила, — так же, не разжимая губ, сказал он ей, — а что же будет после болеро, Иван?» Он смотрел на ее полуоткрытый, ловящий воздух рот. Она была слишком близко. Он почувствовал: она так близко, что сейчас, если бы он захотел, если бы смог, он мог бы овладеть ею здесь, на сцене. И она была уже слишком далеко. Она была так далеко сейчас, что ему показалось — она назвала его не Иван, а Ким.
И красная ненависть застлала ему глаза. Он на мгновенье ничего не увидел вокруг себя от бешеной боли.
Он резко дернул ее за руку. Она опять крутанулась вокруг себя, и белые юбки хлестнули его по коленям. Так они застыли: она — откинувшись на его руку, глядя на него из-за копны завитых черных волос настороженно, хищно, и хищно блестел золотой коготь серьги в ее ухе, он — нагнувшись над ней, будто она падала в колодец, сжав губы, отведя руку в сторону, будто бы пряча там, в кулаке, невидимый нож. Зал закричал и завыл: «Браво-о-о-о!» — а музыка уже катилась дальше, текла, как река, как мощная Парана, втекала в огромный залив страсти и смерти, имя которому было — болеро.
И, когда пошло болеро, пошел этот четкий, механически-жестокий ритм: там, та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-там, — он потерял голову.
Он потерял голову от бешеной, слепой ярости.
От того, чтобы наброситься на нее и прямо здесь, на сцене «Ла Платы», задушить ее или швырнуть головой об пол, его удерживали только па.
Только отработанные, хорошо отрепетированные в Праге па болеро. Болеро, танца, пришедшего в Испанию из Латинской Америки, танца, изображающего не любовь, как все другие танцы фламенко, а — ненависть.
Почему ненависть? Почему болеро — это ненависть?
Он раньше не задумывался об этом.
Теперь он каждой клеткой тела, сердца чувствовал: любовь — это ненависть, и это так просто. Как он раньше не понимал!
Там, та-та-та-там. Резкий, дробный ритм. Четкий расстрельный стук. Из-под палочек барабанщика вылетают пули стука. Мария резко повернулась к Ивану спиной. Она вспомнила, как однажды, давно, на одной из репетиций ее первого с Иваном шоу в Москве, «Рассвета в Пиренеях», что делал с ними жиряга Станкевич, дирижер оркестра, под который они тогда танцевали, еще совсем юный мальчик, — юный, как тот бедный тореро, что погиб в Мадриде на корриде, — смешно выпрямился, вытянул над белым воротничком трогательную шейку и сказал, оглядывая исполнителей: «Никакого танца! Никакой музыки! Железный ритм!» Танцоры, делающие с ними «Пиренеи», переглянулись. «Малец, а что позволяет себе!» Однако не просьбе — приказу подчинились. И, о чудо! Они делали «железный ритм», а получались — музыка и танец. Тогда Мария впервые поняла простую истину артиста: загони себя в железные рамки. Втисни в жесткое задание. И вся твоя роскошная свобода, и все художество будут там, внутри. И будут рвать эти рамки. Разрывать путы. И тогда родится истинная страсть. И она потрясет зрителя. Ведь страсть воздействует сильнее всего тогда, когда она сдерживается изо всех сил. Это знают в Испании. Это знают ее родные испанцы. Поэтому их танцы самые эротичные. Хотя они не срывают с уст партнерш поцелуи и не вертят задами, прижимаясь животами друг к другу, как разнузданные латиносы.
Там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Ты повернулась ко мне спиной, но я кладу тебе руку на плечо. И резко, грубо поворачиваю тебя к себе.
Я — твой хозяин. Слышишь! Я!
Никто не может быть моим хозяином. Никто.
СТАНКЕВИЧ
Они завтра вылетают в Москву.
Они сейчас танцуют «Латинос» в «Ла Плате».
По-аргентински сейчас — девять вечера. Они танцуют последний номер шоу. Болеро.
А потом они выйдут на улицы и окунутся по макушку в безумие, называемое карнавалом.
Что будет завтра, когда они прилетят?
А завтра будет грандиозное шоу в Лужниках с гитаристом Кабесоном, дивный парень, гитарой вертит как хочет, просто как бабой в постели, и с этими худышками из Имперского балета, загримированных под настоящих испанок. И Беер велел мне завтра быть на стреме. Я терпеть не мог этих его приблатненных словечек. Ты в лагере срок мотал, что ли, однажды спросил я его? А он мне ответил: не указывай, что мне жрать и где мне ср. ть. И я заткнулся.
На стреме. Я буду на стреме. И, зуб дам, все будет ништяк.
Что Беер задумал?
Я знаю, что он задумал.
Тебя не пугает, что ты можешь лишиться своей наилучшей артистки? Своего жирного, сладкого куска хлеба? И даже с черной икрой?
Звонок. Я рву трубку из кармана. Голос Аркадия, похожий на ледяное сало, на ползущую по реке шугу.
— Станкевич?
— Я, Арк.
— Завтра они пляшут в Лужниках?
— Завтра. Прямо из Шереметьева — и на сцену.
— И тебе их не жалко? Ее — не жалко?
— А что ее жалеть? Она — моя артистка. Артисты двужильные. Ей не привыкать с корабля на бал.
— Отлично. Тогда я предоставляю тебе эту возможность.
— Какую?
Меня всего обдало холодом. И, когда я спрашивал, я уже понял.
— Ну как же. Сам будешь иметь честь.
— Арк!..
— Она мне не нужна больше. Она отработала свое. Она мне надоела. Я сделал на ней и деньги, и нужные мне телодвижения. Она уже шлак. Да, отменная танцовщица, может быть, даже великая. Но это не меняет дело. Она мешает мне жить. Я не хочу, чтобы она была. Жила. Я хотел ее убрать сам. Я хотел приказать Метелице сделать это. Но Метелица сам попался на ее крючок. Крючок вырвали из губы вместе с мясом, но мой лучший киллер сгинул. Это детали. Я его найду. А ее искать не надо. Она ведь не только моя, но и в какой-то степени твоя девочка, Станкевич. Собственность твоя. Поэтому я размыслил так: чтоб мне ручки не пачкать, лучше давай-ка ты это все сваргань. Фантазия у тебя буйная, дружище, я догадываюсь. Такие шоу закручивать! Закрутишь и ее последнее шоу, я так полагаю, блестяще.
Так, так, так. Я знал, что нельзя было ее выводить на Беера. Нельзя было ее продавать Бееру. Я, профессиональный продюсер, сосватал ее не тому владельцу концертного зала. Концертный зал Аркадия Беера называется — «СМЕРТЬ». Да разве я этого не знал! Знал, конечно!
— Аркадий, — сказал я хрипло, откашлялся, но горло опять перехватило, — Аркадий, послушай… может быть…
— Никаких «послушай» и «может быть» быть не может, — сухо оборвал меня он. Вот сейчас я слышал, чуял, какой он, несмотря на русскую мамашу, до мозга костей педантичный немец, фриц. — Я задумал свое шоу — я его сделаю. Я буду твоим суфлером. Твоим помрежем. Если ты вдруг облажаешься в последний момент — я помогу тебе. Проассистирую, verschtehst?!
Холодный пот тек у меня по вискам, по лицу, затекал за воротник. Люди Аркадия и он сам были тайной силой на незримой черной планете, где, в отличие от раскромсанной на куски Земли, еще не была поделена облитая кровью территория. У меня не было другого варианта ответа.
— Понял. Ты поможешь мне.
* * *
Он рванул ее за плечо к себе, и она, крутанувшись, оказавшись с ним лицом к лицу, посмотрела ему прямо в глаза.
Женщина смотрела в глаза мужчине.
Там, та-та-та-там. Маленький барабанчик отбивает жесткий ритм. Ритм жизни? Ее последние секунды?
Жесткий стук. Будто кости стучат. Будто стучит железо о дерево. Сталь о сталь. Будто заколачивают гвозди в гроб. Или — в крест.
Отец, тебя убил тот, кого я люблю. Иван, зачем ты так ненавидишь меня? Иван, мне страшно. Я боюсь тебя. Но я виду не подам, что я тебя боюсь. Мне не нужен страх. Я слишком свободна для страха.
Там. Та-та-та-там. Маленький барабанчик, зачем ты сводишь меня с ума? Маленький барабанчик, ты у меня внутри. Ты во мне вместо ребенка. Ты у меня вместо сердца. И я уже не вырву тебя из себя. Белые юбки метут пол сцены. Белые оборки испачкаются в пыли и грязи. Моя белая чистая жизнь уже выпачкана вся, без остатка. В этом па — в одном-единственном — я на миг подгибаю колени. Отвратительное па. И с каким же наслаждением я распрямляюсь, и поворачиваюсь к тому, кто меня ненавидит и любит, и грудью, как воин в бою, иду навстречу ему, на него!
КИМ
Поглядеть на часы. Поглядеть в газету. На этот проклятый анонс.
Закурить. Если травка поможет, если эти тинейджеры, что смолят косячки, не врут…
Отвратная травка. Тьфу. Какой сладкий, приторный привкус на губах, в глотке. Уж лучше стакан коньяка.
Вчера утром был Славка. Он повертел у виска пальцем: «Ну и долго ты тут будешь валяться, старик? Я тебе советую — помирись с Арком. Помирись! Арк умеет прощать. Точно тебе говорю. Он подкинет тебе работенку. Без дела не останешься, сам понимаешь. А не хочешь — так вали за кордон, я помогу тебе бежать. Организуем побег по первому разряду, не сомневайся! Загранпаспорт новый, шенгенская виза, не хочешь в старушку Европу драть — рви когти в Штаты, в Штаты не хочешь, да, тоже, брат, криминальная страна — вали в Канаду, там безопасно, уютно, природа на нашу похожа, хвои в лесах навалом, и даже березки есть, на лыжах зимой будешь ходить… а хочешь тепла — валяй прямиком в Испанию!.. Апельсины будешь жрать от пуза…» Я глядел на него как на больного. Слава, куда я поеду отсюда? Ведь она прилетает завтра сюда. Вон, все газеты ею пестрят. Прилетает! И я смогу увидеть ее. Хоть на миг.
«Ким, ну ты в натуре чокнулся! — Славка разгневался не на шутку. Я впервые видел, как он сжимает кулаки, скрежещет зубами, впервые слышал, как он матерится без перерыва. — Из-за бабы, епть… Из-за бабы! Кому не скажи! В твоем, мать твою за ногу, почтенном возрасте! Ким, брось! Честно тебе говорю! Ну хочешь, Ким, я щас на машине, давай-ка плюнь ты, мужик, на все это дело смачно, как мужики плюют, и разотри, а?!.. и поедем в ха-а-ароший бордель, я знаю рыбные места, такие осетрихи наживку берут, что еле живой останешься… на дно утянут… русалки… к мамаше Фэнь в „Инь“, к Арине Шахназаровой в „Тайную сауну“… голову тебе на отсечение даю — три дня терапии с девочками, париться до чертиков каждый три часа, сто тридцать градусов в парилке, потом — „Абсолютику“ от души, под закусь… потом — снова — голые тюленихи, хищные пантерочки… гладкие, умелые, так и ходят ходуном на тебе и по тебе… корейский массаж, тупица, ты что, не пробовал никогда… японские секреты… секс по-китайски, с Подглядывающим через ширмочку, через шторку… жутко возбуждает и мозги промывает до стерильной чистоты… и ты — здоров! И ты здоров навек, старик, понимаешь ты это или нет! Давай! Одевайся! Мотор стынет! Мороз же на дворе, у меня масло замерзнет!..» Мерзни, масло, мерзни. Никуда я не поеду.
Славка плюнул на меня и уехал. Я слышал только рокот мотора возле дачи.
Как удивительно, что меня еще не отыскали здесь люди Беера. Как странно.
Я жду их с минуты на минуту.
Вот-вот выбьют ногой дверь. Вот-вот вломятся, ворвутся, и даже пистолет не будут наставлять, выстрелят навскидку. Или очередью из АКМ прошьют все вокруг — старые диваны, сундуки, гнилые срубы, и меня, живого, впридачу. И все же зачем-то я держу под подушкой пистолет. Держу, ибо не хочу умереть без боя. Я мужик, и я должен сдохнуть в бою. На то я и мужик, так я полагаю.
Взглянуть еще раз на часы. Они сейчас еще танцуют.
Мой сын и она.
Я рассчитал их аргентинское время по секундам.
Я по секундам рассчитал время их пребывания в самолете, когда они полетят обратно.
Ты рассчитал, что ты ей будешь говорить, когда станешь на пороге ее артистической там, в Лужниках, с пистолетом в руке?
Я думал об этом — и не услышал, как ногой выбили ветхую дверь старой дачи.
Я услышал шаги в сенях.
Жесткие, тяжелые шаги.
Кто-то шагал по старым половицам в тяжелых, может быть, кованых сапогах.
Инстинктивным движением я напрягся, приподнялся с дивана, сунул руку под подушку и быстро, как смог быстро вытащил из-под подушки пистолет. И быстро засунул его под джинсы, под ремень — в тот миг, когда передо мной открывалась дверь.
Ее тоже выбили ногой.
* * *
Музыка взъярилась, взвилась высоко вверх — и ударила с высоты в их лица, обращенные друг к другу. И оркестр, отринув жесткий тихий ритм, внезапно грозной махиной низвергнулся вниз, обрушив на зрителей и на двух танцовщиков, застывших друг против друга на сцене, ураган, лавину ужаса, страсти, мощи.
Это была война.
Мужчина объявил войну женщине.
Женщина объявила войне мужчине.
А за ними, за их спинами, люди объявили новую войну — людям.
И никто уже не знал, кто и кому ее объявил.
Важно только было то, что она — началась.
Новый век. Новая смерть. Тьма там, где толпа. Зачем жить, когда ты можешь быть повсюду и в любое время убитым?
Переступлен последний порог. Эту войну уже — не объявляют. Эту войну — просто ведут. Каждый миг. Каждый час. Врага нет. Вернее, он есть везде. Он подстерегает тебя всегда. И ты не можешь его подстеречь, ибо он в засаде. Ты не можешь его опознать, ибо он — такой же, как ты.
Он — это ты.
И, значит, ты убиваешь на этой войне самого себя.
Зал затаил дыхание. Зал напрягся. Люди приподнялись, высунулись из кресел, как звери высовываются из нор. Приподнялись на руках, на локтях, стараясь всмотреться в лица танцоров, стараясь заглянуть им в глаза — как они глядели в глаза друг другу. Залу стало на миг страшно, и все в зале подумали: они испепеляют глазами друг друга, может быть, сейчас их руки вскинутся, и они вцепятся друг другу в глаза, в плечи, в глотки, чтобы растерзать, задушить, уничтожить?!
И музыка, обрушившись с высоты, затихла, замерла. И только тонкая жилка пульса билась, все билась изнутри красной боли: там, та-та-та-там, та-та-та-там. Маленький барабанчик отчаянья. Маленький барабанчик судьбы.
БЕЕР И КИМ
Он еле успел спрятать пистолет под штанами. В комнату старой дачи, открыв дверь тяжелым кованым зимним сапогом, ввалился Беер.
Они оба один долгий, тяжелый миг глядели друг на друга.
Первыми дрогнули губы Беера.
— Привет, работничек, — он поиграл тяжелой «береттой» в кулаке, не сводя чугунного, слепо-белого взгляда с Кима. — Ну и как ты тут? Тепло тебе? Мухи не кусают?
— Меня тебе продал Славка? — Ким старался говорить спокойно. И старался, чтобы его рука, лежащая на ремне джинсов, не вздрагивала.
— А ты как думал, ты непродажен? — Улыбка на миг прочертила лицо Беера, как красная ракета — ночь. — Ошибся ты. Продажны все. Продажно все. Нет вещи или человека, который бы не был продажен. Который не стоил бы денег. Маленьких или немыслимых — все равно. И ты тоже потянул на весах. А ты думал, я тебя нигде не найду? Сними руку с пояса. Сними, киллер. Ты не успеешь выдернуть свою пушку. Я все равно опережу тебя. Это тебе, надеюсь, понятно?
— Аркадий, — сказал Ким тихо и неожиданно улыбнулся. — Аркадий, мне всегда все было понятно. Я не понимаю сейчас только одного. Или я так тебе был нужен, или так уж тебе нужна моя жизнь, что ты нашел меня сам? Ты, а не кто-то из твоей челяди? Или тебе доставляет это интерес — самому влепить мне в лоб маслину? Нет, меня не кусают тут мухи. Мне здесь было хорошо. — Он, под взглядом Аркадия, медленно убрал руку с ремня. — Я топил печку, ел старую проросшую картошку, пек ее на углях в печи и ел прямо со шкуркой, и думал о ней. Ты разве не знаешь, какое наслаждение думать о ней? И самое главное, Аркадий, я за все это время никого не убил. Никого. Ни одного человека. Ни одну заказанную морду. И не ушел ни от одного мента. И не получил от тебя ни одной пачки баксов за сделанное дело. И как мне было хорошо, Аркадий, ты даже не представляешь!
Они глядели друг другу глаза в глаза.
— Почему, очень даже хорошо представляю. Великолепно представляю! Отдохнул! Сделал себе Канары… здесь, в Подмосковье, на дне кастрюли! Неплохо все было придумано, Ким. — Он снова крутанул в руке «беретту». — Но я тоже хороший придумщик, Ким. Я тут тоже посидел, покумекал — и кое-что придумал.
— Что?
Вопрос прозвучал спокойно. Беер одобрительно кивнул: спокойствие прежде всего, хвалю, моя школа.
— Один ход. Одну неслабую ходульку. Продам тебе, если хочешь.
— Ну?
Снова глаза в глаза.
И Беер внезапно, ощерившись, крикнул, наставив на Кима «беретту»:
— Встать с дивана! Быстро!
Ким поднялся с дивана медленно, как бы нехотя. Не сводил глаз с Беера.
— Орать, это же моветон, Аркадий.
— Мы не в светском салоне! Мы не на приеме у президента! Пушку на пол! Быстро! — Ким молчал. Стоял не двигаясь. — Быстро, иначе я всажу тебе пулю в лоб!
Медленный, медленный жест. Он полез за ремень. Вытащил пистолет. Медленно кинул его на пол перед собой. Кусок металла лязгнул о половицы. Замер, как убитый механический зверек.
Беер отшвырнул пистолет ногой вбок, к окну. Он закатился под этажерку.
Взглядом Беер схватил корешки потрепанных книг на колченогой этажерке, золотое тиснение: «Брокгаузъ и Ефронъ», «Поваренная книга Елены Молоховецъ»… Штильмарк, «Наследник из Калькутты»… Камиль Фламмарион, «ВСЪЛЕННАЯ»…
Старые книги. Канувшее время. Ушедшая жизнь.
— Мы тоже с тобой когда-нибудь сдохнем, Беер, — услышал он, как бы издали, спокойный голос Кима. — Не забывай об этом. Сдалось мне убивать тебя. Ты же всегда был сильнее и умнее меня. Ты же был мой хозяин. Тебе приятно это слышать? Тогда повторю еще раз. Ты умнее и сильнее меня. Я тебе в подметки не гожусь.
— Не ври, ты думаешь совсем не так! — Лицо Беера перекосилось. Дуло «беретты» глядело в лицо Киму. — Ты думаешь наоборот! Ты думаешь: прыгай, сволочь, а я тебя все равно перехитрю! Но ты голый, как червь… Ты ничего не сможешь! Слушай! Слушай, какой я спектакль тут придумал!
— Да?
«Беретта» глядела пустым черным глазом.
— Завтра они прилетают из Аргентины! Они, ну ты понял!
— Понял.
— Мы с тобой вдвоем будем на их концерте!
— Согласен.
— Не издевайся! И после концерта ты… да, ты, именно ты!.. пойдешь за кулисы, подойдешь к ней и скажешь ей, прикажешь ей: он ждет, Беер ждет, там, у выхода, иди к нему, иди с ним! Угрозишь ей! Сломаешь ее! Ты! Именно ты! — Он брызгал слюной. — А если она не пойдет, откажется, повернется к тебе спиной, тогда ты…
— Тогда я прикончу ее, так я понял?
«Беретта» плясала в руке Беера бешеное болеро.
— Ты всегда был понятливый, мой киллер!
— А Иван? Куда мы денем с тобой Ивана? — Он старался изо всех сил, чтобы голос звучал все так же спокойно. — Куда мы денем Ивана, я тебя спрашиваю?
— Ивана?
— Да, моего сына.
— Пошел к черту твой Иван!
— К черту его должен и я послать, так?
Дуло «беретты» уперлось в грудь Кима. Рука Беера отчаянно, позорно тряслась.
— Пошли к черту вы оба!
— Тебе дать выпить, Аркадий? Тут есть. В шкафу. Калгановая настойка. Еще на дне графина осталось. Коньяк я весь стрескал, извини.
— Ты будешь делать то, что я сказал?!
— Ты так любишь эту женщину, Аркадий?
— Я ненавижу ее!
— Я тоже.
Молчание повисло паутиной, висело, качалось из стороны в сторону. Дуло «беретты» опустилось изумленно.
— Иди ты!..
— Я сделаю, что ты просишь… хозяин.
Ким едва заметно улыбнулся.
— Владеешь собой! Хвалю!
— Может, завидуешь?
— Еще слово — и я разнесу тебе башку!
— Не плюйся. Слюна летит. — Ким отряхнул рубаху. — Во сколько завтра начало шоу в Лужниках?
— В шесть вечера!
— Если ты спасуешь, мой киллер, не бойся. У тебя есть дублер. Я теперь так, старик, без дублеров не работаю. Без страховки, ха-ха.
— Кто мой дублер? — Он побледнел.
— Ее продюсер, кто же еще! Ха-ха-ха-ха!
Он побледнел еще больше.
— Неплохо придумано.
— Я же тебе говорил, что я классный придумщик! А-ха-ха-ха-ха!
Ветки за окном, затянутым белыми хвощами и хризантемами, разлапистыми папоротниками морозных узоров, сучили, мотались под сильным, резким ветром туда-сюда, стучали в стекло. Поднималась метель. Она поднималась словно бы из глубины, белым призрачным заревом. Заволакивала окна. Запевала дикую, протяжную песню в трубах. Человек, заброшенный в полях и лесах в старом доме, мог подвывать ей, как собака, петь ее песню вместе с ней.
Сейчас здесь утро. А в Аргентине вечер. И они с Иваном там сейчас пляшут свои беспечные и огненные танцы. Беспечные? Ах, как весело, беспечно пляшет на опилках на круглой арене свой танец тореро с быком. И публика хохочет, грызет шоколадки, кидает на арену розы и кричит: «Оле!»
И грохочет, грохочет, грохочет дикое, грозное болеро. Это идет война. Это грохочут железные машины необъявленной войны. Это взрываются мощные мины тайной войны. Это сжирает всех живых и живущих призрачная и неизбежная война, выдуманная ими самими.
Они прилетают завтра.
Все всегда будет завтра, ты разве не знаешь об этом?
— Аркадий, — сказал он и сам не узнал своего голоса, — Аркадий, тебе что, больше в жизни делать нечего, как преследовать эту женщину?
— Я не хочу оставлять ее тебе! И Ивану! И никому!
— Тогда убей меня! И ее! Сам! Зачем тебе лишние хлопоты?
Беер опустил голову. Опустил револьвер. Отшагнул к двери.
— Зачем? Чтобы сделать то, что я хочу. Ты разве не знаешь, что самое большое счастье — это когда человек делает в жизни то, что хочет?
* * *
Грохот обвала погребал все под собой. Музыка рушилась, падала, гремела. Грохот и лязг военного металла наваливались, закладывало уши, замирало дыханье. Невозможно было дышать внутри сплошного грохота, стального дождя. Оркестр, разъярясь, шел лавиной, стеной ужаса. Железо, сталь, металл, и внутри грохота и лязга — два жалких человеческих тела, две жизни, мечущихся, жаждущих жить. Мужчина и женщина. Это они развязали войну. Все на свете войны развязаны из-за любви. Из-за любви и ненависти. Деньги — это только лишь жалкое платье войны. Его рванешь — и оно падает наземь, и война стоит перед тобой голая, и ты видишь, как кроваво смеется ее большой уродливый рот.
Мужчина рванул женщину за руку к себе. Зал замер. Многие встали из кресел. Столпились в проходах между рядов. Музыка ритмично грохотала, наступая, и в грохоте тонул железный мерный пульс маленького барабанчика. И все же четкий железный ритм был слышен, поднимался над морем гибели и огня, и все содрогались от мерных, ритмичных ударов: там, та-та-та-там, та-та-та-там.
И женщина толкнула рукой мужчину в грудь. И он пошатнулся.
И мужчина рванулся вперед и занес над женщиной руку.
И она откинулась назад так низко, что ее черные завитые волосы коснулись досок сцены.
И мужчина навис над нею, как коршун.
И она упала на доски, как подстреленная белая лебедь.
И музыка, дойдя до страшной, смертной высоты, внезапно рухнула вниз — и пропала.
Как провалилась.
Как будто ее тоже убили.
И настала огромная тишина.
НАДЯ
Он сам позвонил мне.
Он, золотой мой, драгоценный, сам позвонил мне!
Я была на седьмом небе от радости.
Он позвонил и сказал: «Надечка, мы прилетаем послезавтра, и у нас большое шоу в Лужниках, а завтра у нас премьера шоу „Латинос“ в Буэнос-Айресе, пожелай мне ни пуха ни пера…» Он так и сказал — не «нам», а «мне». И я крикнула в трубку, задыхаясь от волненья, от любви и горечи: «Иван Кимович, ни пуха ни пера!» И я услышала, сквозь треск и дикие помехи, как из космоса он говорил со мной, но все-таки я услышала, как он тихо сказал мне: «Надюша, Надюшечка, я не могу тебя послать к черту, ты понимаешь, ты же такая добрая, такая нежная, я могу тебя только мысленно поцеловать…» И я услышала в трубке странный чмок. И догадалась: это он поцеловал трубку, чтобы я услышала. И я вся стала красная, просто пунцовая, как из бани, вся потом покрылась! И чуть в обморок около этого старого бабкиного телефона не грохнулась!
«Я вас тоже целую, Иван Кимович! — крикнула я отчаянно. — Я послезавтра обязательно буду на шоу! Не потому, что мне надо будет гримировать Марию Альваровну! А потому, что… — На миг, только на миг задумалась я. Это вылетело из меня помимо моей воли. — Потому что я люблю вас, Иван Кимович! Люблю!»
Выкрикнула — и испугалась. Сердце зашлось.
И трубку кинула на рычаги, как если б это была ядовитая змея.
И сидела, молчала, прижимая ладони к щекам, и мысли неслись в головенке по кругу, по кругу, как белка в колесе, мелькали, и спицы мелькали, и пятна света бесились и вздрагивали, и пространство между Буэнос-Айресом и Москвой сжималось неотвратимо, и Атлантический океан плескался на кухне в грязной кошачьей миске. И я подумала снова, в тысячный раз: я провинциальная дура, уродка, невзрачная хлебная крошка, объедок, огрызок, я двух слов связать не умею, у меня нос набок, у меня улыбка кривая, а он — артист и гений, и что я такое для него?! А она, она, что рядом с ним, его красотка, его ведьма, его баба, его девка, что спала со всеми, с кем не лень, это же сразу видно, на ней негде пробы ставить, она… что она сделала для него?! Танцует с ним? Так это же ее работа, стервы! Хоть бы ребенка ему родила, что ли!
Ребенка. Ребенок. Мысли прекратили бежать по умалишенному кругу. Остановились. Застыли.
Ребенок. Я рожу ему ребенка. Я пересплю с ним и рожу ему ребенка.
Дура, ты же уродка! Он же не захочет лечь с тобой! Он, красавец… знаменитость…
Я, положив дрожащую руку на телефонную трубку, словно заклиная телефон не звонить больше, сказала сама себе, слизывая слезы с губы:
— Ты не смогла родить ему ребенка. Ты только пляшешь с ним, задираешь ноги к потолку. А ему просто нужно ребенка. И я рожу ему ребенка. Я.
«А что, если сделать так, чтобы тебя, красивая стерва, сволочь, проклятая плясунья, вообще не было на свете?» — подумала я, утерла кулаком нос, всхлипнула — и ужаснулась.
* * *
…Тишина.
Огромная, как звездный купол над головой, грандиозная тишина.
Белая мертвая роза лежит на темных досках. Валяется на полу. Белый подстреленный лебедь сложил крылья. Все. Закончен танец. Кончена война.
Смяли белый флаг. Бросили под ноги.
Мужчина наклонился над лежащей женщиной. Протянул к ней руки. Но не коснулся ее.
И над дышащим залом пронесся ангел. Он шептал по-испански: querida, querida, my alma, o, my corazon. И зал поднял головы, зал стал единым существом, чудом выжившим после великой и страшной необъявленной войны. Ибо после черного обвала, после последнего взрыва в мире осталось всего двое: мужчина и женщина.
Мужчина в черном и женщина в белом.
И на них с высоты глядел плачущий Бог.
И из всех глоток вылетело дикое, восторженное: «А-а-а-а! Браво-о-о-о! Браво, Виторе-е-ес! Иоа-а-а-анн!»
И в пустой ложе справа от сцены старик в военной форме, в мундире и погонах, при полном военном параде, сидевший совсем один, отставил бинокль от лица и вытер тыльной стороною ладони слезящиеся глаза. И положил бинокль на колени. И тоже поднял руки, сложил их для хлопка, чтобы аплодировать, но не смог — сжал руки в кулаки, опустил на колени. И так сидел, со сжатыми на коленях костистыми кулаками, и слезы текли по измятому временем лицу, пропадали в морщинах.
А когда все закончилось, и отгремели все аплодисменты, и все припасенные букеты были кинуты на сцену, когда их, стоящих у рампы, завалили цветами, цветы сыпались, казалось, не из амфитеатра, лож, бельэтажа и партера — цветы сыпались с неба, и когда они станцевали на бис еще и качучу, и снова румбу, и Мария прошлась в сапатеадо, в «танце каблучков», в умопомрачительной испанской чечетке, и когда они, не выдержав криков «браво», еще раз станцевали покоренной публике аргентинское танго и опять сорвали вопли и стоны восторга, когда их, даже не стерших грим с лица, даже не сумевших переодеться в цивильное платье, все-таки с горем пополам отпустили со сцены, а у артистической их уже осаждала толпа спятивших поклонников и фанатов, желающих получить автограф или сорвать с платье великой Марии Виторес хотя бы одну белую кружевную оборку, хоть кусочек кружев, — когда Мария, расцеловав импресарио, приняла у него из рук маленькую золотую птичку с рубиновой головкой и, хохоча, посадила себе на голову, воткнула в волосы, как драгоценную брошь, а все вокруг закричали: «Ручная колибри!.. Ручная колибри!..» — когда они, задыхаясь от объятий, поздравлений, от выпитого наспех в артистической бьющего в нос шампанского и от восторженно поднесенной им настоящей индейской текилы, — «попробуйте, сеньорита, это же чудо что такое, это индейцы сами готовят, это вроде русского — о, как это?.. — са-мо-го-на, да!..» — вывалились наконец на улицу, прямо из объятий публики — в объятья карнавала, они смогли бегло, быстро посмотреть друг на друга, и Мария, чуть отвернув лицо, сквозь зубы, небрежно спросила Ивана:
— Ну как, я не слишком подвела сегодня тебя?
И Иван, судорожно сглотнув, так же чуть отвернувшись от нее, — а вокруг них сновал цветной хоровод полуобнаженных девушек с золотыми картонными коронами на головах, мужиков с кинжалами у пояса в масках рычащих ягуаров, — так же не глядя ей в глаза, небрежно ответил:
— Да нет, я думал, будет хуже.
И они, накинув на плечи плащи, пошли дальше в ночь и карнавал, и карнавал обнял их и закружил, а может, у них кружилась голова от шампанского и от текилы, от аплодисментов и тостов, от криков и запаха тропических цветов, которыми их завалили, будто бы у них была коронация или свадьба. И Мария, наклонившись к уху Ивана, взяв его под руку, улыбаясь, шепнула ему: «Тебе не кажется, что это наша свадьба?» И он, покосившись на нее, еще не остыв от танца борьбы и ненависти, процедил сквозь зубы: да, смахивает. Но я бы не хотел такой сумасшедшей свадьбы. Я бы хотел, чтобы у нас с тобой все было тихо и мирно. Как у людей.
А карнавал влек, тащил их за собой, кружил, закручивал в свою орбиту, в гущу своей разноцветной, как перья павлина, толпы, и дудки гудели им в уши, и маракасы гремели над ухом, и вокруг обнаженных торсов раскосых индейцев свивались в кольца толстые, как морские канаты, змеи, и маленькие негритянские девочки звенели в серебряные колокольчики, и громадные синие, с красными, в кардинальских шапочках, головами попугаи ара кричали: «Car-r-ramba!», и колибри вцеплялась в ночные волосы Марии, чирикая что-то на нежном своем языке. И музыка, музыка заливала, захлестывала улицы, и Мария, раздув ноздри, вдохнув свежий ночной ветер с залива, обернула лицо к Ивану и, смеясь белозубо, сказала:
— Ванька, черт побери, querido, давай потанцуем, что ли?
И внезапно — посреди карнавала — среди бешеной, яркой как фейерверк ночи — раздался страшный грохот.
И в темном, полном крупных южных звезд небе из грохота возник свист.
Свист рос, мощнел, приближался стремительно, от оглушающего свиста не было спасенья. Свист надавил на уши и выдавил барабанные перепонки. И люди, закрыв уши руками, на миг оглохли и ослепли.
И самолет, толстобрюхий «Боинг», прочертив черно-синее небо громадной серебряно-огненной полосой, с размаху воткнулся в здание, прорезающее пространство теплой ночи.
И огромный небоскреб на набережной, возле которого, обнявшись, плясали и пели счастливые, веселящиеся пары, у подножья которого сидели, дудели в дудки и били по гитарным струнам и струнам звонких банджо уличные музыканты, покачнулся, подломился, как подламывается подрубленное дерево, и из нутра пронзенного зданья вылетел оранжево-алый дикий огонь. И грохот, перекрывший ослепление взрыва, встал черной стеной.
И рушился, рушился, рушился наземь огромный дом. И слепящая вспышка катилась, подминая орущий народ под себя; и люди, в ужасе, врассыпную бежали прочь, катились колесом, как недавно колесом катались в цирковых аттракционах, в акробатических карнавальных танцах, катались по земле, зажав уши руками, крича, вжимая в землю обожженные тела, и одежда на многих вспыхивала и горела, и они превращались в живые факелы, и, горящие, так бежали к океану, к полоске прибоя, стремясь скорее достигнуть воды, и многие падали, не добежав до кромки песка. И все хлестал ввысь, вверх яростный огонь, в котором навсегда сгорели те, кто сам придумал свою смерть.
И Мария схватила Ивана за руку. Поглядела на него расширенными глазами.
— Ванька! — крикнула она сумасшедше. — Ванька, ведь это сделала я!
Рядом с ней валялся на земле мальчишка-негр. Тот, с клетками, продавец птиц. Или — другой?.. Мария не знала. В клетках клекотали, чирикали, кричали птицы. Она села на корточки и перевернула мальчика лицом вверх. На груди у него, под курткой, струилось липкое, темно-багряное. Мария протянула к Ивану испачканные липкой кровью руки.
— Машка, ты с ума сошла! При чем тут ты?! Бежим!
— Dios, — беззвучно сказала Мария, сидя на корточках перед убитым осколком продавцом певчих птиц. — Ванька, тот, наш, мир кончился… Это я сделала, я, я тоже… Моими руками — тоже… Я убила его… Это я…
Он, схватив ее под мышки, оторвал ее от мальчика и потащил, поволок прочь.
— Скорее! Никого ты не убила! Мара, Мара…
Она, в своем белом платье, в том, в котором танцевала сегодня болеро, запачканном кровью, в темной как смола ночи, билась белым голубем в руках у Ивана, тащившего ее прочь, прочь — скорее, скорей, лишь бы прочь отсюда, в укрытие, в безопасность.
— Мара! — крикнул он отчаянно, подняв голову. — Дом рушится!
И все, бегущие в панике прочь, на миг обернулись, задрали головы, и из всех глоток вылетел вопль ужаса. Огромная башня рухнула, заваливая обломками тех, кто не успел убежать далеко. И Иван закрыл Марии глаза рукой.
— Марочка… ну я тебя прошу… ну шевели ножками… скорее!..
Они бежали, чувствуя спинами дыхание пожара, вдоль набережной к остановке автобуса, хотя какие могли быть автобусы во время карнавала, и все же там мог быть транспорт, какой-нибудь старый грузовичок, какое-нибудь завалящее такси, какой-нибудь парнишка с велосипедом, у Ивана с собой были деньги во внутреннем, заколотом булавкой, кармане пиджака, доллары, целая пачка, и он мог бы выкупить у обалдевшего паренька его велосипед, отвалив ему за него стоимость машины, — лишь бы сейчас, скорее, добраться до отеля.
— Мара!..
— Это я, я сделала это все, Иван…
«Она сошла с ума, вот еще беда, мне надо дать ей лекарство, — обреченно, зло подумал он, завидев вдали, у парапета набережной, чью-то сиротливо кинутую машину. — Сильнодействующее… успокаивающее. Вот тачку Бог послал! Если хозяина у машины нет — я угоню ее. Я взломаю дверь и угоню машину к черту, и довезу Марию до отеля. А там — собираться. Быстро. У нас билеты на завтра, ну и что, улетим сегодня. Первым же рейсом до Москвы. Пока никто не успел очухаться и не отменили авиарейсы через океан».
Взламывать и угонять машину ему не пришлось. Под парапетом, сгорбившись, сидел хозяин машины, маленький смешной креол, кудрявый, весь седой, с горбатым носом, похожий на попугая. Он, вскинув к подбежавшим трясущееся, зареванное лицо, пьяно каркнул что-то по-испански. Иван прожег его насквозь сумасшедшим, единственным глазом, дернул из кармана долларовые бумажки, сунул ему в лицо, крикнул по-английски:
— Hotel «Parana», please! Quickly!
ИВАН
Я собрался наспех. Мария сидела в отельном кресле, ничего не соображая. Смотрела прямо перед собой, тупо, невидящими глазами. И все повторяла: «Это я, я одна, я это сделала, я».
Какое лекарство я ей дал? А пес его знает, какое. Я по-английски объяснил дежурному по этажу: плохо сударыне, успокаивающего, сердечного, показывал на сердце, на голову, морщился. Дежурный понял мой примитивный английский. Принес мне маленький пузырек, капли, и упаковку таблеток. Сказал: «Сильнодействующее. Осторожно. Всего одну таблетку вашей супруге». Супруга, черт бы ее побрал, супруга. Умалишенная девчонка. Хлопоты с ней одни. А может, мне действительно сменить партнершу? Да, Мара гениальна, но ведь с гениями и забот невпроворот, кощунственно, ненавидяще подумал я. Может быть, ты и правда, Иван Метелица, бесподобный Иоанн, с ней устал?
Это таблетка. Таблетка подействовала на нее. Она будто застыла, глядела прямо перед собой, сидела в кресле неподвижно, ни на что не реагировала. Только губы ее шевелились. Она все повторяла: это я, это я. Ну пусть повторяет, подумал я со злостью, пусть лепечет что хочет. Сейчас я вызову такси, и мы домчимся до аэропорта, и там — ближайшим рейсом — через Атлантику. Да через что угодно. Если самолеты не летят из Буэнос-Айреса на Восток — к черту все, полетим на Запад. Через Тихий океан. Через Австралию. Через Шанхай. Через Пекин. Через всю Сибирь. Долетим же все равно.
Господи, до чего же я ненавидел ее тогда! Застывшую, как истукан. Повторявшую глиняными губами: это я, я это сделала.
Такси, что я вызвал к отелю, прибыло через час. Улицы Буэнос-Айреса были запружены народом. Над городом повис серый тяжелый дым. Было трудно дышать. Серая пелена застлала звездное небо. Из-за стекла машины, из-за затылка угрюмо молчащего шофера я смотрел на город, где нам довелось испытать величайший триумф и сильнейший страх. Почему Мария, неотрывно глядя в пространство, неведомое мне, все повторяет и повторяет ледяными губами: это я, это я, я одна сделала это?
МАРИЯ
Гул самолета. Самолетный гул.
Меня сейчас вырвет. Я не хочу самолетного гула. Я не хочу гибнуть внутри самолета, в тесном и вонючем самолетном брюхе. Эй, задержите рейс! Знаете, сюда, в салон, в головной или в хвостовой, это все равно, уже подложили взрывчатку!
«Вы знаете, кто это сделал, госпожа Виторес?.. Ответьте…» Я, я, я одна это сделал. И только я. Я одна.
Он насильно погрузил меня в самолет. Он втащил меня по трапу за шиворот. Он втолкнул меня в салон, окрысившись на стюардессу: «Не видите, моей жене совсем плохо! Она накачана лекарствами, она же ничего не соображает!» — силком усадил в кресло, просто вмял в него, как вминают творог в тесто русской ватрушки. «Моей жене». Так и не удалось нам обвенчаться в Буэнос-Айресе, как мы хотели. Значит, Бог этого не хочет. Не хочет нашего венчанья. Не хочет нашей свадьбы. А чего Бог хочет?! Бог хочет, чтобы этот паршивый вонючий самолет, в желудке которого мы болтаемся, как непереваренные куриные кости, внезапно взорвался, и огонь вырвался наружу, и все мы в мгновенье превратились в пепел?!
«Мара, ну что ты, опомнись, что ты кричишь, рядом же с тобой люди летят…» Глаза Ивана гневно блестели. Я зажимала себе рот рукой. Я не смогла переодеться в отеле, я так и летела в Россию в этом белом платье с оборками, похожем на пышную чайную розу, заляпанном кровью того парня, негра с птичьими клетками на груди и на плечах; и я не выпустила там, на набережной Буэнос-Айреса, ни одной птицы из клетки, а где моя колибри, где колибри, Господи?! У меня была маленькая ручная птичка. Величиной с наперсток. И вот ее больше нет. Верни мне мою птичку, Бог!
Молчит.
Верни мне мою любовь!
Молчит.
Только гул самолетного двигателя. Огонь вырывается оттуда, из-под хвоста самолета, железного зверя. Если огонь прекратит вырываться — самолет вверх тормашками упадет в океан. Мы сейчас летим над океаном, и, если мы упадем в темную синюю воду, через стекла иллюминаторов я, ловя ртом последний воздух, увижу рыб. Они будут проплывать мимо нас, пялиться на нас через стекло равнодушными, потусторонними глазами.
Ким, я так люблю тебя! Ким, ты слышишь, я люблю тебя! Где ты! Ким…
От гула меня тошнит. Гул выворачивает меня наизнанку. Теперь я знаю — это не беременность. Это я плохо переношу самолет. Эй, стюардесса, принеси мне целлофановый мешок, чтобы, когда меня вырвет, мне не запачкать ваше роскошное самолетное кресло! Спасибо, вы очень милы. Почему у меня на платье кровь? Это просто пиранья, пиранья в вашей проклятой аргентинской реке укусила меня, да не съела меня до конца. Нет, это в танце партнер проткнул меня ножом, а нож оказался картонный. И вот теперь горько плачу я. Стюардесса, воды! Виски с содовой!
Кто погиб там, в самолете, пронзившем каменный шалаш на набережной? Кто взорвался? Это тот, кто хотел со мною кататься на яхте по морю, на яхте, что стоит на приколе в Иокогамском порту, взорвался и сгорел дотла, разбился в прах. Он самоубийца, он камикадзе. Все мы, стюардесса, камикадзе! Мы — племя самоубийц. Разве ты не видишь, девочка, что врагов больше нет? А если нет больше врагов, то кого, по-твоему, надо уничтожать?! Верно — себя. Ты себе — первый враг.
Гул ширился и рос, и я сходила с ума от гула. Сбоку я чувствовала тепло Ивана, жар его руки. Стюардесса заботливо прикрыла пледом кровавые пятна на моей белой юбке. На меня косились чужие глаза. Я отвернулась. Это я, Господи, это я сделала все это, прости меня, если Ты можешь.
Разносили коньяк. Иван поднес мне коньяк в широком бокале, нагрев его в ладони. Я выпила, и меня вырвало прямо на мое белое лебединое платье.
БЕЕР
Сегодня их шоу в Лужниках. И сегодня же мне звонил человек, в руках которого сходятся нити новых смертей.
Почему я занимаюсь смертью людей? Почему смерть тысяч людей — моя профессия? Потому, что мир дошел до обрыва. До пропасти. А ему надо ведь идти дальше. И он не знает, куда идти. А пропасть он не может перешагнуть. И я, вот этими, своими руками, подталкиваю, толкаю его к пропасти: прыгай! Падай! Вот твоя дорога!
Мы все — актеры в театре господина Танатоса. И зрители — тоже все. И с ужасом глядим друг на друга, и дрожащими губами спрашиваем друг друга: «Я ли, Господи? Я ли?.. Или — не я?..»
Все мы. Все — до единого.
И невинное дитя. И домашняя хозяйка. И крутой бизнесмен, слюнявящий истертые баксы у банковской стойки. И танцовщица на сцене.
Эй, танцовщица на сцене, как ты там?! В самолете трясешься?!
Ничего, скоро все для тебя кончится. Все.
Или — только начнется?
Если будешь со мной — для тебя все начнется. Нет — пеняй на себя.
А хорош был нынче утром мой киллер, когда я припер его к стенке, а он швырнул мне, как собаке швыряют кость, пистолет, из-под трусов выдернутый! Я мог запросто уложить его там, на даче Пирогова, одним махом. Без хлопот. Я ж тоже его ненавижу. Как и ее. Но к ним я обоим как-то привык. Нужны мне они. Оба.
И я их обоих для себя сохраню.
Пока они не изработают себя — для меня — окончательно, до костей, до дыр.
— Галя, крепкого чаю мне! С лимоном! И с вареньем из лепестков роз… тем, сухумским!
Уже несет. Ловит все с полуслова. С полувзгляда. Хорошая девочка! Пожалуй, сегодня пересплю с ней. Эх, если бы с Галей — или любой другой — я мог бы забыться надолго! На всю жизнь…
— Отлично. Иди ко мне. Сядь сюда.
— Ой, Аркадий Вольфович… Ну что вы…
— Не морщи носик, кокетка. Ты же хочешь, я вижу.
Она, Галя, мне сказала однажды: «Я боюсь ваших глаз, Аркадий Вольфович. Они слишком светлые. Светятся… фосфоресцируют, как у волка». Я в шутку бросил ей: я же волк, Галя, разве ты не заметила?
— Какие у вас жесткие колени… Ой…
— Не ойкай. Ты не на операционном столе. Ты же хочешь, хочешь, да?..
Я запустил руку ей под короткую темную юбочку. Она послушно раздвинула ножки, как цыпленок табака на тарелке. Мне все всегда несли на тарелке. Лишь она одна, испанская черная курица, ничего в клюве не принесла. Я был с ней, да. Вот здесь. В моей роскошной гостиной. На этом полу. Около этого кресла. Я сходил с ума тогда. А она отворачивала лицо, будто внутри нее был не я, а ножка стула.
— Тебе сладко?..
— Ой, ой, ой…
Я, крепко держа ее под мышки, выпустил в нее, застонав, стремительную теплую струю, избавившись от мгновенного вожделения, и брезгливо подумал: да она же служанка, нет ничего противнее покорства. И нет ничего слаще сопротивления, борьбы, войны, да, я только теперь это понял.
МАРИЯ
— Иван, оставь меня! Я хочу побыть одна! Оставь!
— Что ты орешь, Мара, я что, ударил тебя, укусил, что ли?!.. спятила девка совсем…
— Оставь! Уйди! Сейчас же!
Он выкатился за порог моей комнаты. Я слышала, как он включил воду в ванной. Принимает душ. Смывает с себя Аргентину. Смерть с себя смывает. У, чистюля.
Я вытащила мобильный телефон из кармана. Я снова включила его. И на режим входящих, и на режим выходящих звонков. И долго, долго, целую вечность набирала я длинный, очень длинный заграничный номер.
— Але… Але-але… Это Мария Виторес, Россия… Сеньора фон Беера я могу услышать?.. Да, сейчас, срочно…
Я услышала голос старого генерала там, далеко, на другом краю света.
— Виторес?.. Это ты, Виторес?.. Ты из Москвы?.. Как ты долетела?.. Без приключений?..
— Самолет не разбился, сеньор фон Беер, видите, я же звоню вам…
— Отлично, я рад, что ты жива… В нашем деле жизнь, дарованная еще на день, это уже очень много… Мой племянник тебя не нашел?..
— Нет… Нет-нет…
— Виторес, у тебя голос плывет, тает!.. Я не слышу тебя… Твой голос не нравится мне!.. Что ты хотела?.. Говори, говори!..
— Я?.. Да, я хотела, генерал… Я…
— Говори! Приказываю тебе!
Я кусала губы. Все дрожало и плыло перед глазами. Я видела себя в пиренейской пещере под тяжелым и грубым телом насильника Франчо. Видела себя смеющейся в патио, в солнечный день, и отец хлопает в ладоши, и я танцую, хохоча, малагенью. Видела себя на залитой огнями сцене, под прибоем аплодисментов. Видела себя там, в мадридском амфитеатре, где ярилась яркая коррида. Видела себя в объятьях Ивана. В страшных объятьях Аркадия. В единственных объятьях Кима.
Вся жизнь промелькнула передо мной. Он приказал мне — говори!
— Мой генерал… Помогите мне. Вы на прощанье сказали: если тебе будет нужна помощь — обратись. Вот я прошу помощи у вас. Не отталкивайте меня! Поймите… меня…
— Да! Говори!
Слезы лились по лицу. В зеркале слез отражался покинутый мир.
— Прошу вас… сделайте для меня это…
— Почему ты просишь меня?.. Ты сама — не можешь?..
— Я сама — не смогу…
Зима на земле. Война на земле. Идет вечная война. Она просто стала другой. И мы в ней — совсем не героические солдаты, как раньше. Мы просто жалкие камикадзе. Мы просто маленькие барабанщики. И мы теряем барабанные палочки. И мы бросаем в море револьверы. И, хоть подаренная вами, старый генерал, чудом вывезенная из потрясенного взрывом Буэнос-Айреса — в аэропорту, когда зазвенел гонг контроля, я беспомощно-жалко раскрыла сумочку и пробормотала: это игрушка, железная игрушка для моего сына, я знаменитая танцовщица Мария Виторес, у меня только что была премьера в «Ла Плате»!.. а мой мальчик в Москве так ждет именно этой игрушки!.. — и мулатка на контроле, кусая губы, махнула рукой: проходи!.. — ваша превосходная «хамада» лежит у меня в сумке, завернутая в кружевные панталоны, на самом дне, я не смогу воспользоваться ею никогда. Потому что я видела, как умирают люди. Потому что я не хочу больше быть навзрыд плачущим солдатом Зимней Войны.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ВОСЬМОЙ. ФОЛИЯ
БЕЕР
Я собрался быстро. Пушку — в один карман. Яд — в другой. Я всегда таскал с собою на серьезные дела цианистый калий в маленькой ампулке. Не помешает.
— Галя, я ушел. К моему возвращению чтобы ужин горячий был! Возможно, я вернусь не один. — Я улыбнулся со значением. — Не скучай, куколка. Ты все равно лучше всех, угу?..
Я потрепал горничную по упругой щечке. Какие свежие девочки у меня на службе, как апельсины, так бы и съел.
Я объелся. Я устал от жратвы. Я хочу бури, голода, страстей, сильного ветра.
Это все дает мне она, чертовка.
Теперь я понял. Понял, почему так гоняюсь за ней. Почему так желаю ее.
И почему я покупаю и продаю мировой ужас за деньги, несмотря на то, что истинный ужас — не продается.
Машина завелась сразу. Странно, на таком морозе! Я гнал по улицам Москвы оголтело, не помня себя, и красные, желтые, белые огни метались передо мной цветной судорогой, исчезая в застлавшей все метели. Метель, метель, постели мне постель. Постели нам вдвоем с этой ведьмой постель, если сможешь.
МАРИЯ
Я вошла в лифт, нажала кнопку этажа и заскользила вверх. Все пахло новизной. Новизна перла из всех дыр и щелей. Новизна источала особый, узнаваемый аромат — свежести, краски, незатрепанной роскоши. Новый концертный зал Москвы, новая архитектура, новый, сногсшибательный дизайн, все по последнему слову. Когда-нибудь последнее слово станет седой, незапамятной древностью. Ничто не вечно под Луной. Ни дворец. Ни камень. Ни любое жилье. Тем более — человеческое тело. Я ехала в лифте и думала: вот сейчас я молода, и буду молода еще — сколько лет? Десять? Двадцать? Тридцать? А может, уже через пять лет у меня появятся седые волосы и первые морщины, и никакими тональными кремами, никакими ухищрениями этой капустницы Нади не убить, не замаскировать их? Плевать! Я станцую и свой поздний возраст! Я все умею танцевать! И юные утренние танцы, и мрачные похоронные! Мне — сейчас — все подвластно!
Что расхвасталась, испанская курица? Заткнись. Лифт слишком медленно ползет вверх. Здесь, в таком навороченном здании, надо бы суперскоростной. Я тайком обсматривала себя в зеркале с головы до ног. Ничего! Сойдет! Выше нос, Марита! Хоть ты и не выспалась после самолета, хоть ты едва не погибла под обломками небоскреба в Буэнос-Айресе — ты хороша и весела! Соберись. Еще раз мысленно представь себе весь порядок танцев в шоу. Иван, копуша, застрял внизу, наткнулся, конечно, на кучку потерявших башку фэнов, они из него автографы вытягивают, патокой похвал заливают по уши, признаниями в любви… целоваться лезут, платочек из кармана — на память — выдергивают…
Лифт дрогнул, замер, зеркальная дверь бесшумно отъехала вбок. В лифт вошел человек.
Маленький, невзрачный, как гриб сморчок, серый человечек. И стрельнул в меня глазами. И прижался спиной, облаченной в куцый пиджачишко, к зеркальной двери лифта. И нажал кнопку, и лифт снова поехал.
У человечка был слишком, устрашающе высокий, в морщинах и шишках, лоб. Чудовищно огромный лоб. Как у красного вождя прошлого века, у Ленина. И под жутким выпуклым, как тыква, лбом горели, выпученные, как у рака, выкаченные из орбит, подслеповатые, будто бы затянутые плевой, больными бельмами, странные, с желтыми, как яичный желток, белками, в сети красных прожилок, ужасные глаза. И мне стало сначала смешно. Потом — не по себе.
Потом, спустя полминуты, мне стало страшно.
Все то время, пока мы ехали в лифте, плюгавый человечек с вытаращенными желтыми подслеповатыми глазами, в пиджаке, словно с чужого плеча, в кургузых клетчатых грязных брючках, не отрываясь смотрел на меня. Впился в меня взглядом. Так рак впивается в руку — клешней. Я не выдержала. Я разжала рот и крикнула:
— Что вы на меня так смотрите?!
Он не шевельнулся. Все так же пялился на меня.
Лифт остановился. Дверь бесшумно открылась. Человечек выпал спиной из кабины. Когда дверь закрылась и лифт снова пополз вверх, я, глядя на себя, дико побледневшую, в зеркало, широко, как крестятся в церкви русские бабы, перекрестилась.
ИВАН
Я влезал в концертное трико, как змей влезает в старую шкуру. Мария стояла и нагло, дерзко смотрела на меня.
— Что пялишься?! Давно не виделись?!
Она ухмыльнулась, вздернула лицо.
— Красивый ты!
И повернулась спиной. И все.
И больше — ни слова до третьего звонка.
Я накладывал грим перед зеркалом, таращась в зеркало единственным глазом, и меня затрясло. Я готов был обернуться, подскочить к ней — и мгновенно, судорожно задушить ее. Какие приступы ненависти, так же нельзя, Иван, это же сумасшествие, честное слово! Я не справлялся с бешенством. Сейчас. Вот сейчас. Я вел себя позорно. Я никогда еще не забывался так. Я швырнул на гримерный столик коробку с тенями, пуховку, отбросил, уронил, как роняет истеричка, на пол баночки с тональным кремом, увидел в зеркале, как, будто в столбняке, перекосило мой рот, — и тут дверь гримуборной хлопнула, отворилась, и в гримерку влетела эта козявка. Эта капустная деревенская гусеница, дьявол бы ее побрал! Эта… как ее… Надя! Мариина визажистка!
И сразу, с порога, не раздеваясь, в серой беличьей заснеженной шубке, в серой норковой шапочке с блестками снежинок, сбросив только пушистые детские варежки с рук, кинулась ко мне.
— Иван Кимович, что с вами?! — Подбежала. Затрясла меня за руки. — На вас лица нет! Выпейте воды, выпейте… вот!..
И совала мне в рот не стакан — весь графин с водой, стоявший прямо тут же, на гримерном столике.
— Надя, погоди… — Я рвал графин у нее из рук. — Надя, ну что ты, со мной все в порядке, возьми себя в руки! Здесь же люди!.. Здравствуй… Давно не виделись, однако… Вон, — я кивнул ненавидяще назад, за плечо, — Мара здесь…
Она беспомощно, как загнанная выстрелами на ствол сосны белочка, оглянулась. Хотела поставить графин на стол, а он выскользнул у нее из рук и грохнулся об пол. Разбился. Вода выбрызнулась на ее зимние сапожки, на мои танцевальные матерчатые туфли.
— Ох, извините…
— Пустяки! Да разденься ты наконец! — Я силком стащил с нее шапку, шубу, шарф, бросил ее тряпки на стул. — Как хорошо, что ты пришла, Наденька, радость моя! Ты-то нас с Марой и загримируешь как следует. А?.. Ну, отдышись… Ты что, бежала, что ли?.. Я сейчас закажу, и тебе принесут из буфета сока…
Я подошел к двери. Высунул голову в коридор.
— Эй! Народ! Есть кто! Ага, парень, отлично, стой, слушай, сбегай в буфет, купи пару коробок апельсинового сока?.. для девушки… сдачи не надо…
Я сунул мальчишке-осветителю деньги в руку. Он осклабился, убежал, крикнув: «Щас принесу!» Я обернулся. Мария стояла уже лицом к нам. К Наде. Измеряла дрожащую Надю ледяным взглядом от маковки до пяток.
— Вот как, — столь же ледяным голосом сказала она, — ты когда-то мне, Ваня, апельсиновый сок в буфетах покупал, а теперь — для девушки?.. Ну да, все верно… Для девушки…
— Мара. — Меня опять охватило бешенство. — Ну не цепляйся к словам, прошу тебя. Ну ведь и ты попьешь, неужели непонятно?
— Непонятно, — так же ледяно процедила она. — Хотя на самом деле все очень понятно. Понятнее не бывает.
НАДЯ
Я глядела ей прямо в глаза. Я старалась не опустить глаза вниз.
Я никогда не думала, что у живой женщины могут быть такие страшные глаза. Как у мертвой.
— Что вам понятно, Мария Альваровна? — преодолевая глупый страх, сказала я тонким голосом. — Ничего вам не понятно. Вы… лучше не оскорбляйте никого никогда! Люди, между прочим, долго помнят обиду… И унижение… Если вы кому-нибудь когда-нибудь дали пощечину — вам эта пощечина вернется! Точно вам говорю! Вернется, если вы…
— Что — если я?
— Если вы не будете молиться Богу…
Она расхохоталась. Эта чертова бестия расхохоталась во все горло.
— Молиться?! А кто тебе дал право судить, молюсь я Богу или не молюсь?! Это мое личное дело! И не тебе, дуре, в него вмешиваться! И вообще проваливай!
Иван подскочил ко мне. Закрыл меня грудью, будто бы эта сволочь готовилась меня расстрелять из револьвера.
— Не тронь девчонку, Мара! Тебе шлея под хвост попала! — Он обернулся ко мне. Губы его прыгали. — Она очень много пережила в последние дни, Наденька, прости ее… Мы там, в Буэнос-Айресе, такого навидались… такого… Да ты, небось, тут же по телевизору все видела, что там стряслось…
— Да… Видела… — Я схватила его руку. И меня дернуло током от его влажной, трясущейся руки. — Я сейчас уйду, не бойтесь…
— Не уйдешь! Ты будешь нас гримировать! — Его крик сотряс стены и зеркала гримерки. — Меня и ее!
Мария стояла, выпрямившись, ее голая, в вырезе платья, спина отражалась в зеркале. Она надела сегодня для выступления кроваво-красное платье. Как обычно, чуть выше колен, с массой красных оборок и рюшей и дрожащих воланов по ободу узкой, обтягивающей фигуру юбки. Отчего-то я подумала о том, что, если я наклонюсь сейчас к полу, схвачу осколок графина и вонжу ей, в ее ненавистную глотку, этот осколок, кровь не будет так сильно заметна на этом слепяще-красном, пламенном, как огонь, платье.
МАРИЯ
— Ну хорошо, — сказала я сквозь зубы, сдерживая ярость. — Хорошо, Ванька, будь по-твоему. Пусть она меня гримирует.
Я села в кресло, к зеркалу. Из зеркала на меня смотрело чье-то чужое лицо. Человек может за всю жизнь носить сто лиц, сто личин и сто масок. И лишь однажды в жизни у него бывает его настоящее лицо. В любви.
Эта замухрышка, эта мокрица подбрела ко мне на своих кривых, ухватом, ножках. Рахит, должно быть, в детстве перенесла. Витаминов маманя мало ребенку скармливала. И то, какие на Севере витамины. Утром треска, в обед трещочка, вечером трещища. Треска и тресковая печень, и сельмаговский чай, похожий на опилки, и сельмаговское печенье, похожее на мыло, а зимой — свежий снег вместо мороженого. Архангельская деревня, ты еще смеешь указывать мне, пиренейской отчаянной девчонке?! Я ж покажу тебе. Я… тебе…
Ее тонкие, крохотные умелые пальцы ловко и профессионально делали свое дело. Мое искаженное гневом, начинавшимся скандалом лицо стало очищаться, успокаиваться, расцветать, приобретать рельефность черт, глубину взгляда, заиграло красками. Обозначилась улыбка. Алая помада подчеркнула линию губ. Нежные румяна высветили смуглые скулы. Я глядела в зеркало, как козявка все это делает, и понимала: в каждом деле нужен гений. Эта малявка — гениальная визажистка. Только она, судя по всему, об этом не знает. Наложить единственно верный грим — все равно, что написать гениальный портрет. Я следила взглядом за беготней и полетом ее рук, за снованием над коробками с гримом ловких пальчиков, а потом я поглядела в зеркале на ее глаза. И она, подняв голову, поймала в зеркале мой взгляд.
И наши глаза в зеркале скрестились.
И наши глаза сказали друг другу:
«Ненавижу тебя».
«Ненавижу тебя».
И я почувствовала, как кожа на моей обнаженной спине дрогнула, собралась в судорогу брезгливой складки.
И дверь снова стукнула. Ее открыли наотмашь. И вошел жирняй Станкевич, озирая пространство свинячьими глазками, и воззрился на меня возмущенно:
— Как?! Ты еще не готова, Мара?! Второй звонок сейчас помреж будет давать!
СТАНКЕВИЧ
Я так и обомлел: ее все еще гримировала эта ее букашка, Надежда. Господи, как они копошатся! Идиотки, ну разве нельзя было пораньше начать!
В голове моей бились слова Беера: я приказываю тебе… Я приказываю тебе…
«Нет, я не смогу ее убить, — подумал я трусливо, — она же мне ничего плохого не сделала!.. Кроме того, что я сам — ее — Бееру — когда-то — для жуткого дикого дела — продал…»
— Мара, — выдавил я из себя, как пасту из тюбика, — хватит! Останови визажистку! Надя, спасибо, вы свободны!.. Иван, а ты загримирован?.. Нет?.. Да?.. Ну и хрен с тобой, и так сойдет… Ребята, вы же убиваете меня без ножа! Так же нельзя! Я понимаю, вы влипли в Аргентине в эту историю со взрывом, вы устали после перелета, и все такое, я врубаюсь в ваше состояние, но и вы врубитесь в мое! Билеты на ваше шоу, господа, идут уже от трехсот до тысячи долларов! И я арендую этот чертов стадион! И я не хочу, чтобы потом какой-нибудь дурак написал обо мне статью где-нибудь в желтой газетенке: мол, продюсер Станкевич не мог как следует, без проволочек и задержек, организовать концерт своих суперзвезд… Антиреклама мне не нужна, господа! Ни в коем случае! Я дорожу своим реноме! Все! Баста! Вперед!
Я посмотрел на ее голую спину. На ее голые плечи. Мои подбородки дрогнули. Красива. Если б я захотел когда-нибудь — я бы тоже, как Беер, поимел ее. Нет, ты бы не смог, Родион. Ты же жирняй. Она бы плюнула тебе в толстую харю и уложила тебя одной левой. Она же училась в Школе. А ты только копошился в шуршащих баксах. И хоть в этом, дурак, преуспел.
Она обернулась через плечо. Ее подкрашенный Надеждой черный глаз вонзился в меня. Ресницы затрепетали.
— Второй звонок, Родион!
— Нет! Нет, уже третий!
«Я не смогу убить ее. Если только на меня наведут пистолет. Беер дал мне с собой яду. Он у меня в кармане. Я смогу поговорить с ней только после шоу. Господи, за что мне все это! А может, самому выпить этот порошок?! Задохнуться, посинеть — и баста… Не-ет, Родька, ты же хочешь жить! Ты же так любишь жить! Жрать, пить, считать свои зеленые лягушачьи доллары! Летать в разные страны, пялиться на то, как живут люди! Ты же никогда…»
— Мара! — Иван шагнул к ней, и я отшатнулся — я никогда не видел в глазах у Ивана Метелицы такой тьмы. — Идем!
И он положил ей руку на голую спину, и она вздрогнула, как если бы он поставил ей на спину клеймо раскаленным железом.
МАРИЯ
— Идем!
Иван положил руку мне на спину. И я захотела сбросить с себя его руку.
И он — рукой — через мою напрягшуюся спину — это почувствовал.
А ведь нам надо было сейчас танцевать вместе.
Танцевать огромное, трехчасовое шоу, без перерыва, без антрактов, которое называлось ни больше ни меньше — так просто — «ФЛАМЕНКО».
Все народные танцы фламенко мы собрали в этом колоритном, пожалуй, самом красивом нашем шоу. Все — мои любимые, родные, что я танцевала с детства, что я знала досконально — до движенья, до па, до поворота, до изгиба. Малагенья. Гранадина. Севильяна. Хота. Павана. Сегидилья. Фолия. Венок танцев. Венок алых роз — на моей черноволосой голове.
Я снова уложила волосы в плотный иссиня-черный пучок, как обычно, когда танцевала фламенко. Станкевич выписал мне из Барселоны знаменитого гитариста Антонио Кабесона, из Мюнхена — классный кордебалет из Имперского балета Плисецкой, и, в качестве особого подарка, из Севильи — потрясающую исполнительницу фламенко и канте хондо Исидору Родригес. Родригес пела так, что хватала душу цепкими пальцами, как хищная птица — когтями, и выворачивала наизнанку, как чулок. И вывернутая наружу душа стонала, дрожала и трепетала на ледяном ветру времени. Вот какое это было пенье. Низкий, хриплый голос, будто пропитый, прокуренный. Полушепот, бормотанье, сдавленные рыданья, а потом как взовьется — до неба. Эта Исидора, уже пожилая тетка, вся в морщинах, темно-коричневая, как кора дуба, уже, вместе с гитаристом Кабесоном, ждала меня на сцене. А мы все еще топтались тут. Тут, в артистической.
И кому было какое дело до того, что на бис мы с Иваном приготовили болеро из шоу «Латинос», и что будем исполнять его здесь, в Лужниках, под живой оркестр, под оркестр Гостелерадио, и солировать будет снова, как и в Буэнос-Айресе, этот сногсшибательный старикан, ощипанный куренок, лысый разночинец Матвей Свиблов, которого оркестранты кликали просто «Петрович»: «Петрович, дай закурить!.. Петрович, у тебя в кармане канифоль случайно не завалялась?.. Петрович, айда в буфет, у тебя пауза сто двадцать тактов, по рюмашечке тяпнем!..»
Маленький барабанчик… Мое часто стучащее сердце…
Тот, в лифте, был похож на Свиблова.
Или это был он сам?
Какая разница.
Маленький барабанчик, помолчи, не стучи.
И Станкевич глядел на меня так, будто прогонял на эшафот.
И Иван глядел на меня так, будто приговаривал меня к казни.
И эта замухрышка, эта гусеница Надя глядела на меня так, будто готова была задушить меня полотенцем.
И я вздрогнула под рукой Ивана, и пошла вперед, к выходу, и сказала, не оглядываясь:
— Жаль, Родион, что в концертах не предусмотрен четвертый звонок. Если парень принесет из буфета апельсиновый сок — весь не пей, оставь для меня стаканчик, ладно?
БЕЕР
И я видел, как они с Иваном, крепко взявшись за руки, вышли наконец на сцену под шквал аплодисментов.
Долгонько же они копались. Публика уже начала нервничать.
Публика стала перешептываться; обмахиваться газетами и программками; переговариваться вполголоса: «Что уж это такое, заболели артисты, что ли, вон гитарист сидит на сцене, кордебалет мнется у задника, какая-то старая баба, вся в морщинах, скучает на стуле у рампы, — а этих, танцовщиков, все нет как нет!..» Явились, не запылились. Как она бледна. И он — бледен.
Родион вряд ли сможет срежиссировать действо, заказанное мною.
Я должен все сделать сам.
Но я не могу отказать себе в удовольствии посмотреть, как она танцует. Моя шпионка. Моя шлюха. Моя покупка. Моя подстилка. Моя рабыня. Моя свободная, не пойманная мной душа, ласточка, летящая надо мной высоко в чистом синем небе.
Ну что ж, Арк, расслабься, откинься в кресле. Созерцай красивый танец. Тебе же не каждый день доводится поглядеть на танцы фламенко, правда?
Низкий голос внезапно заполнил зал. Голос взлетал и метался. Голос просил и молился. Голос шептал любовные слова и таял в любовном бреду. Голос рыдал о потерянном безвозвратно.
Это разинула рот та, коричневая старуха, сидевшая прямо, как классная дама, на стуле у самой рампы, у обрыва в оркестровую яму. И гитара страстным рокотом ответила ей.
В полной тишине, в темном, погасившем люстры зале звучал низкий, хриплый женский голос, поющий и плачущий о великой страсти, о преданной, вечной любви.
И я на миг закрыл глаза. И, ужаснувшись, спросил себя: Беер, что же я делаю? Разве же можно так поступать, как ты поступил с этой женщиной, Беер? Эта женщина — драгоценность земли. А ты зажал ее в кулаке, как колибри, и пытаешься ощипать, оборвать с нее перья. И ты думаешь, она, ощипанная, дрожащая, будет всецело принадлежать тебе?
Почему человек, имеющий деньги и власть, не может примириться с тем, что другой — свободен? Мария свободна, Беер. Свободна до конца, до последней крохи воздуха в легких. Она выдохнет свободу вместе с жизнью. Тебе нужна ее жизнь?!
Я вытащил из кармана зеркальце. Что ты носишь, Беер, в кармане пиджака зеркальце, как баба? А интересно поглядеть на себя перед серьезным делом. Бледен, не бледен? Глазки бегают, не бегают?.. В мерцающем потустороннем стеклянном кружке отразилось холодное, надменное лицо, ежик сивых волос, жесткие светлые глаза, и родинка, похожая на кошачью царапину, в углу рта. И я понравился сам себе. Я сказал сам себе: ты, Беер, молоток. Тебе все нипочем. Ты в отличной форме. Смерть, однако, воспитывает. Тот, кто занимается всю жизнь смертью, ведет себя достойно, видимо, это аксиома. Я захлопнул зеркальце, сунул его в карман и стал с наслаждением слушать, как поет эта коричневая старуха, кажется, выдернутая Станкевичем откуда-то из Севильи.
Канте хондо, грудное, глубокое, страстное пение. Старая женщина поет. Она похожа на старую гадалку. Она похожа на старую гадалку из Пиренеев, из Андалузских гор, с побережья Бискайи. Она пеньем своим гадает мне гибель. Но я не верю ей. Я останусь цел и невредим. Кончится шоу, и я, когда будут кричать: «Бис!» и «Браво!», пойду в артистическую и сам сделаю все. Все, что надо. И мне никто не сможет помешать.
МАРИЯ
Вот я танцую. Всю жизнь танцую. Всю жизнь выхожу на аплодисменты к рампе.
Если тебе дан огонь, танцор, дуэнде, — все остальное у тебя — взято.
Ребенок! Мальчик мой! Как же я люблю тебя, нерожденного!
А Иван? Будет ли он любить моего ребенка, если я рожу его от другого человека?
От его отца?
Бог, скажи мне, для чего ты создал женщину? Бог, что такое кровосмешение и святотатство? Отец меня учил: любовь — священна. Отец, это тебе мать когда-то страстно шептала в постели: Альваро, Альваро, querido, my alma, — и она зачала, и родила, и появилась я. Я помню: когда зачинаешь — тошнит. Почему от отвращения, от горя, от боли — тоже тошнит? Почему одно и то же деяние на земле, одно и то же сплетение двух тел, мужского и женского, видится людям то насилием и преступлением, то нежнейшей, сходной с молитвой любовью?
Может быть, мальчик мой, мне тебя — выдумать? Зачать и родить — в моем танце? Внутри танца, как внутри сложенных ладоней рождается тепло? А потом ладони разжимаются, и их охватывает холод, ветер, зима. Я бы сшила тебе такую теплую зимнюю шапочку, мальчик мой… я бы катала тебя в колясочке… я бы так любила тебя… А знаешь, мне все равно, от кого ты родишься, пускай даже — от прохожего на улице… от самого заштатного музыкантишки в оркестре… от солдата-призывника… от того лысого, что ехал со мной в лифте… От любого, любого мужчины на свете… Знаешь, Бог, я так устала любить! Устала ждать! Устала танцевать! Я всего лишь женщина, а это значит — мать, и, милый мой Бог, querido, не сердись, — я бы, знаешь, с радостью — от Тебя родила… Непорочное зачатие чудо, да! Но ведь и обычное зачатие — тоже чудо… Ты же лучше всех знаешь об этом…
Зачем ты так грубо дергаешь меня за руку?! Зачем поднимаешь, потом бросаешь вниз?! Ах, это всего лишь поддержка?! Танец — это не цирк! Не смей со мной так!
Я стою на краю сцены, как на краю жизни, в юбке с красными оборками, будто в пламени костра. И Иван поднимает надо мной скрещенные руки, будто протягивает распятие. Поздно, Ванька! Слишком поздно! И кастаньеты свои я уже зашвырнула в зал — кто поймал, у того сувенир. Все мы, преступники, горим в огне! Не отмолить!
КИМ
Ему нужна ее жизнь. А мне? Мне нужна ее жизнь?
Однажды мы оба уже удрали от него. Я наврал ему или нет, когда сказал: я исполню твой приказ, хозяин?
Моя пушка со мной. Может быть, сделать все просто?
Так, как делали это все они?
Да, все они. Тристан и Изольда. Ромео и Джульетта. Антоний и Клеопатра. Хосе и Кармен. Все, все они, любившие друг друга больше жизни — и больше смерти тоже. И превыше смерти. Ибо в смерти своей они обрели настоящую жизнь.
Кто узнает о нас? Сплетница Москва? Желтые газетенки?! Тупые любопытствующие рожи, пялящиеся в телеэкран?!
Люди, люди, люди… Люди никогда и ничего не узнают о нас…
И о том, что тайно делала Мария… И о том, кто такой был я…
Все тайное когда-нибудь становится явным, Ким. Ты знаешь это.
Я слишком люблю ее. Я не позволю больше никому измываться над ней.
Я не позволю больше никому приказывать ей. Ставить ей на нежную кожу невидимые и болезненные позорные клейма. Распинать ее на роскошных паркетах и на грязном заплеванном полу, на свежезастланных отельных кроватях и на вагонных качающихся полках. Никто больше — слышите, никто! — не посмеет осквернить ее. Мою светлую любовь. Мою Марию.
Ибо, Мария, ты носишь имя матери Бога. А это кое-что значит.
Я смотрел, не мигая, на сцену. Яркий круг света посреди темного зала. И она, любовь моя, выходит в середину яркого круга, и поднимает руки над головой, и поднимает вверх чистое, румяно-смуглое, нежное лицо, и глаза ее закрыты — она слушает музыку. Она двигается в круге света нежно, еле заметно, перебирает стройными ногами под пышными оборками алой, как пион, юбки. А хриплый женский голос поет, все поет о навсегда ушедшем, о канувшем счастье.
И мой сын, тоже сцепив воздетые руки над головой, весь в черном, как коршун, не шевелясь, стоя прямо и строго, глядит, глядит на нее своим единственным глазом.
Я решил, моя Мария. Я решился. Прости меня. Это лучший выход для нас обоих.
Я слышу — ты танцем своим одобряешь меня. Ты и с закрытыми глазами видишь меня со сцены. Ты молча говоришь, шепчешь мне: «Да, Ким, родной, ты все верно придумал».
Пистолет со мной. Вот он, в кармане. Я приду к тебе за кулисы, когда ты закончишь свой танец. Я скажу Ивану: отвернись. Выйди. Тебе не надо смотреть на это. И он выйдет, оставит нас одних, он поймет. Он не будет мешать. Время ревности прошло. Время последнего танца настало.
Это будет наша последняя фолия, девочка моя.
И я близко подойду к тебе, родная моя. И я обниму тебя так, как не обнимал тебя никогда в жизни. Войду в тебя телом, дыханьем, душой и глазами. И ты, обнимая, целуя меня, не увидишь, как я поднесу пистолет к виску твоему. Выстрел — в тебя. Выстрел — в себя. Так все просто.
А если ты не захочешь, чтобы я выстрелил, если ты вдруг испугаешься пули, я дам тебе яду. И сам яд выпью. Я же профи-убийца. Беер и ядами снабжал меня тоже. У меня от прежних заказов яды остались. Те, что действуют мгновенно. Ты ничего не почувствуешь. Просто задохнешься, как от моего поцелуя.
А для себя, так и быть, я все же припасу пулю. Я же привык стрелять. Я стрелок. Я должен умереть от своей руки и от пули своей — так же, как от нее погибали другие.
Голос, низкий и хриплый голос, канте хондо, зачем ты поешь фолию, зачем сжимаешь хватку на глотке? Я дышать не могу. Горячая влага течет у меня, убийцы и мужика, по щекам. Я задыхаюсь от любви, слышишь, ты, сумасшедший голос, от близкой пасти небытия, от радости и счастья, что такую любовь довелось испытать мне на выжженной, зимней земле.
ИВАН
Мой единственный глаз застилало яростью, гневом, слезами.
Я танцевал с ней малагенью. Порывистую, как ветер, хоту. Я склонялся и замирал над нею, когда она, оттанцевав лукавую, кокетливую сегидилью, оборачивалась ко мне через плечо и обжигала меня черным огнем широко расставленных глаз, подавая мне руку в начинавшейся без перерыва фолии. И я потерял танцам счет. Я жил внутри фламенко. Я крепко сжимал яростные губы. Я был мачо, а она была моя маха, ненавистная, любимая, изменившая мне.
И я впервые, страшно, подумал: а что, если сегодня, сейчас, я убью ее?
Нож? Нет. Платок? Нет. Отрава?!
О чем ты думаешь, одноглазый Иван! Тебе в лечебницу пора, в Кащенко, на Канатчикову дачу!
Отрава. Таблетки. Те таблетки, что принесла мне там, в самолете, в котором мы летели из Аргентины в Москву, любезная хорошенькая стюардесса.
Они у меня в кармане пиджака.
Она смотрела на меня широко открытыми глазами. В глазах кипела черная яростная смола. Низкий голос Исидоры Родригес плыл, стонал и взвивался под сводами зала.
О чем ты думаешь, Ванька! О чем!
Может, тебе самому заглотать эти таблетки?! Все?! И уснуть мертвецким сном, мертвецким воистину, вместо того чтобы ворошить в башке своей подобные мысли?! Танцуй лучше! Танцуй! Ни о чем не думай!
И обрушился девятый вал аплодисментов.
Шум, огромный шум, как всегда бывало на их шоу, вставал стеной.
Мария, взяв Ивана за руку, кланялась, кланялась низко, в пол, по-русски, а цветы летели, летели на сцену. Они оба пятились за кулисы. Севильянка Исидора, подняв руки над головой, хлопала им, и Мария подошла к певице, расцеловала ее в обе щеки, и зал снова взорвался аплодисментами. «Виторес!.. Виторес!.. Би-и-ис!..»
— Мы должны с тобой прямо сейчас станцевать болеро, — сказала Мария, обернувшись к Ивану. — Прямо сейчас. Потому что потом будут еще бисы. И нам придется танцевать все что ни попадя. Давай сейчас скажем дирижеру и выйдем в болеро. Пусть Матвей Петрович готовится.
— Да, пусть Петрович готовится, — кивнул Иван. Его здоровый глаз просверливал Марию. Стеклянный — смотрел тупо, мертво. — Пусть вынет из-за ушей палочки. Я сам дирижеру скажу: давай сперва болеро, а там посмотрим.
Они снова перекинулись взглядами. Они всегда быстро понимали друг друга.
И Марии не понравились глаза Ивана.
Они вместе, вдвоем, вбежали за кулисы, в артистическую. Визажистка Надя стояла, скрючившись, ссутулившись, как птица, над столиком Марии, у гримерных зеркал, наклонившись над коробочками с гримом, над коробкой апельсинового сока. Видно, тот мальчонка-осветитель, которому Иван заказывал сок в буфете, его вежливо купил и трогательно принес. Не забыл.
И в руках у Нади были маленькие косметические ножницы. И она открывала, взрезала ножницами сок, и воровато, напуганно оглянулась на вбежавших в артистическую Марию и Ивана, и рука ее дрогнула, и сок из коробки выплеснулся, вылился на полировку стола. Надя в смущении отерла сок рукавом и вся вспыхнула.
— Ой, Иван Кимович… простите… я нечаянно…
Он внимательно смотрел на нее. Краска не сходила с ее маленького, как осколок, лица.
Станкевича в артистической не было. Помощник режиссера возник в дверях. Крикнул:
— Ребята! Дирижер уже на болеро настроился! Публика ждет бисов! Скорее на сцену!
Мария, шагнув к столу, грубо выхватила коробку с соком из рук у Нади и плеснула себе сока в пустой стакан. И сок перелился через край стакана.
Она хлебнула из стакана. Иван мертво глядел, как она выпивает стакан — до дна.
— Режете без ножа, ребята!
Она рванулась. Побежала вон. Иван — за ней. Когда они пробегали мимо кулис, свешивающихся из-под высоченного потолка, Марии показалось, что за кулисами мелькнула сначала одна тень, перебежав им дорогу, как перебегает черный кот, затем — другая. Или у нее двоилось в глазах?
А на улице, за стенами концертного зала в Лужниках, где они оба танцевали пламенное болеро, мела метель, в который раз от сотворения мира, ярился и вихрился слепяще-алмазный снег, метель взвизгивала и хрипела, как будто пела канте хондо, щедро сыпала снег на крыши, на плечи и в лица людей, и сильный холодный ветер бил наотмашь в грудь и в спину, как бьют в бубен, и над Москвой, над всей огромной зимней Москвой мела, шла метель, шла, как война, как вечная Зимняя Война — страшная, неотвратимая, необъявленная, без видимых причин. И не было ни одного старого генерала, чтобы ее, одним мановеньем властной руки, остановить.
И они снова выбежали на сцену.
И тихо, будто из-под земли просочился родник, зазвучала первая, еще робкая, нежная, бесконечная мелодия болеро. Они стояли друг против друга — мужчина в черном и женщина в красном. И маленький барабанчик уже стучал, стучал тихо и ритмично: там, та-та-та-там, та-та-та-там. И мужчина обнял женщину за талию, и она, еще доверчиво, положила ему смуглую руку на плечо.
БЕЕР
Я уже не мог смотреть, как они оба пляшут болеро. Я тихо поднялся из кресла. На меня зашикали соседи: какое нахальство, ну садитесь же, дайте посмотреть!.. Вечно захотят или покурить, или покашлять, или в туалет эти мужики — в самое неподходящее время!.. «Ну, выходите, только быстро!..»
Я пробрался сквозь забитые публикой ряды под тихое чертыханье, под возмущенные вздохи и ахи. Маленький барабанчик стучал, стучал все громче, все настойчивей, все бесповоротней. Отличный аккомпанемент для моей мизансцены. Лучше не придумать.
В кармане — пушка. В другом кармане — яд. Религия — яд, береги ребят. Верую ли я в Бога? Скорей всего, нет. Это мое счастье или мое горе? Когда я уверую — я перестану заниматься тем, чем я занимаюсь. И, может, первым пущу себе пулю в лоб. Я — самоубийца? Ха-ха! Еще чего выдумали! Я никогда этого не сделаю с собой. Я слишком люблю жизнь. И все ее сладости. И все ее соблазны. И всю ее роскошь. И все ее правду — в сердцевине ее великой лжи.
Я вырвался из зала, из скопища людей, глядевших, затаив дыханье, на шоу Марии и Иоанна, в фойе. Нашел служебный вход. Осторожно пробрался мимо мирно дремлющей старушки-вахтерши. Почему на такие концерты на вахту не сажают охранника, здорового битюга с тремя здоровенными пушками — за поясом, за пазухой и на заднице? Жаль, я не Станкевич. Если бы я был Мариин продюсер, я бы все устраивал по-другому.
Поздно. Теперь уже поздно все.
Слишком поздно.
И, едва я подумал так, — музыка оборвалась, и издалека донесся глухой шум. Это срывался вниз водопад аплодисментов.
Когда я подходил к артистической, внезапно погас свет. Он погас здесь — или на сцене тоже? Станкевич, портач, рок преследует тебя!
Они за кулисами. А может, и в артистической. Свет, ты погас не вовремя. Беер, у тебя же есть карманный фонарик. Ты хорошо экипирован, как всегда. Ты старый прожженный волк, волк-убийца. Ты все сделаешь как надо.
Я подошел к двери артистической. Я толкнул дверь, и передо мной зевнула пасть темноты.
НАДЯ
Темнота застигла меня врасплох. Я хотела убежать — но, накрытая тьмой, как певчая птичка в клетке — черным платком, стояла, прижав ладошки к пылающим щекам, возле входа в гримерку.
Чьи-то шаги раздались возле. Во мраке я не различили, кто это. Женские шаги?.. Мужские?..
Кто-то вошел в артистическую. Кто-то плотно закрыл за собой дверь.
А я? Зачем я тут стою? Что я тут делаю? Верно ли я сделала все? Может быть, не надо было этого ничего, Господи?!
Бежать. Мне надо бежать отсюда. Как можно быстрее.
Я рванулась бежать — и в темноте наткнулась на край ящика из-под реквизита. И споткнулась. И упала. И застонала от боли.
Вот тебя Бог и наказал за то, что ты сделала, Надька!
Я зажмурилась. Слезы выступили на глазах. Стекали из-под прижмуренных век.
И еще чьи-то — крадущиеся, тихие, как у кошки, что ступает мягкими лапками, подстерегая мышь, осторожные шаги раздались во тьме, прошуршали мимо меня, плачущей, лежащей на холодном полу, и растаяли за открывшейся и снова закрывшейся дверью гримерки.
ГЕНЕРАЛ ФОН БЕЕР
Ее выступление с этим ее кривым на один глаз партнером транслировали по мировому телевидению, по спутниковому каналу. Весь мир пялился на них. Каким образом им удалось заиметь такую шумную, такую громкую славу? Благодаря хорошей работе их продюсера? Или еще и потому, что они оба действительно были очень талантливы? Да, они показывали совсем новый танец. Вернее, танец был старый — сегидилья, малагенья, хота, фолия, — а его исполнение было абсолютно новым. Я не был специалистом. Я не мог бы с точностью сказать, что в их танце было нового. Быть может, новая страсть? Раскрепощение, перешедшее известные пределы? Или соединение классической отточенности и безумных, почти цирковых па нового мирового балета, новой смелой пластики? Скорей всего, и то, и другое, и третье. И все же что-то еще было в их танце. Обреченность? Надежда? Весь на глазах рушащийся мир хотел новой надежды. Весь мир не отрывался от телевизоров. Это кое-кто значило. Значит, народ, накормленный технократией, компьютерами и терминаторами всех мастей, изголодался по живой страсти. По красоте движений рук, по красивой тревожной музыке, по глазам, горящим от любви и ревности. Я глядел в цветно мелькающий плоский широкий экран своего «Панасоника» и вспоминал наш разговор. Она позвонила мне оттуда, из Москвы, и попросила меня об одолжении. Это была Виторес, и я не смог ей отказать. Хотя я взрастил ее; я выучил ее опасному, неженскому ремеслу; я по-своему привязался к ней, и мне было ее жаль. Я бы ни за что не исполнил этой ее сумасшедшей просьбы, если бы…
Если бы это была не Виторес. А кто-нибудь другой.
И я, глядя в экран, набрал известный мне московский номер.
И я, глядя в экран, глухо сказал в телефонную трубку: слушай приказ. Сделай так, как я скажу тебе.
И я, глядя в экран, услышал, как голос на другом конце света глухо ответил мне: хорошо, шеф. Я найду человека сейчас же. Не беспокойтесь, он сделает все, как надо. Как вы сказали.
И, помолчав секунду, человек, которому я отдал приказ, тихо спросил меня: а может, мой генерал, не надо этого делать? Она же великая артистка, может, не надо?
И я понял, что он тоже сидел у телевизора и пялился в цветно горящий экран, как и я.
СТАНКЕВИЧ
Погас свет.
Проклятье, погас свет!
И я явственно слышал чье-то дыхание здесь, в коридоре, в кромешной тьме.
Кто-то лежал на полу и, кажется, плакал.
И далекие рассерженные голоса раздавались там, прямо по коридору. Это бежали налаживать свет.
Черт, а я-то думал… Я-то думал: пока света нет, вот я все и сделаю… И я не буду виноват перед Аркашкой, я сделаю, что он мне приказал…
Свет не зажигался. Возмущенные голоса истаяли вдалеке. Кто-то рядом со мной, тут, близко, внизу, на полу, продолжал сдавленно плакать и всхлипывать. Может, это был призрак? Может, у меня уже начались глюки?!
— Эй!.. Кто тут!..
Молчание. Темнота.
Я стоял около двери в артистическую. Я слышал свое испуганное, панически-хриплое дыхание. Ты колоссально разжирел, Родион. Тебе нельзя больше жрать твои любимые бутерброды с икрой и торты с клубничным кремом. Пища — твой наркотик, лечись. Если так дело пойдет, ты будешь заказывать костюмы только у Юдашкина или у Славы Зайцева, покупать их в домах мод ты уже не сможешь, размера такого у Версаче или у Фенди просто не будет.
ИВАН
Она хотела убежать от меня, я видел это. Она хотела вырвать руку из моей руки.
И чем больше она хотела этого, я чувствовал, тем сильнее, крепче, цепче, до боли, чуть ли не до крови она вцеплялась в мою руку, кланяясь бешенствующей в зале публике низко, низко.
— Мария, — сказал я, не оборачиваясь к ней, продолжая улыбаться во весь рот, кланяться, глядя в зал, — Мария, боюсь, у нас с тобой сегодня будет много бисов! Ты в форме? Ты — сможешь?.. Если нет, скажи сразу. И оркестр сбацает что-нибудь инструментальное, например, де Фалью или Альбениса, и публика все поймет. Публика же не совсем дура. Так как?..
Она, тоже не оборачиваясь ко мне, продолжая кланяться, поднимать мою руку вверх, улыбаться, показывая все зубы, глядя неотрывно в неистовствующий зал, процедила:
— Я в форме. Я в отличной форме. Ты же сам видишь. Мы запросто сможем станцевать еще один бис. И еще один. И еще один.
— Снова болеро?..
Она крепче вцепилась в мою руку, кланяясь, и я чуть не взвыл от боли.
— Нет, Ванька. — Сколько ненависти прозвучало в ее голосе, процеженном сквозь зубы! — Мы будем с тобой сейчас танцевать сарабанду.
Я снова поднял ее руку, шагая вместе с ней, нога к ноге, под ярко пылающую рампу, к самому краю сцены.
— Сарабанду?.. Погребальный танец?.. А ты… не спятила часом?..
— Так же, как и ты, — ответила она, продолжая с ослепительной улыбкой смотреть в зал, посылая свободной рукой грохочущему залу воздушные поцелуи. — Ведь мы уже станцевали с тобой болеро, Ванька, это же танец смерти, мы станцевали войну и смерть, и она же нам с тобой уже не страшна, правда?
КИМ
Я шел туда, к ней за кулисы, и, сцепив зубы, думал про себя: я же профи-убийца, Мария, родная, я же профи-киллер, я же попадаю в цель с тридцати, с пятидесяти, со скольки хочешь шагов, я же набил себе и руку, и глаз, я не промахнусь, я, если понадобится, я… Я-я-я, что ты затвердил это, как попугай! Как тот, синий попугай, что сидит в золоченой клетки у этой… у знаменитой гадалки Москвы, у той, чьей рекламой забиты все супермаркеты и автобусы, все метро и все вокзалы, все бары и все казино… Я не синий попугай ара. Я простой киллер, бывший биатлонист, чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион, продавшийся дьяволу за хорошую копейку, и я не промахнусь. Я не промахнусь в любом случае.
Мария, я иду к тебе, чтобы забрать тебя — от них.
Я заберу тебя в любом случае. У нас с тобой есть выход.
Наш выход называется так: ВЫХОДА НЕТ.
Нет выхода — ведь это тоже выход. Но со знаком минус.
Многие не понимают этого. Я это понял.
Я заберу тебя, Мария, я унесу тебя к себе. В наше одиночество. Туда, на Славкину дачу. Живую — или мертвую. И там, рядом с тобой, мне будет легче. Мне будет легче сделать это с собой. Моя белокурая женушка не будет обо мне сильно плакать. Я был для нее в жизни источником хороших киллерских денег, не больше. А мужчиной и мужем я для нее был плохим. Девочки? Девочки поплачут немного, потом вырастут, и у них будет своя, взрослая женская жизнь. Я обеспечил им жизнь — безбедную молодость, по крайней мере, ибо я не Бог и не знаю, что там дальше будет с миром и с нашей страной.
Я вырву тебя. Я увезу тебя отсюда.
Я увезу тебя отсюда навсегда.
Выход есть всегда. Он всегда есть: вовне. В беспросветный мрак под ногами. В живую тьму, в бездну над головой.
ЛОЛА
Где-то далеко, за анфиладой комнат, горел яркий бешеный глаз телевизора. Телевизор у меня в каждой комнате, но я, будто от страха, будто от сглаза, включила его в той, самой дальней комнате своей необъятной квартиры. Там, в телевизоре, прыгала и плясала Мария. Моя подруга. Цыганка, такая же, как и я. Испанка — это значит цыганка. Это всегда цыганка, как ни крути и куда ни падай. Солнечная кровь, дерзкая улыбка, смуглые щеки, волосы черные, как южная ночь, смолой текут на плечи. «Ручку дай, погадаю!.. Денежку дай, какую не жалко…» Мы одной крови, я и она. Поэтому я ее всегда боялась. И никогда ей этого не говорила.
Далеко пылает цветной экран. Я не буду смотреть в него. Я и без него знаю, что будет.
Руки мои на темно-бордовой скатерти — слишком смуглые, будто вымазанные шоколадом. Будто бы я мулатка. Огненно-алый перстень горит на безымянном пальце — вместо обручального кольца. Я никогда не была замужем и не буду; гадалка не должна выходить замуж. Ее жизнь слишком страшна, чтобы быть семейной. Гадалка не принадлежит никому, кроме Бога.
Или — дьявола.
Я вижу… Боже, черт возьми, что я вижу…
Руки нервно тасуют карты. Руки лихорадочно раскладывают на столе, рубашками вверх, гадальные карты Тарокк, и сейчас я переверну их и узнаю, правда ли то, что я вижу, закрывая глаза. Мои глаза! Вы видели в жизни многое. Мой Третий Глаз, ты видишь в жизни все. И это так страшно. Но ведь я не смогу сама выколоть тебя, Третий Глаз. Ты дан мне отроду, и что я, смуглая толстеющая богатая баба, смогу сделать с тобой? И кто такая я стану — без тебя?
Я закрываю глаза. Я вижу Третьим Глазом — ее.
Ее, бездыханную, но с глазами, открытыми в черное, метельное небо.
Я вижу ее, мертвую, на руках у этого убийцы. У ее хахаля. У того, кого она все никак не могла забыть. У отца ее партнера. Вот связалась девка, как черт с ладаном! Зачем, зачем?.. Она сказала мне, забежав ко мне на чашечку гадального крепкого кофе: «Ты знаешь, Лолка, за такую любовь не платят деньги. Такую любовь не вымаливают у Бога. Такой любовью не клянутся и ей не радуются. Он такой любви бывают самые красивые на свете дети, а те, кто так любит, те — умирают». Я похохотала, пожала плечами: скажешь тоже, подруга!..
Я вижу ее, мертвую. И я ничего не могу поделать с моим Третьим Глазом. Он видит.
Она убита? Она убита.
Кем? Когда?!
Когда это произойдет? Сейчас? Сразу после шоу? Или назавтра? Или месяц спустя? Я не знаю. Господи, как горят щеки! Попугай, синий ара с красной головкой, ты совсем дурак, что ли, что молчишь, сказал бы хоть слово!.. Молчит. Он не видит. Или — тоже видит, вместе со мной?.. Глупая птица, ты зачем закрыла глаза?.. Переворачиваю карты. Господи, смерть! Смерть, с косой! Скелет в черном монашеском плаще! Ты танцуешь… что ты танцуешь?.. погребальный старинный танец, чакону, сарабанду, павану?!..
«Смер-р-рть!..» — во все горло каркнул синий попугай. Я взяла в горсть гадальные кости и, зажмурившись, кинула их на винно-красную скатерть. Боже великий, как же они разбросились, как разложились! Удар, и здесь — смертельный удар… А может, это я сама все накликала?.. Я сама — на нее, на Мару, порчу навела?!.. Нет, нет, Лола, ты не такая… Ты же не черная колдунья, ты же не сумасшедшая, дуэнде… А кто знает?!.. может, ты и есть как раз главная дуэнде, и ты сама, Лола, своей черной силы не знаешь… Мара танцует свой последний танец — это ты видишь ясно. Ей уже никуда от судьбы не уйти.
Но кто?! Кто?!
Закрой глаза. Сосредоточься. Ты же видишь. Ты же увидишь. Ты же должна увидеть. Ты же не можешь не увидеть. Ты…
Попугай в золоченой клетке вцепился когтями в прутья и гаркнул скрипуче, оглушительно: «Кар-р-рты! Карр-р-рты! Прр-р-авда! Пр-р-равда!»
Я, с закрытыми глазами, подняла, протянула смуглые руки над столом. Мои пальцы дрожали. Распухший, пересохший рот шевелился. Я бормотала вслух то, что видела, и я была сейчас самая настоящая дуэнде, неистовая пророчица, не боящаяся танцевать на углях, погружающаяся в ужас, тьму и ослепленье видений, зрящая будущее во всей красе, во всем уродстве и наготе своей. И я видела наготу смерти, и я видела победу любви. И я видела неизбежное, и волосы на моей голове, мои цыганские вороные курчавые косы, вставали дыбом. И карты жгли мне пальцы. И темно-кровавая скатерть пылала костром под гадальными костями.
МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ СВИБЛОВ
Нет… не получится… зачем меня подбили… Заткнись. Заткнись, старый дурень, тебе же сказали — ты получишь много денег. Столько, что тебе и не снилось. А как тогда быть с верой?.. С Богом?.. С совестью… Ах, ах, какие мы совестливые… Весь мир уже давно не совестливый, а ты — совесть, совесть… Идейный, братец ты мой, идейный… Старая военная косточка… Недаром ты в военном оркестре сто лет бухал в барабан да в тарелки… Во фрунт!.. ать-два, шагом арш!.. и не сметь, не сметь ослушаться приказа… Да тебе ж никто не приказал, дурень, тебя — купили…
Бр-р-р… страшно… Ой, куда это я вляпался… Шерсть какая-то на полу… Кто-то живой?.. или на кота наступил?.. Кто-то, кажется, тут рыдает… Ну мало ли кто… Мало ли персонала горе свое празднует втихаря…
Черт, и свет погас… Может, мне это и на руку… Как же на руку, когда ты без света ничего и не увидишь, что и где и как… Проклятье, проклятье, эти люди… А что, мало у нас было их?!.. Ими все кишело вокруг… Ими, подглядывающими, подсматривающими, приказывающими, переодетыми в цивильное, в гражданское, а на самом деле — военными косточками, вытягивающимися перед генералами, истово выполняющими священный приказ… Приказ: расстрелять!.. — и выполняем… Приказ: ни шагу назад! — как назад теперь шагнешь?.. Приказ… Нам всем всегда отдавали приказ… И тебе тоже отдали приказ, Матвейка… А может — перекреститься?..
Не играй в дурачка хоть с самим собой… Спеши, пока не зажгли свет…
А ножонки в старых башмаках по полу шаркают, а лысина вся вспотела от ужаса и напряжения, и хорошо хоть, в сарабанде, которую они сейчас будут танцевать, партии маленького барабанчика — нет…
Матвейка, не робей, Матвейка, не менжуйся… Матвейка, ты же старый лагерник, Мотька, то ли в лагере было!.. Ах-ха-ха, вспомнить только, что там было… Жизни не хватит вспоминать… Хорошо еще, что ты выжил… И местечко у тебя тепленькое, шутка ли, оркестр Гостелерадио… А когда-то, было дело, ты на барабане военные марши отбивал — в кабинете, где били и пытали… чтобы заглушить стоны истязаемых… Когда-то — в похоронных оркестрах — «на жмура марш Шопена слабаем, мужики?!..» — бил на морозе в барабан, с размаху колотушкой брякал, и мороз сводил тебе голые пальцы, и мороз щипал тебе красный нос, и ты шел, шмыгая носом, и думал: и тебя так же понесут, и над тобой, жмуром, будут так же бездарные лабухи бессмертного Шопена в фальшивые валторны дудеть… А помнишь, Матвейка, как на ксилофончике ты на празднике, на новогодней елке, там, в лагере, при накрытых роскошно, с икрой и севрюгой, столах, чуть не падая в обморок от голода, от текущих по подбородку слюней, еле палочки удерживая в костлявых пальцах, им — владыкам — «Арагонскую хоту» Михаила Иваныча Глинки — наяривал?!.. А в награду тебе — на вилочке — к носу — осетринки кусочек… Все в жизни было, все… Боженька, прости мне прегрешения мои, я делаю это еще и для того, чтобы и местечко не потерять, и денежки обещанные не потерять, и жизнешку, самое главное, не потерять, и… Мгновенное это дельце, Мотька, ну мгновенное же… А тот, кто приказал тебе это сделать, будет доволен… А если он тебе деньги — не заплатит?!.. Ну и хрен с ними, с денежками… Живым останусь — и то хлеб… Жизнь, она ведь драгоценная штуковина… С ней расстаться — это вам не хухры-мухры… Я-то смертушку нюхал, ох как понюхал… Никому не пожелаю такого…
Только не зажигайте свет… Пожалуйста, только свет не зажигайте, ладно, а?..
МАРИЯ
Мы кланялись орущей, неистовствующей публике. Мы кланялись народу, что любил и хотел нас. Я все-таки вырвала руку из руки Ивана. Подбежала одна к краю сцены. Прижала руки к груди. Послала залу воздушный поцелуй. Отбежала назад. Крикнула Ивану:
— Ванька, кланяйся пока, я сейчас!
И одна, без него, скользнула за кулисы. И чуть не наткнулась на ящик из-под реквизита, — какая сволочь выдвинула его сюда, в самый проход, на середину коридора?! — и, я слышала, Иван уже бежал за мной, бормоча на ходу: Мария, Мария, Мария, куда же ты, почему ты не кланялась до конца вместе со мной?
Я рванула на себя дверь артистической. Влетела туда.
И свет погас.
Внезапно погас свет.
Он погас здесь, за кулисами — или на сцене тоже? И в зале?
Я слышала, как резко, четко стучит маленький барабанчик моего сердца.
Я была одна. Совсем одна. Во тьме.
Одна — на несколько мгновений. На несколько жалких земных мигов: раз, два, три, и — кончено все.
И посмертную павану, и погребальную сарабанду танцуешь не ты — танцуют тебе. Призраки в тяжелых, темных платьях, с тускло светящимися жемчугами на скелетных шеях, с глазницами, горящими в голых черепах, с дрожащими веерами в костяшках мертвых пальцев. Сколько людей прошло по лицу земли и умерло — и в своих постелях, и на полях войны, и в страшных мученьях? И ты думаешь — ты не пополнишь когда-нибудь их ряды?
Когда-нибудь. Скоро. Сейчас.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ДЕВЯТЫЙ. САРАБАНДА
Сдавленный крик во тьме.
Шорох. Возня. Стук двери.
Кто-то открыл дверь — или закрыл ее?!
Тихо, это низкий хриплый голос, это канте хондо звучит издали, из далекой дали, в непроглядной тьме.
Нет, это бред. Это просто кто-то всхлипывает, лежа на полу перед дверью. Отползает — на корточках — вбок, за сваленный в кучу реквизит.
Сопение. Ругательство — сквозь зубы. Опять тишина. Звуки борьбы.
Что вы так долго копаетесь, электрики! Господи, у нас же всегда все на соплях! Даже здесь, в новом концертном зале в Лужниках!
И снова тишина. Провал в тишину.
И только всхлипы — тут, рядом, во тьме.
И взрыв света.
И снова музыка.
И опять музыка — огромная, разливом — на весь мир, полная невысказанной скорби, навечного прощанья.
Свет, слепящий свет!
Ты вовремя. Ты — не вовремя?!
Кто, задыхаясь, отворачивается лицом к стене, сидя на корточках, закрывая руками мокрое лицо?!
Палочки. Барабанные палочки брошены на пол. Они были заткнуты за лацкан пиджака, воткнуты в старый дырявый карман — и вот потерялись, и вот валяются на полу. Кто поднимет палочки? Кто сыграет партию маленького барабанчика? Оркестр играет сарабанду, и в зале все замерли. Зачем для последнего биса эта сумасшедшая парочка, эти мировые знаменитости, выбрали старинный испанский погребальный танец?!
— Уйдите! Отойдите все! Я не отдам ее вам!
— Он сошел с ума, он определенно сошел с ума, я говорю вам, отнимите ее у него, возьмите ее у него из рук, она же может быть еще жива, ее можно спасти, ну же, что же вы медлите, здесь каждая секунда дорога, черт побери!..
— Я не могу… видите, как он ее держит крепко… я… боюсь…
— Чего вы боитесь, он же безоружен, он же просто вне себя, вы видите…
— Ну да, он невменяем, и вы хотите, чтобы я у невменяемого отнял его добычу?..
— Ну он же не маньяк, в конце концов… он же…
— А если?!..
— Иван, Ванечка, Иван Кимович… спокойно, пожалуйста, не нервничайте… Мария, кажется, больна… Ее надо осмотреть врачам… Отдайте ее, пожалуйста, врачам… Вот они, здесь, видите… Вы же видите, это врачи… Они не сделают ни вам, ни ей ничего плохого… Прошу вас…
— Прочь!
Он обвел всех безумным взглядом. И все опять отшагнули назад.
В коридоре успокаивали, поднимали с пола неутешно рыдающую маленькую, некрасивую девушку. «Вы здесь были?.. Вы видели, что произошло?.. Если Мария Виторес мертва — вы сможете показать, кто ее убил?..» Она молчала, только вся содрогалась в рыданьях. Дверь в артистическую была распахнута настежь. Все было залито ярким, белым, ослепительным светом. Все было на виду. На свету. Ничто не могло быть скрыто, утаено.
На виду — на свету — были все лица.
Искаженное злобой лицо Беера.
Растерянное, с бегающими туда-сюда поросячьими глазками, жирное, потно лоснящееся лицо Родиона Станкевича.
Оскаленное, сумасшедшее лицо Ивана.
Запрокинутое, бледное, — белые щеки, черные волосы, ярко-красная помада на губах, — неподвижное лицо Марии.
Озабоченные, сердитые, строгие лица врачей.
Испуганные лица осветителей, режиссеров, помощника режиссера, набившегося в артистическую персонала.
И половицы заскрипели под тяжелыми шагами.
И свет безжалостно озарил, выявив все до одной морщины, все вмятины и царапины беспощадного времени, коричневое, как кора старого дерева, твердое как гранит лицо Кима.
Он сделал шаг вперед. Еще шаг. Еще. Остановился.
И все замолчали. И все смотрели на него.
— Отдай ее мне, Иван, — сказал Ким Метелица, и каждое слово прозвучало ударом молота. — Отдай ее мне, иначе тебе не жить. И никому. Иначе никто отсюда не уйдет живым.
И Ким Метелица медленно, очень медленно вынул из кармана огромный многозарядный пистолет и медленно, очень медленно обвел черным глазом дула всех, кто набился сюда, в артистическую Иоанна и Марии.
И Иван, вскинув оскаленное, умалишенное лицо, как под гипнозом, как заговоренный, сделал шаг к Киму, еще шаг, еще шаг. И, когда он достиг Кима, он переложил бездыханную Марию с рук на руки отцу, как драгоценную вещь, как золотую статую, как священную мумию мертвой царицы.
И Ким, пятясь с телом Марии в руках, к настежь открытой двери, к выходу, по-прежнему держа пистолет наставленным на всех, онемевших в смущенье и страхе, обвел всех кричащими, пустыми глазами, хотел сказать что-то — и не сказал, и молча вышел, с Марией на руках, в широко распахнутую дверь.
И никто не заметил, как свет выхватил из тьмы, обнял, хлестнул по щекам еще одно человеческое лицо. Мягкое как тряпка; тонкогубое; лысина и очки на сморщенном гармошкой лбу. Подслеповатые глазки моргают часто-часто. Трехдневная щетина на обвислых щеках. Кургузый пиджачок встопорщился на одном плече, с другого — сполз, вот-вот упадет наземь. Клетчатые брючки все в грязи — сразу видно, одинокий мужик, никто не ухаживает за ним, не чистит одежду, заботливо не собирает на работу, в дорогу, бутерброды и яблоки с собою в портфель не сует. Матвей Петрович Свиблов, барабанщик экстра-класса, ударник номер один всея Москвы, зануда и прохиндей, гениальный музыкант и известный пьяница и разгильдяй, собственной персоной. Это про Матвея Петровича ходили легенды: как он однажды, имея двести тактов паузы в своей партии литавр, отправился в буфет пить пиво, пил-пил его, потом глянул на часы — и ломанул в оркестровую яму что есть сил, добежал, выскочил из-за кулис — а дирижер уже гневную руку в его сторону выбрасывает: его удар по литаврам! И Петрович не растерялся, сдернул с ноги башмак и запустил им в литавры, и попал, и загудели литавры на весь зал! И попал ведь, зараза, точно в такт! Тогда, когда дирижер на него показал! И выругать его невозможно было: ведь аккорд был поддержан литаврами вовремя, не придерешься!
Свет озарял старое, мятое лицо. Очки сползали со лба на переносье. Матвей Петрович поправлял их указательным пальцем. Смотрел, как Ким, с Марией на руках, выходит в дверь, как он уносит Марию, уносит.
— И вы позволили ему украсть ее?!
Иван опустился на колени. Согнулся пополам. Опустил голову в ладони. Его спина содрогалась. Он плакал.
— Как вы позволили ему похитить ее?!
Он поднял голову. Перед ним стоял, возмущенно глядел на него человек, неизвестный ему. Он не знал, кто это. Зачем этот человек настойчиво, мучительно и гневно спрашивал его, почему он позволил унести отцу Марию, как она умерла, почему это все случилось, кого он тут видел, кто тут был, и всякое такое, на что у него ответа не было, не было, не могло быть.
— Отойдите от меня все, — беззвучно сказал он. — Я не хочу вам ничего говорить. Я ничего не слышу. Я оглох, слышите. Оглох. Я не хочу больше ничего слышать.
А маленькая уродливая девочка все плакала, плакала, плакала в коридоре, и вокруг нее хлопотали врачи и медсестры, и бормотали, закатывая ей рукав платья, делая ей успокаивающие уколы: да, это истерика, это типичная истерика, надо бы ее уложить, а куда ее уложить?.. тут даже диванишка завалящего никакого нет, ну так пойдите вызовите ей такси, дайте ей денег на дорогу, если у нее нет с собой, а где она живет?.. где вы живете, девушка?.. не говорит… ничего не отвечает, только плачет… ну, уколы сделали, сейчас пройдет, сейчас ей станет лучше… Кто эта девочка, кто знает?.. Никто?.. При ней документы есть?.. Паспорт есть?.. Где ее сумочка?.. Как она сюда попала?.. Она все время здесь была, в артистической, или позже подошла, когда уже Мария была мертва?.. А вы не догадываетесь о том, что Мария была мертва уже тогда, когда Иван танцевал с ней сарабанду?.. Ну, знаете ли, это уже домысел какой-то… буйная фантазия, дорогой мой, буйная фантазия… Какая фантазия, он же держал в руках мертвое тело! Мерт-во-е! Слышите!..
Девочка, тебе сколько лет?.. Не тебе, а вам, вы что, не видите, она же старушка… Какая старушка, что вы, вы девушку обижаете… Девушка, вы видели, кто тут был?.. Нет?.. Когда вы сюда пришли, здесь кто-нибудь был, кроме Ивана и Марии, или?..
Или. Или. Или — или.
Надя отворачивала от всех залитое слезами лицо. Ее распухшие губы прыгали. Ее вздутые, как сосиски, веки вздрагивали. Ее веснушки превратились в красные, будто коревые пятна, расползались по лицу безобразной сыпью.
* * *
Он гнал машину по зимним заметеленным дорогам. Он не видел огней светофоров. Он их чувствовал кожей. Он довел бы машину к Славкиному дому, даже если б он был слепой. На оба глаза.
Дороги стелились под колеса белыми кривыми, наползающими друг на друга лентами, полотнищами, алмазно сверкающими, режущими глаза плащаницами. Машины налезали на бордюры тротуаров, врезались в парапеты, в перила мостов. Поезда грохотали под мостами, электрички взрывали синими искрами белую, как плащ Бога, алмазную ночь. Нет, эта ночь была черной. Она была черной и слепой, и в ней, в ее сердцевине, была только смерть. Только одна смерть, которая перевесила чашу его весов.
Он видел много смертей. Он делал, мастер, много смертей. Он привык к смертям.
Он одной — не пережил.
Кто-то успел. Кто-то опередил. Кто-то сумел.
Беер? Иван? Или кто-то третий?
Ему было сейчас все равно.
Он гнал, гнал, гнал машину по дорогам, по шоссе, по автострадам, петляя на развязках, резко тормозя перед красным светом светофора и перед постами дорожных инспекторов, глядя прямо перед собой слепыми, ничего не видящими глазами. На заднем сиденье лежала она. Вернее, то, что час, два часа назад еще было ею.
— Потерпи, родная, — бормотал он пересохшими губами, и пот полз у него по седым вискам, — потерпи, радость моя. Сейчас мы приедем. Сейчас мы с тобой наконец останемся одни, одни в целом мире. И тебя уже никто не отнимет у меня. И никто не прикажет тебе делать то, что противно тебе, твоей природе. Ты свободна. И я свободен. Уже свободен. Погоди немного. Мы сейчас отдохнем. Мы отдохнем.
Он щурился — пот затекал ему под брови, жег ресницы. Он смахивал его ладонью. Опять вцеплялся в руль. Когда вдали показались огни подмосковного поселка, где в тени огромных заснеженных деревьев пряталась старая дача Вячеслава Пирогова, он выдохнул шумно, с облегченьем, и затормозил прямо у крыльца, сплошь занесенного снегом. И вся дача гляделась огромным снежным верблюдом, чьи горбы были нагружены мешками снега?.. — нет, тюками белой шерсти, мешками сияющих алмазов, свертками серебряной парчи, и верблюд подгибал ноги от льдистой сверкающей тяжести, и старые перила прогибались под слоями снега, а крыльца и скатов крыши просто не было видно — сугроб, да и только.
Он распахнул дверцу машины. Взял Марию на руки. Поднялся с нею на руках на крыльцо, и сапоги его вминались в снег, утопали в снегу. Метель била ему в лицо белой рукавицей. Он толкнул дверь ногой и вошел в дом. Он не запирал тут, на даче, дверь никогда. Ему некого, нечего было бояться.
Он, весь залепленный снегом, — и в ее иссиня-черных волосах тоже блестел снег, — прошел с ней на руках в комнату, где угли тлели в печи, где они были счастливы. Опустил ее на старый, с торчащими пружинами, диван. Диван вздрогнул, и все его пружины жалобно запели. Он положил ее на диван и сам сел рядом, безотрывно глядя в ее закинутое мраморное, холодное лицо. Ее губа приподнялась, подковка белоснежных зубов обнажилась, и казалось, что она слабо улыбалась.
— Мария, — сказал он и тронул ее окоченевшей рукой за щеку. — Мария, моя Мария, как ты красива. Ты никогда еще не была так красива, как сейчас.
Он опустил руку. Она не шелохнулась. Не подняла голову. Не взмахнула ресницами. Она лежала все так же недвижно, и так же бело, мраморно-горделиво стыло в полумраке дачи ее лицо. Лишь снег освещал их обоих — свет снега, сочащийся из лишенного штор окна.
Он тихо сказал, взяв ее холодную руку, и две слезы скатились у него по щекам на ее руку, обожгли ее, но она не слышала ожога:
— Мария, вот и все. Вот и кончена жизнь, Мария! Она была яркой и короткой. Мы с тобой оба убивали людей. Мы с тобой работали на смерть. Она стоила денег, как стоит их все на свете. Теперь пусть смерть поработает на нас. Пусть она послужит нам, попрыгает у нас с тобой девочкой на побегушках. А мы ее будем пинать, третировать, унижать?.. Смеяться над ней, хохотать?.. Нет, Мария, мы уважим ее. Склонимся перед нею в поклоне. А выпрямившись, скажем: ты, старая собака, время развлекаться прошло, настало время любить по-настоящему. Делай то, что мы прикажем тебе. Мы приказываем тебе, смерть… сделать так, чтобы мы оба… не боялись тебя… Чтобы мы оба там, в твоем черном и слепом, зимнем царстве… навеки остались вдвоем… вот так… обнялись и застыли…
Он подался к Марии, вперед. Лег на нее грудью, лицом, вытянул руки вдоль ее тела, сомкнул у нее за спиной. Крепко прижал ее всю к себе, как обнимал при жизни. Ощутил всем нутром ледяной холод, исходивший от нее.
— Мария, Мария… Как ты холодна… Ты, такая моя, такая горячая… Помнишь Мадрид, Мария?.. Мы тогда оба с тобой боялись друг друга… Ты хотела, чтобы я не преследовал тебя больше… Какая глупость, Мария!.. Разве тот, кто любит, преследует другого?.. Нет, он просто любит, любит — и все… А если любят оба — они все равно будут вместе, всегда, даже если их разлучат злые люди, даже если они сами решат навсегда разлучиться… Мария!.. Я люблю тебя больше жизни. Я больше смерти люблю тебя! Я люблю тебя больше, чем кто-либо на земле когда-либо кого-либо любил под ледяной, равнодушной Луною… Сегодня ночью на черном небе Луна, а на земле метет метель, и она нам с тобой постилает постель, нашу последнюю любовную постель, Мария!..
Он встал перед диваном на колени. Снова взял ее на руки, баюкал, как баюкают ребенка.
— Мария, Мария, Мария… Все прошло, все стало сном… Ты уже ничего не боишься… Кто убил тебя, радость моя?.. Кто опередил меня?.. К счастью это или к горю?.. Все равно, кто-то облегчил мне мою участь, может быть, убить тебя мне было бы и вправду трудно… Где мне лучше сделать это?.. Здесь, в комнате?.. Я не думаю о том, как нас найдут. А нас ведь найдут, это ясно… В комнате, в холодной нетопленой комнате… может быть, растопить печь… вон в ней тлеют угли… красные головешки… они еще тлеют, еще горят, еще вспыхивают, еще… живут…
Он, с ней на руках, снова поднялся. Шатаясь, как пьяный, сделал два, три шага к двери.
— Вон из дома… вон, на улицу… на воздух… в ночь… Там метель, там ветер… Там — свобода… И снег, бешеный снег все валит и валит, все метет и метет… Моя пушка при мне… Мой висок — вот он, при мне тоже… Куда ты скажешь мне, туда я и выстрелю… Скажи мне… скажи!..
Он, качаясь, сжав зубы, вышел с ней на крыльцо. Высоко над ними, в черном как деготь небе, туманно, сквозь дымку метели, мерцали звезды. Тускло, печально горели в деревенской тоскливой тьме два, три окна — в дачах, в избах напротив не спали. Люди не спали. Люди жили. Сейчас он, Ким Метелица, жить больше не будет. Что это значит — не жить?
Он, с ней на руках, как со спящим ребенком, сел на крыльцо, прямо в пушистый, за вечер и ночь наметенный белый снег. Прижался мокрым от снега, от слез лицом к ее лицу.
— Мария… Машенька… Марочка, дитя мое… Я так много прожил на земле до тебя, без тебя, что мне страшно — я старше тебя на целую тысячу лет, и это чудо, что мы встретились, что мне довелось узнать тебя, прикоснуться к тебе на земле… Я убийца, но какое счастье, что это не я тебя убил… Ну что ж… Попрощаемся, жизнь моя… Поцелуй меня… в последний раз…
Он рывком наклонился над ней — и замер над ее приоткрытыми губами, как замирают над розой, вдыхая ее аромат. Коснулся губами ее губ так тихо и нежно, так неслышно, что сам не понял, где воздух, где губы, где слезы, где конец долгого вдоха.
Застонал, голову поднимая. Взял ее лицо в ладони. Ветер пошевеливал ветки дерева над ними, стряхивал снег им в лица, на плечи. Черное небо мрачнело, наливалось черной кровью. Окна горели в ночи, как волчьи глаза.
— Вот и все… Вот и все, золотая моя. Мария моя, любимая моя. Прощай!
Он вытащил из кармана пистолет. Поднес к виску. Улыбнулся. Держал Марию за плечи одной рукой, другой прижимал к виску дуло. Подумал быстро, не успев схватить мысль за хвост: «Ах, какой же я всегда был меткий стрелок!.. да разве ж в свой висок, стреляя, промахнешься!..» — а палец сам уже, вне его приказа и его последнего, вспышкой, страха и отчаянья, уже делал свое дело, нажимал на курок. Легкий щелчок. Глушитель, отличная штука. Почти музыкантская, как хорошая сурдина у скрипачей, у гобоистов. Надел — и инструмент звучит тише, глуше. Совсем неслышно. Совсем.
И черный сгусток металла падал, падал из руки, из разжавшихся пальцев в чисто-белый, сахарно-блесткий снег. И метель, гудя в трубах старой дачи, развевая по ветру свой белым шелком вышитый плащ, мела, заметала их двоих, обнявшихся на крыльце: он обнял ее, сгорбившись над ней, с неподвижным, гранитным лицом, с черно-алой ранкой чуть выше правого глаза, она лежала, закинув к черному небу лицо, с широко открытыми в ночь глазами, стеклянно-застылыми, агатово-черными, с вывернутой наружу нежной, полудетской ладонью. На безымянном пальце тускло поблескивало в лунном свете железное кольцо старого генерала. Маленькая ножка, неловко подвернувшись, лежала на снегу, обутая в матерчатую, натертую мелом балетную туфлю.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ДЕСЯТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ. ПАВАНА НА СМЕРТЬ ИНФАНТЫ
— Я хвалю тебя. Ты сделал все, как я тебе приказал.
— Это не он, господин генерал!..
— То есть как это — не он?..
— Виноват, господин генерал, но это точно не он! Он — не успел… Он сам мне сказал, что он хотел выполнить ваш приказ, но — не успел… Кто-то опередил его…
Молчание в трубке. Молчание между безднами суши и моря.
— Опередил?..
— Так точно, господин генерал…
— Кто?..
— Надя, Надежда, Наденька!.. Ну брось же плакать, что ты вся облилась слезами, слезами же горю не поможешь!..
— Оставьте девушку, господин Метелица. Я хочу ее допросить. Итак, гражданка Надежда Наседкина, вы утверждаете, что вы были в артистической в то время, когда сюда вошла, после выступления, Мария Виторес?
— Д-да… Была…
— И что это за стакан?
Стакан перед ее лицом. Перед ее носом. Пустой стакан. Желтые потеки на стенках.
— Из-под… из-под апельсинового сока…
— Вы помните, кто пил из этого стакана сок?..
— Н-не… Не помню…
— Вы помните, кто наливал сюда сок?
— Да… Я…
— А не господин Метелица?
— Нет… Я…
— Тогда позвольте задать вам один вопрос. Это вы подсыпали в стакан, из которого пила сок Мария Виторес, яд, ставший причиной ее смерти?
— Я?.. Яд?..
— Почему вы так покраснели, Надежда Наседкина? Вы смущены?
— Я?..
— Ну не я же, в конце концов!
— Я… я не сделала ничего плохого… не надо… не надо меня в тюрьму!..
— Надя, Наденька, не плачь… Перестаньте убивать девушку вашими глупыми вопросами!
— За оскорбление следователя подозреваемый тоже несет ответственность, так же как и свидетель, вы, господин Метелица, об этом знаете?..
— Это не я… Я не успел, Арк!.. Я — не смог!..
— И не я, Станкевич. И не я. Я тоже не успел. И тоже — не смог бы.
— Что же в ней было такого, Арк, что же…
— Дуэнде. По-испански это называется дуэнде, остолоп.
Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там.
Стучал маленький барабанчик сердца.
Самолет делал круги над аэропортом, снижаясь, плывя в небесах все ниже и ниже, и уже явственно-страшно доносился гул двигателя, его бессмысленный, тупой, как у быка, рев, и люди, встречающие рейс, задрали головы; а люди, провожающие другой самолет, тоже задрали головы, ибо другой самолет в это время взлетал с полосы, чертил в воздухе косую плавную линию, взмывал все выше, набирая скорость, и они чуть не столкнулись в небе — два самолета, один и другой, пролетев друг мимо друга на скорости — у одного гасимой, у другого набираемой неуклонно. И у провожающих были печальные лица, а у встречающих — радостные, ожидающие. Сейчас кончится ожидание! Кончится! А проводы не кончатся никогда. Проводы, долгие, как жизнь сама.
В толпе тех, кто провожал самолет, стояла маленькая невзрачная девушка с кривым, чуть свернутым на сторону смешным носиком, ее губы вздрагивали, пытаясь сжаться, но снова и снова дрожали, вспухали слезно. Она не могла справиться со слезами. Она только что посадила в самолет, проводила в дальний путь того, кого она больше всех любила на свете.
Люди стояли, задрав головы, глядя на самолеты — отлетающий и прилетающий, как вдруг в воздухе что-то произошло. Там, наверху, в небесах, повеяло мертвенным холодом, распахнулась сначала бездна тьмы, потом из тьмы восстала, выбухнула бездна яркого, слепящего огня. И люди закричали и закрыли глаза руками. И люди показывали пальцами в небо. И люди вопили и рыдали, и бежали вперед, туда, под взорвавшийся самолет, еще не веря в то, что огонь пожрал в стальном брюхе и родных и близких, кого они так заботливо проводили в дальнюю дорогу, еще надеясь помочь, глядя сквозь залитые слезами глаза на сгусток дыма и пламени, разраставшийся на глазах в темно-синем вечереющем небе.
И те, кто встречал самолет, испуганно глядели на бегущих, и стояли как каменные, прижав руки к груди.
Некрасивая девушка в толпе вздрогнула всем телом, глядя на клубок пламени и черного дыма. Не отрывала от огня глаз. Положила руку себе на живот. Было заметно, что у нее под легким плащом — уже округлившийся, взошедший как на опаре живот, беременный будущей жизнью. Рука вздрагивала. Растопыренные пальцы дрожали, ощупывали живот, нервные, слепые. Мяли тонкую ткань плаща. Тонкогубый, чуть припухший рот приоткрылся. Как колдуны — в костер, смотрела она во взорвавшееся в небесах пламя. Ее глаза расширялись, открывались все шире, так, что стали видны белки над серыми, прозрачными райками радужек. Она глядела на взрыв самолета, как смотрят страшный неправдашний фильм.
Он там. Он был там, внутри. Там, в железном брюхе. Его — больше — нет?..
Рука плотнее прилегла к животу. Погладила его, как гладила бы уже рожденного ребенка. Пальцы задрожали сильнее, заметнее. Люди вокруг одиноко стоявшей, с рукой на вздутом животе, маленькой девушки бежали, кричали, размахивали руками. Она одна стояла недвижимо.
Надя стояла на кромке летного поля одна. Вся орущая толпа убежала туда, к рухнувшему на землю, горящему самолету. Гомон, крики и плач доносились до нее уже издали, как бы во сне.
Она тихо сказала, и только она сама слышала себя, больше никто:
— Иван, значит, все правильно. Значит, я правильно поступила. Я осмелела вовремя. Иначе у меня никогда не было бы ребенка. От нелюбимого я не родила бы. Иначе у тебя никогда не было бы ребенка. Потому что эта стерва никогда не родила бы тебе. Она любила только себя. Только себя, слышишь, Ванюша?..
Люди бежали к горящему самолету. Тянулись по летному полю шланги пожарных и аварийных машин. Безжалостно вопили сирены «скорых», чиркали шинами по асфальту машины МЧС, гудели обреченно, протяжно. До Нади донесся зычный голос, разнесшийся над всем потерявшим разум аэропортом:
— Потерпел катастрофу самолет, отправлявшийся рейсом двадцать два — пятьдесят восемь Москва — Омск — Иркутск — Пекин — Шанхай!.. Потерпел катастрофу!..
Светлые, серые, прозрачные как лед глаза. Кривая улыбка. Дрожащие губы. Дрожащие пальцы.
— Я буду… матерью… спасибо… что все так получилось…
Резкие гудки машин, как ножи, вспарывали вечерний воздух.
Жизнь билась в ней, в уродке. А не в той, в красавице и ведьме.
Иван успел переспать с ней здесь, в Москве. Она ли его обольстила? Он ли ее? От отчаяния после смерти Марии? В отместку ли Маре и Киму? На крыльце старой заброшенной подмосковной дачи нашли только тело Марии Виторес. Кима Метелицу, живого или мертвого, не нашли нигде, как ни искали. Иван сам приехал к Наде домой, в ту халупу, что снимала она на Левобережной. Она открыла ему дверь — и прислонилась к косяку, чтобы не упасть. «У меня же был адрес, — улыбнувшись так же криво, как она, выдавил он, — вот, я приехал. Мне отвратительно одному. А ни с кем я быть не хочу». Ты хочешь быть со мной, спросила она его одними глазами? Да, ответил он взглядом. Да, я хочу быть с тобой. Просто — быть. Сидеть. Говорить. Пить чай. Плакать. Мне все надоели.
Просто пить чай у них не получилось. Надя, дрожа от жалости и любви, сначала пролила кипяток на брюки Ивана, потом, поставив чайник на пол, сама села к нему на колени.
И он впервые увидел, как дурнушка преобразилась. Он впервые увидел, как уродка — в великой любви — становится красавицей. Как сияют, словно огромные, алмазно переливающиеся звезды, ее полные счастливых слез глаза. Как сияет детская, восторженная улыбка. Как горят и мерцают тайным перламутром, в ночной темноте, обнаженные полудетские плечи, маленькая нежная детская грудь, как тонко-беззащитно выгибается грациозная шея, и юная фея, которую все держали за Золушку, шепчет ему: Иван, Иван, ты моя мечта, будь со мной, иди ко мне, я так давно тебя люблю, ну поцелуй же меня, только раз, только один раз. Он целовал ее не один раз. Он был с ней той ночью много раз, и снова и снова ее тонкое, нежное, хрупкое, юное тельце с недетской, ярко-женской, великой страстью отдавалось ему.
Он обнимал ее и думал: чем одна женщина отличается от другой? Чем же, чем? Так же дрожит и вспыхивает жаркая, потная скользкая кожа. Так же раскрываются под руками, губами мужчины срамные женские губы там, внизу живота, под нежным всхолмием. Так же податливо расходится плоть, впуская жаждущее острие, а потом сжимается вокруг, стискивает мужскую суть в нежных, неумолимых тисках, заставляя мужчину томиться и двигаться — туда, все сильнее, все жарче, все более вглубь — сначала нежно, потом все резче и неукротимей, потом дикая пляска сметает границы желанья и боли, стыда и покорства, и два тела сливаются в бешеном танце, зная, что вечен лишь он один на земле, все остальное — ложь, пустота и забава. Девушка, иная девушка; она вся другая; и пахнет по-другому; и двигается по-другому. И все же ведь она любит, любит его! Любит истинно, горячо, крепко! А любовь передается, как любая болезнь. Любовь — это яд, это отрава и зараза. Ты уже заразился ею, Иван. Ты не можешь не ответить на такую любовь. Женщина, для чего ты создана Богом из ребра Адама? Для одного лишь любовного танца, не больше?
А утром она, стыдясь и стесняясь, прикрыла кровавые пятна на простыне своим телом, легла на них спиной, чтобы он ничего не увидел; но он и без того все понял, ему и видеть испятнанной простыни было не надо, он обнял ее, маленькую, сжавшуюся в разворошенной любовью постели в жалкий комочек, и она прижалась к нему доверчиво, страстно, плача, обнимая за шею его тонкой, как куриная косточка, ручкой, а он шептал ей на ухо: Надя, Наденька, ну да, я ведь за этим к тебе и приехал, я только сам стеснялся сказать тебе, ну ты видишь, как все хорошо получилось, ты только не думай, что я подлец, я тебя не оставлю, вот увидишь.
А вышло так, что больше потом он к ней не приехал.
Приехала она к нему сама, когда поняла, что у нее будет ребенок.
Приехала, позвонила, он открыл ей и с порога понял все — по ее широко распахнутым, донельзя счастливым глазам. И обнял ее. И прижал ее кудрявую головенку к своему животу.
«Надя, — спросил он ее, задыхаясь, — Наденька, а ты случайно не видела моего отца? Кима Метелицу? Ты ведь знаешь его. Нигде в Москве ты его не встречала?» И она покачала головой, не размыкая рук у него на талии: нет, не видела, нигде, не знаю.
— Ты не видел его нигде?!
— Нет, не видел, нигде, не знаю…
— Знать надо!
— Вроде бы видел… Вроде бы… да… в кассах Аэрофлота… Он покупал билет…
— Вроде бы или да?!
— Да…
— Рейс?
— Двадцать два-пятьдесят восемь, двенадцатого августа, из Шереметьева-два, на Шанхай…
— Какого лешего он забыл в Шанхае?!
— Не знаю…
— Знать надо! Подошел бы, поговорил!
— О чем?
— О чем хочешь! Вы же знакомы!
— Я просто подсмотрел… подслушал… рейс вот запомнил…
— И на том спасибо!
Эту мину Беер подложил во взлетающий самолет для Кима Метелицы.
Он подложил ее для отца, а взорвался — сын.
И еще полный самолет всякого разного народу взорвался — стояло лето, холодное ветреное московское лето, народу на Восток летело много, как всегда, в кассах был летний аншлаг, «Боинг»-аэробус был забит до отказа, и тот, кто подкладывал в нутро самолета мину, меньше всего думал о людях. Он думал только о своей мести. О своей кровожадной, древней как мир мести, что не излечивается в мире ничем — ни любовью, ни молитвой, ни покаянием, ни вином и коньяком, ни самым лучшим на свете кальвадосом и мартини, ни самой лучшей на свете, искуснейшей любовницей. Месть так же сильна, как единственная любовь. На огне той и другой можно сгореть дотла.
Беер был удовлетворен. Он насытил свою рычащую дикую месть. Он накормил ее до отвала. Не стало того, кто портил ему кровь.
А Станкевич, увидев в экране телевизора, как взорвался самолет рейс двадцать два-пятьдесят восемь, согнулся, закрыл жирное лицо ладонями, подбородки тряслись, золотой перстень с печаткой на толстом как сарделька пальце сверкал, как у царя. Он очень переживал. Иван прямо перед отлетом, из аэропорта, позвонил ему. Отчеканил в трубку: «Родион, я лечу на неделю в Пекин. Друзья хотят меня в Гималаи свозить. Плохо мне, понимаешь, плохо. Там, говорят, какие-то ихние монахи, ламы, стресс только так снимают. Взглядом одним. Ну, обучат меня техникам каким, я понятливый, я обучусь. Развеюсь, старик, развлекусь. Приеду — будем думать, как дальше жить. С кем дальше танцевать, ха-ха, по жизни буду». Он хотел крикнуть ему: Ванька, сдавай билет сейчас же, порви его на хрен, выкинь в урну, растопчи, что-то Беер задумал, и, кажется, этим рейсом летит твой отец тоже, как бы Аркашка вас обоих не накрыл медным тазом!.. — но было поздно, в трубке уже звучали назойливые гудки отбоя. Плачь, плачь, Станкевич. Ты всего лишь обознался там, в очереди в агентстве Аэрофлота. С каждым бывает.
Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
Стучит маленький барабанчик. Стучит, не умолкая.
Играют болеро.
Снова, в который раз, играют болеро, и весь громадный оркестр заглушает один маленький барабанчик. И это так странно! Не более, чем все остальное. Странное ведь все в жизни, только мы делаем вид, что этого не замечаем.
Почему его не сажают играть павану на смерть инфанты?
Матвей Петрович Свиблов работает без пауз. Эту партию не каждый барабанщик сдюжит. Такую жизнь, как у него, не всякий человек сдюжит, да и не нужно это всякому человеку. Она, его жизнь, его собственная, и только. Как хорошо, что тот человек, что приказал ему отравить эту танцорку, Виторес, все-таки заплатил ему денег, несмотря на то, что он, Матвейка, не успел, кто-то опередил его, видно, тогда, в тот вечер в новом концертном зале в Лужниках. Когда тот человек, с залысинами, низкорослый и крепкий, в черных очках, — ну да, черные очки ведь меняют лицо, узнать невозможно, — совал ему в руки толстую пачку долларов, а он, Матвей, торопливо, поспешно-жадно и стыдливо-воровато совал ее себе в карман кургузого, потрепанного пиджачишки, он не удержался — любопытно ведь!.. — и все-таки спросил этого, в черных очках: а чем таким не угодила кому-то эта красивая танцовщица, ведь она мировая знаменитость, да и замечена, хм, в порочащих связях, ха-ха, вроде бы не была!.. И подхихикнул еще раз, подобострастно, любопытствующе-глупо, подлизываясь к тому, кто давал ему деньги. И человек в черных очках внезапно сказал серьезно и сурово: «Это был приказ моего шефа. Генерала. Я получил его, и я его выполнял. Я не знаю причин, что побудили его отдать такой приказ. Мой генерал лично знал Марию Виторес. Кажется, он симпатизировал ей».
* * *
Их нашел на крыльце дачи Славик Пирогов.
Славик Пирогов прикатил туда на машине после выполнения очередного заказа. Увидел: утро, и розовый в лучах солнца снег, и они оба сидят на крыльце, обнимаются. «Эй вы, ребята, — бодро крикнул Славик, выпрыгнув из машины и растирая захолодавшую щеку перчаткой, — кайфуете, что ли?.. В кроватке не нацеловались, голубки?..» И осекся. И подошел ближе, и все понял.
Убрать, убрать их отсюда скорее, как можно скорей. И никому не сказать ничего. Отвезти далеко в лес, в зимний лес. И вырыть там яму, лопата в сарае, кажется, есть, старая и ржавая; и похоронить при свечах искрящегося инея, под пение снегирей.
Действуй, Славик. Вынимай пистолет из руки у Кима. Вынимай девушку у него из объятий.
Когда Пирогов осторожно — о, как же тяжело мертвое тело! — поднимал Марию на руки, чтобы нести в машину, мертвый Ким покачнулся и упал набок. И из кармана у него выпал, вывалился круглый оранжевый, огненный апельсин и покатился по снегу.
А газеты пестрели новыми черными шапками, новыми сенсационными полосами: квартира погибшей и без вести пропавшей Марии Виторес сгорела дотла! Кто-то неизвестный проник в нее и поджег ее! Версию об огне, распространившемся по электропроводке, следователи отвергли сразу! Неизвестный не оставил отпечатков пальцев… Соседи никого не видели… Свидетелей нет… И гибель, и исчезновение Марии Виторес, и уничтожение огнем ее жилья окружены тайной и мраком… Так же, как и гибель ее знаменитого партнера, Ивана Метелицы, в самолете, отправлявшемся из Шереметьева в Шанхай… «ИСПАНСКАЯ КОЛДУНЬЯ ТАНЦА НАСЫЛАЕТ ИЗ ПОТУСТОРОННЕГО МИРА ОГОНЬ НА СВОЕ ЖИЛИЩЕ!» «ДУХ БЕЗУТЕШНОГО ИОАННА ПЛЯШЕТ ПЛАМЕННУЮ ОЛУ В ПОСЛЕДНЕМ ПРИСТАНИЩЕ ЛЮБВИ!» «ДУЭНДЕ ЕСТЬ ДУЭНДЕ — ДАЖЕ И ПОСЛЕ СМЕРТИ!» Журналисты старались перещеголять друг друга. Журналисты осаждали следователей: кто это сделал? Журналистам обещали премии главные редакторы — за добычу жареной утки. «ПОСЛЕДНЕЕ ФЛАМЕНКО — ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАМЯ!»
…В своей маленькой каморке на станции Левобережная, на улице Библиотечной, лежа вверх животом на старенькой скрипучей постели, лежала, глядя в потолок, Надя Наседкина. Она держала руки на животе и слушала, как бьется жизнь внутри нее. Это она подожгла квартиру Марии Виторес. Она похитила ключ от ее квартиры, когда приезжала к ней спасать искалеченного Ивана и утешать обезумевшую Марию. Соблазн был слишком велик. И ненависть велика. И случайность — царственна, как плавное па погребальной паваны.
КАНТЕ ХОНДО
Милая, милая, милая жизнь! Я благословляю тебя, милая жизнь, querida, но я, кажется, тебя прожила. Так красиво прожить тебя, оказывается! Так… мучительно… Я ухожу не из-за муки. Не из-за того, что устала. Я ухожу из-за того, что все, до конца, прожито, и в канте хондо всегда есть последний аккорд. Его берут гитары, и рокот гитарных струн умирает вдали, как самолетный гул. И низкий хриплый голос певца ли, певицы замирает и тает, истончаясь до паутины. Отец! Тебя убил тот, кого я любила. Любимый! Ты чуть не убил сына своего, которого я любила и с которым танцевала, прижимаясь в ламбаде и в румбе живот к животу, как в постели, а он чуть не убил тебя. А меня убивал бесконечно тот, кто любил меня и ненавидел — убивал смертью, что я сеяла из рук своих, как сеют во влажную, черную, сырую, как женское лоно, землю зерно. Так кольцо смерти сжималось вокруг меня, и я поняла — разорвать его надо. И взметнула я вверх сильные смуглые руки! И выпрямилась вся, как струна, над кольцом смертного огня! И поняла: человек бессмертен, если Бог того пожелает.
И я спросила Бога: чего Ты желаешь? И Он заплакал, склонясь из облаков, из ночной метели надо мной.
Торопись, Мария. У тебя времени немного. Пока не горит свет, пока не вспыхнуло все ярко, безжалостно, пока все не стало на виду, на слуху, на ладони. Все погрузилось во тьму. Скорей. Нащупать стакан. Плеснуть туда сока. Ах, сок уже налит в стакан, какое счастье. Где таблетки? Вот они. За корсажем. Под левой грудью. Я нашарила их в кармане пиджака Ивана, что висел на вешалке здесь, в гримерке, в казенном шкафу. Я засунула их за пазуху, под сердце. Я танцевала с ними на груди все танцы фламенко. Я танцевала с ними под сердцем последнее, на бис, болеро. Теперь я выпью их все, все до единой, швырну в стакан с соком, растворю в соке и проглочу дивный яд, и пойду и станцую потом сарабанду. А павану себе на смерть я уже не станцую. Не успею. Видишь, Бог, как все получилось красиво! Ты не будешь, Бог, меня проклинать, хоть самоубийц и не отпевают. Ты поймешь меня, Бог, как отец бы понял. Ты прижмешь меня к груди, как любимый прижал бы — там, в облаках, в круговерти снежной, в объятьях широкой метели. И там, в вышине, далеко над землей, выше всех людей и железных повозок, выше всех одиноких зимних деревьев, выше всех башен, небоскребов и самолетов, я буду ярко гореть, как звезда, как единственная звезда, о любимый мой Бог, о последний любимый мой, и прости, что ни одного танца я не успела станцевать с Тобой, ни одного не станцевала. Зато Ты, Ты сам вел по широкой жизни меня в упоительном танце — спасибо! Какой сладкий сок… как я люблю апельсины… какое счастье жизнь и смерть… мама, ты только не плачь, прости…
Апрель — май 2002. Москва — Нижний Новгород.


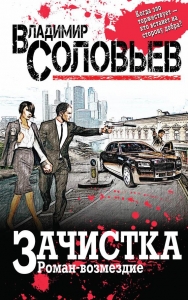


Комментарии к книге «Аргентинское танго», Елена Николаевна Крюкова
Всего 0 комментариев