Виктор Гончаров Записки наемника
Аннотация
– Ты Юрий? – бесцеремонно спросил у высокого парня, который прислонился к пивной стойке. Это было в апреле месяце в одном из крупных городов нашего бывшего Отечества.
Парень повернулся на голос. Глаза его были воспалены от недосыпания, тяжелый подбородок давно небрит, хотя рубашка.
Спрашивавший выглядел солидным человеком, идеально выбритым, в новых кожаных ботинках. Пивной бар с грязными стеклами и подвыпившими работницами, убиравшими пустые бокалы, не мог быть обычным местом пребывания подобного господина. Было ясно, что мужчина пришел сюда не затем, чтобы пить пиво.
– Я Юрий, – ответил парень, как ни в чем не бывало, отвернулся и продолжил свое занятие, а именно – цедить из бокала светлую, слегка желтоватую жидкость.
– Я от Киреева… – сказал холеный мужчина.
– Киреева кастрировали в Чечне… – холодно ответил Юрий.
– Это не играет роли. У меня к тебе дело… – Господин в хороших ботинках был настойчивым и не хотел терять время.
– Работа есть? – в свою очередь спросил Юрий, допивая пиво. Ему было муторно с похмелья, он уже выпил два бокала разведенного водой пива, но голова болеть не перестала.
– Может, выйдем на улицу? – предложил незнакомец, неодобрительно поглядывая, как парень пересчитывает деньги, собираясь продолжить свое занятие.
– А-а-а, черт с ним, с пивом, – Юрий вздохнул. Вышли из пивбара. Вовсю шумела оживленная улица, позванивал трамвай. Свернули с заасфальтированной дороги и зашагали по грязной от вечерней распутицы тропинке. По ней редко кто ходил, тут можно было поговорить наедине.
– Его фамилия Лисенчук, управляющий «Агробизнесбанком». Адрес можно найти в любой газете… – не стал терять время солидный мужчина.
Парень потер небритый подбородок, посмотрел на весеннюю грязь, сжал губы так, что на щеках появились ямочки, и спросил:
– Такса обычная?
– Все как надо. Оружие получите через неделю…
– Что за оружие?
– Пока точно не известно, но вопрос отрабатывается. Скорее всего, зарубежное…
– Почему вы начали называть меня на «вы»? – неожиданно спросил Юрий.
– Да?! Ну-у… – мужчина немного замялся, – вид у вас не совсем… презентабельный. Я боялся ошибиться.
– А кто дал вам мой «адрес»?
– Я же называл Киреева, – лицо у господина в хороших ботинках сделалось некрасивым.
– Ладно. Я берусь… – парень поморщился.
– Вот и отлично. Половину вознаграждения получите вместе с оружием, – остался доволен господин.
– Срок какой, только скажите… – еще раз вздохнув, спросил небритый парень.
– Это тоже не играет роли. У меня все, – мужчина постоял секунды три-четыре, повернулся и пошел по направлению к улице. Его поджидала автомашина «Вольво».
– У-у, заказчик… – прошептал Юрий. Он тоже немного постоял посреди открытой лужайки, посмотрел на небо и поплелся выпить третий бокал.
На пиве дело не кончилось. Подошли вечерние завсегдатаи. У одного из них нашлась бутылка водки. Поскольку они знали Юрия, то налили и ему – с надеждой, что парень не поскупится. Парень действительно не поскупился и вскоре компания запила «горькую».
Их выгнали из бара перед закрытием. Мужчины поплелись кто куда, а Юрий не хотел идти домой, так как дома у него никого не было. Никогда никого не было. И дома-то не было, а так, снимаемая за доллары квартирка.
Юрий тер небритые щеки, не совсем ровной походкой направляясь в ближайший ресторан. Ему хотелось говорить, высказаться.
В ресторане он увидел много шикарно одетых людей, послушал грустную и веселую музыку, но ни грустно, ни весело ему не становилось. Не к кому было даже обратиться, чтобы поговорить. Тогда он купил в буфете ресторана литровую бутылку заморской водки и побрел к себе.
В комнате царил настоящий разгром. Множество книг религиозного содержания были свалены под столом, лежали на кровати, валялись в комнате. Юрий выполоскал стакан, поставил бутылку на журнальный столик возле кровати, а сам улегся, подмостив под голову несколько томов Бердяева.
Ему опять предстояло идти на дело. На работу. Как обыкновенный водитель садится за руль своего грузовика, так и ему, обыкновенному мастеру своего дела, следовало в ближайшем времени взять в руки свое орудие труда и сделать свою работу.
Где-то кто-то кому-то надоел, перешел дорогу, не поделили деньги, не дали заработать денег, может, отобрали деньги.
Ему придется отрегулировать эти отношения. Да, он отличный регулятор человеческих отношений, особенно когда эти отношения принимают форму не совсем законную или даже вообще незаконную.
За окном однокомнатной квартиры шумел ночной жизнью город, бутылка медленно пустела, а человек лежал на своей «лежанке» и не смыкал глаз. Лишь только когда бутылка опустела наполовину, глаза человека затуманились, стали бессмысленными, веки тяжело сомкнулись. Человек уснул.
Утро началось с той же бутылки. Хоть Юрий и не любил опохмеляться водкой. Это его быстро отрезвляло. Подобное случилось и на этот раз. Налить по второму разу он не смог: водка вызывала у него отвращение. Принял горячую ванну, потом слегка позавтракал и убрал комнату. Теперь пора было и за работу.
Он подошел к газетному киоску и скупил все газеты, которые печатались в этом городе. Теперь предстояло найти адрес банка, с управляющим которого ему предстояло познакомиться. Ему-то предстояло познакомиться, а вот управляющему с ним – нет.
К концу дня Юрий побывал возле банка, знал расписание работы банка и автомобиль, в котором ездил Лисенчук.
На другой день он уже знал, где живет управляющий, кто его охраняет и какие напитки финансист любит пить. Видел жену Лисенчука и ребенка – маленькую девочку, которая таскала огромный по сравнению с ее ростом футляр скрипки.
Однажды, когда он слишком увлекся слежкой, собака управляющего банком, огромный муаровый дог, подбежала к нему и обнюхала его.
Потом соседи будут рассказывать, что собака в квартире Лисенчука начала выть за неделю до трагического случая, и хозяин ходил по квартирам и извинялся, сам же в своей квартире бил пса ошейником со вставленными туда желтыми бриллиантами. Правда, этого ошейника никто не видел.
Через недели две Юрию позвонили в дверь квартиры и передали длиннющий сверток и маленький пакет.
Юрий швырнул маленький пакет к Бердяеву, а сверток с нетерпением развернул. Так и есть, отличный карабин немецкого производства с оптическим прицелом.
Следующий день был посвящен пристрелке оружия. Спуск у карабина был слегка жестковат, а оптика – отличной, бой – безупречен.
Еще через несколько дней, когда на улице, на которой было задумано «действо», во всю весеннюю мощь распустились свечи каштанов, а девушки разоделись в открытые платья, – Юрий пробрался на второй этаж ремонтируемого кафе. Он положил карабин на строительные козлы и стал ждать. В промежутке между домами, в котором спряталось кафе, временно образовалась небольшая автостоянка. Возле самой улицы и должен был остановиться белый «Мерседес», выйдя из которого, Лисенчук шел обедать в ресторан, который находился чуть дальше.
Возле самого ресторана парковка была запрещена.
Лисенчук мог поехать обедать и домой, поэтому Юрий на всякий случай прикрыл карабин прочитанной газетой, которую «привалил» кусками кирпича.
Юрий знал, когда следует произвести выстрел. После хорошей еды человек всегда менее осторожен. Поэтому он «выпустил» управляющего из своего автомобиля – пообедать.
Ровно через двадцать минут появился телохранитель, бегло осмотрелся и открыл дверь «Мерседеса». Еще через пять минут появился Лисенчук с каким-то человечком, который рассказывал что-то и смеялся. Смеялся и Лисенчук.
Юрий спокойно взял карабин, проверил, есть ли патрон в патроннике, поймал в прицел Лисенчука, и, когда тот на секунду остановился перед автомобилем, плавно и сильно нажал на спусковой крючок. Раздался негромкий хлопок. Юрий настолько был уверен в эффективности своего выстрела, что даже не стал смотреть, что произошло дальше.
Он положил карабин на строительные козлы, быстро прошел к лестнице, спустился на первый этаж и, закрытый со стороны улицы лестницей, которая тоже вела на второй этаж, но на открытую веранду, прошел к заднему двору. Здесь тоже никого не было. Его могли видеть из окон квартир близлежащего дома, но тут люди часто ходили, кто будет интересоваться случайным прохожим. Выйдя через улочку с разрушенными домами к «задам» громадного супермаркета, Юрий смешался с толпой, а потом среди прочих прохожих прошел по направлению к находившейся неподалеку церкви.
Было время обедни. Юрий перекрестился, поставил свечечку и послушал глухое бормотание священника.
Вот и он, Юрий, скоро посвятит себя Богу. Это единственный выход.
Потом он пил пиво в «своем» баре, дождался завсегдатаев, щедро проставлял им пиво, но на водку денег не дал; сказал, что нет.
В принципе, думал он, его могли «сдать». Поэтому ночевать в свою квартиру не пошел, а снял по газетному объявлению еще одну квартиру, не считаясь с деньгами. Потом он вообще не вернулся в ту, первую квартиру, хоть книг было жалко. Особенно Бердяева.
Юрий знал в городе трех-четырех человек, через которых мог получить вторую половину заработанных денег, но деньги ему не были нужны.
Снова он лежал на диванчике, снова, но теперь уже на табуретке стояла бутылка с водкой, снова глаза были устремлены в потолок.
Раньше, когда Юрий был помоложе, он не думал. Ни о чем не думал. Но с возрастом, по мере осмысления прожитого ему все чаще и чаще становилось не по себе, а иногда и просто жутко; он начинал бояться за свой рассудок.
Газеты раструбили и растрезвонили сообщение о невероятном убийстве финансового магната по всему свету. Боже! Сколько таких убийств заказывается, готовится и производится в нашем грешном мире.
И – ничего! Мир не рухнул.
Юрий твердо решил, что ради собственного успокоения и спасения он пойдет в монастырь. В обычной жизни ему делать нечего. Он будет вынужден заниматься тем, чему его научили, к чему его подготавливали и чем он занимался, зарабатывая деньги.
– Нет, деньги мне не нужны! – произнес Юрий и решил пойти в ресторан. Он надеялся на случайную встречу с интересными людьми. Но кто теперь может быть интересным в этой дурацкой погоне за «лишним» куском? Слышны только одни разговоры: «бабки», деньги, доллары, марочки!
Юрий принял ванну, тщательно побрился, оделся получше и с вечера занял место в одном из ресторанов.
Как назло, вечер был вялым. И людей почти не было, и настроения тоже. Поэтому Юрий пил. К нему за столик так никто и не подсел. Сначала Юрий выпил заказанных триста граммов водки. Потом заказал бутылку коньяка и часам к девяти опустошил ее.
– Еще водки, – бросил он подошедшей официантке и та принесла бутылку.
В голове у Юрия все смешалось. Ему хотелось выскочить на подиум, на котором время от времени уныло извивалась в сольном танце какая-то купленная артисточка, и закричать, что это он убил Лисенчука. Он уже был готов это сделать, но только не смог подняться на ноги.
И тут к нему подсел тоже пьяный мужчина, растопыренными пятернями приглаживающий волосы, начал говорить что-то бессвязное, попробовал налить водки, но разлил ее.
– Пошел вон! – заорал на него Юрий, – говорю, пошел отсюда!
Мужчина обиженно удалился, а Юрий мрачно курил, и ему вдруг показалось, что во всем виноваты деньги. Тогда он вытащил из кармана доллары, много, сотни долларов, и зажав их в руке, поджег зажигалкой.
Он не хотел привлекать всеобщего внимания, наоборот, он прятал горящие стодолларовые купюры под стол, пока огонь не обжег его руку.
Подбежала официантка, обслуживающая его, и дюжий молодец-официант.
– Что вы здесь пожар устроили? Где что горит? – девушка минеральной водой из бутылки начала заливать догорающие бумажки – и глаза ее неожиданно расширились.
– Ох, господи! Это же надо! Допился… – И она не стесняясь начала собирать залитые водой серо-зеленые обгарки.
Юрий не обращал на это внимания, а официант с официанткой рассматривали купюры на свет, щупали бумагу, и убеждаясь, что доллары были неподдельными, сокрушенно и тяжело, очень тяжело вздыхали.
Качаясь из стороны в сторону, Юрий вышел из ресторанного зала, спустился по лестнице, придерживаясь за стены, и вышел на улицу, намереваясь как можно быстрее добраться до постели.
Невдомек было ему, что его уже «вычислили», то есть заметили, как он жег деньги, и теперь шли по пятам, словно шакалы.
Юрий не успел даже сесть в такси. Его «тюкнули» чем-то тупым по голове и уволокли в темноту, к забору.
Это не столько оглушило его, сколько отрезвило. Юрий отбросил нападавших мощным ударом, на него налетели снова, ударили ножом, но дилетантски, непрофессионально, просто порезали. Он изловчился и поймал руку с «финкой», выкрутил эту руку. Послышался ужасающий хруст. Нападавший жалобно закричал. Потом рухнул, потеряв сознание. Юрий докрутил руку, поднявшую на него оружие так, что она превратилась в болтающуюся плеть. Второго из нападавших Юрий сбил с ног ударом кулака, начал топтать его ногами, пытаясь раздробить череп. Потом он вдруг вспомнил, что когда его волокли к забору, то уже шарили по карманам, пытаясь достать портмоне. И начал бить каблуком по голове поверженного противника, рассыпая по его телу стодолларовые купюры.
– Вы этого хотели? Нате, берите, у меня их много…
Был еще и третий, но тот сбежал…
Громко кричали женщины у троллейбусной остановки, звали милицию, а Юрий с окровавленными руками вышел на дорогу и начал ловить такси.
Ему удалось это только, когда он спрятал руки и стал к улице боком. Водителю, который остановился, Юрий сразу бросил сто долларов.
– Домой!
– Куда домой?
Юрий с трудом назвал адрес.
Весь следующий день и вся неделя были посвящены ране в животе. Не обошлось без помощи товарищей. Те привели врача; побеспокоились и о второй половине гонорара.
– Юра, так дальше продолжаться не может. Ты теряешь профессионализм, – сказал его давний знакомый и товарищ. – Можешь потерять доверие, а, следовательно, и работу…
– Ну вас к черту, с вашей работой, – огрызнулся Юрий.
– Примем к сведению, – спокойно ответил товарищ. – Направлять к тебе больше пока не будем. Войдешь в норму – сообщи.
Рана немного погноилась, но потом затянулась, срослась. Юрий впервые почувствовал все тяготы одиночества, когда ему приходилось скрипя зубами ходить в магазин за продуктами. Он все больше утверждался в мысли, что уйдет в монастырь.
Как все было замечательно, когда он работал в «органах»! Там о нем заботились, там его тренировали, кормили, проверяли давление и реакцию.
Почему же он вышел на гражданку? Если верить ребятам, их просто разогнали. Изменились условия, политический строй, и они сделались никому не нужны.
Да их просто бросили на произвол судьбы! Не позаботились даже о приличном выходном пособии.
К черту все! Он уйдет в монастырь.
Не прошло и месяца, как его снова завербовали. Видит Бог, он не хотел этого. Просто однажды решил проверить себя и пробежать трусцой с десяток километров. И вот его трасса пересеклась с трассой одного из товарищей по прежней службе.
– Ты, я вижу, уже в форме? – спросил приятель.
– Да какое там… – отмахнулся Юрий.
– У меня кое-что наклевывается. Только без денег… Ребятам из России надо помочь. Слышал что-нибудь о вагоне желтой ртути?
– Я слышал кое-что о красной ртути, а вот о желтой – нет…
– Погранцы тормознули, а местная знать этот вагон и прикарманила. Ребята там засветились, нужны люди со стороны. Понимаешь, надо. Одному несподручно, а так, вдвоем, спокойно, без суеты. Ну, что?
Юрию не приходилось выбирать. Вечером того же дня они уехали на запад в приграничный город, «загнали» свой автомобиль в лесопосадку недалеко от дачи, на которой жил необходимый им человек, и утром выехали, надеясь перехватить жертву.
Неожиданно их машину остановил милиционер. Это был не простой гаишник, из любопытства остановивший иномарку, а постовой, который проверял все подозрительные автомобили неподалеку от дачи крупной городской шишки.
Документы у них были поддельные, выписанные на чужие имена. Постовой не заметил, как их машина свернула в дачный поселок.
Они подъехали к двухэтажной вилле, выстроенной под сказочный терем, когда крупный статный человек с «дипломатом» в руке, направлялся к «бьюику» металлического цвета.
Юрий выскочил из автомобиля и из пистолета выстрелил три раза.
Из виллы выскочила женщина, которая истошно завизжала и бросилась к упавшему статному человеку.
Постовой мог слышать выстрелы, но, скорее всего, он не обратил на это никакого внимания, и даже улыбнулся, вновь увидав автомобиль и людей, у которых он уже проверял документы.
Они без остановки ехали в свой город. На следующий день опять газетная шумиха, самые невероятные предположения и версии, а через неделю все стихло.
Юрий немного успокоился, перестал пить. Мысленно он был уже в монастыре. Ему не хватало единственного толчка, чтобы пойти на вокзал, купить билет и уехать в тихую местность, далекую от страшных, едва ли не ежедневных разборок.
Но опять к нему заявились люди и за крупную сумму предложили убрать депутата. Причем необходимо было вырвать у этого депутата одну тайну.
Действовать пришлось вчетвером. По желанию заказчика брать клиента требовалось демонстративно, при большом стечении народа. Это было политическое дело, и даже несколько робингудовское, поскольку депутат был вором, точнее, крупным вором, а милиция взять его не могла. Местная мафия не могла добиться от депутата своего процента, поскольку депутат считал, что и от мафии у него депутатская неприкосновенность.
Четверка переоделась в омоновскую спецодежду. Натянули на лица черные чехлы с прорезями, подкатили к вечернему ресторану, в котором депутат ужинал с иностранными гостями. Их он привез из-за границы, где полгода прятался. Ворвались в ресторанный зал, выпустили по стенам по рожку патронов и уволокли депутата с собой.
Депутат хорохорился, но, увидев орудие пытки, «раскололся», признался руководителю четверки. Правда, это не спасло ему жизнь. Остался лежать в лесу со скрученными за спиной руками и простреленной головой.
Юрий понял, что конца этому не будет.
Уехал в другой город, но и там ему не давали покоя. Люди определенного сорта знали его. Нет, они не относились к нему плохо, даже спрашивали, не нуждается ли он в чем-нибудь. Он ведь был специалист.
Это и оказалось последним толчком, направившим его в монастырь.
Настоятель монастыря, необычно толстый бородатый старик, побеседовал с ним, не обещал легкой жизни, но сказал, что в душу ему лезть не будет никто.
Первые дни в монастыре было легко. Потом обнаружилось, что серая будничная жизнь не по Юрию. Такая жизнь заставляла концентрироваться на самом себе, переживать снова и снова все то, что было у него когда-то.
Юрий терпел, стонал ночами, загружал себя работой, но ничего не помогало. Он знал, что ему всей душой надо обратиться к Богу, а ему это никак не удавалось. Всякий раз, когда он молился, механически совершал обряды, читал духовные книги, то чувствовал, что перед ним вырастает незримая стена, которая не пускает его к чему-то большому и светлому. Неужели он был служителем зла, слугой сатаны?
Юрий беседовал со старыми монахами, пытаясь в разговорах найти спасительный путь, метод верования, который принес бы ему облегчение. Но ничто не помогало ему.
– Покайся в своих прегрешениях, – говорили ему, – покайся в содеянном зле, и станет легче.
Юрий до конца не понимал, в чем надо каяться. Ведь он делал то дело, которое необходимо было делать. Если бы он не делал этого, все равно такую работу сделали бы другие. Он был специалистом и поэтому не мог допустить и мысли, чтобы неспециалисты занялись этим.
Юрий понимал природу. В ней все было гармонично, и больных, агрессивных и взбесившихся тварей она уничтожала сама – посредством хищников, болезней, голода… Может, он тоже был карающим мечом божьим?
В нем шла тяжелая внутренняя борьба между раскаянием и оправданием. Он чувствовал, что если раскается, то ему не будет тогда ни оправдания, ни прощения.
Ему становилось все хуже и хуже, нервы сдавали. Он уже начинал сожалеть, что попал сюда. С другой стороны, понимал, что в миру ему делать нечего, там он будет вынужден вернуться к прежнему занятию.
Равнодушие и апатия овладели Юрием. Он принял решение, что со временем все сгладится, позабудется. Только не надо было давать волю своим чувствам. Иначе он непременно превратится в обыкновенного невротика. Ему следовало выждать время. Сколько придется ждать: год, два, десять лет? Он считал дни, месяцы. Обнаружил, что тупеет от подобной жизни, но выхода нет. Его никто не ждет там, на воле, а здесь он по собственному желанию пытается спрятаться от самого себя.
Дням в монастыре потерян счет. Они мелькают монотонной и безрадостной чередой, перемежаясь редкими ночами, когда у Юрия появляется спиртное – водка или самогон.
Как ни странно, поначалу в такие ночи становится хуже. Алкоголь всегда активизировал его мозг, и, словно по мановению волшебной палочки, в памяти возникали те картины, которые снова и снова приводили его в ужас. Но Юрий знал: следует пить еще, накачаться до такого состояния, чтобы уже ничего не видеть, не слышать, вообще ничего не чувствовать, а главное – не вспоминать.
Алкоголь действовал как отличный транквилизатор. Но Юрию в монастыре как послушнику на первом году было трудно, если вообще возможно поддерживать регулярную связь с внешним миром, с людьми из дремавшего свой пятый ли шестой век местечка. Ночные вылазки за спиртным оказались опасными. Однажды Юрий напоролся на группу хулиганов, которые решили поиздеваться над монахом, забредшим среди ночи в частный сектор.
Юрий бил их короткими и несильными ударами, стараясь целиться под глаз, чтобы вспухали багровые фонари, после чего юнцам придется отсиживаться по квартирам. Ему же на следующий день пришлось держать ответ за изодранную в клочья одежду.
Иногда со стороны Слонима, где размещался военный городок, на Жировичи «налетал» военный вертолет. Звук вертолетных лопастей невыносим, отвратителен. Юрий едва сдерживался, чтобы не броситься бежать, ужас переполнял все его существо. За тысячи километров от синих гор Афганистана, где в каждой расщелине скал ему мерещились душманы, за тысячи километров от тех мест, где пресечена его собственной рукой не одна сотня жизней, на мирных равнинах Белоруссии, за стенами древнего Жировичского монастыря ему становилось невыносимо страшно, когда он слышал гул пролетающего вертолета. Каждой клеточкой своего существа Юрий боялся затаившегося совсем близко моджахеда со «стингером».
Всякий раз, когда его окликали по фамилии, он вздрагивал и глаза его безумно метались, словно в поисках спасения, и он ждал. Ждал, когда за ним придут. Нет, не с тем, чтобы наказать его, отомстить, убить, в конце концов.
Он боялся, что за ним придут и позовут на очередное задание. Ведь его работа – убивать. Он – профессиональный убийца.
Однажды, когда Юрий набрал в колодце ведро воды, случайно глянул на воду, и увидел на ее поверхности серое, словно оберточная бумага, лицо с черными и будто бы замшелыми, как у лежалого трупа, дырками глазниц. Сетка вен на коже собственного лица была так отвратительна, словно это оказалась кровеносная система зародыша в яйце. Юрий выплюхнул воду в лоток стока, зачерпнул другое ведро, но – на него глядело все то же мертвенное лицо Юрия Язубца. Лицо профессионального убийцы.
Раньше он гордился определением «профессиональный». Теперь это не спасало, не давало ему прощения, не умиротворяло. Теперь он не ждал от жизни пощады.
Он был просто убийцей. Жертвы уже при его жизни мстили ему. И он не понимал, что с ним случилось, куда подевалось хладнокровие, спокойствие и выдержка. Ночью приходили кошмары. Нет, из щелей его комнаты не струилась кровь, ему не мерещились распотрошенные тела. Едва он засыпал, как ему чудилось, что в комнату входил молодой пуштун, который окликал его возгласом: «Шурави?!» Очнувшись, Зубец некоторое время видел перед собой лицо афганца, его обнаженные в улыбке коралловые десны. Юрий отмахивался от видения, как от назойливой мухи, поворачивался к стене. Но из стены, словно вмурованные в стекло, глядели на него многочисленные его жертвы: афганцы, пакистанцы, азербайджанцы, литовцы, хорваты, боснийские мусульмане, и, наконец, многочисленные русские.
Неужели больше всего он убил русских?
Раньше он не задумывался о национальности жертвы. Но когда Литва объявила свою независимость и их «бросили» усмирять литовцев, Юрий почувствовал разницу в том, кого приходилось убивать.
Он чувствовал к литовцам какое-то родство, они ему нравились. Из памяти всплывали картины детства, когда ему приходилось в поездах встречаться с представителями иных племен. К цыганам, евреям Юрий был равнодушен. Их сразу видно, особенно цыган. Тогда надо быть настороже. А вот литовцы ничем не отличались. Или он не мог отличить их от славян, по крайней мере, от белорусов. Разве что врожденная независимость да нарочитый, как ему казалось, акцент, выделяли их.
Когда литовцы толпой пошли на телецентр, Юрий в качестве инструктора сидел в танке. Водитель нервно жал на тормоза, а Юрий кричал ему:
– Чего ты медлишь, задница? Сейчас шваркнут бензином и мы сгорим! Дави их! Дави!..
Потом с литовкой у него вышло приключение, и даже серьезная связь, едва не закончившаяся для него смертью.
В Боснии, ночью, он вышел на передовую. Перед ним стоял двухэтажный особняк, в котором находился снайпер. Днем снайпер «бил» по сербам. Подходы были заминированы. Юрий медленно приближался к дому, ощупывая и обходя каждую обнаруженную мину.
Неожиданно он зацепился за растяжку и уже ожидал неминуемого взрыва, аж вспотел, но вместо этого зазвенели нацепленные на растяжку бутылки, и сразу же вспыхнула сигнальная ракета. Юрий не успел упасть. Из дома послышался звук приглушенного насадкой выстрела. Юрий схватился за грудь и наконец-то упал. Имитировал смерть. Назад бежать нельзя – мины. Впереди – тоже.
И снова все в ослепительном сиянии ракеты. И снова слышится хлопок приглушенного выстрела. Иго добивали! Пуля чиркнула по затылку, ушла под бронежилет. Юрия спасло от верной смерти то, что на маскировочную сетку, в которую он укутался выходя на задание, понацеплял травы. Теперь он почти слился с местностью. Снайпер ошибся. На сантиметра три.
Воцарились темнота и тишина. Потом он услышал: кто-то пробирается к нему по минному полю со стороны двухэтажного дома. Снайпера доконало любопытство: кого же он подстрелил?
Юрий подготовился к нападению и стал ждать. Снайпер копошился со своими минами. Вот он подобрался к нему. Упал на колени и перевернул, казалось бы, безжизненное тело на спину. Юрий внезапно навалился на снайпера, захватил его голову в «замок» и… ему в нос и глаза лезут душистые волосы. Кто это? Женщина?! Невероятно!..
Юрий держал женщину-снайпера в «замке», его раздирали противоречивые чувства. Противник не оказывал серьезного физического сопротивления. Правда, женщина успела вытащить нож и попробовала «кольнуть» Юрия в бок. Но он малый не промах. Крепко стиснул шею женщине. Руки у нее беспомощно повисли.
Стон, хрипы, сдавленный крик…
– Я тебе, сука, счас покричу! – бормотал Юрий, лихорадочно связывая добычу.
Он шел по минному заграждению словно первобытный человек, с ношей на спине. Уже возле своих неожиданно хлопнула сигнальная мина, от которой загорелась одежда. Юрий бросил «добычу» в ров, потушил одежду, переждал обстрел и поволокся к сербам. Надо было перевязать рану.
Война в Боснии отличалась от всех войн, на которых Юрий успел побывать. Днем шли переговоры. Все договаривались не стрелять, давали немыслимые гарантии. Ночью – опять пальба, артналеты.
А на следующий день опять заверения, клятвы в мирных намерениях… У сербов много тяжелой техники. Мусульмане предпочитают партизанские методы ведения боев.
Рана оказалась пустяковой. Как наемник, который получал каждый день свою плату, Юрий хотел получить вознаграждение за снайпера. Оно оказалось пустяковым. Дело в том, что деньги, которые можно было получить от противной стороны за возвращение пленника, делились на всех. Поэтому никто не хотел рисковать. Мало того, Юрий боялся, что сербы могут обменять женщину-снайпера на кого-нибудь из своих.
Той же ночью наемник перепрятал свою добычу в подвал разрушенного дома. Подвал прочно запирался, кроме того, пленница была сильно помята в схватке и связана.
Когда следующей ночью он принес ей поесть и развязал, она вдруг заговорила с ним по-русски.
– Ты кто? Эстонка, латышка?
– Литовка…
– Биатлонистка?
– Да-а…
Акцент у нее был – точно прибалтийский.
– И чего же тебя сюда угораздило? Из-за денег?
– Да-а… – Это протяжное «да-а» живо напомнило Юрию разваленный Союз. Ведь жили раньше, не дрались, в одной армии служили. Все в прошлом. Теперь каждый сидит в своей конуре, а в горячих точках воюют за чужие деньги друг против друга.
– А если б я тебе свернул шею?
– А если бы я прострелила тебе че-ереп?
– Что мне с тобой делать?
– Не зна-аю, – пожала плечами девушка.
– Понимаешь, – Юрий развязал снайперу руки, – я ведь не русский, белорус. Может, мне тебя отпустить на все четыре стороны?
– Можешь и отпустить, сербы меня все равно убьют… – печальные нотки послышались в ее голосе.
– А зачем тебе деньги?
– Жить-то надо, а в Летуве, как говорят у вас, все схвачено.
Девушка орудовала вилкой в консервной банке.
Если бы она хоть драться начала, противиться своему положению, а то сидит и жрет. Отпусти такую, она вернется на позицию и снова будет стрелять в людей.
– А вы что, славян за людей не считаете?
– Это моральная проблема… Дело не в нации, а в деньгах, в валюте, – отвечала литовка.
– А если я буду платить тебе больше, ты будешь стрелять в мусульман? – спросил Юрий.
– Если бы я сразу заключила контракт, тогда конечно, но сейчас – нет.
Он отпустил ее. Взял клятву, что она сразу же уедет домой. Она поблагодарила Юрия, назвала свой литовский адрес и ушла.
Потом он побывал в Литве по этому адресу. Еле унес ноги.
Жертвы! У каждой из них было тело и душа. Задача Юрия состояла в том, чтобы повредить «бесповоротно» тело. К душе он не имел никакого отношения. Может, из-за этого он так мучается? Особенно сильно донимали случаи, когда смерть наступала в пылу атаки, а жертва не была вооруженным противником, который так же, как и Юрий, жаждет чужой смерти. Юрий смотрит в окно. Снова глядят на него глаза еще одной жертвы. Глаза той девчушки, которую его «Калашников» перерубил надвое.
Ему несколько раз намекали перейти на другую работу, потом даже грозились не допустить к очередному заданию, поскольку он не совсем корректно беседовал с психологами, однако приходило время, и его вызывали. Да в принципе, в разговорах с начальством, на очередные задания он напрашивался сам, внутренне убеждая себя, что дело будет последним, что после вот этого задания он уже никогда не попадет ни в синие горы Афгана, ни в Югославию и забудет все, как случайный кошмар.
Интересно, почему события в Югославии его мучают меньше? Может потому, что после Боснии его пичкали разной дрянью с его же согласия, пытаясь сохранить как первоклассного специалиста, и более свежие события в самом деле стерты из памяти психотропными средствами? Но ведь и после этих уколов Юрий еще более изощренно убеждал себя, что в один прекрасный миг все разрешится благополучно. Может, надеялся, что его просто прикончат, напорется на пулю или подорвется на мине-ловушке?! Но он всякий раз выигрывал, он уже был непревзойденным специалистом, «профи».
Алексей во всем виноват. Он смог вовремя, по собственной воле остановиться, уйти вначале из спецгруппы, потом вообще все бросить, придумать себе болезнь позвоночника, стать нормальным человеком, хотя каким нормальным человеком может быть такой профессионал, как Алексей.
Но Алексей был сильным и умным. Кроме этого, с Юрием их кое-что различало. Алексей был русским, из Подмосковья, и главное, у него была девушка, которой он рассказал все как есть, кто он на самом деле, и та его поняла, смогла понять, и уж, наверное, простить, потому что они собирались пожениться.
Юрий Язубец не был русским. Русским – в понимании россиянином. Юрий родился здесь, в Беларуси, был белорусом, но вырванный из нутра южной Беларуси, где как нигде сильны патриархальные устои, и вброшенный в жерло чудовищной мясорубки современного мира, не смог даже додуматься до того, чтобы любимой девушке рассказать обо всем том, чем он занимался как профессионал. В этом-то и была разница, по его мнению, между россиянином и белорусом.
Да, он благодарен Алексею за то, что тот научил его всему тому, что знал и умел делать сам.
Не счесть заданий, когда они были вместе. Уже на третьем, а может быть, на пятом Язубец понял, что единственное, в чем он легко может превзойти учителя, была жестокость. А ведь было десятое, а может и сотое задание! К жестокости прибавилось умение идти на риск, а потом и невероятная, почти легендарная везучесть. Алексей тоже был страшно везучим. И ему удавалось выходить почти сухим из немыслимых передряг, но кроме всего ему удавалось вытащить из всех этих кошмаров и его, Юрия Язубца, своего все еще недостаточно опытного напарника.
Алексей. Этому парню Язубец обязан жизнью, это благодаря ему он лежит в этой келье и смотрит в растресканную штукатурку потолка. Рука тянется под кровать и шарит там, но бутылка пуста, и еще не скоро он сможет вырваться за монастырскую стону, чтобы достать «пойло». Пока Юрий так и не смог поверить в Бога, но он надеялся на это, он знал, что только в этом его спасение. Пока же время медленно убивало его. И он глушил спиртным память.
Юрий поднялся с кровати. Облил ледяной водой голову. Не помогло. Муторно было. Надо держаться. Это приступ слабости и ничего больше. От спертого воздуха. Сдают нервы. Ничего, он еще повоюет. Но теперь его противник – он сам. Самый страшный и коварный враг – его память.
Юрий знал, что Алексей находится в Подмосковье, собирался стать по модному поветрию фермером. Ведь он решил забыть, вычеркнуть из прежней жизни все и начать жить сначала. Алексей и ему поможет, сможет научить, расскажет, как вырваться. Вот поэтому в конце отпуска после недавнего задания Юрий попытался его найти. Он не понимал, насколько это будет сложно. Но на карту была поставлена его собственная жизнь.
Алексей. На собственных плечах, с поврежденным позвоночником, если верить ему, вынес его к вертолету. Он тащил по горам, спускаясь в лощины и взгромождаясь на скалы, истекающего кровью товарища.
– Держись, братуха! – шептал Алексей. И он ему верил. Терял сознание и вновь приходил в себя, чувствуя, как в рот ему Алексей вливает немного воды. Слепящий снег, скалы, неуютное солнце. Юрию казалось, что он уже распрощался с жизнью, что он уже на том свете, что его уже нет. А существует только проколотая, простреленная и обмороженная оболочка.
– Не ной, нас услышат, – шептал Алексей, – прошу тебя, молчи.
– Алексей, вдвоем нам не выкарабкаться, дай мне гранату, – едва шевелил губами Юрий.
– Сейчас дам по башке, придурок. Мы уже почти вышли. С вертушки нас заметят, – уговаривал его Алексей.
Тогда они сели прямо на секретный склад оружия. Но из пещер полезла охрана. Слишком много охраны. Из группы погибли все, кроме него и Алексея. Им удалось уйти от преследователей, не израсходовав последнюю гранату. Но она предназначалась им двоим, поскольку попадаться «духам» живьем они не намеревались. Насмотрелись на тела товарищей, которых отбивали у противника.
Если бы он знал, что произошло с Алексеем, то не стал бы его разыскивать. И кто знает, может с ним жизнь сведет счеты точно таким же образом?
Юрий посмотрел в запотевшее окно. Сырая белорусская зима. Снега почти нет, грачи так и не улетели на юг. Эти страшные черные птицы. Они хуже стервятников. Целой стаей они сидели на неподвижном теле человека на заброшенной ферме…
Кому все это рассказать? И впервые за последнее время Юрий подумал о дневниках. Рывком вытащил «дипломат» из-под кровати, раскрыл его, набрав код на замке. Вот они – шесть тетрадок, каждая в добротном кожаном переплете с металлической застежкой. Пять тетрадок усеяны мелкими и никому не понятными закорючками – его собственное шифрованное письмо. Шестая тетрадка – чистая. Именно в ней он должен записать все, что произошло после последнего задания, когда ему стало невмоготу, и он бросился на поиски Алексея. Он мог бы ничего и не писать, достаточно было найти подходящего собеседника. Товарища, друга. Но в монастыре Юрия окружали угрюмые, поглощенные своими воспоминаниями люди. Неразговорчивые и потрепанные жизнью. Деревенские полуинтеллигенты, спившиеся до босячества, пара художников, у которых «поехала крыша», бывший партийный работник, который неожиданно поверил в Бога, бросил семью, процветающую на партийных деньгах фирму и ушел из мира сюда успокоиться, умиротвориться. Мог ли Юрий найти среди этих сломленных жизнью людей того, кто мог бы ему помочь?
Нет. Ему надо заполнить шестую тетрадку запутанными до неузнаваемости стенографическими закорючками. Бумаге поведает он свою печаль.
Отправившись на поиски Алексея, Юрий понимал, что друг, старший товарищ, учитель, наконец, непременно поможет ему.
Попасть из суверенной Беларуси в Москву – не проблема. Достаточно купить в Минске билет на поезд. Правда, на вокзале к Юрию присоединился человек, хромой валютчик, когда-то хорошо знавший Алексея, и заверивший, что наверняка укажет Язубцу то место, где живет их бывший знакомый.
В поезде на купейном столике сразу возникла бутылка «Белой Руси». Парень оказался словоохотливым, может, даже излишне. Юрий быстро нашел с ним общий язык.
– Смотрю, рожа знакомая, – кисло улыбаясь, говорил Юрий. Он надеялся, что случайный попутчик отвлечет его от тягостных воспоминаний. Фамилия бывшего сослуживца была Максимов. Неизвестно, да и не важно, кто он был по национальности, но он стал горячо доказывать необходимость суверенитета для Беларуси, важность сохранения белорусского языка и культуры. Однако из разговора был виден собственный интерес Максимова. Он по-крупному играл на разнице между российскими и белорусскими рублями. Слушая «трындежь» валютчика, Юрий смотрел в окно, где плыли уже убранные поля, мелькали разноцветными пятнами осенние леса.
– Ты знаешь, – говорил Максимов, – я ведь в курсе, – валютчик явно намекал на большую осведомленность, чем мог предположить Язубец.
– Так вот, мне кажется, – Максимов потряс пустой бутылкой над стаканом, – Алексей никогда не сможет привыкнуть. Он никогда не забудет…
Юрий смотрел на бутылку, потом выразительно взглянул на Максимова и процедил сквозь зубы:
– А ты уже все позабыл, приятель?! Язубец знал, что если не осадить попутчика, тот испортит вечер с нудными приставаниями. Сделать это было просто – Максимов в первое же задание непростительно глупо напоролся на «итальянку». Мина отбила ему обе пятки, сделала его калекой, но этим сохранила ему душу. Максимов так и не увидел, как убивают, не убивал сам, ему просто нечего забывать, он просто в плену своего физического изъяна.
Максимов намек понял, обиделся, и на этом разговор окончился. Поскольку глазеть в окно было бессмысленным занятием, (там была сплошная чернота, изредка пересекаемая, словно трассерами, огнями электричества), Юрий взметнул тело на верхнюю полку и уткнулся в подушку, пытаясь уснуть, чтобы хоть как-то наверстать все те часы, которые недоспал в последней экспедиции. Перестук вагонных колес больше не нарушал его покоя. Сосед тоже.
Максимов зашелестел газетами, принялся читать. А Язубец вновь увидал изможденное лицо Алексея, застывшие лопасти вертолета, услыхал разрывы выстрелов и – пульсирующими точками летели над ними трассирующие пули.
Чтобы избавиться от этого кошмара, Язубец открыл глаза. В окне проползала какая-то станция. Бегали возле вагонов люди, вдалеке раскрывалась панорама громадного промышленного предприятия, освещенного электрическими огнями.
– Откуда вы знаете Алексея? – вновь спросил сосед, увидав, что Язубец не спит.
– Мы с ним вместе служили, – пришлось признаться Юрию.
– Как так? – удивился Максимов. – Ведь и я с ним служил. Вы что, срочную были с ним?
Язубец не ответил, а вновь уткнулся в подушку. Если начнешь отвечать на вопросы, придется лгать больше и больше. Лучше молчать.
Действительно, получалось так, что Алексей попадал в отборочные группы как призывник. Уже там он отбирал тех, кто был ему нужен. Потом он пропадал, возвращался назад уже спортивным инструктором, и так никто и не узнал, каким образом он работает. Мало того, во время учебы Алексей умудрялся ходить на задания. Уж сколько наград имел Алексей, знал разве что он один, Язубец. Странно, что Алексея ни разу серьезно не ранили, хотя его трижды брали в плен и трижды он умудрялся бежать. Алексей – это уникальный специалист. Лучшего диверсанта Юрий не знал, и, возможно, не узнает. Так зачем же он к нему едет? Что он хочет от него услышать?
Язубец после необычайно тяжелого последнего задания в Югославии, где пришлось работать со славянами, надеялся, что Алексей научит его, если можно только научить взрослого мужчину, как ему изменить жизнь. Возможно, Юрию просто хотелось увидеть его спокойные, широко поставленные глаза, услышать уверенный, немного хрипловатый голос, посмотреть на то, как живет человек, бросивший Службу, бросивший то, ради чего он родился. Язубец чувствовал, что он не скажет ему ничего сногсшибательного, ведь Алексей не умел говорить. Юрию просто хотелось увидеть его, почувствовать себя на какое-то мгновение защищенным, забыть обо всем, что он пережил за последние месяцы. Ему не хотелось возвращаться в Беларусь, где уже никого не было из родных, да и вообще не хотелось никого ни видеть, ни слышать, кроме Алексея. И поэтому, когда в последних днях отпуска Юрию пришла в голову эта мысль, он бросился на поиски своего командира, майора в отставке Алексея Иванова.
Может ему сразу повезло, что он повстречал Максимова. Но когда поезд ранним утром приехал в Москву и они бросились в метро, чтобы успеть на другой вокзал к электричке и оказалось, что электричка будет только через 40 минут, и когда Максимов с какой-то тоской в глазах купил у торгующих старушек бутылку водки, Язубец понял, что у него будут проблемы. Пить он отказался, а Максимов нашел себе собутыльника и через полчаса был уже навеселе. В электричке он достал новую бутылку и горячие сосиски в булочках, до отвращения напоминавшие человеческие пальцы. Юрию пришлось выпить. Неудобно было просто есть. Потом Максимов мирно уснул, что заставляло Юрия беспокоиться – не прозевать бы необходимую остановку. Но Максимов проснулся в тот самый момент, когда была объявлена нужная станция.
Дальше следовало ехать на автобусе. На остановке их ждала толпа, в которой пошатывались двое-трое нетрезвых. Бродячие псы глодали во рву голую кость.
– Так у Алексея есть семья? – спросил Юрий у хмуро молчавшего Максимова.
– Не знаю, – ответил Максимов. – Как будто была жена, но у них возникли сложности.
– Почему? – насторожился Юрий. Максимов хмыкнул, очевидно, торжествуя, что расспрашивают именно его, не совсем удачливого ученика такого исключительного специалиста, каким был Алексей.
– Не знаю, – повторил он, – что-то у них не ладилось. А Иванов разве что-нибудь любил рассказывать?
– Странно, что Иванов мог вообще жениться, – произнес Юрий, полагая, что Максимов разговорится. Но тут подошел автобус, толпа ринулась штурмовать его, и попутчики еле втиснулись.
На одном из поворотов на проезжую часть дороги неожиданно выскочила собака, шофер крутанул руль, послышался глухой удар. Автобус остановился, несколько любопытных пассажиров вышли посмотреть, что случилось.
– Готова! – громко сказал один из них. – Поехали.
Не желая представлять, что же случилось с собакой, Юрий крепко стиснул челюсти. Только этого не хватало. Сразу же выступил пот на лбу, засосало под ложечкой. Мертвая собака показалась Юрию дурным предзнаменованием.
А автобус все гудел и гудел…
Проезжали через обыкновенные подмосковные деревни, въезжали в лимонно-желтые березовые рощи – в природе царила осень.
– У них есть дети? – спросил Юрий.
– Вроде бы, да, – послышался ответ.
Опять молчание, рассматривание живописных окрестностей.
– Ты ее знал? – не отставал Юрий.
– Да, несколько раз видел. А что? – Максимов явно был доволен.
– Ничего, – буркнул Юрий.
В лиственных лесах стали попадаться ярко-оранжевые клены. Там, в Беларуси, особенно на юге клен встречается чаще.
Уже взошло солнце и атласно поблескивало на крыльях грачей, важно ходивших по зяби. Незаметно для себя Юрий уснул, прикорнув к автобусному окну.
Ему снились сны…
Он видел себя и Алексея, с тяжелыми рюкзаками на узенькой горной тропе, слышал его голос, хрипловатый и уверенный.
– Стрелять будешь только тогда, когда абсолютно уверен, что попадешь.
– Почему?
Если промахнешься ты, то будешь мертвым, – Алексей криво улыбается. Эта улыбка редко сходит с его лица. Даже в минуту смертельной опасности.
Юрий видит его крепкий затылок и пятнистый рюкзак, медленно покачивающийся в такт шагам. Вообще Алексей не любил разговаривать. Он любил молчать и – пить пиво. Юрий представил Алексея в пивном баре за батареей пивных кружек. Он брал по шесть, по восемь кружек, мог сидеть молча до самого закрытия. Однажды Юрий не понял, почему ого товарищ убил человека. Произошло это в Кабуле. Они сидели тогда в засаде. Засада была устроена в одном из многочисленных магазинчиков, в которые поминутно заходят и выходят покупатели. Они сидели в пристройке магазинчика вместе с представителями соответствующих органов Афганистана. Продавец должен был дать знак, а в лучшем случае заманить душманского разведчика в пристройку. Их послали контролировать действия афганских «кагэбистов» из каких-то особых соображений начальства.
Они сидели третьи сутки безрезультатно. Юрий видел, как мается Алексей. Он не мог сидеть без дела.
Неожиданно продавец подал условленный сигнал. Афганские специалисты бросились к продавцу. Алексей последовал следом. Когда Юрий вскочил в переднюю часть магазинчика, то увидел поразившую его картину: один из афганских «кагэбистов» корчился на полу, сраженный ножом душмана, а возле него, тело на теле лежали двое душманов. Уже мертвых.
– Не удержался! – виновато разводил руками перед оторопевшим афганцем Алексей. Находившиеся в магазинчике покупатели мгновенно исчезли, кроме одного, который принялся кричать, размахивать руками. Можно было понять, что он гневается по поводу того, что делается в стране из-за присутствия в ней русских. Второй уцелевший «кагэбист» и продавец выскочили на улицу, и в этот момент Алексей схватил неиствующего афганца за горло и ударил его ножом в грудь. Тело жертвы он свалил в общую кучу.
– Надеюсь, ты не против, а?
В этом была загадка Алексея, и Юрий понимал, что чем сложнее загадка, тем более длительного объяснения она требует.
Максимов заерзал на сидении, завертел головой. Кажется, он узнавал местность. Его лицо приняло тоскливое выражение. Юрий подумал, что Максимов сейчас сам жалеет, что навязался в проводники. Но отступать Максимову было поздно.
– Кажется, мы приехали, – сказал он.
Они вышли. Юрий осмотрелся. Ничего особенного. Деревня. Только разве асфальт. Дома с большими верандами, крытые «железом», с фигурно украшенными водосточными трубами.
Максимов и привел к одному такому дому. Калитка отпиралась снаружи. Стекла окон поблескивали радугой. Юрий почувствовал, что волнуется, но неясное предчувствие беды омрачало предвкушение встречи с Алексеем. Даже сейчас он думал о нем.
Но что именно?
Они постучали в парадную дверь с крыльца. Без результата. Дверной замок висел на ручке, значит, дом был заперт изнутри.
– Может, вход со стороны двора? – предположил Юрий.
Максимов отрицательно покачал головой. Но они обошли дом кругом. Краем глаза Юрий заметил, как в окне мелькнула занавеска, и ему почудилось, что он увидел хорошенькое личико.
– У меня кружится голова, – пожаловался Максимов, – пива бы.
– Так это тот дом? – настойчиво уточнил Юрий.
– Тот, – кратко ответил Максимов, – участок у него в другом месте. Пойдем к соседям…
Калитка в соседнем доме оказалась запертой, но там был звонок. Юрию показалось, что если он нажмет на кнопку звонка, дом взлетит ко всем чертям. Но из дома вышла пожилая женщина с платком в руке. Очевидно, предстоял долгий разговор.
– Иванова дома нет, его уже давно нет, – ответила женщина, – Алексей или в Москве, или на ферме.
Ты знаешь, где ферма? – обратился Юрий к Максимову.
– Вы проедьте автобусом дальше, до Завьялова, а там спросите, – ответила вместо Максимова соседка.
– А кто в доме? – обратился к женщине Максимов. И он чувствовал что-то неладное.
Женщина повязала платок, украдкой приглядываясь к незнакомцам.
– Сестра там, – немного помолчав, ответила женщина, потом, еще раз взглянув на пришельцев, как бы оценивая их, добавила, – с ребеночком ихним.
– Чья сестра, Алексея? – почему-то грубо спросил Юрий.
– Нет, жены его.
– А жена где?
– В больнице, – вздохнув, ответила женщина, и вдруг ее лицо приняло страдальческое выражение, и очевидно сама того не желая, она сказала:
– В психиатрической она, сердобольная… Юрия всего передернуло. Начинается, подумал он. Он всегда боялся чего-то, он – профессиональный убийца, один из лучших диверсантов из всех спецгрупп доблестной армии, человек, которому поручают самые сложные задания, почти невыполнимые, всегда очень боялся, даже сам не понимая, чего.
Теперь он знал, что это было предчувствие. Жена лучшего друга, наставника сошла с ума.
– Что тут было! Она с ребеночком побежала вот… – женщина приготовилась рассказать все, но Юрий повернулся и ушел. Максимов слушал минут пять, что-то расспрашивал, потом догнал Юрия.
– В это Завьялово поедем? – спросил он, отдуваясь и пряча глаза. – Может, водки купим? – еще раз предложил Максимов. У Максимова было чутье, скорее нюх. Юрию теперь действительно хотелось напиться вдрызг. Ему уже не так сильно хотелось видеть Алексея.
Они пошли искать магазин, и прозевали автобус. Зато у них теперь были целых две бутылки водки.
Пили прямо на остановке. Солнце поднялось высоко, и установился тот редкий осенний день, когда в природе царит покой и умиротворение. До следующего автобуса было два часа. Максимов прикорнул на лавке и мгновенно уснул. Юрий вспомнил, что и Алексей мог так мгновенно засыпать. Но в отличие от Максимова он мгновенно просыпался и был готов к действию. Юрий всегда завидовал этому качеству. И, как ни удивительно, просыпаться Юрий научился, едва услышав подозрительный шорох или треск ветки. А вот быстро засыпать Юрий не мог. Алексей над этой привычкой смеялся. Он любил говорить:
– Из тебя хороший сторож, Юрген.
Юргеном Алексей начал звать Язубца после глупого спора о Великом княжестве Литовском, когда Юрий доказывал, что в принципе он не белорус, а литвин, и что нынешние литовцы, сами являясь жмудинами, перехватили у белорусов их историческое название.
Однажды Юрий проспал. Алексей, как он потом объяснял, услышал едва различимый шорох и успел выстрелить первым. Два моджахеда-разведчика были сражены наповал, а Юрий целый день не мог смотреть напарнику в глаза. Он думал, что Алексей никогда больше не возьмет его на задание. Алексей криво посмеивался.
– Я сделаю из тебя человека!
Юрий не знал, стал ли он настоящим человеком, но то, что он стал незаменимым диверсантом – это точно.
Почему Алексей ушел?
Почему он все бросил? Ведь ему предлагали хорошую работу. Он мог быть учителем, мог готовить незаменимых специалистов в своем деле, но вдруг, никому ничего не объясняя, он все бросил и исчез.
Скорее всего, именно это Юрия и волновало, именно поэтому он хотел его увидеть, услышать объяснение столь непонятного поведения.
Мысли Юрия снова и снова возвращались к Алексею. Что за странная сестра у жены Алексея? Где на самом деле он сейчас? В Москве они его вряд ли найдут.
Юрий разбудил Максимова, и он как-то по-военному быстро вскочил:
– Что случилось?
– Ничего.
– А зачем ты меня разбудил?
– Ты слишком громко храпел.
– Тебе это мешает?
– Нет, просто надоело. Убедившись, что ничего не случилось, Максимов снова захрапел.
Уже было пора появиться автобусу, но как Юрий не напрягал слух, гул мотора не доносился.
Юрий попытался представить, что было бы, если б вдруг не стало никаких моторов, как во времена Ивана Грозного. И Юрий принялся рассуждать, каким бы военным специалистом был бы он во времена Великого княжества Литовского. Тогда, наверное, все были диверсантами и головорезами.
К остановке начали стекаться люди. И странно было, они собирались на другом конце остановки, словно знали, что за специалисты Язубец и Максимов. Хотя какой специалист из Максимова. Юрий обратил внимание на девушек, не только на тех, кто был на остановке. Странное дело, здесь, в Подмосковье, тип лица женщин был похожим на славянский где-нибудь в Барановичах или Столбцах. В Москве женщины с мелкими лицами, а вот здесь женщины статные и пригожие.
Из-за поворота показался автобус.
– Вставай, Максимов, ты на бандита похож.
– Почему? – спросонок буркнул Максимов.
– Люди боятся.
– Почему?
– Громко храпишь.
– Да ну тебя к черту!
На этом их разговор окончился и, войдя в полупустой автобус, они продолжили путь.
Максимов всю дорогу в основном молчал.
Об Алексее они почти не говорили…
Стаи ворон, галок и грачей перелетали дорогу. Юрия пугали эти черные мерзкие птицы. Когда они выкармливают птенцов, питаются червяками. Но стоит этим птицам увидеть мертвечину, они не отстанут от нее. Никогда.
Юрий вспомнил, как вороны кружили над ним, когда он лежал в расщелине скалы раненый, а Алексей ушел искать пропитание. Гранату он забрал с собой, боялся, что товарищ мог избавить себя от мучений. Юрий запомнил этих птиц. Это были вороны и серые вороны. Они были совсем рядом, они прыгали вокруг него, расстояние с каждой минутой сокращалось. Юрий боялся забыться, потерять сознание. Алексей подоспел вовремя.
Приступ тошноты сдавил горло. Жена Алексея в сумасшедшем доме! Она не вынесла того напряжения, в котором пребывали и Алексей, и он, Юрий.
К счастью, у него была водка. Не глядя ни на кого, Юрий отвинтил алюминиевую пробку и сделал обжигающий гортань глоток. Максимов удивленно вытаращил глаза. Юрий протянул и ему.
Вскорости показалось селение. На дорожном щите была надпись – «Завьялово».
Они вышли из автобуса и занялись расспросами. Им указали путь. Идти было неблизко.
Вначале они шли по обыкновенной проселочной дороге в сторону Корнаково, а возле леса им следовало повернуть направо. Когда они повернули направо, прошли с километр, услыхали галочий галдеж, покрякивание воронов.
Максимов остановился.
– Что такое? – спросил Юрий.
– В горле пересохло.
Они сделали еще по глотку. Водка подействовала; краски осеннего леса слева радовали глаза. Все отчетливей слышались птичьи крики. Когда подошли совсем близко и увидели сквозь деревья какое-то строение, Юрий неожиданно для самого себя сказал:
– Стой здесь.
– Зачем? – заперечил Максимов.
И тогда Юрий рявкнул: напарник буквально окаменел, испугавшись его голоса.
– Я пойду туда один.
– Ну что ж, иди, – согласился Максимов. Глаза у него были немного осоловелые, он не совсем понимал, что происходит.
Юрию показалось, что он снова на задании. Он почувствовал, что Алексей неподалеку. И чувство его не обмануло. Медленно продираясь сквозь ежевичные заросли, Юрий подходил все ближе и ближе. Это был недостроенный дом. Всюду аккуратно были разложены стройматериалы. Только Алексею была присуща такая аккуратность. И дом он строил, наверное, один. Он вообще все любил делать своими руками. Особенно снаряжение.
Юрий специально не пошел по дорожке. Это была выработанная годами профессиональная привычка.
Пока Юрий никого не заметил. Не видел он и того, что Максимов не выдержал и пошел прямо по дороге к недостроенному дому.
Вороны галдели за домом, при каждом шаге человека вскакивая на ветки, потом поднимались все выше и выше, чтобы обезопасить себя.
Что они там делали за домом, эти вороны?
– А где же люди? – воскликнул Максимов, стоя посреди двора.
Юрий молчал.
– Но должен же здесь быть хоть один человек!
– Должен!
– Почему тогда никого нет?
– Они обедают, – пошутил Юрий, с омерзением поглядывая на птиц.
– Меня тошнит от этих птиц! – закричал Максимов.
– У тебя просто нет привычки.
– Мне никогда не приходилось видеть столько воронья вместе.
– Тебе повезло.
– А почему ты так равнодушно все воспринимаешь?
– Привык.
– Хорошие у тебя привычки!
– А что поделаешь?
– Разогнать бы их к черту, на них невозможно смотреть без содрогания! Что они там жрут за стеной?!
– Ты слишком впечатлительный, – бросил Юрий.
Он вспомнил, что когда-то, много лет назад, то же самое ему сказал Алексей, когда Юрия рвало при виде раздавленной ребристыми колесами бронетранспортера девочки-афганки лет двенадцати.
Алексей был жестоким человеком.
Нет, он не был жестоким человеком. Он был настоящим солдатом, а солдат не должен бояться крови.
И действительно, Юрий вскоре привык к подобным картинам. Истерзанные тела, оторванные руки, отрубленные головы – все это он начал воспринимать спокойно.
– Будь проще и ничего не бойся, не отворачивай взгляда! – учил Алексей.
И через полгода Юрий уже спокойно смотрел на человеческую кровь. У него даже пропал рвотный рефлекс, пропал, казалось, навсегда.
Алексей был мудрым. Только почему он все бросил? Почему исчез? Юрий упорно искал ответ на этот вопрос. Юрий хотел сделать то же, что сделал и он. Но у него не хватало сил и он надеялся, что увидев своего учителя, сможет отказаться от прошлого, вычеркнуть из жизни все то, что было с ним, все то, что пришлось увидеть за последние годы.
В монастыре жизнь течет своим размеренным чередом. Сейчас позовут на ужин. Алюминиевая миска овсяной каши без масла, сладковатый чай. Если не придешь ужинать, то придут справиться о здоровье.
Два часа ужасных воспоминаний провел Юрий, сидя на кровати с пустой тетрадкой в руках. После поездки в Подмосковье он очутился здесь, надеясь найти успокоение. Но эту поездку следует записать в шестую пустую тетрадку. Тогда у него будет описание жизни за последние годы. А может, это вовсе и не жизнь?
Если бы у него была водка! Нет, он не смог бы напиться.
– Черт! Сколько мне здесь лежать? Я могу сойти с ума.
Юрию кажется, что он орет изо всех сил. Но с губ слетает едва слышный шепот.
– Почему меня не убили? К черту всех! К черту меня самого!
Юрий опускается на пол прямо у кровати. Стоит на коленях, лбом упершись в холодный пол. Ему очень плохо. Он не в силах вырваться из воспоминаний.
– Алексей, помоги, – шепчут его губы.
Он охватывает голову руками. Никогда Алексей уже не сможет помочь!
– Алексей, почему ты мне ничего не сказал? Почему не научил? Ведь я – хороший ученик. Может быть, самый лучший.
В коридоре слышатся шаги, но затем утихают.
– Когда же за мной придут? Неужели все забыли о том, что я – капитан Юрий Язубец и еще существую на этом свете. Неужели я нужен только тогда, когда требуются убийцы?
Юрий на четвереньках подползает к окну, встает и смотрит сквозь слегка запотевшие стекла в мрачную и глухую черноту монастырского двора. Нет, ему нужны люди, веселье, смех.
Он знает тридцать способов, как умерщвить самого себя. Придут, посмотрят на труп. Мнения разделится, когда будут решать, из-за чего человек свел счеты с жизнью. Но ему-то будет все равно. В этой клетке останется одно только тело, а душа, если она есть, исчезнет.
Юрий прислонился лбом к холодному стеклу и подумал, что уже не знает, хочет он жить или нет, что он уже не знает, что такое жизнь. Неужели его существование – бесконечная цепь убийств?
Тогда в Подмосковье, возле недостроенного Алексеем дома они с Максимовым стояли и переругивались, не понимая, где хозяин.
– Он точно в Москве! – доказывал Максимов, не единожды приложившись к бутылке.
– А ты знаешь, где он в Москве? На лице у Максимова неуверенность.
– Так ты знал его жену?
– Два раза видел.
– Кто она?
– Да так…
– Почему она сошла с ума?
Вместо ответа Максимов хватает щепку и бросает ее в ворон. Какие наглые птицы, совершенно не боятся человека.
– Послушай, ты с Алексеем воевал? – вдруг напрямик задал вопрос Максимов.
– Да, – недовольно ответил Юрий.
– Я понимаю, что воевал, но как долго/ Юрий оставил вопрос без ответа.
– И много убили?
Юрий подскочил к Максимову, схватил за отвороты куртки. Ополовиненная бутылка упала…
– Если ты еще что-нибудь скажешь или спросишь, я тебя убью!
– Извини, извини, – испуганно и заикаясь произнес Максимов.
– Послушай, если тебе интересно, что чувствует человек, который много убил, испытай это сам. Все равно ты мне не поверишь, если я расскажу.
Юрий поднял бутылку и выпил остатки. А потом произошло ужасное. Они с Максимовым, не сговариваясь, начали обходить дом, словно у них одновременно созрело решение проверить неясное подозрение, прокравшееся в душу – что же привлекло птиц туда.
Алексея он не узнал. Вороны сидели на верхушках деревьев, на крыше дома, а когда они вплотную подошли к висящему возле самой стены трупу, несколько птиц слетело с него.
Глаз не было. Язык удавленника сочился черной кровью, расклеванный пернатыми. Да это уже была не кровь, это была черная слизь.
Но это оказался Алексей, вернее, то, что от него осталось. Максимова стошнило.
Странно, почему Алексей не воспользовался огнестрельным оружием? Почему он ушел из жизни не как солдат? Надо всем этим Юрий долго думал, стоя возле трупа бывшего друга, но так и не пришел к однозначному ответу.
– Мне надо в Москву, – хриплые слова Максимова вывели Язубца из оцепенения.
– Можешь отваливать хоть к чертовой матери!
– Но тут ведь… милиция. А нас видели вдвоем…
– Проваливай! – неожиданно заорал Юрий, но Максимов ушел во двор, сел на бревно и беззвучно заплакал. Зачем ему плакать? Какой в этом смысл?
Тело Алексея в морге ему не выдали.
– Только ближайшим родственникам, а вы вообще гражданин другой страны. Вы иностранец, как вы не понимаете?
Юрий с Максимовым сгрузили гроб, отпустили машину и Максимов уехал за сестрой жены Алексея.
Так в чем была разгадка Алексея? Юрий мучился этим вопросом. Он понимал, что пытается решить сложную задачу. Он не был настолько силен в психологии. Разгадка была именно в ней. В запутанности характера Алексея. Там крылись корни того, почему с такой легкостью его товарищ, друг убивал людей. Если Юрий сможет разгадать эту загадку, то значительно проще будет совладать с собой.
Всякое убийство, к которому причастен он сам либо Алексей, это не дешевый детективный аттракцион, но реальные события и реальные трупы. Их слишком много, чтобы об этом забыть. Есть множество преступлений, о которых не говорит закон, или которые находятся на грани закона. Может, в этом и есть разгадка?
Максимов и молодая женщина появились через два Часа. Максимов ушел искать машину, а Юрий остался наедине с женщиной. Ей было лет двадцать пять, может, немного больше. Юрий поинтересовался, с кем она оставила ребенка.
– Какая разница? – ответила женщина, не глядя на спрашивавшего.
«Тоже добрая цаца», – подумал Юрий. Женщина была статной, но не очень высокого роста. Одета в кожаное пальто явно с чужого плеча и спортивные ярко-зеленые брюки. Голова не покрыта. Прическа неопределенной формы. Волосы как волосы. Причесалась – и все, чего мудрить. И какая разница, с кем ребенок?! Единственное, что выделяло женщину, так это черные брови; она была скорее блондинка, чем шатенка.
– Меня зовут Юрием, – представился Юрий, – я товарищ Алексея.
Женщина помолчала с минуту, бросила как милостыню:
– Оля.
Хоронили Алексея в Завьялово. Откуда ни возьмись собралась толпа народа. Все молчали. Похоронили уж очень быстро. Закопали – и все. Юрий сказал пару ничего не значащих слов над гробом, Максимов смахнул набежавшую слезу, а Оля заплакала по-настоящему, и лицо ее сделалось страшно некрасивым.
Когда все вышли за ограду кладбища, то не расходились, поглядывая на Юрия и Максимова.
– Черти, – беззлобно сказала Оля, – им бы все пить… У вас есть деньги на ящик водки? Я потом отдам, дома…
Максимов на машине, которая только что везла гроб, укатил к магазину за водкой.
Покуда ждали Максимова, часть людей разошлась. Остались человек восемь. Покойника помянули без закуски.
На машине доехали к дому Ольги. Женщина предложила зайти в комнаты.
– Я, пожалуй, поеду, – отказался Максимов, – и так задержался. Весь бизнес к чертям…
Юрий распрощался с Максимовым, взяв его минский адрес, и пошел за Олей.
– Только, чур, уговор, ни слова об Алексее. Эти разговоры у меня вот где сидят! – постучала рукой в грудь.
Юрий понял, что только то, что он увидит в доме, может хоть как-то помочь в разгадке и смерти Алексея, и внутреннего мира самого Алексея. Юрий должен превратиться в профессионального сыщика, по былинке определить обстоятельства гибели друга.
В доме чувствовался достаток. Однако ни одной вещи, которая напоминала бы об Алексее, Юрий не увидел. Это неприятно поразило. Человек здесь жил несколько лет, а о его пребывании здесь не осталось ни следа.
Оля сходила за ребенком к соседке. Ребенок Алексея оказался двухлетней девочкой, интересной и миленькой, как все дети в таком возрасте.
Оля накрыла на стол, Юрий откупорил бутылку водки, которая осталась от поминок на кладбище.
Юрий выпил, почувствовал сильный голод. Ел медленно. Хозяйка дома тоже выпила, и не стесняясь гостя ужинала с ним.
– Вы извините, что вот в таких обстоятельствах…
– Ничего. Все помрем. У нас такая смертность: на каждого человека всего один смертный случай, – сказала Оля, наливая Алексею. – Выпейте и поспите. Последний автобус в одиннадцать. Можете вообще переночевать. Куда в Москву, на ночь глядя?!
Женщина провела Юрия в зал, положила к боковому валику на диване подушку.
– Отдохните… – сказала она, но сама села на табурет возле теплой печки. На полу, на ковре, возилась с игрушками девочка.
– Как там, в Белоруссии?
– Проблем хватает, тоже власть все делят…
– Наш Боря все поделил, а жить так хуже и хуже…
– А кем вы работаете? – неожиданно для самого себя спросил Юрий. Оля внимательно посмотрела на него. Их взгляды встретились.
– По образованию я технолог, в фирме работала, пока вот ребенок… – Оля глазами показала на девочку.
Она держала руки за спиной, спиной прислонившись к печке. Была осень, но печку топили, поскольку в доме был ребенок. Оля была в кофте сиреневого цвета, пушистой, объемной. Юрию захотелось обнять именно эту кофту, человека в такой кофте. Пришлось закрыть глаза и расслабиться.
Юрий проснулся от собственного крика. Оля стояла рядом и держала за плечо.
– Что, я кричал? – всполошился Юрий.
Оля ничего не ответила. Печальная улыбка блуждала по ее лицу.
– Эх, мужики, мужики. Попортили вы себя этой войной… Война в тебе, Юра, кричала!
Юрий глянул на часы. Вскочил.
На кухне он увидел по-новому накрытый стол, а вместо почти выпитой бутылки стояла непочатая.
Юрий быстро повязал галстук. Есть ему не хотелось. Но он сел за стол. Оля тоже села. Она была какая-то обмякшая. Если раньше ее ноги были тесно прижаты одна к одной, даже закручены одна за другую, то теперь были расслабленными, а руки тяжелым грузом лежали на коленях.
– Может ты… вы сегодня не уедете? – Она помолчала. – Страшно так…
– Ну, если страшно, то будем пить водку, – бодро сказал Юрий.
Ночью она к нему пришла.
Они занимались любовью, а в перерывах она рассказывала об Алексее.
Когда Юрий держал всю ее нагую в сильных своих руках, он думал только о смерти. Жизнь и смерть соседствовали. Плакал ребенок, и Оля уходила к нему, а потом возвращалась. И снова мужчина любил женщину и чувствовал страх, волнение догадки, радость узнавания.
Утром она просила его остаться, остаться навсегда, но он печально улыбался и молчал.
– Ты не такой, как Алексей! – говорила Оля. – Ты совершенно другой…
Юрий почувствовал, что эти слова неприятно поразили его. В конце концов, он столько сил приложил, чтобы походить на своего учителя. Он уже стал таким профессионалом, как и Алексей.
– Он верил, что его простит Бог. Он уже обращался к Богу… Я тебе покажу его книги… Там только о Боге, о религии. Он хотел уйти в монастырь, но вот не успел…
Юрий обнял женщину, прижал к себе. Много слов нужно было сказать, ласковых, нежных, чтобы утешить женщину. Эти слова можно говорить всю жизнь, и женщина будет с благодарным вниманием слушать мужчину до скончания века. Такова жизнь. Ибо весь закон в одной фразе заключается: «Люби ближнего своего, как самого себя».
Юрий убивал «ближнего своего», а значит, поступал так, как хотел поступить с самим собой. Вот в чем разгадка!
Оля не спасет его. Она отравит себе жизнь чужими мучениями.
– Ольга, прости меня. Если хочешь, я останусь. Но беда в том, что я точно такой, а может, еще и хуже, чем Алексей. Я отравленный жизнью человек…
– Я не верю, что ты такой, как Алексей… Миленький, дорогой, я тебя спасу, я помогу тебе… Ведь если семь раз согрешить на дню, и сказать «каюсь», то простится ведь, так, Юра?!
Юрий знал, что он предпримет. Он перехитрит Алексея. Он не пойдет дорогой своего учителя. Женщина ему не поможет. Надо напрямую обращаться к Богу.
Оля не удерживала его. Она плакала, пока не проснулся ребенок и не потребовал к себе внимания. Жизнь продолжалась.
На прощание они обнялись и долго стояли, чувствуя, что за короткий промежуток времени успели сблизиться, породниться.
– Если что – приезжай, я тебя буду ждать…
Юрий ушел, зная, что никогда сюда не придет. Он чувствовал, что его тянет на самоубийство. Впервые боялся смерти.
Почему же Алексей это сделал? Неужели он был не в состоянии изменить свою жизнь?
Юрий потер заледенелый от холодного окна лоб, вернулся к кровати. Ему кажется, что он отнюдь не за монастырскими стенами в Жировичах, а в каком-то кишлаке, и они вместе с Алексеем ждут, когда прилетит «вертушка». И вот она прилетела, а мотор не заводится, а по ним начинают стрелять. Юрий молился тогда Богу, не зная, что предпринять. А Алексей отстреливался, матерясь и время от времени потрясая кулаком. Наконец, лопасти легко завертелись, вертолет оторвался от земли, взмыл в небо, а Алексей еще долго стрелял вниз, в черную пустоту.
Да, Алексей был везучим. Более везучим, чем Юрий. Его ни разу серьезно не ранило. Почему он ушел из жизни вот так? Юрий хотел знать ответ, потому что был уверен: его ждет нечто похожее. Верить в это не хотелось.
Там, в Завьялово, в лесу, в недостроенном доме, Юрий нашел множество книг религиозного содержания. Может, именно в них Алексей пытался найти спасение, но не успел?
Это была последняя подсказка командира. Дальше Юрию следовало жить самому.
И он жил вопреки своим мучениям.
Ему предстояло строка за строкой расшифровать свои боевые записи. Никто, кроме него, не мог этого сделать. И, возможно, никому, кроме него, то не было нужно. Переживая все это, он будет жить, он должен жить.
Тетрадь первая АФГАНИСТАН
И вот я снова в Афгане. Как смешно, что в последний раз клялся и божился, мол, никогда сюда не попаду, никаким калачом сюда не заманят. Тогда операция полностью провалилась. Не по моей вине. Душманы хватанули наших гражданских специалистов. Человек пятнадцать. Стали водить их по кишлакам. Население в них плюет, камни бросает. В каждом кишлаке одного забивают насмерть. Остальных ведут дальше. Разведка доложила местонахождение. Надо было вызволить оставшихся в живых. Когда нас высадили на местность, «духи» прежде чем умереть самим – прикончили всех. Мы убрались ни с чем. Состояние войск после этого было известно каким. Вот тогда-то и провели знаменитую операцию возмездия над теми кишлаками, через которые водили наших. Операцию проводили с воздуха, но «доводить» пришлось спецгруппе.
Из окон вертолета было видно, как взлетают желтой пылью глинобитные хижины в долине, как вырастают черные столбы дыма.
Едва прекратились огненные всплески, мы высадились и спустились по склону вниз.
Мы шли веером по кишлаку и палили по всему, что двигалось, шевелилось, дышало, стонало, визжало от страха на руках у матери.
Как я понимаю теперь, это было просто упражнение на полную бесчувственность. Чтобы начать нажимать на спусковой крючок «Калашникова», не надо иметь ни образования, ни воинского звания. Чтобы получить образование, надо прочесть хотя бы «Му-Му». А ведь и он едва сдерживал слезы, когда учительница надрывным голосом читала Тургенева. Воинское звание предопределяет понятие офицерской чести.
Какая честь, когда нужно было не оставить ни одного свидетеля!
Возмущавшихся в спецгруппе не нашлось, хотя мне тяжело было смотреть ребятам в глаза. Но приказ отменили. Посчитали целесообразным получить больше свидетелей. Для передачи информации.
Операция подняла дух наших людей. Душманы стали остерегаться допускать такие случаи.
Любая заграница всегда волнует меня. И на этот раз, когда громадный ИЛ-76 прорвался сквозь белую пелену облаков и начал снижаться, я увидел через иллюминатор огромную гору, залитую лучами яркого солнца, ее острые, изрезанные расщелинами бока. Ничего подобного нигде в мире нельзя увидеть. Самолет оказался в каменной чаше, кружась в ней, опускался все ниже и ниже. И вот уже остроконечные вершины вровень с самолетом. Сейчас мне не страшны эти горы.
– Я знаю, что в них можно надежно спрятаться. Жить в горах нельзя, но прятаться некоторое время, когда знаешь, что в расчетное время прилетит вертолет, можно.
Тогда, после ранения, их с Алексеем переодели в национальную афганскую форму и послали на очередное задание.
– Чем больше жертв среди мирного населения, тем лучше! – таков был приказ. Их высадили вблизи пещеры, в которой прятались жители пустого кишлака.
Можно было спуститься в пещеру и стрелять, стрелять, стрелять. Но Алексей был хитрее.
– Ты знаком со «стингером»?
Да, конечно, я был знаком с американским переносным ракетно-зенитным комплексом. Он состоял из ракеты и пускового контейнера. Предназначался для поражения визуально наблюдаемых воздушных целей. Ракетой можно было поражать вертолеты и самолеты на догонных и встречных курсах. Самонаводящаяся головка реагировала на сопло двигателя самолета или на тепло мотора вертолета. Но я многого и не знал.
– Топливо ракеты – смертельный яд, – сказал Алексей. – Даже после выстрела наводчику необходимо около минуты не дышать, иначе неизрасходованные пары топлива отравят его. Теперь соображаешь, что я придумал?
Что уж тут соображать, когда я увидел, что мой напарник привязывает к ракете гранату.
Мы перестреляли сторожей у входа в пещеру, одели противогазы и спустились вниз. Осветительная ракета выхватила из темноты скопище людей, испуганно жмущихся по углам пещеры. В пещере было много животных: коз, ишаков… Алексей выдернул чеку из привязанной к «стингеру» гранаты и, как метатель ядер, бросил ракету вниз. Мы кидаемся к выходу, залегаем за камни и начинаем сторожить тех, кто останется в живых. Вскоре после глухого взрыва из пещеры начинает валить желтоватый дым.
Никто не вышел наверх. Мы ждали до полудня, а потом спустились вниз, чтобы проверить результаты своей работы. Ничего подобного я нигде не видел. Люди лежали в самых разнообразных позах. Большинство из них были с разодранными собственными руками лицами. Это от удушья. Дети умирали спокойно, мгновенно. Как ни странно, газ почти не подействовал на ишаков, их пришлось достреливать.
Не знаю, может именно эти выстрелы привлекли внимание душманов. Мы едва не оказались в ловушке. Как только мы вышли из пещеры, по нам защелкали одиночные выстрелы. Мы залегли. Душманы двигались со стороны кишлака. Они, очевидно, знали о существовании пещеры. «Духи» разделились на три группы и начали обходить нас со всех сторон. Нам нужно было продержаться около двух часов до прилета наших.
Душманы вели беспрерывный огонь. Нельзя было высунуть из-за укрытия голову. Нас спасло то, что солнце находилось в такой точке неба, что ослепляло нападавших. Но вот группы разошлись, и теперь мы со всех сторон как на ладони.
– Пусть подходят, пусть! – кричит Алексей. – Когда прилетят вертолеты, мы скроемся в пещере, а с «вертушек» их накроют. Наши догадаются, что мы в пещере.
Мы начали делать вид, что пытаемся прорваться, чтобы раззадорить душманов. Я перескакивал за Алексеев камень, а он, в свою очередь, за мой. Во время прыжков мы вели как можно более точный огонь.
Неприятель понимал, что нас всего двое, поэтому против нас была применена тактика выжидания. Мы выстреливали один за одним свои патроны. Их было достаточно, чтобы сдерживать противника до появления вертолетов. Когда появились «вертушки», мы вбежали в пещеру и сразу же услышали грохот разрывов.
Мы выскакиваем из пещеры и карабкаемся вверх по склону. На верху горы есть некое подобие посадочной площадки. Сверху рокочет вертолет.
– Я прикрою тебя! – кричит Алексей.
Я забираюсь повыше и начинаю прикрывать огнем Алексея. Дела наши плохи. Душманы опомнились и теперь ведут прицельный огонь по нам и по спускающемуся вертолету. Штурмовые вертолеты, как назло, уходят.
– Вперед, выше пошел! – снова кричит Алексей, и я снова карабкаюсь по склону. Пули шлепаются в пыль, рикошетом летят мелкие осколки.
Из нашего вертолета, из открытой двери строчит пулемет. Он бьет по группе душманов, которая взобралась на соседнюю гору, и боевикам теперь негде укрыться. Стрелок хладнокровно расстреливает мечущихся душманов. Я цепляюсь ногтями за камни, карабкаюсь, задыхаюсь, ложусь на спину и посылаю длинные очереди в дымное облако, откуда по нам стреляют. Ничего не видно. Сейчас нет ничего важнее умения остаться в живых. Я двигаюсь быстро, но прохожу совсем немного, каких-нибудь метров пятьдесят. От подъема моя одежда изорвана в клочья. Смотрю на своего напарника. Он ухмыляется! Он сидит на высоком камне и спокойно выбирает себе цели. Короткая очередь, снова медленное, спокойное прицеливание. Ну его к черту, этого Алексея! Откуда у него столько хладнокровия? Почему он медлит и не стремится залезть повыше, там ведь безопаснее. Мои мышцы напрягаются из последних сил, кажется, сухожилия вот-вот лопнут от перенапряжения. Вот где понадобились результаты многочасовых тренировок! Именно сейчас можно быть благодарным тем, кто дал мне такую выучку. Наконец, мы взбираемся на гору. Вертолет едва касается колесами камней. Я вползаю в открытые двери, к вертолету подбегает Алексей. Лицо у него странное. Злоба, радость, отчаяние написано на нем. Двигатель начинает рокотать громче, сильнее, и машина взмывает в небо, но мы все вдруг катимся кубарем, рассекая руками воздух, бортстрелок поворачивает во все стороны пулемет. У стрелка несчастное лицо. Рокот мотора слышится как-то по-другому, мы идем к земле, мы спускаемся, вертолет рвет вниз с пугающей скоростью. Мы беспомощны в этой жестяной ловушке, ныряем вниз и ожидаем смерти, удара о камни. Ждем фонтана душманских пуль, взрывов гранат. Что случилось? Отказал мотор? Нас подбили? Сейчас мы врежемся в гору и расквасимся, как перезрелый гранат. Есть тысячи видов смерти, и мы представляем их себе каждый по-своему.
Мне вылезать из кабины последним, и к этому времени «духи» пристреляются по двери. Это верная смерть.
Алексей что-то орет. Вертолет падает вниз, мы прибыли. Хватаемся за что попало, чтобы смягчить удар, чтобы удержаться на месте. Летчик пытается стабилизировать падение, вертолет разворачивает в воздухе, лопасти все еще крутятся, но все медленнее и медленнее.
И вот, наконец, вертолет рухнул, подняв громадное облако пыли. Летчик – мастер свого дела. Все мы остались целы, оглушены рокотом двигателя, побиты, исцарапаны, но целы.
Алексей покидает вертолет первым. Выскакивают пилоты, стрелок. Каждому из нас достаточно секунды, чтобы соскочить на землю. Стрелок успел вынуть из станины пулемет. Сейчас он «поливает» склоны горы, по которой ползут душманы, свинцовым дождем. Редкие деревца на каменистой почве взрываются и распадаются на куски в клубах пыли и дыма. Вертолет дергается, будто его сотрясает икота, и оседает вниз, двигатель ревет и завывает, сбавляя обороты, и постепенно смолкает. Алексей бежит к камням. Оборачивается и смотрит на вертолет. Пилот вне укрытия тоже останавливается и тоже смотрит на вертолет. Это его конец. Ему нельзя было останавливаться и смотреть на свое поверженное в прах детище. Он вдруг вытягивает руки и громко кричит.
Нельзя разобрать, что он кричит. К нему перебежками, прячась за камни, приближается Алексей. Но поздно. Пилот садится как-то очень комично, выбрасывая вперед ноги, и тяжело падая на ягодицы. Он складывает руки как покойник и говорит подползшему Алексею:
– Я убит! Я убит, – вопит он. – Я убит!
Он откидывается навзничь, безжизненно ударяясь затылком о камни. Алексей смотрит на пилота. Пилот мертв. Ничто не воскресит его. Алексей озадачен, лоб его перерезает морщина. На теле летчика нет никаких следов смерти, нет страшных ран. Но он мертв.
К летчику подбегает стрелок. Пуля ударяет ему в шею, она идет снизу вверх и выходит через рот, разворачивая в куски правую сторону черепа. Это пуля со смещенным центром тяжести. В теле она движется как штопор в пробке, под конец своего движения вырывая из тела кусок взрезанной плоти. Куски черепа летят в сторону Алексея. Он отмахивается от них, потом трясет кистью, будто хочет сбросить прилипший клей. Потом Алексей хватает пулемет стрелка, катится вперед, вскакивает на ноги и бежит в каменное укрытие. Вскоре оттуда доносятся короткие очереди.
Второй пилот вопит:
– Стреляйте, стреляйте, стреляйте!
Мне не видно, куда стрелять. Отползаю за вертолет, пытаясь использовать его как прикрытие. Хочу понять, почему кричит второй пилот. Поднимаюсь во весь рост и вижу не менее двух десятков душманов, бегущих по открытому скату. Мой автомат начинает бить в плечо.
– Ложись! – кричу пилоту. – Ложись, черт бы тебя побрал!
Пилот мечется, роняет свой пистолет, руки его шарят по земле в поисках оружия, но уже поздно. С десяток пуль прошили его. Он орет:
– Я не хочу умирать, спасите! Я не хочу… Мы знаем, что сейчас с неба ударят вертолеты прикрытия. Но куда они подевались? Патронов становится все меньше. Пулемет Алексея умолкает. Душманы поднимаются в атаку. Теперь я лежа вижу их головы. На каждую голову по одному патрону. Затвор глухо лязгает. Выстрела нет. Передергиваю ручку затвора. Из патронника ничего не выскакивает. Отсоединяю магазин, он пуст. Алексей выстреливает еще пару патронов. Все.
И вот слышится рокот моторов. Вертолеты стреляют ракетами издалека, оранжевые вспышки ослепляют глаза. Скат заволакивает дымом, до меня долетают обломки разорванных камней.
С неба спускается вертолет. Упругие струи воздуха полощут шлейф дыма от покореженного падением сбитого вертолета.
– Алексей! – кричу я. Может, он ранен?
Перекатываюсь по земле к укрытию Алексея. Его там нет. Он неожиданно выныривает из желтого дыма, таща в руках по автомату. Зубы его блестят, он улыбается. Он – дьявол. Он – не человек!
Душманы залегли, отошли, ведут беспорядочный огонь. Пули шлепают по боковой стенке вертолета. Штурмовики заходят на вторую атаку. Оглушительные взрывы разносят на многие сотни метров щебень. Мы вскакиваем в вертолет, который беспрепятственно набирает высоту, но заходит в атаку, чтобы использовать боекомплект. Летчику отлично видно, куда стрелять.
Алексея нельзя удержать. Он все еще в бою, он еще не настрелялся. Мне хочется его ударить, он отвратителен, я его ненавижу в этот момент. Ему во что бы то ни стало необходимо израсходовать все патроны до единого. Ему кажется, что каждый патрон – это убитый душман. Он клокочет ненавистью. Я бы без содрогания задушил Алексея в такие минуты.
Вертолет набирает высоту, все выше и выше уходит в голубую высоту.
Мы еще не успели как следует отойти от операции, как нас вызвало командование и показало советские газеты.
Я не знаю, кто сфотографировал трупы женщин и детей в пещере, может, это сделали спецы из другой группы. На газетных снимках я видел именно то, что сотворили мы с Алексеем.
Текст к снимкам был еще более ужасен. «Вот что делают душманы с мирным гражданским населением, которое отказывается сотрудничать с бандформированиями. О преступных деяниях моджахедов знает весь мир».
Алексей сохранил на память ту газету. Зачем она ему?
Я рассматриваю горы в иллюминаторе. Прежде чем совершить посадку, наш ИЛ-76 еще долго будет кружить над долиной, теряя высоту. Долина огромная, сверху она кажется вполне мирной. Поля, кишлаки, змейки дорог. Когда-то здесь проходил великий шелковый путь. До XVIII столетия здесь обитали разрозненные племена. До сих пор жители этих мест так и не вышли из племенной разобщенности. Здесь нет цивилизации. Неужели цивилизация – это Запад? Или Советский Союз? Почему тогда они, Запад и Союз, Россия, враждуют? Ведь можно объединиться и безо всякого соперничества приступить к цивилизации полудиких народов.
Или прав Ленин, который доказывает, что во всем мире идет борьба за сферы влияния, за рынки сбыта. Тогда Советский Союз – обыкновенная империалистическая держава, которая мертвой хваткой цепляется за свой кусок в мировом пироге. Взять, к примеру, Вьетнам, Корею, Анголу, Кубу…
А, черт с ней, с политикой, не мое это дело.
Самолет все еще кружит, теперь долина расширилась, разрослась, на ленточках дорог видны медленно движущиеся автомашины. Я вздыхаю, потягиваюсь и жду, когда же, наконец, крылатая громадина заложит вираж и пойдет на посадку.
А в Ташкенте, откуда вылетели, солнечно и тепло. Это еще вроде бы Родина, Союз, но чувствуется близость страны, в которой идет кровавая война.
Из Кабула снова перелет. Опять на юг. Опять горы, опять их недоступные белоснежные вершины. Приземление. Я бы не удивился, если бы меня сразу повели на следующий самолет. Но меня повели в штаб батальона, который находился недалеко от аэродрома. Подразделение было спецназовское. В сборном бараке, в отгороженном углу меня встретил командир батальона в чине подполковника, а также полковник и генерал. Было видно сразу, эти люди из тех, кто не страдает многословием.
– Капитан, ты встречался с этими людьми? – спросил комбат, указывая глазами на старших по званию.
– Нет, товарищ подполковник.
– Со мной ты встречался, и с ними тоже должен был встречаться…
– Никак нет, товарищ подполковник, – ответил я. Это была правда, мне никогда не приходилось раньше встречать ни генерала, ни полковника.
– Ты много работал самостоятельно, капитан, – скорее подтвердил, чем спросил комбат.
– Так точно.
– У тебя прекрасная характеристика по работе в последней операции «Караван»…
– Я не вправе обсуждать эту операцию, товарищ подполковник, – ответил я уклончиво.
– Но разве вы не работали над уничтожением, скажем так – деклассированных элементов? – недоумевал комбат.
– Нет, товарищ подполковник, – стоял я на своем.
– Я вижу, капитан, вы готовы к любым испытаниям ради торжества справедливости? – неожиданно вмешался в разговор генерал. Он был подозрительно молодым, этот генерал. В войсках подобного рода звания за провернутые делишки иногда получают отнюдь не их исполнители. В частях спецназа, то есть частях специального назначения воздушно-десантных войск Министерства обороны СССР за красивые глазки очередные звания не дают. Особенно таким «неграм» как я.
– Товарищ генерал, я оказывал помощь афганским подразделениям царандоя и госбезопасности, но это все, что я могу вам доложить, – ответил я генералу, сделав пол-оборота в его сторону.
– Может, мы с вами пообедаем и поговорим за столом, – вдруг предложил генерал. – Я уверен, вам понравится моя, так сказать, кухня.
Мы прошли за перегородку, где стоял стол, накрытый на целое отделение. По крайней мере, там было столько водки.
– Как вы себя чувствуете после перелета? Нормально? Готовы к работе? – генерал становился учтивым до приторности.
– Да, нормально. Вполне здоров, – заверил его я.
Пока мне было понятно только одно: цель своего задания я услышу здесь, за этим столом, под крабы и водку. Генерал пошутил: «Капитан, не знаю, как вы относитесь к этим крабам, но если вы примете их за раков, то водка сойдет за виски».
Плосковатая шутка.
Обед подходил к концу, и мы приступили к тому, ради чего я здесь оказался.
– Капитан, вы слышали про полковника Бруцкого? – начал генерал.
У меня екнуло сердце.
– Да, я слышал эту фамилию, – ответил я. – Это офицер спецназа, плененный противником.
– Пожалуйста, поставьте пленку, пусть капитан послушает, – обратился генерал к своему полковнику.
Голос Бруцкого на пленке прослушивался слабо. Это был радиоперехват, сделанный во время сильных помех: «Я наблюдаю за пиявкой, которая насосалась крови и ползет по лезвию отточенного ножа… Это мой сон, это кошмар, который меня мучает. Пиявка толста, как чернильная авторучка, она раздулась, соскальзывает, снова ползет, сжимаясь в тугих кольцах. Почему она не лопается от соприкосновения с лезвием ножа? Почему ее не разорвет от выпитой крови? Она выживет…
Мне приказали пить кровь, приказали убивать их, сжигать, палить, деревню за деревней, армию за армией. А меня называют убийцей. Как же это называется, когда убийца обвиняет убийцу в убийстве? Это ложь, мы не можем быть милосердными к тем, кто лжет…
Воины ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан! Призываю вас…»
– Дальше известно что, выключай, – обратился к полковнику генерал. Полковник выключил Магнитофон. Я вопросительно посмотрел на генерала. Он не спеша продолжил рассказ:
– Бруцкий действительно был одним из выдающихся офицеров нашей армии. Блестящий стратег, замечательный во всех отношениях. Это был политически грамотный, к тому же, весьма человеколюбивый, с чувством юмора солдат. Но понимаете, эти перегрузки… Вьетнам, потом Ангола. После этого… его идеи, скорее методы, стали просто неразумными. Да, неразумными, – генерал помолчал, затем продолжил:
– Он сейчас южнее Логара, движется в Пакистан. Создал какую-то свою армию. Там ему поклоняются, его восхваляют, боготворят. Ему молятся, как Богу. Там выполняют все его приказы, какими бы нелепыми они ни были.
Я молча слушал. Генерал прервался, прошелся по маленькой комнате.
– И у меня есть что вам сказать. Неприятное, – продолжил он. – Полковника Бруцкого должны были арестовать за убийство.
– Я не совсем понимаю, кого он убил? – спросил я.
– Бруцкий приказал казнить нескольких офицеров из роты Министерства внутренних дел и безопасности ДРА. Он решил это сделать сам, собственными руками, – пояснил генерал. – Видите ли, в этой войне бывает такая неразбериха: идеалы, мораль, практическая военная необходимость – все это перемешивается, – пустился в долгие рассуждения генерал. – Но после всего, что тут видишь, понимаете, – тебя окружают не совсем цивилизованные люди, тут убийства, кровь – можно и солдату стать Богом. Многое возомнить. Дело в том, что в каждом человеке, душе его существует определенное противоречие между рациональным и иррациональным, между добром и злом. И добро совсем не всегда преобладает над злом. Иногда темная сторона души торжествует над тем, что Толстой назвал… – Здесь генерал умолк, подумав, что обращение к Толстому в данном случае будет не совсем уместным. Сделав передышку, он заговорил опять:
– Каждый человек в своей жизни переживает определенный кризис, есть переломные моменты у меня, у вас, у всех. Леонид Бруцкий дошел до своих. Очевидно, он сошел с ума.
– Да, товарищ генерал, да. Действительно рехнулся. Да, он явно сумасшедший, – высказал я свое мнение.
– Кроме всего прочего, товарищ Язубец, – заговорил до того молчавший полковник, который по возрасту был явно старше генерала, – кроме всего прочего, вы прекрасно понимаете, что в Афганистане наших войск постоянно находится около двухсот тысяч… Представьте себе, что через эту кровавую мясорубку уже прошло более миллиона человек, так как части постоянно обновляются. Что они занесут в Союз? И денег истрачено не менее семидесяти миллиардов рублей. Погибло наших ребят тысяч двадцать. Зачем прибавлять к этим двадцати тысячам еще около двух сотен?!
– Ваше задание заключается в том, – приступил к главному генерал, и тон его голоса стал резким и неприятным, – чтобы методом «предварительного вхождения в доверие» попытаться нейтрализовать полковника Бруцкого любыми средствами. Его командованию должен быть положен конец.
– Как вы понимаете, капитан, – вступил в разговор полковник, – это задание официально нигде не фиксируется. Оно не существует и никогда не будет упоминаться. Вам необходимо связаться с силами полковника Бруцкого, проникнуть в эти силы, разузнать все, что возможно, любыми средствами приблизиться к полковнику и положить конец его командованию.
– Положить конец… полковнику? – невозмутимо уточнил я.
– Да, – уже несколько раздраженно, однако твердо и однозначно сказал генерал. – Он там действует, не сдерживая себя ни в чем, попирая всевозможные человеческие нормы. Но он по-прежнему командует. Вы должны его уничтожить. Уничтожить со всей осторожностью, но без колебаний.
– Да, товарищ генерал, – ответил я.
– Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, – опять я услышал голос полковника. – Если мировая пресса пронюхает, что у нас тут завелся новый Власов, не сдобровать ни мне, ни товарищу генералу, ни вам… – в голосе полковника слышался явный металл. Я страшно не люблю таких методов. Не меня же им запугивать!
– Ну-ну, – шутливо помахал пальцем генерал полковнику, понимая тонкость ситуации.
И вот я отправляюсь в худшее на земле место, но тогда я этого не знал. Туда не надо ехать много недель по горным тропам, туда можно попасть за несколько часов лёту на «вертушке», свалиться с парашютом прямо им на голову, они поставят тебя к скале и долго будут мучить, выпытывая цель «визита».
Да, это было не случайно, что меня выбрали гробовщиком полковника Бруцкого. И вообще, мое возвращение в Афганистан не случайность.
Вскоре после разговора с начальством мне довелось выполнять своеобразное «промежуточное» задание, о котором я уже писал, начав этим первую тетрадку моего дневника. После резни, которую мы были вынуждены устроить в разбомбленном кишлаке якобы для сокрытия следов, я действительно не мог смотреть ребятам в глаза. И уже после того, как «вертушки» доставили нас обратно на базу, командир батальона снова вызвал меня, и теперь уже без генерала и полковника, которые улетели в Кабул, сказал, чтобы я выбрал из только что вернувшейся спецгруппы пару-другую ребят для сопровождения.
Теперь я понимаю, зачем был устроен этот бал-маскарад. Но это война. Я ведь вернулся сюда не случайно.
Мои мысли теперь неотступно кружились вокруг личности полковника Леонида Бруцкого. Похоже, мне становилось ясным, почему выбрали именно меня. Достаточно было знать, что фамилия полковника Бруцкий, а не Сидоров или Петров.
У нас на Полесье, в южной Беларуси много Бруцких. Наверное, рассказать историю полковника с такой фамилией, не рассказав мою, невозможно. Если его история, это исповедь, то моя история – тоже исповедь. Сколько людей я уже убил?.. Я не знаю точно. Знаю только, что тех четверых я убил. Да. Они стояли очень близко, достаточно близко, чтобы забрызгать меня своей кровью. Меня не мучит раскаяние. Я солдат. Но на этот раз мне поручено убить офицера советской армии, старшего по званию, земляка.
По идее, я не должен был ощущать никакой разницы. Но только по идее. Обвинить человека в убийстве здесь, в этих черных горах… Это такая глупость. Я взялся за это задание. А что мне оставалось?
Если бы полковник Бруцкий был полковником Ивановым, может, я вообще ничего сейчас бы не думал, но жертва была именно Бруцким, тем самым, с которым мне в свое время приходилось встречаться.
Это был мимолетный разговор, основанный на знании географии родных мест. Бруцкий тогда был еще в чине майора. Он сам пришел в отделение там, в Ферудахе, в учебке, и спросил Язубца, то есть меня. Узнав название моего городка, неизвестно для чего рассказал историю, которая произошла в нашей местности в сорок первом году. Суть этой истории заключалась в том, что местные жители, которые остались в оккупированной зоне, не имели особых причин воевать за советскую власть.
И вот откуда ни возьмись появился в тамошних местах один человек, советский политработник. (Я передаю рассказ полковника Бруцкого, стараясь сохранить стиль его умения передавать особенности настроения). Ходит по деревням, то да сё, «партизанку», мол, надо устраивать. К одному парню в доверие вошел, к другому подкатился. С третьим выпил, задушевность изобразил. И собирает их всех троих и предлагает устроить партизанскую засаду. И устроили. Трое парней лежали в камышах, а этот из-за дуба и ляснул немца на мотоцикле. Немцы приехали на машине, окружили деревню, вывели семерых и спросили: «Кто стрелять зольдат немецкий армия?»
Молчат крестьяне.
«Кто стрелять зольдат немецкий армия?»
Молчат крестьяне, а те парни знают кто «стрелять», но молчат. И убили германцы семерых полешуков, положили мертвыми на ярко-желтом песочке, и заголосили семь вдов, и заплакало множество деток-сирот. А политработник, знай себе, похаживает по деревне, вынюхивает настроения, скоро можно и партизанский отряд сколотить, зная мстительное настроение местного населения против германского кровожадного оккупанта.
И тут работничка позвали в хату. Вроде сабантуй у них там, пир, словом, сборище. И стол отличный накрыт, и к столу. И людей насобиралось молодых, способных и по-пластунски, и оружие войсковое поднять. И начал в открытую, фашизм, гитлеризм, смерть односельчан. Молодые люди кивают в знак одобрения его речам. И видит агитатор, что несут ему большой медный таз. Приносят и с улыбкой мостят между ног политработнику. Он недоумевает, не понимает ничего – Полесье ведь, чушь, дичь, болото. Может, думает, обряд какой. А в это время с другой стороны стола парень из тех троих сагитированных подходит, берет прямо со стола пиршественного нож, которым только что резали хлеб, и вдруг хватает политработника за волосы и сквизь-сквизь ножом этим по горлу, как барану, и к медному тазу наклонил, чтобы кровь стекала, пол свежевыдраенный не запачкала. Агитатор, конечно, сначала рванулся, но его схватили десятки рук, чтобы тот, с ножом, горло перепилил. Молодые от ужаса блюют под стол, один и в обморок свалился, а немолодые стоят и приговаривают:
– Вот так. Семерых ты положил, москаль проклятый, вот тебе расчет.
А кровь – сгустками плюх-плюх в медницу, то есть в медный тазик, в котором хозяйка варенье варила.
Таз этот выбросили, но потом один дед подобрал – под гвозди. «И для истории!» – добавлял всякий раз, когда кто-нибудь из односельчан узнавал посудину. А еще говорят, что белорусы тихие и мирные. В тихом болоте, как известно, черти водятся.
После этого рассказа я прошелся с майором Бруцким.
– Политработника закопали за селом, а после войны приехала женщина, попросила указать могилу. Раскопали, и узнала она своего мужа.
На том мы и расстались. Я не стал говорить, что слышал об этой истории, правда в несколько другом варианте. Не стал говорить также о том, что деревня та – Бруцки, и каждый второй в нем – Бруцкий.
Мне ничего не оставалось, как согласиться выполнять порученное мне задание. Неужели я смог бы мотивировать отказ подобными бреднями?
Но я действительно не знал, что буду делать, когда я увижу Бруцкого, когда найду его.
Припоминаю разговоры в отделении, когда я пришел после того, как проводил майора. Большинство недоумевало, зачем им рассказали такое. Один даже прямо заявил, что подобное непозволительно и обо всем следует рассказать особисту.
Тут уж пришлось поработать мне, чтобы хоть как-то сгладить нехорошее впечатление о земляке. Я говорил о психологической устойчивости, выработке хладнокровия и еще о чем-то, но рассказ Бруцкого прочно засел в голове.
В десантники я попал, когда мне было почти девятнадцать лет. Ничто до этого не указывало на то, что я стану воякой, профессиональным убийцей, просто солдатом, офицером.
На юге Беларуси, в Полесье, где я вырос в маленьком городке, военных не было. Один только раз помню, когда на поле нашли неразорвавшийся снаряд, откуда-то издалека приезжал бронетранспортер с открытым верхом. В него насыпали кучу песка и бережно уложили снаряд. Отец работал в военкомате, поэтому саперы пришли к нам пообедать. Солдатский паек отдали мне. На всю жизнь остался в памяти изумительный вкус солдатской галеты из сухого пайка.
Отец действительно ориентировал меня на военную службу. По крайней мере, регулярно занимался моим физическим воспитанием. Турник был моей стихией. Но больше всего от сверстников я отличался, конечно же, не силой и не здоровьем. Не зря меня сразу же втянули в комсомол, и я возглавил комсомольскую организацию школы. Нельзя сказать, чтобы мне это особенно нравилось, приходилось втягивать в комсомол других, не по каким-то идейным принципам, а силой своего авторитета.
Почему я такой вырос? В доме царила военная дисциплина власти и порядка. Существовали определенные правила. Одни из них – жесткие, другие – расплывчатые, меняющиеся. Были выработаны строгие нормы поведения, строгий распорядок. Некоторым нормам поведения я не могу найти объяснения. Мне не объясняли, почему этого делать нельзя. Просто говорили – этого делать нельзя. Я, конечно, нарушал правила, но сознание того, что есть правила и что я их нарушитель, еще больше узаконивало их. Мои родители так и не поняли, почему я бросил комсомол. Может, это был вызов? Уже тогда я понимал, что отсутствие красной корочки с шестью орденами будет мешать продвигаться в жизни. Но уже тогда я прекрасно понял, что твердость бицепса всегда более веский аргумент, чем общественное положение.
Отец настоял, чтобы я поступал в командное училище. Но при сдаче экзаменов я сбежал оттуда, поскольку поступавших три раза на день кормили манной кашей и синими яйцами.
Отец устроил меня в ДОСААФ, и до армии я практически научился многому: мотодело, водолазные курсы, радиомоделирование. Словом, когда попал в десантники, и после первого года службы мне захотелось уйти, подал документы на поступление в военное училище.
Но меня перехватили.
Наши спецгруппы возили по всему Советскому Союзу. Изучались теоретически и практически десятки дисциплин: топография, тактика, фотография, отпечатки пальцев, планирование операций, шифровальное дело, агентурная связь, разведывательная сеть, методы допроса, организация партизанских отрядов, психологическая война и т. д.
Основную подготовку я проходил в Ферудахе, в учебке частей спецназа воздушно-десантных войск. Но уже тогда наши практические занятия планировались так, что основное время мы проводили в горах.
…Мы бежим. Весь район – сплошные подъемы и спуски… Никто не бегает столько времени без перерыва. Я весь мокрый от пота, мои ботинки кажутся мне свинцовыми ботинками водолаза, часы на руке весят, наверное, не менее двух килограммов…
Мы бежим. Из горла вырывается храп. Я безуспешно пытаюсь снабдить свои истощенные легкие воздухом. Руки поднимать я уже не в состоянии. Мы бежим. Ноги как будто не мои. Все вокруг в тумане. То впереди нас, то позади раздается зычный знакомый голос, требующий не нарушать строй, не сбиваться с ноги, не отставать… Как это он успевает и кричать, и дышать? Мы бежим. В животе у меня спазмы. Я спотыкаюсь. В голове все перепуталось…Надо во что бы то ни стало дышать… дышать… Спина в мокрой гимнастерке впереди меня неожиданно останавливается, и я натыкаюсь на нее. Мне повезло. Бег закончился.
Ноги словно резиновые. До машины, которая ждет нас, добираюсь с трудом. На то, чтобы отдышаться, уходит пять минут. Кто-то говорит, что мы пробежали двенадцать километров. Двенадцать километров! Только сознание того, что если я сейчас обольюсь холодной водой из-под крана, то не смогу больше шевельнуться вообще, заставляет меня подняться с земли.
«Неплохая идея, – подумал я, – проводить такие физические тренировки до восхода солнца, пока еще сравнительно прохладно».
Мы возвращаемся на базу, и следующие два часа уходят на построение для развода на работы, а также на уборку казарм, знакомство с новыми инструкторами, которые научат нас тому, о чем мы не имеем никакого представления.
Мне нравится здесь. Кругом ровно подстриженный кустарник, чистые, покрытые красной крошкой дорожки, окаймленные белыми кирпичами. На больших красочных щитах различные инструкции, выдержки из приказов, портреты солдат и офицеров.
Когда я впервые увидел перекладины, брусья, барьеры, макеты стен домов, у меня почему-то просто пятки зачесались рвануть на эту полосу препятствия. Юный пыл, горячечность слетели с меня быстро.
Спасаясь от палящих даже в такую рань солнечных лучей, мы сидим в тени и рассказываем друг другу всякие побасенки. Кто-то вслух гадает, когда начнется настоящая подготовка. Подразумевается, что нас отправят в Афган. Но тут появляется сержант. Он отдает приказ: все должны приготовиться к физической тренировке, которая начнется через пять минут. Я чувствую, как завтрак у меня в животе становится тяжелым комом.
У сержанта странная фамилия – Сичкарь. Он – молдаванин. Каждое слово, произнесенное им, напоминает об этом.
В процессе «короткой встряски» перед строевыми занятиями в поле мы буквально обливаемся потом. В течение двух часов повторяем непрерывно «ежедневную зарядку» с некоторыми нововведениями Сичкаря. От падения во время двадцати прыжков на корточках меня спасает только то обстоятельство, что я в задних рядах. Это позволяет делать прыжки кое-как, не с полной отдачей. Наконец, «встряска» заканчивается, и я с надеждой думаю о том, как подставлю голову под тугую струю воды из-под крана… Но что это? Боже мой, чего еще хочет от нас этот молдавашка? Он показывает в противоположную сторону… Мы бежим.
Внутренний голос подсказывает мне, что круговой маршрут, по которому мы бежим, должен иметь столько же спусков, сколько подъемов. Я с жадностью глотаю воздух пересохшим ртом… Не могу считать, чтобы бежать в ногу с остальными. Если мне и удается вдохнуть воздух, набухший язык не в состоянии шевельнуться, чтобы произнести хоть одно слово. Ноги шлепают по раскаленному асфальту дороги, как автоматы… Нас неотступно преследует дьявольский голос Сичкаря, требующий, чтобы мы бежали еще быстрее.
В начале одного из спусков Сичкарь приказывает прекратить бег и перейти на быстрый шаг. В конце спуска, как только начинается подъем, – снова бегом. Сичкарь придумал новый порядок: бежать километр, идти быстрым шагом минуту, и всегда бегом на подъеме. Когда же этот сумасшедший намерен остановиться? Четвертый спуск. Может быть, он остановится здесь? Я не могу бежать в ногу с остальными. Это только в школе я мог быть сильнее всех. Здесь – нет. Впереди новый склон. Мы идем шагом. Слава Богу! Я больше не выдержу… Спазмы в животе – и завтрак на обочине дороги…
– Из строя не выходить! Не останавливаться! – слышу я приказ Сичкаря.
Я готов убить его. Мы снова бежим. Ноздри у меня, кажется, сейчас загорятся. Сквозь слезы почти ничего не вижу. Должен же он когда-нибудь остановиться! Его голос доносится до моего сознания откуда-то издалека, с расстояния нескольких километров. Кто-то наступает мне на каблуки, я с трудом удерживаюсь на ногах. Подъем настолько крутой, что дорога, кажется, идет прямо наверх. До конца остается всего несколько шагов… У следующего барака я должен остановиться, больше нет никаких сил. Я остановлюсь – иначе… Еще немного вперед… Ну вот, теперь и все… Шесть спусков, шесть подъемов – десять км.
Я дрожу и едва перевожу дыхание. Одна нога подергивается… Сичкарь что-то говорит. Муть перед глазами немного проясняется. Не могу поверить тому, что вижу собственными глазами: Сичкарь даже не дышит тяжело! Он, в сущности, почти не вспотел. Улавливаю его последние слова: «…и не нажирайтесь за завтраком. Все, кто закончили этот бег, примут участие в физическом испытании в тринадцать тридцать. Кто выдержит и это испытание, начнет заниматься парашютными прыжками со следующего понедельника». Что такое? Теперь только я замечаю, что от первоначального состава группы осталась какая-нибудь треть.
Поскольку нас проверяют индивидуально, между отдельными видами испытаний остается время передохнуть. Я проделываю упражнения, но прыжки на корточках забирают остатки сил. Опасаюсь, что бега на десять километров не выдержу.
Недаром я опасался! После очередного спуска и подъема в ногах нет почти никакой координации. Кислород и кровь почти не достигают мышц и суставов. Пройдено почти три подъема и три спуска. Впереди еще один подъем. Если бы только удалось преодолеть его… Я как бы плыву… Единственное, что я ощущаю, невероятный шум в ушах. А что это за черная масса впереди меня? Я протягиваю руки по направлению к ней. Боль. Боль в ладонях, в запястьях рук, в голове. Оглядываюсь. На дороге царит странная тишина. Мои ноги предали меня: я проваливаюсь. Испытание не выдержано.
Двойная норма! Я чувствую себя так, будто бежал всю свою жизнь и не научился бегать. Теперь я бегу вверх по деревянной лестнице на вышку высотой в девять этажей. Ремни парашютного снаряжения стягивают ноги и давят на плечи, а спереди бьет по коленкам макет резервного парашюта. Я молю Бога, чтобы находящиеся впереди меня четыре человека взбирались помедленней по лестнице… добравшись до верхней площадки, парень, который бежит первым, входит в ящик, изображающий фюзеляж самолета. Я жду на ступеньках. В каждой руке у меня – конец стропы. Обычно от задних ремней стропы идут к куполу парашюта, а здесь они кончаются пружинными карабинами. Поднимаюсь еще на две ступени и теперь вижу большой ящик – фюзеляж с двумя дверями, ведущими к маленьким ступенькам на высоте десяти метров от земли. Один из бежавших впереди меня исчезает в проеме двери, другой движется по направлению к противоположной двери.
Я наверху. Я в ящике. Смотрю на спину идущего впереди. Инструктор наклоняется и подтягивает к себе две стропы со стальными кольцами на концах. Сейчас мне не видно, но я знаю, что другие концы строп прикреплены к ролику на ходовом тросе. Инструктор цепляет кольца за карабины, которые держит в вытянутых руках находящийся впереди меня человек.
– Подходи к двери! – командует инструктор. Человек приближается к двери – и сразу же слышится окрик инструктора:
– Номер по списку?
После секундного колебания человек отвечает:
– Номер по списку шестой, товарищ сержант.
– Прыгай!
Человек в проеме дергается вперед, но в последний момент хватается за дверь и останавливается. Он не прыгнул.
– Номер шестой, отойди от двери! Номер шесть, ты хочешь быть парашютистом?
Кивок головой.
– Это возможно только в том случае, если ты прыгнешь, номер шесть, – продолжает инструктор теперь уже спокойным тоном, не отводя глаз от стоящего перед ним человека в снаряжении.
– Не бойся, что ты ушибешься, номер шесть. Возможность того, что ты ударишься о землю, исключена. Оборудование имеет многократный запас прочности. Ты будешь прыгать? Хорошо. Подходи к двери. Прыгай!
Рывок вперед и… снова остановка. Человек шепчет:
– Я не могу… Не могу… Толкните меня… Инструктор схватывает стропы и отталкивает человека от двери. Подойдя к нему, кричит:
– Десантура! Черт бы тебя побрал! Сухопутная курица, да ты и выглядишь, как курица, и пахнешь как курица! Ты навсегда останешься курицей! Пошел вон отсюда, пока вонь твоя куриная не провоняла нашу вышку. Сними с себя снаряжение. Оно предназначено для мужчин, а не для маменькиных сынков, вроде тебя. Вон отсюда!
Человек плачет. Каждое слово инструктора для него – удар хлыстом.
Инструктор поворачивается ко мне:
– Ты собираешься прыгать?
– Так точно, товарищ сержант.
После такой сцены я, кажется, прыгнул бы безо всяких строп прямо в горящий мазут…
Инструктор цепляет кольца за карабины и выдергивает стропы из моих рук.
– Подходи к двери!
Я медленно подхожу к двери и встаю так, чтобы носок правого ботинка высовывался со ступеньки наружу. Ладони прижимаю к стенке ящика-фюзеляжа. Ноги слегка согнуты в коленях, левая – готова к толчку. Смотрю вниз. Вижу сидящего на ящике оценщика. В руках у него открытый журнал. Он будет ставить баллы за мой прыжок. Слева от него кто-то выполняет очередные прыжки на корточках.
– Номер по списку?
– Номер по списку двенадцатый, товарищ сержант! – кричу я как можно громче.
– Прыгай!
Отталкиваюсь обеими ногами и лечу вниз… Ноги вместе… Двадцать один… Локти прижаты к бокам, руки на запасном парашюте, коленки сжаты… Двадцать два… Смотрю на носки своих ботинок и одновременно вижу оценщика. «Боже, неужели я падаю на него?!» Двадцать три. Подбородок упирается в грудь, запасной парашют шлепает по губам, стропы врезаются в тело. Я, кажется, лечу вверх, нет, сейчас опять вниз. Земля как бы скользит подо мной, а я на чем-то несусь над ней. Поднимаю руки и захватываю стропы. А «двадцать четыре» я сказал или нет? Снова смотрю вниз. Земля становится пятном, скорость падения увеличивается. Вовремя вспоминаю, что надо потянуть стропы и поднять ноги. Проношусь мимо насыпи из красноватой земли. Стропы ударяются о резиновый стопор, и меня отбрасывает назад, на насыпь. Чьи-то руки схватывают меня, останавливают и снимают карабины с колец на стропах.
– Ну как, Язубец, живой? Это Сичкарь.
«Все хорошо, – проносится у меня в голове. – Я сделал первый прыжок с вышки. Теперь я вышечный парашютист».
– Отлично! – отвечаю я.
Бегу к ящику получить оценку. Ноги вместе, руки по швам.
– Номер по списку двенадцатый, товарищ сержант.
– Удовлетворительный прыжок, номер двенадцатый. Снимай снаряжение и иди к сержанту слева от меня, ясно?
– Ясно, товарищ сержант.
Пытаюсь щелкнуть каблуками, поворачиваюсь, но не успеваю сделать и шага, как слышу:
– Номер двенадцатый, стой! Надо отвечать «так точно, товарищ сержант», а не «ясно, товарищ сержант». Пятьдесят приседаний!
Прямо возле оценщика начинаю приседать. Пятьдесят в качестве наказания, пять – в честь воздушно-десантных войск. Поднимаюсь на ноги.
– Рядовой Язубец, ты не ответил «так точно, товарищ сержант», когда я сказал тебе, как нужно отвечать в рядах вооруженных сил. Еще пятьдесят приседаний.
– Так точно, товарищ сержант.
Тут же делаю пятьдесят приседаний, пять – в честь воздушно-десантных войск. Снова поднимаюсь на ноги.
– Рядовой Язубец, ты задержал снаряжение. Получи еще пятьдесят…
– Так точно, товарищ сержант.
Этот человек, наверное, садист. Если он прикажет еще, мои колени не выдержат. Я с трудом выполняю упражнение и едва нахожу в себе силы выпрямиться и встать по стойке «смирно». Жду дальнейших команд. Он поворачивается ко мне:
– Что ты стоишь? Я же сказал снять снаряжение. Чего ты ждешь? Еще пятьдесят приседаний глупость, а потом выполняй.
– Так точно, товарищ сержант.
Уже не пытаюсь щелкнуть каблуками, но отхожу приседать на пару лишних шагов подальше от въедливого оценщика. Мысленно обзываю его козлом.
Снять с себя снаряжение и передать его другому – большое облегчение. Направляюсь к ящику, но меня останавливают: десять отжиманий от земли – за то, что, снимая снаряжение, зацепил и оторвал пуговицу от рабочей формы одежды. Иду к сержанту, стоящему позади оценщика.
– Рядовой Язубец, где ты пропадаешь? Ты слишком медлителен. Еще десять отжиманий.
Не успел я подняться, как получил новые десять за незастегнутую пуговицу.
Если сержанты взъелись, то теперь не выпустят, но меня, кажется, пронесло.
– Так, теперь смени человека, обслуживающего трос с роликом.
– Так точно, товарищ сержант.
Принимаю от такого же, как сам, ученика свернутый в бухту трос с гаком на конце. Бегу по направлению к насыпи мимо человека, которого должен сменить. Он тянет в этот момент ролик с ходовым тросом к основанию вышки. Подбежав к насыпи, бросаю конец своего троса человеку, стоящему на вершине, и замираю в ожидании. Над моей головой пролетает очередной прыгун. Человек на насыпи отцепляет его и присоединяет конец моего троса к кольцам. Оказывается, он тяжелый, черт возьми!
Бросаю взгляд на верх вышки. Инструктор наверху машет мне рукой – подавать. Чтобы кольца попали в дверь, надо сильно разбежаться. От усердия чуть не ударяюсь головой о стенку вышки. Не успеваю остановиться, как мне суют другой трос. Обратно к насыпи. Кажется, что она на расстоянии трех футбольных полей. Солнце печет невыносимо. Мне становится жарче, но потею я уже меньше; прошло, кажется, около двух часов после того, как я в последний раз пил воду. Подбегаю к насыпи вовремя. Принимаю кольца и ролик. Бегу к вышке. Обратно к насыпи… Когда же мне дадут отдохнуть? Этот парень перехитрил меня: я уже сделал туда и обратно три пробега, а он только два. Снова к вышке. Я уже больше не потею. Сорокаградусная жара дает себя знать. Мотаюсь почти целый час.
– Тащи скорее, пошевеливайся, рядовой! Почему я не отказываюсь от всего этого? Мозг в голове наверное, начнет сейчас плавиться, как плавленый сырок на сковороде. Снова к насыпи… Если добегу до вышки, то уж это будет последний раз. Откажусь.
– Рядовой, где ты пропадаешь? Ты бегаешь очень медленно.
Я смотрю мимо насыпи, изо всех сил стараясь, чтобы сержант не заметил по моему лицу, как я его ненавижу. За неположенные мысли можно получить метров сто по-пластунски.
Дьявол, он словно читает мои мысли!
– Ты хочешь отдохнуть, рядовой?
– Так точно, товарищ сержант.
– Отлично, можешь отдохнуть. Вон до того столба, туда и обратно, по-пластунски.
Слышу, как он отошел в сторону и начал кричать на кого-то еще. Гравий колет ладони и щеки. Черт возьми, сколько времени я нахожусь здесь? Еще минута – и я, наверное, свалюсь от усталости и выпью воды. Хорошо этим сержантам-инструкторам, дьявол их возьми, все время бахвалятся, что они бегают столько же, сколько и мы. Но ведь они намного легче одеты. И, к тому же, совершенно не потеют.
– Ну как, рядовой, отдохнул, полежал? Бегом к вышке.
– Так точно, товарищ сержант, – хриплю я.
– Медленно, рядовой, медленно, – слышу ненавистный голос. – Пятьдесят приседаний для бодрости!
Приходится выполнять. Но разве он не видит, что я измучен и выполняю упражнения с громадным усилием?
– В какую сторону света ты обращен лицом, рядовой?
– На север, товарищ сержант.
Почему он не стоит спокойно, а качается из стороны в сторону? Или в глазах у меня двоится?
– Нале-во! Теперь пятьдесят приседаний лицом на запад. Кругом! Не забывай, что есть еще и юг…
Мышцы ног отказываются сокращаться. Спина – как не моя. Счет приседаниям веду шепотом. Поднимаюсь на ноги. Почему это все кругом колышется? А почему небо такого странного оттенка?
– Хорошо, рядовой, бери трос и принимайся за работу.
Кладу трос на плечо и наклоняюсь. Ноги не хотят меня слушаться. Боже, у меня не хватает сил тащить этот проклятый трос. Я даже не вижу вышки, она в тумане. Подхожу ближе, но она все равно остается в тумане.
Издалека доносится голос:
– Давай, давай, рядовой! Ну, еще одно усилие! После этого другой голос, тоже издалека:
– Где ты пропадал, рядовой Язубец? Получи десять отжиманий за медлительность.
…Четыре… Нет, больше я отжаться не смогу… Шесть… Разве на деревянных руках можно отжиматься? Уже сделал больше половины… Девять… Ну их ко всем чертям вместе с их упражнениями и парашютными прыжками. Десять; все. Поднимаю свое тело по частям, как змея… Из последних сил поднимаюсь на ноги. Черт возьми, даже вышка, и та шатается из стороны в сторону.
– Садись на конец скамейки, рядовой Язубец. Чуть не забываю сказать «так точно, товарищ сержант». Напрягаю все мышцы, чтобы дойти до скамейки, но ноги не слушаются, цепляются за землю, поднимают пыль… Впереди – темное пятно. Это, должно быть, человек, сидящий на скамейке… Натыкаюсь на сержанта.
– В чем дело, рядовой Язубец? Не качайся из стороны в сторону. Ты что, не можешь стоять спокойно?
Э, нет, на этом ты меня не поймаешь. Это ты качаешься из стороны в сторону, а не я… Ты говоришь это, чтобы сбить меня с толку… Когда же, черт возьми, рассеется этот туман?.. Наконец, усаживаюсь на скамейку. Нащупываю флягу с водой. Теплая вода расклеивает ссохшиеся губы. Еще немного. Спазмы в животе прекратились. Еще глоток. Пауза. Еще пара глотков. Вода вся. Туман начинает рассеиваться. Я снова потею. Смотрю на дверь парашютной вышки.
Больше никаких отжиманий я сделать не могу. Человек в снаряжении парашютиста подходит к ящику, на котором сидит оценщик.
– Хреново! Ноги врозь, локти оттопырены, голова задрана вверх. Неудовлетворительный прыжок, следует повторить.
Я… не могу. Я отказываюсь…
Сидящие на скамейке застывают от удивления. Сейчас наверняка разразится буря.
– Ты забыл, где находишься? – Оценщик поднимается с ящика.
Я не могу на это смотреть, отворачиваюсь. Слышатся ругательства, и человек в снаряжении парашютиста опять плетется на вышку. Прыгает, безалаберно размахивая в воздухе руками, словно цепляется за воздух. И опять получает неудовлетворительную оценку. И снова на вышку.
Такой цикл борьбы между оценщиком и парашютистом-неудачником повторяется еще два раза. Похоже на то, что парень впал в бешенство. Шатаясь, как пьяный, он снова плетется мимо нас к сержанту на ящике. Его руки и ноги движутся так, словно это руки и ноги куклы на пружинах. Всеми его действиями руководит ненависть.
Наконец, построение. Ноги у меня окончательно одеревенели. Продержаться бы еще несколько минут.
Сержант-оценщик проходит вдоль строя и останавливается возле меня. Я не могу стоять ровнехонько. Это его удовлетворяет. Сержант отступает шаг назад и громко кричит:
– Командиры отделений, люди в вашем распоряжении! Разойдись!
В учебке у нас говорили, что жизнь молодого бойца похожа на жизнь графина: все время берут за горло. Освоив парашют и парашютную вышку, мы перешли к настоящим прыжкам. Загрузили нас в АН-12, большой четырехмоторный самолет. Взревели моторы, разбег, отрыв от взлетно-посадочной полосы. Покуда набирали высоту, Ферудах проплыл весь как на ладони. Впереди – горы. Я вздрогнул, когда завыла сирена. Раньше я таким не был – сержанты постарались. Теперь, после вышки, подойти к открытой рампе и выпрыгнуть в неведомую пустоту было привычным делом. Когда завис над землей, услыхал, как орут и поют песни ребята. Плыву, словно в сказке.
Начинаю вспоминать различные россказни старослужащих о неудачных приземлениях. Обычно в таких рассказах позвоночники «высыпаются в трусы», колени ломаются «как палки». Именно старослужащие нагоняют страх на молодых.
Удар при приземлении был не сильнее чем при прыжке с вышки. Я бы сказал, даже слабее.
Труднее было совершить второй прыжок. Многие говорили, что второй прыжок самый страшный. Этот барьер я преодолеваю также успешно.
Сразу после парашютных прыжков в расположении нашей части появились сержанты, которые начали набирать желающих служить в Афганистане. Никто не говорит, что мы едем туда воевать. Просто служить. Многие из служащих, которые имеют звания, уже побывали там. Рассказывают о войне неохотно, всегда о чем-то умалчивают.
Я не хочу быть выскочкой и не сразу высказываю желание попасть за границу. Может, внутренне я еще не готов к этому. Одно дело война, когда враг находится на твоей территории, а другое, когда ты сам интервент, а твой противник придерживается тактики партизанского ведения войны. Всегда почему-то ставишь себя в положение фашистов во время Великой Отечественной. И вот когда знаешь, что стрелять в тебя имеет право всякий, то понимаешь, что без обостренного чувства самозащиты не выживешь.
Проверить себя, свои возможности, на что я был способен, вот возможные мотивы моего решения попасть в Афганистан.
Я сам подошел к сержантам-вербовщикам. Они коротко рассказали об условиях службы.
– Конечно, не малина, зато будешь чувствовать себя настоящим мужчиной! – завершили они свой нехитрый рассказ.
Из добровольцев сформировали группу, с нами начали заниматься по особой программе. Наконец, пришло время навсегда покинуть учебку в Ферудахе. Мы понимали, куда отправляемся. Перед отправкой с нами – откровенный разговор: если кто не хочет ехать в Афганистан, то может отказаться, его после окончания учебки направят в одну из частей в Союзе.
Я не мог себе этого позволить. Была надежда. Надежда на что?
И вот перелет в душный Ташкент, пересадка в ИЛ-76, снова взлет, острые вершины гор, а далёко внизу – огромная долина, испещренная зелеными и желтыми прямоугольниками полей и игрушечными кубиками домов.
Самолет круто пошел вниз и коснулся колесами посадочной полосы. Когда я зашагал по земле, впервые почувствовал себя не просто солдатом, но захватчиком. Может быть, я и понимал рациональность нашего присутствия в чужой полуфеодальной стране, но чувствовать не запретишь. Любой афганец, с которым приходилось встречаться, казался мне потенциальной жертвой, поскольку для него я был поработителем его горной страны. А поскольку в душе он ненавидел меня, то желал со мной расправиться. Но пусть он умирает первым. Всегда пусть враг умирает первым.
Мы ожидали, что нам сразу выдадут боевое оружие, но как бы не так. Нам выдали противогазы и новое обмундирование, сильно отличавшееся от прежнего. Вместо фуражки теперь была кепи защитного цвета с большим козырьком. К моему неудовольствию, когда я напялил куртку и брюки, то стал походить на мешок.
– Не велика ли обновка? – спросил я у сержанта.
– В плотном, в обтяжечку, перегреешся… Это уже из опыта.
Нам опять следовало пройти курс молодого бойца, но теперь в максимально сжатые сроки и в условиях, приближенных к боевым.
Несколько дней подряд замполиты рассказывали об Афганистане. Мне лично было интересно узнать, что Англия трижды пыталась присоединить Афганистан к своим колониям, но безуспешно. Когда рассказали о пуштун-валате, неписаном законе чести и достоинства у афганцев, меня пронимала дрожь. Многие из положений этого кодекса морали нравились мне. Я бы тоже предоставил убежище и защиту врагу. А вот насчет паранджи? Не знаю.
На новом месте всегда плохо спится. Здесь – особенно. Да и кто уснет под ракетное буханье, частые автоматные и пулеметные очереди?
Дни пролетают своей неторопливой чередой: подъем, физзарядка, завтрак, учеба… И снова: подъем, физзарядка, завтрак, занятия.
Потом провели учебные стрельбы. Стреляли с брони БМП. Тучи белесой пыли стояли стеной, не давали возможности сориентироваться. Неожиданно я увидел поднявшуюся мишень. Молниеносно изготовился к стрельбе и нажал спусковой крючок. Мишень исчезла, но вдали показались другие мишени – они появились словно враги. Ударили автоматы, поднимая фонтанчики пыли. Пыль здесь какая-то неестественная, чужая, мелкая, белая, нечем дышать.
Учебные стрельбы продолжились и на следующий день, теперь уже из подствольных гранатометов плюс метание гранат.
Когда перед новичками по приказу комвзвода асы рукопашного боя провели между собой учебную схватку, я понял, что в умении концентрировать силу удара мне и не следует у них учиться. Они разбивали кулаком четыре кирпича, мне удавалось восемь.
Совершенно неожиданно нас подняли по тревоге ночью. Мы еще полностью не отстрелялись из всех видов оружия, которым предстояло воевать. Но случилась беда. Старший лейтенант Троекуров был мрачен. Он, комвзвода, был недоволен, что в его взводе было необстрелянное как положено пополнение. Наспех загрузили боекомплект. Предстояло сменить заставу, полностью уничтоженную душманами.
В составе бронегруппы на рассвете подошли к заброшенной виноградной плантации. Бой кончился. Дымились воронки от мин. К заставе подоспела помощь на вертолетах, но было поздно. Я подслушал из разговора нашего командира с командиром вертолетного десанта, что именно случилось на заставе. Ребята сошлись в одно место. Семеро человек. Случайная мина накрыла их. В итоге четверо убиты, трое ранены. Воцарилась растерянность. Пока начали помогать раненым, со стороны «зеленки» поползли душманы. Почувствовав слабинку в заградительном огне, душманы пошли в атаку. Завязался рукопашный бой.
Я смотрел, как тащат раненых в вертолет, и неприятный холодок пробегал по спине. Если я получу пулю между лопаток, не смогу шевельнуть ни рукой, ни ногой с парализованным позвоночником, может, мне уже меньше захочется стрелять?
Троекуров приказал занять круговую оборону. Со стороны близкого кишлака нападения ждать не приходилось – оно было с верным правительству населением, с хорошо вооруженными отрядами самообороны. Но меня выставили как раз напротив кишлака – оборона должна быть круговой.
Я вырыл углубление в земле, натаскал камней и соорудил нечто вроде бруствера.
– Молодец, – похвалил меня Троекуров, – соображаешь. Ты бы еще себе тыл соорудил, видишь, тебя духи могут снять из снайперской со стороны гор. Да и мина если попадет на участок, от осколков уцелеешь.
С Троекуровым я с первого знакомства дружески сошелся и много и охотно говорил с ним.
Едва Троекуров ушел, я улегся на локти перед автоматом и уставился глазами в кишлак. Солнце уже взошло, но не показывалось из-за горы. Кишлак передо мной как на ладони. Он был ослеплен как соты из бесформенных дувалов. Изредка доносились неясные звуки то ли блеяния овец, то ли звучания афганской речи. Я учуял тонкий душистый запах, шедший от кишлака. Поглядывая на дувалы, думал, что же он мне напоминает. И вдруг до меня дошел явственный запах гречневой каши. Оглянулся – в дальнем углу ребята разожгли небольшой костер, достали концентраты, мясные консервы, нацедили из громадного резинового резервуара, установленного на корме саперного БТРа, воды и начали варить суп. На второе же разогрели из консервных банок гречневую кашу.
– Всем завтракать! По очереди… – слышится зычный голос. – Первое отделение, Язубец!
Прежде чем покинуть свою позицию, я скольжу глазами по кишлаку, и – странное дело! Вижу неожиданно выросшее облачко дыма, слышу нарастающий пугающий шорох.
– Мина! – истошно ору я. Успеваю заметить, что старослужащие попадали на землю, где лежали, а новички удивленно уставились на меня.
Мина взорвалась за костром. Гречневую кашу смело и разбросало по всему участку. Я вжался в землю, краем глаза наблюдая в щелочку между камнями за кишлаком. Стрелять в этот кишлак нельзя. Он мирный. Что предпримет командир?
Вижу едва различимое облачко, снова слышится нарастающий шорох, и я снова истошно ору: «Мина!»
– Чего орешь? – Троекуров сваливается на меня сверху и некоторое время лежит на мне. До разрыва мины. На этот раз она значительно недолетела и разорвалась прямо на дороге.
– Мы на БМП протараним вон тот дувал, а ты прикроешь нас. Бей только по вооруженным людям. Вертолеты я уже вызвал. Задачу понял?
– Так точно, товарищ старший лейтенант. Как это не похоже на учебку в Ферудахе! Третья и четвертая мины тоже недолетели, но разорвались гораздо ближе к нашему участку. БМП рывком рванула через дорогу и устремилась вперед. В этот момент со стороны кишлака душманы открыли огонь из стрелкового оружия. Я видел искры, которые высекали о броню боевой машины вражеские пули. Со стороны нашей заставы раздались автоматные и пулеметные очереди, но я не видел, куда стрелять. Ни одной живой цели. БМП протаранила дувал, исчезла в облаке желтоватой пыли, вынырнула из этого облака уже в кишлаке, замелькала среди дувалов. Вот она развернулась в том месте, откуда, предположительно, работал миномет – и остановилась. Неподвижность нашего БМП накаляло обстановку. Секунды текли как вечность. Напрягая зрение, я видел, как какие-то люди собрались возле машины, и мне показалось, что среди них наш старший лейтенант. «Неужели взяли в плен?!» – пронеслась как молния страшная мысль. Но вот БМП рывком рванула с места, и по мере ее приближения я видел, различал, что на броне сидят вооруженные люди. Как только машина выехала через сделанный ею же пролом в дувале на дорогу, по ней ударили вражеские автоматы. И на этот раз я не видел, куда мне стрелять. Но не стрелять я уже не мог. Короткими очередями начал бить по кишлаку.
В это время БМП приблизилась к охраняемому участку. На броне сидели афганцы, но среди них были Троекуров, который отчаянно жестикулировал, пытаясь, скорее всего, предупредить огонь по ним.
Я не стрелял. Не слышал, чтобы стреляли ребята, но хорошо видел, как с брони свалился сначала один афганец, потом неподвижно застыл, уткнувшись лицом, другой. Не было никакой ясности, откуда же стреляют. Подъезжая к участку, Троекуров начал стрелять поверх наших голов. Я оглянулся. От старого виноградника к нам бежали вооруженные люди, которые стреляли на ходу. Как плохо, что я не послушался совета старшего лейтенанта и не сделал бруствер с тыла. Стрелять пришлось с колена. Вдруг я увидел молниеносный трассер от виноградника и рядом раздался оглушительный лопающийся звук. Это подбили из гранатомета БМП, которая въехала на участок и стала удобной мишенью. Афганцы посыпались с брони и побежали обратно в сторону кишлака.
– Останови их! Не разрешай им отступить!
Слова команды белокурого широкоплечего Троекурова теряются в разрывах мин. Мне надо остановить восемь или десять человек, языка которых я не знаю. Над головою пролетают комья грунта, а невидимые пулеметные очереди пытаются срезать редкий кустарник.
– Прикажи им залечь! – снова кричит старший лейтенант мне. – Их всех перебьют, если они попытаются перебежать дорогу. Скоро прилетят наши вертолеты. Останови их.
Его слова заглушаются громкими хлопками винтовочных выстрелов. Это стреляют из виноградника. Винтовки, которые прошивают бронежилеты. Но я выползаю из укрытия, скатываюсь с бугра и на какой-то миг застываю в неуклюжей позе, потому что на меня обрушивается новый каскад земляных комьев от разрыва вблизи еще одной мины. От этого разрыва, от истошного крика Троекурова афганцы залегли прямо на дороге. Я очутился рядом с афганцем, лежащим возле автомата. Рукав его куртки пропитался кровью, одна нога неестественно откинута в сторону, он вытаращил глаза от боли и непонимания того, что с ним произошло. Здоровой рукой он вцепился в меня, желая, чтобы я тащил его в укрытие.
Все остальные, спасаясь от пуль, возвращаются назад к участку, где можно укрыться в вырытых укреплениях. Один из афганцев выпрямился больше положенного и тут же падает, подрезанный пулей. Две мины разрываются почти одновременно, и еще пять человек поднимаются и пытаются отступить в укрытие. Одному из них удается добежать до моего окопчика, но остальные, неуклюже взмахнув руками и дико крича от боли, падают на дороге. Взрывающиеся мины вынуждают нас всех лежать. Я стреляю, не прицеливаясь, магазин за магазином выпуская свой боекомплект по бегущему противнику. Теперь наши все сориентировались и открыли огонь. Нападавшие залегают, а кое-где и поворачивают. Это дает мне возможность тащить раненого афганца в укрытие. Он ослаб, рука его не цепляется за мою одежду. В это время я слышу крик Троекурова:
– Бросай его! Беги в укрытие! Сейчас они снова полезут.
Я слышу его, но не могу бросить раненого под открытым огнем, даже и афганца. Троекуров приказал мне их вернуть, потому что сам полез в подбитый БМП вытаскивать водителя. Я не совсем справился с задачей, так хоть этого дотащу.
Неожиданно меня хлопает по плечу ползущий рядом афганец, который помогал тащить раненого. Он что-то радостно восклицает, показывая на шестерку штурмовых вертолетов, появившихся из-за края гор, откуда уже взошло солнце. Грохот минометных разрывов, пулеметный огонь позволил им подойти незамеченными. Противник теперь тоже обнаружил их, и огонь по участку ослабевает. Вертолеты приближаются. Над виноградником появляются полоски белого дыма, выпускаемого первым вертолетом. Затем то в одном, то в другом месте в винограднике взмывают к небесам столбы оранжевого пламени, до нас доносятся раскаты взрывов. Вертолеты по очереди пускают свои ракеты по целям. Когда очередь доходит до пятого вертолета, первый уже развернулся и начал второй заход. Теперь по нам уже никто не стреляет. Мы с афганцем подхватываем подстреленного за руки и волоком тащим к моему укрытию.
Теперь все на месте. Трещит горящая БМП. Израсходовав боекомплект, вертолеты разворачиваются в сторону взошедшего солнца. Над долиной поднимается странный пар. Кишлачная зона просматривается далеко. Запущенный виноградник горит, и дым от него поднимается вертикально вверх. Видны фигурки «духов», устремившихся в горы. Я стреляю по ним короткими очередями. Троекуров ходит по участку и подбирает уцелевшие жестянки с гречневой кашей. Раненый афганец начинает стонать. Его темное лицо бледнеет, он потерял много крови. Отдаю афганцам свой перевязочный пакет и знаками показываю, что раненого надо перевязать. Афганцы начинают возиться с раненым. Троекуров, как ни в чем не бывало, приносит мне позавтракать.
– Молодец, действовал грамотно! – говорит он, глаза его возбужденно блестят, белокурые волосы опалены.
– Как водитель? – интересуюсь я, ковыряясь ножом в гречневой каше.
– Кровь из ушей хлещет, а так ничего, – отвечает старший лейтенант с переполненным ртом.
Гречневая каша еще горячая. Она стоит у меня в горле колом, меня тошнит от нее, но я ем, делая вид, что абсолютно равнодушен ко всему происшедшему.
– Больше не сунутся, сволочи, – говорит Троекуров, – они ночью воюют. Днем в горах отсиживаются, или в каризы уходят…
– В каризы?
– Да. Такие подземные ходы, для воды, там черт ногу сломает. По ним из гор вода подается. Древние сооружения…
Слышится характерный шорох, хлопающий звук разрыва. Опять со стороны мирного кишлака минометный налет. Стрелять туда нельзя. Оставшиеся в живых афганцы печальными глазами смотрят в сторону родного селения. Троекуров мечется по участку, отдает приказы командирам отделений. Опять что-то задумал. Было слышно, как он кричал по рации, вызывая «слонов». «Слоны» – это танки. А лучше бы здесь поставить минометную батарею. Тогда со стороны виноградника и со стороны гор сюда не сунешься.
То, что произошло потом, не укладывалось у меня в голове. Как так, только что отбомбились вертолеты, душманы ушли в горы, но вдруг из виноградника раздались пулеметные очереди, а со стороны кишлака открылась пальба из всех видов оружия. Комья земли и глины, вырванные из нутра земли, буквально засыпали меня. Мелкие камешки секли по лицу, афганцы скорчились в углублении. Выглянув из укрытия, я поразился: и со стороны гор, и из виноградника нас атаковали. Но хуже всего то, что мы были прижаты огнем со стороны кишлака. Это похоже на окружение. Я схватился за подсумок с запасными магазинами. Когда прилетят вертолеты?
Но они не замедлили появиться. Я не слышал, как комвзвода отдал приказание бомбить кишлак, я скорее догадался об этом. Шестерка «вертушек» разделилась надвое. Одна тройка принялась пропахивать ракетами виноградник, другая с ходу, вертолет за вертолетом, принялась долбать по «мирному» кишлаку, который огрызался пулеметным и минометным огнем. Такого я еще не видал! Весь кишлак превратился в фейерверк: громадные клубы пыли и дыма взметнулись к небу.
– Мужики! – орет Троекуров. – Отходим к кишлаку!
Соображать некогда. Думать об афганцах тоже некогда. Вертолеты пальнули по и без того горящему винограднику и улетели, а нападавшие душманы совсем рядом. Грохочет БТР. Стреляю на ходу, перезаряжаю автомат и снова стреляю, пытаясь добежать до уходящего к спасительным дувалам бронетранспортера. Свистящие пули чиркают о камни. Столбики пыли на земле обозначают полет рикошетных пуль. БТРы один за одним въезжают в пролом. Стрельба постепенно стихает, и вместо нее слышатся гортанные крики афганцев. Кругом все горит, кишлак превратился в огненный ад. Подкошенные взрывами деревья превратились в скелеты, хлопья пепла летают в воздухе, оседая на лицах живых и мертвых. Всюду валяются трупы, разорванные и искромсанные взрывами ракет. Из дверного проема торчит коричневая нога с грязной подошвой. Двое убитых детишек застыли, прижавшись один к другому.
Мои афганцы, что сидели со мной в укрытии, бросили раненого и испуганно жмутся к бронетранспортеру. Неожиданно один из них бросается в дымящиеся руины и вытаскивает оттуда очень худую девочку лет восьми-десяти. Сопротивляясь, она неистово брыкается ногами, поэтому афганец пытается поднять ее повыше, чтобы ноги не доставали земли. Второй афганец спешит первому на помощь. Они пытаются усмирить ребенка, маленькая головка которого дергается из стороны в сторону, а темные глаза становятся все шире и шире, по мере того, как она осознает весь ужас происшедшего в деревне. Неожиданно она перестает кричать и болтать ногами, резким движением вырывается из рук афганцев и бросается к своему крохотному брату, копошащемуся у тела убитой матери. Девочка отрывает кричащего ребенка от измазанной грязью и кровью матери и прижимает к себе. Не обращая внимания на нас, она отходит на несколько шагов в сторону, садится и укачивает своего брата, напевая монотонную песенку.
Моджахеды занимают наши позиции на нашей заставе и начинают стрелять, убивая мечущееся население. Неразбериха полная.
– Занять круговую оборону! – снова орет Троекуров.
Только ему одному понятно, что здесь происходит. Женщины, старики и дети выволакивают из горящих домов пожитки. Возле Троекурова собирается толпа возбужденных афганцев. Некоторые держат в руках «калашниковы». Вот тебе и самооборона. Еще двое тащат к бронетранспортеру старика. К ним бросается старуха. У нее открытое лицо, она некрасива, даже уродлива, с ее бескровных губ срывается поток умоляющих слов. Внезапно ее поведение изменяется. С диким воплем она бросается на одного из мужчин, держащих старика. Она царапает ногтями по его лицу. Тот отдирает ее, вскидывает автомат. Короткая очередь. Старуха оседает в пыль медленно, с изумлением глядя на что-то неестественно белое, появившееся из ее живота.
Другая женщина, как безумная, пытается возвратиться в свой горящий дом. Афганец ударяет ее прикладом автомата. Она падает, но снова ползет по направлению к своему жилищу. Афганец оттаскивает ее за ноги.
Вокруг нас собирается все больше и больше солдат самообороны. Мне становится жутко. У них много оружия. Их братья стреляют в нас с нашего участка. Но, кажется, у них свои проблемы. Первым делом они расправляются со стариком, пристрелив его.
В толпе афганцев начинается оживление, когда они увидели, как четверо волокут молодого парня. Руки парня скручены за спиной телефонным шнуром, глубоко врезавшимся в тело. Одно плечо исцарапано до крови – парня тащили волоком по земле. Нога ниже колена раздроблена пулей.
Старший среди афганцев наклоняется к пленному. Угрожая автоматом, выкрикивает какие-то вопросы. Время от времени указывает рукой в нашу сторону. Очевидно, что плененный – минометчик. Он молчит. Старший выпрямляется, приказывает что-то подчиненным и отходит в сторону. Двое держат пленного за голову, а два других по очереди льют ему в нос и рот воду. У меня невольно вырвалось:
– Черт бы их взял, он же раненый!
– Не вмешивайся. Это ведь для них спектакль, – говорит Троекуров.
– Но как же пуштун-валат?
– Заткнись, рядовой! – у старшего лейтенанта нехорошие глаза.
Один из афганцев, возмущенный стойкостью пленного, пинает его раздробленную ногу раз, потом еще. Из раны показываются обломки костей. Но пленный, лицо которого исказилось от мучительной боли, по-прежнему молчит. Ему разжимают рот, снова и снова льют воду в него.
Среди афганцев есть опрятно одетый человек, который говорит по-русски. Он шепчется с Троекуровым и кричит что-то солдатам, те отходят от пленного. Собравшиеся возле нас жители кишлака теснее прижимаются друг к другу. Один из афганцев выхватывает из-за пояса нож, истошно кричит, показывая рукой на горящие жилища, на труп женщины, опускается на колени возле парня и хватает его за жирные, черные как смоль волосы. Он силой поворачивает голову парня так, чтобы тот видел занесенный над ним нож, затем острием ножа проводит по костлявой груди моджахеда кровавую линию от подбородка до пупка… Доведя нож до живота, офицер надавливает на него и выкрикивает какой-то вопрос. С губ парня сбегает ручеек крови – от чудовищной боли он закусил себе язык и искусал все губы. Афганец повторяет свой вопрос. Парень молчит. Афганец, трясясь от злобы, снова кричит что-то, а потом медленно перемещает вес своего тела на руку с ножом… Лезвие скрывается в теле жертвы, как в куске теплого масла…
В дымное небо взвивается жуткий вопль умирающего. Проткнув жертву насквозь, афганец выдергивает нож и с искаженным от злобы лицом отходит в сторону. Парень лежит неподвижно, и только конвульсивные движения его груди показывают, что он еще жив.
Я отворачиваюсь, мои губы шепчут:
– Боже, что же они делают?..
К лежащему парню подскакивает афганец из молодых – черный и грязный. Он раздвигает ноги парня, выхватывает из-за пояса огромный нож, вонзает его в окровавленный живот и резким движением к себе распарывает его на две части. Раздается дикий вопль. В конвульсивном рывке на какой-то момент жертва принимает сидячее положение и смотрит мутным взглядом на своего истязателя. Лицо палача искажается злобной гримасой и он с размаха бьет парня окровавленным кулаком по лицу. Парень падает на спину, а истязатель продолжает орудовать ножом, как мясник. Последние предсмертные конвульсии – и парень мертв. Палач засовывает руку в рану и выдирает оттуда кусок окровавленной печени. С победоносным оскалом он поднимает свой трофей над головой, чтобы все видели…
Я застыл от ужаса и бормочу заплетающимся языком:
– Об этом следует доложить командованию… Это ужасно… Этих людей надо посадить в тюрьму.
– Черт с ними, Язубец, успокойся, пока тебя не услышали, – советует мне Троекуров. – Просто ты впервые участвуешь в операции, а когда видишь такое в первый раз, бывает трудновато, но ничего, ты привыкнешь к этому… Успокойся.
– Успокоиться? Привыкнуть к этому?! – почти кричу я. – Что же мы звери, что ли?!
– Рядовой Язубец, – строго начинает старший лейтенант, – я же приказал тебе заткнуться. Давай-ка, улыбнись, они уже обратили на тебя внимание.
– Ты хочешь сказать, что не доложишь об этих зверствах? – изумленно спрашиваю я у своего командира.
– Ты, десантура! Что с тобой происходит? Ведь не мы, а они это делают. Тебе надо привыкнуть к этому.
– К чему привыкнуть? Какой толк убивать пленного? Информацию таким путем не получишь. Это бессмысленно! Я не думаю, что они хотели получить информацию от…
– Рядовой Язубец! – раздраженно прерывает меня Троекуров. – Что ты разводишь здесь детский сад! Я просто не понимаю, чего ты хочешь. Подавай рапорт и уматывай отсюда к чертовой бабушке. Пойми: человек, которого они убили – дух. И мы здесь, чтобы убивать духов. Помогать афганским товарищам выйти из этого средневековья. Тридцать минут назад эти люди сидели по жилищам и боялись нос высунуть. Они были убеждены, что их перестреляют. Душманы пробрались в кишлак. Этот мертвый старик – отец минометчика. Если бы не мы – самооборону ликвидировали. И ты не знаешь, что они у них повырезали бы. А посмотри на них теперь: от страха и следа не осталось, они уже храбрые. Убитый парень – доказательство их силы и превосходства, а ты еще не видел, как они отпиливают своим же головы, и носят их в мешках, как амулеты, которые постоянно напоминают им и другим о том, что они храбрые солдаты.
– Правильно, товарищ старший лейтенант, но о чем думают, по-твоему, вот эти люди? Эти женщины и дети? – запальчиво произношу я, показывая в сторону столпившихся жителей кишлака. – Что они думают? Взгляни: ведь они ненавидят нас.
– Не беда, если оказались убитыми несколько женщин и детей или если пленный умер во время допроса. Это хороший урок для них. Нам здесь держать заставу. Кишлак справа полностью безлюдный. Там духам нечем поживиться. Их все равно не перевоспитаешь, лучше уж убить – это единственный способ. И нечего переживать из-за каких-то убитых детей, они все равно выросли бы душманами. Конечно, расстрелять этого парня было бы правильней, но мы не должны вмешиваться в их действия. Нас только взвод, а их целая сотня, целый кишлак. Чего же они не возмущаются нашим присутствием? Мы подвергаем их опасности, но нас терпят, потому что мы помогаем им ударами с воздуха, когда они попадают в беду, как сегодня. Ты доложи генералу Громову, что афганский царандой зверствует над мирным населением – так тебя мигом упекут в психушку. Ты думаешь, что командующий ограниченного контингента не знает, что происходит на передовых? Может, им тоже это не нравится, однако на хрена тогда было вводить войска… Это старая история… Э-э, рядовой, я думал ты покрепче… Мы должны радоваться победе… У нас только контуженный водитель; а сколько их там лежит, посмотри.
Во время моей перепалки с Троекуровым моджахеды укрепились на нашем участке. На что они надеются, мне непонятно. Через некоторое время сюда вновь прилетят вертолеты. Командир взвода скорректирует огневой налет, и от моджахедов живого места не останется.
Все происходит так, как я и предполагал. «Вертушки», вся шестерка, нанесли ракетный удар по бывшему месту нашей дислокации.
С автоматами наперевес вместе с афганскими «товарищами» мы пошли рядом с медленно идущими бронетранспортерами к развороченным позициям. Я радуюсь возможности идти в открытую, зорко всматриваясь в дымящиеся бугры и ямы. Вот и мое укрытие. То, что я вижу там, заставляет отвернуться, но помня о резком разговоре со старшим лейтенантом, я упрямо смотрю в яму, где лежит разорванный труп раненого афганца. Но не это ужасает больше всего, а то, что у трупа нет головы, она аккуратно отрезана.
Наше подразделение замыкает кольцо вокруг участка, находим несколько контуженных, оглушенных взрывами НУРСов душманов. Каждый из них при усах, в чалме, с бородой. Бороды густые, спутанные. Одежда грязная, в заплатах. Один из пленных явно напуган, вот-вот заплачет. Двое других уставились мрачными взглядами в землю, а у четвертого гневное выражение лица и непокорный вид. Старший афганской самообороны выкрикивает резким голосом вопросы и слышит ответы «нет», «никого» от первых трех, четвертый же, плотно сжав губы, молчит.
Вопросы звучат все громче. Как я понимаю, это вовсе и не вопросы, а упреки. Упреки в том, что душманы обстреливают заставу именно в районе кишлака, и это привело, в конце концов, к кровавому исходу – кишлак разрушен, имеются многочисленные жертвы.
Вопросы-упреки звучат все громче. Коренастый старший самообороны, разгневанный упорным молчанием одного из пленных, выхватывает из рук подчиненного автомат и направляет его в лицо неповинующегося упрямца, гневно повторяя один и тот же вопрос. Тон ответа молодого пленника ничуть не уступает по резкости тону инквизитора, он не ограничивается, как его товарищи, односложными словами. От сильного удара кулаком по голове допрашиваемый валится навзничь, но сразу же поднимается на корточки и принимает прежнее положение, не спуская свирепого взгляда со своего мучителя. Тот неожиданно разражается смехом и возвращает автомат прежнему владельцу. Затем он поворачивается к пленным спиной и что-то скороговоркой приказывает подчиненным.
Пленных поднимают на ноги, помогая тумаками; обыскивают. Один из душманов пытается освободиться от перекинутого через плечо мешка. Заглянув в него, афганцы за окровавленные волосы вытаскивают голову раненого. Докладывают старшему. Теперь на лице у того появляется кривая ухмылка. Он подходит к пленному, у которого обнаружен кровавый трофей и резким ударом кулака валит его на землю. Подчиненные поднимают пленника за руки, ставят его на ноги. Опять с идиотской улыбкой на лице старший наносит увесистый удар в живот. Почему они не бьют в лицо? Пуштун-валат не предписывает?
Пленник, у которого нашли в мешке голову человека, валится на землю. Не переставая улыбаться, старший из афганцев садится около него. Когда пленник пытается приподняться, палач сильно бьет его по груди и прижимает к земле.
Я в это время сидел, отдыхал. Попробовал подняться на ноги, но получил пинок от подошедшего Троекурова.
– Сиди и не рыпайся! – приказал он. – Он задаст ему несколько вопросов. Он знает свое дело.
– Товарищ лейтенант, застрелите пленного!
– Не вмешивайся, сиди спокойно.
– Но он не должен допрашивать его на глазах у других, – настойчиво продолжаю я, – если пленник и знает что-нибудь, он не скажет об этом на виду у других. Если его принудят говорить силой, а другие услышат, что он говорит, то…
– Какой ты рассудительный, тебе бы в КГБ работать…
– Может быть, но мы должны прекратить это…
– Послушай-ка, ты, – угрожающе начал Троекуров, – мы не должны ничего делать и не будем, понятно? Этих пленников сейчас сдадут царандою, те отправят их в Кабул, а через месяц их оттуда выпустят, ну может, через два. Если эти, – Троекуров указал на афганцев из кишлака, – с ними не расправятся сейчас, то они расправятся с ними через полгода. Так что заткнись.
Старший самообороны кишлака тем временем ложится на землю рядом с пленником и начинает что-то говорить ему вкрадчиво-успокоительным тоном. Всякий раз, когда пленник пытается приподняться, удар кулака прижимает его снова к земле. Взоры всех пленников устремлены на старшего и его жертву. Во взгляде самого молодого из них, того, что упорствовал на допросе, нескрываемая ненависть.
Мучитель придвигается ближе к старику и, продолжая улыбаться, делает вид, что хочет обнять его. Вместо этого резким движением руки прижимает голову жертвы к земле, а в правой руке у него появляется охотничий нож.
Продолжая говорить что-то успокаивающее, мучитель одновременно колет и царапает горло и грудь острием ножа. Неожиданно он ловко подрезает кожу под густой бородой пленного, а в его голосе появляются нотки гнева, раздражения и нетерпения… Слабый нажим на нож, и кровавая линия становится ярче. Из надрезанного горла жертвы вырываются гортанные звуки.
Пленник что-то бормочет, поток его слов прерывается резкими выкриками истязателя. Наконец, старший самообороны отталкивает душмана от себя и, ухмыляясь, поднимается на ноги. Пленник почему-то со слезами на глазах отползает к группке других пленников, садится на корточки, голова его склонилась на грудь, в глазах испуг, горе, отчаяние. Афганцы из кишлака смеются, они рады такому развлечению.
Старший самообороны замечает устремленный на него полный ненависти взгляд молодого пленного. Он подбегает к нему и с размаху ударяет по голове кулаком. Молодой душман валится на землю.
Я не выдерживаю и вскакиваю. Но чьи-то сильные, как клещи, руки сжимают мне плечи, пригибают к земле.
– Не твое это дело, парень. Ты привыкнешь…
И вот я снова в Афганистане, снова глотаю белую мелкую пыль, снова наши «вертушки» накрывают НУРСами кишлаки с мирными дехканами, а нас запускают их добивать, чтобы якобы не было лишних свидетелей. Я чувствую, что воздух здесь пропитался ненавистью, и теперь каждый афганец, который видит «шурави», прячет глаза, поскольку они наполнены невыразимой печалью и злобой. Теперь уже почти нет кишлаков, в которых остались отряды самообороны. Население уходит в Пакистан, а когда возвращается, то разве что с целью увести нескольких пленных советских солдат, за которых хозяева прилично заплатят. И вот теперь это полковник Бруцкий, который, подобно старшему лейтенанту Троекурову, не вмешивался в дела афганцев, способствовал жестокости, ожесточился сам до немыслимого предела, – и я вынужден буду поставить точку в его жизненной биографии.
Ну что ж, ради Бога! Мне нужен был свежий воздух, я не возражал.
Чем же могла быть интересна биография полковника Бруцкого? Думаю, ничем. Вначале Вьетнам, потом Ангола. Я там не был, но мне хватило первого года службы в Афганистане. Хватило с лихвой. Меня командировали из Афганистана за «выдающиеся заслуги» в Союз, в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, чтобы подготовить из меня офицера для секретной службы ГРУ Генштаба СССР. Там из меня окончательно сделали человека, если это можно назвать человеком. А потом пошли спецзадания, одно за другим, и я понял, что это моя жизнь, что без этого я не могу, и что я есть элементарный профессиональный убийца.
Вот и теперь мне вручена жизнь полковника. Когда-нибудь я сойду с ума и начну бедокурить, сводить на своем языке счеты с жизнью. Найдется молодой специалист, которому так же, как и мне сейчас, поручат прервать течение моей жизни.
Я выбрал для своего задания двоих парней. Первый – невысокий, плотный Эзерин оказался, как и я, белорусом. Второй, по фамилии Перепелов, – русским, туляком. Был он высоким, длинношеим, и, видимо, все еще рос, потому что страдал чудовищным аппетитом. Оба знали, что должны попасть к «духам» в плен, чтобы сопровождать меня в спецзадании. Оба согласились на это после суточного размышления. Не знаю, что им посулило начальство. Парни были мастерами своего дела, прирожденными штурмовиками.
Вечером, в колонне боевых машин двинулись из военного городка. Я сижу на броне третьей машины рядом с Эзериным и Перепеловым. Колонна на окраине города встретилась с афганской ротой, и, растянувшись почти на километр, двинулись дальше уже вместе. У предгорья колонна остановилась. Боевые машины образовали круг. Была установлена небольшая палатка, от ближайшего бронетранспортера подали свет. Офицеры развернули карту и начали инструктаж.
План состоял в том, чтобы незаметно войти в кишлак, в котором дислоцировалась крупная банда, и дерзкими действиями принудить противника рассеяться.
Через некоторое время советские и афганские солдаты длинными цепями поднимались в горы. Впереди действовали группы разведчиков.
В кромешной тьме, соблюдая меры предосторожности, чтобы не наделать шума, начали подъем. Надо было карабкаться по узеньким звериным тропам, по которым мог пройти только проводник. Я со своими парнями шел вслед за разведчиками. Почти на середине подъема взводы один за другим начали уходить в разные стороны. Нам предстояло достичь постов противника, окружить их и по команде уничтожить.
Слышится только шуршание осыпи из-под ног да глухое частое дыхание. Я все время отпускаю впереди идущего человека подальше от себя, чтобы вовремя среагировать на сорвавшийся камень. Тем не менее стараюсь до мельчайших подробностей запоминать путь, которым следовал мой предшественник. Можно напороться на мину. Мои шаги мягки и вкрадчивы. Если будет минная растяжка – лишь случайно я сорву ее. Если вдруг из-под чьей-то ноги срывался камень, все замирали: не вылетит ли сейчас из ущелья душманская осветительная ракета, не ударит ли по нам пулемет?
Делая короткие передышки, вышли к намеченному рубежу. Сейчас предстояло самым тщательным образом замаскироваться. Рассвет вот-вот наступит. Это там, в долине, мрак и неизвестность, а здесь, на вершине, вскоре взойдет солнце.
Эзерин и Перепелов спрятались за камни, едва слышно готовят оружие к бою.
В воздухе чувствовалось приближение утра. В кишлаке можно было различить казавшиеся угрюмыми отдельные дома, которые походили на крепости. Из мрака начали прорисовываться отдельные деревья.
Неожиданно послышались крики, раздалось глухое буханье разрывов гранат. В бой пошли разведчики. Теперь сонная долина ожила. Всюду раздавались очереди автоматов и пулеметов, слышались непонятные крики. Разведгруппа, за которой следовал я со своими ребятами, уничтожила пост, и теперь можно было вести огонь по кишлаку.
Противник был хорошо вооружен и не жалел патронов. Прицельный и плотный огонь не давал возможности высунуть голову. В это время по дувалам начали работать минометы. Тогда я дал команду короткими перебежками, рывками прячась за камнями, приближаться к засевшему за толстыми глиняными стенами противнику. Раздавались все новые и новые взрывы. Через подорванные ворота в крепость устремились бойцы. Тучи пыли и черного дыма поднимались над крепостью и кишлаком. Разведчики опередили нас и исчезли в проломах дувалов. Неожиданно сзади ударил пулемет. Я развернулся и короткими прицельными автоматными очередями не давал пулеметчику высунуться.
– Эзерин, обходи справа, Перепелов – слева!
Мы по очереди вели огонь по засевшему душману, тем временем окружая его. Когда пулеметчик решил поменять позицию, я бы мог сразить его наповал, но мне нужно было вести свою игру. Во что бы то ни стало мне необходимо напороться на засаду и, непременно попасть в плен. Но при очередной перебежке пулеметчик ткнулся-таки лицом в камни. Кто-то из нас подстрелил его. Мы отошли назад, к крепости, в которой бой закончился, и пленных душманов выводили через подорванные ворота.
Неожиданно с гор ударили пулеметы. Послышался свистящий звук и ослепительный взрыв гранаты поджег бронетранспортер. Беспорядочно забегали афганские солдаты. Некоторые из них бросились в крепость, под защиту стен. Но колонна, остервенело отстреливаясь, двинулась по дороге прочь от крепости. Командир группы подыгрывал мне.
– За мной, – скомандовал я и устремился к крепости. Душманы «поливали» колонну из автоматов и пулеметов. Они успели уйти во время предпринятой атаки наших бойцов в горы и теперь были в более выгодном положении. Они могли вести огонь из укрытий, а колонна была как на ладони. Тактически грамотнее было бы засесть в крепости и вызвать подмогу. Но это не входило в наши планы. Колонна, теряя раненых афганских солдат, быстро отдалилась. Ее и не стали преследовать. Весь огонь теперь сконцентрировался на крепости.
В крепости был переполох. Лейтенант Бурлаков руководил обороной.
– Экономить патроны, бить только наверняка! – кричал он, разыскивая радиста.
Расставив бойцов, Бурлаков определил командный пункт и привел туда радиста, белесого паренька, который тщетно пытался связаться с ушедшей колонной. Я помогал Бурлакову, распределяя бойцов, указывая им секторы огня.
Душманы били из гранатометов по нашим огневым точкам. На нижних этажах крепости раздались взрывы и короткие автоматные очереди. Это из укрытий вышли душманы, которые спрятались во время первой атаки.
– Почему они ушли? – недоумевал Бурлаков, зубами разрывая индивидуальный перевязочный пакет: его задела пуля. Я перевязал его, наблюдая, как радист возится с радиостанцией. Мне следовало ее разбить. Эзерин и Перепелов не теряли меня из виду.
По крепости били со всех сторон. Среди оборонявшихся появились раненые и убитые. Душманы спустились с гор и были уже на ближних подступах. Их ручные гранаты чуть-чуть не долетали до наших позиций. Я стрелял короткими и прицельными очередями. На нижних этажах сложилась напряженная обстановка. Оттуда доносились яростные крики. Улучив момент, я кивком приказал Эзерину и Перепелову следовать вниз.
Теперь следовало разбить радиостанцию. Но сперва мне надо было убить радиста. Я не жалел белесого паренька, но убить его просто так мне казалось никчемным. Я прошел через два или три проема дверей, оглянулся, чтобы удостовериться, что меня никто не видит, короткой очередью полоснул по радиостанции. Паренек в мгновение ока сориентировался и, схватив автомат, пустил очередь в моем направлении. Теперь он знал, что враг находится и на втором этаже крепости. Если я сейчас выйду из укрытия, он наверняка заподозрит меня.
В это время в помещение вскочил лейтенант Бурлаков.
– Внизу заваруха, в рукопашную пошли… – кричал он. Я делал вид, что у меня заело автомат. Даже если я сейчас выйду к радисту вместе с лейтенантом, он все равно меня заподозрит. Неужели придется убить их двоих?
Оглушительный лязг раздался в стороне радиста. Бурлаков рванул туда. Выглянул и я. Белобрысый радист лежал, уткнувшись лицом в свою разбитую рацию.
– Крючков? Это с твоей стороны гранатомет бьет! – кричал Бурлаков.
– Я – вниз! – крикнул я лейтенанту и побежал искать своих парней.
Вскочив в пролом в стене, я прислушался. Справа и слева раздавались оглушительные в закрытом помещении автоматные выстрелы.
– Эзерин! – закричал я. Ответа не последовало, а выстрелы смолкли. Неужели образовался «пирог»? Рядом со мной, за непрочными стенами были душманы. На этаж вверх и на этаж вниз были наши. Вдруг послышалась возня, и не мешкая ни секунды, я рванулся к двери. В соседнем помещении на полу сражались двое. Длинный нож мелькал в воздухе. Конечно же, на полу лежал Перепелов, а верхом на нем восседал душман. Я приставил ствол автомата к уху душмана и снес ему полчерепа. Долговязый Перепелов взметнулся вверх, отряхивая с себя белые капли жирного мозга.
– За мной! – скомандовал я, отдавая бойцу свой автомат. В следующую комнату мы бросили гранату и ворвались туда. Добили корчившегося на полу душмана. Этаж был очищен. Спустились вниз. Эзерин и несколько бойцов отстреливались на лестнице от наседавших бандитов.
Сверху свалился лейтенант Бурлаков. Яркая кровь проступала через бинты на предплечье.
– Из крепости надо уходить! Они забросают нас гранатами…
– Много раненых?
– Вынесем, они с гор спустились, поэтому можно пройти по крыше крепости к перевалу и по нему уйти в горы. Должны же за нами придти! – В глазах у лейтенанта светилась растерянность, но до конца жизни он так и не поймет, почему их неожиданно бросили на растерзание душманам. Держись, лейтенант!
– Я буду прикрывать вас, идите! – сказал я Бурлакову, а он передал мне две гранаты.
Некоторое время атаки не возобновлялись. Противник перегруппировывался. Это было удобное время предпринять встречную атаку. Я расставил оставшихся бойцов, увлек Эзерина и Перепелова за собой на этаж ниже.
– Эзерин, ты остаешься. Скажешь, что видел, как нас убило. Вот тебе все наши патроны и гранаты. Будешь отходить вместе с бойцами. Когда выйдете на перевал, дашь красную ракету, вот она. Тогда придет помощь. Все ясно?
– Так точно, товарищ капитан, – пробормотал Эзерин. В глазах у него светилась тоска. Неужели он думал, что он менее способен, чем Перепелов, и поэтому его не берут с собой?
Вооруженные одними ножами, мы с Перепеловым скользнули вниз по лестнице. Мы были уже в подвале, разделенном на бесчисленное количество комнатушек. В каждой комнатушке могла прятаться смерть.
Мы затаились. Мы ждем, когда за нами придут. Вверху слышатся дикие крики, раздаются автоматные очереди. Снова крики. Оглушительно лопается граната. Их у Эзерина две штуки, одна израсходована. По коридорчику протопали люди. Они волокут раненого. Это душманы. В самый раз напасть на них. Но слишком много трупов озлобит врагов.
Взрывается еще одна граната, слышатся крики и стоны раненых. Чья это граната? Пошел ли Бурлаков со своими ребятами по крыше?
В крепости воцаряется тишина. В подстилке шуршат мыши. Слышится отдаленная стрельба. Примерно через час и она затихает. Неужели Эзерин погиб и не дал сигнал?
По коридорчику кто-то ходит, в проеме мечутся тени. Человек с факелом входит в нашу клетушку: в левой руке факел, в правой – автомат. Перепелов бросается на душмана с ножом. Я вижу злобное ощеренное лицо «духа», он бьет из автомата по ногам. Перепелов успевает достать врага, но сам беспомощно падает с перебитыми ногами. Душман корчится на подстилке с ножом, всаженным в глотку. Я добиваю душмана и, спокойно затоптав факел, принимаюсь перевязывать ноги Перепелова. Сверху на меня наваливается человек, еще один, еще несколько. Перепелов орет от боли. Меня бьют по шее, по затылку, по голове чем-то тупым. В глазах появляется красноватый диск солнца, вспыхивают разноцветные звезды, и сознание погружается во тьму.
Я очнулся в темноте. Голова раскалывалась. Ощупал руками лицо. Сухое, без насохшей крови. Это к лучшему. Подтянул ноги к животу: ничего не болит. Стиснув зубы от головной боли, попытался привстать. Можно и привстать, но вот шеей повернуть нет сил. Кажется, что она разбухла и горит. В ушах стоит постоянный звон. Где Перепелов? «Саша?» – шепчу в темноту. Слышу только шумное дыхание нескольких человек. Глаза начинают различать очертания стен. Свет идет откуда-то сверху, но сейчас ночь. Часов на руке нет. В карманах тоже ничего нет. Я в плену. Но где же Перепелов? Что это за люди вместе со мной?
Почувствовал, что начинает подташнивать. Сотрясение мозга. Где Перепелов? Хочется пить.
Ничего не остается, как дожидаться рассвета. Надо попытаться уснуть. Единственная польза от этого заточения – выспаться. Спать, спать. Расслабляюсь, насколько позволяет мучительная головная боль, которая раскалывает череп. Череп в тепле, в огне, ему приятно, ему хорошо, я медленно засыпаю. Мне снятся воробьи на цветущих ветках сирени. Лиловые соцветья сирени благоухают весенним ароматом. Я вижу зеркальную поверхность озера, в котором плескаются рыбы, и концентрические круги, которые расходятся от рыб, плывут по всему озеру, расширяются до бесконечности, и я плыву в этой бесконечности.
Громкий стук, хрипение и гортанные возгласы прерывают сон. Трещит факел, стены в помещении высокие. Душманы пинками поднимают афганских солдат. Подходят ко мне. Я не шевелюсь. Получаю резкий удар ногой в бок. Перед самым носом вижу ствол автомата. Мне приказывают подняться. Едва я поднимаюсь, как тут же начинают скручивать куском проволоки руки за спиной в локтевых суставах.
Одного за другим нас ведут по извилистым коридорам, выводят на свежий воздух. Едва брезжит рассвет. Афганских солдат ставят в один ряд у стены. Я остаюсь в стороне. Подходят еще какие-то люди. Слышится негромкая гортанная речь. В руках душмана электрический фонарик. Он по очереди подходит к каждому из солдат, светит прямо в лицо, задает отрывистые вопросы. Лица солдат белы от ужаса. Я с трудом удерживаю голову. Некоторых солдат выводят из строя. Звучит короткая команда. Глухо лязгают автоматные затворы. Вспышки выстрелов ослепляют меня, и когда глаза снова привыкают к полумраку, то вместо стоящих солдат вижу валяющиеся тела. Некоторые из солдат еще шевелятся, их добивают.
Меня и троих «отобранных» афганских солдат ведут по пустым улочкам кишлака. Ведут очень быстро, подгоняя ударами кулаков в затылок. Я берегу свой затылок, ему досталось и без того, поэтому все время наступаю на пятки впереди идущему невысокому душману. Он не выдержал, попытался со всего размаха дать мне оплеуху, я отпрянул, и в это время искры посыпались у меня из глаз: идущий сзади ткнулся головой мне в затылок.
Нас вывели из кишлака и повели по ущелью.
Потом мы долго петляли по узким гористым тропинкам, и, наконец, нас ввели в скрытую от посторонних глаз пещеру. Глаза увидали каменные своды. Пленных увели вниз, и мы очутились на каменном грязном полу. Много людей здесь побывало. В углу копошились фигуры. Был слышен негромкий разговор, но стоявшие в голове шум и звон мешали разобраться, на каком языке они говорят.
Я осторожно повернул голову направо: в темноте что-то шевелилось, вздыхало. Напрягая зрение, я долго всматривался в полумрак, прежде чем понял, что это пленные афганские солдаты.
«Выходит, – догадался я, – что я действительно в плену, но отправят ли меня в Пакистан?» Сильнейшее головокружение заставило меня застонать и бессильно опуститься на каменный пол. Боль была невыносима, и я скорее всего помянул черта. Когда боль отпустила, увидел, ко мне подползает человек. С каким ужасом я понял, что это тот самый белобрысый паренек, радиостанцию которого я раздолбал из собственного автомата.
– Ты русский? – услышал я шепот. Я молчал.
Радист подполз совсем близко, удостоверился, что я одет в форму советского десантника, потом заглянул мне в глаза. Гримаса боли исказила его лицо. Он поднял руки, чтобы вцепиться мне в горло, но я ногой отбросил радиста от себя. Сверху послышался шум, к нам спустился сторож с горящим факелом. Он удостоверился, что все в порядке, поднялся наверх. Вскоре прозвучала команда, сверху снова спустились люди, пинком подняли меня на ноги и повели наверх. Там же, в пещере, но при дневном свете, который падал неизвестно откуда, меня поставили перед душманом с чистой пышной бородой.
– Твое имя? – сразу спросил переводчик, безбородый, в остатках европейского платья.
Я молчал.
– Если ты будешь молчать, тебе будет плёхо-плёхо, – сказал переводчик.
– Крутиков Петр Вячеславович, – назвался я по легенде. Лицо человека в тюрбане несколько посветлело. Он смотрел как горилла – прямо в глаза, постепенно приближаясь. Я попытался отвернуться от еще ближе наклонившегося незнакомца, но боль в шее остановила меня.
Душман быстро заговорил, поглядывая то на меня, то на переводчика. Мысли мои смешались, расплылись в каком-то красном дыму, ноги подкосились. Я зашатался и упал. Двое душманов, зло переговариваясь, подняли и поставили меня на ноги. Я слышал слово «шурави», понимал, что речь идет обо мне, но у меня не было сил даже стоять. Затем меня вытолкали на свет. Через некоторое время из пещеры показались двое душманов, которые вели под руки радиста. Его водрузили на ишака, и все двинулись в путь.
Еще не совсем стемнело, и слева от себя я видел высоченную отвесную стену, справа – глубокую, уже покрытую черным покрывалом ночи, пропасть. Банда двинулась по узкой тропе, как бы врезанной в отвесную каменную стену. Головокружение мешало сосредоточиться. «Что делать с радистом?» – мучила меня мысль. «Может, столкнуть его вместе с ишаком в пропасть?»
Нас вели к перевалу. Огромная, белая, как бумага, луна освещала безжизненные, лишенные растительности горы. Я прикинул, сколько всего было людей в банде. Впереди двигалось человек сорок, идущих сзади было меньше. Всего человек пятьдесят-шестьдесят.
От прохладного воздуха стало легче. Проклятое головокружение! С головой не все в порядке. Мне нужна неподвижность, а тут надо трястись по горной дороге. Колонна перевалила хребет и не останавливаясь пошла дальше.
Судя по небу, было уже за полночь. Во рту пересохло. Рядом шли угрюмые охранники – двое молчаливых душманов. У них точно есть вода. Оглушить одного, столкнуть в пропасть другого – и напиться. Нельзя.
Идущие впереди остановились. Привал. Радиста сняли с ишака. Что с ним? Ранен в ноги?
Охранники достали из рюкзака длинный кусок веревки и крепко связали меня. Будут спать. Действительно, один из охранников прикорнул.
Вскоре банда опять двинулась в путь. Меня развязали, но идти было все равно тяжело. Начался спуск, а спускаться всегда тяжелее, чем двигаться в гору. Монотонная ходьба надоедала. Хотелось спать. К счастью, приближался рассвет. Возможно, днем душманы не рискнут продвигаться.
Постепенно местность выравнивалась, и мы оказались в долине. Шли сначала по сыпучей каменистой почве, затем вышли на дорогу, ведущую к невысоким деревьям. Здесь душманы расположились на отдых. Мне опять связали руки, и я прислонился к камню, желая уснуть. Не успели мысли мои спутаться, как неожиданно перед собой я скорее почувствовал, чем увидел или услышал, белобрысого радиста. В руках у него был огромный камень. Из ушей текла сукровица – он был контужен.
– Ах ты, гадюка! – вскрикнул радист и опустил камень мне на голову. Сознание у меня сразу померкло.
Очнулся я, когда меня грузили на ишака. Я вцепился в холку животного, иначе съехал бы на землю. Голова трещала, меня мутило. Экий патриот! Сообразил, что радиостанцию разбил я. Ну черт с тобой, но задание я выполню. Меня мучила страшная жажда. Я стонал, просил пить, но бесполезно. Когда ко мне приближался душман со злым лицом, я инстинктивно закрывал голову руками. Каков нынче я с виду: вся юность выпита из глаз, весь цвет сошел со щек, в гримасе боли сжатые бледные губы. При взгляде на мое лицо у человека пропадает желание Жить. Но это к лучшему. Я не хочу, чтобы мое лицо было таким же угрюмым, как у бредущих рядом афганцев, или пылало ненавистью, как у юного белобрысого радиста. У него в Союзе есть девушка, которой он пишет письма, а она, наверное, гуляет вечерами с каким-нибудь его товарищем, а потом они целуются, разговаривая о нелегкой службе.
Наконец-то мне дали попить. В жестяной кружке плескалась какая-то мутная жидкость. Подмешали наркотик? Но не умирать же от жажды! Я жадно выпиваю пойло, пытаясь распробовать вкус. Слегка приторно-сладкий. Не знаю, что это. Но сразу становится легче. И веселее. Голова не кружится. Душманы здесь хозяева, мы – гости. Они всегда будут хозяевами в своей стране, а мы гостями. Глупое наше правительство, зачем было вводить войска в Кабул, брать дворец Амина. Пусть войска ввели бы американцы, поставили свои ракеты и охраняли от этих же душманов. Эти же душманы были бы тогда пламенными патриотами и мы бы им помогали.
– Сволочь, сволочь, – слышится сзади шепот. Это радист. Он едва плетется. Чтобы он шел побыстрее, всякий раз его пинают кулаком под бок. Мне значительно лучше, поэтому я придумал уступить радисту ишака. Знаком показываю душману, что могу идти сам, а вот этого слабака, показывают на радиста, следует везти на животном. К моему удивлению, со мной соглашаются. Когда радиста грузят на ишака, он шепчет:
– Все равно сволочь…
Это еще что? Что такое? Грохот, шум, свист внезапно разорвал тишину. Я резко присел и оглянулся. Шум доносился спереди.
Неужели засада? Душманы, отстреливаясь, поворачивают. Охранники поторапливают меня, вынуждая бежать. Бедного радиста на ишаке немилосердно трясет.
Душманы оставили заслон, остальная часть колонны начала обходить место засады. Не снижая темпа передвижения, уходим все дальше и дальше от места боя, и вскоре автоматных очередей уже не слышно. Приближается утро. Но только тогда мы приближаемся к селению, когда становится полностью светло. В кишлаке пленных подводят к глинобитному сараю, радисту связывают руки, и всех нас запирают в этом сарае. Через большие щели в дощатой двери проникают яркие лучи солнца. Я приближаюсь к двери и начинаю наблюдать за двором. У двери ходит молодой охранник. Он с небольшими усиками и нечесаной бородой. Одет в безрукавку-кафтан зеленого цвета. Вооружен «Калашниковым». Через весь двор тянется дувал, в нем – большая калитка. Она открыта, а рядом закрытые деревянные, с большими металлическими заклепками ворота. У калитки вооруженная охрана – два человека. За калиткой кишлачная улица. По ней изредка проходят жители кишлака, что-то тащат на своих тощих спинах ишаки.
Через двор, прямо к двери сарая, идет душман.
В руках у него чайник и пиалы. Я откидываюсь на прежнее место. Душман входит. Он принес зеленый чай. Чувствую, что просто изнемогаю от жажды. Но опять питье с каким-то странным привкусом. Через некоторое время я впал в глубокое забытье: душманы наверняка подмешивали сильнодействующие наркотики.
Сознание мое начало проясняться в тот момент, когда я почувствовал, что меня ведут по узенькой улочке. Впереди себя я вижу худощавого молодого человека, очень аккуратно одетого. Он обвешан фотоаппаратурой. Еще только этого не хватало! Оглядываюсь – позади идет человек с телекамерой! Ясно, что иностранцы. Но кто? Французы, немцы, американцы? Может, они уже засняли войско полковника Бруцкого. Тогда мне нет смысла убивать его. Надо попытаться выяснить у них что-нибудь о полковнике.
Меня подводят к полуразрушенному строению. Кругом полно душманов. Вот они мажут лица себе и женщинам красной краской, принимают живописные позы среди развалин. Поджигается и разбрасывается пакля… Мне в руки суют разряженный автомат, оставляют одного. Репортер смотрит на меня. Его не устраивает выражение моего лица. Иностранец чистенький, видно, очень заботится о своей внешности. Его напарник телерепортер, напротив, неряха: форменные солдатские брюки смяты, забрызганы грязью и покрыты пятнами красной краски, которой он снабжал «артистов». На коленях – «мешки», пуговицы на куртке разнокалиберные, кожаные сумки с различными «прибамбасами» сильно потерты. Мне он симпатичен. Что же они пытаются такое заснять? Очередной «жареный» факт про зверства советских интервентов в Афганистане? Ай да Рейтер, ай да Франс-пресс! Я смеюсь открыто, показывая на лежащих и измазанных краской душманов, мирных жителей, которым, наверное, заплатили, или даже и не платили, а местный бай, может, главарь банды приказал участвовать в комбинированных съемках.
Иностранцам это не нравится. Через переводчика они бросают пару коротких фраз моим охранникам. Те с вытаращенными глазами и деланно злыми лицами подходят: один справа, другой слева. Может, врезать одному и другому? Пусть останется на пленке, пусть прокрутят по всему миру, как советский десантник сражается с афганскими моджахедами. Нельзя! Это ставит под угрозу выполнение задания. Душман подходит ко мне, другой стоит начеку. Голос у «духа» резкий, он что-то кричит мне в ухо, а руками берет голову и поворачивает в сторону. Я не должен смотреть в объектив. Черт с вами!
Потом снимают радиста. Зрачки его глаз широченны. Он находится в невменяемом состоянии. Его садят на груды обломков, а сзади нагромождают «кучу окровавленных тел». Боюсь, что после таких «кадров» нас вряд ли оставят в живых. Надо притворяться оглушенным наркотиком.
Когда мы возвращаемся назад, телерепортер старается заглянуть мне в лицо. Я подмигиваю ему. Он что-то шпарит переводчику. Это французы. Лучше бы американцы. С теми легче договориться.
После съемок с нами перестают церемониться. Срывают обмундирование, бросают грязные широкие шаровары, рубашку и безрукавку неопределенного цвета. Вместо нашей военной добротной обуви дают старые полуистлевшие ботинки. Я помогаю переодеться радисту. Он все еще в полузабытьи. Нас снова снимают. Я обращаюсь к репортерам на немецком языке. Они удивлены, но ничего не понимают. Переходим на английский. Они начинают выпытывать мое имя, обстоятельства пленения, расспрашивают, сколько мирных жителей я убил. Я говорю, что не являюсь коммунистом, что меня силой призвали в армию и заставили убивать душманов. От моих признаний репортеры теряют ко мне всякий интерес. «Бруцкий, Бруцкий», – повторяю фамилию полковника, но французы недоуменно пожимают плечами. Они угощают меня сигаретой и уходят.
И вот снова душманская колонна в пути. Теперь мои руки связаны, а конец веревки привязан к ишаку.
Томительно долго тянулась ночь. Я корил себя, что не поспал днем.
Остановились на первый привал. Меня отвязали от ишака, но рук не развязывали. Судя по звездам, идем на юг или юго-восток.
Спустя некоторое время движение возобновилось. Через несколько километров гора, чуть левее, как бы начала расти вверх, закрывая звезды. Вскоре тропа свернула к этой горе, и теперь огромная скальная стена была рядом с тропой. Справа потянулись многочисленные нагромождения камней, а среди них отчетливо слышалось журчание воды. Сразу же захотелось пить. Перед глазами стояла живительная, прохладная, свежая вода. Мне ничего не оставалось, как вообразить, что я зачерпываю полным котелком воду и пью, пью, пью. Жажда утихает. Горная речушка стала уходить правее, и шум ее вод становится все тише и тише.
Я вбираю веревку в руки и иду рядом с ишаком. Моим охранникам все равно. Радист трясется на ишаке и не спит. Сейчас я его достану. Прикинусь мотострелком. Известное дело: вражда между спецназом ГРУ, КГБ, МВД и регулярными частями.
– Ну что, выкормыш маршала Огаркова, попался «духам» на закуску? Сейчас завезут тебя в Пакистан, обрежут, примешь ислам и будешь рабом какому-нибудь душману…
Радист прореагировал только на мой голос. Разобрав смысл слов, он отворачивается.
– Что же ты отворачиваешься? Ты коммунист, комсомолец?
– Если бы у меня было оружие, я бы тебя расстрелял на месте! – шипит радист.
Я оглядываюсь. Охранники плетутся поодаль, их не интересует наша болтовня.
– Ах, ты расстрелял бы меня! Коммунисты всегда любили пострелять. Начиная с 17-го годика… Да не зря и 17-й полк в Афганистане сейчас действует…
– Контра недобитая, – слышу Я, но по тону чувствую, что пареньку тоже хочется поговорить, да и не верит он в то, что говорит. Малый все еще в шоке. Двадцатый год ему, а тут чужая страна, кровь, потеря товарищей.
– Неужели ты веришь в строительство коммунизма?
– Я верю в родную землю, в товарищей, а не в предателей вроде тебя…
– Постой, постой… – начинаю заводиться я. – Это здесь-то родные приволжские просторы, широкая русская равнина? Ты знаешь, что Афганистан – это кипящий котел с крепко закупоренной крышкой. Как ее ни закручивай, результат будет один – пар найдет выход. А когда давление в этом котле достигнет критических пределов – жди взрыва. Вот тогда не поможет и государственная граница. И не забывай, что Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, в конце концов, это мусульманские страны. Да, сегодня это часть великого и могучего СССР. Но ты не знаешь, какое идет разложение партийной верхушки! Ты не знаешь, что каждый день в Кабуле находят тела высших чинов ихнего КГБ? Так и у нас такое есть. В Тбилиси в республиканское КГБ мину подложили – тридцать кагебешников насмерть. Учения «Кавказ-85» знаешь как весело прошли. Все командование учениями село в самолет и не приземлилось. Парашюты забыли дать. И не похищали в той стране, которую ты защищал тут, министра финансов с требованием выкупа в десять миллионов? Нет, не похищали… И не воруют на заводах, на фабриках, из магазинов? Нет, все живут честно, по справедливости, ради которой умирали наши деды и отцы. Почему ты молчишь? Хочешь сказать, что мы здесь воюем не против конкретного противника, а против идеологии? Так идеологию нельзя победить оружием, браток…
Некоторое время я молчу, посматривая, как отвернувшийся радист ворочает из-за неудобного положения головой.
– Ты перестал мыслить! Перестал мыслить еще в школе, когда конспектировал материалы очередного съезда КПСС. Ты злишься, потому что попался. Так знай, тебе предложат уйти на Запад. Предложат работать на них. Иди, если сможешь. Лично мое место – страна, где я родился, где мой народ, который говорит на моем языке, одних со мной убеждений. Это не те партийцы, которые сейчас жируют на хребте народа, нет. Я знаю, что мне делать. Мне бы только попасть к полковнику Бруцкому.
– Полковнику Бруцкому?
Кажется, я добился того, чего хотел. Видно, очень наболело у парня, если мне потребовалось не более получаса для ломки его убеждений. Ломки, конечно, нет никакой, есть малая вероятность этого, проложен вектор, проведена черта. Дальше работает сомнение. Оно разъест его душу. Он станет неврастеником. Но что поделаешь, на войне как на войне.
Ночь подходила к концу, позади тяжелый путь. Я заметил, что афганцы не из тех, кто любит жизнь и умеет жить. На этот раз они расположились прямо на горной тропе под зависшими над головой скалами. Солнце стремительно поднималось вверх, и даже в тени становилось очень жарко. И ни одного живого существа за целый день: ни змеи, ни птицы.
Оставаться долго в таком месте в состоянии повышенной чувствительности очень утомительно. Окружение враждебным и начинаешь понимать угрюмость афганцев. Таковыми их создала природа. Радист, свернувшись калачиком, спит. Из его ушей постоянно вытекает сукровица, лицо давно не мыто, руки тоже. Это пленник великой и последней империи. Я тоже ее пленник, но что еще хуже – ее наемник, профессиональный убийца, и мне не терпится привести приговор моего командования в исполнение.
Только сегодня я заметил, что мои охранники по очереди принимают наркотики. Восток.
Странно, я лежу на жаре и не потею. Там, где я вырос, зима длится не менее трех месяцев, потом идет холодная весна, и только в середине мая наступает время, когда можно купаться и подставлять всего себя горячим лучам солнца. Я всегда подолгу жарился на пляже, пока весь не покрывался потом, и только тогда лез в холодноватую с утра воду. Я точно играл с солнцем, я так его любил! Но теперь, побывав тут, я уже никогда не смогу относиться к солнцу по-прежнему, никогда не смогу подставить себя солнцу, не вспомнив про Афганистан.
– Опять поганая ночь, – были первыми слова радиста, когда он проснулся.
Теперь нас обоих привязывают к ишаку, а на спину животному взгромождают поклажу, оружие. Снова справа и слева движутся немые горы, трудно поверить, что в этих горах вообще существует жизнь, есть где-то кишлаки, люди возделывают скудные лоскутья земли: эта земля кажется первозданной и напоминает лунный пейзаж.
Дни и ночи тянутся мучительной чередой. Ноги сбиты в кровь. Радист заполучил воспалительный процесс в ушах и глохнет с каждым днем. Теперь он уже не считает меня предателем и без зазрения совести принимает из моих рук те капли воды, что удается вымолить у душманов.
Однажды, сделав обычный утренний привал, позавтракав и накормив животных, душманы днем продолжали путь. Чувствовалась близость Пакистана. Но тем же днем произошло событие, изменившее на время установившееся течение жизни.
Я заметил, что в основном душманы были бедно одеты и почти не вооружены. Оружие в этой стране стоит недешево. Тощие ишаки, скудость питания, убогость снаряжения наводили на мысль, что мы, как пленные, составляли главную ценность банды. Но вот пришел час для душманов расстаться с их главной ценностью.
Впереди колонны произошло оживление. Вместе со всеми мы подошли туда и увидели нескольких всадников, вооруженных автоматическим оружием. Между главарём банды и встречными путниками произошел разговор на повышенных тонах. Неожиданно один из всадников сорвал автомат и разрядил его в каменистую почву прямо у ног главаря. Душманы схватились за оружие, но главарь поднял руку. Скорее всего он понимал, что за всадниками стоит сила. Раздались крики, и радиста и меня подвели к неожиданным гостям. Они тоже были афганцами, но чувствовалось, что это были люди особой породы, и связываться со всяким сбродом вроде наших охранников у них не было желания.
Меня усадили на круп лошади позади одного всадника, радиста привязали к седлу, как ношу. Его обувь давно истерлась, а ноги опухли и кровоточили.
Целый день афганцы ехали быстрым шагом и к вечеру достигли большого селения. Нас заволокли в темный сарай, поставили на глиняный пол кувшин с теплой водой и бросили пару лепешек. Так и быть, эту ночь следует посвятить сну, тем более, что дверь вся в щелях, упирается в дувал, и ничего нельзя высмотреть. Радист долго дует на свои саднящие ноги, что-то невнятное бормочет, и его одолевает сон. Я долго не могу уснуть, а когда проваливаюсь как в яму в долгожданный сон, всхлипывающее бормотание радиста будит меня, и я снова мучительно заставляю себя уснуть. Таким образом я просыпаюсь за ночь три или четыре раза. Но вот мой слух уловил что-то непонятное. Когда я отряхиваю с себя сонную одурь, то вижу, что через узенькое окошечко под потолком снаружи кто-то пробирается к нам внутрь. Нельзя в темноте разобрать, кто это: животное или человек? Меня одолевает страх. Лихорадочно припоминаю свои познания из географической зоологии: какие опасные для человека животные водятся на юго-востоке Афганистана? Ничего путного в голову не приходит. По частому дыханию, характерному шороху догадываюсь, что все-таки это человек. Но с какой целью пробирается он сюда через крошечное окошечко, сквозь которое едва протиснется голова? В этот момент он беззащитен. Ударом кулака по голове его можно убить. Но стоит ли?
Я на всякий случай утаскиваю радиста в угол, прикрываю его собой, сам же принимаю оборонительную позу.
Наконец, грузная туша вваливается внутрь сарая. Некоторое время человек лежит неподвижно, потом начинает издавать короткие сипящие звуки, очевидно обозначающие просьбу, чтобы мы не поднимали шума. Неожиданно человек щелкает у своего лица зажигалкой, и в короткой вспышке кремниевой искры я узнаю лицо нашего прежнего охранника.
Нас хотят выкрасть! Душман вооружен до зубов: у него два ножа и два пистолета. Я бужу радиста и коротко объясняю ситуацию. Ему все равно, у кого быть в плену. Вместе с душманом подсаживаем паренька к окошку. Боже, какой он легкий, килограммов пятьдесят. И зачем таких берут в армию? Голова его без труда протискивается в проем окна, вперед он протягивает руку, и, очевидно, его подхватывают снаружи. Затем следую я. Вначале душман охватывает мою Лодыжку, и я пробую просунуть голову в проем, но мне это не удается. Не знаю – маленькое окошко или у меня большая голова? Тогда душман с готовностью становится на четвереньки, я ставлю ногу на его спину и чувствую под истонченной подошвой своего ботинка острый хребетник человека, который постоянно терпит нужду. На этот раз мне удается протиснуть голову, но что делать с плечами, я не знаю. Тогда я, как и радист, просовываю вперед руку. Меня сразу же хватают за вытянутую руку и с невероятной силой тащат через окно. Если бы я не напряг мышцы плеча, руку, наверное, просто оторвали бы, а я сам остался б торчать в окне. Левой рукой провожу по груди подсаживающего меня душмана – и он соображает! Немного подавшись назад, я через щелочку получаю в правую руку нож. Глинобитная стена достаточно мягкая для стали. Пласт за пластом вырезаю куски глины, долблю стену, ковыряю, стараясь не шуметь. Следует еще одна попытка. От окна отваливается кусок глины, и вместе с ней сваливаюсь я. Покуда вылезает наш охранник, я успеваю спрятать нож, зажав его между собственными ягодицами. Делаю вид, что потерял нож, выронив его при падении. Но времени на поиски ножа нет, нас тащат к дувалу, через который переброшена веревка с узлами. Перепрятываю свое оружие. На другой стороне дувала нас ждет человек с автоматом. Когда радист прыгает на больные ноги, он громко вскрикивает. Раздаются иные крики, голоса со стороны ворот. Звонкая автоматная очередь разрывает сонную тишину. В небо взлетают ослепительные ракеты. Мы прижимаемся к дувалу, а потом стремительно мчимся по улочке. Радиста приходится тащить за руку.
В это время по кишлаку начинают бить из пулемета. Сворачиваем в сторону, перескакиваем ров, переваливаем через невысокий дувал, взбираемся на крышу дома и прыгаем вниз. Осыпь, катимся. Весь кишлак – во вспышках выстрелов. В одном месте что-то уже горит. Мы бежим по руслу ручья. На бегу хватаю рукой живительную влагу, пытаясь если не напиться, так хоть освежить давно не мытое лицо.
Нас встречают двое человек с лошадьми. Опять я усаживаюсь на круп, и опять радиста валят и закидывают как тюк поперек лошади. Душманы бегут, ведут лошадей под уздцы. Все небо в трассерах.
Неожиданно лошадь, на которой лежит радист, спотыкается и падает. Ее пытаются поднять, но она поднимается только на передние ноги. Радист тоже падает. Предприняв несколько попыток поставить на ноги животное, душманы решают бросить лошадь. Наш охранник вставляет скакуну в ухо пистолет. Раздается выстрел. Голова животного с громким стуком ударяется о землю. С лошади снимают седло и вручают мне. Радиста подбадривают пинками.
– Я не хочу никуда бежать. Мне больно! – ноет паренек, поминутно спотыкаясь и падая. Его подхватывают под руки и волокут, он упирается, его бьют по голове. Он действительно не может идти, ему все осточертело, он не соображает, что происходит и чего от него требуют. Я боюсь, что сейчас ему вставят в его воспаленное ухо ствол пистолета и нажмут на курок, как это сделали с лошадью.
Приходится мне уступать свое место.
Мы все дальше и дальше уходим от кишлака. Кажется, погони нет. Куда спешить, если преследователи спокойно найдут нас днем. Возможно, они прикончат нас всех.
Мы движемся прямо на взошедшее солнце. На восток и в гору. Неожиданно я слышу характерный реактивный гул. Высоко в небе проносятся самолеты. Это советские МИГи. Знаю, что наша авиация вольготно чувствует себя на всей территории Афганистана и прощупывает противовоздушную оборону Пакистана. Нашему начальству хочется разбомбить душманские базы в Пешаваре. Может, мы где-то рядом с границей.
Мое предчувствие оправдалось. К исходу дня, пробираясь немыслимо тяжелыми горными тропинками, вышли к долине. Я видел, как главарь долго рассматривал долину в бинокль, затем сделал знак, и мы сорвались бешеным галопом вниз. Появилось огромное количество деревьев. Ветки хлещут по лицу. Мы продираемся сквозь чащу. Передвижение более быстрым темпом вперед невозможно, слишком густы заросли.
Наконец, мы выбираемся на дорогу. По ней в сторону Пакистана движутся караваны. Это изгнанное войной мирное население. Обездоленные афганские беженцы.
Мы разделяемся на две группы. В одной группе остается главарь банды, его подручные и все стрелковое оружие. Меня и радиста переодевают в более привлекательную одежду. На голове – чалма. Это переодевание – для пакистанских пограничников.
Определенного поста пограничного контроля нет. Пограничники прохаживаются вдоль медленно движущейся плотной колонны и выборочно проверяют поклажу. Ищут в основном оружие и наркотики. То там, то здесь вспыхивают перепалки, когда оружие находят. Среди пакистанских пограничников находятся представители моджахедов. По своему усмотрению они или заступаются за беженцев с оружием, или забирают его. Оружие стоит дорого, оружие – это афганская валюта. Обирают в основном бедняков.
Мы проходим незамеченными, словно нас вообще нет. Оно и понятно – у нас скудная поклажа, оружия нет. Мое лицо черно от пыли и загара, белобрысый радист по самые глаза закутан чалмой. Кроме того, из его ушей воняет, на лице омерзительные струпья.
И вот мы на территории Пакистана. Впервые за месяц я вижу автомобиль. Сразу вспоминаются такие вещи как душ, полотенце, сигарета. К моему удивлению, автомобиль ждет именно нас. Японскую развалюху загромождают поклажей, нас усаживают наверх, и водитель давит на акселератор. Ишаки с беженцами, деревья, редкие придорожные столбы с указателями проносятся мимо. Понятия о правилах дорожного движения здесь нет никакого. Встречную машину наш водитель объезжает то справа, то слева. Тормозами предпочитает не пользоваться. Наверное, их у него просто нет.
Я с удовольствием, наблюдаю за живописными окрестностями. Глаза отдыхают на зелени. Я вижу множество домашних животных и, когда мы проезжаем через селения, такое же множество людей, совершенно не похожих на афганцев. Пакистанцы страшно возбужденные люди. Нельзя увидеть спокойного пакистанца. Они кричат, размахивают руками, что-то делят, о чем-то спорят. Они не ходят, а почти бегают.
Боже, когда же наконец я смогу вырваться от своих теперешних хозяев и выйти на Бруцкого?! Где ты, полковник Бруцкий? Ты уже сформировал свою бригаду, тебе дали оружие, и, может, ты уже ушел в Афганистан воевать против солдат, которые тебе родные по крови. Оружия и денег тебе не пожалеют. Ты будешь брать в плен советских солдат, будешь убеждать их воевать не против собственного народа, но против коммунистической заразы, которая как язва гложет тело народа. На твою сторону начнут переходить роты, батальоны, полки. Америка поможет! Он всегда помогает, если брат бьет брата.
Полковник Бруцкий! Ты зашлешь своих эмиссаров в Союз, и все, кто побывал в Афганистане, перейдут на твою сторону. Ты откроешь границы с мусульманскими странами и бациллы фундаментализма проникнут на советский восток. Эх ты, полковник Бруцкий, ты объявил джихад, священную войну против коммунизма?
Целый день водитель гнал автомобиль, выбираясь на все более лучшие дороги. Передо мной был Пакистан. Я видел его.
Дорожные таблицы указывали, что мы мчимся к Исламабаду. Это осложняло выполнение моего задания. Меня интересовал Пешавар и полковник Бруцкий, а не те американцы, которым нас могли продать наши хозяева.
Мое положение кажется мне безнадежным. Мы плутаем в темноте по дорогам с одной горящей фарой. Кажется, мы заблудились. Чувствуется близость столицы, но водитель кружит по одним и тем же улицам. Может, он заметает следы?
Наконец, автомобиль въезжает во двор, ворота за нами сразу запирают. Меня ведут в глубину двора, заталкивают в сырое помещение. Следом приносят почти безжизненное тело радиста. За последние сутки ему досталось. Я оглядываю наше временное пристанище. Оно значительно лучше, чем любое из предыдущих. Только ужасно сырое. Приносят поесть. Я растормошил радиста и силой кормлю его. Его тошнит, у него температура. Знаками показываю охраннику, что мой товарищ болен. Охранник запирает дверь и уходит. Через некоторое время приносит неизвестный растительный порошок, на вкус страшно горький. Хинин? Пробую напоить pa-листа порошком, но его снова рвет.
До полуночи нас никто не беспокоит. Но вот раздается скрежет, дверь распахивается, и в комнату входят несколько человек. Я не вижу в полумраке их лиц. Они отодвигают от стены какие-то ящики. Показывается отверстие в полу. В отверстие бросают пару циновок и указывают спускаться туда. Что поделаешь! Под комнатой находится подземелье. На удивление, в нем сухо. Под ногами шуршит травянистая подстилка. Укладываю горячечного радиста в углу на циновку, другой укрываю. Сверху мне подают лепешки и кувшин воды. Потом начинается нечто странное. Я слышу стук камней, скрежет железа. Да нас просто-напросто замуровывают! Мы оказались в кромешной тьме.
Вот тебе и Джамхурият Ислами Пакистан!
Неизвестно, сколько мы здесь проторчим. Радист без врачебной помощи потеряет слух, его ноги загноятся, и он получит гангрену. Я ослепну и задохнусь в этом каменном мешке. Дикари! А там, на воле, двадцатый век, небо бороздят «Боинги».
Сколько времени понадобится душманам, чтобы сторговаться со своими хозяевами? Неделя, две, месяц?
Несмотря на усталость, ночью я лишь вздремнул. У радиста начался сильный жар, пришлось смочить ему лоб водой из кувшина. Я обследовал стены, потолок. Глухо, прочно, надежно. Домашняя тюрьма.
У меня есть нож. В одном месте начинаю ковырять стену. Может, удастся сделать подкоп.
По шуму, крикам, едва долетающим сюда, в подземелье, ориентируюсь, что наступил день. Гремит по земле двуколка. Значит, направление подкопа я выбрал правильно.
Звуки затихают. Вновь наступает тишина. Это уже ночь. В полночь слышатся удары лома, и через пробитую дыру нам просовывают кувшин с водой и бросают пару лепешек. И вовремя. Радисту стало немного лучше, он все время просит пить.
Жизнь для нас превратилась в чередование дневного шума и ночной тишины. Ровно в полночь слышатся желанные удары лома, мы получаем свою пайку, жадно набрасываемся на лепешки, стараясь из их вкуса получить впечатление о том мире, который находится наверху и недоступен нам.
Радист окончательно оглох, но настроение его улучшилось, он вспоминает свою Россию, болтает о школе, об учителях, сетует на судьбу. Его родители были геологами, но ни разу не взяли его с собой в экспедицию. Зато у него дома богатая минералогическая коллекция. Коллекционер!..
– Когда мы вырвемся отсюда, когда мы вернемся на родину, я тебе обязательно покажу ее…
Бедный мальчик! Я не могу тебе объяснить, что мы, может, и не вырвемся отсюда. Если американцы пожалеют пару тысяч долларов, нам перестанут давать воду, мы охрипнем от криков и сдохнем в этой норе.
Я усердно ковыряю стену, все увеличивая и увеличивая яму в ней. За сутки мне удается проделать подкоп на целую пядь. Два метра горизонтального хода и метра четыре вертикально вверх. Шесть метров – шестьдесят суток. Но куда потом девать землю?
Подкоп превратился в мой хронометр. Меряю ножом его длину – десять ножей – десять суток. Именно через десять суток лом начал пробивать лаз не в полночь, а значительно раньше. Впервые за многие дни мы видим свет и радуемся ему как дети. Удары лома обрушивают края отверстия. Нас отсюда забирают!
Но это ошибка. Через лаз в наше подземелье спускается охранник, в его руках керосиновая лампа. Впервые я вижу желтые стены своего жилища. Вслед за охранником протискивается долговязая фигура. Американец? Наконец-то! На глазах у американца черная повязка. Быстрым движением руки он сорвал ее.
– Русские?
– Русские!
– Фамилии, имена, звания?
Американец говорил с едва заметным акцентом, переговаривался с душманом на дари. Знает языки, собака. Я увеличил свое звание до майора, радисту присвоил лейтенанта. Но это, похоже, не особенно заинтересовало американца. Он громко, в резкой форме разговаривал с душманом. Они торговались? Или, может, американец выговаривал душману за плохое обращение с военнопленными?
– Мой товарищ болен, у него воспалены уши и гниют ноги. Нужны антибиотики!
Американец осмотрел радиста. На его худом лице появилась брезгливость.
– Вам будет оказана медицинская помощь…
Это были его последние слова. Нас опять замуровали. И опять началось чередование шума и тишины, и опять время измеряется длиной ножа.
Через пару дней к нам пожаловал пакистанский фельдшер. Он смазал распухшие ноги радиста какой-то вонючей дрянью, оставил антибиотики. Кормить нас стали лучше.
Землю из подкопа мы аккуратно распределяли по всему подземелью, предварительно сгребая травянистую подстилку, а потом вновь ее расстилали. Радисту лучше, он пробует подниматься на ноги, делает пробные шаги. Остальное время занят тем, что трамбует землю ударами кулака.
Я пробил глиняную стену и выбираю теперь каменистую почву. Она податливее, чем я думал. За сутки мне удается проковырять две или даже три длины ножа. Почва Плотная, это обезопашивает нас от возможного обвала.
Время идет. Фельдшер больше не появляется. Подкоп, по моим расчетам, дошел до дороги. Подушечки моих пальцев истерты, ногти болят. В углу нашей берлоги груда выковырянных из почвы камней. Мы не остерегаемся – нам все равно. Затея с подкопом кажется дурацкой. Она отнимает все силы.
Я перестал следить за временем, перестал мерять подкоп ножом. Какая разница, сколько ушло времени? Полковник Бруцкий во главе афганской армии подходит к Москве. Партийные чиновники грузят в черные «Волги» свои архивы, население цветами встречает освободителей. Освободителей – от чего? От коммунистического ига?! От собственной лени и нерасторопности?!
Песок сыплется в глаза, кусочки усохлой и утрамбованной глины летят за шиворот. Я весь в грязи, как черт. Моя одежда корявая от глины и пота. Если душманы заглянут к нам, они сразу догадаются, чем мы заняты. По дороге довольно часто проезжают двуколки, мягко шуршат шинами автомобили.
Неожиданно на голову сваливается огромный камень, непрерывно сыплется песок, камни помельче. Неужели обвал? Неужели меня задавит здесь, в этой норе? Но сквозь засыпанные песком и пылью веки вижу пронзительный яркий дневной свет. Догадываюсь, что произошло. Тяжело груженая арба продавила яму. Камень лежит на моей голове. Ноги мне засыпало. Тяжело дышать. Неужели радист не догадается откопать меня? Неужели я больше никогда не увижу солнца? Начать кричать? Лучше жить, чем быть заживо похороненным в этой могиле, которую выцарапал в земле собственными ногтями. Чувствую, что возле ног откапывают, отгребают землю. Молодец радист! Через некоторое время мне удается стать на колени, податься «задним ходом» в проход по горизонтали и, наконец, я высовываю громадный камень в подземелье. Медлить нельзя. Теперь любая двуколка колесом будет обрушивать края подкопа. Надо рисковать. Принимаюсь лихорадочно орудовать ножом.
И вылезли мы на белый свет посреди ясного дня, посреди неширокой улицы, зажатой высокими дувалами, побрели себе, спотыкаясь по ровной дороге, придерживаясь руками за стены.
Вот закоулок. Никого нет. Вижу открытую форточку, через которую просматривается громадное пространство. Тащу туда радиста. Эх, радист, радист! На тебя страшно смотреть. Язвы на ногах покрыты желтыми струпьями, в которых копошатся черви. Чалма твоя раскрутилась и шлейфами обвисла на уши. Какой из тебя правоверный мусульманин?
За калиткой оказывается отвесный спуск к реке, берега которой представляют собой великолепный оранжевый пляж, на котором полно людей, в основном, детей. Они плескаются в воде, носятся по берегу, валяются на обжигающем песке. Надо укрыться в кустах и сообразить, что делать дальше. За рекой зеленые насаждения, что-то вроде садов, в которых белеют квадраты домов. Левее высятся многоэтажные дома, а еще левее видна автострада и мост через реку. Автострада ведет в город. Это Исламабад. Там есть советское посольство. К черту полковника Бруцкого! К черту убийства, войны! Политиков к черту!
Выждав некоторое время, раздевшись и бросив свою одежду, под руку мы (в черных солдатских трусах!) идем через пляж к воде. Мы поплывем по течению реки в Индийский океан! На нас обращают внимание только дети. Вода обжигающе холодна!
– Радист, ты умеешь плавать? – ору я, не заботясь о конспирации.
– Умею!
– А зовут-то тебя как?
– Саша я!
– А величают?..
– Андреевичем! Голос у радиста звонкий, он захлебывается водой, кашляет, и мы плывем по течению, стараясь далеко не заплывать от берега, но и не приближаемся к купающимся, которые не обращают на нас никакого внимания. Подальше от этого пляжа, подальше от возможных преследователей. В пустынных местах мы пристаем к берегу, отдыхаем, валяемся на горячем песке, я подставляю тело палящим лучам солнца. Какая радость – солнце! Вот и сбылась моя мечта, я опять в твоих ласковых объятиях, солнце.
Вода вытянула из нас последние силы. Дальше плыть нет никакой возможности. Мы чешемся и отскребываемся от грязи. К нашему ужасу, мы белы как свежее сало. Месяц заточения дал о себе знать. Если нас увидят, то мы пропали. Надо загорать, только вот не спалить бы нашу нежную северную кожу.
Мы едим траву, корешки, каких-то водяных моллюсков. В одном месте натыкаемся на кустарник с неизвестными и сильно вяжущими рот плодами. Наедаемся до отвала, нисколько не заботясь о возможном расстройстве желудка. Будь что будет. К вечеру мы перебираемся на противоположный берег и ночуем под опрокинутой лодкой. Сон не идет. Целую ночь дрожим от холода, у меня болит живот и судорога сводит икры. Вода высосала из организма последние соки.
На следующий день мы прячемся в лесу, правда, опасаясь кишащих там змей. Предлагаю Саше на завтрак убитую змею, он отворачивается, а я со смехом обдираю с рептилии кожу и вонзаю зубы в прохладное мясо.
– Саша! Ты угрей никогда не пробовал? Попробуй…
Радист отваживается есть муравьев. По реке вниз и вверх по течению носятся моторные лодки. На одной из них замечаю «наших» душманов. «Привет!»– хочется заорать мне, но вместо этого мы глубже уходим в лес. Лес захламлен, чувствуется пригородная зона.
План у нас следующий: раздобыть приличную одежду, отсидеться, по возможности достать денег, пробраться в цивилизованные кварталы Исламабада и выйти к советскому посольству.
Одежду мы выкрадем у купающихся. Добычу денег я беру на себя. Остальное зависит от нашей удачи.
Я знал, что нас будут искать не день и не два. Понимал, что грозит в случае поимки. Опьяненные первыми днями свободы, мы все еще не осознавали серьезность нашего положения. Почти голые, истощенные неволей, без денег, без знания языка мы заранее обречены на неудачу. Если нас поймает полиция, то нас могут вернуть афганцам. Я вспоминаю полковника Бруцкого. Мне и надо к афганцам, к душманам, в Пешавар. Но вот бывший радист Саша, который хочет вернуться в Россию. У него есть коллекция камушков, которую он все еще не показал любимой девушке. Еще и не было у него любимой девушки.
Мы выбредаем по лесу к пляжу. Рано, но отдыхающие уже есть. О пропаже одежды будет заявлено в полицию. Надо что-нибудь придумать.
У радиста Саши возник план. Он предлагает похитить автомобиль и на автомобиле добраться до советского посольства.
– Мы можем застрять в дорожной пробке, нас схватят!
– Тогда хоть доедем до центра города! – не сдавался радист.
Все время находиться на одном месте было опасно. Поэтому мы постоянно перемещались, придерживаясь реки. Питались, в основном, растительностью, но трава опротивела до невозможности.
– Ты занимался когда-нибудь рыбной ловлей? – спросил я как-то у радиста.
– Да, а что? У нас нет ни крючков, ни лески!
– А знаешь ли ты, россиянин, что такое скуд?
– Скуд? СКАД – знаю, это ракета, а скуд? – парень пожал худыми плечами.
– Так вот, скуд – это деревянный ящик, или, правильнее, плетеная кошелка, в которой древние и современные жители Полесья держат живьем пойманную рыбу…
– Садок, что ли?
– Пусть будет садок, как тебе хочется. Я заметил, что подобные садки имеются и здесь, в Пакистане. Сегодняшней ночью мы совершим налет на пакистанский скуд.
Ночью мы пробрались к лодкам и, разломав садок, забрали всю рыбу. Но мы не знали, что лодки охраняет сторож. Он закричал, завопил и, упав на одно колено, выстрелил из огромного доисторического ружья. Я почувствовал, как огненные иглы впились в кожу затылка. Мы бежали долго, стараясь не уронить ни одной рыбины. Изредка мы переходили на шаг, потом снова бежали. Мы пересекли рощу, затем поле, несколько арыков. Теперь река нам заказана.
Перевести дыхание остановились в темных, густых кустах. Спина у меня была в липкой крови. Пришлось бинтовать голову. Спотыкаясь о коряги, натыкаясь на деревья, побрели дальше в поисках места, где можно было отлежаться днем.
Вскоре очередная роща кончилась, и мы остановились у небольшого арыка. Вода с тихим журчанием текла у ног, но хотя и хотелось пить, я сначала принюхался к воде. У нее был странный запах. Это могла быть сточная вода.
Есть сырую рыбу противно – ведь мы могли ее зажарить, предварительно добыв огонь.
Мы смотрели на восток, где все ширилась на небе светлая полоска. Но на земле все еще властвовала ночь. Я молчал; молчал и Саша.
Потеряв всякую осторожность, мы уснули. Проснулся я от громких голосов. Перед нами раскинулась ровная, разбитая на квадратики полей местность. Роща была редкой и хорошо просматривалась.
Саша предложил выковырять дробь из затылка. Я был вынужден согласиться на неприятную операцию.
– Смотри, – показал он на ладони первую выковырянную дробинку. Это был обыкновенный обрубок гвоздя.
Нам необходимо было спрятаться. На окраине рощи виднелась копна то ли травы, то ли соломы. Надо было пробраться к ней и зарыться. Солома оказалась просяной, мягкой.
Пока мы это делали, не заметили, что день уже полностью вступил в свои права. Люди ковырялись в земле, возились у арыков. Крестьян становилось все больше и больше. Я внимательно следил за подходами к копне и мысленно строил планы на будущее.
Тут я увидел облако пыли, оно быстро приближалось.
Неужели машина? Да, это была грузовая машина, а в кузове находились люди. Машина остановилась, и из кузова начали выпрыгивать вооруженные люди. Я толкнул ногой прикорнувшего радиста.
– А? Что такое? – встрепенулся он.
– Тс-с! Смотри…
Люди возбужденно говорили, размахивали руками, кричали, указывая руками в сторону дороги. К автомашине начали сходиться крестьяне.
– Митингуют, что ли? – пробормотал Саша.
Сборище продолжалось. Время от времени из толпы выходили по одному, по двое пакистанцев и шли в направлении рощи.
– Ты сиди здесь, – приказал я радисту. Через полчаса я принес два комплекта одежды.
Выбирать не приходилось, лишь бы можно было натянуть на себя.
Тем временем возбужденная толпа направилась к дороге. В кузов грузовика забралось столько людей, что, казалось, он вот-вот опрокинется.
Мы быстренько переоделись и двинулись за грузовиком, не слишком приближаясь к толпе.
На дороге к толпе присоединялись все новые и новые возбужденные крестьяне. Дорога примыкала к шоссе, а по шоссе широким потоком двигалась разноликая шумящая колонна. Нам были непонятны мотивы общественного протеста. В любой момент у нас могли что-нибудь спросить.
– Ты и так глуховатый, Саша, прикинемся глухонемыми…
Мы растворились в толпе.
Колонна медленно продвигалась по направлению к городу. «Исламабад» – глазами указал я радисту дорожный указатель. В пригороде к нам присоединялись все новые и новые люди. Неожиданно впереди послышались яростные крики, раздались первые выстрелы.
– Это что, сунниты с шиитами толкутся? – шепнул Саша.
Я кивнул головой, не желая вызывать напарника на пространные объяснения. Прижимаясь к ограде, сворачивая в улочки, притворяясь раненными в драке, мы пробирались к центру города. Всюду торчали полицейские, но они не вмешивались в столкновения между разъяренными фанатиками. Наконец, впереди увидели полицейский пост – поставленную поперек дороги машину. Каждого проходящего полицейские расспрашивали о чем-то и – одних пропускали по ходу следования, других «заворачивали».
Мы повернули назад и увидели, что прямо на нас движется возмущенная толпа, вооруженная кольями, ножами, охотничьими ружьями. Полицейские на посту быстренько сели в машину и умчались. Мы вновь повернули и начали двигаться вместе с толпой. Показались военные грузовики, с них соскакивали солдаты. Вот они по команде выстроились в боевой порядок.
Толпа остановилась в замешательстве. Задние ряды напирали, а впереди люди не решались идти на военных. Военные изготовились к стрельбе.
Первый залп последовал в воздух. Началась паника. Зажатые в толпе среди потных и разгоряченных людей, мы не знали, что предпринять.
– Держись меня! – крикнул я радисту, нисколько не заботясь о том, что меня услышат люди. Саша оглянулся. Толпа оттесняла его.
Прозвучал следующий залп. Я не видел ни одного раненого или убитого, однако началась настоящая давка. Мне удалось вцепиться в осветительную мачту и вскарабкаться на нее. Выше меня уже сидели несколько молодых людей, весело переговаривавшихся на своем тарабарском языке. Ко мне они тоже обращались, но я делал вид, что не слышу их. Я высматривал своего напарника. Его нигде не было.
Тем временем толпа рассеялась. Я спрыгнул с мачты и бросился на поиски радиста. Он бесследно исчез.
Стараясь не привлекать внимания, я ходил взад и вперед по улице, кружил в одном квартале, надеясь на встречу, но тщетно.
Над городом сгустились сумерки. Полицейские и военные машины проехали в другой район города, очевидно, волнения продолжались там. Я был не вправе покинуть эту улицу, не найдя радиста. Он молод, слаб, плохо ориентируется. Непременно попадется на какой-нибудь мелочи.
До полуночи я бродил по погруженному в полумрак кварталу. Когда улицы совершенно опустели и по дороге начали сновать патрульные машины, я спрятался среди мусорных баков возле то ли магазина, то ли харчевни, непрерывно следил за улицей. Что будет завтра?
Свернувшись калачиком, чтобы сохранить тепло, я уснул, надеясь на лучшее.
Еще не расцвело как следует, а я снова вышагивал по улицам, делая вид, что я прохожий, спешащий на работу. Мне приходилось менять маршруты, иначе я примелькался бы.
Чертов Джамхурият Ислам Пакистан! Чертов город, в котором я потерял своего человека, которого был обязан довести до советского посольства!
В этом районе города на меня не обращали серьезного внимания. Внимание было совсем иного рода. Скажем, стоило мне зазеваться и простоять лишнюю минуту возле продавца мелочью, как мне что-то кричали и прогоняли прочь. Конечно, на мне была одежда крестьянина, работавшего в поле. Зевать не приходилось. Жажда и голод мучили меня.
Я был вынужден все дальше и дальше уходить от улицы, на которой потерял радиста. Надо было подумать о пропитании, искать безопасное место для ночлега.
В полдень я заметил, что за мной следят. Пошел куда глаза глядят, пытаясь сбить преследователей с толку. Их было двое. Оба маленькие, один одет в европейское платье. Покружив по городу, я снова вернулся в «свой» район. Через некоторое время едва не наткнулся на своих преследователей, но теперь с ними был один из тех самых душманских охранников. Надежда найти радиста растаяла. Его схватили, в этом не было сомнений. Теперь хотят добраться до меня.
Душман был вооружен, в этом тоже нельзя сомневаться. В конце концов, он мог пристрелить меня прямо на улице. Но, скорее всего, это не входило в его планы. Ведь выгоднее продать!..
Я свернул с центральной улицы, убедился, что за мной идут, и принялся петлять по переулкам. Двое отстали, душман неотрывно следовал за мной. На одной из безлюдных улиц я свернул за угол дома и затаился.
Мой нож мягко вошел под левый сосок душмана. Я прислонил труп к стене, обшарил карманы. Пистолет, несколько рупий и целлофановый пакетик с белым порошком, очевидно, наркотиком.
Второго преследователя я тоже убил ножом, а третьего – выстрелом из пистолета. Обшаривать карманы не было времени. Теперь мне надо залечь на дно. Перемахнув через невысокую стену, я очутился на задах каких-то торговых рядов. Спрятался за пустые ящики. Звук выстрела привлек внимание. Многие видели, как я перемахнул через стену. Спустя некоторое время здесь окажется полиция. По следу может быть пущена собака. Еще светло, многолюдно, а я – обыкновенный убийца. Выждав некоторое время, я рывком перемахнул через более высокую стену, за которой находился жилой дом. Я очутился во внутреннем дворике. На маленьком табурете сидела женщина с открытым лицом и вышивала. Увидев меня, она громко и пронзительно завизжала. Прижимая палец к губам, чтобы женщина не шумела, я рванул к выходу. На счастье, калитка оказалась незапертой. Но из боковых дверей выскочил мужчина. Я наставил на него пистолет и попятился к выходу.
На улице мне пришлось идти по направлению движения людей. Они сбегались к месту убийства, на ходу выкрикивая какие-то фразы и возбужденно размахивая руками. На другой стороне улицы собирались люди, глазели на бегущую толпу. Даже пересечь улицу было опасно. Из лавчонок, магазинчиков непрерывно выбегали люди. На меня уже обращали внимание, задерживая взгляды на какие-то секунды больше положенного.
– Хэллоу, мистер русский! – неожиданно услышал я знакомый голос.
Рядом стоял джип без верха, за рулем сидел американец, который приходил к нам в подземелье. Он жестом приглашал меня в машину. Выбора у меня не было.
Проехав немного вперед, американец свернул налево, и мы выехали на улицу с оживленным автомобильным движением.
Джип мчался с повышенной скоростью. Затем повернул опять налево, еще раз налево и остановился.
– Ты – преступник! – сказал без тени злобы американец. В его белесых глазах я заметил искорку обыкновенного любопытства.
– Можешь оставаться здесь, можешь найти своего товарища, но все равно тебя поймает полиция и приведет сюда. Иди… Куда хочешь, иди.
Я вышел из машины и побрел по пустынной улице. Почему американец отпустил меня? Скорее всего, он не помнит в лицо Сашу. Теперь за мной будут следить – до тех пор, пока я не найду его.
Ночь я провел в ухоженном парке, перемахнув через его чугунную ограду. Этот район Исламабада был с европейской архитектурой, правильной планировкой улиц. Полиции здесь тоже хватало.
Едва забрезжил рассвет, я снова очутился на улице и влез в битком набитый автобус. Пассажиры передавали один другому деньги за проезд. Я бесплатно доехал почти до самого выезда из района города, в который попал благодаря американцу.
Этот американец вывел меня из себя! Он играет со мной, как кошка с пойманной мышью, в любой момент властная ударом лапы прервать жизнь жертвы. Если американец понимает, что я преступник, который прикончил троих душманов, зачем я ему нужен?
Действительно, для чего ему нужен преступник? Но преступник ли я?
Я знаю, что убийство является тяжким преступлением. Ничто не воскресит человека из мертвых. Поэтому на меня сейчас идет охота, если не со стороны пакистанской полиции, которой не до убитых афганцев, то со стороны жаждущих мести моджахедов.
Я знаю, что своими рассуждениями пытаюсь оправдать себя. Да, я убил, защищая личную свободу, ушел от реальной угрозы собственной жизни. Ведь я не знал намерения афганцев! Но, с другой стороны, я пришел в их страну, чтобы вести боевые действия против них же. В таком случае, я виноват.
Черт побери, может, я виноват в том, что эти олухи не ладят с собственным правительством?
Может, люди просто кровожадны, и им нравится убивать, и, в конце концов, быть убитыми? Разве не совершаются убийства во вполне цивилизованных странах? Разумеется, в куда меньших масштабах.
Я бродил по пригороду, зорко наблюдая за прохожими. Приходилось опасаться автомашин – из них можно вести отличное наблюдение. Но теперь я был вооружен. Несколько раз меня подмывало распрощаться с пистолетом, но мысль о том, что у пакистанцев не найдется желания провести баллистическую экспертизу, удерживала меня. А если я попадусь с пистолетом, моим «старым друзьям» душманам, то до баллистической экспертизы (с этими дикарями!) дело не дойдет. Теперь я чувствовал, что как огня боялся этого города. Купив за несколько рупий лепешек у уличного торговца, залег в придорожных кустах.
Лепешки только разожгли мучительное чувство голода. Лежать в кустах, превозмогая рези в желудке, было невозможно. Неужели придется воспользоваться теми знаниями и навыками, которые получил в школе выживания?
Я вышел к дороге и, спустившись вниз по откосу, побрел в поисках съестного. Возле небольших домов в низине меня облаяла черная собака на высоких, как у борзой, ногах. То была обыкновенная дворняга, беззлобная, глупая, и она поплатилась за это своей жизнью. Вначале я привлек ее внимание куском ветоши: держал его в протянутой руке, приманивал собаку. Собаку пришлось погладить – и она начала меня сопровождать. Убедившись, что меня никто не видит, я накинул на шею дворняге кусок проволоки и сдавил ей горло. Через пару минут она даже не дергалась.
Стянув с куска проволоки полихлорвиниловую оболочку, я ввел ее в шейную артерию собаки и быстро начал пить ее кровь, пока она не свернулась.
Почувствовав тепло в желудке, я успокоился. Теперь можно было подумать и об отдыхе.
Несомненно, по городу меня разыскивают из-за убитых. Мне следовало изменить свой облик. И я превратился в очень сутулого и неряшливого старца с клюкой. В таком виде достиг центра города, отыскал необходимую улицу и начал прохаживаться по ней в надежде встретить исчезнувшего радиста.
Была ужасная жара. Солнце палило нещадно. Но настроение улучшилось. Потому что теперь я знал удобные ходы и выходы на эту улицу; у меня было несколько запасных вариантов отхода.
Я прикидывался немым, отпала всякая необходимость в общении. Но уменьшалась с каждым днем и надежда встретить Сашу.
Проходили дни. Несколько раз я обнаруживал, что меня все еще ищут. И вот совершенно неожиданно вечером, когда я пробрался на местный базар в надежде поживиться съестным, услыхал крики на русском языке:
– Не дам, сволочь, не твое!
Это кричал радист. Боже, что он из себя представлял! Грязный, покрытый струпьями оборванец. На выходе из торговых рядов собралась ватага местных нищих. Похоже, они делили дневную выручку. В этот раз пакистанские нищие пытались обобрать моего товарища. Я сразу не бросился на выручку, опасаясь душманов. Тем временем трое или четверо босяков напали на Сашу, повалили его и уже разжимали стиснутые руки с зажатыми в них деньгами.
Я внимательно осмотрелся. Ничего подозрительного. Все чисто. Расправа была коротка. Один из нищих получил в челюсть, другой отлетел от удара ногой, оставшиеся двое моментально смылись…
Радист с плачем собирал бумажки с земли. Я нагнулся к нему и прошептал:
– Быстро сматываемся отсюда!
Он даже не повернулся на шепот. Я схватил его за рыжую щетину и потянул к себе.
– Ты?! – удивленно выдохнул он.
– Уходим, быстро уходим! – выразительно прошептал я в надежде, что по губам он прочитает мои слова.
Когда мы покидали базар, радист хватал с земли корки дынь и жадно пожирал их. Я бил его по рукам.
– Меня и в полицию сдавали, но я молчал… А глухой я и так… Неделю просидел, а потом выпустили. Там у них все переполнено.
Мы переночевали на крыше заброшенного дома. Два раза за ночь полиция выгоняла из дома находивших там приют таких же бездомных.
Но хуже всего оказалось то, что у радиста была дизентерия. Каждый час он начинал страдать и искать себе место. Бродяжничество сделало свое дело. Пить воду из общественных арыков, подбирать остатки фруктов, всякую гниль и мечтать остаться здоровым в этом городе – элементарная глупость. Я понимал, что сделался заложником своего напарника. Теперь для него надо раздобыть лекарства, сносное питание, позаботиться о его безопасности. Этого я не мог сделать. Бросить его я тоже не мог. Не зря же отыскал!
Я решил рискнуть. У радиста нашлось несколько крупных купюр. Из мелочи я смастерил «куклу», то есть макет толстой пачки денег.
На следующее утро, дав радисту возможность хорошенько «выкряхтеться», я спрятал пистолет, и мы спустились на улицу. Я уже знал, как местные останавливают такси. Размахивая купюрами перед автомашинами, я остановил автомобиль победнее. Не обращая внимания на протесты водителя, усадил радиста на переднее сиденье, бросил несколько ассигнаций прямо на руль и выразительно воскликнул:
– Рашэн эмбасы!
Пакистанец удивленно замолчал. Автомобиль сорвался с места. Когда мы проезжали мимо полицейских, водитель смотрел в зеркало заднего вида, а я показывал ему «куклу».
Через несколько минут на приличной скорости таксист выехал на центральную улицу, и мы попали в «пробку». Машины непрерывно сигналили. Водитель начал нервничать. Я, в свою очередь, потряхивал «куклой». Вот необходимый поворот. Еще поворот. Мы въехали в район, где располагаются посольства. Еще через пару минут приблизились к воротам, возле которых блестит ярко начищенная табличка с таким заманчивым и надежным «серпастым и молоткастым» гербом. Но возле ворот всегда дежурят полицейские. Они охраняют посольство от посягательств беженцев из Афганистана. Это – официально. На самом деле они тут же сцапают нас и поволокут в участок, откуда отправят сразу в тюрьму, если не вмешаются третьи силы: американцы, душманы или работники советского посольства.
Вот и сейчас полицейские торчат. Стоят прямо у калитки, возле которой на стене – кнопка звонка. Как их отвлечь?
Я показываю жестом таксисту: следовать дальше, не останавливаться. Через метров триста мы разворачиваемся. Еще одна попытка. На этот раз нам повезло больше. Полицейские отошли от калитки и беседуют. Если б я был один, то смог бы пересечь проезжую часть и вскарабкаться по решетке ворот, прежде чем полицейские очухались. Но со мной вялый и беспомощный человек. И мы опять проезжаем мимо. Когда мы разворачиваемся в третий раз, (а это была бы последняя попытка, поскольку полицейские теперь уж обязательно обратили бы внимание на автомашину), я вижу наше спасение. Ворота начали раскрываться, и с территории советского посольства показался автомобиль. Я бросаю «куклу» водителю и жестом показываю, что надо ехать вперед и остановиться. Водитель понимает, что к чему, он щуплый, даже хилый, он боится моих агрессивных и повелительных жестов, моей угрожающей и ничего хорошего не обещающей мимики. Он жмет на акселератор, мотор ревет, а перед самым входом в посольство, едва не столкнувшись с выезжающей автомашиной, резко тормозит. Я выскакиваю и вытаскиваю Сашу. Полицейские заинтересованно, быстрым шагом идут по направлению к нам. Достаю завернутый в бумагу камень и, сделав вид, что выдергиваю предохранительную чеку, бросаю камень, словно гранату, под ноги полицейским. Это действует. Первый полицейский сразу падает, обхватив голову руками, но второй, более ушлый в мгновение ока выхватывает револьвер и стреляет. Пуля обжигает плечо. Радист уже во дворе. Он размахивает руками и орет:
– Люди! Спасите, люди!
Я успеваю прыгнуть в ворота, и растерянные полицейские не осмеливаются стрелять на территории посольства. Мы подбегаем к белокаменному дому, из которого выскочили двое в костюмах, при галстуках, а за ними – женщина. Я щупаю кость, кажется – цела.
– Мы русские! Мы русские! – вопит Саша, хватаясь за руки посольских работников и пытаясь их целовать.
– Да, мы советские… Я вот ранен… – добавляю я, чтобы дополнить картину. Женщина побежала за врачом.
Пока у ворот объяснения с полицией, нас уводят в Здание. Так чертовски непривычно: паркет, ковровые дорожки, и мы в своих ворованных сандалиях, из которых торчат сбитые в кровь пальцы ног, не мытых целую вечность.
Нас приводят в небольшой кабинет и перед лицом важного и почему-то недовольного лысого человека требуют объяснений.
Я молчу. А из путанных объяснений радиста нельзя ничего понять. Нас оставляют в покое, когда, наконец, понимают, кто мы. Ведут в хозяйственные комнаты, дают умыться, кормят, поят. Нас осматривает врач. Через пару часов отдыха снова подробно расспрашивают обо всем, что с нами случилось.
Потом переводят в другое помещение.
Ночью радист растолкал меня.
– Что мне говорить?.. Насчет радиостанции! – бормочет он. Ему не спится, каждый час бегает в туалет.
– Пошел к черту, – отвечаю я и отворачиваюсь к стене.
Он все равно ничего не слышит, чертов комсомолец. Стоило ему увидеть советский герб, знакомые символы оглупления, стоило услышать звуки родной фискальной речи – где родился, где попался, с кем проводил время, – его потянуло на патриотическую честность. Он не сможет умолчать о моих действиях в том бою, когда нас взяли в плен.
Утром нас будут брить, стричь, обрезать ногти. Нам выдадут за посольский счет европейскую одежду: брюки, рубашки, пиджаки. А потом мы будем многие месяцы торчать здесь, пока правительство Пакистана сочтет необходимым легализовать наше положение, и мы сможем вернуться на Родину.
А как же полковник Бруцкий? Неужели ты существуешь, товарищ полковник? Кто тебя выдумал, кто изобрел и кому твое существование мешает ночью спать?
В окне мерцали звезды, когда я снял наволочку для перевязки раненой руки, с отвращением натянул на себя прежнюю одежду и вышел на свежий воздух. С востока небо начинало светлеть. Я взобрался на дерево и перемахнул через посольскую ограду. Теперь мой путь лежал на Пешавар.
Первым делом я пробрался на железнодорожный вокзал. Двое суток мне пришлось изучать расписание движения поездов. В дневные поезда, следующие из Исламабада, набивалось столько народа, что я без труда смог влезть в вагон и без билета доехать до Пешавара. Теперь мне предстояло найти расположение «повстанческой армии». Я не мог придумать, как это сделать. У меня истощились силы – играть под полковника Бруцкого. Вдобавок, разболелся живот. Через некоторое время я убедился: это дизентерия. Вот тебе и стальной организм!
Приступы становятся все чаще. Я направляюсь в лагеря афганских беженцев. Там есть миссия Красного Креста. У меня не спросят ни документов, ни денег. Я для них буду больным. Просто больным.
Болезнь изнуряет меня. Мне становится все хуже. Только бы дойти. Полковник Бруцкий не интересует меня, я сражен невидимой глазу бациллой.
Пока я пробую на своем английском объясниться с представителем госпиталя, меня окружают такие же обездоленные, как и я сам. Хромые, больные трахомой, дизентерийные в скрюченных позах… К представительству подают грузовик и наполняют его больными. Мне приходится помогать грузить тех, кто залезть в кузов уже не в состоянии.
И вот я среди длинных рядов брезентовых палаток. В каждой из них десятки больных, лежащих на поролоновых матрацах. Моя палатка расположена возле высокого белого здания с маленькими зарешеченными окошками. Там тоже госпиталь, и по ночам там теплее. Грубое одеяло из новозеландской шерсти колется, меня поят горькой бурдой, пичкают таблетками. Зато напротив нашей палатки дощатые туалеты, возле которых никогда нет очереди. Инфекционное отделение отгорожено от других отделений госпиталя колючей проволокой, а с тыла оградой служит уже упомянутое белое здание.
Раз в два дня приходит бельгийский доброволец: перевязывать рану в плече. Его не интересует, что она пулевая. Его вообще ничего не интересует. Даже нож, который я сдуру прибинтовал полосками из посольской наволочки к ране.
Мой удел горек. Слишком много горьких таблеток приходится глотать, чтобы дизентерийный микроб, бацилла или кто он там, сдох и покинул меня.
Мы питаемся гуманитарной помощью, от которой у меня изжога. Я привык к нормальной, здоровой пище: сырая ящерица, лягушачьи лапки без соли, на десерт – незрелые абрикосы. Еще нас заставляют мыться и вычесывать вшей. Если часто мыть голову антипедикулезным мылом, кожа раздражается и волосы вылезают клочьями.
В палатке нас десять человек, и все давно понимают, что я не тот человек, за которого себя выдаю. Скоро за мной придут.
Ночью я прислушиваюсь к стонам больных. Обрывки фраз, отдельные звуки, которые вылетают из страждущих уст сквозь сон на непонятном мне языке.
Если я стонал во сне, то, разумеется, кто-нибудь подслушал меня.
С медперсоналом я общаюсь на ломаном английском, стараясь дать понять, что выговаривание слов для меня мучительное занятие. Те десять-двадцать слов на дари, которые я смог выучить за время моего пребывания в этой части света, не спасают меня. И не спасут.
Скоро за мной придут.
Ночью я стараюсь не спать, а высыпаться днем. Тогда ко мне меньше обращаются, не пристают те, кто пошел на поправку.
Ночью я слушаю стоны больных и вой шакалов. Среди больных большая смертность. Ампутированные руки и ноги закапывают во рву, который окаймляет госпиталь с востока и юга. С запада и севера госпиталь примыкает к дороге, которая ведет в лагерь беженцев. Туда регулярно ездит мой бельгиец – принимать роды. Не раз он пытается рассказать о чудесном ребенке, которому помог появиться на свет. Просвещенная глупая Европа! Ты помогаешь рождаться детям, которые умрут от голода, заразятся СПИДом, или вырастут душманами, во имя Аллаха убивающими неверных.
– Нью чилдрэн! – желаю я бельгийцу на прощание. Он жмет мне руку и незаметно для других больных оставляет две упаковки мультивитаминов.
Ночью я прислушиваюсь к стонам, и волосы начинают шевелиться на голове. Я слышу русскую речь. Я слышу выразительную русскую речь! Я напрягаю слух. Может, мне почудилось? Нет, я убежден, что слышу русскую речь! Я откидываюсь навзничь на своей поролоновой лежанке. Тут, рядом русский!
Начинаю напряженно прислушиваться к ночной тишине. Больше русских слов я не слышу. Это, вероятно, галлюцинация. Слуховая галлюцинация!
Следующий день мне не по себе. Неужели у меня в голове – помехи? Никогда не замечал за собой ничего подобного. Буду спать по ночам.
Днем мне удалось развеяться, к вечеру сморил сон, а ночью я проснулся от крика из-за стены.
– Почему партия пьет кровь? Почему в коммунисты принимают нечестных людей? Я спрашиваю – почему?
Что это? Крики, заглушенные толстыми стенами, стихают. Они доносятся из белого дома. Что там?
Через некоторое время крики возобновляются.
– Батальон! Слушай мою команду… Вперед, на Кабул, на Ташкент, на Москву!
Я затаил дыхание и слушаю звуки понятного мне языка.
– Необходимо очистить Россию от толстых жирных пиявок! Эти пиявки сосут тело народа. Пиявки называют себя коммунистами! Смерть коммунистам!
– Смерть! Сме-е-рть… – слышится более приглушенное.
Что за антибольшевистский шабаш? Кто там, за стеной?
– Меня называли убийцей! Но разве убийцы могут назвать другого человека убийцей? Это беспардонная ложь, и Запад нам поможет развенчать клевету!
Неожиданно сладкая истома разливается по моему телу. Да ведь это полковник Бруцкий! Я нашел его! Наконец-то я до тебя добрался, товарищ полковник!
Вот где ты. Сколько времени ушло, чтобы отыскать тебя! Ты мне снился, ты отдалялся от меня на невообразимые расстояния, ты исчезал в кромешной тьме, и вот неожиданно – ты здесь. Рядом. Я покажу тебе толстую пиявку, я тебе покажу большевистскую ложь!
Интересно, чего больше в моем желании исполнить приказание? Чувства долга? Рвения продвинуться по служебной лестнице? Или, может, я страдаю особой формой сексуальной патологии, и смерть для меня является извращенным воплощением жизненного акта?
Или я мщу за все то, что так никогда и не получу от жизни? Да, в исполнении моего профессионального долга думаю, имеется всего понемногу.
На следующий день я дождался прихода бельгийца и спросил его о назначении белого дома. Бельгиец, не задумываясь, приставил пальцы к брови и свистнул. Этот жест у них обозначает то же самое, что у нас покручивание пальцем у виска.
Итак, полковник Бруцкий – сумасшедший. Меня послали убить сумасшедшего! Вполне вероятно, что полковник всего лишь «косит» под сумасшедшего. Может, он за последнее время окончательно рехнулся?
У меня задание – ликвидировать полковника Бруцкого, как потерявшего социальную ориентацию. Он опасен для общества.
Целый день я оттачиваю нож. Я спокоен, прежняя уверенность возвращается ко мне. Мясник нашел свое мясо.
Ночью я проникаю за ограду из колючей проволоки. Обхожу белое здание. Рядом стоит высокое, наполовину высохшее дерево. Верхняя фрамуга окна – без решетки. С силой оттолкнувшись от дерева, ногами выбиваю стекло и влетаю в коридор. Навстречу бежит санитар. Короткая стычка. Обмякшее тело санитара распласталось на полу. Из дальней комнаты доносится вопросительный возглас. Через некоторое время он повторяется, но уже менее требовательно. Воцаряется тишина. Я вытаскиваю из кармана покойника связку ключей. Иду по коридору, прислушиваюсь к каждой двери.
В одной из палат идет «совещание ЦК КПСС». Слышу приглушенные голоса.
– В настоящее время, в нынешней обостренной политической обстановке обязанности Генерального секретаря Коммунистической партии я возлагаю на себя. Заместителем назначаю тебя, и тебя, и тебя… Министром обороны назначаю тебя, руководителем КГБ – тебя…
Я подбираю ключ к двери. В палате – полумрак. На койках спят душевнобольные. Некоторые бодрствуют, слушая полковника Бруцкого.
– Полковник Бруцкий? – зову я тихо.
– Я! – коротко, по-военному говорит коренастый человек, который стоит в начальственной позе посреди палаты. Я делаю шаг по направлению к нему. Он продолжает говорить:
– Вы должны знать, что я уже давно не полковник Бруцкий. Я – генералиссимус и добровольно в исторический момент возложил на себя обязанности Генерального секретаря нашей партии. Надеюсь, вы партийный, товарищ?
Я оглядываюсь. В углу пластмассовая мусорница. Ставлю ее перед полковником, захожу сзади. Полковник не соображает, что я предприму. Резким выпадом захватываю голову Бруцкого и, как барану, от уха до уха перерезаю горло. Полковник Бруцкий растопыривает руки, пытается ухватиться за воздух, свистящий клекот вырывается из рассеченной гортани. Кровь двумя струями пульсирует над полом. Я направляю кровь в мусорницу. Сумасшедшие с интересом наблюдают за моими действиями. Нащупываю на шее позвонки. Хрясь! Опускаю обезглавленное тело на пол. Полковник опирается на руки, пытается вскочить. Прижимаю тело ногой.
– Не шуми, полковник, не шуми…
Снимаю наволочку с подушки, бросаю туда голову. Белая наволочка мгновенно становится черной.
Замыкаю палату. В коридоре тихо, на полу – труп дежурного санитара. Спускаюсь по лестнице к выходу. Подбираю ключ. Свежий воздух ударяет мне в лицо.
Мой путь – на запад. Впереди – почти целая ночь.
Задание выполнено.
Тетрадь вторая АБХАЗИЯ
Теперь, когда это уже произошло, когда события позади и окончились, можно сказать, благополучно, мне необходимо все записать на бумаге.
Начиная записи, хочется понять, что, записывая, я смогу воссоздать пережитое мной, пережить искренне и вновь. Это поможет мне более точно разобраться в происшедшем.
Я не был наемником в Абхазии. Меня никто не нанимал убивать ради денег людей, которые нарушали закон права или неписаный закон. Но мне пришлось оставить там немало трупов. Нет, не по собственному желанию, а ради собственной защиты. Пожалуй, я не совсем точен. Ради жизни другого человека.
Этот человек лежит сейчас в больнице, опутанный проводами и трубками, и возле него дежурит охрана, которая не пускает меня, угрожает расстрелять на месте.
Сегодня, с разрешения национального командования, последний раз увижу этого человека и уеду из этого чертового города, где сосед воюет против соседа при помощи гранатометов и установок залпового огня. Уеду, возможно, навсегда. Как ни странно» уеду не по той простой причине, что у меня кончился отпуск, а по совершенно другой, и, по моему мнению, совершенно дикой и несуразной.
Я, оказывается, убил не тех людей, которых нужно было убить. Те люди, которых я убил, насиловали, глумились и обесчестили других людей. Но они принадлежали к коренной национальности, и поэтому, если они даже убийцы и насильники, их нельзя было трогать.
Нет, они даже не были друзьями или товарищами моего старого приятеля Фарида. Который из обыкновенного южного приморского жуира, который сколачивает капитал, сдавая внаем отдыхающим каждый квадратный метр прибрежной полосы или собственной жилплощади. Который за одну ночь превратился в генерала абхазской армии.
За то, что я перебил банду убийц, я был схвачен, и меня разорвали бы в клочья, но Фарид выручил меня. И я должен отсюда уехать, убраться восвояси, исчезнуть, потому что даже Фарид не может поручиться, что в один прекрасный день пуля не залетит мне в рот.
А начиналось все следующим образом.
…Симпатичная стройная девушка, покачиваясь на высоких каблуках, одетая в белые брючки, с розовой пелеринкой на груди – стояла на перроне вокзала, и на хорошеньком лице было написано отчаяние, потому что она явно не знала, что ей делать. Скорее всего, ее никто не встретил. Плотно упакованная объемная дорожная сумка стояла у ее ног, представляя собой известные затруднения.
По незаурядной внешности девушки можно было определить, что она относится к тому разряду представительниц прекрасного пола, которые, собираясь на отдых, в гости в другой город, а также просто куда-нибудь, обрастают таким непомерным количеством багажа, что без посторонней помощи не обойтись. Я даже подозреваю, что они делают это с ясной целью привлечения к себе внимания.
Тем не менее она мне нравилась. Нравилась – и все тут. Особенно меня возбуждало в девушке едва уловимое присутствие в ее лице выражения греха. Это меня нисколько не смущало. Что за Ева без греха? Кроме того, она была чертовски хорошо сложена. Может, несколько крупновата, но на фоне островерхих кипарисов, цветущих олеандров, голубого моря и мелькающих в воздухе над зданием вокзальчика чаек она очень неплохо смотрелась. А если б частью фона (я не претендовал на передний план), был бы еще и я, то что можно лучшего пожелать простому смертному, который нуждается в отдыхе и, возможно, в некотором внимании со стороны представительниц женского пола?
Кстати, о смерти. Я ни разу не оскорбил имя Аллаха в Пакистане, (за подобное оскорбление в этой стране полагается смертная казнь), поэтому остался цел и невредим. Если не считать прострелянный пакистанской полицейской пулей бицепс, избитые о камни ноги и мучающую меня бессонницу. После тяжелейшего последнего задания я провалялся некоторое время в реабилитационном центре, провел месяц на учебе по повышению своей теоретической (между собой мы шутили: «террористической») квалификации, прошел тренировочные сборы, а теперь ехал провести свой законный отпуск на берегу Черного моря: в благословенной Абхазии по случайно купленной путевке. Но я слишком много времени провел вне родной страны, и не совсем представлял, куда еду. Если бы мне секретной почтой посылали во время заданий центральные газеты, то я ни за что бы не поехал ни в Абхазию, ни в Крым, а завалился б куда-нибудь на сибирское озеро. Если, конечно, местные национально мыслящие тутунхузы не вздумали объявить озеро суверенным государством и центром вселенной.
В стране, как всегда, царил бардак, с тенденцией еще большего, если так можно выразиться, «обардачения». Обворовавшиеся партийные чиновники, заметая следы, срочно перекрашивались в закоренелых демократов или «уныривали» в создаваемые под защитой КГБ коммерческие структуры.
На политзанятиях нам доложили, что если дело так пойдет и дальше, то «дерьмократы» доберутся и до наших служб: надо быть готовыми ко всяким неожиданностям. Например, к тому, что армию резко сократят и придется переквалифицироваться. Но это токарь может переквалифицироваться, скажем, в слесаря или там водителя. А такие специалисты, каким являюсь Я, доложу вам без ложной скромности, не могут переквалифицироваться. Доберутся или не доберутся, меня это пока не волновало. Мне нужно было научиться безмятежно спать, беззаботно валяться на жарком песке, слоняться без цели по улицам и не шарахаться в темноте от летучей мыши.
Когда я поймал себя на том, что начал заглядываться на женщин, то понял: это качество опять вернулось в число моих недостатков, значит, дело пошло на лад. Ежедневная часовая физзарядка, контрастный душ, легкие пробежки возвращали моим истощенным перегрузками нервам их прежнюю работоспособность.
Что ни говори, а мне приятно было смотреть на эту девушку. Я лучше чувствовал себя – физически. Если бы я смог хоть чем-то помочь ей, то и морально чувствовал себя на высоте.
Я заприметил это греховное чудо еще в тамбуре своего вагона. Но тогда у меня было другое занятие. Я никак не мог выиграть в карты у прапорщика Советской Армии. Бродяга был силен во всех видах карточных азартных игр, которые знали мы оба, и которые знал только он.
Когда мы ехали в поезде, девушка частенько мило разговаривала с каким-то очкариком из нашего вагона. Кто это был, кем он являлся по отношению к девушке, для меня до сих пор остается секретом. Был ли это случайный разговорчивый попутчик, или добрый старый знакомый? Неизвестно.
Они составляли контраст, эта дамочка и очкарик. Не по их внешности, а по сигаретам. Дама курила «Мальборо», а очкарик смолил «Астру». И тем не менее у них находились общие темы для разговоров. Они то и дело, чуть ли не каждый час спешили через вагон – покурить вместе. Меня это начинало бесить. Но приходилось возвращаться к чертовому прапорщику. Я проигрывал ему уже месячную зарплату. Обычную, разумеется. В размерах зарплаты очкарика. Меня хоть это утешало. По сравнению с зарплатой какого-нибудь инженеришки или старшего научного сотрудника мое месячное денежное довольствие было намного большим. Кроме того, на меня был большой «отлаженный» спрос – за те месяцы блужданий по горам разных иностранных государств.
Возможно, вообще ни за какие деньги длинноногая милашка не станет так улыбаться мне, как она улыбалась очкарику. Но я надеялся. Я вообще никогда не теряю надежды.
Когда поезд приближался к месту моего прибытия в маленький абхазский городишко, заросший кустами олеандров, я видел, как все тот же очкарик, согнувшись дугой, тащил к выходу тяжеленную дорожную сумку. Он вытаскивал ее из вагона и тогда, когда поезд остановился. Потом мельком я заметил, что очкарик смылся, оставив даму наедине с ее внушительным багажом. И я подумал, что самое время познакомиться с очаровашкой. Необходимо ковать железо, пока оно было горячо, пока лето, а впереди – целый месяц беззаботного празднества, когда голова не забита ежедневными хлопотами, а утром, проснувшись, потягиваешься с таким хрустом, что сам этого пугаешься.
Обольстительная дама стояла на перроне и чего-то ждала. Вероятно, ее должны были встретить, но не встретили.
Я никуда не спешил. Куда мне спешить? Ведь я нынче отдыхаю после тяжелого времяпрепровождения в Афганистане. Теперь служба не мешает мне знакомиться с представительницами соблазнительного пола. Я в Союзе, я на родине, где нет войны, решены национальные проблемы, нет энергетического кризиса, нет и не может быть инфляции, а, познакомившись с дамой, я буду уверен, что она не бросит мне в ширинку лимонку.
– Девушка, нельзя ли чем-нибудь помочь? – я не корчил из себя галантного кавалера, но постарался быть как можно более мягким, хотя и в меру настойчивым.
– Нет. Меня сейчас встретят… – дамочка ответила чистым приятным голосом и поджала пухленькие губки. У нее оказался маленький рот, живые глаза, и она была довольно высокого роста: почти с меня. Правда, ей помогали и высокие тонкие каблуки.
– Девушка, неужели я похож на похитителя чемоданов? – продолжал я свою атаку.
– Мне кажется, вы больше похожи на похитителя дамских сердец, – пошутила девушка, – а так как мое сердце давно похищено, то я очень сожалею…
– Девушка, я вам помогу добраться до первого транспортного средства. Подсоблю хотя бы пройти через вокзал, на стоянку такси… – я поставил свою сумку у ног, и протянул руку к ремням ее багажа. – А с другой стороны, почему бы мне не познакомиться с такой очаровательной дамой, каковой являетесь вы? Именно для этого я, может, и приехал сюда, – я не переставая говорил. Моя рука все более уверенно тянулась к ремням ее сумки. Я взял эти ремешки в ладонь, потянул их и… почувствовал, что сумка не сдвигается с места, В сумке явно лежали не одна, а две тридцатидвухкилограммовые гири.
– Слушай, не свалил бы ты в сторону? – неожиданно резко произнесла девушка, глядя в упор, пытаясь вырвать ремни своей сумки из моих рук.
– Понял, не дурак, – игривым тоном сказал я, не желая обострять обстановку и совсем не позорно ретировался метров на сто. Сел на скамейке с таким видом, будто бы за мной вот-вот подъедет личный шофер на «Роллс-ройсе». И стал ждать, кто же все-таки встретит девушку? Я не боялся нарваться на неприятности, поскольку слишком свежи были мои афганские впечатления и навыки. Но девушку они, похоже, не заинтересуют.
Я купил вчерашнюю московскую газету и сидел теперь в тени, а дама пеклась на палящем солнце. Я даже на некоторое время забыл о существовании этой мадам, вчитавшись в газету, которую, правда, уже читал в поезде. А когда поднял глаза, то увидел, что Девушка, согнувшись в три погибели, пытается тащить свою сумку. Ей это было, конечно, не под силу, и она остановилась. Тут мне стало жутко "интересно, а что же у нее в сумке?
Там могли быть книги – томов двенадцать БСЭ, либо почти все ПСС, или банок пять-шесть консервированных огурцов; в крайнем случае, килограммов двадцать-тридцать твердокопченой колбасы. Неужели здесь, в благословенном краю с плодородной почвой и тучными пастбищами не найдется настоящего джигита, который угостил бы такую даму сочным кусочком настоящего шашлыка? Я расправил грудь и поднялся.
Девушка все еще стояла в одиночестве. Вереницы людей проходили туда-сюда, и не находилось никого, кто бы помог ей управиться с поклажей.
Тогда я снова подошел к ней. Бровки ее удивленно изогнулись, но лицо казалось недовольным.
– Девушка, вы меня простите, я не хочу показаться слишком назойливым, но вам в одиночку не справиться с этим грузом. Поэтому давайте я вам все же помогу, – на устах у меня был мед.
– Да нет, за мной приедут… Меня встретят… Не надо… – девушка явно нервничала, и прежней уверенности в ней не наблюдалось.
Несмотря на протесты, я перебросил свою сумку через плечо и вновь попытался завладеть ее сумкой. Милашка ненавистным взглядом отшила меня. Ладно, сказала бы что-нибудь обидное, а то просто глянула, как огнем обожгла. Мне опять пришлось ретироваться.
Девушка снова с большим напряжением оторвала сумку от земли и поволокла. Через метров двадцать она неожиданно бросила ее и со злостью топнула ногой.
Она была прекрасна во гневе, чем еще больше разожгла и мое любопытство, и мое мужское достоинство. Я медленно подошел к ней. Молча потянул ремни сумки из ее рук. На этот раз красотка смирилась.
Сумка действительно была чертовски тяжелой. Но я не позволял себе иронизировать над этим.
– Пройдем к стоянке такси? – осторожно предложил я, понимая, что всякое неловкое слово может вызвать новый взрыв упрямства.
– Ни в коем случае! И вообще, чего ты привязался ко мне? Мало тебе других девушек? Посмотри вокруг, сколько их! – и она указала глазами на сновавшие толпы разодетых в легкие пестрые платья девиц. Их было так много, как птиц на птичьем базаре. Среди них – и высокие, и низкорослые, и худые, и толстушки, и мрачные, и хохотуньи. Глаза уставали, когда глядели на это внутривидовое разнообразие.
– Да, девушек много, согласен. Но согласитесь и вы, что среди них нет более симпатичной… – сказал я вкрадчивым голосом, и глазами указал на нее. Комплимент был из разряда опереточных, но всегда действовал безотказно, как «Калашников» советского производства.
– О Боже! Ты часом не псих? – воскликнула девушка, уже с неподдельной жалостью глядя на меня.
Мне стало стыдно. Зачем я вяжусь к этой даме? Раз нет, значит нет. Обидно, конечно, что тебя отшивают. Но свет не сошелся клином на вот этих надутых губках. Я пробормотал:
– До сих пор таковым не считался. Хотите, справку из психдиспансера покажу?
– Ладно, я пойду позвоню, – улыбнулась, наконец, дама.
Ее долго не было. Потом она появилась. Вид у нее был очень озабоченный.
– Посади меня на автобус… – попросила девушка.
Это было уже кое-что.
Ни о каких автобусах даже не в столь поздний час и разговора не могло быть. Автобусов попросту не было. Как всегда на юге. За вокзалом стояла огромная толпа. Такси, казалось, должны были идти нарасхват, но на удивление очень длинная вереница желтых «Волг» с шашечками наверху скопилась на стоянке.
Автобусов не было, как я узнал, уже третий час. Словно одновременно все водители заболели гриппом.
– Они что, автобазу напоили? Идемте на такси… – пошутил я, но, вероятно, неудачно, так как девушка хмыкнула что-то невнятное.
А я любовался ею. Наверное, у нее просто неважно обстояли дела, и мне хотелось развлечь ее, поднять ей настроение. Сколько я затрачу на это сил и времени? Вокруг расхаживали девушки, бесцеремонно заглядывали мне в лицо и, наверное, думали, что мы с моей спутницей – поссорившиеся муж и жена, которые только мучают друг друга взаимным присутствием…
Тогда я подумал, что только теряю время, и стоит мне отойти на шаг в сторону – и я окажусь в ином измерении. Каши с этой капризной дамочкой все равно не сварить. Пусть катится ко всем чертям со своей чертовой сумкой, а у меня свои дела.
– Вынужден вас огорчить, у меня не осталось времени, так что разрешите откланяться… – я не верил своим ушам, что они слышали! Целый битый час или больше восхищаться очаровательным созданием, и вдруг все бросить в один момент. Наверное, нервы мои все еще не совсем правильно функционировали.
– Больно надо… – холодно и невпопад бросила дамочка.
Губки у нее надулись, щеки порозовели. Было очень душно, и она помахивала ручкой возле лица. Что я хотел от этой капризной бабенки? Завлечь ее к себе в гостиницу, оставить ночевать, трахнуть, завести близкое знакомство, чтобы было с кем гулять вечерами по морскому мокрому песку? По природе я не дамский угодник, а у такой придется в ногах ползать, разве нет? В час ночи она может заказать глазунью из пингвиньих яиц. «Вольно надо»!
Я повернулся и пошел к стоянке такси.
За рулем сидел плотный немолодой человек с хитрым и даже хищным лицом, брови вразлет. С такими лицами люди должны заведовать оптовыми базами, ювелирными мастерскими, а это простой таксист, но у него наверняка имеется огромный дом, растолстевшая жена, трое детей и четыре приятельницы. И каждая вот с такими буферами! Впрочем, насчет приятельниц я не особенно настаиваю, поскольку возраст у водителя был если не почтенным, то близок к этому.
– Садись, дорогой, подвезу, куда надо. Только сегодня у нас плата изменилась. За бензин плати, гаишникам плати… – услышал я обыкновенную в таких случаях тираду.
– Меня не интересует ваша ставка… – мне хотелось во что бы то ни стало уехать в такси на глазах у капризули, сколько б это ни стоило.
Я влез в такси и уселся рядом с водителем.
– Куда тебе, дорогой?.. – ласково спросил водитель.
Я назвал адрес.
– Двадцать пять, дорогой, – как ни в чем не бывало сказал таксист.
Услышав цену, которая в средней полосе составила б в пять раз меньшую, я не повел бровью. За гостеприимство надо платить. На руке у таксиста я увидал массивные золотые печатки. Водил он автомобиль прекрасно. И вообще был какой-то особый человек. Ему даже кивали все встреченные нами милиционеры. «Местный старожил», – подумал я и перестал обращать внимание на особу водителя.
Но чем ближе я приближался к своей гостинице, тем большее беспокойство овладевало мной. Из головы не выходила капризная девушка. Едва ли она дождется автобуса. Таксисты взвинтили цены и держат их. Своя мафия.
– Подождите, мне надо обратно к вокзалу… – сказал я водителю.
– Еще двадцать пять… – невозмутимо сказал таксист.
Я быстро заполнил карточки на вселение, взял ключ и побежал наверх в свою комнату – бросить вещи. Та располагалась на втором этаже, оказалась, как и обещали в путевке, одноместным номером. Если и не шикарным, то достаточно просторным, чтобы было где помахать руками и сделать пару сотен приседаний.
Когда я приехал на вокзал, девушка все еще была там. Грустная и усталая, она оседлала свою сумку и сидела, равнодушно поглядывая по сторонам. Привокзальная площадь почти опустела. Приехавшие – кто побрел пешком, кто скрепя сердце был вынужден раскошелиться и «сбив» компании, чтобы меньше платить, по трое, по четверо уезжали.
Возле моей дамы стояли двое небритых молодых людей, понятно, кавказской национальности. Когда я вышел из такси и проходил возле них, услыхал, как один из них сказал:
– Сэгодня сам хозяин ездыт…
Мой водитель поманил их пальцем, и оба небритых субъекта быстренько направились к нему.
– Вот такси, давайте не ерепениться – и поехали… – я не церемонился.
– Сказала, что не поеду на такси, значит, не поеду… – девушка была готова разреветься. Стало душно и начинало темнеть. Я пожал плечами и решил ждать.
Время шло, и, как ни странно, девушка наотрез отказывалась от такси, как я ни уверял, что деньги – не проблема.
Тут к нам подошли те самые небритые парни, которым что-то наговорил мой водитель. Один из них спросил:
– Куда ехать?
И довольно бесцеремонно пнул ногой чужую сумку. Потом сказал «ого!» и еще раз пнул сумку.
Я повернулся к нему и, не вынимая рук из карманов, процедил сквозь зубы:
– Слушай, парень, если еще раз ты дотронешься до этой сумки, то у нас с тобой испортятся отношения.
– Зачем ты грубишь, дорогой? – спокойно ответил другой парень, так как первый сразу направился к водителю, который подвозил меня, и стал что-то ему нашептывать. Грузный водитель на удивление грациозно выбрался из кабины и вместе с молодым подошел к нам.
«Опять приключения, – подумал я, – опять сбивать кожу на косточках. Когда же это кончится?»
Я был прав. Тройка начала требовать, чтобы мы показали содержимое сумки! Это что, такой местный обычай, когда приезжие должны выворачивать карманы и кошельки?
– Кто вы такие! – кричала девушка. Всю злость и негодование она вылила на этих приставал. Я молчал, но когда один из парней полез расстегивать молнию, я оттолкнул его. Двое молодых сразу набросились на меня, и тут же отлетели в стороны с кровоточащими носами.
Их предводитель сделал знак рукой водителям стоявших такси. Из машин вышли человек пять, семь, а может, и все десять. У некоторых в руках были аккуратненькие монтировочки.
– Милиция! Милиция! – испуганно закричала моя дамочка. Но никто на этот призыв не обращал внимания. Таксисты приближались.
– Расстегните сумку, – спокойно произнес водитель, который подвозил меня, – мы посмотрим, что там, и все будет в порядке.
Вот почему у него такое хищное выражение лица! Да он же грабитель! Вы попробуйте пару раз отобрать у ребенка его любимую игрушку и посмотрите потом на себя в зеркало. У вас лицо будет точно такое, какое было у этого немолодого негодяя.
Девушка съежилась, она вся побелела, а губы дрожали. Я вполне мог показать ей свое мастерство. Тащить ее сумку мог бы и очкарик. Но очкарику не справиться с толпой упитанных таксистов с монтировками в руках жарким вечером в Абхазии. Правда, я тогда не знал, что Абхазия накануне войны.
Я оценивал ситуацию. Мое сознание сконцентрировалось, дыхание участилось, накачивая кислородом и кровью мышцы и мозг. Теперь я видел их всех не только глазами, но и чувствовал своим телом расположение их тел в пространстве. Всех вместе их было одиннадцать человек. Мало того, из темных салонов стоявших такси вполне мог прогреметь выстрел. Поэтому надо было вести бой так, чтобы не подставлять себя со стороны стоянки.
Нападавших не интересовал лично я, их почему-то очень интересовало содержимое сумки. Шмыгая разбитым носом, небритый парень следил за мной (а я теперь опять стоял «руки в брюки»), потом потянулся к сумке.
Я понимал, что должен хоть раз получить по роже, иначе Робин Гуда из меня не получится.
Это сделал один из небритых. Когда я, не вынимая рук из карманов, надвинулся на наглеца, осмелившегося проверять вещи моей дамы, второй небритый неожиданно прыгнул и саданул ногой мне в грудь. Он метил в лицо, но не допрыгнул. Вырвав руки из карманов, я тотчас бросился в схватку.
Первым делом я локтем гвозданул отпрянувшего от страха наглеца, который лез к сумке. Затем с размаху нанес удар небритому, осмелившемуся меня ударить. Над моей головой мелькнула монтировка, но я вывернулся и с разворота поверг нападавшего на землю. Монтировка зазвенела на асфальте.
Тут они все закричали и кучей набросились на меня.
Если б это был настоящий бой, мне было бы легче, так как с каждым ударом численность противника уменьшалась бы. Но получив свою дозу небольшого увечья, таксисты, разъярясь, вновь бросались в драку. Краем глаза я видел, что небритые, воспользовавшись суматохой и тем, что мое внимание отвлечено, наседают на девушку. А она, вцепившись в сумку, отбивалась ногами, вооруженными каблуками-шпильками. Тогда я рубанул ребром ладони одного из самых назойливых таксистов и подпрыгнул к девушке.
Чертова сумка! Почему она так защищала ее?
– Золото у тебя там, что ли?
Девушка плакала. Вокруг орали разъяренные шоферюги. Они плотнее смыкали кольцо вокруг нас. Подумалось, что мне придется туго.
В это время подъехал рейсовый автобус. Я схватил сумку и, сделав угрожающее лицо, пошел прямо на шайку. Они не осмелились нападать. В долгожданный автобус вошли несколько человек, которые были свидетелями драки. К открытой двери подошел один из небритых.
– Я тебя зарежу! – сообщил он хриплым голосом. Сказал, значит, зарежет. Это кавказский обычай.
– Размахивая кулаками и что-то выкрикивая в мой адрес, водители такси начали расходиться по своим машинам. Продолжить драку в автобусе они не решались – у меня был защищенный тыл.
На привокзальной площади появились два милиционера, как всегда, к развязке, и таксист с хищным толстым лицом подошел к ним. Двери в автобусе закрылись, и мы благополучно поехали.
– Ну и как же тебя зовут, незнакомка? – спросил я у девушки, которая все еще утирала слезы и всхлипывала.
– Скоты, какие скоты, – не могла она успокоиться.
– Так как твое имя? – спросил еще раз, шумно дыша, но совершенно спокойный.
– Людмила, – сказала она, с надеждой и совершенно доверительно глядя мне в глаза. Какая я была дура, что не послушалась вас! За мной должны были приехать, меня должны были обязательно встретить… Что-то случилось…
– Все в порядке, я вас доставлю туда, где вы будете в безопасности, – успокаивал я девушку.
– Где в этом городе можно быть в безопасности? Здесь все воюют один против другого… – загадочно произнесла девушка.
– Но ты же к кому-то ехала? Не к врагам же? – спросил я. Сумка была у моих ног, я держался за поручни, а Людмила стояла между моих рук, как в защитном ограждении. Я поглядывал в заднее окно автобуса – за нами двигались такси: одно, два, три… Чем дальше мы ехали по городу, тем больше их становилось. Что-то непонятное! Я рассчитывал, что мы отъедем на автобусе от вокзала, и таксисты отвяжутся, но этого не произошло. В автобус входили и из него выходили люди. Иногда их набивалось очень много, иногда автобус становился почти пустым. Неожиданно я обнаружил, что ни одной машины такси за нами больше не следовало. Но это меня не успокоило. А Людмила, наоборот, успокоилась, прошла вперед и села. Я отвернулся, внимательно всматриваясь в темноту, где сияли фары машин, следовавших за автобусом. Хотел проследить, нет ли преследователей. Автобус сделал остановку, начали входить люди, много людей. Они вошли, автобус тронулся с места и поехал. Я отвел взгляд от окна. Посмотрел, а Людмилы нигде не было.
Что такое? Я ухватил тяжеленную сумку и начал пробираться в автобусе среди пассажиров, надеясь, что девушка забилась куда-нибудь в уголок. Ее нигде не было!
– Водитель, остановите автобус! – потребовал я, но он с чисто кавказской невозмутимостью счел мою просьбу неубедительной, поскольку мы уже подъезжали к следующей остановке.
Я выскочил на улицу и, волоча сумку, начал двигаться в сторону предыдущей остановки.
Но и на этой остановке Людмилы тоже не было. Рядом стояли одноэтажные домики, и только в некоторых из них горел свет. Надо же! Она удрала. Удрала – и оставила проклятую сумку. Она направилась к своим дружкам, которые не соизволили ее встретить, а меня бросила черт знает в какой части города, зная, что я теперь не рискну воспользоваться услугами такси. На мое счастье, к остановке подошли молодые люди, и я расспросил их, куда мне следовало двигаться, чтобы добраться до моей гостиницы.
Лишь в полночь, весь взмыленный, втащил я неожиданную поклажу в свою комнату. Первым желанием было расстегнуть молнию и посмотреть, что же за груз стал предметом вожделения мафиозных таксистов. Но я немного подумал и решил, что даже если я узнаю, что находится в сумке, то все равно ведь ничего не изменится. Мало того, я посчитал, что слишком уважаю свою даму, чтобы копаться в ее вещах. И я не стал проверять, что там, решив быть благородным до конца. Иначе потом выдам своим видом, если узнаю, что там.
Запихнул сумку под кровать и направился в душ. Тем временем за стеной моей комнаты слышались веселые голоса русских девушек и абхазских парней. Почему абхазских? Да потому что они говорили об Абхазии, спорили о том, почему абхазские женщины из Гудауты хорошо говорят по-русски, а вот абхазски из Очемчиры плохо. Каждое слово беседующих было отчетливо слышно, даже если они говорили вполголоса. Но я их не слушал. У них веселое настроение, потому что они познакомились только сегодня в городе, а вечером ребята пришли к девушкам с вином и местным угощением – виноградом и арбузами, которые на базаре стоят недешево. Сейчас все недешево.
Выйдя из душа услыхал, как в соседней комнате начали разговаривать на повышенных тонах. Молодые люди спорили, и спор оказался дурацкий и пошлый. Нельзя было понять, шутят они или всерьез. Дело в том, что один мужской голос доказывал, что если женщина пригласила мужчину в гости, на вечер, то он может оставаться тут, сколько ему захочется, хоть целую ночь. Женский голос доказывал, что об этом не может быть и речи, и приглашение в гости есть обычная форма вежливости, а не способ завлечения. Словом, аргументы у моих девушек кончились, и они начали выгонять парней. Это были тоже мои девушки, из моих краев, поскольку у нас на руках были одни путевки. Я громко постучал в стену кулаком. На некоторое время крики поутихли, но затем возобновились, правда, несколько глуше.
Приступил к ужину. У меня имелись: банка шпрот, кусок хлеба и несколько мятых помидоров. Мой стол выглядел не шикарно, но зато позволял сделать отличные бутерброды. Я размышлял о том, являются ли шпроты, которые я водружал на кусочки хлеба и покрывал ломтиками помидоров, хамсой? Может, это просто приготовленная на оливковом масле обыкновенная килька? Кстати, как насчет хамсы или кильки в местных водах? Кто об этом расскажет? Мне нужен местный проводник, который способен раскрыть тутошние тайны. Желательно, чтобы это была дама. Правда, говорят, что у кавказских женщин чрезвычайно волосатые ноги. Ничего. Горбачев откроет границу, и с Запада сюда навезут массу всевозможных эпиляторов. А может, у местных женщин вовсе нет волос на ногах. Во всяком случае через месяц мне об этом станет известно. Я надеялся. Я никогда не терял надежды.
Страсти у соседей вновь накалились, и мне пришлось, уже в тренировочном костюме, выйти к ним.
Я постучался в дверь и толкнул ее. Двое рослых парней и один недоросток что-то доказывали двум не на шутку перепуганным девушкам. Одна из них бросила заинтересованный взгляд в мою сторону. Боже, печать греховности на лице у нее была в двадцать раз выразительнее, чем у понравившейся мне на вокзале девушки!
– Прошу прощения, но нельзя ли потише? – твердым и даже несколько мрачным голосом произнес я. Недоросток сразу ощетинился и с его лица мгновенно слетело игривое настроение. Он, не глядя на меня, сказал:
– Послушай, дорогой, закрой дверь с той стороны.
– Мужики, время позднее, не пора ли заканчивать сабантуй? – совершенно спокойно и, как мне казалось, весьма убедительно сказал я. Рослые абхазцы, к моему удивлению, равнодушно и несколько надменно поглядывая на меня, тем не менее отвалили свои могучие плечи от стены, которую они подпирали, и пошли к выходу абсолютно послушно и без пререканий.
– Идем, Цейба, ты людям спать мешаешь, – сказал один из них.
– Я остаюсь, правда, Наташка? – настаивал на своем тот, которого назвали Цейба.
– Нет, уходи. Завтра придешь, – просила Наташка, девушка с круглым лицом, очень умело подмалеванными выразительными глазами и с той сладкой печатью греховности, перед которой я себя запрограммировал сдаваться в течение моего отпуска…
Цейба с Недовольной миной и совершенно невыносимым надменным выражением лица начинает выходить из комнаты. Он проходит возле меня, стараясь задеть локтем. Сегодня с меня довольно, и я отступаю.
– С тобой я еще разберусь, – бросает мне Цейба из глубины коридора.
– Подожди, давай разберемся сейчас, – не выдерживаю я.
Но Цейба уходит.
– Спасибо, вы меня спасли, они такие наглые… Сегодня днем увидел меня и так пристал, так пристал, – говорит девушка с круглым лицом и выразительными глазами. Она из чувства благодарности выходит из комнаты и, заглядывая в лицо, идет следом за мной. Когда я открываю дверь своей комнаты, она смотрит туда и убеждается, что там никого нет.
– А вы одни? К вам никого не подселили? – говорит девушка и берется за ручку двери, не решаясь войти внутрь. Девушка симпатичная, слегка выпившая, теплая, от нее прямо пышет здоровьем, жизнью и греховностью.
– Проходи, – приглашаю ее, – тебя Наташей зовут, да?
– Наташей, – отвечает доверчиво девушка и входит в комнату.
Я запираю комнату на ключ, выключаю свет. Он гаснет, но в комнате светло от уличного фонаря. Я очень устал за сегодняшний день, полный приключений, и мне нужна разрядка.
– Что вы делаете? – шепчет Наташа. – Зачем погасили свет?
Я молча подхожу к девушке, обнимаю ее и приближаю свое лицо к ее губам. Девушка немного настороженно смотрит прямо в мои глаза и неожиданно вскидывает руки, обнимает меня, и наши губы сливаются в долгом, как ночь, поцелуе. Мои руки автоматически делают свое дело. – Невероятно, может у меня на лице клеймо греховности?
– Подожди, – шепчет девушка, задыхаясь. – Я к тебе приду, подожди…
Я отпускаю ее, сажусь на кровать и начинаю ждать. В соседней комнате шумит вода. На полу движутся тени от ветвей тополя.
Последние два часа меня мучают дурные предчувствия. Я не суеверен, но не отрицаю того, что человек, в принципе, способен почувствовать опасность на какое-то время раньше, чем она обнаружится. Иногда это чувство приходит ко мне совершенно неожиданно. Вот и сегодня оно не очень сильно, но есть. Правда, я не смог предугадать событий на вокзале… По силе этого Чувства я всегда предпринимаю шаги перед грозящей опасностью, а что я противопоставил бы таксистам? Чаще всего, прогнозы оказываются верными тогда, когда я не предпринимаю мер предосторожности, хотя случалось, что тревога бывала и беспочвенной. Только с опытом я научился никогда не игнорировать это чувство и никогда не жалеть о том, если перестрахуюсь.
Наташи долго нет, но вот, наконец, я слышу шаги, и в дверь моей комнаты тихонечко скребутся.
– Входи! – громко шепчу я. Наташа не входит. Я поднимаюсь с постели, подхожу к двери, тяну ручку на себя. Что-то черное надвигается на меня. Инстинктивно отпрыгиваю и вижу, что в воздухе повис занесенный надо мною нож. На ходу перехватываю руку и направляю всю силу удара на противника. Мне некогда думать! Черный враг рывком согнулся пополам, захрипел и рухнул на пол. Я переворачиваю его, стараясь разглядеть лицо. Нет, это не Цейба. Это неизвестно кто. Лицо незнакомца начинает дергаться, глаза моргать… Неужели он умрет! Умрет от глубокого удара ножом в солнечное сплетение? Лицо незнакомца начинает застывать, а мышцы лица – расслабляться. Сейчас придет Наташа. Боже, что за день, что за ночь! Теперь ясно, что меня мучило эти два часа!
Перекатываю труп под кровать и ставлю рядом тяжелую сумку. Наверняка у подосланного убийцы есть сообщники. Если они не дождутся его, поднимется переполох. Вот кто-то берется за ручку двери моей комнаты. Я напрягаюсь. В комнату неслышно входит девушка, одетая в красный домашний халат. Под халатом ничего нет, одна сплошная греховность. Я прихожу в ужас от мысли, что она сейчас эффектно сбросит его, предстанет во всей своей обнаженной красоте и протянет мне руки. И я пойду к ней навстречу, зная, что кровь в убитом мной человеке еще не свернулась.
Но происходит следующее. Девушка прямо в халате залезает под одеяло и там избавляется от халата, Она стыдлива!
Я поворачиваю ключ в двери, забираюсь к ней, и мы начинаем делать то, что делают миллионы мужчин и женщин. Я не хочу потерять ни одной южной ночи. Нельзя с этим мириться, с потерей ночи. Пусть у меня под соседней кроватью лежит мертвый враг, но это меня не смущает. Я воин.
Пружины матраца начинают ритмично жаловаться на свою участь.
Наташа тоже не хочет потерять ни одной ночи. Она демонстрирует свою пылкость. Она ненасытна. Если бы она знала, что находится под соседней кроватью, то уменьшила б свою прыть.
Наконец, она успокаивается.
– Наташенька, я люблю спать один… Мне нужно выспаться… – хочу выгнать я девушку.
– Милый, я перейду на соседнюю кровать. Ни в коем случае! Эти пружинные матрацы прогибаются едва ли не до пола.
– Котик, я тебя очень прошу… У нас впереди целый месяц… – начинаю уговаривать я, понимая, что наношу девушке сильнейшее оскорбление, избавляясь от нее теперь таким образом.
Наташа надевает халат и, опустив голову, уходит. Возможно, она никогда больше не придет сюда.
Едва услыхав, как она улеглась в соседней комнате, я начинаю действовать. Действовать надо бесшумно. Коридор пуст. В некоторых комнатах разговаривают.
Жду, когда все уснут. Прислушиваюсь к каждому шороху. Выждав некоторое время, взваливаю труп и несу его к пожарной лестнице. Взбираюсь на последний этаж. Открываю люк лаза, ведущего на крышу. Пусть труп позагорает под звездами. Я не хотел убивать этого черного человека. Он сам виноват: напал на меня с ножом. Он погиб от собственного ножа.
Спускаюсь, подхожу к комнате и вхожу в нее так, словно туда заползла гадюка. Первым делом вытягиваю сумку из-под кровати. Дергаю за язычок молнии. Сверху – женское белье, под бельем – что-то круглое и тяжелое, завернутое в тряпочки. Я сразу понял. Сумка была полна боевых гранат! Я насчитал их ровно сорок штук. Запалы в отдельной коробочке. Ну, по крайней мере, я теперь вооружен до зубов.
Неужели Людмила торгует оружием? Вот почему она не решалась ехать на такси! Вот почему к сумке так стремились таксисты. Возможно, именно поэтому сюда проник убийца.
Остаток ночи я провожу будто в кошмаре. Вздрагиваю при каждом шорохе. Утром перегружаю гранаты в свою сумку и ухожу в город. Убеждаюсь, что за мной не следят. Иду к морю. Берег пустынен. Ласковые зеленоватые волны с шипением набегают на песок. Забредаю подальше от пляжа, и в небольшой бухте топлю гранаты, заваливаю их галькой. Над моей головой пролетают чайки и резкими противными криками спрашивают меня, чем я занимаюсь.
Глядя на рябую поверхность моря, я замечаю, что она уже не выглядит светло-лазурной. Мне видно, как в чистой воде плавают темные скопления водорослей, медленно раскачивающиеся у самого дна. Море, отступая от берега, становится все темней. Из лазурного оно «перетекает» в голубое, затем – в зеленое и, в конце концов, в темно-синее.
Неожиданно я слышу гудение, и совсем близко вижу на этой темно-синей глади Черного моря белый гидроплан. Это обычный АН-2 на поплавках, но добротно выкрашенный в белый цвет. Частный самолет, отмечаю я, какая еще государственная организация будет красить самолет в белый цвет? Да и рядом огромный многоэтажный шикарный особняк, к тому же за капитальным забором. Это, скорее всего, владелец самолета. Ну, Кавказ! Уже имеют собственные самолеты в то время, когда по всей стране люди живут от зарплаты до зарплаты.
Я отметил, что двигатель работает, пропеллер вращается, а человек, судя по всему, пилот, задрав голову вверх, разглядывает из-под ладони берег. Хочется верить, что он все же не обратил внимания на меня и не заметил «моих» боеприпасов.
Теперь необходимо разыскать Людмилу. Вместо того, чтобы лежать на пляже и смотреть на облака, я вынужден работать. Работать на черт знает кого.
…Надежда увидеть Людмилу ничтожная, уже прошло три или четыре дня, а я все кружу по городу, в карманах у меня по гранате. Стараюсь не попадаться на глаза таксистам. Люди судачат об убийстве в гостинице. Труп обнаружили на второй день.
Две ночи я не ночевал в гостинице. Подходил к зданию, смотрел на горящие окна и не осмеливался войти. В комнате Наташи каждый вечер сидят три абхазца. Каждый раз из гостиницы выходят только двое. Тот, которого назвали Цейба, не выходит. Наташа не потеряет ни одной ночи.
На третий день я пришел в гостиницу днем. Мои враги, в конце концов, не решатся поднимать шум на людях и среди белого дня.
Наташа, услыхав шум в моей комнате, решила не терять и дня… Под красным халатом у нее одна комбинация. Цейба, кажется, не очень ей нравится.
– Милый, где ты был? Тут у нас убийство произошло. Милый, как давно я тебя не видела!
Я уже проворонил две ночи, но, кажется, Наташа поможет мне наверстать упущенное. Она в пылу атаки что-то бормочет о презервативах. Пользуюсь ли я ими? О, да! Но где их взять? У меня в карманах можно найти только пару боевых гранат, даже если я в отпуске и ехал заниматься именно тем, когда позарез нужны хорошие презервативы.
Стоит душная и горячая погода. Давно не было дождя. Тела наши липкие.
– Где ты был? – допытывается Наташа, – где ты был?
Я настораживаюсь. Почему она выспрашивает меня?
– Я потеряла без тебя три ночи!
– Две, – уточняю я и успокаиваюсь. Теперь мне понятно любопытство женщины.
Вечером к Наташе приходят ее знакомые абхазцы. Во главе с тем, кого зовут Цейба. Не обнаружив Наташи в ее комнате, они стучат в мою. Открываю. Входят все трое, как в собственный дом. Иронизирую:
– Проходите, гости дорогие…
– Нет, мы не гости, это ты гость, мы здесь хозяева. Это Абхазия, а мы абхазцы. Здесь все наше, – говорит Цейба то ли в шутку, то ли всерьез.
– И девушка ваша…
– Да, это наша девушка, дорогой.
– Я не против, что ваша. Ваша, так ваша. Забирайте… Но хочет ли она быть вашей?
Наташа моргает глазами. Ей не хочется уходить от меня таким образом, но ей также хочется поболтать с веселым и молодым Цейбой. Она приглашает на бутылку вина в свою комнату и меня.
– А кого тут у вас убили? – начинаю я наводить справки.
– Шакала одного… Мокрушника… Он на местного пахана работал. Но скоро его выгоним. Мы здесь хозяева, а не грузины.
Разговор переходит на афганскую тему. Рассказывает Цейба, который, как оказывается, сам там не был. Рослые абхазцы молчат. Они там были. Поэтому-то и молчат. Все, кто там побывал, предпочитают молчать. Вообще, слишком много людей побывало в этом аду, и оттого им неинтересно слушать рассказы об Афганистане тех, кто там не был.
Мое молчание нравится двум рослым парням. Мы оставляем коротышку с Наташей и идем пить лучшее вино в городе. Так говорят абхазцы. Еще они говорят, что скоро загорится земля.
Мы пьем лучшее вино в городе, едим лучшее мясо с лучшим зеленым луком и лучшими помидорами. Абхазцы оказываются отличными собеседниками. Они все время молчат: Потом они ведут меня к себе домой и опять угощают самым лучшим вином в городе. Я ем фасоль. Она страшно наперчена. Я ем салат из крапивы, чеснока и грецких орехов. Вино булькает в желудке. Эти ребята – отличная охрана. Это природные нукеры. У них инстинктивная тяга охранять кого-либо. Этим пользуется Цейба. Теперь они будут охранять меня. Если потребуется.
Мы договариваемся встретиться завтра, и я ухожу в темноту.
…Днями кружу по городу, моей красавицы Людмилы нигде нет. Вокруг слишком много прекрасных вилл, на любой из которых центром внимания может быть такая длинноногая девушка с таким пухленьким ротиком. Впрочем, рот пухлый и у Наташки.
Когда я днем прихожу в гостиницу, она тотчас приходит ко мне. Она вовсе не предпочла южанина. Выбор сделан в мою пользу. Но мне не до этого. Кроме того, я разорюсь на «гигиенических штучках». Мало того, с ее прытью ей не понять, что я приехал сюда не работать, а отдыхать. Чтобы охладить наши отношения, которые начинают не нравиться мне, спрашиваю о Цейбе. Наташа начинает путано говорить о своих отношениях с ним. Она меняет тему, и из ее разговора я узнаю о похождениях загадочной дамы, которая вовсе б…ь, а вот Наташка не б…ь, она – честная девушка. Чтобы загладить свою вину, Наташа готова на все. Я холоден, как айсберг. Тем не менее, из чувства благодарности и симпатии, она замыкает дверь моей комнаты, а ключ прячет себе в карман. Неожиданно мы слышим голос Цейбы. Он стучит в дверь комнаты Наташи, потом начинает ломиться к нам.
– Ты здесь, я знаю, открой! – орет ревнивый молодой человек. – Открывай, иначе я выломаю дверь!
– Открывай, сама виновата… – говорю я. Наташа открывает дверь. Влетает разъяренный Цейба.
– Ты! – бросается он ко мне. – Ты зачем ее уводишь к себе? Это моя девушка!..
– Знаешь, Цейба… Мне это надоело, – и я ради хохмы делаю шаг в сторону коротышки. Нукеров с ним нет. Да и теперь они не его, а мои нукеры… Цейба хватает Наташу за руку, силой уводит из комнаты. И слава Богу.
Я выхожу в город и решаю хоть один раз сходить на пляж. Мне неприятно здесь отдыхать, ежеминутно озираться, ожидать мести от неизвестных мне врагов. Но я все еще не теряю надежды найти Людмилу, вернуть интересный и опасный груз.
– Парень, как тебя зовут? – однажды слышу на улице. Оглядываюсь – и вижу Фарида. Наконец-то хоть одно знакомое лицо! Ты поможешь мне, Фарид!
Вместе с ним мы были в учебке в Ферудахе. Он не пошел служить в Афганистан. Ему нельзя убивать мусульман, потому что он сам был мусульманином. Я подмигиваю Фариду и называю свое имя по легенде. Он тоже заговорщицки мне подмигивает и тихонько спрашивает: – Ты на задании?
– Нет, на отдыхе, но мне нужно убежище. Мы идем пить лучшее вино в городе, есть лучшее мясо с лучшим зеленым луком и лучшими помидорами. Если учесть, что все это находится в совершенно другом ресторанчике, то у каждого горожанина свое самое лучшее! С этим нельзя спорить, с этим следует считаться.
Мой приятель рассказывает очень интересные вещи. По большому секрету. Оказывается, его угораздило… в Анголу. Там ему пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы. Фарид повествует мне о своих приключениях под жарким небом Африки. Думаю, что он рассказывает сказки. В каждой разновидности сказки, а также и приключенческой истории, есть нечто поэтичное.
Об этом свидетельствует природа тайны: интенсивность, сложность схватывания сути из-за ее сжатости, видимость неразделимости, особая образность, заигрывание с абсурдом, фиктивный характер. Очень не хотелось верить, что можно проявлять по отношению к людям, даже и к африканцам, такую жестокость. Однако Фарид всякий раз подтверждает свои россказни демонстрацией шрамов. Особенно ужасны шрамы, полученные Фаридом после того, как он побывал в пасти акулы-людоеда. А подзалетели по дурочке. Решили искупаться в Атлантическом океане в том месте, где река выносит в океанический простор свои воды. Вместе с водой река выносила, разумеется, и трупы людей. Слишком много трупов, чтобы не привлечь внимания акул. Кровожадный и безмозглый морской хищник откусил ногу товарищу Фарида, схватил его самого поперек туловища. Фарид нащупал акульи глаза и что есть силы надавил на них. Хищная рыба выплюнула человека, изранив бока острыми как бритва зубами.
– Здесь то, в Черном море, акул не следует опасаться? – спрашиваю я.
– Боюсь, что следует, – загадочно отвечает Фарид, потом поясняет: – Только этих акул мы называем грузинами.
Целыми днями мы плаваем на катере Фарида. Это небольшое, но с мощным мотором плавсредство. Управлять им просто.
Берег мелькает вдали. Голубые брызги радуют меня, но Фарид не расположен к веселью. У него масса проблем, о которых он пока предпочитает молчать.
Когда вечером он причаливает к мосткам, и мы уходим, оставляя мотор на катере, я спрашиваю:
– А мотор ты не будешь снимать?
– Пусть кто-нибудь тронет мотор Фарида. Потом он об этом пожалеет.
Я ночую у Фарида на прекрасной вилле. Пока я воевал, он заработал на такую виллу. Он показывает мне старинный абхазский пояс с серебряными бляхами. Дает полистать изданную в прошлом столетии первую абхазскую грамматику.
– Зачем нам грузины? – спрашивает он у меня. Я только пожимаю плечами. – Они привыкли командовать. Зачем они здесь, в Абхазии? Здесь ведь не Грузия. Понимаешь?
Что у него на уме, у этого Фарида? Теперь я немного начинаю понимать смысл выражения «загорится земля». Неужели и мне придется участвовать в этом? Не пора ли улепетывать отсюда? Я спокойно половлю карасей в пруду – в средней полосе. Мне не надо загорать, я и так загорел в Афгане на всю жизнь. Кроме того, если начнется что-нибудь серьезное, меня тут же отзовет командование.
На следующий день Фарид пришел и сказал:
– Помоги провернуть одно дельце. Всего раз!
Я не стал спрашивать, какое именно. На «жигуленке» мы проехали к морю. В пустынном месте остановились. Фарид стал ждать. Невдалеке появился автомобиль. Из него вышли четверо человек.
– Дело немножко осложняется. Я надеюсь, ты умеешь держать в руках оружие? – Фарид улыбается. Впервые он улыбается, и то только потому, что речь идет об оружии.
– Приходилось… – скромно говорю я. Фарид достает из машины охотничье ружье и пистолет «ТТ».
– За неимением ничего лучшего… Пока оружие спрячем. У нас неравные силы. Их четверо, нас двое.
Их вообще в Абхазии больше, но скоро не станет вообще. Нас, абхазцев, свыше восьмидесяти тысяч, а грузин за двести, но эта наша земля. Мы выстояли в пору татаро-монгольского нашествия, отбились от зависимости Турции. Неужели мы не отобьемся от грузин? Юра, скажи, отобьемся… Я предпочел промолчать.
– Если ты поможешь, то отобьемся… – решает за меня Фарид. – Ты же видишь, что они в Осетии творят? Им только подчинись…
– Да и ваши кавказские братья помогут… – как-то вяло говорю я.
– Весь Кавказ вспыхнет, как только мы начнем. Кабардинцы, черкесы, абазины, адыгейцы, убыхи… – глаза у моего приятеля нехорошие. Впрочем, его дело. Это его земля, это его дело. А я, получается, помощник. Наемник по приятельской линии.
У меня сложилось впечатление, что у Фарида разработан невероятный стратегический план, следуя которому он обязательно добьется своего. Мне стало не по себе.
Что это за моровое поветрие такое: стремление народов к независимости и самостоятельности? Сколько надо пролить на земле крови, чтобы утряслись границы, и все, кому хочется, добились суверенности? Взять, да и поделить Землю на всех людей поровну. Каждому по куску океана, каждому по гектару пустыни. А пользоваться вместе… Глупости! Рассуждаю, как Клим Чугункин из фильма, который я недавно смотрел.
Тем временем грузины расположились возле своего автомобиля, двое из них разделись и побежали купаться. Было очень жарко.
– Фарид, так ты мне толком расскажи, что здесь должно произойти…
– С моря ожидается катер. На нем – оружие. Автоматы и большое количество патронов. Грузины пронюхали. В принципе, эти ребята просто близки к тем кругам из милиции, которая состоит в основном из грузин. Это, так сказать, грузинские патриоты-империалисты. Вот и сейчас они на чисто общественных началах попытаются нам помешать. Мои ребята подъедут на своих машинах через полчаса, максимум через час. За нами сейчас ведут наблюдение, нас по возможности подстрахуют. Нам надо делать вид, что мы просто отдыхаем.
От машины грузин отделился человек и пошел в нашем направлении. Говорю Фариду:
– Кто-то идет.
Лицо Фарида принимает некрасивое, хищное выражение. К нам подходит грузин, сухощавый и сутулый. Но рослый.
– Фарид, ты опять задумал нехорошее. Мы тебя уже предупреждали, что если ты будешь…
– Уходи отсюда, Гивия, – глаза у Фарида суживаются. Кулаки сжимаются. Откуда у человека такая способность ненавидеть?
Гивия ушел.
Фарид достал бинокль и скрытно, спрятавшись за автомобилем, стал наблюдать за морем. Неожиданно он сообщил:
– Катер приближается. Тебе следует плыть туда. Предупредить. А я попытаюсь отбиться от этих…
Я молча разделся и с разгона плюхнулся в море. Вода приятно обожгла тело, а через несколько минут я почувствовал, что она необычайно теплая. Море было вроде бы спокойным, но легкий ветерок уже начинал дуть с суши, и небольшие волны колыхали меня. Я радовался возможности искупаться и начал нырять, чтобы ввести в заблуждение грузин и беспрепятственно заплыть как можно дальше в открытое море.
Я плыл и плыл, не спеша отдаваясь волнам, наслаждаясь морем и солнцем. Когда я устал и перевернулся на спину, чтобы посмотреть на Фарида, то увидел еще один «жигуленок», который подкатил к моему товарищу. Из автомобиля вышел человек, «посовещался» с Фаридом, а затем уехал. Грузины уже не купались, а одевшись, стояли у своей машины и курили: в прозрачном воздухе был виден дым.
Я перевернулся в воде и поплыл дальше, изредка поглядывая вперед, чтобы увидеть катер. За мной увязалась чайка, которая черненьким глазком всматривалась в меня. Интересно, за кого чайки – за грузин или за абхазцев? Наверное, им все равно.
Наконец, я увидел катер и помахал из воды рукой, чтобы меня могли заметить. Катер прекратил движение и встал боком. Я подплывал ближе.
И тут я увидел, что на борту катера находится Цейба. Он стоял с автоматом на плече, смотрел на меня, и на его лице не отображалось ровным счетом ничего. Я еще раз дружественно помахал рукой.
Все остальные абхазцы, которые находились на палубе, уже поснимали и попрятали оружие. Цейба продолжал стоять с каменным лицом. К нему подошел плотный человек и что-то сказал, но Цейба не шелохнулся.
И тут случилось непредвиденное. Цейба резко сорвал с плеча «АКС» и, не целясь, начал строчить по мне. Пули подняли фонтанчики брызг. Из ствола автомата вылетали тугие облачка пороховых газов, к стрелявшему бросилось несколько человек, но Цейба оттолкнул их и, поняв, что расстрелять меня, не прицеливаясь, не удастся, вскинул автомат к глазам.
Я сделал глубокий вдох и нырнул под воду. Под водой я развернулся и пошел влево. Я уже достаточно устал и не намеревался уходить от катера, тем более, что если они меня захотят убить, то элементарно догонят в открытом море. Когда я вынырнул, из катера по мне снова раздалось гулкое автоматное буханье.
– Я от Фарида! – захлебываясь, закричал я.
– Дорогой! – неожиданно закричал Цейба. – Неужели ты думал, что я хочу тебя убить? Дорогой…
– Тогда ты дурак, козел и гад! – я был возмущен до глубины души.
– Дурака я прощаю, у вас, русских, принято называть один другого дураками, а вот за козла ты у меня получишь!
Совершенно голый и беззащитный, в открытом море – я был вынужден вести борьбу с человеком, который хотел отомстить за обиду из-за девушки.
Автоматная очередь вспенила воду прямо перед носом. Я видел, как пули в воде теряют скорость и уходят на дно, в мрачную глубину Черного моря. Если этот идиот ошибется и поднимет ствол автомата хотя бы на сантиметр выше, мне конец. Он достанет меня.
Наконец, у Цейбы вырвали автомат.
Меня выволокли за руки на палубу катера. Я весь дрожал: то ли от холода, то ли от того, что в очередной раз побывал перед лицом смерти. А может, я дрожал потому, что никак не мог отомстить Цейбе.
Лицо Цейбы было неподвижным. Оно ничего не выражало, как будто ничего и не случилось.
Меня укутали одеялом, сунули стакан с коньяком.
– Нельзя было стрелять! На берегу грузины! Сейчас подъедет милиция! – остервенело заорал я и залпом выпил коньяк, словно это была субстанция Цейбы и я намеревался эту субстанцию переварить собственной соляной кислотой в желудке.
Собравшиеся наверху переглянулись.
– Фарид сказал, что уходить в море нельзя. Только сегодня и сейчас оружие надо доставить к берегу. Будет бой, – докладывал я.
– Что же, подготовиться к бою! А ты, – обратился старший к Цейбе, – оружия не получишь.
Тем временем катер приблизился к берегу. На берегу можно было различить следующее. Возле «жигулей» грузин стоит милицейский «уазик» и суетятся люди. Возле автомобиля Фарида никого по-прежнему не было.
Милиция цепью начала разбегаться вдоль побережья. Катер немного свернул, подошел поближе к «нашей» машине; милиционеры, вооруженные автоматами, тоже сместились к Фариду.
Нас на катере было пять человек, включая меня и Цейбу. На берегу мы насчитали больше десяти человек. У них были, кажется, пять автоматов.
Неожиданно к Фариду подъехала автомашина, а за ней еще одна.
И тут раздался первый выстрел. Стрелял Фарид. Стрелял по автоматчикам. Один из автоматчиков схватился за живот и упал. «Началось», – подумал я и, выхватив из рук одного из близко стоявших абхазцев автомат, прицелился и выпустил очередь.
Очередь пришлась как нельзя более кстати. Из-за внушительного расстояния я никого не подстрелил, но автоматчики залегли и обрушили шквал огня из автоматов по машине Фарида. Она задымилась и неожиданно ярко вспыхнула. Фарид выстрелил из ружья еще раз и перебежал за другую автомашину.
– Вот сволочи, что делают! – сказал плотный абхазец, – Грузины автомашину подожгли.
Началась беспорядочная пальба. Катер мчался к берегу, с каждой минутой создавая угрозу милиции. Мне принесли автомат. Цейба тоже вооружился, подмигнув мне с прежним каменным выражением на лице. Грузины перенесли огонь на катер. Пули защелкали об обшивку, один из абхазцев екнул и свалился на палубу.
Я «поливал» короткими очередями не давал поднять головы стрелявшим с берега. Можно было уже десять раз окопаться, нагрести кучу песка перед собой, но милиционеры палили по нам с колен, представляя собой отличные мишени.
Катер во всю свою мощь своего двигателя мчал к берегу, и, наконец, милиция не выдержала и побежала, оставив на песке пляжа четыре неподвижных тела.
– Нельзя, не стрелять! – закричал плотный абхазец. – Пусть уходят, мы не хотим их смерти. Мы хотим, чтобы они ушли.
Тем временем с шоссе съехали еще два «жигуленка». Фарид в пылу атаки продолжал стрелять из ружья, очевидно, пытаясь поджечь автомобиль грузин. Но грузины вскочили в свои «жигули» и, отчаянно буксуя в пляжном песке, уже выруливали на шоссе. Вскоре их след простыл.
Абхазцы начали радостно кричать, вскидывая вверх оружие, а Цейба очередь за очередью салютовал в небо…
Фарид цел и невредим. Я рад за товарища. Он бросается ко мне с распростертыми объятиями. Идет оживленное обсуждение боя. Мы перегружаем оружие на легковые автомобили, и они уезжают в горные деревни. Там идет формирование отрядов. Это уже серьезно. Но мне не очень интересно, кажется, я достаточно настрелялся.
Фарид отвел меня в сторону и сказал:
– Хочу попросить тебя еще об одолжении. Поживи у меня дома. Один. Понимаешь, они будут охотиться за мной, а тебя они не знают. Дом прочный, с удобствами. Можешь напустить пресной воды в бассейн, можешь купаться в море, оно рядом…
Я уеду, меня здесь не будет, нас пока прижали, не буду же я сторожить стены? У меня дел столько!
Неожиданно внимание Фарида отвлекает вертлявый человек, который начинает что-то рассказывать по-абхазски. Потом к Фариду обращаются его напарники, тоже на абхазском языке. Я остаюсь не у дел. Фарид говорит одному абхазцу:
– Фазиль, отвезешь моего друга к моему дому. В случае чего, мы будем сам знаешь где. Можешь позвонить из дома, но особенно не распространяйся, могут прослушивать.
Фарид уже не спрашивает, соглашусь ли я быть сторожем его дома. Ведь я еще не сказал ему «да»! Но у меня выхода нет. В городе мне показываться по-прежнему опасно.
Меня везут к дому Фарида. Это не очень далеко от города. Я снова созерцаю не просто дом, а целую современную виллу. Настоящая загородная резиденция какого-нибудь руководителя государственной важности. Вокруг тоже возвышаются различных размеров коттеджи.
– Кто у Фарида отец? – интересуюсь я у своего проводника.
– Отец? Да никто, простой работяга… – отвечает хмурого вида парень, не соблюдающий никаких правил уличного движения. Уже два раза он проехал на «кирпич». Когда я молча показываю на эти знаки, он бросает:
– Это грузины натыкали. Для наших то не знаки…
Он на минуту смолкает и вдруг неожиданно весело говорит, как бы вспомнив то, что меня интересует:
– Зато дед у Фарида, что надо!
Я сразу представляю себе сурового горца в папахе, с кинжалом на боку, питающегося только козьим сыром, изюмом и вином. У него неприступная крепость в горах, и он не сдался советской власти до сих пор, отстреливаясь из старинных пушек. Вслух я произношу только последнюю фразу:
– Что, до сих пор Советам не сдался?
– Ты что, дорогой, он сам был советской властью! Заместитель наркомвоенмора Абхазии, – развеселился водитель. Я еще более поражаю его, спросив:
– А кто такой наркомвоенмор? Абхазец, торжествуя, произносит:
– Народный комиссар по военным и морским делам Абхазской Советской Социалистической Республики.
– Так что, у вас, оказывается, своя отдельная союзная республика была? Этот вопрос его, наверное, убьет.
– Была, дорогой, все у нас было… Да вот, грузины…
Водитель не договаривает, выходит из машины, отмыкает дверь ограды, оставляет мне ключи, желает приятно провести время, а сам спешит исчезнуть. Ему надо торопиться доделать то, что не доделали их комиссары их комиссариатов их республики. Мне торопиться некуда. В моей республике мои комиссары сделали все возможное и невозможное. Поэтому я отдыхаю. Стою в задумчивости перед домом величиной с замок, и не знаю, что мне делать. Может, позвонить и вызвать Наташку из города?
Иду в дом Фарида. Снова восторгаюсь: прекрасный двухэтажный особняк с различными пристройками. Черепицу для крыши возили из Прибалтики. Дорожки заасфальтированы, зацементированы. Обхожу дом – это настоящая крепость, но сделанная с изяществом. Откуда у людей столько денег?
Толкаю дверь, она открыта, обхожу первый этаж, нет никого, поднимаюсь по лестнице, зову на всякий случай кого-нибудь, никто не отзывается. Вижу приотворенную дверь, прислушиваюсь, неслышно захожу в комнату.
На кровати безмятежно спит… Людмила. Тающая, словно леденец во рту, женщина, наконец-то я тебя смог найти.
Я не верю своим глазам. Невероятно!
Я наклоняюсь над Людмилой. Неожиданно она просыпается, видит меня и… обнимает меня за шею. Ее губы шепчут:
– Ты нашел меня? Я знала, что ты придешь… Она впивается в мои губы своими и начинает прижимать меня к себе.
– Миленький, ты искал меня? Я тебе еще нравлюсь, правда?
Я не могу сопротивляться или противиться.
Я ошарашен. Все происходит настолько неожиданно, что я забываю обо всякой осторожности и представляю себя этаким пауком, которого паучиха пожирает после совокупления. В знак благодарности, что ли?
– Миленький, прости меня, что я убежала тогда, но так нужно было, иначе они схватили бы нас, – шепчет девушка, все более теряя контроль, – я ведь знала, что ты будешь со мной…
– Кто они, Людмила? Что здесь происходит? Думаешь, я не знаю, что было в сумке?
– Молчи, дорогой, молчи…
Некоторое время происходят взаимные объятия и поцелуи, а потом начинается настоящая схватка, а после и все остальное.
– Миленький, я знала, что ты меня найдешь… – шепчет девушка, которую я знал всего-то часа два, и которая тогда всячески пыталась отделаться от меня. А теперь я вместе с ней, рядом, держу в объятиях…
И вот я лежу совершенно опустошенный и без энергии.
– Миленький, я знала, что ты меня трахнешь… – уверенно говорит Людмила, пытаясь заглянуть в мои глаза. Но мне страшно неловко, хотя я не подаю вида. Пропадать, так пропадать!
В моих объятиях находится словно сгусток солнечной энергии. Эта женщина – биоэнергетический вулкан! Да, я совершенно опустошен и чувствую, что без ее тела уже не смогу так чудесно жить, потому что мне тепло, уютно и радостно возле нее. Почему я раньше не знал, как может быть хорошо с женщиной! Потому что все они – разные?
С каждой минутой силы возвращаются ко мне, и я вскакиваю, чтобы закрыть дверь.
– Почему ты здесь? Ты знаешь Фарида? – спрашиваю я. Уж слишком все невероятно складывается.
– Это я должна спросить – ты знаешь Фарида? – игривым тоном передразнивает Людмила и водит пальчиком по моей руке.
– Отвечай на мой вопрос: ты знакома с Фаридом? – настаиваю я. Я вообще люблю настоять на своем.
– Да, я знакома с Фаридом уже раз, два, три…
Да, уже четыре года. И много-много раз целовалась с ним…
– Ты хочешь меня разозлить? – я снимаю руку Людмилы со своей руки. Неужели все женщины так развращены?
– У-у! Мужчи-ина… Конечно, я хочу тебя разозлить… – совершенно спокойно отвечает девушка, соскакивая с кровати и взбивая волосы массажной щеткой.
Я не могу делить женщин ни с Цейбой, ни с Фаридом.
С меня хватит, я уезжаю. Пропади все пропадом.
Бросаюсь вниз по лестнице и убегаю. До города недалеко, и, переполненный противоречивыми чувствами, я брожу по улицам, выискивая очередные приключения. Я ждал, чтобы меня кто-нибудь зацепил, чтобы представилась возможность вылить всю злость на обидчике.
…Темной южной ночью я вернулся в гостиницу. Вахтер спал. За стеклянной дверью торчала щетка, положенная под ручку. Пришлось вцепиться в ржавые флагодержатели, подтянуться на руках, вцепиться в карниз, вскарабкаться, и пройти по нему к окну своего номера.
Но у Наташи в комнате, оказывается, идет пир горой. Вовсю светится незашторенное окно, и когда я пытался неслышно пройти по карнизу мимо него, девушки дружно закричали и начали открывать окно, благо оно открывалось внутрь. Вцепившись в меня, втащили в комнату. Девушки уже выпили целую бутыль вина и хохотали. Цейба тоже оказался там, был изрядно пьян и почему-то весело поглядывал на меня.
У меня не наблюдалось желания хохотать. У меня возникло желание напиться. Кажется, предстоит трудовая ночь: Наташа алчно смотрит на меня.
– Она твоя! – говорит Цейба. – Ты нам помог, она твоя.
Я ухожу в свою комнату. Наташа, в красном халате, идет следом. Что у нее под халатом – у меня полная информированность. Я бы сказал, избыточная информированность.
– Иди ты, Наташка, домой, я хочу сегодня побыть один.
Девушка нисколько не обиделась, даже наоборот. Вероятно, решила, что маленький перерыв в ночной работе только освежит ее. Кто знает, что она подумала.
Когда она вышла, я вытащил сумку и начал бросать туда свои вещи. Неожиданно мне попались на глаза вещи Людмилы, которые оставались в ее сумке. Гранаты ведь на дне морском! А я держал в руках женское белье и не знал, что с ним делать. Белье теплое, мягкое на ощупь. Если закрыть глаза, то всплывает образ девушки, которая была сегодня со мной. Может, все женщины такие, и что уж тут поделаешь?
Как вернуть все это барахло? Я ни слова не сказал о местонахождении гранат. Гранаты тоже следовало бы вернуть. Может, ничего не возвращать, а плюнуть и уехать? Нет, так настоящие рыцари не поступают. Есть прекрасный парень Цейба. Он-то все и передаст.
На улице, где-то далеко в городе раздалась самая настоящая автоматная очередь.
Ну и попал же я в заваруху. В городе стреляют! Вот тебе и прекрасная курортная зона. Тысячи отдыхающих, дети, инвалиды…
Сейчас я не удивлюсь, если ко мне вломится шайка с автоматами и изрешетит меня. Здесь всего можно ожидать. Это не просто мафиозные разборки. Начинается война грузин и абхазцев.
И тут ручка моей двери шевельнулась. Я бесшумно встал, вооружился боевой гранатой, разумеется, разогнув ее усики, и отошел к стене.
Ручка теперь задергалась, кто-то поскребся. Я услышал шепот.
– Милый, ты здесь?
Этот голос нельзя спутать ни с чьим другим. Людмила! Откуда она узнала мой адрес? Ах, да, я же сам ей все рассказал! А если это ловушка?
Стоя спиной к стене, я поворачиваю ключ. Дверь открывается – и входит Людмила. Она одна. У нее все такое же игривое настроение, как и прежде. Только-только я успеваю «разобраться» с гранатой, чтобы она не взорвалась, и возвращаю ее на прежнее место, как Людмила ловит мои губы и жадно целует меня. Неожиданно в дверь без стука входит Наташка. Зачем? Разве я ломился в твою дверь, когда ты трахалась с Цейбой?
– Ой, кто тут? Мне надо тебе кое-что сказать, – жарко шепчет Наташа, разглядывая девушку, которая все еще у меня в руках. Наташа оценивает свои шансы. Она их очень правильно оценивает. Они у нее нулевые.
У Людмилы игривое настроение пропадает.
– Мне уйти? – говорит она. – Ты, я вижу, тоже времени зря не терял.
Я молчу. Что мне говорить?
– Не томи, скажи, мне уйти? Моя сестра замужем за Фаридом. Он уехал к ней в Москву. Я отдыхаю здесь уже четвертый год…
Я закрываю ей рот поцелуем.
На следующий день я хожу в сопровождении прекрасного длинноногого гида по городку, уже не заботясь о том, чтобы прятать свое лицо от водителей такси.
Грузинскую мафию, которая владела таксопарком, разогнали абхазские парни с автоматами. Ходят самые невероятные слухи о количестве жертв. Грузины бросают дома и семьями уезжают в Тбилиси. В столице Грузии проходят митинги, осуждающие сепаратистов. Здесь, в Абхазии, покинутые дома грабят неизвестно кто.
Какое мне до этого дело, если я, наконец, обрел то, о чем мечтал! Мы с Людмилой целыми днями хохочем, вспоминая приключения на вокзале.
– Я просто испытывала оргазм, глядя, как ты их разбрасывал! – заходится от смеха Людмила…
Гранаты благополучно подняты со дна и благополучно переправлены в горы. Мы использовали при этом Цейбу и его акваланг. Рейтинг Цейбы среди его товарищей неизмеримо вырос.
– Это я нашел пропавший груз! – хвастает Цейба. Каждый вечер он на машине привозит нам продукты и свежие новости.
Я ошибался в характере Людмилы. Ее моральные устои оказались значительно выше и крепче, чем я предполагал. Мало того, я не только думаю, что это именно так, но также вел с девушкой открытый разговор, который она сама начала. Она вздумала изменить фамилию. На Язубец.
– Только, дорогой, я не знаю, как это сделать? Ты мне не подскажешь?
Единственное, что не совсем мне по нраву в девушке – некоторая ее несерьезность. Да ладно. Серьезности хватает у меня. И мрачности.
Людмила – москвичка, после института первый год работает в каком-то вычислительном центре. В начале сентября ей на работу.
И мне на работу тогда же. Людмила будет вычислять, а что же придется делать мне? Чтобы ни пришлось – такова судьба.
…Целых две недели я был совершенно счастлив. На вилле Фарида нас никто не беспокоил. Иногда только приезжали незнакомые вооруженные абхазцы, день или два отдыхали и снова уезжали. Фарида в городе нет. Он в Москве, иногда звонит нам. Ведет важные и секретные переговоры.
Но вот опять меня начали мучать тяжелые мысли. Я пытался анализировать ситуацию, стараясь выловить в себе ту самую зацепку, которая и порождала тревогу. Безрезультатно. Если мозг и имел какую-то информацию, касающуюся психологического состояния своего хозяина, то выдавать ее упорно отказывался. Как правило, в таких случаях следует просто ждать, пока разум не трансформирует эти знания в более приемлемую и понятную форму.
Но не теперь. В данной ситуации самым худшим было то, что я не мог найти вообще никаких поводов для тревоги. Все – в самом отличном виде, и лучшего нельзя было желать. Я жил с интересной и чрезвычайно привлекательной, и, к тому же, любимой девушкой на прекрасной вилле, занимаясь больше любовью, чем охраной дома.
Людмила заметила мое состояние, и всеми известными ей способами пыталась привести меня в нормальное расположение духа. Арсенал методов, используемых ею для этой цели, имел широчайший спектр, начиная от неожиданного, на ходу, нежного поцелуя, «нападения» сзади, когда она повисает на тебе и требует, чтобы ее несли, и заканчивая походом на море. Однако ее отчаянные попытки справиться с моей беспричинной тревогой потерпели полный провал. Если я и улыбался, то мысли мой оставались далеко. Что меня мучило, я узнал лишь потом, когда произошло такое, чего я не мог предвидеть. Здесь, в моих записках, я попытаюсь шаг за шагом воссоздать события. Для меня важна каждая деталь…
Было уже утро третьего дня, после того, как я начал, казалось бы, беспричинно тревожиться.
Началось оно, впрочем, точно так, как и утро любого проведенного здесь дня. Короче говоря, я проснулся в восемь утра в спальне и некоторое время лежал неподвижно, прислушиваясь к звукам шагов Людмилы. Вот на кухне звякнула посуда, зашипела льющаяся из крана вода. Я еще несколько минут тупо разглядывал потолок, ощущая нахлынувшую волну беспокойства. Оно было гораздо сильнее того, которое я испытывал на протяжении последних дней.
Это могло означать только одно: опасность достаточно близка. Она где-то совсем рядом, затаилась и ждет момента, чтобы вцепиться мне в хребет.
Внизу принялся нудно бормотать чайник. Хлопнула дверца холодильника. Людмила начала готовить свои умопомрачительные бутерброды. С этими кулинарными изысками дело вообще обстояло довольно сложно. Каждый раз, съедая на завтрак очередной «шедевр» буйной фантазии милашки, я пытался добиться от нее, что же именно мне довелось употребить в пищу. Но во всем, что касалось кулинарии, Людмила стояла насмерть и секретов не выдавала. Как правило, я несколько дней мучился этим вопросом, время от времени вновь пытаясь выудить у подруги рецепт ее очередного блюда. Но все мои уговоры не действовали, оказывались не более чем простым сотрясением воздуха. В итоге, когда путем сложных умозаключений и тщательного обследования содержимого холодильника, мне все-таки удалось получить представление об основных ингредиентах бутербродов, то волосы у меня встали дыбом. А на следующее утро Людмила подавала мне очередную горячую «загадку», в которой умудрялась совместить, казалось бы, абсолютно несовместимое. Судя по звону посуды и ароматам, доносившимся с первого этажа, в кухне готовилось нечто за гранью моего понимания. Я потянулся, чувствуя, как хрустят суставы, и не без удовольствия ощутил силу собственных мышц. У меня, действительно, отличная фигура, об этом мне не раз говорили и Людмила, у которой опыт в этом деле, несомненно, был большим, чем у меня. Людмила любила гладить тугие бугры мускулов на руках, называла меня не иначе, как «мой сисястенький», пыталась оттянуть грудные мышцы, а по спине могла колотить кулаками, что для меня не представляло ни малейшей боли. А вот по росту я не очень подходил ей. У нее – метр восемьдесят пять, у меня – метр восемьдесят шесть. Если бы мы стояли на пьедестале, то не могли бы сойти за отличный образец Его и Ее. Но я не собирался на пьедестал, предпочитая всегда оставаться в тени, подальше даже от случайных фотографов. Людмила так и не простила меня за то, что я не захотел фотографироваться с ней, когда мы гуляли по городу. Но людям моей профессии строго запрещалось афишировать себя. Для соседей и милиции я был Иваном Беловым, тридцатилетним спортсменом из Ленинграда. Молчаливым, замкнутым человеком. Никто не знал о моей жизни правды, кроме моего начальства да пары друзей. Вот, собственно, и все.
Потянувшись, я хрустнул суставами и одним сильным рывком вытолкнул тело из теплых объятий постели. Проделав несколько энергичных движений, я подхватил полотенце и направился в ванную.
– Привет, Люда!
– Доброе утро, дорогой, – отозвалась из кухни Людмила.
Один из моих вечных недостатков заключается в том, что я веду себя либо абсолютно бесшумно, либо – если в этом нет необходимости, словно карельский медведь, прорывающийся сквозь бурелом.
Но тогда-то уж я становлюсь шумным настолько, насколько это вообще возможно. В таких случаях я разговариваю исключительно командным тоном, будто и не здороваюсь вовсе, а отдаю распоряжения целому батальону.
Приняв контрастный душ, отфыркиваясь, с явным удовольствием я вытерся огромным махровым полотенцем и вернулся в комнату. На то, чтобы одеться, потребовалось не более двух-трех минут. По армейской привычке, летом я ношу практически всегда одинаковую одежду, которая состоит из светлых теннисок и легких свободных брюк спортивного фасона. Я считаю подобный стиль наиболее удобным и подходящим для всех случаев жизни. Обувь я всегда тоже предпочитаю легкую. Самое лучшее – это спортивные туфли. Я недолюбливаю кроссовки, поскольку считаю, что нога должна чувствовать почву, тогда не подвернешь стопу.
Я и сегодня не думал изменять своей привычке. Светло-синяя тенниска, темно-синие, почти черные брюки и белые туфли – вот в таком виде я спустился к завтраку.
Первое, что я увидел, был роскошный торт, на котором неровным дамским почерком Людмила старательно вывела: «Я люблю тебя, милый».
– Я тоже тебя люблю! – воскликнул я, улыбаясь.
На столе уже стояли тарелки, лежали вилки и горкой на блюде – румяные пирожки. В «рюмочках» для яиц возвышались остроконечные яйца. Масло, покрытое мелкими капельками влаги, дожидалось в фаянсовой масленке со стеклянной крышечкой. Горячий кофейник еще выпускал из узкого носика струйки пара.
Я устроился на стуле напротив окна и вздохнул, сглотнув слюну. Желудок давал понять мне, что неплохо было бы позавтракать. Но я никогда не приступил бы к еде без любимой женщины. Неписаный закон влюбленных!
И вот Людмила появилась на пороге маленькой столовой. Она гордо несла перед собой две накрытые салфетками тарелки. Возлюбленная была обнажена, если не считать невесомого пеньюара, на изготовление которого потребовалось минимальное количество ткани.
– А вот и бутерброды, – радостно сообщила она.
– Потрясающий аромат, – заявил я вполне искренне. Запах, коснувшийся моих ноздрей, был очень знакомым, но в то же время к нему явно примешивались какие-то посторонние ароматы.
«Похоже, сыр, – подумал я, – хотя… нет, пожалуй, все-таки сыр. Впрочем, я поостерегся бы поставить на это „червонец“.
Людмила торжественно поставила тарелки на стол и, словно фокусница, с хитрой гримаской сдернула салфетки.
«Ого!»– я был в восхищении. То, что открылось моему взору, больше напоминало Вавилонскую башню, чем бутерброд. И это сооружение парило, текло, шипело расплавленным сыром, каким-то невероятным соусом и еще чем-то, не вполне понятным, пахнущим специями.
Тем не менее я привык относиться к любым новым видам пищи с осмотрительностью, особенно, когда готовит женщина. Некоторое время я молча наблюдал за Людмилой, и лишь после того, как она, фыркнув, впилась зубками в бутерброд, я взял свой и откусил от него солидный кусок. Мне не раз приходил в голову вопрос: каким образом я умудряюсь есть весьма скверную пищу в школе выживания, а иногда и вот такое нечто невообразимое? Скорее всего, в моем желудке есть особый переключатель, который срабатывает всякий раз, когда я получаю задание.
– Дорогой, ты уплетаешь так, словно я тебя не кормила три дня! – пролепетала Людмила.
– Вкусно. Только с чем эти бутерброды?
– Тебе об этом лучше не знать, дорогуша. Мужчины, которые узнают секреты женщин, всегда сматываются от них.
– Тактика твоих действий изумительна! Ты настоящая женщина. Я до сих пор не знаю ни одного твоего секрета.
– А я, милый, ни одного твоего, – Людмила улыбнулась. – Я не знаю ни твоего адреса, ни твоих интересов, ни твоей профессии! Я только догадываюсь…
И тут я неожиданно сделал короткое движение рукой, что означало необходимость моментально застыть, замереть на месте. По мимике моего лица Людмила догадалась, что делать лишние движения или произносить какие-либо звуки крайне нежелательно.
Насчет слуха у меня все в порядке. И сейчас я уловил новый звук, плавно влившийся в атмосферу утра. Рокот вертолетных лопастей. Да, причем это была двухвинтовая машина. Очевидно, семейства Ка. Ею обычно пользуются медики, пожарники и милиция.
Через секунду звук вертолетных двигателей услышала и Людмила. Она прошептала:
– Это вертолетик, милый. Он обрызгивает виноградники. Почему ты испугался?
Она внимательно смотрела на меня, ожидая ответа, но я молчал. Тревога, которая мучила меня, разрослась до огромных размеров. Я уже не сомневался, что вертолет объявился не случайно. Произошло, вероятно, что-то не то. Тем более, я понимал: что среди тех, кто мог быть на вертолете, не могло оказаться кого-либо из наших, поскольку мое местонахождение знала разве что Наташка, и то, если Цейба проболтался.
Я исчез для всего мира – и все. Откуда здесь вертолет? Ведь никогда раньше его тут не наблюдалось.
Неожиданно вертолет приближается и разносит свой страшный гул над виллой, словно хочет разбросать могучим вихрем лопастей кровлю крыши.
Я не выдерживаю и выбегаю во двор. Вижу, что вертолет совершает посадку на пустыре за оградой, а из него, пока машина еще не коснулась колесами земли, выскакивает… Алексей! В руке у него автомат, и на мгновение он исчезает в пыльном вихре.
Похоже, Людмила не из трусливых, но сейчас не та ситуация, в которую стоит бросаться сломя голову. Люда осторожно выглядывала из двери.
– Спрячься в доме, – приказал я. У меня не было оружия, но я знал, где Фарид хранит свой двустволки.
Тем временем из вертолета стремительно выскочили два пятнисто-зеленых десантника с автоматами и скрылись в буро-пыльном мареве.
Один из десантников взял под обстрел площадку перед домом, сам дом и деревья, которые располагались справа и слева, а тем временем Алексей и второй десантник перемахнули через ограду и, в свою очередь, залегли, чтобы подстраховать своего товарища, который мгновенным рывком преодолел ограду.
Рокот двигателя стих. На несколько секунд в воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь шумом волн, разбивающихся о скалы.
Я внимательно слушал эту тишину, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки, отличающиеся от монотонного шума прибоя. Голоса, работающий телевизор, смех, музыку… что-нибудь, говорящее о наличии в доме живых людей. Тщетно.
Алексей сложил ладони рупором и поднес ко рту.
– Юрий!!!
Тишина. Дом замер. Молчаливый, настороженный. На какое-то мгновение мне показалось, что сама вилла – живое существо, ждущее пока он, майор Иванов, войдет внутрь, чтобы затем смять меня, раздавить, уничтожить.
– Ю-у-у-у-ра!!! Я знаю, ты здесь, Юра! Это я – Алексей!
В следующую секунду я выскакиваю из-за укрытия и упираю ствол «вертикалки» прямо под основание черепа майора.
– Будь я проклят… – бормочет Алексей. Только один-единственный человек из тех, кого знал этот майор, умеет передвигаться абсолютно бесшумно. Это я, доложу я вам без ложной скромности.
– Юра! Молодец, ты в своем амплуа, – улыбается мой старый приятель. – Ты что, не видел, кто к тебе в гости с небес свалился?
– Видел, – спокойно говорю я, убирая охотничье ружье. – Просто хотел удостовериться…
Алексей оборачивается. В глазах у него – напряжение, но теперь я, в свою очередь, улыбаюсь. Не каждому дано переиграть своего учителя. Майор вздыхает еще раз, и, чтобы снять напряжение, мы обнимаемся.
– Как всегда… Тебя не слышно и не видно, да? Юрген? – говорит Алексей. Он улыбается, протягивая мне автомат, доставая из кобуры пистолет.
– Но ты ведь сам научил меня этому, – подтверждаю я.
– Да, да… Я уже начал ржаветь потихоньку. Спина болит, – покачав головой, отвечает Алексей. – Что-то с позвонками…
Дверь запасного выхода открылась, и на пороге появилась Людмила. Она одним взглядом оценила ситуацию и направилась к нам. По ее решительным движениям я понял: назревает скандал. Людмила, очевидно, не хотела так быстро расставаться со мной, а женщины подобного рода всегда, когда им захочется чего-нибудь, становятся страшно капризными, а в достижении своего желания твердыми, как кремень. Я же считаю подобное обращение женщин с мужчинами большой глупостью.
– Что здесь происходит? – довольно неприязненно спросила моя девочка, подходя к нам. Ее глазки уставились на Алексея. Карие глаза, обычно теплые, сейчас выглядели застывшими стеклянными шариками.
– Добрый день! – улыбнулся майор Иванов, и я вдруг заметил, как Алексей сдал за тот год, что мы не видели друг друга. Я разговаривал с Алексеем несколько раз по телефону, и мне тогда казалось, что его бодрому голосу соответствует и нормальная физическая форма. Но это оказалось не так.
Улыбка майора выглядела блеклой, усталой. Морщины в уголках губ и у глаз обозначились отчетливей и резче. В волосах – седина явно начинала свое победное шествие.
Мне даже стало немного жаль майора. Что-то произошло с ним. Надломилась невидимая пружина в груди этого некогда очень сильного человека. Я, сам того не желая, вздохнул.
– Людмила, мне нужно поговорить с Юрием, – продолжил майор.
– С Юрием? – тонкие, конечно же немного выщипанные бровки девушки вопросительно изогнулись. – Так ты, оказывается, Юрий?
– Ах, да, извиняюсь, с Иваном, с Иваном Беловым. Черт возьми, эта конспирация ни к чему, тут вообще такая каша. Я думал… Прости, Юрий, если я… – Алексей, кажется, совершил грубейшее нарушение инструкции, и теперь оправдывается как школьник, пойманный за курением в школьном туалете.
– Да у вас, я вижу, дела такие… – Людмила отвернулась.
– Очень смешная ситуация, – почесал я в затылке. – Знаешь, иди-ка ты в дом, а потом разберемся.
– Думаю, потом не будет, – Людмила нервно повела плечом. Она предпочитала обманывать других, а тут вот ее хотели оставить в дураках. Кому это понравится? – Можно тебя на минуточку? – попросила она. Когда я наклонился, она прошептала, больно и незаметно ущипнув меня: – Знаешь, как говорят современные женщины, я честная девушка, но если неожиданно ты окажешься двоеженцем, или сбежал от беременной жены… то абхазцы отрежут тебе знаешь что?
Тон, которым она это произнесла, подразумевал, что она со мной с настоящего момента в ссоре. До тех пор, пока я не дам соответствующих объяснений. Я боялся, что я немногого стою в ее глазах, поскольку не сообщал о себе никаких подробностей. И впоследствии никакие извинения и аргументы не будут достаточны, чтобы восстановить наши романтические отношения. Причем все это произошло только из-за того, что я скрывал свое настоящее имя.
Так что, дорогой, желаю тебе по-абхазскому обычаю столько язв в организме, сколько правды в твоих словах.
Она резко повернулась и пошла к дому. Ну и штучка! Придется привыкать?..
Мы проводили ее взглядами и вернулись к прерванной беседе.
– Что, у тебя – медовый месяц? Кем она тебе приходится? – довольно заулыбался Алексей. На лице у него появилось приторно-сладкое выражение. – Где ты ее подцепил?
– Это просто хорошая знакомая. Могу же я, в конце концов, немного отдохнуть! Давай лучше к делу. Итак, зачем здесь "эти ребята? В Москве военный переворот? – я кивнул на застывших посреди площадки десантников и продолжил:
– Только не убеждай меня, что ты организовал весь этот маскарад только потому, что безумно соскучился, а их захватил с собой для компании, чтобы попить абхазского винца…
Я попытался улыбнуться, но Алексей не принял шутливого тона.
– Юра, возникла очень серьезная проблема, – майор, прищурившись, смотрел в сторону моря. Несколько маленьких цветных парусов скользили по золотисто-лазурной воде, за мысом протарахтел гидроплан. На секунду его белый корпус появился из-за скал, подобно гигантской морской птице. Затем самолет развернулся, подняв фонтан брызг, и снова скрылся за мысом. Майор проследил за ним взглядом и продолжил:
– Кто-то убивает наших парней. Сперва мне показалось, что я ослышался.
– Постой, Алексей… Но у них же новые имена, фамилии, рожи, в конце концов. Никто не мог знать ни на йоту об их прошлом. Да и кому это нужно…
– Да вроде никому, однако они – классные специалисты, – сказал майор. – Ведь ты в курсе, что здесь происходит. Абхазия рвет когти к независимости. Грузины объявили войну сепаратизму. У Грузии нет настоящей армии, хороших квалифицированных работников. Они вовсю вербуют наших. И наши идут, деньги делают свое дело. А сейчас они попытались вербовать людей из нашей службы, но… абхазцы их опередили. Кроме того, у абхазцев больше связей в Москве. Произошла утечка информации о наших здешних специалистах… Они ведь предпочитают Юг…
– Кто погиб? – меня серьезно заинтересовала проблема. Невидимая опасность, которую я тщетно пытался расшифровать в эти дни, начала обретать вполне реальные очертания.
– Одного ты знал, это Соколовский… И еще трое, – Алексей печально вздохнул.
– Соколовский, Женька? Как это произошло? – быстро спросил я.
– Все очень странно получается. Соколовский взорвался вместе с катером. Мы даже не нашли тела, – майор выпрямился, и теперь по осанке в нем можно было признать профессионального военного.
– Кто мог это сделать? – я начал обдумывать информацию.
– Пока не знаем. Мы отрабатываем все варианты, но пока по нулям, – Алексей коротко взглянул на меня. – Ты ведь и сам знаешь, Юра, что у нас нет врагов внутри страны, но с этой горбостройкой все летит вверх тормашками. Все объявляют суверенитеты. Смотри, Кавказ полностью не наш: азербайджанцы, грузины, тут абхазцы. Молдавия стремится объединиться с Румынией… Украина заявляет о самостойности… – майор чуток помолчал. – По одной из наиболее вероятных версий, их уничтожили превентивно, чтобы они не перешли на ту или иную сторону, но вот Соколовский уже четко определился.
– Да, я знаю, Соколовский был в большой дружбе с грузинскими парнями. Неужели они и…
– Скорее, наоборот. Есть информация, что с ним встречались абхазцы, и между ними шли какие-то переговоры.
– И что будет дальше, по-твоему?
Мы медленно прохаживаемся по дорожке возле дома, разговаривая на ходу.
– Судя по всему, ты следующий в их списке, – констатировал майор. – Пойми меня правильно. Я вовсе не собираюсь паниковать зря, но командование решило, что будет лучше, если вместе с тобой побудут двое охранников. Пока. Некоторое время.
– О, господи… – я покачал головой. – Я собирался пожить здесь нормальной жизнью. Мне не нужна охрана, – я остановился и внимательно посмотрел на Алексея. – Ты ведь знаешь, я – профессионал и могу сам позаботиться о себе.
– Да, знаю, – подтвердил собеседник. – Но Соколовский, и те трое… Они тоже были профессионалами, и кое в чем похлеще тебя…
– Верно. Но они не знали о грозящей им опасности, а я знаю, – возразил я. – Теперь знаю. И, кроме того, ведь я здесь ненадолго.
– Конечно, но это не моя личная прихоть, Юра. Так решило командование. Хотя, если бы решал я, скорее всего, было б то же самое. Или я увез бы тебя.
– Но, товарищ майор, я хочу жить, как нормальный человек. Начать хотя бы с того, что я во время отпуска не подчиняюсь никому, и мне плевать, что именно думает по этому поводу командование.
Алексей смотрел на меня, прищурившись от яркого солнца. Он был бледноват. Солнце там, в средней полосе, не такое, как здесь. Я решил проявить твердость. Уехать с бухты-барахты, бросив и Людмилу, и ласковое море только из-за того, что кто-то с кем-то не смог договориться? Черта с два! Я буду жариться на солнце столько, сколько у меня осталось времени от отпуска.
Однако Алексей тоже решил проявить характер.
– Юра, ты и будешь жить, как абсолютно нормальный человек, обещаю тебе. С той самой секунды, как мы наведем мало-мальский порядок и попробуем выловить тех ублюдков, кто навел такой шорох среди наших. Но до тех пор Ерохов и Кузьмин будут охранять тебя.
Меня так и подмывало задать вопрос: «А что, если вы вообще никого не поймаете?» Но я сдержался.
– Ладно, будь по-вашему.
Несколько секунд я не без некоторого любопытства разглядывал десантников, а затем поинтересовался:
– Как они?
– Очень толковые ребята, – Алексей усмехнулся. – До тебя им, конечно, далеко, но в общем…
– Ясно, – я еще раз осмотрел солдат. – А не хочешь ли ты, чтобы под предлогом моей защиты я ими немного занялся?
Майор Иванов улыбнулся:
– Это попутно. Мало того, скажу тебе, что ребята заслуживают отдыха, а охранять человека на юге, возле моря, где столько тепла, солнца и девчонок, скажи, гораздо приятнее, чем во льдах Северного полюса… – Значит, договорились, – майор протянул руку. – Как только удастся получить какие-нибудь сведения об убийцах, я тут же сниму пост, лады?
– Идет, – согласился я. – Только почему ты прилетел на гражданском вертолете?
– Ты хотел бы, чтобы я опустил на эти дома эскадрилью «вертушек»? – лицо майора сияло хитростью.
Я смотрел, как Алексей направился к вертолету. Лопасти дрогнули и начали свое движение по кругу, сперва медленно, затем все быстрее и быстрее, пока не слились в одну серебристо-мутную окружность. Майор пригнулся, придерживая кепи защитного цвета, чтобы та не слетела. У самого вертолета, прежде чем забраться в кабину, Алексей приказал что-то летчику, и тот вытолкнул из кабины два объемных рюкзака. Это вещи моих охранников. Похоже, в рюкзаках найдется кое-что не только для моей охраны. Потом майор махнул мне рукой, словно хотел приободрить меня.
Я улыбнулся и махнул в ответ. Пятнистая фигура моего учителя скрылась во чреве зеленого вертолета. Ветер, поднятый винтами, гнал через площадку пыль, срывал листья с густого кустарника. Казалось, что это не листва, а хлопья камуфляжа крутятся в турбулентном потоке.
«Вертушка» оторвалась на полметра от земли и стала похожа на гигантскую стрекозу, наблюдающую за людьми отливающими радугой стеклами. Хвост вертолета с рулевыми плоскостями приподнялся, вертолет быстро развернулся на месте, взмыл вверх, залег в вираж и ушел в сторону моря. Почти у самой воды он выровнялся, описал дугу и скрылся за скалой.
…Я подождал, пока смолкнет шум вертолетных винтов и, повернувшись, зашагал к дому. Один из охранников прошел чуть вперед и остановился у края площадки, оглядывая заросли. Автомат он держал немного расслабленно, палец спокойно замер на спусковом крючке. Другой из охранников, Ерохов, остался стоять у двери. Как и напарник, десантник посматривал в сторону кустов, деревьев и небольшого холма, заросшего густой сочной травой, на которой паслись четыре козы.
Я успел сделать лишь несколько шагов, как из дверей дома появилась Людмила. Она торопливо подошла ко мне и встревоженно спросила:
– Ну что, Юрий-Иван, тебе на подмогу подкинули двоих головорезов? Ты будешь трахать меня, а они будут держать свечки в ногах? Кто ты на самом деле?
Я знал, что любопытство женщин как нельзя более удобный предлог для того, Чтобы сгладить ситуацию. Людмила заговорила первой, а я сделал вид, будто ничего не произошло, и спокойно ответил:
– Успокойся, я никуда не ухожу и не уезжаю, если ты это имеешь ввиду. Буду всегда с тобой, а эти парни просто присмотрят за домом.
Девушка вздохнула с явным облегчением, сделала еще шаг ко мне, желая по обыкновению обвить мою шею руками, но посмотрела на солдат – и вздохнула. Теперь придется от многого отвыкать. Особенно от привычки расхаживать совершенно голой.
– Значит, ничего страшного. Но только ты мне расскажешь, как – все-таки тебя зовут?
В следующий момент она уже лежала на земле, прижатая моим телом. Я не смог бы объяснить, что произошло. То ли шорох, который уловил натренированный слух, то ли движение – даже не движение, а лишь намек на него – отмечено глазом на вершине соседнего холма. Этого я не знал. Но тело среагировало быстрее, чем пришло осознание факта: там, наверху, на холме, кто-то был. И этот кто-то не хотел, чтобы его заметили.
Именно потому я и очутился на земле за долю секунды до того, как затаившийся на вершине холма человек нажал на курок «калашникова», и первая очередь разорвала спокойное утро.
Выстрелы ударили резко. Пули прошли через двор, наискосок, снизу вверх. Они не задели ни Людмилу, ни меня, но зацепили охранников. Я видел, как охнув, схватился за плечо Ерохов, нога парня подогнулась, и он упал, открыв спиной дверь в дом. Кузьмину повезло меньше. Первой очередью ему прострелило грудь, и в момент, когда голова десантника коснулась земли, тот был уже мертв. Его открытые глаза мутно смотрели в сторону ярких пятнышек парусов на искрящейся солнцем воде, но он теперь не воспринимал этого.
Стрелок быстро опустошал магазин. Пули впивались в дверной косяк, вышибали стекла, крошили черепицу на крыше и высекали искры из булыжника у крыльца.
Я сообразил: основной мишенью убийцы являлись вовсе не мы с Людмилой, а охрана. Любой человек, хоть что-нибудь понимающий в стрельбе, изрешетил бы всех находящихся на площадке перед домом, прежде чем те успели бы крикнуть «на помощь!».
Еще в Ферудахе, в учебке, инструктор по стрельбе сказал нам:
«Запомните раз и навсегда, задницы! Стреляя, не держите курок нажатым слишком долго. Три, максимум пять выстрелов! Иначе вы никого не прижмете, а только растрясете себе отдачей кишки. Усекли?».
И в двадцать глоток, хором: «Так точно, товарищ сержант!».
Стреляющий не отпускал курок вообще. Он, похоже, задался целью выпустить всю обойму за минимально возможное время. Надо сказать, это ему вполне удалось. Расстреляв все патроны за полминуты, автоматчик прекратил огонь.
Я ожидал этого момента. Ухватил Людмилу под руку и бросился в дом. Нам удалось пробежать оставшиеся семь метров и рухнуть на пол, прежде чем новая волна свинца искрошила рамы в щепки. Теперь от окон остались лишь ошметки да мелкие осколки стекол, засевшие в щелях.
Я выглянул в окно и на вскидку послал два заряда на вершину холма из «вертикалки». Оттуда вновь ударила автоматная очередь.
Ерохов судорожным движением подтянул ближе свое отяжелевшее тело и замер у стены. Пальцы его впились в простреленное плечо. Камуфляжная куртка пропиталась кровью. Кровь стекала по ключице, воротнику, плечу на пол и собиралась в темную густую лужицу около шеи. Огромные, белые от боли глаза вопросительно смотрели на меня.
– Подожди, – я взял автомат Ерохова и осторожно выглянул в окно. Вершина холма была пуста.
Я знал, что делать. Но для того, чтобы предпринять меры, мне нужно выйти из дома. Но ведь и в доме уже могли быть враги. Я понимал: сейчас стрелок не мог достать огнем, но пройдет какое-то время и он, наверняка, сунется сюда. В этом случае лучше забаррикадироваться. Надо срочно звонить в город. Пусть присылают помощь. Ерохов практически выведен из строя, а убийца, если он один, вполне может оказаться более профессиональным в ближнем бою, чем в стрельбе. Кроме того, он мог забросать дом гранатами. Гранаты не давали мне покоя. Выхода, казалось, не было.
– Ну, как ты? – я взглянул на Ерохова.
– Нормально.
Голос десантника дрожал. Он потерял много крови. Она и сейчас сочилась сквозь пальцы, и парень быстро слабел. Лицо его приобрело грязно-серый оттенок. С минуты на минуту Ерохов мог потерять сознание, и тогда драться он не сможет. Но хотелось надеяться, что у него все-таки хватит сил нажать на курок.
– Все будет в порядке, приятель, – сказал я неестественным голосом, которому не верил и сам.
Я оставил автомат Ерохову, зарядил свое ружье и повел испуганную Людмилу наверх. Быстро обшарил дом и убедился, что в доме нет никого. Тогда схватил трубку телефона. Она молчала. Провод, конечно, обрезали.
Как только я разок мелькнул в окне, так стрельба вспыхнула с новой силой. Я залег на пол, уложив рядом испуганную не на шутку девушку.
– Спускайся вниз, в подвал.
Стальные «осы» с треском впивались в стены, что-то грохнуло, вероятно, сорвалась одна из полок. Стрелок перенес огонь на входные двери: он явно хотел, чтобы из дома никто не вышел. Я забрался в комнату, где был металлический шкаф с оружием, взял «вертикалку». Наполнил карманы патронами. Прихватил с собой и двустволку двенадцатого калибра.
Внизу прогрохотала автоматная очередь, и я услышал сдавленный женский крик. Я бросился вниз. У меня не оставалось времени на раздумья. Влетев в гостиную, я увидел на полу распростертое тело Ерохова. Его автомата нигде не было.
Я кожей ощущал присутствие в доме еще одного человека и вошел в подвальное помещение с твердым намерением: если с головы Людмилы упал хоть один волос, я отыщу негодяя и нашпигую его свинцом с головы до пяток. Я его разорву. Удавлю.
Но тот и не думал прятаться. Щеголеватый молодой человек вольготно развалился в кресле из лозы.
Черные волосы коротко подстрижены, тонкие ухоженные усики примостились под такими же тонкими губами. Острые черные глаза настороженно наблюдали за мной. В смуглых руках с беловатыми ладонями – автомат.
Я почувствовал, как меня захлестывает волна бешеного слепящего гнева. Мне казалось, что сейчас я взорвусь от дикой, душащей меня ярости. Она застилала глаза кровавой пеленой, и в какую-то секунду я испугался, что теряю над собою контроль. Это было самое худшее. Нельзя позволять себе срываться. Выпустить из себя гнев – значит потерять драгоценные секунды. А их и так слишком мало.
– Где девушка? Что с ней? – глухо выдавил я из себя.
– Ну спокойно, спокойно, парень, – щеголь ухмыльнулся. – Мне чертовски сложно разговаривать с человеком, который держит в руках два дробовика. Чертовски сложно – и неприятно.
Я не двинулся с места. Не шевельнулся. Только чуть напряглись пальцы сразу на всех четырех спусковых крючках. Щеголеватый парень заметил это. И испугался. Он постарался не показать это внешне, но, тем не менее, быстро заговорил:
– Товарищ капитан, ваша девушка в безопасности. Но… Что будет с ней дальше, зависит только от вас. Только от вас. Мы хотели бы обсудить с вами одно предложение. Вы выполняете одно маленькое поручение для нашего государства – и получаете вашу даму назад живой и невредимой.
Щеголь продолжал изучать меня, а я лихорадочно обдумывал ситуацию.
– Я надеюсь, вам понятно, о каком государстве идет речь? – продолжал молодой человек. – Кажется, ясно, что речь идет о Грузии.
На хрена мне была нужна Грузия, когда меня интересовала только моя девушка? Но где же она? И тут я впервые понял, как мне дорога эта женщина, с которой я провел не более двух недель. Что она со мной сделала? Почему я так дорожил ею? Кто мне Людмила? Случайная встречная. Но эти люди знают мое звание, а, значит, и то, что я делал в Афганистане. Мало того, эти сволочи, скорее всего, в последнее время следили за нами. Именно потому я и предчувствовал опасность. То, что они хотят получить в качестве услуги, вероятно, связано с террористическими действиями против абхазцев. Отпустят ли они Людмилу в том случае, если я пойду на сотрудничество с ними? Вряд ли. Зная о моем прошлом, черты моего характера, эти люди должны понимать, что произойдет с ними после того, как Людмила окажется в безопасности. Значит, полагаю, они попытаются убрать ее после задания. Проще попытаться перехватить мою девушку сейчас, пока она где-то здесь.
И тут я услышал гудение мотора. Это работал движок «Уазика». Машина урчала, гул мотора сначала усиливался, а потом стал затихать.
– Ваша дама, товарищ капитан, очаровательна, – продолжал свою речь молодой человек, поскребывая усики. – Грустно было бы узнать, что ей, может статься, придется обслужить целый взвод новобранцев.
Такого ему не следовало говорить. Я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног. Я никогда не отличался особой ревнивостью, ибо считаю подобное чувство пережитком прошлого, вроде паранджи, но тут у меня просто закипела кровь. Пальцы на спусковых крючках начала сводить судорога. А юный подлец все говорил:
– Так вот, товарищ капитан. Мы решили, что в свете всего сказанного выше нам удастся склонить вас к сотрудничеству. Верно?
Ответ был лаконичен:
– Нет!
А в следующую долю секунды мои пальцы одновременно нажали на все спусковые крючки. Выстрел был настолько оглушительным, словно взорвалась динамитная шашка. Все заволокло дымом. Щеголя швырнуло к стене, перед моими глазами мелькнули ребристые подошвы кроссовок парня. Голова его, вернее, то, что от нее осталось, глухо шмякнулось о деревянный пол подвала. На серых стенах налипли сгустки крови и еще много чего… Я бросил ружья крест-накрест на труп бандита, схватил его автомат и побежал наверх, на ходу проверяя магазин. Автомат был ероховский, половина магазина неизрасходована. На первом этаже в луже крови четко отпечаталась подошва милицейского ботинка. Те, кто увез Людмилу, в милицейской форме! Неприятное открытие еще более встревожило меня.
Я выскочил из дому. Различил шум удаляющегося автомобиля. Пока они будут петлять среди домов, я успею выскочить к берегу и сесть на катер Фарида. Где ключи от замка? Где-то там, на кухне. Быстро возвращаюсь в дом, нахожу ключи. Прихватываю пластиковую канистру с бензином. Сломя голову, мчусь к мосткам. Туда метров триста. На пустынном берегу – никого. Вскакиваю на мостки. Катер на замке. Поворот ключа, бросаю цепь на катер, толкаю его от мостков подальше. Запрыгиваю в него и срываю дермантиновый капюшон с мотора. В баке на дне есть немного бензина, но я доливаю бензин из канистры. Быстрее, быстрее! Я должен пересечь бухту за десять-пятнадцать минут. Лихорадочно вспоминаю свои познания в морском деле. Узел – это, кажется, миля в час. Катер идет по воде со скоростью тридцать узлов в час, то есть около пятидесяти километров в час. Напрямую через бухту я выигрываю в расстоянии примерно в два раза. А похитители вряд ли будут мчаться со скоростью сто километров в час. У меня есть время! Дергаю трос, заводную ручку. С первого раза мотор не заводится. Дергаю еще несколько раз. Мотор взревел, катер вертится на месте. Берег начинает скользить мимо. Направляю катер в море. Посматриваю на сушу и, наконец, вижу злополучный «Уазик». Вот дорога уходит дальше от берега. Именно на это я и рассчитывал. Сейчас главное – правильно рассчитать, где мне причалить.
Катер скользит по воде, оставляя за собой две пенистые линии. Только бы они не догадались о катере и не свернули! Пусть лучше не обращают внимания на море вообще. Мало ли кому вздумалось прокатиться на катере.
Берег начинает приближаться. Здесь камни, галька и поросший кустарником холм. Именно тут дорога приближается к побережью, огибая холм со стороны моря. Сюда я и направляю катер. Вот он вылетает на берег, днище шуршит по гальке. Мотор глохнет. Я бегу к шоссе наперерез похитителям. Вот и они. Я успел тютелька в тютельку. Залегаю за кустом, и из укрытия бью короткой очередью, по колесам «Уазика». Автомобиль идет юзом и заваливается на бок. Из него выскакивают двое, один начинает беспорядочно стрелять из автомата по кустам – совсем не в мою сторону. Они явно не ожидали нападения. Второй вытаскивает еще одного.
Где Людмила? Неужели ее там нет?..
Мчусь что есть духу к ним, стараясь держать их под прицелом, хотя патронов в магазине больше нет. Невысокий курчавый парень бросается на меня, размахивая автоматом и явно стараясь ударить прикладом. С первого же взгляда я понимаю, что парень далеко не профессионал и владению подобным приемам не обучен. Это даже забавляет меня. Качнувшись в сторону, я переношу тяжесть тела на левую ногу, а правой ударяю нападающего в живот. Парень переламывается в пояснице, словно складной метр. Выхватываю у него автомат и коротким ударом в челюсть валю второго. Дело пошло на лад. Третьему, который уже вылез из кабины и немного оглушен падением, достается больше, чем первым двоим, вместе взятым.
Перехватив АКМ за ствол, использую автомат как дубину, раздаю удары направо и налево.
Но все же на стороне противника численное превосходство. Кто-то изловчившись ударяет меня по голове. Автомат вываливается из моих рук. Удары повторяются, обхватываю голову руками, и тут удары начинают сыпаться со всех сторон. Похитители, впрочем, стараются не наносить мне увечий.
Переворачиваюсь на спину и резко выбрасываю ногу. Подошва туфли оказалась достаточно тонкой, и я чувствую, как прогибается и ломается грудная клетка бандита – да, несомненно, что-то хрустнуло в ней.
Следующий «кадр», подскочивший сбоку, занес автомат над моей головой, намереваясь оглушить, но, как и его предшественник, нарывается на сильнейший удар ногой в живот.
В ту же секунду кто-то навалился на меня, удерживая мою голову болевым захватом. Четыре ствола уставились на меня черными провалами, и хриплый голос процедил с нескрываемой ненавистью:
– Одно движение, мать твою, и я тебе башку размозжу, понял?
Понимаю: вздумай я пошевелиться, и похитители могут открыть огонь. Вряд ли они убьют меня – я зачем-то им нужен, – но прострелить плечо действительно могут. А мне надо оставаться боеспособным.
Стоявшие надо мной люди расступились, пропуская вперед очередную фигуру. Солнце светило тому человеку в спину, и я не сразу смог разглядеть его. Несколько секунд я всматривался в крепкое тело с мощными покатыми плечами борца-тяжеловеса, бычью шею, широко расставленные ноги, твердо упирающиеся в землю. Где я видел этого типа?
Внезапная догадка пронзает меня: так это же подстреленный десантник Кузьмин, которого приволок Алексей. Вот те на! Хорош охранничек!
– Кузьмин! – мне показалось, что начинаются галлюцинации. – Ты же мертв! Я сам видел, как тебя изрешетили!
Здоровяк улыбнулся и покачал головой.
– Я мертв? Ты ошибся, Юрген. Я жив. А здорово ты машешься!
Холодные рыбьи глаза внимательно изучают меня. Было видно, что подобная картина доставляет Кузьмину удовольствие. Кошачьи усы на, круглой физиономии топорщились, прикрывая верхнюю губу.
Ствол пистолета, который утопал в широкой ладони, скользит по усам, оглаживая их. Это тоже была привычка. Вот так пополнение! Что он, на лету продался грузинским службам? Новая генерация. Без идеалов, без совести. Давай пару тысяч баксов – и они запросто продадут мать родную. Молодой еще, а такой прыткий. А остальные? Какие они все наглые!
– Ты видел маленький спектакль и попался. Небольшие пиротехнические эффекты… Ты не следишь за развитием техники, Юрген. Сейчас она все решает. – Кузьмин распрямил плечи. Ему явно нравилось читать нравоучения. Далеко пойдешь, Кузьмин. Далеко, если я тебя не остановлю. – А сейчас сцена вторая. Час расплаты за несговорчивость, товарищ капитан. – Кузьмин направляет пистолет в мою сторону, целится в живот, палец не спеша потянул курок и я понимаю, что сейчас раздастся выстрел. Я только не могу сообразить: если меня изначально собирались убить, зачем устраивать представление?
Пистолет «издал» огромный жирный плевок. Я почувствовал удар в правый бок, а затем все завертелось перед глазами. Физиономия Кузьмина расплылась, потеряв очертания. Фигуры стоявших рядом похитителей помчались по кругу в диком бессмысленном хороводе. В ушах стоял Звон, становившийся с каждым мгновением все сильнее. Наконец, черная холодная пустота накрыла меня, и я провалился в беспамятство…
…Сначала я решил, что это полная луна. Она не имела четких очертаний, границ, разделяющих свет и тьму. Просто ярко-желтое размытое пятно над моим лицом. Но когда его закрыло темное очертание чьей-то головы, я понял: это не луна. Это – лампа. Под лопатками я ощутил что-то холодное и решил, что, скорее всего, стол. Сознание медленно всплывало из дурмана небытия. Оно словно поднималось из какой-то невероятной глубины к поверхности, у которой легче дышалось, а предметы становились все отчетливей, приобретая присущие только им особенности.
Рядом с первой головой возникла вторая, затем третья. Перед моим лицом поплыли голубые струйки сигаретного дыма. Они завивались кольцами, распадались и плыли дальше в тяжелом спертом воздухе помещения.
– Ну что, очухался? – голос принадлежал Кузьмину. – Не волнуйся, это всего лишь транквилизаторы. Так что, пока с тобой ничего страшного.
Мне захотелось сесть, но тело отказывалось повиноваться мозгу. Оно все еще подчинялось накачанному в кровь дурману, и ему было плевать на то, чего хотелось его хозяину. Единственное движение, получившееся более-менее четким – поворот головы.
Я открыл рот и с невероятным усилием выдавил из себя:
– Где Людмила?
В этом вопросе заключался весь смысл моего существования. Жизни. Да, я теперь жил ради этой девушки.
– Ты еще не забыл ее имени? – издевательский тон, с которым говорил Кузьмин, явно рассчитан на то, чтобы разжечь меня.
Язык, опухший, сухой, еле ворочался во рту. Горло саднило. Казалось, туда затолкали сухой песок и заставили меня глотать его.
Кто-то вышел из-за спин уже стоявших вокруг людей. Мягкий вкрадчивый голос спросил:
– Вы понимаете меня, капитан?
Из-за транквилизаторов я не мог даже как следует разглядеть говорившего, но голос свидетельствовал за себя. В нем присутствовала какая-то необычайная сила, требующая беспрекословного подчинения. Несомненно, этот человек много и долго командовал. И вот теперь он, склонившись к моему лицу, задал вопрос:
– Вы понимаете меня, молодой человек?
– Да, понимаю, – выдохнул я. – Зачем я вам нужен… Зачем вы украли девушку?..
По мере того как из меня выходили эти щедро разбавленные яростью слова (так, по крайней мере, мне казалось), я все больше и больше обретал контроль над собственным сознанием. Я уже достаточно четко различал стоящих вокруг меня людей, да и язык теперь не казался таким непослушным, как пять минут назад. Закипающая в груди злость помогла мне удерживаться на поверхности реальности, подобно спасательному кругу, удерживающему утопающего на воде.
Повелевающий голос принадлежал человеку уже не молодому, сухощавому, с живыми и проницательными глазами. Как я его ненавидел! Наши глаза встретились. Если бы мой взгляд мог убить, этот человек давно бы валялся мертвым у стола, но, к сожалению, чудес не бывает…
Незнакомец наклонился еще ниже и ласково зашептал мне на ухо:
– Капитан спецназа, не только вы не понимаете Кавказа. Для вас, русских, жизнь устроена по-другому, – он выпрямился и вальяжно заложил руки за спину, давая возможность присутствующим еще раз разглядеть новенький, с иголочки, мундир с красивыми, но совершенно непонятными мне обозначениями на погонах… – Моей стране нужны люди, знающие, что такое порядок, – продолжал он уже нормальным голосом, правда, чуть громче, чем требовалось. – Порядок! Дисциплина! Для моей страны слова «президент» и «порядок» должны стать синонимами. Наш президент Гамсахурдия присвоил мне, своему старому приятелю Coco, звание генерала. И я должен оправдать это доверие, я – Сосойя Горделадзе…
– Ну и зачем ты мне это говоришь? – я не совсем еще соображал. Мне необходимо было выиграть время для того, чтобы принять единственно верное решение.
Я оценивал свои возможности. Наверняка мне удастся высвободиться. Перебить охрану этого Сосойи и придушить самого полоумного фюрера не составило бы проблемы. С Кузьминым придется повозиться, но это тоже не смертельно. Только вот где Людмила? И что с ней? Как и меня, ее накачали наркотой? Возможно, одно неверное движение, и ее убьют. Нет, сейчас я не могу так рисковать.
– Вам придется вернуться к своим друзьям абхазцам и убить… – Сосойя Горделадзе сделал паузу, – и убить их предводителя Фарида. Этого ублюдка!
– Пусть лучше это сделает Кузьмин, – спокойно возразил я. – Ему нравятся такие задания. Верно, Кузьмин? Тебе ведь нравится убивать?
Кузьмин, стоящий тут же со штык-ножом в руке и поглаживающий острием густые усы, ухмыльнулся по-кошачьи, пожал плечами и констатировал:
– У нас один учитель, капитан, майор Иванов, а это очень хороший учитель.
Я ожидал, что мой спокойный тон еще больше раззадорит новоиспеченного генерала и, возможно, воспользовавшись суматохой, мне удастся что-нибудь предпринять, но Сосойя Горделадзе вдруг замер, выдохнул и… рассмеялся.
– Нет. Кузьмину не удастся даже близко подойти к Фариду. Нам прекрасно известно, что Фарид доверяет вам как старому приятелю. Вы ведь служили вместе. Так что хочется вам этого или нет, а придется поработать на нас. Вы будете отпущены на все четыре стороны, если согласитесь вылететь в Москву к Фариду, найти его там и убить. Не найдете его там, возвращайтесь сюда, разыщите его тут, и милости просим к нам, но с его головой.
Новоиспеченный генерал замолчал, ожидая реакции на свое предложение, а потом, поскольку ее не последовало, продолжил:
– Нам пришлось очень постараться, чтобы выйти на вас, капитан. Мы потратили большие, – нет, огромные, – деньги, чтобы найти ваших людей, попытаться завербовать их. Мы так нуждаемся в настоящих специалистах. Конечно, армии у нас пока нет, можете не тревожиться, но скоро мы получим настоящую боевую поддержку… А сегодня занимаемся командными кадрами. Но, как сами понимаете, с переменным успехом. А вот чтобы вы находились сейчас в таком состоянии, пришлось даже инсценировать убийство Кузьмина. Правда, результат оправдал затраты. Майор Иванов боялся за вас, именно он вывел на вас, сам того не желая. Он просто попался на крючок и кинулся к вам сломя голову. Будь он умнее, нам бы, конечно, не удалось найти вас. Зато теперь вы в наших руках и станете делать то, что мы вам прикажем…
Сосойя Горделадзе не закончил свой монолог. Я усмехнулся и сказал, глядя ему в глаза:
– Знаешь, батоно, пошел ты к такой-то матери!
– Вай ме! – воскликнул Сосойя Горделадзе. Лицо генерала приняло синюшный оттенок.
«И этот человек мечтает стать государственным деятелем? Хочет, чтобы его принимали правители в других государствах? – думал я. – Как представить этого бывшего мафиози, продававшего разбавленный бензик, за одним столом совещаний с натовскими генералами? Хотя вообще-то в политике всякое возможно…».
Сосойя Горделадзе несколько секунд смотрел на меня, и в его зрачках сверкало такое бешенство, что я ощутил нечто, похожее на удовольствие. Видимо, я «достал» его всерьез. Будучи, как и большинство кавказцев, человеком вспыльчивым от природы, Сосойя Горделадзе был готов растерзать обидчика. Но тут у меня оказалось преимущество. Я ведь нужен генералу целым и невредимым. И мы оба понимали это.
Сосойя Горделадзе сделал повелительный жест рукой. Высокий парень с огромной пышной шапкой кудрявых волос схватил меня за голову и повернул лицом к двери. Пальцы у него были длинные, теплые и влажные. От них остро воняло рыбой. Меня чуть не стошнило.
В довершение всего, цепи, которыми меня привязали к столу, натянулись и впились в тело с такой силой, что мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Но то, что я увидел, оказалось гораздо больнее и вызвало новую волну ярости и бессилия.
Лысый коренастый толстяк с безразличным лицом вкатил в комнату инвалидную коляску, к спинке которой была привязана Людмила.
Тело Людмилы, обмотанное телефонным проводом, показалось мне маленьким и беззащитным. Хотя я знал, что это не соответствует действительности. В свое время я сам удивлялся, что Людмила очень крупная. А здесь выходило наоборот. Рот Людмиле перетягивал красный платок, создавая впечатление дикой ухмылки.
– Людмила! – Я рванулся к девушке, но цепи удержали меня.
Не говоря ни слова, Кузьмин подошел к креслу, охватил Людмилу за волосы и приставив к ее горлу штык-нож, ухмыльнулся. Я видел, как дрожат его руки. Я понимал: в какой-то момент жажда смерти у Кузьмина может взять верх над разумом, и тогда случится непоправимое. Улыбка на губах убийцы приняла зловещий оттенок. В глазах зажглись оранжевые угольки. Подобное я видел у некоторых людей во время боя, когда те впадали в экстаз от убийства очередной жертвы. И любимым оружием мясников является тоже всегда кинжал, нож, вообще любое режущее или колющее оружие. Отточенный до остроты бритвы нож с широким лезвием, одна грань которого служила обычным резаком, другая – зазубренная – предназначалась для преодоления заграждений из колючей проволоки. Теперь эта зазубренная сторона нетерпеливо дрожала на шее девушки. Глаза Кузьмина начала затягивать страшная туманная дымка – верный признак того, что убийство может случиться в любой момент.
«Надо привести его в чувство, – подумал я. – Обязательно прямо сейчас!»
Я уже открыл рот, чтобы заорать, но тут Сосойя Горделадзе громко и отчетливо произнес:
– Итак, капитан… – Серо-туманная дымка в глазах Кузьмина начала рассеиваться, – …если вы убьете предводителя абхазцев, я верну вам девушку в целости.
Кузьмин убрал нож от горла Людмилы.
– Если же вы попытаетесь совершить что-нибудь, направленное против нас, ваша возлюбленная тоже вернется домой, но… – Сосойя Горделадзе выдержал театральную паузу и эффектно закончил —…но через наши казармы!..
Мне хотелось плюнуть в эту самодовольную рожу, однако я понимал сложность своего положения. Ничего иного не оставалось, как только согласиться на предложение генерала.
Мне завязали глаза, вывели на улицу. Я почувствовал свежее дуновение ветра, в ноздри ударил аромат цветущих роз. Уже тогда я старался запомнить это место, так как знал: мне придется сюда вернуться во что бы то ни стало. Ровное и мощное гудение раздалось невдалеке. Шум двигателя самолета! И крик чаек. Неужели это тот самый белый гидроплан, который я видел недавно?
Меня посадили в автомобиль и повезли. Везли довольно долго. Потом развязали глаза. Я увидел, что мы едем в джипе «ниссан». Вскоре мы остановились возле аэропорта. Что это за аэропорт? Что это за город? Скорее всего, Сухуми. Сквозь боковое стекло я видел, как будущие пассажиры входят в здание. Вот прошли два милиционера. Они беззаботно прохаживались, вооруженные новенькими дубинками. Но внимание их больше привлечет пьянчуга да хулиган, чем плененный в такой шикарной машине.
Кузьмин, сидевший рядом с водителем, которого иногда называл «Дато», усмехнулся. Водитель опустил стекло и выставил на улицу мясистую руку. Где я видел этого человека? Слишком знакомо мне это хищное выражение лица!
Сквозь открытое окно в салон вплыл шум аэропорта. Возбужденные разговоры, мелодичные звонки, оповещающие о том, что начинается посадка на тот или другой рейс.
– Георгий проследит за тем, чтобы ты поднялся на борт самолета, а Теймураз, – сказал Кузьмин, – полетит с тобой до самой Москвы. Это затем, чтобы ты сошел с самолета именно в Москве.
Георгий был щуплым низеньким брюнетом, сидевшим слева от меня, а вот Теймураз – долговязым кудрявым крепышом в аляповатой панаме. Он прижимал меня локтем справа.
– Если кто-нибудь из них в условленное время не позвонит мне, – продолжал Кузьмин, – можешь попрощаться со своей душкой.
«Скотина», – только и подумал я. Потом потер глаза и вздохнул.
– Сколько тебе платят, Кузьмин? – поинтересовался, не надеясь получить ответ.
Тот усмехнулся.
Смешок прозвучал издевательски, но сейчас я не мог позволить себе дать волю чувствам. Кузьмин обернулся и, весело глядя на меня, ответил:
– Мне платят по пятьсот баксов в день. А что? Если бы ты был с ними, – он кивнул на сидевших возле меня справа и слева, – с нами, – Кузьмин поправился, – то получал бы всю тысячу.
Он довольно загоготал. Я смотрел в его скошенный коротко остриженный затылок и думал о том, что Кузьмин оказался б первым человеком, которого я, Юрий Язубец, сейчас убил бы с удовольствием. Но нужно дождаться момента.
Теймураз ткнул меня локтем в бок и, глуповато улыбаясь, кивнул:
– Давай, двигай.
Эта идиотская улыбка умственно ущербного человека не сходила с его губ на протяжении тех двух с половиной часов, которые я мог видеть Теймураза. Создавалось впечатление, что этот парень родился с улыбкой, живет с ней и помрет также, оскалясь и пуская слюни в приступе старческого маразма. Ему бы сидеть где-нибудь в горах и всю жизнь доить коз. Козы не воспринимают таких улыбок. Им все равно. Но он не желает доить коз, мотыжить кукурузу. Он, наверное, хочет быть, как и Сосойя Горделадзе, генералом. Если это так, то Теймураз принесет много зла людям; конечно, если ему удастся дожить до старости, но, учитывая его склонности, я бы усомнился в такой возможности.
Георгий выскочил из машины и теперь стоял, озираясь по сторонам, явно копируя какого-то киногероя.
Похоже, и этому не удастся умереть своей смертью, подумал я. Ему тоже следовало бы уйти в горы и доить коз.
В этот момент локоть Теймураза вонзился мне под ребра.
– Давай, давай, поторапливайся. У тебя рожа, словно аджикой обжегся…
Я покачал головой, словно говоря: «Ну, это ты уж точно зря, дружок. Что-то я, может, тебе и простил бы, но только не это». И выбрался на улицу.
Нескладный из-за своего роста – не меньше двух метров – Теймураз вылез следом. В пиджаке, который был ему мал на пару размеров и цветастой панаме он очень напоминал идиота, которого вывели на прогулку. Ухватив меня за локоть, грузин подтолкнул меня к дверям аэровокзала.
Мне ничего не оставалось, только подчиниться. Сейчас эти ребята были хозяевами положения. Но сначала я обернулся и, глядя Кузьмину в глаза, тихо пообещал:
– Я вернусь.
В следующее мгновение я уже вошел в здание аэровокзала, малозаметно удерживаемый под локти двумя сопровождающими.
Через застекленные двери я видел, как Кузьмин кричит, и я скорее понял, чем услышал:
– А я тебя буду ждать!!!
У меня был план. Как раз такой, каких я не любил. Когда план не продуман, велик риск, что все может рухнуть из-за пустяка. Нельзя отдаваться на волю случая. Все зависело от типа самолета, в который меня собирались посадить вместе с Теймуразом. Но другого плана у меня все равно не родилось. Вполне возможно, то, что я задумал, пойдет прахом. Но разве лучше сидеть сложа руки, прилететь в Москву, найти по указанным адресам армейского друга, справедливого человека, хорошего товарища, и убить его? А затем, вероятнее всего, погибнуть самому, будучи отомщенным со стороны абхазцев или убитому самими же моими похитителями?
Мне ничего не стоило прикончить этих двоих идиотов-козодоев прямо сейчас, здесь, и если бы не телефонный звонок, я так бы и поступил. Теперь же надо было выжидать.
Георгий болтал не переставая. Мало того, он крутил головой на триста шестьдесят градусов, успевая оглядеть всех проходивших мимо девушек.
Я вздохнул. Сосойя Горделадзе, генерал-новичок, не умел подбирать людей. Из всех, кого я успел увидеть, только Кузьмин внушал опасения. В открытом бою я, пожалуй, одолел бы его, но, уступая по физическим данным, Кузьмин компенсировал это хитростью. Он действительно был хитер. Хитер и опасен, словно камышовый кот. Или как рысь.
Мы вышли через зал ожидания к билетным кассам «Аэрофлота». Иногда мне приходилось отвлекаться, чтобы ответить на очередной вопрос болтуна Георгия. Меня раздражал словесный понос вообще, от кого бы он ни исходил, но слушать трепотню врага оказалось во сто крат труднее. Тем не менее я не подавал виду, что раздражен. Напротив, даже улыбался.
– Так вы, значит, служили в спецназе? Класс! – Георгий восхищенно прищелкнул языком. – Вот Теймураз тоже в армии служит, – сравнение показалось ему забавным, и он засмеялся. – Нет, ну правда… Что может быть лучше, чем друзья по отделению, а?
Я внимательно взглянул на него, пытаясь понять: действительно ли парень идиот или только хочет им казаться? Лицо Георгия было безмятежно-радостным, и я решил, что, скорее всего, он идиот.
– Правда, а? – Брюнет едва доставал меня до плеча и, чтобы увидеть мою реакцию, ему приходилось чуть ли не подпрыгивать. – Ну да ладно.
Они остановились возле билетной кассы, и Теймураз подал в окошечко два паспорта. Билеты оказались забронированными.
Георгий посмотрел снизу вверх на нас и, улыбнувшись, добавил:
– Счастливого пути, ребята. Берегите себя. «Он точно идиот», – теперь уже с уверенностью подумал я.
– Да, кстати, – Георгий выудил из кармана банкноту в пять долларов и сунул мне в карман пиджака. – Попей пивка в Москве. Куда тебе торопиться-то, в самом деле? Опять же, телка подольше поживет.
Я улыбнулся. Ласково и дружелюбно. Будь здесь кое-кто, они бы, увидев эту улыбку, тут же посоветовали бы брюнету купить билет на ближайший рейс и уматывать куда-нибудь подальше. Желательно на другую сторону Земли. В Новую Зеландию, например, но даже и там спрятаться получше. Но Георгий не знал, что означает такая моя улыбка.
Так вот, я улыбнулся. Тепло, но с некоторым сочувствием и, еле заметно покачав головой, спокойно констатировал:
– Ты славный парень, Георгий. Смешной. Ты мне нравишься…
Георгий широко заулыбался. Я продолжил свою мысль:
– И поэтому я убью тебя последним. Теймураз взял меня за локоть и грубо подтолкнул меня.
– Ладно, пошли, – тон его изменился. Теперь в нем слышалось напряжение. Настороженность. Готовность в любой момент кинуться в драку. Хотя дурацкая улыбка так и не исчезла.
– Ну, пока, ребята.
Георгий растерянно смотрел нам вслед. Он видел, как мы прошли контроль», предъявив билеты молоденькой служащей, затянутой в форму работников «Аэрофлота», выгодно подчеркивающую все достоинства ее фигуры. Затем вышли в сопровождении стюардессы к автобусу, который повез нас к самолету.
Войдя в салон самолета, я огляделся. В целом дальнейший план действий уже сложился у меня в голове. Важно было уйти от соглядатая прежде, чем самолет закончит разбег. Скорее всего – убить.
Молоденькая приветливая стюардесса, улыбаясь так, словно перед ней стоял Хазанов, поинтересовалась:
– У вас есть багаж?
– Нет, только это.
Теймураз не оценил юмора. Улыбка – первый раз, ну надо же! – сползла с его лица и, буркнув: «Если ты еще раз распахнешь пасть, я тебе ее навсегда закрою», – он отвернулся.
Не торопясь, спокойно, я шел следом за Теймуразом и думал, что через несколько минут этого человека не станет. При всем при том, что мне пришлось убить уйму людей в Афганистане, я ни разу серьезно не считал, что убиваю людей. Я «выводил из строя» противника, чаще всего вооруженного, и никогда не жалел об этом. Вот и сейчас мне предстояло уничтожить врага. Но все-таки Теймураз был безоружен. Вот если бы он наставил на меня автомат, пистолет или, на худой конец, нож, я убил бы его, мгновенно, fee задумываясь. Это просто, как выпить стакан газированной воды…
Как только мы прошли к своим местам, Теймураз полез к иллюминатору. Он с довольным видом посмотрел через стекло на здание аэровокзала и кивнул.
Меня это немного позабавило. Скорее всего, решил я, парень уже представляет себя в одном из московских ресторанов в окружении привлекательных блондиночек. Наверное, так оно и было бы, если б у меня не было своих планов. И по этим планам выходило, что и Теймураз, и чокнутый Сосойя Горделадзе окажутся под ножом патологоанатома в течение двух-трех суток.
Больше всего меня пугало то, что салон был битком набит пассажирами. Свернуть шею Теймуразу в буквальном смысле при такой ораве было бы неосмотрительно. Но у меня не было выбора.
Внезапно для своего соседа я сделал выпад локтем в челюсть Теймуразу и, обхватив голову соглядатая, одним движением сломал ему шею. Теймураз конвульсивно дернулся и, если бы я не сжал ему рот, захрипел бы. Но вот он судорожно выпрямился, заваливаясь на меня, а соседи встревоженно пялили на нас глаза…
– Не беспокойтесь, у моего брата приступ эпилепсии, – соврал я, – я просто дал ему успокоительное. Сейчас схожу за стюардессой.
Корпус самолета мелко дрожал, двигатели разогревались.
Стюардесса сбросила с лица приторную маску деланной ласковости и забрюзжала, увидев меня:
– Что вы ходите туда-сюда? Садитесь на свое место и пристегните ремни. Сейчас взлетаем…
– Меня уже тошнит… Дайте мне бумажный мешок, где здесь туалет… – и я сжал губы, как будто то, чего я хотел избежать, уже случилось.
Стюардесса брезгливо прижалась к сиденьям, пропуская меня в хвостовую часть самолета, я ринулся к туалету. Быстрее, быстрее! В туалете я долго не задержался. Выглянув, заметил, что стюардесса продвигается по салону дальше. В любой момент она может оглянуться. Но выхода не было. Я рванул в хвостовую часть самолета к багажному отделению. Вот надпись «грузовой отсек». Дверь открыта, отсек плотно уставлен чемоданами, сумками, ящичками со свежим виноградом. Лавирую меж этого барахла, ползу поверх всего и оказываюсь у переборки. Неужели она окажется более прочной, чем я предполагаю? Вцепляюсь обеими руками в обшивку и рву изо всех сил на себя. Неудача! Тогда, согнувшись дугой, резко выбрасываю ноги вперед. Раздается громкий, раздирающий барабанные перепонки треск. Заглядываю в образовавшуюся дырку, а там… Там оказываются створки шасси. Прямо перед моими глазами с сумасшедшей скоростью летит бетон взлетно-посадочной полосы. Стойка шасси, поблескивая отполированными боками, уходит вниз, перетекая в бешено вращающийся круг – колеса!
То, что нужно. Только это еще не все! Надо, чтобы хохотун Георгий уже ушел, проводив разгоняющийся самолет глазами. Если он из праздного любопытства станет наблюдать взлет, и «засветит» меня, все мои старания пойдут коту под хвост.
Но, что сделано, то сделано. Я обхватил руками стойку и легко соскользнул вниз. Нащупав ногами крепежную раму, я встал на нее и чуть пригнулся. Теперь мне была видна вся полоса и расстилающиеся за ней заросли. Они надвигались с фантастической скоростью, больше напоминая сплошную зеленую стену. Такой вид наверняка открывается из кабины автомобиля водителя за несколько секунд до катастрофы.
Ветер хватал и бил меня, стараясь сбросить с шаткой платформы, лишить и этой ненадежной опоры, швырнуть на бетон, а еще хуже, вбросить в вертящиеся шасси, казалось, жадно тянущиеся ко мне своими убийственными катками-колесами.
В какой-то момент я испугался. Нет, не струсил, а именно испугался того, что из-за убийцы-ветра не смогу верно рассчитать прыжок.
Самолет еле заметно дрогнул и вдруг оторвался от земли. Я не раз видел, как самолет поднимается в небо, но впервые у меня появилась возможность наблюдать это, стоя на шасси.
Земля провалилась вниз, и я разглядел под собой голубоватое пятно воды, затесавшееся в зеленую тростниковую массу. Видимо, ее намыло ливнями, прошедшими неделю назад. Если бы угодить туда! Плохо то, что не могу сделать поправку на ветер. Слишком велика была скорость взлетающего лайнера. Шасси дернулись. Я понял: еще секунда-другая, и они начнут убираться в корпус. Прыгать нужно сейчас, времени на раздумья больше нет. Из тростника появилось очередное озерцо. Сверху оно показалось мне совсем крохотным, просто лужей. Попытка попасть в него с этой высоты была таким же безумием, как броситься на разъяренного слона с хоккейной клюшкой.
А был ли у меня выбор? Даже если б я решился отказаться от задуманного, меня все равно раздавило бы о стенки отсека шасси.
Я отпустил руку и передвинулся влево, стараясь выбрать наиболее удобную для прыжка позицию.
Озерцо плыло навстречу. Или все-таки это была неглубокая лужа? Я дождался, пока оно чуть подплывет, и, резко толкнув ногой стойку уже начавшего складываться шасси, отделился от самолета. Рев двигателей устремился вверх.
Я сгруппировался, как обычно делал это при прыжке с парашютом, сжал колени, чуть согнул ноги, приготовился к, удару.
Упал я возле самого берега. Озерцо приняло меня, поглотив, укрыв с головой. Да, оно действительно было неглубоким, но дно было затянуто многолетним слоем ила. Грязь поглотила удар, смягчила посадку. Вода доходила мне до груди. Я начал пробираться в заросли тростника. Подняв руки, я произнес хвалу неизвестно кому.
До Москвы достаточно долго лететь, скорее всего, с промежуточной посадкой или даже пересадкой. Но если за это время я не спасу Людмилу, мне придется просто перебить всю банду. Правда, банду придется перебить в любом случае. Они никогда не смирятся с тем, что я уже сделал.
Первым делом я выкрутил мокрую одежду и почистился от грязи. Пиджак Теймураза, в котором мне пришлось быть, чтобы скрыть рваный рукав тенниски, пришлось вышвырнуть. Он был на таком ватине, что не высох бы и за три дня. В мокром пиджаке я выглядел бы подозрительно.
Теперь мне следовало во что бы то ни стало добежать до взлетно-посадочной полосы. Потом найти Георгия. С ним окажется проще найти логово генерала Сосойи.
Когда я приблизился к цели, то увидал, что справа шла машина, предназначенная для уборки полос. Обычная служебная машина с бочками в кузове.
Я подождал, когда машина окажется между мной и зданием аэровокзала. Затем побежал ей наперерез. Руки мои двигались словно поршни мощного паровоза. Собственно, я сам и был машиной. Настоящей боевой машиной, предназначенной для ведения войны.
В считанные секунды я догнал машину, подпрыгнул и вцепился в борт. В кузове в бочках булькала белая краска. Она была разлита и на дне кузова. Я подумал, что если измажусь, то превращусь в белую ворону. Но сейчас, по крайней мере, я невидим Георгию, если тот все еще находится в здании аэровокзала и глазеет на взлетно-посадочную полосу. Я надеялся, что если даже весельчак и видел мой прыжок в тростник, то подумал, что я непременно погиб. Да и мне самому в тот момент казалось нереальным, что я остался живым после такого падения. Я считаю подобные случаи не только везением, но и результатом точного расчета. И опыта. Сколько раз мне приходилось на тренировках прыгать из бешено мчащегося автомобиля? Может, потому и на этот раз мне удалось избежать гибели или увечья.
Сбоку возникли подсобные строения аэровокзала. Выбрав момент, я выскользнул из кузова и укрылся за невысоким кирпичным зданием. Потом я добрался до забора, который был сделан из бетонной решетки. Перебраться через нее было делом минуты. Дальнейшее не представляло проблем. Спустившись по ступенькам к запасному боковому входу в здание аэровокзала, я перебрался через невысокое ограждение, миновал узкий коридорчик и. оказался в зале ожидания.
Он был забит людьми. Все спешили улететь, напуганные событиями недельной давности. Каждому хотелось, чтобы не пропал билет. Люди толпились в здании аэровокзала, чуть ли не падали в обморок от духоты, но самолетов не было. Или не было горючего. Или летчики требовали дополнительной оплаты. Тут царила полная демократия.
Я отчаянно протискивался в толпе, вращая головой, как утка-вертишейка, стараясь высмотреть Георгия. Дело осложнялось тем, что я не мог открыто расхаживать по аэропорту, и виной тому была не только рваная тенниска.
Особое внимание я уделил телефонам-автоматам. Именно там может оказаться Георгий. А если нет? Скорее всего, он уже успел позвонить и сообщить своему любимому генералу о том, что я вылетел. И уехал. Но если он любит бросаться пятидолларовыми купюрами, то он торчит рядом в ресторане. И это его погубит.
Выйдя на улицу, я заметил вывеску ресторана. Решительным шагом направился туда. Так и есть. Как только я зашел в ресторан, прикрывшись газетой, которую поднял с тумбы, на которой покоился чей-то бюст, то увидал Георгия. Он сидел за столиком и безмятежно беседовал с «зубатой» девушкой, своим выражением лица напоминавшей белку. Перед ними стояла бутылка шампанского, а в высоких бокалах янтарного цвета весело играли пузырьки.
– Шампанское пьешь? – пробормотал я. Мне захотелось пройти прямо сейчас в зал, взять бутылку со стола и оглушить ею негодяя. Но я контролировал чувства. Я всегда контролирую чувства. Нельзя быть профессионалом – и не контролировать чувств. Только дети не умеют этого делать. И некоторые взрослые, которые тоже дети.
Мне было неудобно вести наблюдение, прикрывшись тут газетой, поэтому я решил поменять место дислокации. Удобнее наблюдать с улицы, через открытое из-за духоты окно. Даже издалека я увижу, когда Георгий покинет свое место, а уж пропустить его при выходе из ресторана я никак не смогу.
Я быстро перебрался на новую позицию и, делая вид, что занят чтением, внимательно наблюдал за Георгием. Только бы он поскорее закончил свой обед, ужин, или что там у него? Сам я не чувствовал ни жажды, ни голода. Те перехваченные утром крохи еды были на сегодня достаточной пищей. Вспомнилось, как на тренировочных сборах нас забросили под Рязанью в лес, дав задание за сутки выйти по азимуту к назначенному пункту. Там нас ждал шикарный обед. Но это была проверка на жадность. Половина группы сутки маялась животами.
Я смотрел на хитро-злобное крысиное выражение лица противника, нет, точнее, уже жертвы, и думал о том, что или нарочитая расхлябанная нагловатость этого субъекта, или его лишенная смысла речь так завораживающе действуют на девушку, похожую лицом на белку. А может, то и другое вместе? В комплексе. Хотя истина в ином, и дама просто зачангалила, как говорят абхазцы, кавалера, и попытается выжать его как лимон. Но с такими зубами вряд ли девушка – «жрица любви». Она простушка, которая рада отдаться за фужер шампанского. Но это их дела, меня не касаются.
И тут я увидел, как возмущенная какой-то выходкой Георгия, дама встает и стремительно выходит из ресторана. Это поразило меня. Обрадовало. Не все коту масленица. Есть же и честные девушки. Но, мало того, девушка направилась прямо ко мне. К счастью, она свернула к краю площади и села в автомобиль – видавшую виды «Ниву». Если бы я увидел инопланетянина, то удивился бы меньше – она села за руль и начала заводить двигатель.
Тем временем из ресторана вихляющей походкой вышел Георгий. Он дергался, словно его суставы были на шарнирах. Он так звонко щелкал пальцами, что это щелканье слышал и я. И, несомненно, парень направлялся к девушке. А что, если…
Георгий действительно подошел к девушке в автомобиле и, наклонившись, что-то ей сказал.
– Хам, нахал! – крикнула девушка в ответ, чем еще больше развеселила Георгия.
Георгий сел в раздолбанную «Волгу», двигатель взревел, и автомашина зашипела шинами по раскаленному асфальту. Он уезжал, а я оставался! Что делать?
Внезапно меня осенило.
Девушка-белка! Вот и выход. Я скомкал газету и быстро подошел к «Ниве». На расспросы и уговоры просто не было времени. Я открыл дверцу автомашины, закрыл правой рукой рот девушке, второй рукой обхватил тело поперек груди и хриплым от волнения голосом прошептал ей в ухо:
– Не двигаться! Я не причиню вам зла! Отодвиньтесь в сторону…
– Но вы же сказали «не двигаться»! – испуганно возразила девушка, как только я дал ей возможность дышать и говорить. Она не подумала, что я могу от этих слов улыбнуться. Но девушка была так испугана, что мне показалось, будто ее сейчас вытошнит. В мои планы не входило пугать ее, мне требовалась ее помощь. Даже и не добровольная. А если она способна в минуту опасности иронизировать, то одно это заслуживает уважения. Я принял фразу за проявление мужества.
Если бы у меня было время, я смог бы уговорить незнакомку помочь мне, но на это ушли б драгоценные минуты. Георгий успел бы скрыться в неизвестном направлении. Кстати, неизвестно, согласилась бы девушка быть помощником такому типу, как я: в испачканной илом тенниске.
Вот почему я не стал затевать беседу, а предпочел воспользоваться наиболее простым и быстрым способом. Принуждением. Кто-то назовет это насилием, но меня не волновало, как пижоны станут классифицировать то, что я делаю. Речь шла о жизни человека, ставшего мне очень близким: Людмилы.
Я втиснулся в кабину, перелез через сжавшуюся в комок «белку» и сказал:
– Садитесь за руль, быстро! Вам придется делать то, что я скажу.
– Послушайте, – голос девушки дрожал. Ее действительно могло стошнить от страха. – Послушайте, у меня ничего нет. Я могу отдать вам деньги, кольца, паспорт отдам…
– Мне не нужны деньги и ваш паспорт, – ответил я. – Делайте то, что я вам говорю, и все будет нормально. Поезжайте за той черной «Волгой». Старайтесь не упустить ее из виду.
– Я так и подумала… – вздохнула она и включила зажигание. Что она подумала, было не совсем ясно, но я не стал ничего выпытывать.
Тем временем я опустил спинку сиденья так, что меня почти не было видно.
«Нива» тронулась и покатилась по площади. Я боялся, что много упущено времени. Возможно, Георгий успел проехать несколько километров. Конечно, если он не гонит, как сумасшедший, или не свернул куда-нибудь, то мы вполне можем догнать «Волгу» – дорога-то одна.
Уже начали сгущаться сумерки, небо окрасилось в лилово-багряные тона. Я и не заметил, как наступил вечер. Мягкий и теплый. Как раз такой, какой нам нравился с Людмилой. Мы тогда ставили кресла на террасе и лежали до тех пор, пока в небе не начинали загораться удивительно крупные звезды. Людмила начинала рассказывать о себе, и это мне дико нравилось. Я считаю подобное занятие высшей формой доверия. К тому же, это рациональная форма проведения времени. Узнаешь о человеке все, всю его подноготную. Сам же молчишь, или фантазируешь на тему легенды, согласно которой живешь.
Людмила рассказывает мне о своей жизни, а вокруг живет своей жизнью абхазская теплая ночь. Вообще, ночь для меня – самое безопасное время. Я люблю ночь. Это время хищников. И людей, которые добровольно приняли их обличье. Или вынуждены его принять.
– Вы не тронете меня? – спросила девушка. Вероятно, она задала этот вопрос, увидев на моем лице оскал, поскольку мысли мои были заняты разработкой плана мести похитителям Людмилы. Я думал о хищниках, о том, как они впиваются зубами в тела своих жертв. Но эта девушка не была жертвой.
– Вы считаете себя достаточно соблазнительной, чтобы вас кто-нибудь тронул? – хмуро и несколько грубо, вопросом на вопрос, ответил я, чтобы успокоить девушку.
– Нет, я не в том смысле… Вы не убьете меня? – девушка явно обиделась на то, что ее считают отнюдь не соблазнительной. В ней, естественно, говорила женщина. Она ставила «честь» быть соблазненной даже выше жизни. Правда, была разница в способах соблазнения. Думаю, только ненормальным нравится быть соблазненным под угрозой.
– Ни в коем случае, – спокойно ответил я и отрицательно покачал головой, не переставая, следить за дорогой в поисках широкого багажника «Волги» с блестящими, немного проржавевшими бамперами.
То ли мой вид, то ли спокойный тон придал моему шоферу решимости. «Белка» мрачно проронила:
– Вы бы не сказали мне.
– Чего? – я не понял.
– Я говорю, что даже если б вы собирались меня убить или изнасиловать, то все равно не сказали бы…
– Сказал бы.
– Правда? – Она с такой надеждой взглянула на меня, что я едва не расхохотался. Но этого я себе не мог позволить, поскольку после того она просто нажала бы на тормоза, решив, что происшедшее – дурацкий розыгрыш. Она уголками глаз следила за моими движениями. Чтобы не напугать ее еще больше, я старался поменьше двигаться.
– Доверьтесь мне, – говорил я, неотрывно следя за дорогой, – доверьтесь мне и не упустите ту машину. Черную «Волгу».
«Волга», теперь маячащая далеко впереди, вдруг шустро свернула направо и, набирая скорость, начала обгонять одну машину за другой. Георгий решил порезвиться, нарушая правила дорожного движения. Девушка нерешительно нажала на педаль газа и прибавила скорость.
– Давай смелей! Смелей, но осторожней! – приободрил я девушку. Та с силой нажала на акселератор, «Нива» рванула вперед, а поскольку впереди идущие машины подались немного влево, шарахаясь от первого обгонщика, то очень скоро «Волга» снова оказалась на виду. Я по достоинству оценил умение водить машину, похвалив девушку:
– Молодец!
Это продолжалось всего несколько секунд, но обгон ее взбодрил, придал уверенности в собственных силах, и она решилась задать вопрос:
– Может, ты теперь объяснишь мне, в чем дело? Или, по-твоему, я специально купила машину, чтобы катать тебя по вечерам?
Я удивленно посмотрел на девушку, и ей снова стало не по себе. Она, наверное, немного читала по глазам.
– Меня подставили. Подставили подлым образом. Так вот. Если я не сделаю то, что сейчас делаю, они убьют человека.
Я не лгал. Не сказал, конечно, всей правды, но и не лгал.
– Я не могу вас понять. При чем тут я? Почему я должна вам помогать? Кто вы? Кто тот наглый парень, которого мы догоняем?
Честно признаться, эта девушка начинала нравиться мне все больше и больше. Держалась она молодцом. Да и вряд ли можно ожидать от перепуганного человека, что тот бросится объясняться в любви собственному похитителю. Хотя… Не так уж она и напугана.
Начались крутые повороты. Виражи. Следить за «Волгой» стало сложнее.
О чем сейчас думает Георгий? О пиве, о деньгах, о женщинах? Или о козах, которых он может пасти на горных склонах и быть счастливым? Я бы всех преступников заставлял бы пасти коз. Или овец. А лучше всего – слонов. Со слонами нельзя быть жестоким. Сразу отучат.
Тем временем показались огни города. Мы въехали на освещенные улицы. Георгий подъехал к мрачному и неосвещенному зданию то ли театра, то ли университета, и припарковал машину.
– Что это за здание?
– Я тоже не местная, – ответила незнакомка. – Знаю только центр…
Но Георгий в здание не вошел, а прошелся через улицу к ярко освещенному зданию универмага. Да, так оно и будет. Георгия обнаружат продавщицы, где-нибудь среди вешалок. Я схватил девушку за руку.
– Извини, тебе придется пойти со мной. Быстрее!
Девушку, кажется, снова чуть не начало тошнить от страха. Едва я предложил ей сделать очередной шаг, она побелела, как мел, и перестала понимать происходящее. Трусиха. Она от страха может попытаться вырваться и побежать, вопя во все горло, призывая на помощь. И тут неожиданно она сказала:
– Послушай, парень…
Голос ее дрожал и теперь уже звучал без той бравады и злости, которая проявлялась совсем недавно на дороге…
Я не дал ей договорить.
– Пойдем. – Мой голос был сухим и твердым. – Скоро я тебя отпущу, но сейчас ты пойдешь со мной. Ключи оставь в машине.
Возражения девушки не производили на меня никакого впечатления. Эта девушка была нужна мне, и я заставил бы ее поступать так, как нужно мне, пусть даже и не без физического нажима.
Как хорошо, что этого не потребовалось! Но ее сильно напугало то, чего я требовал. Особенно, чтобы ключи остались в машине. Это ее просто парализовало. Но, очевидно, она решила пожертвовать машиной ради собственной жизни.
Девушка вздохнула и вышла из машины. Мы пересекли улицу, и девушка направилась было к центральному входу.
– Не туда, – скомандовал я. – Это слишком рискованно. Мы войдем через другую дверь.
И мы пошли к боковым дверям. Сквозь огромные витрины было видно, как Георгий, небрежно облокотясь на прилавок, разговаривает с молоденькой, совсем еще девчонкой, продавщицей. Потом он медленно пошел по первому этажу, пялясь на витрины и полупустые стеллажи. Вот он остановился, начал перекатываться с пятки на носок и обратно. Он отчего-то немного нервничал, точно! Только вот по каким причинам? Или чувствует нависшую над ним смертельную угрозу? Пусть он не профессиональный разведчик, не десантник, но предчувствие смерти или смертельной опасности, может быть, наверное, почти у любого человека, даже у слюнтяя.
Когда я выполняю задание, то всегда люблю ясность. Теперь же мне приходилось ориентироваться на месте, исходя из сложившейся ситуации, и ежеминутно принимать решения, отменять их, вновь принимать новые.
Что сейчас в голове у этого парня? Мне неизвестно. Ведомо ли мне, куда он едет? Я не знаю. Зачем он забрел в универмаг? Не понимаю. Знаю ли я, есть ли у Георгия оружие? Нет. А знает ли Георгий, где находится подвал, в котором спрятана Людмила? Тоже мне неизвестно!
Вот эта чертовая неизвестность и убивает. В подобных случаях вероятна самая неожиданная случайность. Возможно, хохотун просто хочет что-то купить. Нет, навряд ли. Георгий все-таки нервничает. Кого-то ждет? Возможно. Кого? А что, если сейчас сюда заявится Кузьмин? Причем не один.
Происходило то самое, чего я терпеть не мог: собственных колебаний и нерешительности. Когда у тебя один шанс из ста, одна ниточка, готовая оборваться в любой момент, или которая может никуда не привести вообще – да, такое тоже возможно, то колебание – самое худшее, что вообще может быть.
Вот Георгий деланно, враскачку направился по лестнице на второй этаж универмага. Если он пожелает скрыться, лучшего момента не придумаешь. Выйти можно через два боковых выхода и один центральный. Надо идти следом за Георгием. Он может ускользнуть.
Я не выпускал запястья девушки из своих рук, и мы быстренько поднялись по лестнице на второй этаж. Останься мы внизу, Георгий сразу же нас заметил бы сверху. Несмотря на вечерний час, был наплыв людей, а может, даже благодаря этому. Георгий будет вглядываться, и, несомненно, заметит меня из-за моего высокого роста и рваной тенниски. Поэтому следует проявлять максимум осторожности.
Брюнет, заглядываясь на каждую продавщицу, поспешил к расположившемуся в угловом павильоне кафетерию. Из открытых дверей доносились разговоры, звон посуды, звучала музыка. Неужели Георгий будет есть?
Я не пошел к кафетерию. Мне было вполне достаточно того, что я видел, стоя в переходе возле колонны, частично ею скрытый. Правда, Георгия не видно, но я понимал: деться тому некуда.
Подобное местоположение устраивало меня еще и потому, что из этого перехода я легко мог попасть как на первый, так и на третий этаж. Кроме того, между колонной и перилами лестницы был промежуток, дававший возможность, если это понадобится, скрыться от глаз Георгия. Но, самое главное, я в любой момент, затратив всего полминуты, очутился бы у дверей кафетерия, если бы этого потребовала ситуация.
Я вспомнил, что этот чертов день начался с завтрака, который так и не закончился. До торта даже не дотронулся. С какой любовью Людмила украшала торт, с какой любовью выводила буквы заветных слов! Откуда все взялось, что помешало нормальному развитию событий?
Я продолжал держать свою пленницу за руку, и она пока вела себя спокойно. Но в любой момент девушка могла запсиховать и заорать! Если появится милиционер, она это и сделает. Ее глаза с мольбой о помощи беспрестанно моргают. Надо хоть что-нибудь рассказать ей, успокоить, приободрить.
– Слушай, похитили мою сестру, – я старался говорить убедительно, – я могу вернуть ее, но мне некогда объяснять, каким образом. Если этот парень увидит меня или потеряется, моя сестра умрет. Пожалуйста, подойти к нему и скажи, что ты влюбилась в него. Нужно заставить его спуститься вниз, уйти в кусты, или к машине, твоей или его. Остальное я беру на себя, вот и все. Ты вернешься к нормальной жизни, хорошо?
Девушка слушала меня с открытым ртом. Вблизи она была хорошенькая, и даже слегка плосковатые большие зубы, как мне теперь казалось, не портили ее, а наоборот, придавали ее лицу своеобразное очарование.
– Нет, – твердо сказала она.
– Пожалуйста, – повторил я, – ну помоги мне. Это моя единственная сестра. У меня осталось меньше десяти часов на то, чтобы найти ее. Иначе она погибнет, понимаешь?
На этот раз девушка испугалась выражения моего лица. Ей, скорее всего, почудилось, что если она откажется, то с ней случится нечто ужасное.
– Ладно, хорошо, – пролепетала она.
Я разжал руку, и девушка как перышко от дуновения ветерка, не пошла, а именно полетела к кафетерию. Она ежесекундно оглядывалась. Конечно, она меня принимает за члена враждующих банд, и поэтому мне не доверяет. Она простая обывательница, все сложности жизни, связанные с преступным миром, привыкла решать только с помощью милиции… Вот «белка» уже стоит перед дверьми кафетерия.
Ну откуда мне было знать, что в кафетерии уплетают булочки, запивая их кофе с молоком, двое милиционеров! И что девушка сразу же бросится к ним и выложит все как есть!
Просто я увидел, как из кафетерия вышли два молоденьких сержантика, и один все еще дожевывал свою булочку, а другой уже переговаривался по рации, видимо, вызывая дежурную машину. Если бы они не рыскали глазами, я не обратил бы на них особого внимания. Ну мало ли чего надо ментам в универмаге, в кафетерии? Но уже то, как они держали дубинки в руках, нетерпеливо играя ими, выдавало, что они ищут именно меня. Похитителя женщин, угонщика автомашин и вообще странного долговязого типа с изорванным рукавом и, вероятно, психа, каких еще свет не видал.
Милиционеры подошли ближе и остановились метрах в пяти от меня. Они не решались напасть, боясь не совладать со мной. Впрочем, ничего криминального я и не совершал. Ну, стоит себе тип в испачканных брюках, и пусть себе стоит. Мне, товарищи милиционеры, уходить отсюда нельзя, потому что девушка что-то долго задерживается, уж не случилась ли с ней какая-нибудь неприятность? Возможно, Георгий удерживает ее в кафетерии…
А теперь еще эти милиционеры. Сейчас они подойдут ко мне.
Я не ошибся. Один из сержантов, покрепче, держа дубинку таким образом, чтобы было удобно, если потребуется, моментально нанести удар, двинулся с места и теперь приближался ко мне. Крепкий парень, подумал я, но мне хотелось бы обойтись без крайних мер. Кроме того, у него на поясе «дезодорант» с «черемухой». И полная неизвестность, что у мента в голове.
– Что вы здесь делаете? – спросил «мусор» не очень дружелюбно. Сказано это было примерно так: «Ну вот, засранец, ты и нажил себе кучу неприятностей».
– Я жду… – просто ответил я.
– Да ну? – ухмыльнулся сержант. – Знаешь что, – он перешел на ты, а это не предвещало ничего хорошего, – тебе лучше пройти с нами.
Дубинка в его руках застыла.
– Да нет, – покачал я головой, – ты ошибаешься. – Я был старше парня на пару годиков, и мое «тыканье» воспринималось более естественно.
Ухмылка медленно сползла с лица патрульного.
– Ты пойдешь с нами, козел, если не хочешь, чтобы тебе переломали ребра, – тихо и зло повторил он.
– Ладно, как скажешь…
Я отлепился от колонны, сделал шаг вперед и, не давая милиционеру опомниться, ударил его ладонью в лицо. Это был хлесткий удар, не калечащий человека, но оглушающий и лишающий ориентации. Я усмехнулся. Видит Бог, я к нему не приставал.
Сержант охнул и вскинул руки к глазам. В ту же секунду его напарник, уже дожевавший булочку, рванулся вперед.
Его я встретил прямым ударом в челюсть. Сержантик снопом повалился на пол. Фуражка полетела в сторону, проскочила между перилами и заскользила вниз, делая кульбиты в воздухе.
Откуда-то сзади подоспел еще милиционер. Он занес дубинку и наверняка обрушил бы на мою голову, но я уклонился, поймал руку нападавшего в захват и ребром ладони ударил легавого между подбородком и нижней губой. Глаза патрульного закатились, и он беззвучно сполз к моим ногам.
Неожиданно я увидел, что по лестнице поднимаются еще трое или четверо милиционеров, правда, без экипировки. Скорее всего, они приехали на машине, вызванные по рации, чтобы забрать меня. Увидев потасовку, они, совершая гигантские прыжки, перепрыгивая через три-четыре ступеньки сразу, бросились на меня. Я стоял на верхней площадке лестницы и легко расправился с ними по очереди. Да и сами они резво отскакивали, боясь попасть под удар. События принимали новый оборот. Развязанная драка, а точнее, избиение, превращалась в затяжные военные действия локального характера.
Дубинки мелькали в воздухе, то поднимаясь, то опускаясь, не причиняя мне особого вреда, но весомо доставая самих милиционеров; достаточно было их ловко подставить под удар.
Молодой сержант в новенькой форме браво кинулся вперед, налетел на удар локтем в грудь, громко охнул и сполз под ноги своим коллегам. Еще двоих, не в меру ретивых, я успокоил, шмякнув их как следует головами о колонну.
В глазах рябило от ментовской формы. Я боялся, что слишком много людей наблюдают за подобным избиением, и вся слава и честь советской милиции пойдут насмарку. Целый наряд, если не два, превратились в ораву стонущих, орущих, воющих, ползающих на четвереньках людей. Не от трусости, – никто из них не был трусом, – а от боли. Они столкнулись с тем, с кем сталкиваться не привыкли: с профессионалом во всем, что касалось обращения с человеческим телом…
Причем все это время я умудрялся не упускать из виду дверь в кафетерий. Девушка то выглядывала оттуда, то снова пряталась; теперь она боялась мести с моей стороны. Но вот появилась из двери и рожа Георгия. Он на мгновение застыл, рот его раскрылся, и в первые секунды он ничего не соображал. Затем оттолкнул девушку и рванул к боковому выходу. Я прыгнул к лестнице. Надо было срочно перехватывать Георгия.
На моем пути встали двое милиционеров. У одного и у другого были разбиты губы. Первый уже хладнокровно доставал пистолет из кобуры. Удар ногой! Милиционер кубарем катится по лестнице. Другой отпрянул. Георгию потребуется пятнадцать секунд, чтобы набрать по телефону нужный номер и сообщить, что я здесь, никуда не улетел. Упавший милиционер лежа вытащил пистолет и направил в мою сторону. Я ухватился за перила и, резко оттолкнувшись, приземлился почти у самых телефонных будок.
Георгий в междугородней телефонной будке. Лицо его стало белым, как полотно. Рот его немо открывался, легкие судорожно втягивали воздух. И, вообще, он стал похож на рыбу, выброшенную на берег приливом.
Его рука нырнула за пазуху. Так и есть, у него револьвер. Скорее всего, наган. Он, не целясь, стреляет в меня прямо сквозь стекло кабины. Звук выстрела приглушенный, лопающийся… Сам того не желая, Георгий оказал мне услугу. Стекло вылетело, и теперь я элементарно смогу добраться до него. Мало того, он переключил внимание милиционеров на себя.
Можно сказать, мне здорово повезло. Пуля прошла мимо. Возьми Георгий чуть левее, и я, пожалуй, не смог бы действовать правой рукой.
Георгий уже не пытается набирать номер. Теперь он лишь ждет смерти. Ужас сковал тело, он видит мое лицо и не может даже пошевелиться. Сейчас я сверну ему шею или сломаю хребетник…
Я не спешил сделать ни то, ни другое. Мне нужно было действовать наверняка. Слишком мало козырей у меня, слишком много противников. Я вцепился в верхний край будки, наклонил ее, невероятным усилием оторвал край будки от пола и обрушил ее вместе с Георгием. С удовлетворением отметил, что провода оборвались.
Георгий заорал. Не то, чтобы у него была буйная фантазия, но воображения хватило нарисовать крайне неприятную картину: телефонная будка с окровавленным трупом внутри.
Лица у Георгия не будет, вместо него – ало-бурое месиво, пальцы скрючены, тело выгнулось под неестественным углом, потому что его позвоночник будет сломан ударом моей ноги.
Кабина грохнулась об пол – стекла со звоном посыпались, а брюнет рассек себе щеку, – и замерла, предоставив для обозрения всем желающим белое лицо «весельчака».
Георгий, тихонько завывая, начал выбираться наружу, через окно, заливая костюм и пол кровью, обдирая руки, не выпуская, однако, револьвера, прикрываясь им, забыв, очевидно, что из него можно стрелять.
В ту же секунду на меня вновь навалились милиционеры. Разом человек восемь. Они повисли у меня на плечах, на шее, на руках, стремясь повалить, скрутить, удержать, лишить возможности двигаться. Зашипел газовый баллончик, но я смог увернуться, и мои глаза остались целы. Резко защипало в носу. На левую руку мне пытались нацепить браслет наручника. Я не мог допустить, чтобы меня повязали. Пригнувшись еще ниже, лишив ментов равновесия, я резко, словно пружина, распрямился, разбросав нападавших.
Тем временем выдержка изменила Георгию. Он неожиданно выстрелил прямо в пол, потом навел револьвер на случайного человека, а затем произвел еще один выстрел, но уже в ближайшего милиционера.
Пуля ударила сержанту в лицо, и он согнулся. Кровь брызнула из-под его пальцев тонкой струйкой, оставляя на полу черное пятно, закапала на брюки. Георгий, задыхающийся, перепуганный, кинулся бежать.
– Стой, сукин сын! – заорал я.
Но Георгий опять, не целясь, с полуоборота выстрелил в меня, решив, что пуля должна сама меня найти. Разумеется, он ошибался. Я еще раз приказал ему остановиться. Но брюнет и не думал этого делать. Напротив, припустил еще быстрее. Тут грохнул выстрел со стороны милиционеров. Зазвенело стекло входной двери. Я понимал, что Георгий хочет убежать. Это не было непоправимым до тех пор, пока брюнет не растворился в вечернем городе. Между его исчезновением и настоящим моментом есть две или три минуты – время, которое понадобится «весельчаку», чтобы добежать до «Волги», завести ее и убраться от универмага куда подальше. Эти две-три минуты были временем, которым я располагал.
Милиционер кинулся на меня. Я присел, вонзил локоть в форменный китель – точно в солнечное сплетение, затем в пах, а завершил серию мощным ударом в зубы. Если так отбиваться, то дело скверно. В первую очередь нужно избавиться от насевшей на меня своры. Мне надо только достичь входной двери, не получив вдогонку пули.
И тогда я решил схитрить. Ведь можно было выбраться наружу через боковой выход. Рядом была высокая стеклянная стойка с полочками, на которых различная дребедень: бижутерия, нитки, катушки, ленточки. Я заскочил за этот стеклянный ящик и толкнул его в сторону милиционеров. Стойка с грохотом и звоном разлетелась на полу. Тем временем я уже бежал по первому этажу магазина, пытаясь достичь бокового выхода. За мной увязалось двое милиционеров. Не очень, впрочем, уверенно… Они настороженно посматривали на меня, пытаясь угадать, как я поведу себя в следующий момент. Каждый из них уже испытал на себе силу моих ударов, попробовал их на вкус. И теперь было непонятно, чего им больше хочется – задержать меня или дать возможность удрать. Долг и инстинкт самосохранения боролись в них, и эта борьба в полной мере отражалась на их лицах.
Я не ждал, пока они сделают выбор. У меня не было ни времени, ни желания.
Неожиданно из бокового выхода выскочил милиционер и прямо в упор наставил пистолет.
– Стой, стрелять буду! – закричал сержант, который был решительнее остальных, поскольку вытащил пистолет и хотел применить его. – Ни шагу! Не шевелись!
Он выстрелил бы. Он по второму этажу обогнал меня, думая зайти мне в тыл. Он перехитрил меня. Я стоял на месте. Он точно выстрелил бы. Но тут появилась девушка, которая навела на меня ментов. Она коротко размахнулась и ударила сержанта сбоку ногой в пах, а затем свалила на пол прямым в челюсть. Махнула рукой и исчезла в дверном проеме. Ай да «белка»! Я без раздумий последовал за ней. Мы выскочили на улицу. Черная «Волга», взревев, рванулась с места и помчалась мимо нас. Я выскочил ей наперерез, надеясь, что напуганный до предела брюнет автоматически нажмет на тормоз. Но тот, похоже, вообще потерял всякую способность нормально соображать. Белое пятно лица четко проявилось за лобовым стеклом – выпученные глаза и судорожно хватающий воздух рот.
«Волга» мчалась теперь прямо на меня, набирая скорость, хищно урча захлебывающимся двигателем. Я подпрыгнул, переворачиваясь в воздухе на триста шестьдесят градусов. Только благодаря этому машина не изуродовала меня. Я покатился по широкому капоту, лобовое стекло отбросило меня в сторону, и мне удалось упасть на асфальт, отделавшись парой кровоточащих царапин…
Не задерживаясь, я побежал к припаркованной неподалеку «Ниве». Признаюсь честно, в тот момент я совершенно не думал о девушке, которая своей выходкой помогла мне избавиться от милиционеров. В какой-то момент она решила перейти на мою сторону. Что заставило ее принять такое решение, не знаю. Я думал только о Георгии. У меня из головы не выходил этот слащавый брюнет, причастный к похищению очень близкого мне человека, и который чуть не убил меня. Думал о том, что он хороший парень, и что он нравился мне. Именно поэтому я решил его убить последним.
Я повернул ключ в замке зажигания, и ноги сами нажали на педали. «Нива» рванула с места, визжа шинами.
И тут мне пришлось резко затормозить.
– Стой! Подожди меня! – «Белка» выскочила на дорогу и чуть не угодила под колеса. – Мать твою, – выругалась она, отскакивая в сторону.
Я остановил «Ниву», давая девушке возможность сесть в салон. Если кто-то и делал это быстрее, чем она, то я не помнил этого.
Девушка устроилась рядом со мной. Ей было неудобно на откинутом сидении, но она не могла с ним справиться.
Я ударил по педали газа – девушка очутилась на заднем сидении и лежала теперь на спине. При этом юбка задралась, обнажив стройные ножки. Она закрыла их руками, одернула юбку.
– Слушай, кто ты такой, черт возьми? – кричала она, пытаясь подняться. – Угнал мою машину, угрожал мне! Господи! Я из-за тебя ударила милиционера! Он хотел, кстати, тебя пристрелить! Я уже начинаю сомневаться, правильно ли поступила, помешав ему. Боже, теперь меня тоже посадят. Как соучастницу!
Я усмехнулся. Тебя точно не посадят. И меня не посадят.
– …Ты там все здание разнес! – продолжала девушка, немного сбавив тон, мало-помалу успокаиваясь. – Прыгал – точь-в-точь каратист. И я еще из-за тебя влипла… Так может, теперь хоть скажешь, что происходит, а?
– Нет, – коротко ответил я. – Ты лучше расскажи, что ты доложила обо мне товарищам милиционерам?
– Сказала, что ты псих. Взял меня в заложницы… – ответила девушка. – Но похоже, они не очень-то и поверили. Ты спокойно стоял. Вовсе не как псих.
– Ты не ошиблась, я и есть псих. Только я психую ради жизни дорогого мне человека, – сказал я и умолк, давая понять, что разговор окончен.
Я и в самом деле не был расположен к разговорам. Меня занимал лишь мчавшийся впереди автомобиль «Волга» с обезумевшим водителем. Я не слушал причитаний девушки. В будущем я собирался возместить ей причиненный ущерб, но только после того, как все закончится. А сейчас говорить – только тратить время.
«Волга» постоянно поворачивала, но в городе ей некуда было деться, и она выскочила за город. Тут я попытался выжать из «Нивы» все, на что она была способна. Но больше ста двадцати она не шла. И то ее начало трясти, она грозила рассыпаться на части, когда стрелка спидометра переваливала за сто десять. А когда я выворачивал руль на поворотах, не уменьшая скорости, девушка визжала:
– Что ты делаешь!? Что ты делаешь! Осторожней! Господи, что за день у меня сегодня!
Я не отвечал. Мои пальцы сжимали руль с такой силой, будто я хотел его раздавить. На обочине мелькали деревья, по-моему, каштаны. Еще вчера Цейба привез из города большущую корзину жареных каштанов. От них шел соблазнительный пар. Каштаны были необычайно вкусны. Мы сидели на кухне, наслаждались каштанами и болтали.
– Ты, наверное, военный специалист по женщинам, – продолжала в тот вечер свою бесконечную тему Людмила.
Все время она пыталась разгадать мое прошлое. Я ничего не отрицал. Это ее злило. С ней надо было уметь молчать. С мужчинами молчать проще. Молчишь себе и молчишь, а вот с женщинами не так. Они все время норовят одержать верх. Если они чувствуют, что это им не удается, начинаются капризы. «Каприз – хромой призрак власти», – сказал кто-то из классиков. Людмила беспрестанно хромала. И тогда я начинал рассказывать ей сказки. На тему приключений в Афгане. Она успокаивалась и не претендовала на первенство. Людмила была достаточно умна, чтобы понять, что всякий, кто побывал южнее Памира, уже немного не в себе…
Дорога пошла в гору, и начались ухабы. Всякое преимущество в мощности мотора Георгий потерял. «Волгу» бросало, она шла юзом, и ему пришлось снизить скорость. Это было мне на руку. «Нива» прыгала с горба на горб, приближаясь к цели. Еще через пару километров подъем и ухабы кончились, но теперь слева от дороги темнела пропасть, а огни города, плывущие в густо-чернильной темноте, блестели далеко внизу. Я знал, что это впечатление обманчиво: пропасть не столь глубока, по крайней мере, не так, как кажется. Однако, если рухнуть вниз, то от машины останется груда лома, а от меня и девушки – бесформенное месиво. Об этом лучше не думать.
На очередном повороте я, наконец, настиг «Волгу». Слева подымалась отвесная стена горы, а справа чернела все та же пропасть. Видимо, из-за своей расхлябанности Георгий держал автомобиль, что называется, в «черном теле». Двигатель был не отрегулирован и не отлажен. Потому Георгий и не смог от меня оторваться. Теперь я пытался встрять между стеной и «Волгой», надеясь, что, испугавшись пропасти, Георгий затормозит. Но Георгий обезумел и сделал ошибку. Он резко повернул влево, чтобы ударить, смять мою машину, но я вовремя притормозил. «Волга», словно ракета, вылетела на холм и перевернулась, встав на левый борт. Георгия выбросило из салона, и он покатился по дороге.
– Моя машина!!! – вдруг заорала девушка во всю силу своих легких.
Я следил только за Георгием. А когда глянул перед собой, то оторопел: прямо перед «Нивой» маячил непонятным образом возникший посреди дороги столб.
– Держись! – крикнул я девушке.
За секунду до столкновения я вытянул правую руку и уперся ею в дверь, защищая девушку от удара в приборную панель.
Тарарах! «Нива» врезалась в столб с такой силой, что я сломал плечом рулевое колесо. Я очень сильно звезданулся о щиток.
Девушка, к счастью, осталась невредима. Конечно, помогла рука, которой я подстраховал ее.
– Все в порядке? Ничего не болит? – осведомился я. – Цела?
– По-моему, я умерла, – только и смогла выдавить девушка. – Но точно не знаю. – Она открыла глаза и огляделась. – Хм… Если это рай, то я – Алла Пугачева…
– С тобой все в порядке, – удовлетворенно сказал я. – Подожди меня, я только немного поболтаю с приятелем.
– Поболтаешь? – изумилась девушка.
– Разумеется, – подтвердил я, вылезая из изуродованной машины. – Поговорю о погоде.
Я пошел по дороге назад. Георгий уже умудрился подняться. Руками брюнет зажимал разбитое лицо. Между пальцами сочилась кровь и капала в пыль.
Но я не обратил на это внимания, а подошел к стоявшей на боку «Волге» и, наклонившись, начал осматривать выпавшие из «бардачка» мелочи. Ага, солнцезащитные очки, платок, записная книжка – я сунул ее в карман – и пластиковый брелок в виде маленьких долларовых купюр. Любит, бродяга, деньгу. Кроме этого брелка, я подобрал ключ с металлическим жетоном, на котором были выбиты цифры и надпись на грузинском языке. Ключ отправился следом за записной книжкой.
Все.
Георгий застонал и сделал несколько неуверенных шагов к машине. Его пошатывало. Где, бродяга, твой револьвер?
Я подошел к нему, ухватил за шиворот и потащил к пропасти. Брюнет даже не пытался оказывать сопротивления. Он судорожно переставлял ноги, стараясь сохранить равновесие.
Я оттащил его чуть в сторону, так, чтобы девушка не могла видеть того, что произойдет сейчас.
Город, раскинувшийся внизу, казался особенно красивым в темноте.
Я подумал, что это иллюзия. Ведь взойдет солнце – и все изменится. Вся жизнь – иллюзия. Утром я был сильным, хозяином положения, и вдруг выясняется, что все наоборот. Я слаб и жалок.
Утром у меня была девушка по имени Людмила, а сейчас, в пылу погони я едва припоминаю черты ее лица. Может, и Людмила тоже иллюзия? Мои чувства к ней – иллюзия… Еще утром этот парень смеялся и радовался жизни, а через несколько минут превратится в мертвеца, сломанную куклу, и ничто его не воскресит.
Все, все под этим небом – иллюзия.
Я отогнал дурацкие мысли. Мне необходимо действовать.
Ухватив Георгия за ногу, я поднял его и теперь держал над пропастью. Брюнет размахивал руками, пытаясь высвободиться. Тщетно.
– Ну что, Георгий? – спросил я, глядя весельчаку в глаза.
Тот побледнел, хотя все еще пытался сохранить остатки самообладания.
– Поцелуй меня в задницу, – сумел выдавить он.
У меня вдруг появилось дикое желание поставить этого парня на дорогу и дать ему такого пинка, чтобы тот перелетел через Кавказский хребет и навсегда нырнул в Каспийское море. Но это было слабостью. Обычной человеческой слабостью, которым подвержены все люди. Только одни реже, а другие чаще.
Я вздохнул.
– Ты ведь слышал меня?
– Пошел ты к такой-то матери, Юрген, – ощерился брюнет. – Я знаю, ты профессионал-убийца.
Я почувствовал усталость. Неожиданно заныло избитое тело. Мускулы требовали отдыха, которого я не мог им дать. И я вдруг осознал: мне нельзя отпускать Георгия. Как бы этого ни хотелось. Независимо от того, скажет тот правду или нет. В общем-то, я понимал это и раньше, но сейчас ощущение безысходности стало отчетливым и глубоким. Я понял, что мне придется убивать, убивать и еще раз убивать. Отдыха не получилось. Любви не получилось. Возможно, мне придется убить столько, сколько я не убивал за всю предыдущую жизнь. А за безысходностью пришли равнодушие и апатия. Возникла предательская мысль: а что, если откупиться от этих смертей одной-единственной? Нет, пусть лучше эти подонки подохнут! И честь здесь ни при чем. Просто так нужно. Я, Юрий Язубец, шагаю по вырытой кем-то колее и не могу свернуть с нее, как бы мне ни хотелось. Не я контролирую ситуацию, а она держит меня, затягивая все глубже. По мере того, как я бреду все дальше и дальше по кривой дорожке убийств.
Вдруг я почувствовал, что стал старым. Слишком старым. И я снова подумал о том, как мне ненавистна эта работа. Убивать людей. Работа – убивать людей? О, Боже, я твой помощник на земле. Только ты отнимаешь жизни. Я усмехнулся. И Георгий испугался этой улыбки. Злой и горькой.
А дальше я начал говорить слова, из которых складывались фразы. Слушая эти фразы, брюнет трясся от страха все сильнее.
– Ты надоел мне. Вы все надоели мне. Ты все расскажешь мне, Георгий. Все. – Мой голос звучал пусто и ровно. Не человек, а машина. Наверное, такой голос мог быть у робота-убийцы. Фразы складывались в моем мозгу, распадались на слова у губ и выплевывались ими, страшные, как серебряные пули. Они вонзались в уши Георгия и снова собирались во фразы в моей голове. – Самое главное для тебя сейчас… знаешь что, Георгий? Гравитация. Ты умеешь летать, а, Георгий?
– Подожди, подожди, Юрген! – торопливо забормотал брюнет. – Постой! Ты не можешь убить меня! Нет, не можешь! Я нужен тебе. Я кое-что знаю!
Казалось, я не слышу его. Пустые глаза уставились на Георгия, но, глядя ему в лицо, я пытался заглянуть внутрь, вглубь человека. В его мозг. Смотрел – и не видел ничего.
Брюнет испугался. Крик застыл в горле ледяным комом. Он понял, что я вообще ничего не вижу. Ни его, ни пропасти, ни сияющего в ночи города. Ничего.
– Где она? – спросил я. Наверное, я походил на сомнамбулу.
– Я не знаю, – заорал брюнет, стараясь отогнать тот дикий безотчетный ужас, который овладел им. – Я не знаю, но… Послушай, Юрген. Дато знает! А я знаю, где Дато! Я скажу тебе, где Дато! Слышишь, Юрген? Я скажу, где Дато!
– Я и сам знаю, – ответил я. – Вот в этой гостинице, – звякнул ключом на жетоне.
– Послушай, дорогой, там живут одни военные, это уже не гостиница, а казарма… Послушай, ты ведь обещал, что не убьешь меня…
– Нет, Гоша, я обещал тебя убить последним, только и всего. Но я тебя обманул…
Резким ударом левой я оглушил Георгия и разжал пальцы правой руки. Брюнет рухнул в пропасть. Несколько раз было слышно, как его голова ударялась о камни. Потом все стихло. Звука удара тела о дно пропасти слышно не было. Слишком высоко.
Некоторое время я смотрел в бездонный мрак, покачивая на ладони брелок.
Да. Я вновь готов к действиям. Верно. Убивать. Я готов убивать. Иначе убьют меня… И Людмилу. Самое главное – Людмилу. Эти ублюдки способны на все. Но я их убью первыми.
…Девушка стояла у разбитой «Нивы», обхватив руками плечи и задумчиво глядя пред собой. Каблуком туфли она чертила странный узор в пыли. Заметив меня, она удивленно осмотрела пустынную дорогу за моей спиной.
– А где тот парень?
– Георгий? – переспросил я, выигрывая время, чтобы придумать ответ. – Я его отпустил.
– Да? – девушка с сомнением посмотрела на меня. – Он, наверное, очень просил.
– Нет, – пожал я плечами и добавил: – Наоборот, хотел остаться, но я его уговорил.
– Понятно, – вздохнула девушка. – Теперь мы остались без машины. А почему он кричал?
– У нас есть машина, – возразил я, кивнув на перевернутую «Волгу», игнорируя вторую часть вопроса. Девушка не настаивала.
Я подошел к автомобилю, уперся в него плечом и, напрягшись, вернул «Волгу» в нормальное положение. Машина, конечно, пострадала, но, учитывая, что выбора не было, нас она устроила.
Я повернул ключ в замке зажигания. Двигатель заскрежетал, но заработал, выплюнув из выхлопной трубы черное облако. С первого же взгляда стало понятно: «Волга» долго не протянет, да и у милиции внешний вид машины мог пробудить вполне понятный интерес.
– Вы знаете эту гостиницу? – спросил я, когда мы катили обратно к городу, показав «Белке» ключ на жетоне. Я перешел на «вы», чтобы подчеркнуть: мое отношение к девушке имеет деловую основу. Она должна помочь мне.
– Да, знаю, – ответила девушка, – это почти в центре города.
Одна рессора просела, и машину временами трясло, но тем не менее девушка чувствовала себя нормально. Через пару километров я почувствовал, что сейчас самое время поговорить.
– Прошу прощения, что втянул тебя в эту историю, – сказал я, опять переходя на «ты», чтобы наши отношения снова стали доверительными.
– Ты лучше расскажи, в чем дело, – обиженным тоном сказала девушка.
– Они похитили мою сестру, – решил я придерживаться одного варианта. – Взамен требуют, чтобы я выполнил одну просьбу. Если я откажусь, они ее убьют.
– Так сделайте это!
– Нет, ее убьют все равно. Единственная возможность спасти ее – выхватить из их поганых лап, пока эти ублюдки не пронюхали, где я и что делаю.
– Тогда, может быть, лучше обратиться в милицию? – Девушка покосилась на меня. – Они, наверное, могли бы помочь.
– Вряд ли, – покачал я головой. – Во-первых, ты знаешь, какова милиция здесь и чем они сейчас заняты. Во-вторых, у меня совершенно нет времени. В-третьих, у меня есть все основания считать, что милиция с ними заодно.
– Ну, если ты так смотришь на вещи… – девушка пожала плечами.
– Да, именно так. И, поверь моему опыту, я редко ошибаюсь.
– Слушай, – девушка не без любопытства повернулась ко мне. – Ты же военный, да? А в каких войсках ты служишь? Судя по тому, какие ты проделывал штуки в универмаге, у тебя, наверное, большой опыт?
– Конечно, – согласился я. – Я специалист по части человеческих отношений.
– Военный психолог?
– Да, в некотором роде… – ответил я.
Людмила также была близка в своем определении моей профессии. Они, женщины, чувствуют очень тонко. Они значительно чувствительнее мужчин. Если их хорошо натренировать, из них получаются отличные военные специалисты. В будущем, думаю, армия будет состоять только из женщин. У них будет свой главнокомандующий, свой генеральный штаб, свои командиры и подчиненные. И в один прекрасный день все они разом, во всем мире, выйдут в декретные отпуска. И тогда на Земле воцарятся мир и спокойствие. А потом женщины не захотят оставлять своих детей сиротами, и не возвратятся на службу. Вот тогда-то и наступит рай. Рай на земле.
Боже, какая чушь!..
Дорога назад в город заняла значительно больше времени, чем на подъем в горы. Может, мешал цепляющийся за дорожное покрытие оторванный бампер, пока я не разозлился и не оторвал его.
Теперь милиция всполошилась и, вероятнее всего, будет разыскивать и черную «Волгу», и бежевую «Ниву». Если их это заинтересует, они выставят посты на въездах в город. Поэтому, приблизившись к городу, я погасил единственную уцелевшую фару и, не будучи уверенным на все сто в девушке, оставил ее ехать потихоньку в автомобиле, а сам пошел впереди, пытаясь разглядеть в темноте пост ГАИ.
Но милицейских постов нигде не было.
– Скажи, как твое имя? – спросил я наконец, когда мы подъехали к гостинице.
– Ирина, – ответила девушка. – А тебя как зовут? Юрген?
– Нет. Мое настоящее имя – Юрий.
Знакомство выглядело довольно мрачным.
Вспомнив слова Георгия, что гостиница превращена в казарму, я был совершенно уверен, что действительно увижу казарму, а не гостиницу. Несмотря на позднее время, думал я, вокруг, как в Смольном в семнадцатом году, будут ходить туда-сюда вооруженные автоматами люди. Кто в форме, но большинство без нее. Грузинское ополчение. Черт! Я ошибся. Эта гостиница была глухим зданием, заселенная неизвестно кем, а половина комнат, судя по всему, пустовала вообще. Однако меня, конечно, просто так сюда не пропустят. Мало того, непременно найдется кто-нибудь, кто меня опознает, поскольку новоиспеченного генерала Сосойю должны знать многие.
Поэтому мы проехали мимо гостиницы, и Ирина остановила автомобиль через метров триста. После чего я торопливо огляделся, еще раз проверяя, не следят ли за нами чьи-либо любопытные глаза. И только потом выбрался из машины. Я не хлопнул дверцей, а осторожно прикрыл ее, словно это был не металл, а китайский фарфор.
Девушка, глядя на мои действия, вообще не стала защелкивать замок со своей стороны, а просто прикрыла дверь, оставив узкую щель.
– Ты думаешь, они держат твою сестру здесь? – шепотом спросила она.
Я лишь отрицательно покачал головой и приложил палец к губам: «Ни звука!»
Ирина кивнула. Ее лицо все больше и больше становилось приятным мне. К тому же, она была рыженькой. Настоящая милая лесная белка.
Я решил попасть в гостиницу с тыльной стороны. Мы начали красться по переулку. За спиной раздался шорох. Я бесшумно и молниеносно повернулся. Это развеселило Ирину.
– Там кошка, – прошептала одними губами. Но было видно, что она улыбалась.
Я ничего не ответил. Почем ей знать, какие опасности могут подстерегать человека, который попробовал крови, человеческой крови. Вглядываясь в темноту, я силился разобрать, откуда исходил новый звук. Направление мне удалось определить быстро, но вот природа звука меня настораживала. Что-то грохнуло за углом, и в свете фонарей заковылял пес. Один из «солдат» бессчетной армии бродячих собак. Ах ты, ночной бродяга!..
Чтобы попасть на задний двор гостиницы, нам пришлось перелезть через несколько заборов. Проделывали мы это очень осторожно, помогая друг другу, хотя, разумеется, в помощи нуждалась только Ирина. Но она всякий раз брала меня под локоть и помогала бесшумно приземляться.
И вот мы на заднем дворе гостиницы. В одном из номеров орал телевизор, изредка оглашая ночную тишину истошными выкриками и безумной пальбой. Проживающие баловались западными видиками.
Теперь необходимо было определить, где располагался двадцать пятый номер. Если верить цифрам и в гостинице ничего не напутано, то этот номер должен находиться на втором этаже. Если нет, то он может оказаться где угодно, но только не на втором.
Я отсчитал пятое окно от боковой стены. В том окне было совершенно темно. Был ли там двадцать пятый номер, я пока не знал. Следовало пробираться внутрь гостиницы.
Черный ход оказался запертым. Да неизвестно, свободна ли лестница за запертой дверью. Я высмотрел открытое окно на втором этаже, на лестничной площадке. Очевидно, там днем сильно накурили, поскольку внизу под окном белели многочисленные окурки. Я оперся ногой на выступ высокого фундамента, пальцами вцепился в козырек над черным ходом, подтянулся на руках, коленом уперся о козырек, вцепился опять пальцами за оцинкованную жесть подоконника и перевалился туловищем через подоконник. Теперь я очутился на лестничной площадке.
– А я? – громко прошептала девушка снизу.
Я взмахнул рукой в знак того, чтобы она соблюдала гробовую тишину, и протянул ей руку. А зачем она была нужна мне?..
Ирина проделала все то, что сделал я, только с большим напряжением. Она поставила ногу на выступ фундамента, подпрыгнула и попыталась ухватиться пальцами за козырек над дверью. С первой попытки ей это не удалось, поскольку она не удержалась за козырек. Вторая попытка оказалась более удачной. Особенно трудно ей было подтянуться на руках на козырьке. Но она успешно помогла себе ногами, которые проскальзывали по полотну двери черного хода. Как только Ирина оперлась локтем о козырек и немного подняла руку, я ухватился за нее и втащил девушку в окно. Весила она немного, килограммов шестьдесят от силы.
Мы пробрались по коридору к двадцать пятому номеру. Я легонечко постучал. Ни звука.
– Никого нет, – решительно сказала девушка. Я пожал плечами. Мне-то не знать, что в темноте можно устроить прекрасную засаду. Вообще, темнота – лучшее прикрытие для убийцы. Но если б я начал это объяснять девушке, то не закончил бы и до следующего утра.
Тогда я постучал энергично и твердо. Затем отошел в сторону, увлекая за собой девушку. Наверное, ей это все казалось игрой в сыщиков. Вероятно, Ирина посмеивалась надо мной, но мне плевать. Она же не видела, как автоматная очередь через дверь перебивает человеку позвоночник.
В номере молчали – ни шороха, ни звука. Я вытащил из кармана ключ, повернул его в замке, чуть приоткрыл дверь и, осторожно просунув в щель руку, щелкнул выключателем. Загудел дроссель, и яркий белый свет люминесцентной лампы залил комнату. Там действительно никого не было.
Мы проскользнули в номер. Я закрыл дверь и замкнул ее на ключ. Теперь следовало произвести тщательный обыск. Вещей нет, кровать не смята. Я подошел к столу и начал выдвигать ящики, проверяя их содержимое. Газеты, полиэтиленовые пакеты, салфетки, презервативы, м-да…
Я с удивлением заметил, что девушка тоже роется в ящиках платяного шкафа.
– Что ты делаешь, Ирина? – удивился я.
– Помогаю тебе, – ответила она.
Ладно. Пусть помогает. В конце концов, не будет путаться под ногами. Я обследовал стол, торопливо осмотрел прикроватные тумбочки, пошарил под матрацем и под подушками. Ничего. Словно здесь никто и никогда не был. Черт!
Я подумал, что Дато здесь никогда больше не покажется. Из предчувствия.
…Стук в дверь раздался внезапно. Настойчивый и уверенный. Стоящий за дверью человек шумно дышал.
Стук повторился. Больше медлить нельзя. Толстяк вполне мог что-нибудь заподозрить, и тогда неизвестно, чем это все может закончиться.
Но Дато нужен мне живым!
Я поманил девушку пальцем, и, когда та подошла, рванул на ней рубашку. Пуговицы со стуком разлетелись по полу.
– Открой, – зашептал я ей на ухо. – Это Дато, приятель того болвана. А ты – подружка его. Поняла?
Она испуганно кивнула.
– Постой! – Я прошел в ванную и, открутив оба крана, швырнул под тугие струи воды полотенце. Выскочив обратно, спрятался за дверью в углу и подал девушке знак: «Давай!»
Девушка оценила хитрость. В комнате звук был такой, словно в ванной, действительно, кто-то принимал душ. Она повернула ключ и потянула дверь к себе, смущенно улыбаясь и придерживая рубашку на груди.
Дато, увидев вместо приятеля какую-то девчонку, удивился. Конечно, ситуация выглядела идиотской, но вполне в духе Георгия. Он запросто мог подцепить и привести в номер какую-нибудь девчонку. Однако на всякий случай Дато не стал входить, а лишь тихо спросил:
– Где Георгий?
– В душе, – Ирина из всех сил хлопала глазами и улыбалась.
Я видел, что она пытается действовать, как заправская шлюха. Да, было очень похоже. Но – только похоже. Скорее всего, это и настораживало Дато.
– Ты кто такая? – поинтересовался Дато, пристально глядя на девушку.
– Бюро добрых услуг, – наивно улыбнулась она и добавила, понизив голос: – заходи. За отдельную плату могу приласкать и тебя.
– Да? – спросил Дато, а сам тем временем прислушивался к звукам льющейся воды. Он был хитер, этот Дато, хитер как старый лис, которого поджидает охотник.
– Угу, – подтвердила девушка. – Твоему приятелю, кстати, понравилось.
Дато все еще слушал. Его мало интересовала трепотня девчонки, да и ее услуги. Ему хотелось убедиться в безопасности.
– Ладно, шалава, – подумав, сказал он. – Теперь сделай вот что: отойди от двери. Стоп! Сначала открой ее пошире, а затем пять шагов к кровати. Быстро!
Девушка дернула плечиком и, потянув на себя дверь, пошла к кровати.
Я замер. Если Дато решит распахнуть створку двери еще шире, он непременно почувствует, что за дверью кто-то есть. Дато, не двигаясь с места, осмотрел комнату и, видимо, остался доволен. Сделав два шага вперед, он, не оборачиваясь, наблюдал за девушкой, потом захлопнул дверь и крикнул:
– Эй, Георгий!
Конечно, ответа не последовало. За широкой спиной таксиста я размахнулся для удара.
Видимо, я, неделями нежась в постели с Людмилой, потерял форму. Что-то произошло. То ли я двигался недостаточно тихо, то ли Дато что-то почувствовал, но только толстяк успел обернуться и выставить вперед плечо, смягчая удар.
Может, я не смог его звездануть как следует потому, что увидел неожиданно знакомое лицо с хищным крючковатым носом и знакомым разлетом бровей.
Мой кулак скользнул по его вздернутой руке, плечу и угодил Дато в подбородок. Тем не менее, получилось не так эффектно, как я рассчитывал.
Толстяка отбросило к кровати, хотя он все-таки удержался на ногах.
Да, это тот самый таксист, который вез меня в гостиницу месяц назад! Его компанию тогда изгнали абхазцы, вот он и отаборился здесь. Конечно же, это не простой водила, а именно то, что в нем чувствуется. Даже драться он, наверняка, мастак. Он ушел от удара, и сразу стало ясно, что Дато – профессионал. Бывший, но профессионал. Возможно, у него есть огнестрельное оружие. Справиться с ним будет не просто, хотя он обрюзг и, думаю, давно не тренировался.
Толстяк сжал кулаки и приготовился к схватке. Я замер. Мне надо только оглушить противника, в то время как тот будет стараться искалечить меня или убить.
– Тебе страшно, мать твою? – вдруг хищно улыбнулся толстяк. – И правильно, сейчас морской пехотинец тебе отрежет яйца.
– Так вот кто ты такой, крутой таксист… – сказал я. – Но я морскую пехоту съедаю на завтрак!
Сейчас мы оба ждали. Каждый пытался заставить противника нанести удар первым, тогда есть шанс поймать врага на прием.
– Да ну? Прямо на завтрак ешь? – осклабился Дато.
– Да, – я подтвердил. – И сейчас, кстати, я очень голоден.
Толстяк вдруг сделал резкий выпад, пытаясь размозжить мне переносицу. Удар был настолько быстрым, размашистым и сильным, что стало понятным, почему Дато пользовался таким уважением. Его просто боялись.
Я уклонился и подумал, что этот человек с хищным лицом знает толк в убийствах. Если бы удар достиг цели, то, пожалуй, вместо носа у меня была б яма.
Поймав руку водителя в захват, я ударил его локтем в солнечное сплетение, а затем что было сил швырнул на толстую перегородку, выложенную из стеклянных блоков, и отделявшую комнату от ванной.
Дато вонзился в нее головой, выбив часть стеклянных плиток. Кожа у него на лбу теперь была порезана, и алая кровь забрызгала пол. И все же, он оставался профессионалом. Ловко развернувшись, мгновенно сконцентрировавшись, Дато ударил меня ногой в грудь, одновременно шаря рукой за пазухой. Я отлетел к стене, и мне уже самому пришлось падать на пол, делая кульбит.
Выстрел прогремел оглушительно в замкнутом пространстве. Пуля ударила выше головы, и со стены брызнули осколки штукатурки. За доли секунды вскочив, я вцепился в запястье, и принялся выворачивать таксисту руку. Один за другим прогрохотали еще два выстрела, один в потолок, другой в пол. Я пытался «вытряхнуть» пистолет из руки Дато. Он старался ткнуть стволом пистолета в мое тело, и хотя бы ранить меня.
Бах! Бах! Выстрелы снова прозвучали один за другим. Пули летели мимо. Одна продырявила мне брюки, другая улетела в окно, оставив в окне почему-то маленькую дырочку.
Хак! – затылок таксиста разбил мне губы и отбросил меня на кровать.
– Ты еще не захлебнулся кровью, ублюдок? – слова проклятья и угрозы вылетели из меня сами.
– Нет, уродина долговязая, это ты сейчас, подавишься и сдохнешь! – заорал Дато, вскидывая пистолет прямо перед моим лицом.
Ирина, поначалу забившись от страха в угол, вдруг напомнила о своем существовании. С диким визгом она швырнула тяжелую стеклянную пепельницу в Дато.
Думаю, это спасло меня от верной пули. Дато на мгновение растерялся, услыхав новый звук, и попытался прикрыться от летящей пепельницы локтем, но тем не менее произвел два новых выстрела подряд.
В моих ушах стояли звон и гул. Лицо обожгло пороховыми газами – ствол оказался близко. Нанес удар ногами из положения сидя на кровати. Удар опрокинул Дато навзничь, на лету он снова пальнул. Что за привычка стрелять все время два раза подряд? Сколько у этого засранца патронов в обойме? Дато ударился затылком о стену и некоторое время ничего не соображал.
И тогда я изо всех сил, капитально размахнувшись, ударил по хищной роже ногой. А потом, словно передо мной была горка из восьми кирпичей, кулаком из-за спины нанес противнику сокрушительный удар. Он сразу поник, осел и глаза его сделались стеклянными. Я выдернул пистолет из вялых рук.
Дато захрипел. Кровь хлынула у него изо рта. Несколько секунд тело конвульсивно подергивалось, а затем обмякло. Голова свесилась набок. Неужели я проломил ему основание черепа?
Это же конец! Я никогда не узнаю, куда они упрятали Людмилу!
– Дато! – я пытался растрясти таксиста, – Дато, где же она?
Сегодняшний день грозит свести меня с ума. Наверное, я допускаю промахи в своей работе, как допускают их люди в любой сфере деятельности. Только ни один из этих промахов не обескуражил меня так, как обескуражил сейчас. Я был просто в шоке, вовсю тряс голову Дато, но она подозрительно легко болталась на позвоночнике.
В дело вмешался случай. Случай-убийца.
Я опустился на кровать и попытался разобраться в хаосе собственных мыслей. Я пребывал в некоторой растерянности. Из этого состояния меня вывела Ирина.
– Надо уходить! Ты убил его, – она это прошептала, но мне эти слова показались громом небесным. – Надо убегать!
Да, действительно, о чем сейчас раздумывать, если надо действовать? Сейчас мне просто не было времени рассуждать. По коридору уже грохотали шаги, в соседние комнаты стучались. Я пошарил по карманам Дато. Вот ключи от джипа… Я проверил обойму отобранного у таксиста пистолета – все, ни патрончика! Зря, выходит, я его прикончил.
Я отшвырнул пистолет в сторону и принялся за шпингалеты на створках окна. Они присохли к краске и не хотели двигаться. Бить окно я не решался. Нас сразу же обнаружили бы бегающие по коридору люди. Наконец, я повернул шпингалеты, распахнул окно, мы выскочили наружу и незаметно ушли с заднего двора. Покуда поднимется шумиха и установят личность убитого, необходимо найти машину Дато. Может, в ней подсказка, где находится моя «сестренка»?
Ирина была словно парализована увиденной схваткой. Она поминутно останавливалась и шумно дышала. Но это проходит. У людей решительных – очень быстро. Кажется, Ирина была именно такой породы. Кстати, уже не всякая может после такого сесть за руль автомобиля.
– Теперь надо найти джип Дато. Это «Ниссан». Полагаю, стоит недалеко от гостиницы. Думаю, целесообразнее на поиски отправиться тебе. Мужчина сразу привлечет внимание. Я тебя подстрахую.
– Но я не умею управлять джипом!
– Все, как у наших машин. В крайнем случае – поэкспериментируй…
Она согласилась. Мы вышли к улице, на которой располагалась гостиница, и осторожно осмотрели имеющийся автотранспорт. Возле дверей гостиницы стояли несколько человек. Вот они отправились в гостиницу. Я легонько подтолкнул Ирину. Она пошла к гостинице. Очень неуверенно. Боязливо. Джип она приметила на противоположной стороне и сразу начала перебегать улицу. Спокойнее, спокойнее!
Девушка чуть дольше положенного повозилась с замком дверцы, затем очутилась в салоне джипа. А что, если Дато установил секрет на зажигании? Хотя вряд ли…
Хлопнула дверь гостиницы. На улице появился молодой человек. Он закурил сигарету, затянулся и уставился прямо на джип, в котором сидела девушка. Ирина словно окаменела. Можно было подумать, что это не человек, а манекен.
– Ну же, ну же, – шептал я, – действуй, делай свое дело! Это случайный посетитель, это просто клиент гостиницы. А если и не так, то тем более нельзя терять времени, надо действовать!
Но девушка не могла слышать меня.
Человек стоял, курил и смотрел на Ирину. Ирина выпрямилась и откинулась на спинку. Молодой человек стрельнул окурком на дорогу, и, повернувшись, быстро зашагал прочь.
Тогда только джип заурчал, рывком тронулся с места и выехал на середину дороги. Я пошел навстречу Ирине.
– Нас поймают и будут судить, – сказала она мрачно, когда я забрался внутрь. – Теперь уже за угон машины.
– Не поймают, это во-первых. А во-вторых, мы машиной попользуемся и бросим ее.
– Но угоном считается даже если проехать всего несколько метров… – невесело сказала Ирина.
– Не всегда, – покачал я головой. – Если мы докажем, что жизни человека угрожала смертельная опасность, нас поймут. Кроме того, ты думаешь, за какие деньги куплен этот джип? Его стоимость по меньшей мере, тысяч десять-пятнадцать долларов. А может, и все пятьдесят. Джип такого типа сам по себе – уже преступление. Нельзя доказать это преступление, но можешь не сомневаться, что все эти люди – преступники. Так вот, они не смогут найти нас в ближайшие сутки, а большего нам и не надо. Но даже если что-то случится, ты – заложница, вот и все. Они ничего не смогут доказать. – Мои руки в это время автоматически обшаривали бардачок.
– Как бы мне хотелось в это верить! – вздохнула Ирина.
Из «бардачка» я вытащил увесистую папку с надписью «Автобаза № 3».
– Едем туда. На автобазу номер три! – приказал я, словно был уверен, что Ирина знает ее местонахождение.
– Но где она?
– Будем искать…
В это время за поворотом завыла милицейская сирена, и автомобиль с синими полосами выскочил на проезжую часть, преграждая нам дорогу. Ирина автоматически нажала на тормоза.
– Спокойно, – сказал я. – Они ничего не знают. Из машины тотчас вышел милиционер и подошел к джипу.
– Выходи, – сказал гаишник.
– Вас интересуют мои документы? – спросил я, соображая, как перебраться за руль, развернуть джип и уйти от милиции.
– Я тебе ясно сказал: выходи! – зло крикнул сержант.
Я вышел из машины. Так мне проще будет оказаться за рулем. В руках у милиционера появился пистолет. Он крикнул товарищам, которые вразвалочку подходили к нам.
– Вроде бы тот! Рукав рваный… – сказал сержант и направил пистолет мне в лицо. Я бы выбил оружие из рук, нокаутировал бы этого парня, но я видел, что гаишники тоже достали пистолеты и также направили на меня.
– Лечь! – скомандовал сержант. Я понимал, что из троих вооруженных людей кто-нибудь да не промажет. Я повиновался.
– Руки за голову! – послышалась новая команда. Я вновь повиновался. Мне вывернули кисти, и я почувствовал, как на запястьях защелкнулись браслеты наручников. Ничего иного не оставалось; только мрачно уставиться лбом в асфальт и расслабиться. Неужели все потеряно?
– А кто тут? А-а, баба, – послышались голоса.
Я почувствовал, как милицейский ботинок уперся мне в спину. Я повернулся, пытаясь рассмотреть лицо служителя порядка.
– Что, б…, допрыгался? – сказал мент. Нога его прочно прижимала мою грудь к земле.
Двое остальных спрятали пистолеты в кобуры и направились к своей машине.
– Вызовем патруль… – услыхал я, и тут неожиданно увидел перед лицом блестящие дамские туфли и расслышал угрожающий шепот Ирины:
– Медленно положи пистолет на асфальт, иначе мозги вышибу…
Милиционер положил рядом с моей головой пистолет и трясущимися руками начал отмыкать наручники.
Я поднял голову. Ирина стояла рядом, приставив пистолет к затылку милиционера:
– Не шевелиться! Молчать…
Мне достаточно было секунды, чтобы скользнуть в кабину и включить скорость. Да и Ирина не подкачала…
Два гулких выстрела нам вдогонку раздались в ночной тишине. Одна пуля угодила в стойку салона джипа. Я слышал только крики и визг проскальзывающих шин. За нами – погоня? Нет, она нам не нужна. Я сбавил скорость, затормозил и, выскочив из кабины, сделал два прицельных выстрела из милицейского пистолета по колесам надвигающейся автомашины. Третьим выстрелом я сбил «мигалку».
Теперь надо лишь оторваться, отъехать подальше. Мне необходимо заняться поисками загадочной автобазы!
– Ты отчаянная, – сказал я Ирине, – Пистолет-то у тебя чей, Дато? Ты блефовала, подруга, патронов же нет, да?
– Да! Но я и не собиралась стрелять… Я подумала… Машину мою разбили, а это оружие долларов двести стоит…
– Девочка, тебе этим лучше не заниматься… Найду я тебе двести долларов… Нет, ты получишь точно такую «Ниву». Можешь не сомневаться. Дайка сюда ствол, – я взял из рук Ирины пистолет, разобрал его и вышвырнул по частям через окно джипа.
Одну автобазу мы нашли быстро. Но эта автобаза была под номером два. Автобаза под номером один находилась, как нам объяснил сторож автобазы номер два, далеко за городом, а вот третья располагалась неподалеку, возле самого моря.
– Дорогой, туда без дела лучше не едь, там очень серьезные люди… – предупредил на прощание словоохотливый сторож.
…И вот мы у цели. Вывеска над воротами гласила: «Автобаза № 3». То, что нужно. Если Дато имеет какое-то отношение к этому «заведению», то непременно найдется еще кто-то, кто будет знать генерала Сосойю. Джип мы оставили за несколько сот метров от ворот и неслышно, стараясь скрываться под густой листвой деревьев, прячась за столбы, пробрались к автобазе.
Темные ангары, несколько выстроившихся в ряд рефрижераторов для перевозки фруктов. Асфальтовое покрытие и великое множество металлолома, скорее всего, служащее камуфляжем.
Меня не так интересовало размещение пристроек, как возможное местонахождение дома, здания, виллы, в котором мог быть подвал.
Высокий сетчатый забор, прожектора по углам периметра ограждения, огромный навесной замок.
Обычная в таких ситуациях будка сторожа отсутствовала. На автобазе царило странное запустение. Казалось, что можно беспрепятственно ходить по всей территории и не встретить ни одного человека. Но я заметил в темном закутке между двух ангаров яркий рубиновый отсвет – огонек тлеющей сигареты. Там явно кто-то был, и этот кто-то не хотел, чтобы его заметили.
– Да, это то, что мы искали, – прошептала у меня за спиной Ирина. – Ремонтная автобаза. Ты думаешь, здесь у них подземелье, да?
Я пожал плечами и шепнул в ответ:
– Стой здесь и жди моего сигнала.
– Хорошо.
Еще одна тень шевельнулась в полумраке ниши. Я быстро пошел вдоль ограждения, пригибаясь и то и дело поглядывая в сторону ангаров. Выбрав наименее просматриваемый участок, я быстро вскарабкался по сетке и перемахнул через забор. Приземлившись на пятки, я вдруг почувствовал под подошвами рыхлую землю. С каждой минутой мне открывалось что-то новое. Присев и ощупав почву, я озадаченно хмыкнул. Странная база, охраняемая невидимыми наблюдателями, со следовой полосой и прожекторами. Становилось все интересней и интересней.
Я быстро отбежал в тень, падавшую от ангара, и прижался к стене спиной, ощутив легкую вибрацию.
Черт побери! Я вернулся, коснувшись ладонью обшивки. Так и есть. Там, внутри производились какие-то работы. Причем наружу не проходило ни звука. Наверное, хозяевам очень нужно, чтобы никто не знал об их секретах.
Так. Что же здесь ремонтируют? Су-25? Я начал красться вдоль стены. Обойдя ангар с тыла, я увидел охранника. Тот стоял, положив руки на автомат Калашникова, и что-то тихо бормотал себе под нос. Широкоплечий, коренастый молодчик. К счастью, охранник, прячась в тени и стараясь оставаться невидимым с дороги, упустил из виду, что у него совершенно не защищена спина. Чем я и воспользовался. Преодолев расстояние, отделяющее меня от охранника, менее чем за две секунды, я рубанул охранника локтем по крепкой шее. Тот охнул и мешком упал на асфальт. Автомат звонко клацнул.
– Эй, – прозвучал резкий голос из темноты. – Что случилось?
Я подхватил бесчувственное тело за ноги и потащил к задней стене строения. При этом старался производить по возможности больше шума. Автомат повесил себе на шею.
Видимо, до второго охранника дошло, что с его товарищем что-то случилось.
Он вышел из укрытия и потрусил в том направлении, откуда доносились странные звуки.
Бросив тело, я перехватил автомат за ствол и спрятался за угол, ожидая.
Солдат подбежал ближе и остановился, увидев распластанное на асфальте тело.
– Байстрюки! – прорычал он, беря свой АКМ наизготовку и внимательно озираясь.
Переступив через поверженного товарища, охранник медленно двинулся вперед. Он настороженно вертел головой и поэтому пропустил момент, когда вылетевший из-за угла приклад сделал его физиономию ровной, как хорошо спиленный пень. Сдавленный горловой звук вырвался из глотки охранника, когда тот упал, застыв рядом со своим товарищем.
Я отбросил автомат и поспешил к ограждению. У меня было искушение взять оружие, но, подумав, я решил, что это был бы опрометчивый поступок. Надо действовать тихо и незаметно.
– Ирина! – я окликнул девушку, приблизившись к забору.
– Я тут!
Девушка вынырнула из темноты.
– Лезь сюда.
Ирина оценивающе осмотрела забор – метра три с половиной, не меньше – и скептически пожала плечами.
– У меня крыльев нет.
– Ладно, стой здесь…
В два прыжка достигнув ворот, я взял одну из створок за угол возле замка и с легким скрежетом отогнул его.
– Пролезешь?
– Юрий, ну ты сильный, словно дядя у тебя супермен! Я боюсь тебя.
Плечо мое дернулось, и она поняла, что я не способен сейчас к шуткам.
Мы обошли ангар и остановились у громоотвода, поднимающегося вдоль стены до самой крыши и торчащего еще на добрый метр, подобно флагштоку.
Я попробовал его на прочность. Повернувшись к Ирине, коротко сказал ей:
– Отойди в тень и жди меня. Если увидишь кого-нибудь, ложись на землю.
– Ага, я ведь в платье…
– Я потом тебе его постираю…
Она захихикала. Ею овладел приступ нездорового веселья. Это была нервная реакция. Девушка просто тряслась от страха. Мне пришлось помолчать.
Я уцепился за штырь и быстро полез вверх. Ирине ничего не оставалось, кроме как последовать моему совету убраться в тень и оттуда наблюдать за мной.
Я добрался до крыши. Сжимая громоотвод одной рукой, начал осматривать стену ангара, стараясь отыскать в покрытии щель, трещину, неровность, за которую можно было бы ухватиться. На это ушло несколько минут, но все-таки я достиг своего. Два стальных листа немного разошлись, и в образовавшийся между ними зазор я вставил пальцы, отогнул края одного из них, расширив щель, ухватился поудобнее и сильно потянул на себя. Лист отделился от стены. Оставалось самое сложное – проникнуть внутрь.
Нет, я не питал иллюзий относительно Людмилы. Ее здесь не было. И быть не могло. Подобной глупости не совершил бы даже генерал Сосойя. Но раз сюда собирался приехать Дато, значит, тут должно быть то, что может навести меня на след.
Я ухватился за гофрированую обшивку крыши, подтянулся и заглянул внутрь. У меня едва не вырвался возглас удивления. Конечно, внутри не оказалось ни ремонтируемых автобусов, ни автомобилей. На всей площадке ангара стояли… танки и пушки. Новенькие, выкрашенные свежей краской и уже побывавшие в боях, с откинутыми люками, снятыми гусеницами…
Люди в синих комбинезонах суетились вокруг них. Каждый занимался своим делом и не обращал внимания на остальных. В цехе стоял невообразимый шум. Гулко стучали молотки, трещали сварочные аппараты, разбрызгивая фонтаны голубовато-желтых искр, урчали станки. Здесь спешно готовили технику к войне. «Да, к войне, – подумал я. – Вот это и есть боевая поддержка генерала Сосойи».
Я осторожно протиснулся в щель. Внутри оказалось очень жарко. Остро пахло раскаленным металлом, соляркой и керосином.
Я смотрел вниз. Прямо под стеной лежали свернутые брезентовые чехлы.
То, что нужно.
Обычный спуск занял бы слишком много времени, да, к тому же, меня заметили бы и подняли тревогу.
Я протиснулся в щель, слыша, как трещит и без того рваная тенниска. Чтобы принять удобное для прыжка положение, мне пришлось скрючиться до состояния зародыша. Ухватившись за острые края листа, я повис на руках. Внутри обшивка была укреплена звукопоглощающим материалом, что-то вроде стекловаты. Лист начал медленно прогибаться под тяжестью моего тела. И мне ничего не оставалось, кроме как самому разжать пальцы. Все-таки лучше прыгать, чем падать. Я решил, что если меня заметят, то успею вскочить на ноги раньше, чем охрана подбежит ко мне. Познакомившись с наружной охраной, я не сомневался, что здесь не более подготовленный противник. Если среди солдат и есть профессионалы, то их слишком мало. А значит, у меня неплохие шансы на победу.
Я упал в пирамиду чехлов и тут же откатился в сторону, на случай, если кому-нибудь захочется выстрелить. Все тихо. Люди продолжали работать. Я осторожно выглянул из-за груды брезента. В семи метрах от меня стоял танк. Правая гусеница отсутствовала, а невысокий тщедушный человечек замазывал номер на башне зеленой краской.
Я еще раз скользнул взглядом по залу. В противоположном конце виднелась грязно-белая дверь с красной надписью: «Не входить!». Я наметил себе маршрут: танк, за ним пушка, еще один танк, дверь.
Я пригнулся и побежал через зал. Достигнув первого пункта цепочки – танка, я упал и закатился под его брюхо. В ту же секунду рядом возникли две ноги в высоких военных ботинках. Человек, видимо, обращался к красильщику. Говорил что-то на грузинском языке.
Скорее всего, эта техника куплена в какой-нибудь части Советской Армии. Может, прибыла из Восточной Германии.
Человек в ботинках несколько минут зло выговаривал рабочему, а затем быстро ушел в сторону.
Я подполз к колесам и оценил обстановку, глядя в щель между полом и тяжелым днищем танка.
Люди работали. Никто не разговаривал друг с Другом. Не смотрел по сторонам. Рабочая скотина. К ним так и относятся. Вряд ли это грузинские патриоты. Да и среди рабочих много русских.
Последние метры перед запретной дверью я преодолел в открытую, но меня это уже мало интересовало. Я рванул дверь, вошел внутрь и очутился в узеньком коридорчике, заканчивающемся еще тремя дверями. Я, мягко ступая, подошел к одной из них, справа, осторожно повернул ручку и приоткрыл на сантиметр.
Сортир. Большая удача.
И тут рядом послышались возбужденные голоса. Разговаривали мужчины. Громко, перебивая друг друга.
Я, не раздумывая, вошел в туалет и закрыл за собой дверь.
Почти сразу скрипнула еще одна дверь, и в коридоре зазвучали шаги.
На мгновение послышался шум, доносившийся из цеха, потом снова воцарилась тишина. Я вышел и наугад приоткрыл среднюю дверь. Приземистый мужчина, затянутый в походный камуфляж, делал пометки на карте, прикрепленной к стене. Услышав звук открывающейся двери, солдат обернулся и тут же получил мощный удар в переносицу. Его отбросило к стене. Кровь брызнула на пятнистую куртку, брюки, линолеум, устилавший пол. Раскинув руки, словно пытаясь зацепиться за что-нибудь, мужчина сполз к моим ногам. Подхватив тело на плечо, я открыл стенной шкаф, в котором стояли свернутые в трубку карты, лежали папки и схемы, и свалил бесчувственного солдата туда, прикрыв бумагами.
Покончив с «грязной» работой, я подошел к окну, прикрытому щитами, открыл и негромко позвал:
– Ирина!
Теперь девушка без труда нашла меня, благодаря льющемуся из окна свету. Я втянул ее в проем и аккуратно закрыл створки.
– Я все осмотрел, – сказал я. – Здесь ремонтируют танки, и сестры моей здесь нет.
– Да? – Ирина подошла к столу и принялась изучать папки. – А что это за автобаза такая, на которой ремонтируют танки?
– Грузины готовятся к войне… – ответил я. – Эти танки и артиллерия дадут им преимущество перед абхазцами…
– А я то думаю, почему здесь самолеты летают? Прилетел – и бухнулся на воду, как утка.
– Где?
– А вот здесь, ближе к морю…
– Немедленно туда! Нам надо перехватить пилота.
Мы вылезли через окно и, подхватив автомат охранника, бросились к тому месту, где приводнился гидроплан. Слишком часто мне этот гидроплан попадался на глаза, чтобы не послужить ключом к поиску дома генерала Горделадзе.
Залив оказался маленьким и неудобным. Ирина очень точно вывела меня к гидроплану. По моим расчетам выходило, что прежде чем подняться в воздух, гидроплан должен был выйти достаточно далеко в открытое море. Иначе он разнесет половину яхт, причаленных в бухте.
Я порадовался, что сегодня не совсем хорошая погода, ветер, немного моросит. Пасмурная погода, да еще ночью – отличное прикрытие для ведения боевых действий. Но если ветер усилится, нам вряд ли удастся взлететь.
Шагая по волнорезу, я высматривал только одну цель – охранников. Вскоре я их увидел. Это было чертовски трудно, но мои глаза оказались достаточно натренированными, чтобы в этой кромешной тьме разглядеть, а может, я был способен просто почувствовать охранников. Их было больше четырех человек. Один бродил по пирсу возле самого гидроплана, а остальные сгрудились на берегу. Ясно, что они охраняли гидроплан. Пришлось скрыться и изменить план. Неожиданно я увидел отсвет в кабине и понял, что и там кто-то есть. Это еще лучше.
Вместе с Ириной мы вышли далеко от гидроплана к морю, и я попытался вытащить вбитый в песок металлический штырь, чтобы завладеть привязанным цепью к штырю катером. Мышцы мои напряглись, мне казалось, что сухожилия вот-вот лопнут. Ирина также вцепилась в штырь. Безрезультатно.
– А если расшатать? – предложила девушка.
– Отличная идея, – похвалил я Ирину. Мы как могли глубже подкопали штырь и начали расшатывать его в разные стороны. Через десять минут дело было сделано. Водрузив штырь на палубу, мы отчалили, чтобы зайти к гидроплану со стороны моря. Веслами нам служили автоматы. Мы заплыли далеко в море. Сейчас необходимо повернуть, чтобы выйти к намеченной цели.
…Катер приближался к покачивающемуся в бухте гидроплану. Вот уже белоснежный корпус рядом. Кабина пилота открыта, и он курит, высунув руку с сигаретой в проем окна. Но едва я дотронусь до металлического корпуса гидроплана, как летчик почует опасность и поднимет шум, а то и начнет отстреливаться. Снова на ходу пришлось создавать новый план.
Охранник не успел понять, чего прямо перед ним появился человек. Он даже открыл рот, чтобы задать вопрос, но я коротким ударом оглушил его, взвалил на спину и притащил к Ирине.
– По-моему, ты не очень любишь людей, – заметила Ирина.
– Люблю, – возразил я, – еще как люблю. Только когда они без оружия и не причиняют мне зла. Идем быстрее.
Накинув на себя камуфляжную куртку охранника и его кепи, я в открытую пошел к гидроплану.
– Ты куда лезешь? – услышал я недовольный и сонный голос пилота, когда начал по крылу пробираться к двери. В ответ я пробормотал что-то невнятное.
– Кто там? – раздался все тот же, но более настойчивый и встревоженный голос.
– Передают, с берега… – как можно более спокойно ответил я.
– Что передают, кто это? Это ты?
Пилот, неискушенный в таких переделках, или черт его знает почему, распахнул дверь и начал в темноте всматриваться в мое лицо. Он был совершенно пьян!
Мне не стоило труда отрезвить летчика. Ударив его кулаком в лоб так, что он опрокинулся внутрь корпуса, я вскочил следом и зажал его руку болевым приемом. Дуло автомата уперлось ему в шею.
– Пикнешь – размозжу башку!
Потом я позвал Ирину. И вот я посадил пилота в его кресло и приказал лететь к вилле генерала Сосойи Горделадзе.
– Не знаю такого! – ответил летчик. Голова его болталась, как на веревке. На приборной доске стояла опустошенная бутылка из-под коньяку. Пилот не мог понять, что случилось, почему сюда ворвались неизвестные люди и чего-то от него требуют. Он все время пытался протестовать, явно не адекватно оценивая ситуацию. И зря.
Короткий удар в челюсть.
– Стой, не дерись! Я счас те как дам! – Летчик пытался организовать отпор, но короткие удары по почкам приводили его в чувство.
– Кто ты такой, чего ты дерешься? – Все еще не соображал летчик.
Внезапно на берегу вспыхнул прожектор. Слепящее пятно нащупало гидроплан и замерло. Охрана услыхала возню, очевидно, окликнула своего товарища возле гидроплана и, не услышав ответ, решила посветить.
– Взлетаем, черт побери! – прямо в ухо закричал я летчику. И для большей убедительности подставил ему под нос ствол автомата.
Скорее всего обыкновенная исполнительность, доведенная до автоматизма, помогла в этой ситуации. Летчик бормотал что-то свое, щелкал тумблерами и неожиданно двигатель затарахтел, словно в ночной тишине раздались раскаты грома.
– А ты отвязался? – спросил пилот. Он уже немного очухался.
Черт побери!
Но как только я выскользнул из гидроплана и начал отматывать трос с поплавка, яркое световое пятно заскользило по гидроплану и остановилось на мне. И тут же ударила автоматная очередь. Пули защелкали по корпусу поплавков. Я словно дожидался этих выстрелов – и одиночным выстрелом навсегда погасил прожектор.
И вот я снова в кабине. Пошире открыв окошечко, приготовился дать отпор охранникам.
– Не стреляй! – прокричал пилот, которого держала на мушке Ирина.
– Почему?
– Они все равно не будут стрелять!
– Почему?
Пилот не стал отвечать, а махнул рукой за спину. В гидроплане стояли выкрашенные в зеленую краску ящики, слишком хорошо знакомые мне по армейской службе. Я вскрыл один. Мать моя женщина! Там был тротил.
Гидроплан здорово потряхивало. В открытом море поднялась изрядная волна. Мотор взревел, гидроплан начал разбег. Казалось, что мы никогда не оторвемся от поверхности моря. Она словно магнитом притягивала нас. Гидроплан ревел, его бросало из стороны в сторону, но идти вверх он не хотел.
Тогда я открыл дверь и начал швырять ящики с тротилом в море. Может, именно это и помогло, и гидроплан, наконец, отделился от воды, поплавки начали шлепать по верхушкам волн, гидроплан полетел низко над водой. Мне пришлось кричать на ухо пилоту:
– Сколько лететь до виллы генерала Сосойи?
– Генерала Coco? – летчик скосил на меня глаза. Он уже почти отрезвел.
– Да, генерала Сосойи Горделадзе…
– Мы туда не долетим, – заявил летчик настолько уверенно, что я подумал о ловушке.
– Почему? – в моем вопросе слышалась скрытая угроза.
– Топлива не хватит. Груз большой, – но в голосе пилота чувствовалась неуверенность. Конечно, он боялся, что ему придется отвечать за сохранность груза. Если, конечно, он останется жив. Если мы все останемся живы.
– Сколько километров мы не долетим? – пытался я уточнить ситуацию.
– Может, и долетим, – летчик пожал плечами.
– Если мы избавимся от груза, то долетим?
– Нет, мы и так долетим, – занервничал пилот, поглядывая на меня.
Тогда я сорвал брезент со следующей партии груза. Чего только там не было! И ящики с гранатами, и «цинки» с патронами, автоматы и пулеметы, противопехотные мины, бронежилеты, каски, полевые бинокли, гранатометы, заряды для гранатометов, мины с дистанционными взрывателями, несколько надувных лодок, гидрокостюмы, акваланги, приборы ночного видения, и даже стереоскопическая труба. И все – советского производства! Этого летчика можно вести прямо в военную прокуратуру.
В море полетело все. Себе я, конечно, кое-что оставил.
– Вай ме! – крикнул летчик, едва первый ящик исчез в темноте. – Это же тысячи!.. Вай ме! – не умолкал пилот, когда ящики один за другим последовали за борт. – Это же миллионы!
Облегченный самолет начал легко подниматься. Я посмотрел на девушку. Глаза Ирины блестели, в них отражались огоньки приборов. Она была возбуждена. Ей хотелось говорить. Никогда прежде она не попадала в такие переделки. Я решил спросить: – Ирина, что ты подумала, когда я схватил тебя в аэропорту?
– Подумала, что ты заодно с тем, с Георгием. Что вы меня так хитро разыгрываете. А честно признаться, страшно испугалась и думала, лишь бы ты не бил меня, вообще не трогал…
– Кажется, теперь ты больше доверяешь мне?
– Я чувствую себя преступницей, которая решила идти до конца, чтобы узнать, какой будет конец у этого преступления, – довольно загадочно ответила девушка.
«Ты авантюристка, – подумал я, – Как и я, впрочем…» Самолет пошел на снижение. Я смотрел вперед. Далеко перед нами мутными пятнами светились огни какого-то города.
– Я не уверен, но, кажется, это здесь. Ничего не видно… – прокричал пилот.
– Если это не здесь, я улучшу тебе зрение, – приободрил я пилота.
Пилот положил машину в крутой вираж и ушел далеко в море. Огни города исчезли. Впереди был глубокий мрак.
– Что случилось? Куда ты ведешь машину? – встревожился я.
– Иначе не сядем… Надо уйти в море и начать подход издалека, – пояснил пилот. Это был очень опытный пилот. Похоже, если ему дать выпить ящик коньяку и завязать глаза, он мог бы посадить гидроплан даже на Эльбрус.
Через пару минут летчик снова сделал вираж, выровнял гидроплан и начал приводняться. Делал он это очень долго. Мы летели в кромешной тьме. По приборам нельзя было точно определить, сколько метров до поверхности моря. Летчик едва заметным движением штурвала опускал самолет вниз. Это продолжалось, казалось, вечность. Одно неверное движение – и гидроплан зароется поплавками в воду, перевернется, и мы разобьемся.
Наконец, поплавки коснулись волн. Пилот погасил скорость, заглушил мотор, ухмыльнулся и уткнулся от усталости лицом в руки.
– Где та вилла? – спросил я у пилота, не сомневаясь, что он может говорить.
– Кажется, прямо по курсу. Никогда не думал, что попаду, – ответил летчик. Наверное, его самого радовало, что он смог в сплошной мгле посадить гидроплан. Теперь ему не хватало только спиртного.
– Ирина, ты остаешься в кабине, – сказал я девушке. – Будешь держать его под прицелом. Только смотри, не нажми случайно на курок.
Пилота я связал. На всякий случай. Если б у меня была бутылка спиртного, я бы не делал этого. Но у меня ее не было.
Я торопливо принялся отбирать необходимую амуницию. Накачав надувную лодку, я привязал ее тросом к стойке поплавка и начал грузить в нее оружие. Ракетницы, мины, взрыватели, тротиловые шашки, гранаты, прибор ночного видения, гранатомет, бронежилет. Мне приходилось брать оружия побольше. Я был один против всех, и потому против этих всех должно быть достаточно оружия.
Вскоре лодка оказалась нагруженной так, что борта едва не до половины ушли под воду. Я не стал грузить больше. Неизвестно, понадобится ли мне все, а лодка могла набрать воды, перевернуться, оружие пошло бы ко дну, а без него воевать слишком тяжело. Тяжело и долго. Времени же почти не осталось. Я стянул с себя тенниску, брюки и туфли, оставшись в одних плавках. Еще раз глянув на сложенные на дне вещи и оружие, пришел к выводу, что все самое необходимое взято. Тогда я быстро перебрался в лодку. Борта еще глубже ушли под воду.
Ирина молча наблюдала за мной, стоя в кабине и держа летчика под прицелом, хотя тот и был связан.
– Ты все запомнила? – спросил я у девушки.
– Да, – кивнула она. – Ждать и не шевелиться.
– Хорошо. Только молчи, пока я не начну, – предупредил я напоследок.
– А как я узнаю?
– Услышишь. Тут такое начнется… Ирина вздохнула.
– Ну, будь осторожен и… удачи тебе.
– Спасибо, – я улыбнулся и взялся за весла. Лодка скользнула по воде легко и быстро. Ирина смотрела из открытого окна.
Я достиг берега, подхватил амуницию и скрылся среди прибрежного кустарника. Затем я вернулся, выпустил из лодки воздух, свернул ее и вновь растворился среди песка.
Я надел бронежилет и начал крепить оружие. Часть убрал в многочисленные карманы, гранаты прицепил к специальным кольцам, пистолет спрятал в кобуру на поясе и начал разрисовывать лицо маскировочной краской. Я нанес вертикальные полосы на лбу, щеках, руки покрыл просто пятнами. Огрызок маскировочного карандаша зарыл в песок.
Забросил автомат за спину, подхватил гранатомет под мышку и зашагал к вырисовывающейся из завесы моросящего дождя крыше особняка. Интересно, сколько в нем этажей?
Если Сосойя Горделадзе действительно генерал, то у него должна быть солидная охрана. Крепкая стена вокруг особняка делала его неприступным только с виду.
Мне пришлось попотеть, прежде чем я взобрался на стену и осторожно начал наблюдение через колючую проволоку и витки охранной сигнализации. В прибор ночного видения за стеной я увидел трехэтажный особняк, одноэтажный домик в глубине и большой гараж. Весь двор был заставлен иномарками. Казалось, здесь проходит очень важное совещание. Между особняком и одноэтажным домиком раскинулся розарий. Сейчас как раз зацвели розы, и площадка купалась в цветах. Повсюду стояли на подставках алебастровые статуи античных богов. Скульптур было слишком много для этого двора. Трое часовых, вооруженных «калашниковыми», размеренным шагом прохаживались вдоль розария, не обращая внимания на греческих богов и изредка лениво переговариваясь.
Внутренность двора выглядела идиллически спокойной. Видимо, Сосойя Горделадзе был настолько уверен в своих силах, что не счел нужным выставить побольше постов.
Мне стало смешно. Даже если не считать несоблюдения необходимых предосторожностей, люди Сосойи Горделадзе отличались особой беспечностью.
Спрыгнув со стены, я обошел крепость и со стороны, где было одноэтажное строение, вновь вскарабкался на ограждение. Теперь мне предстояло преодолеть колючую проволоку и охранную сигнализацию. Я аккуратно, действуя с ювелирной точностью, переступил через нее. Эта преграда была рассчитана на несведущего и неопытного. Мягко приземлившись, я оказался в нужной точке. Одним броском достиг стены строения и замер. Все было тихо. Лишь где-то неподалеку переговаривались солдаты.
Быстро и без лишней суеты прикрепил к стене две тротиловые шашки с радиодетонатором. Покончив с этой работой, пошел вдоль домика, оглядывая площадку перед ней. Тут стояли несколько военных грузовиков, скрытых под навесом, которых я раньше не заметил из-за деревьев и кустов.
Хлопнула дверь домика, и я застыл на месте. Кто-то вышел. Шелест песка под подошвами и сосредоточенное дыхание. Я вытащил кинжал, прижался к стене. Человек в форме, похоже, омоновца появился из-за угла. Он даже не заметил притаившейся фигуры, настолько был уверен в собственной безопасности. Я бросился на него, обвил одной рукой шею и ударил кинжалом под ребро. Омоновец дернулся и свалился на землю.
Затем я забежал за автомашины. На площадке послышалось гудение двигателя, и мимо проползла «Тойота» с двумя пассажирами, что-то оживленно обсуждавших.
Я подождал, пока они скроются из виду, и пристроил еще одну мину у стены казармы. Затем заминировал автомашины, прикладывая взрыватели к бензобакам.
– Эй, кто тут? – послышался голос, и в ту же секунду появился часовой. Сжимая в пальцах дымящуюся сигарету, он медленно шагал через площадку, осматриваясь, то и дело поправляя висящий за спиной автомат.
Я рванул его за ноги, и когда он грохнулся о землю, из его горла уже торчала рукоятка кинжала.
Я вытер кинжал о пятнистый рукав своей жертвы и вышел к особняку.
Мне не следовало этого делать. Я со стены не заметил всех охранников, а их было больше, чем я предполагал. Позади меня послышалось щелканье затворов.
Я напрягся. Те люди, что за спиной, наверняка, откроют огонь сразу же, как только я сделаю хоть одно неосторожное движение. Я медленно повернул голову.
Вот они. Двое охранников, держа наизготовку оружие, застыли в трех метрах от меня, ловя каждый жест, каждый вдох, каждое мое движение.
Медленно, стараясь не делать резких движений, я встал. Руки мои нащупали лезвия метательных ножей, закрепленных на поясе.
Солдаты переглянулись. И тут я мгновенно и резко выбросил вперед обе руки. Ножи просвистели в воздухе и жертвы свалились на песок, не успев даже вскрикнуть.
Я установил мину и побежал к стене. Теперь уже не было смысла особенно прятаться. На пути у меня неожиданно вырос еще один из охранников. Видимо, он так растерялся, увидев чужака, что не успел даже поднять автомат. Лезвие штык-ножа пробило ему горло, но он не успел умереть сразу, а дико заорал, захлебываясь собственной кровью.
На шум из дверей одноэтажного домика начали выскакивать боевики. Я с разворота выпустил в них длинную очередь от бедра, а затем побежал, отшвырнув автомат в сторону. Выхватив на бегу пульт радиосигнала, я откинул предохранительный клапан и нажал кнопку.
Мощный взрыв сотряс утреннее небо. Столбы огня и дыма возникли на том самом месте, где еще секунду назад стоял одноэтажный домик. В воздух полетели куски шифера, обломки балок, искореженные куски металла и обожженные куски человеческих тел. Все, кто успел выбежать из домика, сбитые ударной волной, падали на песок, пламя перекинулось на машины под навесом. Краска на кабинах пузырилась и лопалась. Резина горела, выплевывая черные сгустки сажи. Взрывались бензобаки, разбрасывая по сторонам струи горящего бензина.
Я спрятался возле стены в кустах жасмина. Теперь мне предстояло расстреливать всех, кто в панике бегал по двору, короткими очередями, постоянно перемещаясь и стреляя то из-за ствола старого орехового дерева, то из-за кучи строительного камня. Навстречу от особняка уже бежали охранники. Пули из их автоматов рвали листья, впивались в стволы деревьев, пощелкивали о камни.
Теперь у меня было преимущество: боевики находились на открытом месте, и я видел их так же хорошо, как и собственные руки, а они не могли различить меня среди кустов.
Я «выводил из строя» одного за другим бежавших, пока те не сообразили, что у дома они будут в большей безопасности, и не откатились к особняку, из которого все выбегали и выбегали встревоженные люди с оружием и без.
Их было много, все они были начальствующего вида. Точно, генерал Сосойя Горделадзе проводил очередное историческое заседание.
Тогда я направил гранатомет прямо в парадную дверь трехэтажного особняка, взвел курок и нажал на спусковой крючок. Взрыв сорвал ее с петель, разворотил все внутри небольшого коридорчика, моментально убив находившихся внутри людей. Следующий выстрел из гранатомета понес летящую гранату внутрь помещения и та «лопнула» там так, что во всем особняке погас свет и посыпались осколки стекол.
На некоторое время установилась тишина. Воспользовавшись передышкой, я сменил опустевший магазин, и, вскочив, помчался к особняку.
…Я успел добежать до розария, когда вновь загремели выстрелы. От особняка и со стороны въездных ворот бежали охранники, стреляя на ходу. Пули свистели и визжали в воздухе, и мне приходилось двигаться, прячась за кустами роз. Мне удалось отбить первую волну нападавших, швырнув им под ноги пару гранат. «АКМ» в моих руках раскалился. Площадка под ногами была усеяна стреляными гильзами и листвой. Расстреляв четыре рожка патронов, я выхватил пистолет и наповал сразил еще двоих, бегущих со стороны ворот, сорвал предохранительную чеку у гранаты и швырнул в камуфлированные фигуры слева. Взрыв отшвырнул боевиков к стене.
В этот момент что-то тяжелое шлепнулось в нескольких метрах от моих ног. Я повернулся и увидел черный шар гранаты, зарывшийся в песок. Я прыгнул прочь, на ходу переворачиваясь ничком, и обхватывая голову руками. Я не успел приземлиться… Взрыв оглушил меня, подбросил и швырнул оземь. Пистолет отлетел в сторону. Я вскочил на ноги и тут же почувствовал боль в правом боку, словно кто-то ткнул меня раскаленным прутом. Без оружия нечего было и думать справиться с этой волчьей стаей. Я не мог взять оружие у убитых, поскольку ближайший труп лежал метрах в шести, и меня изрешетили бы пулями прежде, чем я успел бы схватить автомат.
Держась за раненый бок, я побежал к садовой будке возле стены. Если мне удастся укрыться в ней и найти хоть что-то, чем можно воспользоваться, как оружием, я вполне сумею вывернуться из создавшегося положения.
Позади вновь раздались выстрелы. Я пригибался и старался бежать зигзагами, не давая врагам прицелиться. Пули впивались в дерн в нескольких сантиметрах от моих ног, но я не обращал на это внимания.
Добежав до будки, я нырнул в прохладную темноту. Опустившись на пол, сбросил жилет и осмотрел рану. Пуля прошла вдоль ребер, содрав клок кожи. Болезненно, но не смертельно. Снова надел бронежилет. Теперь можно было оглядеться. Лопата, вилы, молотки, секатор для подрезания кустов, фрезы, ножи газонокосилки и еще много разного хламья. Интересно, кто этим занимается?
Боевики окружали будку. Они не без некоторой опаски смотрели на прикрытую дверь, ожидая, что чужак выскочит сейчас, размахивая автоматом, стреляя на ходу. Но у меня не было оружия. Ни звука ни доносилось до них, потому что я был с голыми руками.
– Огонь! – вдруг скомандовал один из нападавших, которые оцепили будку полукольцом.
Оружие в их руках загрохотало с новой силой. Пули за секунду изрешетили дощатую лачугу, выбив стекла в маленьких окошечках, превратив доски в щепки. Очевидно, вояки решили, что если в будке и был кто-то, то теперь увидеть его живым невозможно. Несомненно, всякий, кто мог оказаться здесь, был бы изрешечен пулями. Но только не я… Теперь можно было подняться с пола.
– Посмотри, – скомандовал главный. Пулеметчик отделился от этого полукольца и осторожно пошел к будке. Приблизившись, он открыл дверь и шагнул внутрь. Изо всей силы я пронзил ему грудь вилами, и вырвал из его рук пулемет. Первой очередью я сразил главного, который целился в меня из пистолета. Потом, еще раз толкнув дверь ногой, выпустил длинную очередь в бегущих на меня людей. Часть из них покатилась по траве, те же, кто уцелел, кинулись к дому.
Я побежал следом, стреляя на ходу.
Лепестки роз кружились в воздухе, сбитые пулями. Алебастровые статуи разлетались на куски. Цветные витражи лопались, и дом с каждой секундой все больше терял свое великолепие, превращаясь в груду развалин.
Я заметил Сосойю Горделадзе – его силуэт в незастегнутом генеральском мундире был виден в окне второго этажа. Он готовился выстрелить в меня из какого-то странного ружья. Грохнул шумный выстрел. Я успел спрятаться за уцелевшую фигуру Венеры. Алебастр разлетелся вдребезги и расцарапал мне щеку. Странный запах серы ударил мне в нос. Я принюхался. Да, Сосойя Горделадзе палит дымным порохом! Я ружье, наверное, кремневое, старинное. Вот так-так!.. Я послал очередь в ответ. С диким звоном посыпались стекла, куски оконного переплета взлетели в воздух.
Не дать ему спуститься вниз! Я влетел через зияющий парадный вход в коридорчик, прыжком вскочил в холл и спрятался за огромной напольной вазой.
– Кузьмин! Ко мне! Кульмин! – вдруг послышался громкий, и в тоже время жалобный крик. Это генерал звал своего нукера, то есть, по-восточному, наемного охранника, оруженосца.
Ага, значит, Кузьмин тоже здесь. Прекрасно! В ту же секунду загрохотали выстрелы из автомата, и рикошетом вдребезги разбило напольную вазу. Кузьмин стрелял со двора. Где же он шлялся до сих пор? А теперь находился во дворе и, значит, сейчас не был опасен.
– Кузьмин! Ты слышишь меня?..
– Да! – достаточно громко откликнулся он, и в тот же момент голова диктатора-неудачника (все диктаторы, в конце концов, неудачники) показалась в проеме двери.
Худющий диктатор увидел меня. Он дернул головой, но я находился под таким углом к нему, что пули, пущенные из пулемета, ударили в лестничные перила и достали новоявленного генерала. Сосойя Горделадзе успел спрятать только голову. Падая, диктатор выбросил руки вперед и вцепился в перила, но я не пожалел даже оставшейся ленты, чтобы ударить ею по этим холеным жирным рукам с массивными золотыми печатками. Куски ракушечника падали сверху, а вместе с ними упал и генерал. Он ударился головой о мраморные плиты. Алые брызги крови черными точками усеяли пол. Чтобы получить звание генерала, надо уничтожить очень большое количество людей. А если Сосойя Горделадзе получил генерала авансом, то сколько людей я спас одним выстрелом!
Оставалось расправиться с Кузьминым. Внезапно до меня донесся призыв, словно из подземелья:
– Юра! Я здесь! Сюда!
Это голос Людмилы! Она там!.. Невзирая на опасность, я закричал:
– Я здесь!
Закричал, как последний дурак, так как в этот момент я потерял контроль над собой. Крик Людмилы отвлек мое внимание настолько, что я совершенно забыл: пулемет мой без единого патрона – пустая лента выскочила из приемной рамки затвора.
Я бросился по коридору, где виднелся проход к лестнице в подвал. Но громкий крик остановил меня:
– Юрген! Стой!
Это был голос Кузьмина.
Я резко обернулся, мой пулемет вместо выстрела издал сухой щелчок.
– Юрген! Мы ученики одного учителя, но я моложе. Сейчас ты умрешь… Не приближайся!
Прилив бешеной ненависти к нему у меня прошел. Я знал, на чем нужно играть, когда разговариваешь с таким человеком. В глазах Кузьмина зажглись нездоровые огоньки. Черты его лица исказились, стали неустойчивыми, брови круто поднялись. Я понял: этот парень сходит с ума, его нужно дожать, уверить в том, что он сможет сделать то, чего хочет.
– Ладно. Брось свой дурацкий автомат! Легко ведь нажимать на курок. Лучше убей меня ножом! – я выронил пулемет и вытащил штык-нож. – Проткни меня и смотри мне в глаза. Поверни нож и узнай, что я почувствую. Ты ведь этого хочешь?
– Я убью тебя, Юрген! – заорал психопат Кузьмин, отбрасывая автомат в сторону. – Убью тебя ножом!
Мои губы дрогнули в улыбке. Да, я не ошибся. Я купил этого психа. Нужно определить в человеке его страсть, и ты можешь властвовать над ним. Порыв Кузьмина был безотчетен. Это была страсть, доводящая до сумасшествия.
– Ну, так давай, давай! – в тон ему вторил я. – Ты и я! Давай, не лишай себя такого удовольствия! Давай, Кузьмин, ну!
– Да! Я убью тебя, Юрген! Ничто мне не помешает! Не нужна мне твоя девчонка! Юрген! Я убью тебя! – ревел Кузьмин, выхватывая нож и принимая боевую стойку.
– Сделай это!
Я пригнулся, выставив штык-нож перед собой, и медленно пошел по кругу. У Кузьмина была кошачья улыбка на устах. Она действовала мне на нервы. Я понимал, что если выйду из себя и поддамся ярости, то эта схватка может оказаться для меня последней.
Кузьмин первым нанес удар. Клинок со свистом описал полукруг в сантиметре от моего живота. Я не остался в долгу и сделал ответный выпад, который также не достиг цели. Несколько секунд мы обменивались ударами, стараясь достать друг друга, но тщетно. В один момент мне показалось, что Кузьмин раскрылся, и я спешно нанес удар. Кузьмин был готов к этому и, уклонившись в сторону, выбросил левую руку – коронный удар любого левши, от которого редко кому удается спастись.
Но я успел отпрянуть, и лезвие кинжала лишь кончиком полоснуло меня по животу.
Кузьмин довольно засмеялся.
– Ты давно не тренировался, Юрген. Валялся с девчонкой себе, когда настоящие мужчины…
В это время я ушел в сторону и схватился за живот, делая вид, что рана серьезная. Именно тут Кузьмин умолк и бросился вперед, нанося удар, но мой штык-нож, прочертив в воздухе блестящую дугу, вонзился ему в руку, перерезав сухожилия у самой кисти.
Для Кузьмина это был шок. Теперь у нас шансы были равны: у обоих плохо работала одна рука.
Я с улыбкой наблюдал за растерянным лицом наемника. Да, он был именно наемником. Мало того, предателем. Секундой позже Кузьмин вновь бросился на меня. Перехватив нож в другую руку, он занес его над головой, намереваясь ударить меня в шею. Лезвие пошло вниз, но подставленная мной рука остановила это движение. Кинжал замер в нескольких сантиметрах от моего лица.
Мышцы на руках вздулись. Мы рычали, словно дикие звери. Ярость, бушующая в нас, вырывалась хриплым дыханием. В глазах бушевала ненависть.
Кузьмин что было сил налег на нож, стараясь вонзить лезвие в мое лицо. Тут я изловчился и нанес противнику удар коленкой в пах. Кинжал вылетел из пальцев Кузьмина, и он завыл, отступая и пошатываясь. Я бы мог убить его в тот момент, но остановился – враг был безоружен, а мне приходилось драться по условиям поединка. Наверное, это может показаться неразумным, но я не стал убивать Кузьмина. Многое в жизни может показаться неразумным.
Предатель немного оправился от нанесенного удара и вновь бросился на меня. Оружия у него не было, Кузьмин обхватил меня руками и начал сжимать, стремясь сломать мне ребра.
Я уперся ладонью в подбородок врага и принялся давить на него изо всех сил, стараясь оторваться от Кузьмина. Тот хрипел, но продолжал удерживать меня.
Однако искалеченная рука не давала ему возможности сжать мои ребра с полной силой. Впереди, в пяти метрах, отгороженной стальными перилами, был спуск в подвал. Кузьмин решил воспользоваться этим обстоятельством, и столкнуть меня вниз, а уж потом делать со мной, что захочется.
Разбежавшись, он навалился на перила и стал давить на меня, стараясь перебросить через поручни. В конце концов ему это удалось, но, падая, я вцепился в Кузьмина мертвой хваткой, и тот, не удержавшись на ногах, полетел следом.
Мы грохнулись с трехметровой высоты на каменный пол. Вцепившись друг в друга, катались по полу, стараясь задушить, ударить головой, убить… Кузьмин первым вскочил на ноги и тут же нанес мне удар ногой в лицо. Удар был страшным. Я почувствовал, как что-то хрустнуло в основании черепа. Я даже удивился, что еще соображаю после такого удара. Кузьмин решил: меня пора добивать – и немного подался назад, чтобы обрушиться с новой силой. Я увернулся от удара, ухватил Кузьмина за ногу и изо всех сил ударил его ногой в живот. Этот удар дал мне возможность вскочить на ноги, хоть я и получил удар кулаком. Кулак скользнул по лицу, сдирая эпидермис. Теперь очередь была за мной. Мой кулак врезался Кузьмину в челюсть. Я бил снова и снова. Мой очередной удар отшвырнул Кузьмина к двери, которая неожиданно поддалась и Кузьмин ввалился в подвальное помещение. Это был винный погреб.
Когда я вскочил туда, Кузьмин стоял на ногах. В руках у него была стеклянная трубка, которой «насасывают» вино. Эта трубка переломилась о мои плечи.
Я нанес второй удар ногой противнику в пах. Он согнулся от боли, и я широко размахнувшись, нанес сокрушительный удар кулаком снизу в лицо. Кузьмин грохнулся головой о дно огромной бочки, которая была установлена горизонтально. Оно не выдержало удара. Молодое вино хлынуло вместе с продавленным днищем, красными волнами лилось прямо мне под ноги. Воспользовавшись моим замешательством, Кузьмин нанес мне очень сильный удар по почкам. От боли у меня потемнело в глазах. В ту же секунду последовал новый удар, гораздо более сильный, чем предыдущий. Я упал на колени в лужу вина, обхватив руками бока.
– Как тебе школа майора Иванова, а, Юрген? Знаменитый Юрген! Каково, а? – бешено орал Кузьмин. – Ну как, приятно умирать? Ты – покойник, Юрген!
– Гнида! – выкрикнул я, заставляя себя встать, но пол сделался чересчур скользким. Я понял, что если не встану, то это конец.
Но пол оказался скользким не только для меня. Кузьмин хотел прыгнуть, чтобы обеими ногами проломить мне грудную клетку, но поскользнулся, и упал на колено. Этого было достаточно, чтобы я вскочил и локтем нанес удар противнику в переносицу. И тут же, не давая ему опомниться, принялся бить Кузьмина, вкладывая в удары всю свою злость и ярость.
Под этим безумным натиском тот попятился. Вытащив из-за пояса пистолет, со злостью прохрипел:
– Я убью тебя, Юрген! Я пристрелю тебя! – на губах его выступила пена, как у больного бешенством пса.
Мне под руки попалась точно такая стеклянная труба для вина, какой недавно огрел меня Кузьмин. Со всего размаху, делая движение как при штыковой атаке, я вонзил трубу в грудь взбешенного противника. Труба угодила Кузьмину меж ребер и проткнула сердце.
Я смотрел на обломки стекла, которые глубоко вонзились мне в ладони, смотрел на то, как из косого обломка, торчащего из груди противника, захлестала яркая струя.
Кузьмин ничего не понимал. Он выронил пистолет, ухватился за стеклянный обломок и попытался вытащить его из груди… И в тот же миг начал медленно опускаться на колени, а затем как-то спокойно повернулся на бок и сполз в красно-кровавое месиво на полу.
Я не мог оторвать взгляда от поверженного противника. Кровь три или четыре раза толчками выкатилась между пальцев, охвативших стеклянное жерло… и потекла медленной струйкой, все время истончавшейся.
…За бочками в винном погребе я нашел дверь, обитую жестью, разбил ее и обнаружил еле живую девушку. Она едва могла двигаться.
– Людмила, я пришел, Люда! – говорил я. Девушка устало улыбалась. Я развязал ее. Капроновые веревки глубоко врезались в тело.
– Шевелись, разомнись, нам предстоит еще отсюда выбраться, – говорил я. – Здесь полно врагов…
Действительно, наверху раздавались крики команд. Было непонятно, кто командовал. Мы вышли в винный погреб, взобрались по лестнице в коридор. Никого. Я разыскал автомат Кузьмина. Мы пробрались на второй этаж. Боже, сколько денег вгрохано в убранство виллы! Картины, ковры, шикарная мебель, паркет… Денег у генерала куры не клевали. Может, чем больше денег, тем больше всего хочется? Но вагон мандаринов ведь в одиночку не съешь! Нужна власть. Где власть – там сила, где сила – там насилие, смерть, разрушение. Разруха – это отсутствие денег. Происходит цикл саморегуляции…
Я выглянул в окно второго этажа со стороны ранее охраняемой стены. Никого. Сможет ли моя девушка спрыгнуть вниз? Я обрываю штору из мягкой и шелковистой ткани с вычурным рисунком. Один конец наматываю себе на руку, а другой вручаю Людмиле.
– Держись покрепче!
Спускаю девушку из окна. Только бы никто не помешал! Выпрыгиваю следом. Теперь следует перелезть через стену. Это проще. Вначале я убеждаюсь, что в проволоке наверху нет тока. Нет. Все разрушено взрывами. Девушка карабкается мне на плечо, цепляется за проволоку и охает. Колючки впились ей в ладони.
– Тише, потерпи еще немного, – мой голос придает ей сил.
Из-за дома доносятся голоса. Людмила наверху стены. Она пытается слезть, но ее что-то не пускает. Она намертво зацепилась брюками за колючки.
– Расстегивай брюки, – шепчу я. Я уже на той стороне стены. – Расстегивай брюки и давай мне сюда руки. Вылезай…
Людмила выскальзывает из брюк, словно змея из своей старой, ненужной ей кожи. Брюки повисают на колючей проволоке. Я пытаюсь их отцепить, но они еще больше запутываются.
Мы уходим подальше от стены, подальше от проклятого дома с дымящимися, неестественно прекрасными гобеленами на стенах.
Я – полностью невидимый в камуфляже, а девушка – в белом треугольнике плавок.
…Занимался рассвет. Теперь было хорошо слышно, что и в городе звучит перестрелка и даже грохочут орудия.
Что тут, война?
Надо уходить из этого города. Улетать на север. Там нет Абхазии, нет грузин и абхазцев, которые не поделили власть. Я быстро надуваю лодку. Со стороны виллы слышатся крики. Мне не дают покоя оставленные брюки Людмилы. Это след. Голоса приближаются.
– Уходим в море, там гидроплан!
Мы входим в теплую воду. Забредаем поглубже. Из тумана начинает вырисовываться силуэт гидроплана и приближается к нам.
Но со стороны виллы появились вооруженные люди. Много людей. Успели очухаться. Обнаружили брюки и напали на след беглецов. Все-таки надо было не оставлять следов. Это на будущее. Какое будущее?
Одной рукой я держал Людмилу, а другой, почти не прицеливаясь, начал отстреливаться.
– Ты можешь плыть?
– Попробую…
– Плыви к гидроплану…
Я стою по грудь в воде и одиночными выстрелами заставляю противника залечь. Одновременно отталкиваюсь ногами ото дна и, держа автомат на весу в воздухе, плыву к гидроплану.
Вот и поплавки гидроплана.
Выстрелы загрохотали с новой силой.
Ирина высовывается из кабины.
– Что, заводить?
– Давай, – говорю я.
Некоторое время слышится возня, крики, и вот мощный мотор взревел.
Нам не надо было этого делать. Но у нас не оставалось иного выхода.
Как только летчик начал разворачивать гидроплан, чтобы уйти в море, выстрелы загремели с новой силой. Гидроплан развернулся, но этим самым подставлял бок машины и делал ее удобной мишенью для нападающих, которые стремительно приближались к воде.
Я не мог влезть в самолет. Неожиданно что-то зашипело, длинная молния отделилась от берега и мгновенно приблизилась к гидроплану. Бамм! Бамм! Выстрел из гранатомета угодил в борт. Горячая волна взрыва едва не сорвала меня с поплавка.
– Людмила, держись…
– Держусь, Юра, держусь… – отвечала девушка. Она была еще в воде, и обеими руками сжимала обшивку поплавка. Девушка уже пришла в себя и теперь обходилась без моей помощи.
Снова шипение, снова неяркая молния и – новый взрыв сотряс гидроплан. Мы целы. Что с Ириной? Уцелел ли пилот? С берега наседают солдаты.
– Держись! – снова кричу я Людмиле, а сам вскакиваю в открытую дверь… Все разворочено, тлеет изоляция. В кабине летчик держится за окровавленную голову. Ирина тоже оглушена, трясет головой, но крови нет.
– Тебя оглушило, уходим отсюда, сейчас они еще раз ударят из гранатомета.
Мои слова оправдываются. Слышится выразительное шипение, и мощный взрыв сотрясает гидроплан. Поплавки настолько иссечены пулями, что воздух из них со свистом уходит. Разбитый гидроплан медленно погружается в воду.
– Уходим! – кричу я девушкам и веду прицельный огонь по нападающим, выискивая глазами гранатометчика. Его нигде не видно. Все в серой пелене, дыме от взрывов.
Наверное, из-за тумана и измороси нас троих не очень-то видно. Мне, забрав Ирину, следовало уходить. Думаю, мы едва различимы на воде. Но гидроплан хорошо заметен и в тумане! Поэтому снова слышится буханье гранатомета и короткое характерное шипение летящей гранаты.
– Не смотреть! Отвернуться, сгруппироваться, и под воду… – пытаюсь я научить военному делу женщин.
Но где там! Обе поворачивают головы в сторону гидроплана. Они, видите, ли, желают посмотреть на взрыв. Граната лопается необычайно громко, корпус самолета вспыхивает. Людмила неожиданно хватается за шею.
– Что с тобой, Люда?
Людмила стоит по грудь в воде, у нее безумные глаза, и она держится обеими руками за шею.
Я силой разжимаю пальцы и вижу, что глубоко в горло вонзился лепесток стабилизатора от гранатометной мины. Недолго думая, пальцами обхватываю его и вытаскиваю. Боже, какой он длинный! Кровь горячей струей брызнула из-под пальцев Людмилы.
– Юра, мне больно, Юра… – девушка не говорит, она хрипит.
Никогда в жизни я не был таким растерянным. Я не знал, что делать. Это потом, через несколько минут ко мне пришло решение, вернулись силы, способность анализировать, но в тот момент я готов был обезуметь!
– Зажми шейные артерии, – кричала Ирина прямо мне в ухо, но я ничего не понимал. То есть, конечно, я понимал смысл слов, но не мог отважиться своими почерневшими от пороховой гари пальцами дотронуться до шеи девушки, которая хрипела, задыхалась, кашляла кровью…
– Отплыви в сторону, займись ими, – Ирина командовала мной! Она поддерживала Людмилу, поскольку та еле стояла в воде, и пальцами зажала перебитую осколком артерию.
Убедившись, что раненая в порядке, (Боже! Неужели человек с исковерканной взрывом гранаты шеей может быть в порядке?), я занялся нападавшими.
Они не знали, что мы покинули самолет, и полукольцом прижимали противника к гидроплану, который опустился на дно и в полкорпуса торчал над водой.
Я вышел из тумана словно привидение. Каждый выстрел – один человек. Эти люди – солдаты. Они взялись за оружие, а если ты взялся за оружие, то должен быть готов к смерти. Выстрелы следовали один за одним. Вскоре солдаты сообразили, откуда идет разящий огонь, и сделали меня центром своего полукольца. Но мое преимущество было в том, что, со стороны моря туман был гуще. Я видел перемещавшихся по берегу солдат, а они меня едва ли различали. Кроме того, я иногда погружался в воду, чтобы обезопасить себя от случайной пули.
Через некоторое время солдаты поняли, что сражаться с невидимым врагом весьма небезопасно. Они отошли, высаживая патроны рожок за рожком прямо в туман.
Будучи по грудь в воде, я побрел в сторону, куда скрылись девушки. Через некоторое время я настиг их. Рана на шее была очень опасна. Людмила и так потеряла много крови. Очевидно, осколок повредил ей голосовые связки, она могла только шептать, и то прилагая невероятные усилия и истекая кровью.
Мы выбрели на берег и поковыляли к городу.
По всему городу стреляли, к небу поднимался дым пожаров. Только теперь стало ясно, что военные действия идут по всей форме. Дальше, за городом, слышалась артиллерийская канонада. Вероятнее всего, это били противоградовые орудия, которые абхазцы приспособили для военных целей.
Некоторое время мы шли по пустынным улицам. Увидев телефонную будку, я бросился к ней. На удивление, «скорая помощь», вызванная мной, ответила. Мне сообщили, что в городе полно раненых, и на вызов никто не приедет. Машины работают в зоне боевых действий. Затем повесили трубку.
Мы забрели в первый попавшийся дом с выломанными окнами и разбитыми дверьми. Там мы уложили Людмилу в постель, и я сказал, что иду искать врача.
…Окровавленный лифчик сброшен на пол, он мешает дышать. Девушка задыхалась, захлебываясь собственной кровью, которая фонтанировала из яремных артерий и попадала в дыхательное горло. Мало того, осколок попал в гортань, она вообще почти не могла дышать, потому что рана слиплась. Людмила синела, она задыхалась.
– Необходимо делать трахеотомию, но я не хирург, – Ирина побледнела.
– Ты сделаешь это! – сказал я.
– Нет, – сказала Ирина и глупо улыбнулась. Ее лоб покрылся испариной, глаза ее плавали.
– Что мы вставим в отверстие? – спросила Ирина. Внутренне она решилась. Но хотела, чтобы мы это сделали вместе. У меня не было иного выхода. Нужно было подготовить трубку, и я выломал в ванной комнате «сосок» умывальника. Он никелирован, подойдет!
Я взял свой нож, приставил его к ямочке, где, по некоторым представлениям, находится душа, и сделал глубокий надрез. Я думал, что смогу довести дело до конца, но неожиданно мне самому стало плохо. На мгновение помутилось сознание. Черт побери, сколько человек я убил, а здесь самообладание подвело меня! Нож выпал из рук.
Ирина оттолкнула меня. Она рассекла надрез пошире и вставила «сосок» умывальника прямо в трахею.
– Нужно останавливать кровотечение, делать переливание крови, нужна капельница, нужен хирург, чтобы сшить артерию, – сказала Ирина. Ей было страшно оставаться одной с тяжело раненым человеком.
– Знаю. Поэтому я должен уйти и привести сюда врачей… – мрачно ответил я. Мне не хотелось уходить, бросать Людмилу здесь, в таком состоянии. Я понимал, что если не найду бригаду «скорой помощи», то Людмила погибнет. Я также понимал, что если боевые действия начались, то Фарид может быть в городе. Мне срочно нужно его разыскать. Он быстро поможет мне найти врачей.
…Чем дальше я углублялся в город, тем больше убеждался, что тут произошло нечто страшное. Разрушенные от попадания снарядов дома, дымящиеся развалины, трупы людей, вовсе не солдат, валялись прямо на дороге. Если совсем недавно выстрелы звучали редко и только в одной части города, то теперь – отовсюду. Кто по ком стрелял – невозможно было понять. Мне в голову не приходило, что в этом мирном, благополучном, цветущем Крае может неожиданно начаться кровавое побоище.
Это меня, правда, в данный момент не сильно беспокоило. Мне во что бы то ни стало необходимо было встретить Фарида или хотя бы Цейбу. Уж он-то мог знать, где найти врачей.
Неожиданно я увидел группу быстро перемещающихся людей с повязками на головах и с автоматическим оружием в руках.
– Эй, парни! – окликнул я их.
Те сразу же изготовились к стрельбе.
– Где ваш командир? – спросил я.
– Я командир, – послышался ответ. – Кто ты? Как узнать, абхазцы это или грузины?
– Мне нужен командир постарше… – тянул время я. Вооруженные люди насторожились и начали занимать укрытия.
– Я здесь самый старший командир! – крикнул вооруженный человек. Он не прятался, но меня держали под прицелом пять или шесть человек. Я смогу прыгнуть и уйти от пуль, если повезет, конечно, но выстрелить в него уже не смогу: не успею.
Вооруженные люди вроде не готовились на меня напасть. Их командир раздавал приказы, но я даже не мог слышать, на каком языке они разговаривали. Тогда я рискнул.
– Мне нужен Цейба! – я уже не мог говорить нейтрально, намеками. И все же мне не нужно было выдавать им своих намерений. А вдруг это грузинские боевики?
– Э-э, дорогой, так это никакой не командир, это просто-напросто шалопай, – человек опустил автомат. – А кто ты?
– Я друг Фарида. Мне он тоже срочно нужен.
– Мы все друзья Фарида, и нам всем надо срочно его увидеть.
Я опустил автомат и пошел к абхазцам. Неожиданно командир вскинул автомат и выпустил по мне очередь. Вот какие это друзья Фарида! Я успел прыгнуть вперед, ударился об асфальт. Пули градом защелкали вокруг. Я не понимаю до сих пор, каким образом я остался цел. Ни одна пуля даже не коснулась меня. Скорее всего, мой ангел-хранитель позаботился об этом, поскольку меня ждал умирающий, истекающий кровью человек, который был мне бесконечно дорог.
Я катался по асфальту, а они, не целясь, лупили по мне из автоматов, радостно выкрикивая непонятные слова. Это была для них забава. Я смог перекатиться за столб и оттуда пустил прицельную короткую очередь. Патронов у меня было в обрез. Потом я перемахнул через высокий забор и скрылся за домом.
Они начали кричать, чтобы я сдавался, и тогда они меня отведут к Фариду. Из их громких разговоров я понял, что это все-таки абхазцы. Они прочесывали дома, выискивая противника.
Они не стали меня преследовать. У них, скорее всего, были свои счеты с более конкретным противником, а не с незнакомым, пусть и вооруженным человеком.
Абхазцы, гогоча непонятные слова, побежали по улице. У меня тоже не было цели завязывать бой. Я отсиделся за домом, потом вышел на улицу. Абхазцы пошли в сторону окраины, где в одном из домов скрывались мои девушки.
…Казалось, город был мертвым. Наступило утро, взошло солнце, верхушки кипарисов не шевелились, и каждая минута этого прекрасного утра могла оказаться последней для моей девушки.
Так где же Фарид?
Мне надо было его найти. Теперь я ненавидел всех и каждого, и готов был убивать любого, у кого было оружие в руках. Если раньше я работал на чужой территории и моральное оправдание моим действиям, направленным на прерывание чужой жизни было в том, что если я не убью, то враг меня убьет, то теперь я понимал, что жизнь любого противостоящего с оружием человека является преградой для жизни Людмилы. Я не считал никого, кто сейчас был вооружен, нормальным человеком, поскольку это мешало жизни.
Может, я был эгоистом, может, я эгоист вообще. Но что было – то было.
Неожиданно прямо перед собой я увидел машину «скорой помощи». Повелительным жестом я остановил ее. Водитель затормозил прямо у моих ног. Вид оружия заставлял его подчиниться, но не успокаивал. Он высунулся из кабины и заорал:
– Чего ты встал! У меня люди умирают!
– Поедешь со мной!
– Нет!
Я поднял автомат к его груди.
– Дорогой, ты посмотри, что там делается, – водитель смягчился и показал рукой в глубь салона.
Открыли боковую дверь.
– Умерла, – сказала медсестра, и выдернув капельницу из вены умершей женщины, протерла иглу ваткой и начала ловить вену на руке другого человека – юноши с оторванной взрывом ногой. В салоне лежали еще двое тяжелораненых, и человек пять показывали мне свои болячки. Они думали, что я проверяю, нет ли здесь дезертиров. У меня пересохло во рту.
– Дайте мне капельницу.
– Это последняя… – вздохнула медсестра.
– Где найти еще машину?
– Все в районе Нового рынка, – ответил водитель, и попытался выпихнуть меня из салона. Да, я был эгоистом. Чувства затмили мой разум.
Я выстрелил в окно машины. Раздались крики. Я наставил автомат на медсестру. Она равнодушно улыбнулась. Видимо, уже привыкла.
– Этот юноша умрет без капельницы? – спросил я хмуро.
– У него болевой шок. Он может умереть в любую секунду.
– Я спросил, этот юноша умрет без капельницы? – в моем голосе явно чувствовалась угроза.
Медсестра достала из сумки запечатанную в пластик капельницу и бутылку кровезаменителя, протянула все мне.
– Ты пойдешь со мной, – сказал я таким тоном, что медсестра даже не пыталась возражать. Потом я обратился к водителю:
– Послушай, ты можешь по рации связаться с другой машиной?
После моего выстрела водитель стал немного сговорчивее.
– Ладно, показывай, где?
…Машина подъехала к дому, где скрывались Ирина с Людмилой. Я толкнул калитку, медсестра с сумкой последовала за мной. Когда я подошел к дому, то увидел, что из окон валит дым. Это была нерассеявшаяся пороховая гарь. Я толкнул свесившуюся створку двери, влетел в дом.
Картина, представшая перед моими глазами, будет долго преследовать меня. Возможно, я не забуду этого никогда. Такое просто невозможно забыть.
В комнатах, где и до нашего прихода царил полный разгром, теперь все было перемолочено автоматными очередями. На полу лежала растерзанная Ирина с неловко вывернутыми ногами. Во лбу зияла рана, из которой торчали белые осколки черепной кости. Губы разбиты ударом кулака. Большие, плоские, как у белки, зубы выбиты и вмяты в синий язык. Одежда на ней была раскромсана, тело девушки исколото ножом. Было ясно, что прежде, чем убить, над ней глумились, ее долго и не один раз насиловали. Я прижал палец к сонной артерии девушки. Сердце уже не билось.
Я вбежал в другую комнату – Людмила лежала ничком на полу в луже собственной крови. Латунная трубка валялась рядом. Я перевернул ее, лицо у девушки было синюшного цвета. На горле запекся комок крови. Я счистил кровь и попытался вставить трубку в трахею. Но у меня ничего не получилось. Людмила была еще теплой, может, еще живой! Медсестра очутилась рядом, слишком медленно, как мне показалось, тампонами промокнула кровь.
– Где уж там, почернела вся, – пробормотала медсестра и просунула латунный сосок в трахею. Она ковырялась этой трубкой в ране, словно то был фарш, из которого надо было достать кость. Измазав руки в крови, она все-таки попала трубкой туда, куда нужно было. Потом встала, утерлась, измазав свою щеку кровью, и слишком медленно снова нагнулась над бесчувственным телом. Вероятно, она уже не верила, что можно что-либо сделать для посиневшего от удушья человека. Но она все-таки попыталась сделать искусственное дыхание.
– Кажется, еще живая… – почему-то без радости сообщила медсестра. – А та девушка уже умерла. Ее что, изнасиловали? А потом убили?..
Я пожал плечами. Мне было все равно. Я ничего не чувствовал. Стоило уйти на полчаса, как сюда кто-то заявился и устроил надругательство над людьми. И приходили ведь люди. Люди!
Ясно, что они не успели уйти далеко. Вероятнее всего, это совершили те, с которыми я столкнулся на дороге.
Медсестра сделала несколько уколов в неподвижное тело Людмилы и вновь начала дуть в латунную трубку, ритмично нажимать на грудь.
– Кажется, еще дышит…
Я гляжу на мертвенно-белое лицо девушки с синюшным оттенком. Оно медленно розовеет. Я бросаюсь к Людмиле и начинаю энергично вдувать в ее легкие воздух и ладонью надавливаю на грудь, чтобы воздух выходил.
– Осторожнее, раздавишь, – говорит медсестра.
Когда я прикладываю ухо к груди, то слышу, как воздух теперь уже сам с бульканьем заходит внутрь легких и выходит через трубку наружу. Сердце едва слышно трепещет. Она дышит! Она будет жить! Она уже не умирает, нет, она будет жить!
…Врачи унесли ее с высоко поднятой бутылкой кровезаменителя. Бутылка кровезаменителя прозрачная. И капельница прозрачная. Именно в этой прозрачности спасение Людмилы.
Девушку поднесли к подъехавшей машине «скорой помощи» и погрузили ее внутрь. Дверцы захлопнулись. Машина взревела двигателем и помчалась по пустынной дороге, на которой валялись трупы стариков и женщин. Трупы грузин, русских и абхазцев.
Я словно очнулся, когда остался один. Попытался бежать за машиной, но потом махнул рукой. Не догнать, не остановить. Да и надо ли? Повернулся и отправился искать следы убийц. Они ведь не успели уйти далеко. Их всех нужно уничтожить. Будь они абхазцами, грузинами, русскими – я все равно уничтожу убийц. Убийца не имеет национальности.
Я шел по следу, хоть это было нелегко в городе, где половина горожан превратилась в убийц. И я нашел их! Я отбирал у них их оружие и этим же оружием убивал их. Убил всех, до одного. До последнего человека. Я обагрил свои руки их кровью…
…Теперь, когда это уже произошло, мне необходимо все записать на бумаге. Моя голова, мое сердце уже не способны держать случившееся взаперти, не выплескивая наружу. Я должен высказаться, хотя бы перед самим собой. Мне хочется понять, что, записывая, я смогу воссоздать пережитое ранее, пережить заново. Это поможет мне более точно разобраться в происшедшем.
Я не был наемником в Абхазии. Меня никто не нанимал убивать ради денег людей, которые нарушали закон права или неписаный закон. Но мне пришлось там оставить очень много трупов. Нет, не по собственному желанию, и даже не ради собственной защиты. Ради жизни другого человека.
Тетрадь третья БОСНИЯ
Ясный день над Гораждой. Погода стоит отличная. Днем – жарко, ночью – прохладно. Видимость великолепная. Вижу в скалах веточки дуболома и дикого винограда, на которых покачиваются певчие птицы. Далеко, через долину, растет куст можжевельника, а за ними примостился мусульманский снайпер. Я не знаю, босниец это или наемник. Но мне надо вывести его из строя. Если я его не подстрелю, он рано или поздно подстрелит меня. Так что сегодня будет отличная охота. Охота на людей.
Вчера была погода похуже, а наш командир – снайпер-серб Андрия Зеренкович – поставил свой личный рекорд: десять метких выстрелов. Десять пуль – десять неподвижных тел. Причем он метит отнюдь не в гражданских лиц. Серб выбирает среди боснийцев только вооруженных или, в крайнем случае, одетых в военные куртки цвета хаки.
День сегодня обещает быть просто на удивление. Андрия Зеренкович точно побьет вчерашний рекорд. Если, конечно, ему повезет.
Я рекорд бить не буду. Если работать на рекорд, то увлекаешься и забываешь обо всем на свете. Тогда очень просто зевнуть. А если зевнешь – становишься добычей сам. Или добычей становятся твои парни из группы прикрытия. Как это случилось с парнями Марко Даиджича. Группа прикрытия у него была сербская и наиболее матерая, поскольку Марко молод и в военном искусстве у него нет опыта. Зато зрение у него просто ястребиное. Но несмотря на свою опытность, сербы из группы прикрытия потеряли в чем-то бдительность. Снайпер чудом уцелел, а вот его напарники остались лежать с длинными ножами в горле. Эти ножи и мне не дают покоя. В принципе, такова наша работа, и если есть издержки и брак, то ведь это случается при любой работе. Только вот цена издержек разная. В нашей работе цена допущенного брака – жизнь. Жизнь собственная или жизнь товарищей, понадеявшихся на тебя. Если группа прикрытия погибла не по твоей вине, кто-то зевнул сам или стал жертвой фатальной случайности, то тебе дадут новую группу. Если в этом виноват ты – можешь собирать барахло и уезжать туда, откуда прибыл. Никто не станет из-за твоей оплошности рисковать людьми второй раз. А кому охота возвращаться? У каждого свои проблемы, а то и грешки на родине, и места ему там нет.
Да и кто умудрится не дорожить группой прикрытия, когда ты каждый день вручаешь им свою жизнь? Пусть твоя жизнь на родине ничего не стоит, но здесь, в Боснии, тебя ценят, уважают и дорожат тобой. Ты просто обязан оказывать должное внимание, проявлять бдительность при работе со своими ребятами.
Конечно, есть и другие причины, не позволяющие рисковать чужой жизнью. Скажем, привязанность, дружеские отношения или сознание того, что трудно все время менять людей в мрачной горной Боснии. В конце концов, обыкновенная людская жалость тоже играет здесь далеко не последнюю роль. Марко Даиджич слезами обливался, плакал как девушка, когда приехал из соседнего селения православный поп и мы хоронили его ребят. Откуда у такого классного стрелка столько слез? Наверное, так устроены его глаза.
Со стороны шумящей реки тянет прохладой. Через реку переброшен мост. По нему иногда проходят местные жители. Среди жителей попадаются вооруженные мужчины. Тогда можно наводить перекрестье снайперского прицела на силуэт цели и стрелять. Не думать, что это идет обремененный своими хлопотами человек с сердцем, с душой.
Это цель. Цель надо поразить. За поражение цели ты получишь свою личную ставку. У каждого она своя: в зависимости от времени пребывания здесь, возраста, качества выполняемой работы. С этого моста уже не раз старухи-боснийки на обыкновенных тачках свозили трупы стариков, женщин. Или сраженные пулей тела падали в реку. Или оставались лежать на два, три дня. И тогда ветер шевелил волосы на неживых телах. Это ужасное зрелище не отталкивает боснийцев, живущих в осажденном городе. Люди не перестают ходить через мост. Пройдя по мосту, можно добраться по гористой и прямой дороге, которая поднимается вверх, к контрольно-пропускному пункту войск ООН. Там стоит украинский батальон голубых касок. А с другой стороны, с сербских территорий, к пункту приходят родственники тех, кто живет в осажденном городе. Отцы и матери не видели сыновей по году. Приходят узнать с единственной мыслью: живые ли?
Мост старинный. Самая прихотливая фантазия не может представить себе, что в этом диком и разоренном войной захолустье останется такое чудесное сооружение. Кажется, берега реки бросили друг другу навстречу вспененные струи воды и, соединив их в арку, на единый миг застыли над пропастью, паря в воздухе. В просвете реки синеет вдали одна река, а глубоко внизу бешено пенится укрощенная горная речушка. Взор не может налюбоваться гармонией продуманных и легких выгнутых линий, казалось бы, нечаянно зацепившихся в полете за острые мрачные скалы, обвитые дикой порослью.
Любоваться этим мостом – словно любоваться искусно сделанным гробом. Красота приличествует смерти. Все живое уродливо. Особенно отвратительно спаривание животных. Да и людей. То, что делается ночью в комнатенках нашего постоялого двора, ужасно. Женщины – десять проституток – обслуживают сербов с передовых позиций. Любовь бьет ключом. Женщины и мужчины стонут и воют, горячо шепчутся, но это не та любовь, которая призвана продолжить человеческую жизнь. Это любовь смерти. Утром солдаты, снайперы уходят на позиции убивать.
Я сижу на толстых ветвях сосны, как кажется мне, совершенно укрытый изумрудными кисточками иглицы. Невидимый за пятьдесят метров. Но это только кажется. Может, мое лицо уже разглядывает в мощный прицел словенской винтовки босниец. И пуля поразит мой мозг за десятую долю секунды до того, как я это пойму. Только об этом нельзя думать. Иначе ты перестанешь работать, а начнешь спасаться.
В руках у меня – не совсем плохая винтовка СВД с хорошо просвеченным оптическим прицелом. Это мой способ общения с миром.
Мои напарники во все глаза и всеми остальными органами чувств стараются предупредить мое убийство. Это – Джанко и украинец Степан. Фамилии Джанко я никак не могу запомнить – Джаргелез какой-то. Он босниец, переметнувшийся на сторону боснийских сербов. Степан – обруселый хохол, обыкновенный парень-совок родом из Харькова с явно криминальным прошлым. Вначале он представился отличным стрелком, опытным снайпером, но он явно заливал о своих успехах. Время показало, что парень не в ладах с оптикой и баллистикой. Его хотели выгнать из отряда, но он умудрился подкатиться к Андрию Зеренковичу, потом хорошо зарекомендовал себя в качестве напарника в группе прикрытия и работает по сегодняшний день у меня.
Мои охранники ходят кругами вокруг моей позиции. Один стережет меня по маленькому радиусу – метров сто, другой по большому – метров двести.
Сегодня у меня будет прекрасная охота. Я увидел мусульманского снайпера на восходе солнца, когда он только-только примостился за можжевеловым кустом немного ниже вершины скалы, что торчит на горе, возвышающейся за дорогой и рекой. Утреннее солнце предало его. Черная тень, которую я увидел, была отброшена низким ранним солнцем от снайпера на вертикальную, немного беловатую скалу. Днем, когда солнце в зените, этой тени не видно, как не видно и самого снайпера за кустом, какой бы оптикой я не пользовался. Но я знаю, что он там есть. Он сидит себе, как горный орел на скале, и высматривает добычу. До позиций боснийских сербов ему далековато, но если кому-то из сербов вздумается погулять и он приблизится хотя бы на сто метров, серба ожидает верная смерть.
Я мог бы давно выстрелить, заработав свои доллары, и спокойно поменять позицию, но мне надо попытаться вычислить группу прикрытия мусульманина, чтобы убить их двоих: снайпера и его помощника. Если мне удастся высмотреть и третьего – еще одного помощника – охота будет просто шикарная.
Солнце уже высоко, а помощников я не разглядел. Это невероятно трудно. Они скрыты густыми кронами сосен, прячутся за стволами деревьев, пользуются немецкими маскировочными сетками и, будь у меня зрение как у пустельги, мне не разглядеть их фигур в мелькании ветвей и теней, среди пожухлой травы, медных стволов сосен и замшелых камней.
У меня есть мощная подзорная труба, которой я пользуюсь для высматривания добычи. Она снабжена великолепной противобликовой насадкой. Трофей от австрийца. Этот австриец был бельмом на глазу у Андрия Зеренковича. День за днем вражеский снайпер с чисто германской педантичностью выбивал по одному солдату с позиций боснийских сербов. Бойцы прочесывали местность от моста до вкопанной в землю бронетехники, но обнаружить искусного стрелка не могли.
Я заметил его случайно, вечером, когда он пошевелился на громадной сосне, которая стоит и поныне в долине, совершенно без ветвей и с куцей верхушечкой. Я выстрелил наудачу, и увидел, как с верхушки вниз полетел продолговатый предмет, а затем рухнул и сам австрияк, цепляясь на лету руками за сухие сучки. Когда мы подбежали к подстреленному снайперу, он уже был мертв, а рядом с его винтовкой лежала вот эта труба.
Она немного громоздка, и меня прозвали из-за нее Астрономом, но эта техника дает возможность видеть то, что и пустельга не увидит. Когда я навожу трубку на скалу, вижу, как из-за скалы показывается спрятанная под маскировочной сеткой фигура. Фигура настолько замечательная, что я понимаю – это девушка. Можжевеловый куст шевелится, и оттуда показывается копна травы и листьев. Это снайпер. Он быстро переползает за скалу и обе фигуры становятся Невидимыми. Черт побери! Неужели я его упустил?! Мне видны в подзорную трубу только их макушки. Мать честная, да они целуются!
Несколько мгновений мне хватило, чтобы соскользнуть по стволу сосны и бегом кинуться к скале, которая высилась правее и ближе к противнику. На ходу я подзываю условным криком Джанко и сообщаю ему свое решение поменять позицию. Он должен найти и предупредить Степана, и они последуют за мной, чтобы прикрыть меня во время моей снайперской атаки с новой позиции.
На новом месте очень хорошо просматривается город. Но мое место тоже хорошо просматривается из любого верхнего этажа в городе. Я и не рассчитываю здесь долго задержаться. Всего два выстрела!
Трубу я оставил на старой позиции. В руках у меня бинокль. Вот они, голубчики. Разговаривают. Маскировочные сетки сброшены, лица открыты.
У него черные усы и небольшая курчавая бородка. Это явно не босниец. Араб, может быть – иранец. Она – типичная приземистая боснийка, каких много можно увидеть с перепуганными лицами на улицах осажденного города. Она коренаста и круглоголова. Боснийцы необычайно целомудренны. Это осталось от турецкого владычества. Они никогда не смотрят незнакомому мужчине в лицо, ходят с опущенными глазами.
Бог ты мой! Неужели сейчас они начнут заниматься любовью! Это невероятно. Женщина и мужчина опускаются на траву, и я едва успеваю поймать их в оптический прицел. Они у меня как на ладони. У них классическая поза: он наверху, она под ним. Я не знаю, что мне делать… Передо мной вот-вот свершится акт творения, а я вынужден буду его прервать.
Стоит осенняя, но неправдоподобно теплая погода. Днем по-летнему горячо. От зноя в травах бродят соки, и, кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо.
Молодые люди, как загипнотизированные, пришли навстречу любви и желанию. Им не хочется искать убежища для наслаждений ночью, в душных стенах мертвого города; им хочется соединиться на фоне гор, сосен, неба, получить то острое наслаждение, которое обычно ждут от всего величественного. Это у них хорошо получается – в перекрестье оптической винтовки. В тот миг все, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется им пустым и никчемным. Даже смерть. Но смерть ждет их. Она примостилась на фаланге моего указательного пальца.
Парень принимается за свое дело. Начинается акт творения.
Я великодушен, и решаю позволить им в последний раз насладиться оргазмом. И в то же время мне немного не по себе.
«Какой акт творения? – пытаюсь урезонить я самого себя. – Обыкновенная проститутка пришла заработать свои двадцать долларов или пятьдесят марок. У них ведь марки в ходу. Доллары, правда, тоже. Я не дам ей заработать ни марок, ни долларов. А чтобы неповадно было отвлекать человека от работы, лишу ее возможности вообще приходить сюда и куда бы то ни было. Пусть эта развратная особь спускается прямо в ад!».
Пока в голове такие мысли, руки автоматически стабилизируют винтовку, и в удобный момент палец плавно, на медленном вдохе, нажимает на спусковой крючок. Пуля мчится к цели, к противнику, сведенному в судорогах ласк. Второй выстрел производится немедленно после первого. Девушка дернулась под человеком с размозженной головой, и пока она пыталась с полными ужаса глазами выбраться из-под него, я видел тончайший зеленый шелк ее шаровар. Не какие-нибудь тривиальные джинсики эта пуританка надела, чтобы прийти на снайперскую позицию к мужчине, а именно шаровары из зеленого Щелка. Конечно, мусульманка. Может, джинсы, как атрибут современной американизированной Европы валяются рядом? Пуля попала ей в шею, и девушка запрокинула голову, рухнула спиной на землю, обнажив белые, немного худые бедра…
Недоедала, бедняга. Я знал, что она сразу не умрет, но добить ее у меня не было возможности: мне теперь видны только торчащие коленки и этот тончайший зеленый шелк, который слегка треплет ветер.
Я срываюсь с сосны, обцарапав щеку и ударив колено. Прихрамывая, бегу в направлении сербских позиций. Под защитой сосновых крон я нахожусь в безопасности, но все равно это место мне уже неприятно. Хочется подальше и побыстрее отсюда уйти. Где-то в этом направлении меня должен был разыскать Джанко. Я складываю ладони лодочкой и осторожно и резко вдуваю туда воздух. Раздается протяжный гулкий звук. Прислушиваюсь. Ответа нет. Где же Джанко? Может, все еще не разыскал Степана? Ну и работнички…
Я меняю бег на быстрый шаг и начинаю осматриваться. Вот здесь я встретился с Джанко и предупредил его о смене позиций. Он побежал туда, в сторону тех двух валунов. Черт бы побрал этого Степана! Все-таки неприятно иметь дело с типом, у которого криминальное прошлое и полный рюкзак приспособлений для подделывания штампов, печатей и даже валюты. А недавно он взялся делать ребятам из группы наколки. Правда, он не бесталанен, и руки у него действительно стоящие. Смог же он мне без станка, без каких-либо сложных инструментов произвести юстировку подзорной трубы, которая свалилась с высоты, когда я завалил австрияка. К тому же, Степан любит пошастать по брошенным квартирам. Недавно было отбито соседнее местечко, занятое боснийцами, когда сербы отвели оттуда тяжелую технику согласно решению ООН. Под шумок Степан поискал там себе приварок. Притащил пару «роллексов» и мешок с кофе. Ясно, что живые люди такие часы в прикроватных тумбочках не оставляют. Хотя кто его знает. Кофе пошел на общую кухню, потому все и промолчали.
А вот и Джанко. Он как-то странно стоит, наклонившись вперед и опершись о ствол сосны рукой. Пальцы его руки скребут кору так, что сыплется серая Шелуха.
Я сразу перехватываю винтовку поудобнее, и с меня слетает некоторая беспечность, удовлетворенность удачно проведенной охотой.
– Что случилось? – спрашиваю я, опасливо оглядываясь по сторонам.
Джанко не отвечает. Он мрачно смотрит под ноги.
– Что случилось? Где Степан?
– Джелалия, до суднега данка!
Эти слова для меня ничего не обозначают. Это поговорка Джанко, выражающая бесчисленное количество понятий, а, вернее, состояний загадочного его духа.
– Где Степан, черт побери!
Джанко молча указывает рукой в глубь кустов.
Я подхожу ближе, всматриваюсь. Там лежит человек. Голова его неестественно далеко откинута назад. Кажется, он обезглавлен. Рядом валяется АКМ.
Я мгновенно падаю на колени, чтобы не представлять собой мишени, и начинаю быстро осматриваться.
– Эк! Он ушел… Я тут все оббегал… А Степан уже остыл…
Я отбрасываю толстую сосновую ветку, которой Степана попытались прикрыть впопыхах. Присаживаюсь к неживому напарнику на корточки.
Длинный узкий нож торчит из невероятно широкой и глубокой раны. Впечатление такое, будто убийца пытался отрезать жертве голову, но ему помешали. Нож явно метательный, он сбалансирован. Вытираю с ножа о землю кровь и вижу надпись на лезвии. Слово «bors». Что это значит? На каком языке? Если хотя бы две точечки над гласной, можно предположить, что нож явно турецкий, а так остается только гадать: немецкий, австрийский?
Подавленные, мы заворачиваем тело Степана в маскировочную сетку и несем к сербским позициям. Что нам скажут? Зачем мне нужна была смена позиции? Зачем мне нужно было два трупа именно сегодня, когда я, имея вражеского снайпера на мушке, выжидал, чтобы объявился человек из группы прикрытия? Я погнался за двумя зайцами!
Мысленно корю себя за необдуманное решение, приведшее к гибели напарника. Мне неизвестна реакция Андрия Зеренковича, командира и предводителя нашей группы. Меня могут запросто отправить с позиций. Правда, у меня до сих пор не было проколов, если не считать, что я однажды перестрелял овечье стадо. Да, целое овечье стадо. Я до сих пор убежден, что вражеский снайпер скрывался именно среди овечек, словно Одиссей при выходе из пещеры Циклопа. Сколько издевок пришлось выслушать после этого! Даже от сдержанных сербских военачальников. Они часто появляются в нашей группе и, довольные или недовольные нашей деятельностью, обязательно напоминают, чтобы мы не стреляли по баранам.
– Баран – полезное животное! – слышим мы. – Его нельзя трогать!
Ночуем и живем мы, если это можно назвать жизнью, на огромном старинном постоялом дворе. Хозяин так и не успел перестроить весь этот двор в современную придорожную гостиницу. Реконструирован только пищеблок. Комнаты же остались в прежнем виде, как и пятьдесят, и сто лет тому назад. Маленькие, тесные, словно ячейки в сотах, каморки выходят на узкую и шаткую галерею. Пол ее скрипит под ногами, словно жалуется на обилие постояльцев. Рассказывают, что этот постоялый двор хотели законсервировать и превратить в музей. Для нас преимущество этого жилища состоит в том, что у каждого есть своя комната, а если надоест собственная персона, то можно выйти на галерею к обществу.
Общество самое разнообразное. Я нигде не видел такого количества проституток, как в прифронтовой полосе здесь, в Боснии. Польки, цыганки, румынки, наши русские – из всех городов, даже вьетнамки. Девушки все время меняются, конкурируют, постоянных несколько и только те, у которых надежная клиентура. Из комнат любви пахнет лекарствами – девушки или лечатся, или пользуются лекарствами для профилактики. Сам постоялый двор провонял бараниной: каждый день здесь режут барана, чтобы кормить нас, группу снайперов, а шкуры сушат, развешивая их по стенам.
Мне эти животные не нравятся, и баранины я не ем. Из принципа. Когда я совершил свой подвиг с этими тварями, бараньих шкур стало значительно больше, а с ним и специфической вони. Я не боюсь, что меня может постичь участь Салмана Рушди, и могу сравнить запахи любви, баранины и кофе с запахом ислама, с запахом всего мусульманского. Мои записи зашифрованы, и даже специалистам-графологам трудно будет прочесть их. Чтобы уравновесить оскорбление одной религии, я вынужден сравнить запах православия, в котором я крещен, с запахами тех православных и черноволосых сербок, которых я видел в Сербии в церквях и которые, увы, пахли не любовью, а нафталином. Вот я и не боюсь ни фанатиков-мусульман за свое богохульство, ни православных фанатиков. Да еще и потому, что вряд ли найдутся желающие разбираться в закорючках совершенно заурядного человека, который делает то, что он умеет делать… Ведь я не совершаю массовых убийств, как некоторые правители совершенно демократических государств. Я – охотник-одиночка на людей, которые вооружены и, возможно, более умны, хитры и опытны, чем я.
…Хоронить Степана мы будем завтра, когда из ближайшего селения приедет поп. А сегодня у нас поминки. Это, собственно, и не поминки, а обыденное времяпрепровождение со спиртным. Чем мы занимаемся всякий раз, когда не на работе. Первым делом надо сколотить бригаду, которая снарядит гонца за спиртным. Гонец должен быть опытным и успеть к вечеру раздобыть хотя бы ракии – отличной сливовой водки. Иногда ракию продают сами девушки, поселившиеся тут, обычно цыганки. Или приносят местные жители. Приносят иногда просто так, без денег. Это редко бывает, все-таки у каждого свой бизнес, всем надо жить, с чего-то кормиться. Крестьяне кормятся руками, полем, мы – отличным зрением и стволами своих винтовок, а вот девушки, оккупировавшие постоялый двор, торгуют собственной кожей, подкожным жиром и скелетными мышцами, волосами, зубами, языком, сердцем, остальными внутренностями. Они торгуют этим не задумываясь, не торгуясь, иногда делают свое дело gratis, то есть бесплатно, во имя удовольствия, и делают это самозабвенно, с упоением, как настоящие специалисты, как работники любой другой сферы. Как мы, в конце концов.
Они так любят, как мы убиваем! Я не вижу здесь никакого парадокса.
Мужских веселых и разгульных компаний здесь не собирается, все предпочитают пить молча, сосредоточенно. А уж потом, особенно накануне свободного дня, наступает вызванное алкоголем расслабление, начинаются различные художества: игры, задирание проституток, беспредельное бахвальство своими реальными, а большей частью вымышленными подвигами.
Нашей группе сегодня не очень весело, хотя и сильно печалиться мы не собираемся. Смерть здесь частый гость. Степана мы знаем недавно – недели две, поэтому не так уж удручены его гибелью. Но напоминание о том, что любой из нас мог оказаться на месте украинца, уменьшает прыть к веселью. Правда, жизнь есть жизнь, и мой напарник Джанко напивается. Делает он это всякий раз, когда у нас намечается нерабочий день.
У Джанко глаза черные, как у куницы. И вообще он похож на этого зверька. Длинный, подвижный, бывший баскетболист. У него было чрезвычайно скептическое отношение к женщинам. До тех пор, пока он не влюбился и стал, разумеется, смешон. Влюбился он в польку, которая по пьянке признается всем и каждому, что ей нужно заработать только на то, чтобы снять свой фильм об ужасах Боснии. Она режиссер. Снимать она будет в России, где все дешевле обойдется. Трупы – тоже. Я не знаю, что мой напарник нашел в Эльжбете. Она – худосочная блондинка, сильно красящаяся, очень много курит, никогда не отказывается от выпивки, и вообще от любого предложения за деньги. С кем угодно. Когда угодно. Где угодно. Джанко не имеет много денег, поэтому он часто одинок, от этого ревнует и напивается. Куда он девает свои деньги, мне невдомек, но у него их никогда нет, даже на мелочи; не говоря уже про то, чтобы купить любовь Эльжбеты. Раньше полька любила Джанко в долг. Но когда долг вырос до катастрофической величины, Эльжбета сказала «стоп!» Как он просил, требовал, умолял!.. Надо было видеть. Сегодня он бродит как в воду опущенный. К Эльжбете даже не подходит, и так уже в долгу по уши.
Когда я только появился здесь и ко мне прикрепили Джанко, Эльжбета пришла ко мне в комнатушку и заявила, что требует возвращения долга ни много, ни мало в тысячу шестьсот долларов.
– Вы ему давали, вы с него и взыскивайте, – употребил я вежливую форму обращения. Но я не знал, что в польском языке обращение «вы» не несет никакой нагрузки.
– Я не «вы», я польская подданная, я паненка! – с гонором заявила Эльжбета. Вид у нее был настолько заносчивый, насколько и непрезентабельный, и я улыбнулся. Она обиделась, ушла и не замечала меня с месяц. Хуже нет, когда женщина тебя не замечает. Вот и сегодня, когда пассия Джанко свободна – с сербских позиций никто не пришел, и он в пьяном виде попытался завалиться к ней – она не открыла ему дверь.
– Сука ты, сука, – посылает шепотом он проклятия в адрес соблазнительной польки. – Джелалия, до суднего данка.
– Успокойся, – говорю я ему в окно. Он обзывает меня сараевской проституткой, но умолкает.
Вместо того, чтобы идти спать, Джанко вваливается в мою комнату. Он не серб, он босниец. Его чем-то обидели братья по крови и вере. Поэтому он по эту сторону линии смерти и жизни.
– Мы – боснийцы, – громко заявляет Джанко, – жертвы рокового разделения людей на православных и мусульман, вечные толмачи и посредники, однако наши души полны неясного и недоговоренного. Мы прекрасные знатоки Востока и Запада, их обычаев и верований, но одинаково презираемые и подозреваемые обеими сторонами.
– Не кричи, – успокаиваю я его, дивясь его способности в нетрезвом виде закатывать стройные, полные определенного смысла монологи, только местами переходящие в бред.
– Мы племя, которое погрязло в двойном грехе Востока и которое еще надо спасти и искупить, только никому не известно, кто это сделает и как. На, Юрко, выпей. – И Джанко протягивает мне бутылку ракии. Он учился в Сараеве в духовной школе – медресе. Он со своими способностями сделал бы неплохую карьеру, но, к сожалению, Джанко был изгнан из медресе за буйный и неукротимый нрав… Он продолжает свою пьяную трепотню горячим страстным шепотом:
– Боснийцы – это люди, стоящие на границе, духовной и физической, на той черной и кровавой линии, которая в силу тяжелого и бессмысленного недоразумения существует между людьми, божьими творениями, между которыми не должно быть границы… Понимаешь, Юрко?
Я отпиваю глоток ароматной сливовицы и думаю о том, что мое духовное состояние тоже зиждется на разломе между Востоком и Западом.
– Когда Гаврило Принцип убил эрцгерцога Фердинанда, началась Первая мировая война! – продолжает Джанко. – А мы убиваем сотни людей, и мировая война не начинается! Это недоразумение. Это преступление! Война должна начаться… Пусть все погибнет к чертям! Джелалия, до суднега данка!
Я не хочу прогонять Джанко. Завтра мы похороним своего товарища, а послезавтра мне с Джанко идти на работу. В руках его будет моя жизнь. И послезавтра он будет трезвым, как огурчик, и хищным, как рысь. У него такое зрение, что он различает на верхушках сосен муравьев, которые забираются туда полакомиться сладкими выделениями сосновых пупышек.
– Джанко, повтори мне свою фамилию. Я запишу.
– Я Джанко Джарлзелез. – Я ищу ручку, чтобы записать столь вычурную фамилию и выучить, но ручка закатилась под кровать. О, Боже! К завтрашнему дню я опять забуду правильное произношение его фамилии и снова буду спрашивать об этом. Наверное, само действо запоминания этой труднопроизносимой фамилии следует обставить, как действо выстрела. Приготовить тетрадку, ручку, и как только он скажет это слово, тут же записать. Ручка у меня, словно второе оружие. Уединенность дает мне возможность вести записи.
Все, что произошло в Москве за последний год, кажется мне далеким и неправдоподобным сном. Мне вспоминается тот момент, когда я жил на подмосковной даче. На дачу меня привезла жена Фарида – моего абхазского приятеля по армейской службе. Ее звали Евгения. Она была старшей сестрой Людмилы. Я некоторое время жил у Фарида в московской квартире, когда он привез израненную Людмилу из Абхазии в военный госпиталь под Москвой. Фарид задержался в столице буквально на один день. Утром следующего он расцеловал детей и уехал.
…Час ночи. Сизый дым от сигарет, на свет слетаются ночные бабочки. Мы сидим на кухне и беседуем с Евгенией о жизни. Интересно, как ощущает себя женщина, у которой муж на войне, в Абхазии?
Евгения хоть и сестра Людмилы, но они совершенно разные, даже чисто внешне. Евгения элегантна и утонченна. Говорит тихим низким голосом, закутана в свой любимый черный цвет, худые тонкие руки в кольцах.
– Это новый имидж роковой женщины? – спрашиваю я, намекая, что Фарид находится в постоянной опасности.
– Да что ты! Сейчас договоришься… Просто у меня скоро день рождения, и мне уже столько лет, что я решила пока носить траур. Мне не много лет, но я последние годы не живу, а существую. Как змея под колодой. По году рождения я ведь – Змея. Моя матушка мне говорит: «Змея ты подколодная, а не просто змея! По возрасту я уже могла быть бабушкой»…
– Ну полно, Евгения… Разве в четырнадцать лет рожают?
– Людмила не родит и в двадцать пять. Она не нацелена на деторождение, она еще не выгулялась…
Я смотрю на печальную женщину. Как они познакомились с Фаридом? Вообще, Евгения немного странная. Это единственное, что роднит ее с Людмилой. Людмила проболталась мне о том, что в грудь у ее сестры вставлено маленькое золотое колечко. Прямо в сосок. Новая мода. А что делать женщине, когда мужчины воюют? Конечно, вопрос терпимого отношения к необычным проявлениям – это вопрос внутренней свободы. Насколько раскован человек внутри себя, настолько он и свободен. Мне, например, не очень повезло в жизни, потому что моя молодость не совпала со временем, когда раскрепощение было козырной картой молодежи.
– Эх, наверное, мне придется вступать в «либертарианскую» партию. Я скоро познакомлю тебя с их спонсорами. Правда, людьми с довольно темными репутациями, – говорит Евгения.
– Зачем это нужно? Чтоб сильнее ненавидеть мужчин? – спрашиваю я.
– Нет, просто для того, чтобы они для меня перестали существовать. По секрету могу сказать… Кто такой тот же самый Фарид? Он говорит, что ему нравится в постели показать свою силу. А о какой силе идет речь? Он хочет победить женщину интеллектуально или просто раздавить ее в постели? Так что мужчины – это просто сгустки амбиций, и больше ничего. Ну что, разве разумные люди не могли бы договориться там на Кавказе? Нет, все амбиции, одни амбиции… И я вынуждена быть вдовой при живом муже, а дети не видят отца по году и больше.
Я пару раз видел Евгению в сопровождении интересных молодых людей. Я давно не верю в целомудрие солдатских жен, поэтому меня не особенно волнуют Откровения дамы с золотой приколочкой в груди. Кажется, такого рода люди падки на модные поветрия и острые ощущения. Стоит только эстрадной звезде продемонстрировать пронзенные металлическими стержнями интимные части тела, и сразу секретаршам и домохозяйкам, женам бывших партработников и финансовых воротил хочется заиметь это же! Стоит в мире появиться новому наркотику, и женщины подобного рода говорят: «Дай!», «Достань!», «Укради!»
Евгения отличается от Людмилы. Она, старшая сестра, получила от мужа" большую свободу, но стала от этого более вульгарна и менее сексуальна. Кроме всего прочего, она всегда в делах и заботах, потому что Евгения – мать двоих детей. Предпочитает черные цвета, тогда как Людмила склонна носить все красное. Евгения постоянно читает то о самоубийстве Ван Гога, то о процессе над Жанной Д'Арк, то о художественном творчестве жлобствующих шизофреников. Людмила предпочитает читать журнал «Вокруг света». Это, думаю, ее единственное чтение.
Что ж, Фариду повезло. Евгения любит мир и чувствует себя свободной. Ее самооценка вполне объективна. Эта женщина достаточно гибка, чтобы принимать своего мужа таким, каков он есть, и поступать так, как ей хочется.
Людмила большего требует от мужчин; поиски самого подходящего пока не увенчались успехом. Но, кажется, я вполне ее устраиваю.
В тот вечер, когда на свет слетались ночные бабочки, не знаю, что удержало Евгению от внезапного порыва: то ли факт моего знакомства с Фаридом, то ли факт знакомства с ее сестрой.
…Через несколько дней Евгения попросила меня сопровождать ее в ночной клуб под тривиальным названием «Ночная фиалка». Там я впервые увидел Графиню. До сих пор я не знаю, почему ее так звали. Была ли то кличка или имя – остается для меня загадкой. Внешне это была довольно плотная женщина, с монголоидным, ничем не примечательным лицом, довольно статная. Зато вся она была увешана бриллиантами. Я никогда не видел столько бриллиантов на одном женском теле. Крупинки драгоценных камушков очерчивали ее грудь, овал лица, вырез на шее. Возле нее торчало пять или шесть охранников. Тогда я еще думал, что это только у Михаила Горбачева в бытность его генсеком целая свита охранников, три личных повара, три официантки и три горничные. На пару с Райкой. Но в тот вечер, когда дамы и мужчины вели заумные беседы, я впервые в жизни понял, что есть много вещей, которые я, возможно, никогда не пойму, так как мой кругозор искусственно ограничивался стенами школы, казармы, офицерского общежития. Ведь я в то время так и не разобрался, куда попал, и чем эти люди, в том числе госпожа Рашидова, как ее почтительно называла Евгения, занимаются. Только потом, когда прозвучал роковой взрыв, я понял, что имею связь не с высшим светом, а с ужасным миром, миром преступности, в какие бы благородные формы эти воры и бандюги не рядились и какими бы драгоценными камнями ни прикрывали свою алчность и хищность.
…Из Грузии, как потом мне удалось выяснить, за немалые деньги банде Графини было заказано убийство семьи Фарида. За мгновение до взрыва я почувствовал: сейчас что-то случится. Я всего лишь на пару минут выскочил из машины – купить в киоске сигарет. Резко обернулся и увидел, как синий «Москвич» с Людмилой, Евгенией и ее детьми неторопливо, будто в замедленной съемке, начал вспучиваться оранжевым пузырем. Там было не меньше трех килограммов тротила, потому что машина разлетелась, словно карточный домик под ударом тайфуна. Взрывная волна сбила меня с ног, но боли от падения на твердые ступени я не почувствовал. Все мое существо зашлось в беззвучном крике. Зачем-то я бросился к машине, вернее, к огромному полыхающему костру. А сверху уже падали обломки металла, стеклянное крошево, горящие ошметки покрышек и окровавленные куски человеческих тел. Конечно, жена Фарида и его дети погибли мгновенно, даже не поняв, что умирают. Взрыв раздался через несколько минут после того, как Евгения, повернув ключ в замке зажигания, завела машину, немного отъехала от подъезда дома и остановилась напротив табачного киоска, попросив меня купить сигарет.
– А-а-а-а! – я не чувствовал опаляющего кожу жара, слез на щеках, впившихся в ладони собственных ногтей. Убитый – не физически! – этим взрывом, я ощущал только, что теперь со всей моей прошлой жизнью в этом мире покончено, что в одно мгновение все изменилось, перевернулось.
А ведь меня предупреждали. В основном, по телефону. Тихими, спокойными голосами:
– Юрий, не лезь в это дело…
– Юрий, ты же знаешь, чем все кончится. Фарид будет мертвецом, и его жена, и его дети… Брось… Забирай Людмилу из госпиталя и уезжай.
Я вызывал Фарида, а он все не ехал и не ехал.
– Сколько ты стоишь, Юрий? Назови цену… Таких звонков было много.
Я, только я виноват в их смерти! Почему не придавал значения этим звонкам? Не верил. Нужно было отправить женщин и детей куда-нибудь в деревню. Или в другой город. Тогда, возможно, все было бы по-другому. А теперь ничего нельзя изменить.
…Приехавшие через двадцать минут милиция и пожарные вскоре залили огонь. Найти то, что осталось от тел, чтобы сложить целого человека, практически не представлялось возможным. Я подобрал с земли кусочек человеческой плоти с маленьким золотым колечком. Как все это было ужасно!
На следующий день в могилу на ближайшем кладбище опустили четыре гроба: с завернутыми в простыни кусками тел – Людмилы, Евгении, и два маленьких – гробики детей.
…Фарид не приехал хоронить жену и детей. Он появился через неделю и по-звериному завыл над могилами, над рухнувшим миром, чувствуя, как медленно умирает, а на его месте рождается кто-то другой, сухой и беспощадный, и разорванную душу затягивает спасительная глухая корка ненависти. Он выжил. Он умер.
Я передал ему завернутое в платок маленькое золотое колечко. Он молчал, ничего не говорил. Вскоре Фарид исчез. А потом мне стало известно, что, вооружившись до зубов, он нашел организацию, по его мнению, выполнившую заказное убийство, изрешетил все там, забросал гранатами и был убит сам. Милиция разыскивала меня, как возможного свидетеля, но я воспользовался своей свободой – не был ни прописан, ни зарегистрирован в Москве, и я не явился даже на опознание изуродованного тела Фарида.
А через некоторое время я очутился здесь, в Боснии, в качестве снайпера. Снайпера-наемника. Теперь я убиваю за деньги, потому что в Москве мне придется убивать бесплатно. Меня тоже убьют бесплатно. Моя жизнь ничего не стоит, никто не даст за нее и гроша. Поэтому я здесь и продаю чужие жизни. Очень выгодный товар. Верный выстрел стоит для меня двадцать долларов. Плюс крупные суточные.
…На следующий день после похорон Степана, едва стало светать, мы отправляемся вдвоем с Джанко к прежнему месту дислокации. Обычно после удачного выстрела необходимо обязательно поменять позицию, поскольку противник знает, откуда произошел выстрел, и будет особенно бдителен. Но я-то ведь произвел выстрел с другого места! Это опять моя маленькая хитрость: выследить жертву с одного места, а произвести выстрел совершенно с другого. Эта тактика не совсем безупречна, поскольку время, за которое ты меняешь позицию и пытаешься выследить противника, очень большое, и цель очень часто или уходит, или с нового места вообще невидима. Стрелять наобум, наудачу – не профессионально.
Бывает, что снайпер приходит на старую засидку спустя два-три дня. Мало шансов, что за можжевеловый куст снова придут боснийцы. Если же сунутся – я причислю их к числу своих жертв. Ведь они не знают моего секрета и предательства утреннего солнца. Они обязательно займут эту позицию через некоторое время.
Напуганные провалом – смертью Степана, – мы уходим вглубь сербской территории, поближе к позициям сербских отрядов. Это почти рядом, что обезопасит нас. Сегодня сделать прицельный выстрел я вряд ли смогу, но буду работать на будущее – высматривать.
Мы карабкаемся вдоль ручья на гору. Эта гора значительно выше той, на которой была предыдущая позиция. Но она и более камениста, здесь сосны не так высоки, и кроны их совсем не густы. Очень трудно найти подходящее местечко для снайперского гнезда.
Вот-вот взойдет солнце в этом молочном прекрасном утре, и я потеряю возможность проследить черную тень за кустом. Сооружение снайперского гнезда я откладываю на потом, а сам быстренько забираюсь на сосну и укрепляю подзорную трубу. Утро очень серое, видимость совершенно не та, как вчера. К тому же, едва солнце взошло над покатыми горами, тут же прячется за светлые облака с хмурыми краями. Что же, я ничего не успел заметить. Утешая себя тем, что на прежнюю позицию противник вряд ли сунется, поскольку она засвечена, я начинаю высматривать с высоты место для нового гнезда. К позициям боснийцев далековато, и они невидимы, даже если взобраться на самые высокие деревья. Повинуясь безотчетному чувству, я навожу подзорную трубу на вчерашнее свое собственное гнездо. Бог ты мой! Там устроился полностью закамуфлированный снайпер. Эта "дерзость восхищает. Расчет верен. Мы не сунемся на старую позицию, а он из моего гнезда пожнет обильную жатву. Я мгновенно спрыгиваю с дерева, чтобы вооружиться, и закинув СВД за спину, как медведь, карабкаюсь на совершенно голый ствол сосны. В прицел винтовки ловлю свое гнездо. Оно пусто! Прозевал! Но сегодня у нас будет охота на барсука. Так условно мы называем уничтожение снайпера противника, местоположение которого засвечено по выстрелу, или есть другая информация, чаще косвенная, что стрелок находится в определенном районе.
Джанко понимает меня с полуслова. Мы бросаемся на вчерашнюю гору. Метров сто-двести можно бежать сломя голову и не опасаться шума. А на подходе к горе мы затаиваемся и продвигаемся медленней. У ручья я черпаю грязь и размазываю ее по лицу. То же самое совершает и Джанко, только он выкапывает желтую с голубыми вкраплениями глину и мастерски-художественно украшает щеки, лоб, даже уши.
Главное в таком бою – первым увидеть противника. Мы идем цепью, если можно назвать цепью двух человек, идущих на расстоянии ста метров друг от друга, фронтом. Тело напряжено, уши реагируют на каждый звук. Неожиданно Джанко останавливается. Я тоже замираю. Всматриваюсь в серо-зеленую глубину. Из каждого квадратного сантиметра зелени на меня может смотреть винтовочное отверстие. Я чувствую опасность. Мои глаза не видят противника, но я чувствую, что он рядом. Это чувствует и Джанко. Если мы рассчитывали б только на глаза, нас давно бы отпел сербский батюшка. Или меня русский, а Джанко… Впрочем, Джанко не был ни в Афганистане, ни в Абхазии… Когда я убивал людей, он еще изучал Коран и гонял по площадке баскетбольный мяч.
Джанко меняет позицию – он скрывается за тонкой и худосочной сосной, которая зачахла в тени своих более дородных родственниц. Зачем он это сделал? Ведь можно было укрыться за соседнее, более толстое и надежное дерево.
Больше он уже никогда не будет прятаться за ненадежное укрытие. Урок, преподанный невидимым снайпером, был болезненным и кровавым. Как только Джанко замер в неподвижности за сосенкой, прозвучал выстрел. Пуля ударила в хрупкий ствол и задела плечо Джанко. Я наугад выстрелил в сплетение ветвей. Джанко упал и тоже выстрелил. Я стреляю еще несколько раз. В ответ – тишина. Мы затаились. Минуты тянутся медленно. Джанко переметнулся за другое, более толстое дерево. Снова стреляет. Мы продвигаемся вглубь леса. Противника нигде нет. Наше продвижение очень медленное. Джанко страхует меня, я перескакиваю в выбранное укрытие. Потом я страхую Джанко, пока он не подтянется. Но вражеского снайпера нигде нет. Он как в воду канул. Потом мы обнаруживаем тоненький кровавый след. Его задела пуля. Вероятнее всего, попала в руку или ногу. Раненый зверь будет уходить в свое логово. Вряд ли мы его догоним.
Действительно, мы вышли по лесу почти до самого моста и – без результата. Неужели снайпер прямо по мосту пришел к нашим позициям? Это невозможно, так как мост контролируется двумя-тремя снайперами с сербской стороны. Каким путем он пробрался на нашу территорию? Как бесследно исчез? Эти вопросы не дают нам покоя. Можно устроить засаду и ждать день или два. Но сегодня это бессмысленно. Стрелявший давно по ту сторону реки.
Пуля довольно сильно задела плечо Джанко. Вспорола кожу и добралась до мышечной ткани. Разорвала крупный кровеносный сосуд. Кровь так и хлещет. Делаю напарнику перевязку. Ему не больно, но он злится.
– Джелалия, до суднега данка! – ругается он. Кровь проступает сквозь бинты. Дня три-четыре, а то и целую неделю я останусь вообще без напарника.
– А что, Джанко, обозначает слово «джелалия»? Выражение «до суднега данка» мне понятно. Это – до судного дня.
– Джелалия – тот, кто убивает людей, которых закон приговорил к смерти…
– Палач, что ли? – спрашиваю я, но Джанко морщится от боли и ничего не отвечает.
Мы возвращаемся на прежнюю позицию, и я устраиваюсь за стволом дерева. Понимаю, что на сегодня это все. Занять более удобную позицию и попытаться кого-нибудь выследить нам уже не удастся. Поэтому я только просматриваю дорогу от моста в тщетной надежде, что на ней кто-нибудь появится.
…Вечером Джанко опять напивается и заваливает ко мне. Если он будет ко мне ходить, подумают, что мы голубые. Пусть он хоть говорит, пусть говорит громче. И он говорит:
– Все люди на свете такие же, как и мы, и все ждут одного – смерти. А тем временем живут так, как я тебе рассказывал. Так вот, если ты ненавидишь себя… Ты ненавидишь себя?
– С чего ты взял… – отвечаю я.
– Слушай дальше. Ну так вот; если ты ненавидишь себя, тогда можешь ненавидеть и китайцев, и курдов. Можешь ненавидеть немцев, итальянцев, румын – всех, кого хочешь. Что до меня, то я ненависти к себе не питаю и не вижу в этом необходимости. А раз это так, то я не могу ненавидеть и кого-то другого. Может, мне и придется когда-нибудь пожалеть человека для того, чтобы он убил меня, но, черт побери, чего ради мне его ненавидеть? Да пропади я пропадом, если, пожалев человека, подумаю, что сделал плохое дело! Будь я проклят, если подумаю, что не сделал этим самым чего-нибудь для себя, для своей души, или для тебя, Юрко, или для истины, или для мира, для искусства, для поэзии, для родины… Понял теперь?
– Кажется, да, – отвечаю я. – Ты убежденный противник войны? Не правда ли?
– Ерунда, – отвечает Джанко, свесив голову, бутылка ракии в его руках со стуком касается пола, – плевал я на убеждения. Противиться войне, когда она развязана или может быть развязана, это все равно что противиться урагану, который оторвал твой дом от земли и уносит его в небеса, чтобы потом грохнуть оземь и расплющить с тобой вместе. Если ты против этого протестуешь, то уж наверняка убежденно. Да и как же, черт возьми, иначе?
– Что иначе? – не совсем понимаю я.
– Я же и говорю, что толку с этого? Ураган – дело рук Аллаха. Война, может быть, тоже – я не знаю. В Африке чуть ли не все время воюют, и не понять – за что. Они ж там все бедные, и делить в общем-то нечего. Но подозреваю, что войны просто кому-то очень выгодны. Я войну не люблю. А ты, Юрко?
– Ненавижу ее всею душой. Но если я сюда попал и по своей воле стал профессиональным военным, что я могу поделать? Разве что ООН нам станет выплачивать денежное вознаграждение, чтобы мы никого не убивали? А? Как ты, Джанко, на это смотришь?
Он достает сигарету, глубоко затягивается и меняет тему разговора, так и не ответив на мой шутливый вопрос:
– Мы все ждем смерти, а сигареты помогают нам ждать.
– А ты не жди ее. Живи себе, радуйся жизни, – пробую я советовать. Но напарник не слушает меня. У него со мной диалога не получается. У него, как у актера, монолог. Он курит, смотрит куда-то вдаль и на минуту умолкает.
– Хорошая вещь сигареты, – продолжает Джанко. – Без них и войны не было бы. Понимаешь, они слегка одуряют, ровно настолько, чтобы ты мог поддаться еще большему одурению, но не доходил до безумия. Что-то в тебе не хочет, чтобы тебя превращали в робота, в пешку, которую не жалко и которой всегда можно пожертвовать. И приходится это что-то успокаивать, заглушать небольшими дозами смерти – сном, забвением, дурманом – при помощи табака, алкоголя, женщин. Или чего бы там ни было. Приходится все время ублажать это что-то, потому что оно ужасно чувствительно. Оно возопит в тебе, если не успокоишь его вовремя.
– Ну ты зафилософствовался, Джанко, – пробую я остановить его. Напрасно. Он продолжает:
– Обычно мы его убаюкиваем по не очень серьезным поводам, но здесь положение посерьезнее, и ты вынужден усыплять это нечто всеми доступными средствами и подчас доводить его до полного бесчувствия, если уж очень солоно придется. Но беда, если ты потеряешь меру и, вместо того, чтобы усыпить его, убьешь. Ибо этим ты убьешь себя – тело твое еще будет жить, но истинная жизнь в тебе умрет, и вот самое страшное, что может случиться с тобой во всей этой дурацкой истории.
Я перестаю слушать своего напарника. Мои мысли обращаются внутрь. Иногда я все-таки задаю себе вопрос – зачем мне все это. Будто на «гражданке» не найдется тысячи и одного дела, куда более интересного, чем этот весьма специфический кровавый мазохизм. Ведь никто не гнал меня в шею, не заставлял, не гонялся с милицией и не грозил судом и расправой. Я сам, по собственной воле, освященной давними привычками не подчиняться никому, выбрал себе это занятие.
Если копнуть глубже, окажется, что причины, которыми я сам себе это объяснял, не выдерживают серьезной критики. Да, наша служба развалилась. Вина этому – демократизация в стране, или в чем-то другом, но мы вдруг все оказались не у дел. У меня не было работы. Ребята быстренько начали расходиться по службам охраны коммерческих структур. Я был занят другим. Я пытался наладить свою жизнь. Но природа не прощает отхода от своего естества. Людмила лежала в госпитале, ей делали вторую операцию на гортани. Мне нужны были деньги, и я влез в охранники господина Беркутова. Мне не приходилось выбирать. И что же? Я прогорел на службе. Беркутов оказался не тем, за кого выдавал себя. Но ведь я мог бы найти босса менее крутого, фирму победнее, которая возит греческие апельсины, а не занимается наркотиками крупными партиями. Мне не надо было рисковать, надо было играть «по маленькой».
А потом этот кровавый взрыв. Депрессия, не было работы, слонялся без дела, водил компанию с медленно опускающимися дегенератами, готовыми за бутылку к самому постыдному. Очнулся, понял, что на Земле должно быть место и для меня. И поскольку я умел хорошо делать свое дело, то это место нашлось именно здесь, в Боснии. На удивление, жизнь снайпера, поначалу показавшаяся невыносимо пресной, через некоторое время стала открываться мне во все более привлекательном свете. Нервы, издерганные опасностями московской жизни, понемногу пришли в норму, и у меня впервые за неизвестно сколько месяцев появилась возможность спокойно, без спешки и суеты, подумать обо всем, взглянуть на себя со стороны, отрешиться от вечной погони за успехами. За успехами на службе, в повышении квалификации. Умения убивать людей хватит уже надолго. На всю жизнь.
Уединенность в каморке постоялого двора дает возможность вести дневник, зашифровывая записи (на всякий случай). Эти записи помогают оценивать себя, сосредоточиваться на достижении цели, видеть мир во всей полноте и относиться к себе, как к частице этого мира, логичной и необходимой в данное время и в данном месте.
…На следующий день ко мне в комнату приходит Андрия Зеренкович. Он приводит нового напарника. Я смотрю на невысокого, коренастого, немолодого человека и начинаю улыбаться. Потом начинаю хохотать. Передо мной стоит в качестве наемника следователь по особо важным делам одного из управлений московской милиции Федор Чегодаев. Именно с ним мы заварили кашу в Москве, которую ему пришлось расхлебывать одному.
– Ты чего ржешь? – тоже хохочет Федор. Андрия не понимает причин нашего смеха, он несколько обескуражен, но не подает виду.
– Ты тоже здесь? – спрашивает Федор.
– И ты тоже! Что, коммерсанты мало платили? – спрашиваю я. В свое время ходили слухи, что Чегодаев немного нечист на руку.
– Ты же знаешь, Юрий, я взяток не беру. Иногда мне платили за услуги… Это законный гонорар, – бывший следователь перестает смеяться и начинает оправдываться.
– Ничего, Федя, сработаемся. С «босняков» взятки гладки, – размазывая слезы по глазам, говорю я.
Андрия Зеренкович понимает, что волею случая мы оказываемся знакомыми. Обстоятельства облегчают ему Процесс объяснения правил службы. Этим займусь я.
Когда он уходит, Чегодаев обижается на Зеренковича:
– И чего им надо? Я выбил десятью патронами девяносто девять очков. Почему меня определили в группу поддержки? Ведь я неплохо отстрелялся, а?
– Даже если бы ты выбил все сто, ты пошел бы напарником, – отвечаю я. – Тебе нужно привыкнуть, осмотреться. Слушай, ты не хочешь искупаться?
– Так осень же, холодно.
– Здесь есть одно чудесное озеро, до него километра четыре. Туда, за наши позиции. Оно в котловине, ветра нет, вода прогревается до теплоты парного молока, – соблазняю я Чегодаева. – Бросай вещи в мою клетушку, после разберемся…
– Оружие брать?
– А то как же. Ну, расскажи, что там делается в первопрестольной? У тебя такой довольный вид, словно ты вырвался из ада.
– С чего ты взял?.. – Чегодаев хмурится, у него явно что-то не в порядке.
– Да на лице, говорю же, написано…
– На лице написано, что мне жить не хочется. Ты знаешь, почему я здесь? Вот, то-то. Беркутова убили!
– Убили! – восклицаю я.
– И за границу уезжал, а все равно его выследили и кончили.
– Кто? – мое любопытство возрастает.
– Как это кто? Палач!
Федор умолкает. Пока мы идем, воспоминания захлестывают меня. Начиная с того дня, когда я уехал из Абхазии и вплоть до того момента, когда появился Палач, и я познакомился с Беркутовым.
…Я тогда по совету Алексея, своего старого приятеля и сослуживца, пошел на службу в ОМОН. Нужна была хоть какая-то работа после развала нашей спецслужбы. Там меня и свели с Федором Чегодаевым. Помнится, привычно бросаю в рот согнутую пополам пластинку жвачки и в упор смотрю на нового напарника. Делаю этот жест, чтобы вызвать к себе приступ антипатии. Зачем мне это нужно, не понимаю сам, но соображаю, что самодовольный вид жующего жвачку верзилы, то есть меня, выведет из себя хоть носорога, а не только немолодого оперативника, каким казался Чегодаев. Мы познакомились полчаса назад, и произошло это следующим образом.
– Язубец! – меня окликают. – Зайдите ко мне. В закутке, где с трудом умещается стол моего начальника, на стуле рядом с дверью сидит невысокий широкоплечий немолодой человек.
– Познакомься, Юрий! Это твой новый напарник, Федор Чегодаев. Служил в КГБ.
Помнится, я тогда поморщился и первым не протянул руку: кто любит новых людей, которые значительно старше тебя, служили раньше в КГБ, и, того и гляди, тебя подставят?
– Язубец, Юрий, – пришлось представляться. Спрашиваю дальше: – Надеюсь, ты не такой зануда, как мой бывший напарник?
– Можешь не сомневаться, – улыбается Федор и пожимает мою руку. Рукопожатие сильное, чувствуется, что человек, с которым мне придется работать, не слабак.
– Ну, вот и познакомились, отлично! Федор попросил прикрепить его к лучшему работнику нашего спецподразделения. И я выбрал тебя, Язубец, – говорит мой начальник.
Я криво улыбаюсь.
– А что, – продолжает начальник, – ты парень опытный, в самом расцвете сил. Правда, в милиции недавно, но это ничего… Хорошо, когда такие ребята идут в милицию, а не туда, к ним… Правда?
– Ты действительно сам напросился ко мне? – спрашиваю Федора уже в машине.
– Да. Попросился к лучшему. Начинать надо с лучшими, тогда и сам будешь неплохим, – отвечает Чегодаев. У него удивительно красная кожа на лице. Кожа здоровяка, который никогда не курил, пьет только кефир, каждое утро делает десятикилометровую пробежку, но количество извилин у таких субъектов, как правило, оставляет желать лучшего.
– Ну-ну…
«Только этого не хватало – учить других», – на меня накатило раздражение, хотя глубоко внутри я чувствовал, что мнение новичка мне льстит. Я уже успел узнать кое-что об этом человеке. То, что он когда-то служил в армии, – это безусловно, плюс. По крайней мере, у него есть хоть понятие о дисциплине. Во всяком случае, это лучше, чем приход в милицию со студенческой скамьи, или того похлеще, со школьной парты. Но то, что он пришел сразу после службы в КГБ – это очень, очень плохо. Большой минус. А если он еще и зануда… Я вздохнул – ладно, работать нужно с теми, кто есть, а не с теми, кого воображаешь.
Первое задание, на котором пришлось увидеть Федора в работе, последовало в тот же день. Очередной придурок, обкурившись или нанюхавшись дезодоранта, захватил заложников в библиотеке, и наша машина быстренько примчалась к месту происшествия. Федор выругался и сказал:
– Срань господня, сколько этих сумасшедших развелось в Москве! Сколько их на Арбате стоит! Взять бы да танком шурануть их всех оттуда…
Он думал, что я каким-то образом отреагирую на эту фразу, но я молчал.
– Пошли, – сказал я, и мы выскочили из машины, на ходу вытаскивая пистолеты. – Держись за мной и не подставляйся!
Федор чуть заметно улыбнулся: – Ладно, папка.
Меня всего передернуло: ведь я всего лет на шесть моложе. Что заставило его пойти в ОМОН? Ну и что, если он служил в спецуправлении КГБ, своим телом заслонял Горбатого от дробовиков? Ладно, посмотрим, как он проявит себя не в разговорах, а на деле.
Он тоже достал свою «пушку», и я заметил, что Федор тайком поцеловал оружие.
«Смотри-ка, он уже заимел свои нервные выходки… Псих… Патология какая-то!» – подумал я, взбегая по ступеням к тяжелой резной двери с огромными ручками.
…Мы ворвались в холл, держа свои «пушки» стволами вверх и вертя головами по сторонам.
– Наверх! – коротко скомандовал я, а сам побежал осматривать первый этаж. В читальном зале я сразу же наткнулся на труп девушки. Она лежала на спине, неловко заломив руки, а во лбу ее чернела аккуратная дырочка. «Это „наган“, – отметил я и побежал в следующее помещение.
Здоровенный тип с лицом дебила, увидев меня, мгновенно загородился молоденькой библиотекаршей, приставив ей к виску вороненый ствол «нагана».
– Отпусти заложницу и брось «пушку»! – я застыл в классической для таких случаев позе – чуть согнутые ноги на ширине плеч, пистолет в вытянутых вперед руках.
– Проклятый мент! – завопил псих. – Ты хочешь меня убить! Все хотят меня убить! Ну так я сам всех убью! Брось «пушку», брось, или я убью ее.
Револьвер в его руках ходил ходуном. Сколько в одной только Москве психов? «Убьет!» – понял я.
– Ладно, я кладу свою «пушку», только успокойся! Видишь, кладу, – я осторожно положил на пол свой пистолет.
– Отпихни в сторону!
– Отпихиваю.
Я двинул ногой, и мой пистолет скользнул по полу и «уехал» под стеллаж. Ах, черт!
– Теперь ты мой заложник! Иди сюда и ложись рядом на пол мордой вниз!
– Хорошо, хорошо… – я сделал осторожный шаг в сторону, прикидывая, что он может предпринять в этой ситуации. Пожалуй, если подойти поближе, то можно… И в это время позади раздался крик:
– Руки вверх! Милиция!
Дьявол! Я обернулся. В дверях стоял в классической позе Федор Чегодаев. Ствол его пистолета был направлен на психа, загородившегося девушкой. Господи, да его же нельзя злить, он в любой момент может пристрелить девчонку!
– Урод! Легавый урод! – с губ сумасшедшего слетала пена, но он едва выглядывал из-за девушки. – Ей крышка, ты понял? Теперь ей просто крышка! Я вышибу ей мозги! Я всем вышибу мозги! Брось «пушку», говнюк!
Неожиданно для меня Чегодаев улыбнулся и воскликнул:
– Прямо как в кино! Маньяк взял заложницу, грозит расправиться с ней, и полицейский бросает пистолет. Ты что, видиков насмотрелся?
– Брось «пушку», я считаю до…
– Это не кино, – жестко сказал Чегодаев.
• Грохнул выстрел, голова сумасшедшего дернулась. Стена за его спиной окрасилась кровью и мозгами, псих рухнул на пол. Рядом бессильно осела на пол спасенная заложница и зарыдала.
Секунду я молчал, застыв с открытым ртом, потом заорал на Федора:
– Ты идиот! А если бы ты попал в нее!?
– Почему? Я же не слепой.
Я едва не задохнулся от гнева на этого молодца:
– Кретин! Ты… В таких случаях работает только снайпер! А если бы…
Чегодаев ухмыльнулся:
– Видишь муху?
Я машинально повернул голову. По дальней стене ползла муха. Чегодаев, не целясь, спустил курок. На месте мухи появилась дырка.
– Даже если бы из-за заложницы торчала только головка его вонючего члена, я бы его все равно отстрелил.
Я поразился. Так классно материться, наверное, умеют только в КГБ. Стрелять тоже.
– Где ты научился…
– Да в армии.
– В каких же войсках ты служил, черт тебя раздери?!
– Спецбатальон… А где твой пистолет?
Я спохватился, кряхтя лег на пол и сунул руку под стеллаж, нашаривая свой пистолет. За окном завыли милицейские сирены.
…Через полгода я уже не представлял себе жизни без Чегодаева. Помнится, что я регулярно приходил к нему на дом, мы устраивали совместные рыбалки, выезды на природу. Даже Людмиле, когда она еще была жива и немного оклемалась, он нравился. Многое и не помнится. Не помнится, как ругались с ним, как я вечно задирался, завидуя его хладнокровию и гораздо более широкому кругозору, удивительно точному анализу того, что происходило в Москве. Помнится, однажды он пригласил меня на день рождения его жены.
– Значит, сегодня в семь! – повторил Чегодаев, – и не опаздывать, а то Вероника в ожидании гостей вся издёргается.
– Я помню. – Я улыбнулся. За время совместной работы я полюбил бывать дома у Чегодаевых, подружился с его тещей и детьми.
Теперь нужно только подумать, что подарить им, заскочить в магазин. Детям – игрушки, Веронике, жене Чегодаева, наверное, духи.
Я пожал руку Федора, собирающегося уже вылезти из машины, но бросив взгляд на улицу, застыл, не отпуская руки Чегодаева.
– Что такое?
– Щекатилин, – выдохнул я.
– Где?
На этого подонка два года назад был объявлен всесоюзный розыск. Выйдя из стоящей впереди машины, Щекатилин как ни в чем не бывало подошел к газетному киоску и стал листать журналы.
– Что делаем?
– Берем, конечно…
Я моментально защелкнул наручники на руках Щекатилина. В руке бандита так и осталась развернутая газета.
– Попался, голубчик!
Я стоял спиной к машине Щекатилина и не видел, как из-за опустившегося тонированного стекла выглянул ствол. Чегодаев, который прикрывал меня, успел прыгнуть и загородить меня от выстрела. И два раза выстрелить внутрь салона.
Услышав выстрелы, я мгновенно повернулся, рванул из-за пояса пистолет и увидел, как падает Чегодаев.
Пуля прошла рядом с сердцем.
Ночами я и убитая горем Вероника попеременно дежурили у кровати Чегодаева.
А через полтора месяца Вероника с детьми и я приехали забирать исхудавшего Чегодаева.
Тогда же я обрадовал его:
– Тебя повысят в звании и дадут более ответственный участок работы. Из разряда гончих и бультерьеров ты переведен в разряд (я нагнулся к нему и прошептал в ухо) благородных легавых, которые только одним своим умным видом заставляют трепетать мафиозные кланы, занимающиеся торговлей опиумом в больших количествах. Ты доволен?
– А то нет! – улыбнулся пересохшими бледными губами Чегодаев.
…Вот почему я рад видеть здесь, в Боснии, старого приятеля и надежного товарища. Пусть есть у него свои недостатки, но с ними приходится мириться. В конце концов, я тоже не золото.
По дороге я объясняю условия службы. Они просты. Если работаешь за деньги, служба упрощается. Она становится примитивной. Вот почему с наемниками нет проблем. Проблемы начинаются, когда задерживаются выплаты. Но до сих пор с выплатой денег у нас все в порядке.
От озера тянет едва уловимой прохладой. Вот и оно. Я вхожу в воду, словно в жидкий янтарь, и у меня перехватывает дыхание, потом я ныряю. Столбы солнечного света в изумительно прозрачной изумрудной толще, чуть колыхаясь, упираются в чистое песчаное дно. Я с шумом выныриваю, отфыркиваясь и вертя головой. Плыву – руки взлетают из воды, блестящие, будто покрытые лаком, и, позлащенные солнцем, сгибаются и опускаются, играя каждым мускулом; вода струится вдоль тела.
На берегу я падаю на песок, вновь обретая тяжесть костей и плоти, и безвольно лежу, размякнув от солнца, изредка поглядывая на свои руки, следя, как с них скатываются капельки воды, и там, где кожа высыхает, показывается золотистый пушок и пятнышки родинок. Мучительный комок подкатывает к горлу: когда я смотрю на свои руки, мне всегда вспоминается Людмила. Но ее нет, она, в конце концов, уничтожена физически. Поначалу это было страшно сознавать, но время сделало свое. Образ Люды становится менее ярким. Я перестаю фантазировать на эту тему, понимая, что предаваться бессмысленным мечтаниям означает признавать себя ущербным. Я ущербным себя не считаю, наоборот. Мне иногда кажется, что я избранник. Мое избранничество вовсе не то, что называют свободой от морали или от обязательств перед другими. Нет, тут другое. Это право поступать согласно истинной природе вещей, следовать своим склонностям. В конце концов, право безмерно любить. В известной степени здесь я вправе ставить на карту свою жизнь, жизнь, согретую теплом, которое излучают камни, полное тишины озеро и стрекот кузнечиков. На меня нахлынула волна воспоминаний.
…В тот вечер я сидел дома – у себя в комнате в общежитии – и смотрел телевизор. Потом пришел Чегодаев. После ранения он неожиданно быстро пошел на повышение. Это было понятным. Кто станет держать на задворках классного работника, как поговаривали, а я точно знал, из КГБ? Сейчас Федор уже не мог бегать за преступниками, сломя голову. Потом он мне признался, что в свое время был главным инструктором одного из подразделений КГБ, занимавшихся организацией охраны первых лиц государства, но прогорел и был вынужден уйти. В тот вечер он сказал мне следующее:
– Говорят, что Беркутов, который является одним из доверенных лиц пахана, который контролирует вот эту часть Москвы, – рука Федора скользнула по прикрепленной к стене моей комнаты карте, – заявился в милицию и попросил, чтобы его арестовали. Он не чувствует себя спокойно, несмотря на то, что у него куча охраны. Но за последние пять месяцев погибло уже 12 человек – разных членов мафиозных структур, начиная от рядовых торговцев наркотиками и заканчивая главами крупных коммерческих организаций. Они погибли от руки таинственного убийцы, которого прыткие журналисты окрестили Палачом. Он убивает преступников чаще всего грузинской национальности, а также тех, кто занимается наркотиками…
Я крякнул. Как обыватель, я ничего не имел против того, что кто-то, кого пресса окрестила Палачом, убивает продавцов наркотиков и их подручных. Но как товарищ руководителя спецотдела милиции, которое занималось поиском подобных типов, я был в курсе всех событий и тихо ненавидел этого неуловимого психа. Журналисты пописывали, милиционеры искали, а Палач делал свое дело. Да кому было дело до Палача, если его разыскивали самые вездесущие и отъявленные головорезы Беркутова, чтобы отомстить, и не могли его найти. Федору поручили разобраться с этим Палачом. Что у него имелось? Стреляные гильзы, куски взрывных устройств, в которых специалисты из КГБ узнавали армейские образцы, да еще метательные ножи, иногда оставляемые Палачом на местах совершенных преступлений.
Палач отлично метал ножи, точно попадая ими в цель с большого расстояния.
– Знаешь, Юрий, он всегда появляется внезапно, – рассказывал Чегодаев. – Неизвестно откуда и непонятно куда исчезал, будто растворялся.
Конечно, были свидетельские показания. Редкие свидетели, которым посчастливилось видеть Палача, описывали высокого, плотного человека с широкими плечами. Правда, иногда в описаниях фигурировали длинные волосы, иногда короткие. Иногда усы, которые исчезали в описаниях свидетелей следующих преступлений. А пару раз свидетели описали Палача как лицо кавказской национальности.
– Не удивлюсь, если Палач в следующий раз окажется эскимосом! – пошутил я. – А эскимоса от грузина ты как-нибудь отличишь?
– Юрий, мне не до шуток, – продолжил Чегодаев. – Так вот, я пришел к тебе предложить быть охранником у Беркутова.
– Что? У Беркутова? А как он меня возьмет? – удивился я столь странному предложению. Беркутов был крупным финансовым тузом, но не только. Он ворочал капиталами с темным прошлым.
– Ты уже знаешь, у нас на службе было создано спецподразделение, которое занимается Палачом. Сначала думали о том, что все эти убийства совершают разные люди, но позже милицейские аналитики, проработав данные на компьютере, склонились к тому, что, несмотря на разницу описаний внешности, все преступления совершены одним человеком, крупным и высоким. А косметические детали внешности, цвет кожи – все это можно изменить гримом. Мне важно иметь своего человека в охране Беркутова, поскольку есть сведения, что Палач готовит на него покушение.
– Ты что, Федор, мне хорошо и в ОМОНе, – попробовал отвертеться я от такого странного и рискованного предложения! Но Чегодаев, наверное, проходил в КГБ курсы по психологии вербовки.
– Понимаешь, можно даже говорить о почерке Палача, при всей несхожести преступлений. Взрывчатка, метательные ножи, арбалет с оптическим прицелом – инструментарий Палача пестр, но некоторые детали, скажем, внезапный приход и исчезновение, совпадают. Если у нас будет такой опытный охранник, каковым являешься ты, то мы не столько обезопасим Беркутова, как сможем поймать Палача. Юра, соглашайся…
Я помолчал, вздохнул. Нужно ли мне было новое приключение? Или я тогда подсознательно, из чувства благодарности Федору решил ввязаться в это дело?
Я был наслышан об этом загадочном убийце. Сопоставляя отрывочные данные о Палаче, я однажды вдруг понял, что им может быть только один человек. Потому что во всех преступлениях прослеживался один мотив – месть. Месть группировкам, которые занимаются наркотиками.
– Я тебя в шею не гоню, ты подумай.
Чегодаев ушел, а я стал смотреть телевизор дальше, одновременно читая газету и думая о странном предложении.
Неожиданно зазвонил телефон.
– Я слушаю.
Звонил Чегодаев. Опять будет уговаривать.
– Я тебе говорил! Дом Беркутова взлетел на воздух. Одни руины остались. Но почти никто не погиб, – Беркутов с семьей дома не ночевал.
– Что значит – почти никто? Есть жертвы?
– Да. Нашли труп неизвестного, в спине кинжал, длинный и тонкий.
– Причина смерти?
– Эксперты скажут только после вскрытия. Скорее всего неизвестный погиб от взрыва, а кинжал воткнули уже в труп, как расписку. Мы опросили соседей. Никто не видел, чтобы вносили ящики или какие-нибудь иные вещи… Неужели ты мне не поможешь? Юрий?..
– Это по твоей части.
– Эх ты, Юрий… – в трубке послышался шумный вздох.
Я больше всего боялся этого момента. Когда Федор пустит в ход последний аргумент: мол, я за тебя жизни не пожалел, а ты не хочешь рискнуть ради моей карьеры. Я понял, что Федору во что бы то ни стало надо было поймать Палача, чтобы зарекомендовать себя перед начальством.
– Мне подъехать туда?
– Подъедь.
Ничего особенного я не ожидал увидеть. Подобное я не однажды видел. Бегали люди, суетились корреспонденты, мигали пожарные, скорые и милицейские машины. Но ничего такого, что могло пролить свет на это очередное преступление, я не нашел. Походив по развалинам, попрыгав через лужи, налитые пожарными брандспойтами, понюхав гарь, я плюнул и пожалел, что бросил свой диван и телевизор.
У пожарной машины меня остановила молоденькая, очень стройненькая и такая же глупенькая журналистка. Я знал ее. Кажется, ее звали Светланой. Она писала репортажи со всех мест преступлений, и многие пользовались ее услугами. Ее было достаточно завести в кафе, угостить шампанским, хорошим обедом и рассказать две-три детальки, отталкиваясь от которых дальше работала ее фантазия.
Но Светлана была страшно прилипчивой и могла преследовать свою жертву до бесконечности, пока ее не остужали при помощи крепких выражений. Когда я увидел ее, то ощутил раздражение.
– Юрий Язубец? – тихо спросила она, с заговорщицким видом подходя ко мне, словно к старому приятелю. – Что делает здесь рядовой ОМОНа?
Блондиночка знает мое имя. Однажды, в нарушение всех инструкций, к нам в подразделение привели эту журналистку, и она брала у нас интервью. Когда она попросила, по старой привычке, назвать фамилию лучшего, мой начальник, глазом не моргнув, назвал мою фамилию. По моему взгляду журналистка поняла, что появление моей фамилии в газетной статье крайне нежелательно. Фамилия поэтому не появилась, но девушка не пожалела красок, описывая «мужественного воина ОМОНа, с волевым красивым подбородком, бесстрашно сражающегося с преступным миром» и т. д. Явно я Светлане понравился.
– Никаких комментариев, – обрезал я.
– Вы тоже склонны к версии, что Палач – это муж одной из погибших? – она не обратила ни малейшего внимания на мои слова.
«Боже, откуда она знает? Я сам едва склонен верить этой версии, а она уже в курсе!» – подумал я и разъярился:
– Вам что, делать нечего – в два часа ночи глупые вопросы задавать? Черт вас всех подери…
Я понимал, что если я хочу задержаться в милиции и заиметь виды на рост, на продвижение, чтобы хоть как-то гарантировать себе будущее, а не оставаться вечным скитальцем по общежитиям, то с прессой надо дружить. Но это у меня иногда получается. Журналисты лезут в каждое дело, путают факты, приписывают тем или иным персонажам историй качества, которых у тех сроду не наблюдалось. Хорошо помня о том, что мы с Фаридом были в хороших отношениях и две сестры были – одна его женой, а другая моей подругой, я с ужасом ожидал того дня, когда появится очередная разгромная статья о жертвах мафиозных разборок, в которой будет в каждой строке фигурировать моя фамилия.
Я знал, что за Фарида и его семью мстит кто-то свой, но кто это именно – мне пока не приходило в голову. Вероятнее всего, то был один из московских родственников Фарида, с кем мне не приходилось встречаться.
Тогда же, когда дом Беркутова взлетел на воздух, Чегодаев высказал предположение, что так люто мстить может только человек, у которого отняли самое дорогое. Таким человеком мог быть я или сам Фарид. Чтобы скрыть свои предположения и намерения, я согласился на предложение Чегодаева наняться в службу охраны Беркутова. А дальше все пошло кувырком.
…Вдоволь накупавшись и повалявшись на горячем песке, я выбрался на дорогу. Полнозвучно звучал источник, с плеском переливаясь через край водостока, выдолбленного из ствола сосны. Источник питает озеро, в котором сейчас будет купаться Федор Чегодаев. А я буду его охранять и вспоминать.
Я снова вспоминаю события прошедшего года, после того, как я был изгнан из Абхазии…
…Чегодаева, вероятнее всего, соблазнила долговязая журналистка, и он ей все рассказал, проболтался. Откуда мне было знать, что все оказалось наоборот? Уже на следующий день в «Московском комсомольце» была напечатана разухабистая статья с различными версиями о причинах целой серии преступлений, у которых был один почерк. По одной из версий – мое признание в том, что так мстить могли только я, либо Фарид, хотя моя фамилия из чувства приличия или безопасности (не знаю точно) была названа.
Я, конечно, вспылил, но Чегодаеву прежде всего досталось не от начальства. Ему, конечно, была устроена головомойка, мол, хватит болтать с журналистами. Чуть ли не сам Лужков, мэр Москвы, был недоволен появлением подобных версий. Люди не должны думать, что по городу бродят вооруженные до зубов мстители и методично, по своему списку, убивают людей.
Я же, в свою очередь, сказал:
– Федор, я признателен за то, что ты спас мне жизнь. Но шантажировать этим меня не надо…
Чегодаев попытался объяснить происшедшее необходимостью наводки Беркутова на информацию обо мне, как лучшем работнике, но его лепет раздражал меня.
А больше всего досталось Федору от жены Вероники. Та действовала физическими аргументами, после которых красная кожа Федора стала еще более красной и покрылась бороздками от ногтей.
– Я не для того пережила чуть ли не твою смерть, чтобы ты меня позорил! Я отучу эту сучку брать информацию в постели! – рвала и метала правоверная супруга. Насилу мы уговорили Веронику не устраивать скандала в редакции, поскольку это будет смешно.
После таких разборок, увидев перед собой журналиста и услышав хоть бы один вопрос, Чегодаев багровел и ревел:
– Я устал от вас всех. И еще раз говорю: уйдите к дьяволу от меня. Вы поняли?
Мне он неизменно говорил, говорил ежедневно:
– Все равно я этого засранца поймаю.
Он имел ввиду Палача. Поимка опасного и неуловимого преступника для Чегодаева превратилась в навязчивую идею. А тем временем нам удалось проникнуть в службу охраны Беркутова, и вскоре мое пребывание там дало свои плоды. Я вычислил машину с наркотиками, подслушав телефонный разговор. Долго думал, докладывать это Чегодаеву, или оставить на своей совести? Ведь я не нанимался шпионом!
Тогда я договорился с Федором, что машину разбомблю сам. Если это сделает милиция, возникнут подозрения об утечке информации. Милиция должна приехать на выстрелы и якобы случайно обнаружить наркотики. Федор согласился, но с условием, что он тоже пойдет на операцию.
За кольцевой, в лесу стояла фура, автоматчики бродили по сторонам, а остальные люди перебрасывали пластиковые мешки из фуры в кузов микроавтобуса. Я лежу в подлеске, выбираю удобный момент, чтобы открыть огонь. Рядом – Федор Чегодаев с рацией. Вдруг вскрикивает водитель микроавтобуса. Смотрим – тонкая стрела, вероятнее всего, выпущенная из мощного арбалета, пригвоздила того к задней стенке. Мы осматриваем местность. Где же он засел, тот, кто стрелял? Неожиданно сверху с дерева на веревке быстро спускается некто полностью закамуфлированный, и, как только подошвы его сапог касаются асфальта, грохочут взрывы.
Рвалось все, наверное, мин напичкал чуть ли не под каждым кустом. От дыма сразу ничего не видно.
потом сообразили, что Палач бросился к микроавтобусу, стреляя на ходу в бегущие наперерез фигуры. Рывком открыл правую дверцу, ударом ноги вышиб мертвого водителя и перебрался за руль. Взревел двигатель, и микроавтобус рванул с места. Теперь по нему стреляли все – и люди Федора, которых он посадил по другую сторону дороги тайком от меня, и сами мафиозники. В одно мгновение машина превратилась в решето, накренилась на бок, с левого переднего колеса слетели ошметки расстрелянной покрышки. Палач развернул руль вправо, стараясь удержать машину, уже потерявшую скорость. В этот момент кто-то на ходу открыл правую дверцу и втиснулся в кабину. Не глядя, Палач попытался выстрелить, но пистолет заклинило. Мы потом нашли этот пистолет. Человек, влезший в машину, несколько раз выстрелил в сторону Палача. Тот дернулся, швырнул бесполезный пистолет в лицо нападающего, рука метнулась к сапогу, и через мгновение кинжал уже торчал в горле противника.
Поняв, что на такой машине он далеко не уедет, Палач вывернул руль, направил микроавтобус в озеро и выпрыгнул из машины. Петляя, побежал среди деревьев. В тот момент мы думали, что он безоружен, но он неожиданно выстрелил в кого-то, внезапно выросшего на пути. Видимо, забрал оружие у напавшего на него в автобусе. Но этот некто тоже успел выстрелить. Пуля, выпущенная в упор, попала в грудь. Палача отбросило. Он поднялся, и бросился во тьму.
Позже мы нашли тяжелый армейский бронежилет. Такие бронежилеты держат пулю из автомата Калашникова с расстояния десяти метров. Кстати, это уже не первый бронежилет, который Палач оставляет на месте разборки. Пока мы добежали туда, преступник ушел по лесу.
Вернулись к озеру, а там уже было полно народу. Кран вытаскивал микроавтобус из озерца. Машина медленно поднималась из воды, изо всех щелей вытекали грязные ручьи; один из них, у кабины, был чуть розоватым.
– Ну что, теперь есть свидетельства, мы его видели!
– Кого? – недоуменно смотрит на меня Федор Чегодаев.
– Да Палача, – говорю я.
– Какие свидетельства? Одни голые предчувствия. Только голые предчувствия. Целый стриптиз предчувствий. Но, если бывают чудеса, может быть, доказательства я найду в фургоне, – сказал Федор.
Я вздохнул.
– Нет, столько чудес сразу не бывает. Стрела крана повернулась, и машина повисла над землей. Внезапно распахнулась правая дверь и оттуда вместе с потоком воды вывалился труп кавказца. Из его груди торчала длинная узкая рукоятка.
– Вот что я ищу! – торжествующе воскликнул Федор, показывая пальцем на клинок.
– И всего-то, – усмехнулся я. – Зачем он тебе?
А я их собираю, – весело сказал Чегодаев. – У меня уже три таких есть.
– И ни одного отпечатка пальца?
– Ни одного! Но каков ножичек, настоящий стилет! И где он их берет? Чувствую, прибалтийские… Видишь, Юрий, чудеса бывают. Поищем в фургоне еще, гляди, сколько наркоты…
А вечером мы сидели с Федором в фургончике, напичканном радиоаппаратурой. Снимали разговор мафиозников после разгрома фургона с наркотиками. Среди шума, треска и писка можно было расслышать очень интересные вещи. То, что Беркутова можно было брать чуть ли не с поличным, а его не трогали, меня настораживало. Но Чегодаев объяснил мне преждевременность ареста. Мол, что ничего не даст, Палача мы так не поймаем. И вот мы слушаем разговор Беркутова и некой дамы.
…– Рада познакомиться, господин Беркутов. Ваша слава бежит впереди вас… Но давайте сразу приступим к делу… – говорит до ужаса знакомый женский голос.
– Ну разумеется. Присаживайтесь. Там есть свободный стул. – Это голос Беркутова.
– Спасибо, не стоит. – Женщина завозилась, но очевидно, не села. – Надеюсь, мы быстро придем к согласию и наша встреча не займет времени, за которое я могу устать стоя.
Где я мог слышать этот голос? А, вспомнил. Покойная Евгения, Фарида, водила меня в ночной клуб, и я видел эту женщину, с головы до ног увешанную бриллиантами. Разговор между тем продолжался.
– Слушаю вас, – это Беркутов.
– Мистер Беркутов, я давно слежу за вами. В последнее время вы взяли под контроль всю торговлю в самых престижных районах. Но вас постоянно преследует человек, которого журналисты окрестили Палачом и которого мои люди пристрелили сегодня ночью в лесу.
– Нет никакого Палача, – это снова Беркутов.
– Ваши нынешние люди очень неопытны. Они рэкетировали в Польше, обирая своих сограждан.
Работать по-настоящему просто не умеют. Мои люди значительно профессиональнее, – это голос женщины.
– Да, я наслышан о чеченской мафии, но это тоже все из разряда журналистской выдумки, – говорит Беркутов.
– Я просила бы меня не перебивать. Мои люди отнюдь не чеченская мафия, хотя представители ее там есть. Они предлагают вам сотрудничество. У вас есть очень большие возможности для легального бизнеса, а у нас есть очень большие возможности для финансирования.
Тут в разговор вмешивается третий мужской голос. С грубой интонацией звучат слова:
Не знаю как вы, ребята, а я никогда не буду работать на чурок!
– Пока ваши предки, – не изменив голоса, сказала женщина, – ходили в лыковых лаптях и трахали собственных сестер в подмосковных деревнях, мои предки уже руководили преступностью.
Послышались недовольные возгласы, но женский голос продолжал:
– У вас, москвичей, прямо-таки патологическая страсть к обману и насилию. Это нехорошо. Между прочим, вы меня плохо поняли. Я объявила вам не условия договора, а мои требования. И мы уже приняли меры, чтобы вы эти требования выполнили. До свидания.
…После этого прослушивания мы с Федором долго молчали… Впечатление было не из лучших. Меня подмывало совершить налет на контору Беркутова, где происходила встреча представителей враждующих преступных группировок.
– Эх, шарахнуть бы всех бомбой, килограммов под триста. Чтобы сразу всех похоронила. А то поди, как подстрелят кого, так они похоронные процессии на пол-Москвы устраивают… – изливал свои эмоции Чегодаев.
Я молчал. Внутри у меня все кипело. На следующий день, когда я до работы у Беркутова ни свет ни заря пришел в управление с целью планирования задания, то очень удивился. Федор с темными кругами под глазами сидел за компьютером.
– Что ты тут делаешь, в тетриса гоняешь? Федор вздохнул:
– Хочу поймать Палача.
– Что же, это лучше, чем с симпатичными девушками трепаться насчет версий ночь напропалую. Вряд ли ты его вычислишь, сидя по ночам за компьютером. Палач никогда не заходит ночью в милицию.
– Все шутишь. А что, посуди сам, мне остается делать? Трахаться с хорошенькими журналисточками не дают. Да я и уже старый, довольно потрепанный… Остается только искать Палача…
– Ну, ты уж и не такой потрепанный, и можешь беседовать хоть с чертом в юбке, – сказал я ему иронически.
– Не надо говорить мне комплименты, – устало бросает Федор.
– Так скажи, почему ты обменял меня на компьютер. Неужели лишь потому, что он, в отличие от меня, не способен шутить?
– Нет, Юра, я хочу найти Палача. В тебе что-то сломалось. Раз ты не способен мстить. Мстить за Людмилу, за Фарида.
– Федор, это не компьютерная игра. Палач ходит не по экрану, а по жизни. Мы обшарили вместе с ребятами чуть ли не все притоны в городе.
Федор пощелкал клавиатурой, погонял курсор, и на экране возникла крупномасштабная карта, с отмеченными местами, где побывал Палач.
– Федор, пойдем в сквер, на свежий воздух, – сказал я, взглянув на карту.
– Зачем?
Я показал на его красные уши и молвил:
– Там свежий воздух.
Когда мы покурили в скверике, я достал большую карту Московской области. На ней аккуратными кружками были обведены все места, где были зарегистрированы убийства, приписываемые Палачу.
– Вот, смотри… Думаю, что Палач, или бандиты давно прослушивают тебя. Ведь они богаче мэрии, и денег на аппаратуру не жалеют. Кажется, я нащупал одну версию…
Федор внимательно рассматривал карту. Потом сказал:
– Да, а теперь пройдем в мой кабинет.
Он достал одинаковых четыре ножа из ящика своего стола, выгреб оттуда горсть стреляных гильз, задумчиво произнес:
– Четыре стилета – и полным-полно вот таких штучек. И это в общем-то все. А ведь у него должны быть помощники, имеющие доступ в многие дома мафиози: чтобы пронести взрывчатку и рассредоточить ее. Ведь некоторые дома просто взлетают на воздух! Но мы не нашли таких людей. А, с другой стороны, чем больше народу о тебе знают, тем быстрее тебя найдут. Сложно искать маньяков – они одиночки, и о них, кроме них самих, никто ничего не знает. Я бы на месте Палача работал один. Но как он обходится без помощников? Как невидимкой пробирается в дома? Как собирает информацию? Где достает взрывчатку, взрыватели? Мы тоже обыскали все притоны, гостиницы, облазили буквально вдоль и поперек весь город…
Я задумчиво посмотрел на Федора.
– А снизу искали? Может, в так называемой Москве подземной?
Федор ссыпал горсть гильз в шкатулку, аккуратно закрыл крышку, задвинул ящик стола и только потом спросил:
– Что ты сказал?
– Я сказал, что нужно Палача искать в подземной Москве…
…Федор Чегодаев перестал плюхаться в воде. На песке ему лежать не хотелось. Он медленно оделся и подошел ко мне:
– Что такой задумчивый?
– Да вспоминаю, как я тебе посоветовал Палача искать…
– А-а. Под землей? Верное решение… Послушай, как мы устроимся? Я имею ввиду, жить. Все никак не привыкну к этим сербам. Все по-русски понимают, обходительные такие, а толку мало… Нет, чтобы как у нас – вот тебе хата, бутылка и баба. Работай.
– Не беспокойся. Хату мы тебе найдем. Бабу тоже. Обычно мы выгоняем из комнаты одну из проституток. Тебе же не хотелось бы занять комнату убитого?
– Мне все равно. Но зачем выгонять проститутку? Пусть остается, – улыбается Федор.
– Она же солдат будет принимать. А ты что, свечку в ногах держать будешь?
Мы возвращаемся в лагерь. Мне действительно предстояло выгнать одну из проституток из ее обиталища и предоставить комнату Федору. Я начинаю соображать. Очень удобная, с печкой, комната у польки. Но польку трогать не хочется.
Однажды, когда я был в дурном расположении духа, зашел к ней в комнату. Это произошло само по себе. Просто из этой двери тянуло теплом, и через щели просвечивали блики огня. Я уже давно заметил, что полька в хмурые дни, растопив печку, сидит, греет руки под грудью, обнажив худые ребра. Голос у нее глубокий, грудной, говорит она, почти не размыкая своих красиво очерченных, пухлых, но бледноватых губ.
Печка у нее в комнате потому, что комнатушка рядом с кухней, и туда можно вывести дымоход. Остальные девушки мерзнут в неотапливаемых комнатах.
Я толкнул дверь, девушка медленно отняла руку от груди и натянула свитер на колени. В другой руке полька держала красную албанскую пастилу.
– Сожжешь свитер.
Внезапно она поднимается с места, стряхивает маленькие красные крошки пастилы и протягивает мне руки. Я стою, как столб, а она начинает меня обнимать.
– Я уже со всеми перетрахалась, кроме тебя, – шепчет она мне на ухо.
Происходит тривиальная, хотя несколько и бурная сцена.
Достаю бумажник, чтобы расплатиться.
– Не надо, я так, – отмахивается паненка.
– Если верить слухам, ты хочешь снять фильм? – настаиваю я.
– Кто тебе сказал?
Я даю ей деньги, сто долларов. Этого хватит, чтобы оплатить какую-нибудь массовую сцену.
Судьба девушки трагична. Она приехала сюда с группой польских кинематографистов. Попали в засаду. Их всех перестреляли, а ее изнасиловали. Насиловали мусульмане: арабы из Саудовской Аравии, из Египта, пакистанцы и турки. Она рассказывает, что особенно ужасны турки – грызутся. Напоследок ей выстрелили в детородное место и ушли, потешаясь собственной гнусностью. Пуля вошла внутрь и, срикошетив об тазовую кость, выскочила через бок, не повредив кишечник. Иначе бы она не выжила, пролежав трое суток, истекая кровью.
Полька на удивление быстро залечила рану и бросилась мстить. Она пробовала стрелять из снайперской винтовки, но способностей к этому у нее не было. Она ходила по ту сторону линии обороны и пыталась насыпать отравы в колодцы, но не смогла. На этом ее месть закончилась. Боевик из нее не получился. Да и куда ей, когда она просто интеллигентная женщина. Умная и немного доверчивая. Теперь она работает для осуществления своей мечты. Она действительно хочет снять обо всем этом фильм. Нужны деньги. Сколько можно так заработать, совершая широкие, размашистые движения тазом? Боюсь, что это просто прикрытие.
Полька гладит мою сожженную солнцем шею. Она рассказывает, что наемники из турок детей просто убивали, а монахов пытали огнем. Так и кричали: «Изжарить их!».
– Они сербов, как кофе, жарили. Турецкие кофеманы изжарили славянских мальчиков, – говорит полька. – А еще привычка у мусульман – душить пленников шнурами. Боснийцы набрались жестокости от турков.
Она живописует стамбульские бордели с армянками и гречанками.
– Откуда ты это знаешь?
– Мне Джанко рассказывает.
– Да, он большой говорун.
…Я подхожу к комнате польки с мыслью, что комнатой с печкой мне не завладеть. Постояв несколько минут у двери, я слышу шорохи и всхлипывания. Эльжбета работает. Пусть работает. Мне все равно: раз Федор согласен жить в комнате убитого, то пусть живёт.
На следующий день мы с Федором намереваемся идти на задание вдвоем. Это опасно, но я сам поставил себя в такое положение. Джанко уехал отдыхать, залечивать рану.
Ночью изменилась позиционная ситуация. Боснийцы на бронетехнике выдвинулись к мосту и установили на нем свой пост. Бронированные машины обложили мешками с песком, и теперь их крупнокалиберные пулеметы простреливают всю окрестность, откуда мы, снайперы, можем вести огонь. Андрия Зеренкович сообщил об этом, потер небритые щеки и сказал:
– Так что у нас наступят вынужденные выходные дни. Слишком большой риск идти туда. Если у вас есть желание, можно попытаться пощипать охрану моста.
Мы с Федором Чегодаевым намек поняли и принялись после ухода Зеренковича рассуждать. Если пробраться за сербские позиции в простреливаемую зону и произвести хотя бы один выстрел – то это значит вызвать на себя шквальный огонь.
И тогда мы решаем пойти на север, выйти к сербским постам, что контролируют дорогу, и по ущелью, которое определено как естественная граница района наших действий, пробраться на опасную территорию. Если это нам удастся, мы окажемся за горой, откуда можем беспрепятственно вести огонь на поражение по городу. Опять же, идти без полнокомплектной группы прикрытия очень опасно, так как боснийские снайперы, вероятно, тоже попытаются пробраться на освободившуюся территорию с намерением обстреливать позиции сербов.
Мы выходим очень рано, около четырех утра. Весь наш путь займет порядка трех часов, учитывая медленное преодоление стены в ущелье. Чтобы взобраться на гору, мы подготовили альпинистское снаряжение.
И вот мы в ущелье. Глухо рокочет ручей. Небо едва светлеет, но здесь, в стремнине, полный мрак. То и дело натыкаемся на камни. Ноги вымокли в воде. Пройти по ущелью следует всего полтора километра. В данной ситуации необходимо проявить ювелирную точность, иначе можно оказаться у реки, берег которой заминирован. Нет никаких ориентиров. Только азимут, секундомер, предполагаемая скорость нашей ходьбы.
Из мрачного ущелья мы выкарабкались по почти отвесной стометровой стене в половину шестого. Начало светать. Пробрались в дремучий сосновый лес. Поскольку сюда не забирались местные жители и не очищали лес от бурелома, продираться сквозь чащу очень трудно и небезопасно. Слышится треск сухих сучьев, каждая ветка, переламываясь, издает громкий щелчок, звучащий в нашем сознании, как выстрел. И вот Чегодаев остается охранять меня, а я карабкаюсь на высоченную сосну с густой верхушкой. Я совершенно уверен, что меня не разглядеть из города. До полного рассвета меньше часа, а я уже полностью обустраиваю снайперское гнездо.
И вот небо синеет, беловатые облака словно тают в воздухе, и перед моим взором оказывается погруженный в синеватую дымку город противника.
Этот мертвый и глухой городишко напоминает мне пруд, где разводят карпов. Воды мало. Тяжко, душно. Все разворочено. Все друг другу бесконечно скучны и постоянно мешают. А тут еще постоянная военная угроза. Молодые карпы, «мужчины в расцвете сил», предприимчивые и сильные, держатся у поверхности; подгоняемые еще не заглохшими инстинктами, они непрерывно в движении. Другие, совсем юные, носятся туда-сюда, влекомые зреющей силой. А старые поблекли, утратили половину чешуи, точно облысели. Они мудры той прокисшей мудростью, которая приходит тогда, когда исчезает сила; отяжелевшие от лет, они лежат на самом дне, едва шевеля огрубевшими жабрами и поредевшими плавниками, и непрерывно зевают.
Я смотрю в подзорную трубу и вижу и молодых мужчин, и подростков, и блеклых стариков. Моей жертвой должен стать любой человек с оружием. Если таковых нет, предпочтительнее выбрать мужчину в расцвете сил. Потенциального противника. Так как вооруженных людей я действительно не обнаруживаю, то останавливаюсь на втором варианте. В серой дымке в узком промежутке между двумя высокими домами мне видна улица, вернее, узенький участок моста, по которому начинают сновать прохожие. Этот мост в городе не такой, как через бурную речку возле наших позиций. Это современный мост с перилами из чугуна. Мне даже не удается как следует разглядеть свою жертву. Выстрел, человек спотыкается, падает и скрывается за чугунными перилами моста. Возле неподвижного тела собираются люди, они боязливо оглядываются, вогнув голову в плечи, не понимая, что пуля прилетела с гор.
За день мне удается совершить еще два выстрела. Один, правда, неудачный. Пуля только задела жертву. Человек схватился руками за шею и, петляя по улице, помчался в укрытие.
Обедаем мы с Федором вместе, и даже рискнули развести огонек из сухого горючего, чтобы разогреть консервы.
Я снова карабкаюсь в свое гнездо. Не успел как следует осмотреться, как вдруг слышу громкий хруст ветвей и приглушенный возглас. У меня все холодеет внутри. Я всматриваюсь. Боюсь шевельнуться. Снова раздается громкий хруст ветвей, слышатся звуки борьбы. Я бросаюсь вниз, надеясь в прыжке быстро достичь земли и обезопасить себя. В те мгновения, когда я «лечу», прямо в мое гнездо врезается автоматная очередь. Бьют в упор, противник очень близко. Я падаю и медленно и бесшумно сползаю в небольшую ложбинку, изготавливаясь к стрельбе. Пока я этим занимался, треск веток раздавался все глуше и глуше. Как только я попытался преследовать невидимую опасность, под моими ногами тотчас предательски хрустнула ветка. И тут же на звук ударила автоматная очередь. Пули дробили сухие торчащие ветки. Щепки от сосновых стволов впивались в щеки. Я лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Кажется, цел. Что с Федором? Неужели его убили? Убил тот неуловимый Джелалия, который охотится здесь? Некоторое время я вынужден лежать неподвижно, чтобы шумом не выдать себя. В свою очередь, стрелять на шум я не мог, не зная ситуации, боясь подстрелить Федора. Когда шум в буреломе прекратился, я как можно тише начал пробираться к краю сосновой рощи. На это ушло более часа. Кажется, никого нет.
Потом я обнаружил след, который привел меня обратно в рощу, к тому месту, где мы обедали с Федором. Брошенный рюкзак, откинутый в сторону автомат убедительно свидетельствовали о том, что Федор был захвачен врасплох. Скорее всего, его оглушили и потащили через бурелом к реке.
И тут под ногами я обнаружил кинжал. Длинный, острый, не очень массивный. Приглядываюсь: на лезвии четыре буквы – «bors». Чей это кинжал? Неужели Джелалия опять вышел на охоту? Может, это нож Федора? Затыкаю кинжал за пояс, забрасываю СВД ветками и травой. Потом я вытащил из рюкзака две гранаты, рюкзак повесил среди густых ветвей и, подхватив автомат, бросился из рощи по направлению к реке.
Осторожно выглядываю из-за сосны. Склон горы усеян темно-зелеными кустами можжевельника. Джелалия мог уходить только по этому склону. И след ведет сюда. Неужели вражеский снайпер весьма нахально, среди белого дня протащил или провел пленника по склону к реке? А там уже проще выйти в город…
Что делать? Я потерял напарника. Мы болтали за обедом, жгли сухой спирт… Как мне вернуться без Федора, у которого сегодня вообще первый день работы?
Я принимаю решение идти в город. Возвращаться в лагерь без напарника нет смысла. Пару дней назад – потерян Степан, сегодня – Федор. Что же я за такой специалист, если мои люди гибнут через день?
Устраиваюсь за стволом дерева и жду, когда начнет вечереть. Потом жду ночи. Едва темнота становится густой, я стремительно спускаюсь к реке, не выбирая дороги, теша себя надеждой, что в можжевеловых кустах мин нет. Если же подорвусь на мине – туда мне и дорога, раз я так оплошал и допустил пропажу или гибель товарища. Берег, точно, заминирован. Растяжку в темноте не различить. Принимаю решение прыгнуть со скалы в воду, доплыть до моста и вскарабкаться под мостом на сушу. Боснийский пост с часовыми находится на нашем берегу, и можно, появившись из-под моста с противоположной стороны, попытаться выйти прямо на дорогу в город.
Разгоняюсь и, сильно оттолкнувшись от скалы, пролетаю над узкой в этом месте береговой полосой. Погружаюсь с шумом и брызгами в ледяную воду. Автомат оттягивает руку. Течение подхватывает меня, начинает крутить и швырять. Никогда бы не подумал, что здесь такая быстрая вода. Как я не пытаюсь добраться до противоположного берега, мне это не удается. Вода несет меня мимо берегов, арка моста стремительно приближается, и мост пролетает у меня над головой.
За мостом клокочет небольшой водопад. Я уже начинаю проклинать свою затею. Там же острые камни! Делаю несколько мощных гребков, но поток относит меня от берега, вертит, как игрушку в струях, и неожиданно швыряет о камни. Пронзительная боль вонзается в колено. Автомат застревает в расщелине, и как я его не рву, он не высвобождается. Вода захлестывает меня с головой. Нет воздуха… Что же это такое? Я разжимаю пальцы, и на секунду мне удается показаться над водой, ухватить ртом свежего воздуха. А впереди шумит новый водоворот. Меня же утянет на дно! Одежда набрякла, карманы оттягивают гранаты, к рукам словно привязаны гири. Меня бросает в водоворот и тащит вниз. Делаю судорожные движения, прилагаю последние усилия, чтобы глотнуть воздуха, но напрасно. Только резкая боль в коленке напоминает о том, что я еще жив. Тогда через голову сдираю с себя бушлат, пытаюсь выдернуть руки из рукавов. Не выходит. Руки прочно засели в рукавах. Тогда высвобождаю руки и захватываю пальцами свитер возле шеи, стягиваю и его. К черту! Из рукавов свитера руки вылезли сразу. Просто выскользнули, и свитер поплыл, погрузился в воду вместе с бушлатом и гранатами. К дьяволу! Сразу стало легче. Выбрасываю руки вперед и хватаюсь за острый край скалы. Подтягиваюсь на руках. Макушка показывается из воды, еще подтягиваюсь и глотаю такой целительный и свежий воздух. Отдышавшись, лезу по острому гребню вверх. Теперь я уже не думаю, что меня кто-нибудь заметит, мне лишь бы выбраться. Осматриваюсь. Гребень скалы торчит из воды. Берег недалеко. Бушующий поток грохочет позади. Теперь понимаю, почему нам, снайперам с той стороны, так везет. Здесь шум выстрелов заглушает рокочущая река.
Соскальзываю с гребня и погружаюсь в воду. Она обжигающе холодна. Руки и ноги заледенели и бесчувственны. Коленка и та перестала болеть. Оттолкнувшись ногами, переплываю более медленное течение и хватаюсь за прибрежные ветки. Мин тут понатыкано, это несомненно. Растираю потерявшие чувствительность руки и обшариваю каждый квадратный дециметр пространства, пытаясь нащупать проволоку растяжки. Вот есть одна, вот следующая. Боже, если чуть сильнее дернуть эту проволочку, раздастся взрыв, который отобьет мне почки и печень, изрешетит осколками.
Рядом с берегом вижу высокий дощатый забор. Я знаю, что за забором поле, лужайка, на которой мин нет. Каждое утро по лужайке бегает мальчик с собакой колли. Ни один из нас, снайперов, не тронул ни мальчика, ни колли.
Добраться бы только до забора. Забор тоже может быть заминирован. Его лучше преодолеть по веткам растущей рядом ивы.
Или на сегодня хватит приключений? Может, повернуть назад? Я почти безоружный, мокрый. Неужели я так ненавижу боснийцев, что буду голыми руками душить их или резать трофейным кинжалом, чтобы завладеть огнестрельным оружием?
Когда я об этом думаю, то уже и сам не замечаю, не отдаю себе отчета, что подхожу к дереву, взбираюсь на приземистый ствол и на животе ползу по толстой ветви к забору. За забором действительно лужайка, а за ней – уцелевший дом под красной черепицей. Рядом стоит домик поменьше. Совсем малюсенький, но тоже под красной черепицей. Участки разделяет проволочный забор. Иду вдоль него к домам. Когда подхожу совсем близко, слышу, как в доме лает собака. Это колли. Она чувствует меня. Но ее не выпустят из дома. До вечерней прогулки. Прикладываю ухо к деревянной двери. Собака рычит, слышатся голоса: детский и женский. Неожиданно на улице урчит мотор. Небольшой фургон с погашенными огнями подкатывает к соседнему домику. Я прячусь за кустом сирени. Из фургона выходит мужчина и заходит в домик. Через некоторое время он выносит из дома одежду. Грузит в фургон. Девушка лет двадцати помогает мужчине. Когда они скрываются в доме, я пересекаю маленький усохший цветник, перескакиваю через заборчик и залезаю внутрь фургона. Прикрывшись одеялами и подушками, увязанными в покрывала, замираю. Скорее всего, это или беженцы, которые хотят покинуть город, или эти люди переезжают подальше в город, в более безопасное место.
Мужчина и девочка напихивают в фургон все больше и больше барахла. Наконец, мужчина закрывает дверь, садится за руль, рядом с ним устраивается девушка. В это время двери большого дома открываются, и колли с лаем бросается к машине. Водитель ругается, заводит мотор, и собака с лаем провожает фургон несколько десятков метров. Вовремя я спрятался.
Фургон медленно едет по дороге. Делает несколько поворотов. Вот он останавливается. Патруль. Наверное, это патруль при въезде в город. Что, если начнут проверять фургон? Нет, обменявшись односложными фразами с патрулем, водитель едет дальше. Я тем временем ощупываю барахло, пытаясь найти подходящую верхнюю одежду. Нахожу что-то вроде плаща. Кажется, он женский, но лучшего нет.
Снова остановка, снова патруль. Теперь уже внутри города. Когда же, черт побери, они остановятся, и станут выгружать свои пожитки? Неожиданно водитель включает повышенную передачу, и я понимаю, что он выезжает из города. Дорога из города идет в гору. Мне ничего не остается делать, как выбираться самому. Пробираюсь к двери и согнувшись дугой, опершись руками о борта, резким ударом обеих ног бью по двери. Не так-то просто. Водитель, услышав удар, казалось бы, должен был остановиться, но он наоборот ударяет по газам, фургон увеличивает скорость и стремительно несется в кромешной тьме. Концентрируюсь, набираю воздуха в легкие и снова обрушиваюсь на дверь. Что-то хрустнуло в коленке, но дверь распахивается, и я вываливаюсь на асфальт, обняв тюк с поклажей для смягчения удара. Искры сыплются из глаз. Невыносимо болит колено. Я повредил его еще в реке, когда разъяренная вода швырнула меня о скалы. А теперь еще добавил. Я даже не могу идти, а уползаю с асфальта на обочину. Подальше от этого тюка, который валяется на дороге. Теперь мне надо заползти в какое-нибудь разрушенное здание, чтобы отлежаться и обрести способность передвигаться как положено. Нащупываю решетку капитального забора, а в глубине темнеет силуэт двухэтажного особняка. О Том, чтобы перелезть через забор, нет и речи. Может, открыта калитка? Но калитка заперта. В это время со стороны умчавшегося фургона слышится урчание мотора. Возвращается водитель. Хорошо, если один. Успеваю залечь в кювет. Тем временем автомобиль включил ближний свет и, подъехав к лежащему тюку с одеждой, остановился. Из кабины выскочили вооруженные люди. Я не шевелился. Боснийцы начали громко разговаривать и, как я понял из их разговора, водитель пытался убедить патруль в том, что в фургоне действительно кто-то находился, кто выбил дверь. Но патрульные не верили. Тюк был водружен на свое прежнее место, водителю было приказано погасить фары. Фургон развернулся, и водитель с девушкой уехали туда, куда и намеревались ехать.
Я выполз из кювета, приподнялся и начал пробираться вдоль решетки забора, держась за нее руками и сильно хромая. Колено распухло и почти не сгибалось. Мне нужно было в город, так как я находился в пригороде, дома были здесь капитальными особняками, не тронутыми войной. Скорее всего, в них были их обитатели, что было опасно.
Через часа два я доковылял до первых многоэтажек. Весь город погружен во тьму. Был слышен приглушенный шум реки. На небе мерцали неяркие звезды. Я пошел по темным улицам. В любую минуту из зданий могли выйти боснийцы. Я выбирал дом, который сильнее других разрушен. Наконец, я остановил свой выбор на здании, возле которого высилась куча обломков. Я пробрался в незапертый подъезд. В нос ударил запах мочи. Значит, дом точно не жилой. Я поднимался этаж за этажом наверх, цепляясь за перила лестницы. С четвертого по пятый этажи лестница была разрушена. Ее пролет висел в воздухе. Мне удалось подтянуться на руках и преодолеть препятствие. Наверху были еще два этажа – пятый и шестой. Шестой разрушен прямыми попаданиями снарядов. Квартиры повыгорали. На пятом я нашел уцелевшую квартиру. К моему удивлению, с мебелью, посудой на кухне и даже живыми домашними растениями. Их кто-то регулярно поливал.
Я пробрался в спальню, уселся на кровать и распорол кинжалом штанину. Нога сильно вспухла. Плохо разгибается. Необходимо сделать плотную повязку. Я распорол на узкие ленты покрывало с кровати и перевязал ногу. Потом забаррикадировал дверь. Мне надо отлежаться. Мне надо, чтобы нога снова была в рабочем состоянии.
…Двое суток я безвылазно нахожусь в квартире на пятом этаже осажденного города. Только один раз ночью, измученный жаждой, я спустился в подвал, и из труб центрального отопления набрал воды в фаянсовый кувшин, который реквизировал в квартире. Днем я веду наблюдение, а ночью сплю на роскошном диване, укрывшись хорошим верблюжьим одеялом, которое нашлось в шкафу. На кухне я обнаружил пакет крахмала и готовлю себе что-то вроде холодного киселя. Если у меня от крахмальной болтушки склеятся кишки, то я умру мучительной смертью. В том случае, конечно, если меня раньше не пристрелят боснийские мародеры.
Город живет своей жизнью. На нем печать первых месяцев войны, отмеченных неистовством, преследованиями, страданиями, местью, мотовством. Теперь всему этому пришел конец. Пусто, черно и глухо, как после града, пожара или безудержного кутежа. Люди, точно пробудившиеся после кошмарного сна навстречу еще более кошмарной действительности, ходят на цыпочках, затаив ото всех свои печали. Впрочем, большая часть горожан или выехала в Хорватию, или лежит на кладбище.
Иногда в город пропускают автомобили с гуманитарной помощью. Страшно смотреть, что творится. Охрана вокруг автомобиля не знает, что и делать. Толпа стягивается и густеет, как тесто. Распорядители отталкивают людей, кричат, призывают к порядку, а люди отвечают еще более сильным напором и невнятным гомоном, в котором и мольба, и советы, и ругань, – все это без числа, без порядка и без смысла. Одни кричат, что вчера еще заняли очередь, другие тянут руки с какими-то бумажками, третьи уверяют, будто гуманитарную помощь раздают только привилегированным жителям. Порядок наводит один единственный снаряд, выпущенный из-за реки с сербских позиций. Слышится раздирающий душу вой, и совсем рядом, возле угла здания раздается ужасный взрыв. Толпа взревела, люди посыпались, как мишени, кто уцелел – побежали. Я насчитал двенадцать трупов. Раненые цеплялись руками за живых и здоровых. В воздухе раздаются проклятия и угрозы. Хаос, война, люди измождены голодом.
Теперь я знаю, где находится что-то вроде городского полицейского управления – в конце улицы, на которую выходит окнами дом и где разорвался снаряд. А рядом с домом, в котором нахожусь я, в здании бывшего крупного магазина размещен штаб вооруженного ополчения боснийцев. Именно там, если рассуждать, и может находиться пленный Федор Чегодаев. Как мне вызволить его, как мне самому выбраться из этой западни, в которую я сам себя завлек? Еще два-три дня – и я отощаю от голода, обессилею, и мне останется только сдаться боснийцам на милость и попасть в одну клетку к Федору. Если он, конечно, еще жив, не истек кровью, или не замучен боснийскими специалистами – мастерами заплечных дел.
Боснийцы страшно не любят снайперов. Зеренкович рассказывал, что однажды попавшего в плен серба-снайпера насмерть забили палками женщины.
Иногда я наблюдаю за иностранными журналистами, которые смело расхаживают по улицам города, беседуют с жителями. Какие они самодовольные, эти европейские писаки! Если б у меня была винтовка, я бы поразбивал меткими выстрелами их современные камеры, которыми они вертят перед лицами плачущих старух и женщин.
Уже полдень. Солнце в зените. Меня тошнит от голода. Я обыскал все квартиры на пятом и шестом этажах и ничего, кроме головки усохшего чеснока и упаковки глюкозы в ампулах, не нашел.
К полицейскому управлению подъезжает патрульная автомашина боснийцев и новенький джип. Их сопровождает белый броневик ООН. Из джипа выходят журналисты – очередная порция, а из броневика – целая толпа «голубых беретов». Я внимательно присматриваюсь к ним. Мое внимание привлекает стройная блондиночка с солнцезащитными очками на носу. Ее пушистые волосы кольцами завиваются на висках. Где-то я ее уже видел, эту мадам. Боже ты мой! Да это же навязчивая московская барышня-журналистка! Она в Боснии!
Я бросаюсь ближе к окну и начинаю пристально следить за группой журналистов. Она или не она? А как ее звали, фамилия ее как? Этого не может быть, это не она. Та была помельче костью. Журналисты уходят в здание. Я с нетерпением жду их выхода. Когда они через полчаса выходят, девушка уже без очков, и я точно определяю, что вижу человека, которого знаю. Это корреспондентка одной из московских газет. Мне нетерпимо хочется ей крикнуть, мысленно передать, что там, где она только что побывала, боснийцы прячут твоего бывшего ухажера Федю Чегодаева. Почему ты не спросила о пленном русском снайпере? Потом написала бы об этом в своей газете, и тогда сербы узнали б, где находится их наемник.
Я слежу за журналистами. Их сажают в джип, который повезет их по городу. Через час их привозят обратно. Снова заводят в полицейское управление и держат там уже больше часа. Солнце склоняется к горизонту. В квартире становится прохладно. Как же ее фамилия? Черняк, Черненко, Черниченко? Звать, кажется, Светлана. Но фамилия, как ее фамилия? Журналистов увезут, и я не использую свой шанс. Необходимо помешать им уехать. Каким образом? Испортить автомобиль? Но еще светло. Я запросто попадусь, или меня подстрелят. Часовой у двери ни на минуту не покидает своего поста. Кроме того, водитель броневика так и не показался из-под своего панциря, а джип стоит у него перед глазами. И тут я замечаю, что джип почти наехал на крышку канализационного люка. Неужели это выход?
Я осторожно спускаюсь по лестнице. Вхожу в подвал. Долго брожу в темноте, разыскивая то место, где трубы канализации уходят к коллектору. Черт! Проход к коллектору настолько низок, что я едва вмещаюсь, кроме того, трубы укутаны в изоляционную стеклоткань, от которой руки мгновенно покрываются мелкими ранками. Из каждой сочится кровь. Неужели у меня все еще есть кровь?
Иногда дорогу преграждают проволочные растяжки, на которых висят трубы в железобетонном лотке. Мне приходится протискиваться через эти растяжки или же разгибать их настолько, чтобы возможно было пролезть. Скорее, скорее. Сейчас журналисты выйдут из полиции, сядут в автомобиль и уедут. Десять или двадцать метров пути показались мне доброй сотней. Наконец-то я выполз в коллектор. Вонь невыносимая. Впечатление такое, что горожане сбрасывают в канализацию дохлых собак и кошек. Заткнув нос рукой, пробираюсь к бетонной ячейке, где расположен люк. Сквозь щель пробивается слабый свет. Надо рисковать. Напрягшись, надавливаю люк головой, придерживаю руками и осторожно сдвигаю его в сторону. Выглядываю. Прямо перед собой за джипом вижу две пары ботинок. Это – часового и кого-то еще. Громко и непринужденно разговаривают. С моей стороны улица пуста. Джип настолько близко стоит к броневику, что водителю броневика почти ничего не видно. Собеседник часового неожиданно быстро уходит в здание, а часовой слишком медленно плетется к двери. Я вонзаю кинжал в шину. Проколоть хотя бы два колеса. У них только одна запаска, помещенная под красивым металлическим диском. Воздух с шипением струится из-под лезвия кинжала. Часовой как ни в чем не бывало топчется возле двери. Если водитель броневика не спит, он слышит это предательское шипение.
Проходит минута, другая. Джип заметно осел на переднее левое колесо. Вонзаю кинжал в другое колесо. Тут часовой, потоптавшись, неожиданно исчезает за дверью. Этих мгновений мне хватило, чтобы полностью посадить джип на обода. А сейчас – скрыться.
…Когда журналисты обнаружили проколотые шины, началась беготня. Старший по чину полицейский распекал часового. Водитель броневика вылез из своего убежища и чесал в затылке, совершенно как русский. Журналистов вначале посадили в броневик. Девушку-журналистку – в первую очередь. Потом началось самое интересное. Владелец джипа, толстый немец, поскольку ругался он до того громко, что я внятно расслышал его «доннер-веттер», тоже журналист и хозяин джипа, заупрямился, и стал доказывать, что никуда без своего автомобиля не поедет. Он вылез из броневика, а за ним и все остальные, в том числе и девушка. Появились вооруженные боснийцы и начали прочесывать близлежащие дома. Я заблаговременно перелез на обгоревший чердак, но боснийцы проверили только нижние этажи, а перелазить через рухнувший пролет лестницы не захотели. Очевидно, они решили, что шины проколол кто-нибудь из местных жителей, обозленный войной и голодом.
Журналистскую группу увели в полицейское управление, а потом, спустя часа два, уже в полной темноте, я услышал их голоса. Их повели на ночлег. Пришло время действовать.
Я осторожно спустился, бесшумно вышел из подъезда. Напротив блестел огонек сигареты часового. Ну и порядки, он курит на посту! Скрываясь за деревьями, я начал догонять журналистов. Вскоре услышал их голоса.
Журналистов привели к трехэтажному зданию, у которого были разрушены два этажа. У двери тоже стоял часовой. Свет в окнах не загорался. Задача моя становилась все сложнее. Как вычислить русскую журналистку? Ясно, что ночевать в одной комнате с мужчинами она не будет. Но где будет ее комната?
Я прокрался во внутренний двор и взобрался по пожарной лестнице на стену соседнего дома. Курит ли моя журналисточка? Кажется, курит. Нужно вспомнить ее фамилию. Чернявская, Черноручко – нет. Кажется, вспомнил – Чередниченко. Светлана Чередниченко.
Из внутреннего двора видно, что в комнатах вспыхивает огонек зажигалки и начинает тлеть сигарета.
Потом зажегся фонарик и толстый немец подошел к окну, пошире распахнул форточку и задернул штору. Я успел заметить, что девушка находится в комнате у немца. Хорошие дела! Мне придется иметь дело с бошем… Он здоровенный, а у меня поджилки трясутся с голодухи.
Я прокрался к окну. Маленький фонарик величиной с авторучку освещал стол. На столе появилась бутылка со спиртным, видимо, коньяком, мясные консервы, галеты. Светлана сидела на стуле возле стола, держала в руке сигарету и что-то говорила то по-английски, то по-немецки. В основном, это были имена существительные. Правда, чтобы соблазнить иностранца, женщине не обязательно владеть иностранным языком, ей достаточно в совершенстве владеть своим… Но вот выудить у немца какую-нибудь информацию, как она это сделала с Федором, уже не сможет. Неужели она купилась на банку консервов?
Но я плохо думал о Светлане.
Немец слопал несколько бутербродов, выпил стаканчика два коньяку и, выключив фонарик, начал приставать к журналистке. Та сопротивлялась. Не сильно, правда, но сопротивлялась. Мне не было видно, как немец лапал девушку, пытаясь склонить русскую журналистку к интернациональной дружбе. Потом послышался грохот стула, звучный шлепок.
Немец включил свой маленький фонарик и начал раздеваться. Он разделся до нижнего белья. Повернулся к девушке и вдруг, хохоча, захлопал по жирным бедрам и животу мощными руками. Ну и бош! Затем немец завалился на одну из кроватей.
Черт бы его побрал! Придется открывать окно, применять насилие. Не могли оставить женщину одну, кавалеры!
Около часа я ждал, когда утихомирятся в соседних комнатах. Потом тихонечко поскреб раму. Никакой реакции. Из комнаты начал доноситься величественный германский храп. Я прошептал:
– Светлана! Чередниченко!
Ни звука. Тогда я влез в форточку. Движения мои напоминали движения кошки, которая вышла на охоту, или, скорее всего, повадки южноамериканского ленивца.
Журналисты беззаботно спали. Я, конечно, не знал, что они проторчали на КПП ООН целые сутки, и потому буквально свалились с ног…
Но Бог ты мой, когда я зажал рот девушке, чтобы она не подняла крика, а тем временем прошептал ее имя и назвал свое, Светлана обвила руками мою шею и начала прижиматься ко мне. Она, вероятно, решила, что зря чересчур сильно сопротивлялась немцу, и поэтому ждала, что немчура все-таки сунется к ней!
Когда девушка сообразила, что ее обнимает человек с совершенно другой комплекцией, тем более, что от меня несло гарью и сажей, которой я измазался на обгоревшем чердаке, то она начала так брыкаться, что немец перестал храпеть.
Кинжал под горлом ее усмирил. Я подождал несколько минут, пока немец не начал опять насвистывать носом. Музыкальный народ эти немцы:
Я выждал и прошептал:
– Не бойся! Меня зовут Юрий Язубец. Тише-е…
Дальше я общался с ней исключительно при помощи жестов. Руку от ее рта я пока не отнимал – девушка могла просто воскликнуть от изумления. Ее сердце колотилось в груди.
– Иди за мной в коридор. Поговорим…
Я повернул торчащий ключ в дверном замке. Немец перестал храпеть, пробормотал что-то во сне и массивной тушей повернулся на левый бок, лицом к стене.
Девушка вышла в коридор.
– Тихо! Идем на лестницу. Здесь нет никаких дежурных?
– Нет, – прошептала Светлана, – только, кажется, часовой снаружи.
Мы пробрались в темноте на лестницу. В одной из комнат разговаривали. Поднялись на межэтажную площадку. Под ногами зашуршали куски штукатурки.
– Слушай, все так неожиданно! Откуда ты взялся? – журналистка приходила в себя.
– Это не важно. Важно то, что у боснийцев в плену Федор Чегодаев. Ты его прекрасно знаешь, Я разыскиваю его. Где находятся пленные? Вам показывали их?
– Федор здесь? – девушка удивилась еще больше. Но она еще не знала, что ей предстоит совершить, совершить по собственному желанию, иначе бы она просто умерла бы от удивления.
– Ты сейчас пойдешь туда, где содержатся пленные, – сказал я.
– Но сейчас ночь, меня никто не пустит в полицейское управление, – шепотом ответила Светлана.
– Это не столь важно. Ты должна идти и пытаться пробиться к Федору, – настаивал я на своем. – Где находятся камеры, в подвале? Сколько человек охраны? Как пройти туда с первого этажа?
В это время звучно хлопнула входная дверь, и в здание кто-то вошел. Вероятно, часовой. Он медленно прошелся по коридору. Он был профессиональным военным, потому что сразу почувствовал людей в темноте. Остановился напротив лестницы и уставился в темноту, прямо на нас. В качестве маскировки я обнял Светлану и закрылся ею.
Душистые волосы, пущенные кольцами и завитками полезли в нос. Мне хотелось взять эти завитушки и вырвать вместе с корнями. В отместку за немца. Неужели я ревную? Девушка приподнялась на цыпочках, чтобы покрепче ухватиться за мою шею. Она даже коснулась губами моей небритой щеки, и ее всю передернуло. От возбуждения. Или не знаю от чего. Никогда не был девушкой и не целовался с небритым и здоровым, как лось, мужиком.
В этот момент вспыхнул свет фонарика.
– Икскьюз ми, – отнюдь не с английским акцентом пробормотал часовой и вышел на улицу.
– Я никуда не пойду, – сказала журналистка, слегка оттолкнув меня. – Они лишат меня аккредитации… Надо действовать легально. Пленного можно обменять на другого пленного, на оружие, продовольствие… Зачем рисковать?..
То, что говорила эта дамочка, было резонным. Она ничем не может мне пока помочь. Просто я теперь точно знал, где находится Чегодаев.
– Ты поможешь спасти человека… – пытался уговорить я журналистку и чувствовал, как наполняюсь дикой злобой.
Мне захотелось ударить эту, в сущности, еще девчонку, смять, пырнуть кинжалом. Впервые за многие недели здесь, в Боснии я люто ненавидел человека, причем соотечественника. Казалось, что из под земли идет невидимая и могучая энергия зла, которая переполняет тебя всего, и ты начинаешь это зло творить. А может, я всего-навсего был голоден, давно не трахался, перенервничал последние дни и поэтому злился.
– Тогда прощай, – сказал я. – Когда услышишь шум, выстрелы, особенно не высовывайся. А теперь иди спать.
Светлана хотела еще что-то сказать, возразить, спросить, но я поднял руку.
Как только девушка закрыла за собой дверь, я подошел к выходу из коридора и прислушался. Часовой стоял возле самой двери. После разговора с журналисткой я весь кипел от злобы.
Я резко распахнул дверь и звезданул здоровой коленкой в пах уставившегося на меня часового, а потом нанес оглушающий удар по черепу. Выволок того в коридор. Снял куртку, забрал автомат.
Теперь мне надо было умыться. В этом паршивом городе нельзя даже умыться… Мое чумазое лицо сразу вызовет подозрения. Я двинулся по коридору в поисках умывальника. Воды в кранах не было, но в туалетной комнате стоял бачок с водой. Я напился, умылся и срезал повязку с колена. Опухоль прошла, и колено сгибалось.
…Часовой у двери полицейского управления окликнул меня, но я, невнятно бормоча, продолжал приближаться к нему. Часовой передернул затвор автомата, но в этот момент я прыгнул и ударом ноги с разворота погрузил его сознание во тьму. Взял его оружие. На шум изнутри здания выбежал дежурный офицер. От моего удара он тоже погрузился во тьму. Я нащупал ключи в кармане офицера, взял их и вошел внутрь здания. Теперь необходимо найти комнату или камеру, в которой содержался Чегодаев.
В коридоре слева была открыта дверь в комнату, и когда я заглянул туда, то увидел спящих одетых боснийцев. Я подобрал ключ к двери и запер ее. Затем взял горящую свечу со стола дежурного и спустился в подвальное помещение. Вот одна камера, битком набитая людьми. Вот другая.
В первой Федора не было. В другой, в ответ на мой приказ выйти, в углу, на доске, привинченной к стене, пошевелился человек.
– Федор, быстрее! Всем остальным подождать три минуты и уходить.
– Русский, русский! – зашептали пленные или преступники. Кто там был в камере, черт его знает. Может, я выпустил убийц и мародеров. Плевать!
В свете свечи лицо Федора напоминало лицо покойника. Мое было не лучшим.
– Юрий, ты? Боже!..
– Ты цел? Передвигаться можешь?
– Могу, только ладонь порезана…
– Быстро иди за мной, вот тебе автомат… Когда мы выбегали из полицейского управления, вовсю затрезвонил телефон. За порогом стонали и приходили в себя офицер и часовой.
Я понимал, что далеко нам не уйти. Весь город представлял собой огромный военный лагерь, где был вооружен почти каждый взрослый мужчина. Если будет поднята тревога, нас схватят в течении получаса. Следовало затаиться и ждать, чтобы уйти в тишине.
…Я опять в своем доме-убежище. Но мы не спешим в квартиру на пятом этаже. Это опасно. Мы спускаемся в подвальное помещение и забираемся в узкий лоток, где шныряют голодные крысы. Надо отлежаться, отдохнуть.
Выстрелы, крики, топот ног продолжались до самого утра. Скорее всего, боснийцы ловили своих же преступников.
После полудня я пролез в коллектор канализации, просидел там часа два или три, прислушиваясь к шумам на улице. Наконец, я внятно расслышал, как на джипе меняют колеса. Тогда мы вернулись на первый этаж дома, выждали, пока закончится работа с колесами и начали ждать удобного момента, чтобы завладеть джипом.
Когда колеса были сменены, обстановка оказалась такова: на своем посту у двери, как обычно, стоял часовой; немец, владелец джипа, то садился за руль, то выходил из машины, собирая свои гаечные ключи и прочие причиндалы; журналистка стояла на тротуаре и непрерывно вращала головой. Двое других фоторепортеров просто слонялись по улице.
Главную опасность представлял босниец-сопровождающий, который ни на минуту не отходил от немца. То он ему помогал менять шины, отложив в сторону автомат, то снова брал оружие и нервно прохаживался взад-вперед.
Я выбрал момент, когда и часовой, и босниец-охранник не смотрели в мою сторону, стояли отвернувшись.
– Пошли, – скомандовал я Федору.
Изготовившись к стрельбе, мы приближались к джипу. Первым нас заметил часовой у двери. Он соображал туго, а когда сообразил, то, пользуясь расстоянием, быстренько залег за каменным крыльцом и заорал, предупреждая охранника и немца. Охранник оглянулся, схватился за оружие. Но мы были уже достаточно близко. На него, безусловно, подействовала угроза наведенного прямо в лицо автомата.
Федор обезоружил охранника, немец стоял с выпученными глазами, журналистка присела, поджав колени, а вот оба фотокорреспондента не растерялись и без устали щелкали камерами, наведя их прямо на нас.
«Наконец-то я до вас доберусь» – со злорадством подумал я и, переставив автомат на одиночный огонь, прицелился в фоторепортеров. Кому из наемников охота попадать на обложку «Шпигеля»? Потом тебя узнает любой таможенник, любой шпик, или любой полицейский из любой страны. Фотографов я бы причислил к естественным врагам нашей профессии. Поэтому я не жалел ни своих естественных врагов, ни их камер.
Я прицелился прямо в объектив наведенной на меня камеры. Если пуля пробьет аппарат и ранит или убьет корреспондента, то он будет простой жертвой войны. Его сюда никто не приглашал.
Я нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля разбила бленду, линзы объектива, зеркало отражателя и застряла в фотоаппарате. Однако удар был такой силы, что фотоаппарат ткнул репортеру в лицо, и он за него сразу схватился.
Второй журналист сорвал камеру с груди и швырнул ее на асфальт. Я расстрелял и вторую камеру. В это время Федор на глазах у часового, который залег у двери, держал ствол автомата у горла боснийца-охранника.
Затем мы затолкали струхнувшего немца и боснийца в джип, и я заорал немцу:
– Вперед! Форвэртс! – добавив потом в азарте и «доннер веттер», и «ферфлюхте швайн», и «гитлер капут», словом, все то, что отцы этого немца принесли на землю Беларуси в 1941 году.
Тем временем журналистка вцепилась в ручку двери и закричала:
– Я с вами, возьмите меня!
– К черту! – ответил Федор. – Зачем ты нам?
– Возьмите меня, умоляю…
Федор наставил автомат на девушку, но она отвела ствол, и уже щемилась в салон, пытаясь усесться рядом с охранником. Немец с испугу нажал на педаль газа. Джип сорвался с места и помчался по улицам пустынного города.
Я из открытой двери пустил очередь по часовому – не с целью убить его, но чтобы он не высовывал из-за каменного крыльца голову. Только спустя секунд тридцать, когда мы отъехали на метров сто, позади послышались выстрелы.
Немец уцепился за руль и вовсю давил на газ. Джип несся по прямой. Вот центральная площадь, мы проскочили ее и въехали на широкую улицу. Нет, это не та дорога, она не приведет к мосту.
– Поворачивай! – снова заорал я на немца, показывая ему рукой круговые движения. Он затормозил, развернулся, и мы снова вылетели на площадь. Люди шарахались от автомобиля. Из-за отсутствия транспорта, они привыкли ходить прямо по проезжей части улицы, тем более, что вечерело, а только в сумерках здесь начиналась более или менее активная жизнь. Вот городской мост, через метров двести поворот налево и прямо к мосту, на котором стоит пост боснийцев. Как мы его проскочим? Боснийцы могут открыть фронтальный огонь по шинам. Тогда нам каюк. Придется прорываться с боем. Но два ствола автоматов против крупнокалиберного пулемета – это несерьезно.
Немец продолжает жать на педаль акселератора. Он добросовестно выполняет то, что от него требуется. Вот поворот, и я показываю рукой, мол, надо поворачивать. Немец еле вписывается в поворот. Теперь по прямой. Мелькают деревья на обочине. Неестественно быстро приближается мост. Охранники на мосту, в касках и бронежилетах, выстраиваются в ряд, поднимают оружие к уровню глаз.
Сейчас начнется! Это верная погибель. Немец видит новую опасность и сбрасывает скорость. Я нажимаю своей ногой на его ногу на педали газа. Немец пытается вытащить свою ногу из-под моей. Но я уперся плечом в стойку салона и давлю ногой из последних сил, понимая, что, возможно, это самоубийство. Вся жизнь – это самоубийство.
Джип рывками набирает скорость. Замелькали перила моста, вижу, как затряслись от выстрелов автоматы охранников, автомобиль бросает вправо, влево, и тут я рву на себя рулевое колесо, выворачиваю его вместе с немцем.
Страшный удар потрясает автомобиль!!! На несколько секунд я теряю сознание, ударившись головой о переднюю панель. Ощущение такое, что переломаны руки и ноги. Джип со всего размаху врезался в перила, разбил их и сейчас завис над пропастью, над ревущей рекой. Он медленно, но неуклонно наклоняется к пропасти. К машине бегут охранники. Немец пришел в себя от удара и откидывается назад, пытаясь перевесить своей тяжестью наклоняющийся джип. Но джип наклоняется все больше и больше, я слышу душераздирающий крик журналистки Светланы, вопль боснийца и рев немца. Мы летим в пропасть, с ужасающей быстротой приближаются острые камни, поверх которых бурлит вода. Я лихорадочно нащупываю ручку двери. Удар! Темнота… Сознание медленно возвращается… Как сквозь туман, я вижу и ощущаю струи воды, которые хлещут через разбитые стекла. Автомобиль поворачивается потоком, джип еще плывет некоторое время, цепляясь колесами за камни, вода волочит его, бьет о скалу, снова разворачивает. И, наконец, автомобиль застревает между скал, наклонившись набок. Немец потерял сознание и навалился на меня всей своей упитанной тушей. Я толкаю дверь, но ее не пускает обломок скалы. Вода мне по горло. Поднимаю немца и начинаю его трясти, чтобы привести в чувство. Иначе он утонет. Он приходит в себя, захлебывается, паникует и пытается выбить лобовое стекло, чтобы вылезти. Что творится на заднем сидении? Там можно стоять по грудь в воде. Босниец выплевывает воду, журналистка пробует выломать дверь, а Федор бросил автомат и держится за голову. Если выбраться из машины и нырнув, пройти метров десять-пятнадцать под водой, а потом еще раз нырнуть, то можно достигнуть второго перепада воды, за которым уже не страшны пули охранников.
Только вот что с Федором, сможет ли он самостоятельно плыть, нырять? Умеет ли плавать журналистка? В такой бешеной и ледяной воде и отличный пловец может запаниковать, наглотаться воды и утонуть.
– Федор! Как ты?
– Ничего, нормально, – бормочет Федор.
– Выходи из машины и плыви по течению к водопаду. Отдавайся воде, чтобы отнесло подальше от моста. Старайся подольше быть под водой, иначе заметят и догонят по берегу…
Я схватываю за руку обезумевшую журналистку, которая уже открыла дверь и пытается выбраться наружу, вода захлестывает ей голову, и кричу ей:
– Набери в грудь воздуха! Вдохни поглубже!
Она ошалело вертит головой, хватает ртом бурлящую пену. Я протискиваюсь поверх сиденья к ней. Зажимаю ей рот ладонью и выскальзываю в дверь, сильно толкнув ту ногами. У меня в руках – журналистка. Под двойной тяжестью я иду по дну. Вода стремительно несет меня. Девушка бьется в руках, ей не хватает воздуха. Выныриваю так, чтобы сверху было видно только девушку. Светлана кашляет, начинает орать «спасите!», я кричу ей прямо в ухо:
– Не паникуй, дура! Они же начнут сейчас стрелять в нас!
Вода ледяная, поток стремителен. Успеваю заметить, что немец тоже вынырнул из машины и плывет по течению. И тут с моста раздаются выстрелы. Пули поднимают фонтаны брызг вокруг моей головы. Немец что-то истошно орет, размахивает рукой. В это время мы влетаем в водопад и метра три-четыре падаем вместе с потоком воды. Выныриваем в смесь воды и воздуха. Меня отрывает от Светланы, моя рука выскальзывает из ее рук. Меня тянет на дно. Когда тебя засасывает на дно в омуте, не надо сопротивляться, надо спокойно отдаться воле воды, идти на дно, а потом тебя вода сама вышвырнет на поверхность. Конечно, если у тебя для этого хватает воздуха в легких и рассудка в голове. Когда я появляюсь на поверхности, то вижу, что Светлана плавает, словно утопленица, с головой, опущенной в воду. Подплываю к ней и хватаю за волосы. Вода у девушки струится из носа и рта. Вот она содрогается, кашляет, хватает ртом воздух. Будет жить! Тем временем нас уже несет на скалы. Удар! Еще удар! Я чувствую, у меня словно треснула тазовая кость. Меня переворачивает поток, волосы Светланы выскальзывают из моих рук, и тогда я пытаюсь ухватить ее за одежду. Мне это удается. Теперь вода стремительно несет нас к новым бурлящим порогам. Надо приблизиться к берегу, попытаться выкарабкаться на камни. Если бы я был один, это не составляло б для меня труда. Но со мной почти беспомощное существо, которое владеет разве что своим языком. Бешеный поток ревет, тянет и бросает нас на камни. Наконец, пороги кончаются… Я гребу из последних сил к берегу. На берегу тоже поставлены мины. Здесь, в Боснии, все заминировано, даже кладбище.
Мне удается приблизиться к берегу и погрузить руку прямо в грязь, чтобы зацепиться за берег. Другой рукой я тащу девушку, ухватив ее за ворот. Теперь следует во что бы то ни стало выкарабкаться на сушу и спрятаться в кустах, пока не прибежали боснийцы. Но они и не думают приближаться к нам. Их интересует немец, который застрял на скале и истошно орет, требуя внимания и спасения. Где Федор? Высматриваю на поверхности воды голову человека. Кажется, что-то похожее на человека плывет невдалеке. Точно, человек. Но Федор ли?
Это, теперь вижу, Федор, я помогаю ему выкарабкаться на берег и мы уползаем в сумерках в прибрежные кусты.
Отдышались, начали ощупью пробираться через прибрежную полосу, утыканную минами.
И вот, наконец, мы в безопасности, бесконечно счастливые, изможденные, израненные, но спасенные. Светлана, едва живая от усталости, бредет позади. Ее всю трясет от холода. Но ни я, ни Федор не обращаем на нее внимания. Федор непрерывно разглагольствует. Он явно перевозбужден своим неожиданным спасением.
Уже вечер, сгущается темнота. От постоялого двора доносятся отчаянные крики. Приблизившись, я узнаю голос командира группы. Оказалось, что Андрия Зеренкович выгоняет польку из ее комнаты и вселяет новичка, которого он мне привел взамен Джанко.
Эльжбета первая увидела нас. Она завизжала от радости, и ее горе из-за выселения мгновенно превратилось в дикую радость. Полька подбежала ко мне и повисла на шее. Андрия Зеренкович остолбенело смотрел на меня, на Федора. Нас третий день считали пропавшими без вести. Бушлат мой выудили из реки и решили, что я утонул в бурных водах. Андрия Зеренкович уже успел получить за нашу пропажу втык.
Но мы вернулись. Все довольны. Приятно, черт возьми, когда видишь, что твое появление приносит на хмурые лица хоть какое-то просветление. Появляется, вместе с тем, законная причина для выпивки. Ракия течет рекой, Зеренкович слушает мой путаный рассказ, бросает взгляды на Светлану, и лицо его то озаряет улыбка, то он начинает хмуриться. Ему не дает покоя Светлана. Не как женщина, а как журналистка. Андрия еще ни разу не работал с журналистками. Журналистов он водил даже на задания, и ни разу тогда не случалось ничего плохого. Но женщина, по его мнению, всегда способна принести несчастье. Он предлагает срочно отправить Светлану к начальству. Я улыбаюсь и говорю:
– Отправь сначала Эльжбету!
Тогда он соображает и тоже улыбается. Я веду Светлану в свою комнату. Потом, спустя некоторое время, сюда заходит Зеренкович. Он приводит новичка ко мне, я впадаю в уныние. Собственно, это не новичок. Узнаю Косту Порубовича, который месяц назад был здесь в роли снайпера. Особенность его снайперского искусства состояла в том, что парень не выбирал себе жертв, уничтожал всех, кто попадал ему в перекрестье снайперского прицела.
Пока мне не до разбирательств с Костой. Я бережно растираю посинелую спину Светланы ракией, делаю ей массаж. Заставляю выпить, всячески растормашиваю окоченевшую журналистку. Наконец, она оживает и просит закурить. Я не курю, поэтому иду к своему новому напарнику, который курит со страстью, как и все сербы и боснийцы.
Коста Порубович приходит ко мне с сигаретами. Он удивленно наблюдает за Светланой. Это необычайно хмурый, ростом с дядю Степу, великан, боящийся смотреть мне в глаза. Если я иногда ловлю его взгляд, и он не отводит по-мальчишечьи его в сторону, стыдливо и поспешно, я вижу в этих детских глазах затаенный ужас. У Косты нет ни матери, ни сестры, ни брата. Их нашли задушенными бельевыми веревками. Отец ушел мстить, но вскоре погиб в окопах, когда случилась заваруха летом. Коста похоронил отца и поклялся убить тысячу босняков. Пока ему далеко до намеченной цели, хотя, кажется, он вовсю стремится сдержать свое слово.
Я укутываю Светлану в одеяло, приношу ей настоящий турецкий кофе, добавляю в него пару капель ракии, и она оживает. В конце концов, она – вполне здоровая женщина, для того чтобы выдержать такое осеннее купание. Тем временем Коста пристально наблюдает за журналисткой. У меня складывается впечатление, что Порубович наблюдает за Светланой, как охотник наблюдает за новым, необычным для него зверем. Любопытство ли тому виной или нечто другое, однако я думаю, что не это является главной причиной того, что Порубович испытывает страсть, наблюдая или уничтожая себе подобных людей. Причина спрятана в характере этого угрюмого серба. Вот и сейчас он почти не пьет, хотя Коста Порубович любил раньше выпить, но чурался женщин. Тоска и тяжелые лишения его одинокой, не согретой женской лаской жизни непреодолимой преградой встали между ним и людьми. И раньше он страдал от невозможности сблизиться не только с женщинами, но и сойтись, сдружиться просто с людьми. Теперь его страдания удвоились, ибо появились вещи, которые Коста сознательно скрывал, а это заставляло его еще больше уходить в себя. И прежде каждый взгляд и каждое слово, которыми он обменивался с кем-нибудь, были для него непереносимой мукой и болезненным раздвоением личности. Теперь это стало представлять опасность. А боязнь выдать себя делала Косту еще более неуверенным и подозрительным.
Отвращение его к людям росло, наслаивалось и отравляло его сознание тайным ядом беспричинной и безотчетной, но вполне очевидной ненависти, непрерывно расширяющей свой круг. В этом состояла скрытая от глаз жизнь Косты. Мне, вооруженному подзорной трубой, не раз приходилось наблюдать, как он ждал, когда будут идти женщины. Начинал ругаться. Неукротимая ненависть подкатывала к его горлу. Он, не зная как излить, как выразить свою ярость, начинал неистово плеваться. Я видел это в свою подзорную трубу. Он чувствует, что в этой ненависти начало его погибели.
После того, как уходит Андрия Зеренкович, Коста вынимает из кармана свою плоскую бутылку с ракией. Отвинчивает пробку и прикладывается. Протягивает мне. Я тоже прикладываюсь к горлышку. Ракия нагрелась на бедре у Порубовича.
– Босния – прекрасная страна, – говорит он, – интересная, совершенно необычная и природой своей, и людьми, ее населяющими, и подобно тому, как в недрах Боснии скрываются богатства руды, здешние люди, несомненно, таят в себе массу нравственных достоинств, не так уж часто встречающихся в других областях бывшей Югославии. Но, видишь ли, при этом в ней есть то, что выходцы из Боснии, по крайней мере, люди вроде меня, должны понимать и никогда не забывать: Босния – страна ненависти и страха.
Мне приходится всячески поддакивать ему. С ним разговаривать значительно проще, чем с Джанко. Коста выпаливает сразу все, что у него наболело, и уходит. Так случается и сегодня. Мы пускаем плоскую бутылку еще раз по рукам, не обминая Светланы, и Коста Порубович уходит. Наконец-то можно отдохнуть, расслабиться, почувствовать, как ноет каждая косточка, уставшая от лазанья по скалам. Но тут слышатся пронзительные женские крики. Это опять Эльжбета. Оказалось, что пока Коста говорил спич у меня, полька опять заняла свою конуру с печкой, и ее опять придется выгонять.
Коста Порубович ругается, пытаясь освободить комнату от Эльжбеты. Женщина цепляется руками и ногами за ножки кроватей, за стулья, за притолоку. Но Коста упрямо выволакивает ее на галерею и захлопывает за собой дверь.
Полька обнимает колени руками и начинает беззвучно лить слезы. Мне так жалко ее, что хочется пустить к себе переночевать. Я бы это и сделал, не побоявшись ревности Джанко, но теперь в моей комнате уже есть женщина, которой я вынужден уделить толику внимания. Однако, когда я наклоняюсь спросить, все ли хорошо, и не нуждается ли Светлана в чем-либо, ее руки обвивают мою шею. Неужели эти руки символизируют обыкновенный житейский хомут? Я чувствую, что толика моего внимания грозит перерасти если не в центнер, то, по крайней мере, в пуд… Однако этому в тот момент не суждено было сбыться. Потому что, когда совсем стемнело и Коста вышел справить нужду, полька проскользнула в свою бывшую комнату. Коста зашел в комнату, зарычал, как зверь, началась возня и отчаянные крики польки. Светлана откинулась на подушку и сказала:
– Я не могу, иди успокой их…
Пока я дошел до комнаты Порубовича, он неожиданно быстро стих. Это для нас было великой тайной, каким образом Эльжбета усмирила дикого зверя Косту Порубовича. Ведь он ни разу не ходил к девкам.
Мое возвращение в комнату обрадовало Светлану. В ней проснулся обычный журналистский зуд, и она начинает выспрашивать все о наемниках. Ее интересует мельчайшие детали, вплоть до того, есть ли у нас выходные, и где мы обычно проводим свободное время. Я не даю ей спрашивать, мои губы закрывают ей рот.
Последующие дни прошли монотонно, один за другим, в ухаживаниях за Светланой, отдыхе, а потом и в тяжелом ратном труде. Трудность заключалась в том, что нам далеко ходить «на работу».
Светлана собирается идти на пост к боснийцам. Она думает разыскать свои документы, которые остались в машине. Ну и баба, простите.
Но к концу недели произошли не совсем приятные события. Как я и предполагал, боснийские снайперы проникли на наши старые позиции и, несмотря на то, что у них не очень-то и выгодный обзор, убили нескольких сербов, проходивших по дороге к мосту.
Андрия Зеренкович хмур и зол. Он получил нагоняй от командования. Наши действия неэффективны. Нас должны заботить не только уничтожение противника, но и охрана подконтрольной территории. После небольшого разноса от Зеренковича мы спланировали устроить на старых позициях засады. На задание пойдут все. Мы с Федором предлагаем устроить засаду и в ущелье.
– Ваше дело, – говорит Андрия, – вы туда ходите, там и устраивайте.
Для усиления группы нам придают Косту Порубовича. Он вооружен автоматом и гранатами. Чтобы поднять Косту утром, поскольку нам надо вставать часа в три ночи, я осторожно скребусь в дверь его комнатушки. Дверь отпирают. Я шепчу в темноту:
– Коста?
Коста спит, как ребенок, свернувшись калачиком, а в дверях стоит нагая Эльжбета. От нее в ночной прохладе струится тепло и запах любви.
– Разбуди Косту, нам надо идти.
– Не говори Джанко ничего, он убьет меня.
– Не убьет.
– Ты все равно не говори.
– Не буду.
– Так ты ничего не скажешь?
– Отвяжись…
И вот мы всей группой бредем к сербским позициям беспорядочной толпой, а потом я, Федор и Коста сворачиваем к ущелью. Царит абсолютная темень. Нам еще идти и идти.
Засаду мы устраиваем глубоко в ущелье, почти на выходе. Светает. Мой расчет верен. На минном поле возникают, словно призраки, вооруженные люди, и их достаточно много. Два, три, пять человек… Предстоит неравный бой. Мы в выигрышной ситуации только до первого залпа, поэтому первый залп будет определяющим.
– Сейчас вы захлебнетесь собственной кровью! – страстно шепчет Порубович.
По условному сигналу открываем огонь на поражение. Боснийские солдаты падают, как подкошенные.
– Получите! Получите! – орет Коста Порубович.
Возможность маневра у противника ограниченная из-за заминированной местности. Но боснийцы отлично экипированы и по рации вызывают минометный огонь по ущелью. Первые мины недолетают и взрываются в лесу на горе. Потом следует перелет. И, наконец, классическая вилка – мины летят прямо нам на головы. Ущелье заполняется грохотом взрывов. Если так будет продолжаться, от нас останутся ошметки мяса.
Мы вынуждены отходить, пуская очереди по противнику, чтобы прижать его к земле. Отходим поочередно, прикрывая огнем друг друга.
Неожиданно Коста смотрит вверх, орет и стреляет вверх. Прямо с отвесной стены на него падает человек. Потом вскакивает на ноги и пускает очередь в Косту. Порубович успевает укрыться за камнем. Я вскидываю автомат и стреляю по врагу. В этот момент между нами взрывается мина и обдает меня тысячей мелких каменных осколков. Все мое лицо иссечено в кровь. Я ослеплен. Слышу крики Федора, автоматную пальбу. Пока я протираю глаза и зрение возвращается ко мне, завязывается рукопашная схватка. Порубович сражается с внезапным противником. В это время снова взрывается мина, еще одна, взрывы следуют один за другим, и ущелье заволакивает пылью и дымом. Федор подбегает ко мне и кричит прямо в ухо, что пора уходить. У нас нет выбора. И мы уходим. Из дыма и пыли показывается силуэт Косты Порубовича. Он жив! Коста торжественно несет в руках узкий длинный нож, показывает его мне и говорит: – Это был Джелалия!
На ноже я опять вижу загадочную надпись – «bors». Федор тупо смотрит на нож, читает надпись, и на лице его не шевелится ни единый мускул.
Мы возвращаемся в лагерь, на постоялый двор, запыленные, в крови. Девушки, в том числе и Светлана, встречают нас, как жены после работы встречают мужей. Помогают снять оружие, раздеться.
В моей комнатушке наведен порядок. Мне это не нравится. Теперь я не знаю, где что лежит. Зато на столике стоит бутылка ракии и живописно разложена еда.
– Я познакомилась с Эльжбетой, она мне о себе все рассказала… – как бы оправдывается Светлана. После последней ночи она выглядит таинственной, загадочной. Если и пытается что-то сделать, то все у нее валится из рук. Она разбила мое зеркальце, смотрясь в которое, я брился. Девушка непрерывно лезет целоваться. Если она влюбится, то будет еще хуже.
…Вечером появляется Джанко. Он возбужден, исцарапан, но у него куча денег, и он сполна расплачивается с Эльжбетой. Полька ликует, ей наплевать, почему за время своего отсутствия Джанко стал подозрительно богатым, полька теперь ни на минуту не покидает его. Я рад за Джанко, но думаю, что будет потом, когда деньги у него все же кончатся. Джанко поселяется в свою прежнюю комнату, и полька теперь не вылазит от него, лежит у него под одеялом все время голая. Джанко приносит ей еду и ракию.
Федор Чегодаев приходит ко мне с бутылкой водки, настоящей, русской.
– Где взял? – спрашиваю.
– Места знать надо, – улыбаясь, отвечает Федор и достает еще бутылку сливовой водки, кусок отличного сыра. Начинает в который раз рассказывать о Москве, о Беркутове, теперь уже не боясь, что Светлана может эти сведения использовать в своих публикациях. Светлана еще долго не сможет ничего опубликовать.
Отношения у него со Светланой складываются интересные. Им обоим сейчас почему-то немного стыдно. Что ж, что когда-то было, то было.
Из рассказов Федора я только сейчас понял, что Беркутов оказался отнюдь не простым бывшим партработником. Я вспоминаю, как после разгрома фургона с наркотиками, Беркутов, хитрый как старый лис, скорее всего перестал мне доверять, потому что определил меня охранять своих детей – мальчика и девочку. Расчет был верен, я не смогу вникать в его дела, а ради детей, если потребуется, отдам жизнь.
Но мне не пришлось этого делать. За его детей отдал жизнь другой.
…Мне больше нравилась маленькая девочка. Я чувствовал себя огромным детиной рядом с ней. Вначале я работал с детьми Беркутова один. Потом нас стало двое. Но по очереди мы были вынуждены охранять, кроме маленькой семилетней девочки – белокурого ангела с пухлыми щечками, и мальчика, еще и жену Беркутова. Если Алеся прелестная девочка, умненькая, явно не в Троекурова, поскольку его молоденькая женушка гульнула налево, (про нее давно ходят такие слухи), то мальчик – вылитый отец. Суровый, собранный, вечно занятый детскими делами.
Труднее всего охранять жену Беркутова. У нее постоянная тяга к развлечениям. Особенно в постели. Впрочем, это не моя забота. Думаю, что к моему напарнику она уже залезла в штаны. Со своей стороны я не давал к этому ни малейшего повода.
Я сдаю свое дежурство и ухожу. Мы уже получили предупреждение от местной милиции, что носить боевое оружие не положено по закону, пусть мы и состоим на учете в законно зарегистрированной частной сыскной и охранной фирме. Поэтому мы пользуемся при охране одним боевым пистолетом, который при смене дежурства передаем друг другу, как эстафету. Для собственной охраны мне достаточно кулаков.
У Курочкина, моего напарника, правда, огромный газовый пистолет, но им он ни разу так и не воспользовался, если не считать выстрелов по собакам.
Боевик Курочкин вытирает сопли деткам. Хотя, говорят, что ни делается, все к лучшему. Может быть, и хорошо, все-таки это не склады ночью охранять. Тут и в тепле, и не под дождем. Вот только квалификация может пойти коту под хвост.
Квалификацию Курочкин не потерял. Троих кавказцев он заметил сразу. Я в это время успел позвонить Беркутову и сообщить, что выезжаю в город. Но не успел выехать. Наверное, натренированный глаз Курочкина сразу определил, что у «черных» под пиджаками оружие. Он подтолкнул студентку педвуза, нанятую гувернанткой, в сторону подземного перехода:
– Уходите, быстро!
До последнего мгновения он надеялся, что ничего не произойдет, что деловые чучмеки заняты своими мандаринами. Но как только девочка с гувернанткой сделали несколько шагов в сторону перехода, кавказцы ускорили шаг и почти побежали. Молниеносным движением Курочкин вырвал из подплечной кобуры пистолет. Руки нападавших тоже метнулись за борта пиджаков. Но разве кто-то может соревноваться с Курочкиным в ловкости? Кавказцы еще не вытащили свои стволы, а уже трижды грохнули пистолетные выстрелы. Кавказцы получили три одинаковые большие дырки в переносицах. Гувернантка завизжала, прижав к себе Алесю. Курочкин поднял левую руку, чтобы успокоить ее, сказать, что все позади, но не успел: пуля, выпущенная сзади, вошла ему в затылок.
Как потом сообщили очевидцы, еще два кавказцы выскочили из подъезда: не обращая внимания на своих погибших, оттолкнули гувернантку, схватили Алесю, которая завизжала и пыталась убежать, задержали мальчугана и прыгнули в тормознувшую рядом машину. Автомобиль сразу резко взял с места.
…Тем же днем произошло еще одно убийство. На этот раз убили гувернантку детей директора банка. Прямо на квартире. Были похищены двое детей. Выкрали ребенка у депутата горсовета. Всего за сутки похитили шестерых детей.
Федор бегал запыхавшись. В его управлении начальники места не находили.
– Графиня пошла в атаку, это ее дело! Они будут делать «Дисней-ленд». Масса аттракционов. Теперь понимаешь, там живые деньги будут крутиться… Сколько они смогут отмыть левых… А теперь вот послушай последнюю пленочку… – и Федор предложил мне магнитофонную запись с прослушивающего устройства.
Говорили мужской и женский голоса.
– …К сожалению, я в этом не разбираюсь, господин Сивицкий, но ваше предложение меня крайне заинтересовало.
Я сразу узнал голос. Это была Графиня. Графиня была сама любезность:
– При необходимости мы, конечно, наймем лучших специалистов, а в ближайшем будущем поможем вам построить и оборудовать в Петербурге филиал вашей клиники под видом… Ну, скажем, благотворительной клиники…
– Моя фамилия не должна фигурировать…
– О, разумеется, господин Сивицкий… Признаюсь честно, подобное предприятие мне и в голову не пришло бы, да и не могло прийти – такова специфика нашего бизнеса. Вы открываете для нас целый рынок.
– За успех нашего предприятия. Совместного. И если когда-нибудь вам лично понадобится помощь моей клиники, можете на меня рассчитывать. У нас есть и хорошие пластические хирурги. – Прозвучал звон бокалов.
– Благодарю, но лучше бы не понадобилось… Ладно, господин Сивицкий, медицинская компьютерная разведка будет нами налажена в самое ближайшее время, и мы скоро сможем начать набирать банк данных. А когда откроем первый пункт по консервации…
– В первое время это удобнее сделать при каком-нибудь кладбище, морге, крематории…
– …а когда откроем пункт, вы сможете получать органы по заказу, с подбором совместимости, господин Сивицкий. Я думаю, вся оргработа займет три-Четыре месяца, не больше, но мне не хотелось бы делать такой перерыв в живой работе. Что вас интересует сейчас? Что мы можем сделать для вашей гамбургской клиники уже сегодня?
– Мне трудно сказать, госпожа Рашидова… Вообще-то могут понадобиться детские органы. Дело в том, что детский организм…
– Это не важно, ваши биологические объяснения я все равно не пойму. Но вам повезло, у нас как раз есть подходящая партия товара. Если возьмете оптом, можете говорить о снижении цены.
– Э-э-э… А сколько?..
– Шесть…
– Возраст?
– От пяти до тринадцати.
– Нормальный возраст. Чем младше, тем даже лучше. Как вы собираетесь доставлять товар?
– В живом виде. Вы можете помочь с транспортом, господин Сивицкий?
– М-м, скорее всего, нет. Но если очень надо…
– Детали, думаю, мы обговорим позже.
– Насчет денег не волнуйтесь, госпожа Рашидова. Деньги вы получите сразу, все сто процентов, авансом. Я думаю, завтра, или послезавтра. Я вам полностью доверяю, госпожа Рашидова. Мне о вас много рассказывали.
– Благодарю вас, господин Сивицкий. Лента сухо зашелестела.
…Встал вопрос о том, что необходимо передать эту информацию отцам похищенных детей. Иначе милиция может не найти, не успеть найти детей, и тогда их продадут на «запчасти». Вот тогда Федор мне и сказал: он, значит, располагает достоверной информацией о том, что именно Графиня причастна к взрыву автомобиля, при котором погибли дети и жена Фарида, а также Людмила. Если бы я тогда догадался, что Федор просто-напросто использует меня для своих целей? Но я в тот раз оказался тугодумом.
Отцы похищенных детей грозились повесить Графиню на собственных кишках. А для возврата детей условия были следующими – по сто тысяч долларов с головы.
Мне казалось, я должен спасти детей. Не потому, что это были дети. Мне казалось, пределы мести уже превысили все меры. При чем тут дети?
По крайней мере, мне надо попробовать попасть в ночной клуб, где я уже однажды побывал. Это можно сделать. Только там можно было выудить кое-что интересное. Я туда мог попасть только как охранник Беркутова. Но захочет ли Беркутов поехать туда? Не может же человек, у которого похитили ребенка, проводить время в такие дни в престижных заведениях! Без особой на то причины.
Я провел успешную предварительную работу. Днем, когда даже работники покидали помещения клуба, я пробрался в игорный зал, внимательно осмотрелся. Этот мой выход я решил обставить со всем шиком. Пусть я буду Палач. Тем более, что я обнаружил в канализации небольшой склад оружия. Никто из ребят, с которыми мы обыскивали подземные сооружения, не заметил его. Я вооружился из обнаруженного склада Палача крупнокалиберным пулеметом. Пулемет и ленты я доставил в вентиляционную шахту «Ночной фиалки».
…В тот вечер Беркутова потянуло поехать туда, в ночной клуб. Всегда, когда ему нужно было снять стресс, он играл в рулетку.
В ночном клубе «Ночная фиалка», легальном предприятии госпожи Графини, где нелегально приторговывали наркотиками, было все как всегда. Публика подбиралась довольно респектабельная. В большом центральном игорном зале, где по трем стенам стояли автоматы, а вдоль четвертой тянулась стойка бара, крутилась рулетка; Ничто не предвещало бури. Охрана бдила еще на входе.
Крепкие рязанские и псковские ребята с деревенскими рожами, но в смокингах и с набитыми кулаками, тенями прохаживались по помещению. Крупье крутил рулетку и со стуком запускал шарик.
С обилием табачного дыма не справлялась даже мощная вентиляция.
Я незаметно ушел от Беркутова, который просаживал сотню за сотней долларов. Я понимал, что мой уход грозит большими неприятностями, но сознательно шел на обострение отношений. Я вышел в коридор, ведущий на кухню, и забрался в вентиляционную шахту. Пулемет и ленты лежали на месте.
По запаху табачного дыма я определил местонахождение игорного зала. Большая вентиляционная решетка на потолке зала задекорирована подвесным витражом с изображением фиалок. Стараясь не чихнуть, я укрепил альпинистскую веревку за силовой кронштейн, натянул на голову капроновый чулок, вытащил решетку, поправил пулемет, предусмотрительно снятый с предохранителя, и нырнул вниз.
Вместе с грохотом и звоном упавших осколков витражного стекла я соскользнул на зеленое сукно рулеточного стола и сразу же заговорил мой пулемет, заполняя тесное для такого калибра помещение грохотом и пороховой гарью. Я стрелял поверх голов, по игральным автоматам, полкам с бутылками, по стенам.
Беркутов охватил голову руками и нырнул под стол. Гости с визгом ломились в двери, охрана попадала на пол и тоже поползла к дверям. Разрывные пули громили и разносили комнату по части. Вздрагивали, ломились, лопались, кренились набок разрушенные автоматы, летела щепа и Осколки, прыгали по зеленому сукну большие горячие гильзы, источая сизый дым. Я вертелся вокруг своей оси, кроша вкруговую двери, штукатурку, одна из пуль угодила в проводку, замкнула, заискрило, погас свет. Зал теперь освещался только уличными фонарями через окно.
Когда пулемет умолк, пропустив через себя длинную ленту, я бросил его на пол, спрыгнул со стола и рывком подняв первого попавшегося под руку парня в смокинге, крикнул ему прямо в ухо:
– Каждый день, пока дети у вас, будет вам очень дорого обходиться!
Выбив ударом ноги окно, я выпрыгнул во внутренний двор, припасенным заранее крюком приподнял тяжелую крышку люка и нырнул в канализацию.
Нужно было еще успеть вернуться домой, принять душ и обязательно позвонить Беркутову, если он уцелел после бойни.
…Федор сразу позвонил мне. И вот мне приходится вновь ехать в клуб «Ночная фиалка». Теперь в качестве как бы общественного помощника следователя. Всю дорогу, пока мы ехали, я косился на своего напарника. Сейчас, поднятый с постели, он выглядел очень уставшим, издерганным, постоянно крутил головой.
Я очень зауважал коллегу после утреннего разговора в управлении. Господи, ну почему он сам не догадался? Почему никто до него не подумал об этом? Так просто! Почему раньше, полгода, три месяца назад я не мог досконально изучить прошлое Палача? Наверное, потому, что будучи другом Федора Чегодаева, я считал, что и без того хорошо его знаю. И был поставлен в тупик вопросом, который мне задал Федор.
– Ты знаешь, я догадываюсь, кто это.
– Ну и кто же?
– Не скажу.
Я и раньше думал, что Федор не захочет мне говорить своих предположений насчет того, кто является Палачом. Однако, он ведь многого мне не говорил! Тогда в который раз я сказал ему:
– Ищи Палача под землей!
– Конечно, под землей! Я идиот! Я-то думал: каким образом он столько взрывчатки проносит незамеченной! По вентиляции! Которая сообщается с ходами связи!
– И с канализацией, и с метро. И со старыми бомбоубежищами, – добавил я. – Я запрашивал данные от разных служб на пароль одного человека. Каждая служба имеет только карты и планы своих коммуникаций. Связисты не знают ничего о прохождении канализационных коллекторов, если, конечно, они не совмещены на каком-то участке. А в метро ничего не знают о тоннелях связи и о канализации. Полный план всех коммуникаций есть только в голове того, кто ими пользуется. Там можно скрываться очень долго. Пока на компьютере не составят сводные планы, мы в них не разберемся и не научимся перемещаться в подземельях… Этого Палача даже выкурить нельзя.
Я не удержался и похвалил Федора.
Вот и клуб. Даже после разгрома внешне он нештяк. Зато внутри полный хаос.
– Видимо, оба цинка расстрелял, – присвистнул Федор.
Мимо нас милиция провела двоих парней в наручниках. Лица у арестованных были явно не русские.
– За что их взяли? – спросил я.
– Сопротивление милиции, наркотики.
– Какие нехорошие лица кавказской национальности! – притворно ужаснулся я. – Как будете разыскивать детей?
– Детей никто не станет разыскивать… – мрачно сказал Чегодаев.
– Почему?
– Беркутов нажал на остальных, и те собрали деньги.
– А как выйти на момент передачи денег?
– Никак, Юрий. Беркутов приказал не лезть. Графиня с людьми там. Он решил договориться с ней.
– Беркутов тебе приказывает? Чегодаев ничего не ответил и отвернулся.
…Беркутов ничего мне не сказал про разгром в «Ночной фиалке». Словно я и не был его охранником. Он взял меня с собой на передачу денег.
– Им нельзя доверять, поэтому предлагаю надеть бронежилет, – настоял я на своем.
– Хорошо, – хмуро согласился Беркутов.
…Ровно в одиннадцать утра дверь кафе «Александрия» отворилась и вошла невысокая женщина, довольно полная, с необычайно пронзительными глазами. Это и была Графиня. Поговаривали, что она обладает экстрасенсорными способностями и, главное, умеет читать чужие мысли. Я вспомнил ее по первому визиту с Евгенией в ночной клуб. Как всегда, она шла в сопровождении свиты из охраны и секретарши.
Мы уже ждали ее. Сегодня за старшего был Беркутов.
Беркутов, одетый в бронежилет, чувствовал легкое беспокойство.
Почему эта обезьяна вынудила их собраться всех вместе? Опасается? А, с другой стороны, не будет же она организовывать массовое убийство в центре города, днем, в этом людном московском кафе?
Беркутов успокоился. Когда мы пришли в кафе за полчаса до назначенного срока и заняли угловой столик, то долго осматривались, ожидая подвоха. Я был послан на кухню проверить, все ли там в порядке. Там оказалось спокойно.
Приходили и выходили посетители, сновали официанты. Беркутов прислонил кейс к ножке стола и попросил сдвинуть два столика.
– Ко мне придут друзья, – пояснил он. Вскоре начали подтягиваться отцы похищенных детей – «новые русские» с одинаковыми черными кейсами. За три минуты до одиннадцати Беркутов вышел на улицу. Сновали прохожие, мимо него в кафе прошли очередные посетители – высокий господин с дамой. Они болтали невесть что. Беркутов окончательно успокоился и вернулся в зал. Я держал пистолет со взведенным курком.
Откуда нам было знать, что накануне к администрации кафе подошли два вежливых и богатых грузина. Они на весь день арендовали помещение кафе.
– Приедут наши друзья из Грузии. Официанты тоже будут наши, а вам лучше побыть дома, поскольку нам не нужны лишние люди, – сказали крутые грузины, доставая кучу денег. Такую сумму директор кафе не видел ни разу в жизни. И он предпочел ни о чем не спрашивать, просто передал ключи и обзвонил своих официантов, устроив им выходной среди недели.
…Как только Беркутов вернулся к столику, вошла Графиня со свитой. Она остановилась в пяти метрах от сдвинутых столиков и что-то сказала на непонятном языке своим людям. Шесть человек из ее свиты подошли к столам, взяли у всех чемоданчики с деньгами и удалились.
Графиня обвела глазами компанию бизнесменов: – Я рада, что вы приняли такое мудрое решение…
Беркутов насторожился и на всякий случай переместил правую руку поближе к подплечной кобуре, где у него был пистолет. Он еще не понимал, что проиграл. Рука моя напряглась.
Графиня быстро бросила какую-то фразу. И тут произошло неожиданное: все посетители кафе вдруг вскочили, роняя стулья, выхватили пистолеты с глушителями и открыли огонь на поражение по группе за сдвоенными столиками. За мгновение до того я понял, что произошло. Напрягшись всем телом, я толкнул плечом Беркутова с тем, чтобы повалить его на пол. Затем перевернул стол и начал отстреливаться. Огонь противника оказался настолько плотным, что в мой бронежилет попало сразу несколько пуль, и я согнулся, спасаясь от смерти, прикрывая голову руками и пистолетом.
Убийцы действовали поспешно. Еще бы – устроить массовые убийства почти в центре столицы! Выпустив по обойме из пистолетов, искрошив столы и стулья в щепки, они ушли, так и не совершив по контрольному выстрелу. Контрольный выстрел! Это обязательное условие работы хорошего профессионала. Наверное, даже человек, у которого были б железные нервы, в том шуме, гаме, стонах и воплях не довершил бы начатое до конца.
Я остался жив, а Беркутов остался моим должником, поскольку это я уговорил его надеть бронежилет, а впоследствии толкнул его, что спасло его от первых прицельных выстрелов. А потом он лежал, укрытый мной.
Но на этом моя стезя телохранителя прервалась, так как я понял, что не смогу защитить Беркутова от Палача. Потому что этого не хочу. Я узнал, что именно Беркутов был причастен к смерти Людмилы.
…Мы опять в засаде. Опять охота идет на невидимого и вездесущего Джелалию, который оставляет в телах своих жертв длинные тонкие ножи с надписью «bors». Нас четверо. С нами Джанко.
В этих горах иногда выпадает молочное утро с приглушенным светом солнца за тонкими высокими облаками. Тени бледные и расплывчатые, а тишина – полная. Звук не в состоянии преодолеть густого воздуха. Взовьется, взлетит, но тут же падает обратно, на то же место, с которого и взлетел. День, светло, но кажется, будто ночная тишина не покидала этого края. Нет, нам не поймать этого хитрого Джелалию.
Мне сегодня особенно хорошо еще и потому, что меня ждет-не дождется Светлана. Она не такая зануда, как я предполагал. Она умеет быть удивительно ласковой и заботливой. Она не хочет уезжать никуда.
Сегодня мы ушли глубоко в тыл и зашли в ущелье, которое начинается на боснийской территории. Мне кажется, что Джелалия любит ущелья, поэтому он непременно попытается пробраться по нему в наш тыл.
Стоит такая тишина! Хочется, чтобы кто-нибудь крикнул или запел, чтобы нечто произошло; боязнь того, что ничего не случится, перемешивается с чувством неизвестности и страха перед неведомым.
И прежде чем солнце пройдет полнеба, набегут тучи и грянет буря.
Конец декабря – а неожиданно зацвели первые фруктовые деревья. Занимается солнечный день, но уже около полудня начинает порывами поддувать резкий пронзительный ветерок, несущий по воздуху белые и розовые лепестки цветов, хотя явно, прежде чем добраться до нас, он пролетал над снежными пределами. К цветочным лепесткам скоро присоединяются капли холодного дождя, а затем и снежинки. Предчувствие долгой зимы вызывает дрожь.
Охота неудачная. Тогда мы взбираемся на скалу и подходим к тому месту, где я спрятал свое оружие. Осторожно подхожу к куче наваленных веток. Присматриваюсь. Если б я обнаружил подобное хранилище, то обязательно поставил бы мину. Можно бросить камень, и если там есть мина, она может взорваться. Но мне жаль свою мощную подзорную трубу, надежную винтовку СВД. Мы срезаем длинную жердь, мастерим петли из тонкой веревки, подцепляем петлями винтовку и подзорную трубу, и я что есть силы дергаю жердь на себя. Раздается взрыв. Ветки разлетаются во все стороны. Я осматриваю ружье, вроде бы цело. А вот подзорная труба испорчена – ее корпус помят, линзы вываливаются. Что поделаешь?
Теперь мы устраиваем засаду. Ночью сюда обязательно придут те, кто поставил мину. Из чисто человеческого любопытства.
На небе появляются первые звезды. Холодно. Около полуночи мы слышим шорох в буреломе. Шорох приближается, раздается треск ветвей. Кто-то грузный пробирается через бурелом. Не сговариваясь, бьем из автоматов в темноту на звук. Выпускаем по целому рожку. Гулкое эхо долго блуждает в горах. Минут двадцать ждем новых звуков. Гробовая тишина. Ясно, что тот, кто шел искать наши трупы, мертв. Тогда идем проверять, кого же мы подстрелили? Я нащупываю в темноте теплую шерстистую тушу. Она вся в крови. Подсвечиваем фонариком.
– Да это же барсук! – восклицает Коста Порубович.
– Таков наш Джелалия, до суднега данка! – добавляет Джанко и на руке взвешивает барсука.
Да, Джелалия опять перехитрил нас. Мы понуро возвращаемся домой, и меня вновь охватывают воспоминания…
…Чегодаев еще не догадывается, что в роли Палача в кафе выступал я.
– Итак, – горячился он, – слушай! Они уже получили деньги за детей от подпольных хирургов. И даже не в этом дело. Все их родители, кроме спасенного тобой Беркутова, мертвы. Детей отдавать некому. Их пустят на «запчасти». – Нос Федора Чегодаева покрылся бисеринками пота.
Я молчал. Понимал, что шансов мало. Их практически нет. Но и не сделать попытки я не мог.
Как я и предполагал, разгром клуба ничего не дал. Лишь помог выходу душившей меня ненависти.
А теперь нужно было совать голову в петлю – лезть в городок аттракционов, где, по оперативным данным, могли находиться похищенные дети.
– Ладно. Что-нибудь придумаем.
– Швейцарская полиция полагает, что деньги колумбийских «наркобаронов» отмываются здесь, в Москве. Ты понимаешь, что нам светит, если мы раскрутим весь этот змеиный клубок?
– Неужели ты, Федор, веришь сплетням журналистов, которым сам подбрасываешь подобные «утки»? – пытаюсь я урезонить товарища.
– Нет, ты послушай! Советский Союз является «диким западом» для этих дельцов. Милиция слаба, она плохо оснащена и коррумпирована, а вот наша мафия могущественна и располагает хорошими связями с взяточниками в КГБ. Нам этот Палач путает все карты. Он громит одну мафию за другой. Контейнер с наркотиками только вспугнул их.
Я не знаю, зачем Федор привез и показал мне подвальное помещение, где, по его мнению, был склад оружия Палача. Может, он хотел вооружить меня?
…Лязгнули железные створки решетки. Мы проникли внутрь и включили свет. В небольшом помещении лежали цинки патронов и гранаты, промасленные автоматы, несколько пистолетов и с десяток ножей. Словом, чего там только не было! Особенно понравился мне мотоцикл.
– Это все – Палача?
– Не исключено. Я обнаружил склад недавно, когда ты мне доложил о подземном характере Палача. Тут все еще не описано.
– Подари мне автомат, – попросил я Федора.
– Может, подарить два автомата? – пошутил он. – Я же говорю, здесь не описан ни один патрон. Это можно загнать куда-нибудь в Прибалтику, Чечню или Абхазию.
– Нет. Мне опасно там появляться. Каждый должен заниматься своим делом. Следователь – своим, омоновец – своим…
– А Палач – своим. – Чегодаев помолчал и добавил: – Я думал, может тебе понадобится помощь.
– Конечно, понадобится, но кто мне ее окажет?.. А твоя главная задача – не мешать, когда я этими подонками займусь.
Может, он меня подталкивал к тому, чтобы я совершил дерзкий налет на мотоцикле на городок аттракционов? Или ему было мало того, что совершал сам Палач? Он хотел, чтобы Палачей было несколько? Или хотел замести какие-то следы?
Во всяком случае, когда он под никчемным предлогом оставил мне ключи от этого подвальчика, я понял, что от меня требуется. Теперь мне нужно ворваться на мотоцикле и разгромить врагов на их территории…
Тогда надо было открыто сказать, что хочу, мол, отомстить за Людмилу. Что Вселенная сжалась для меня до пределов переполненного местью и яростью сердца.
Федор Чегодаев быстро сообразил, что я могу быть причастен ко всем этим убийствам. Может, потому что внутренне желал того. Он думал, что Палач – это я. Уже потом я понял, почему он так думал. Он тайком от меня обыскал мою комнату и нашел там несколько узких длинных ножей с таинственной надписью на латинице «bors». Он не знал одного. Он не знал, чьи это были ножи.
…Мы подъехали к комплексу игровых автоматов в городок аттракционов через полчаса после того, как я надел бронежилет и рассовал пистолеты и ножи по карманам и голенищам. Вечерело.
– Все, Федор, уходи. Скоро совсем стемнеет, уйдешь беспрепятственно, даже если нас уже засекли. Они не будут тебя ловить: у них возникнет множество других проблем. Если дети действительно здесь, я сделаю попытку их освободить. Это все, что я могу обещать.
Федор слез с мотоцикла и, прихрамывая, пошел к выходу. А я выжал сцепление, включил передачу, крутанул на себя рукоятку газа и резко бросил сцепление. Мотоцикл с ревом рванул вперед.
Если у меня и был шанс, то исключительно во внезапности. Переднее колесо мотоцикла выбило входную дверь и он с грохотом ворвался внутрь павильона. Я левой рукой вырвал из-за спины автомат, был готов стрелять, и поехал по игровым залам.
Очередь прогремела сзади, как раз по колесу мотоцикла. Одна пуля царапнула ногу, и горячая струйка крови потекла в сапог. Я слетел с мотоцикла, бросился в темный боковой проход, левой рукой стреляя наугад назад, а правой вытаскивая гранату. По всему павильону уже слышались шум, грохот и гортанные выкрики кавказцев. Я осторожно выглянул из своего закутка. Справа показались две серые фигуры, и я короткой очередью срезал их. В соседнем помещении что-то звенело. Я зубами вырвал за кольцо чеку и пустил через холл гранату по полу: в сторону двери в соседний зал. Граната точно скользнула в дверной проем. И еще целую длинную томительную секунду я ждал, когда горение запала дойдет до детонатора. Грохнул взрыв. Мне пахнуло в лицо взрывной волной. Я в два прыжка пересек открытое пространство зала и прижался спиной к тонкой гофрированной стенке-переборке, за которой раздался взрыв, изрешетив осколками переборку. Из двери в противоположной стене зала выскочил кавказец с пистолетом в руке. Почти не целясь, я дал очередь в его сторону. Кавказец упал, а вместе с ним упал и я: из-за стенки, к которой я прижался, грохнули выстрелы, пули веером прошили тонкую переборку и две из них ударили меня в спину. Уже лежа на полу, я закусил губу от сильного удара по почкам, перевернулся на спину и тоже начал стрелять через тонкую стенку. Однако выстрелив два раза, мой автомат смолк. Я откатился, быстро сменил магазин и затаился, насколько можно было затаиться, лежа на голом полу в открытом зале. Теперь через переборку палили без передышки, и через несколько секунд она стала похожа на дуршлаг. Несколько раз пули свистели в опасной близости от моей головы. Стреляли, видимо, двое. Как они спаслись от осколков гранаты?
Вдруг наступила тишина. Я захрипел. Стрелявшие наугад через стенку решили, что я серьезно ранен. В пулевые дыры я увидел движение, бесшумно поднял ствол автомата и нажал на спуск. Вскрик и звук упавшего тела засвидетельствовали, что я поразил противника. Я не стал ждать повторного шквального огня. Вскочил, достал гранату и рванулся к двери, на ходу зубами выдергивая чеку.
В следующем зальчике был свален строительный материал, доски, мешки с цементом. Они и прикрыли от осколков кавказцев. Как только я влетел в зал, кавказцы открыли огонь. Я кинул гранату за баррикаду из металла и упал, сбитый градом пуль. Одна из них царапнула по щеке, другая задела руку. Теперь баррикада прикрыла от осколков меня.
Я лежал, стараясь побыстрее прийти в себя от контузящих болезненных ударов пуль по бронежилету и восстановить дыхание. Через некоторое время в глазах прояснилось, я встал на четвереньки и снова рухнул лицом вниз от ужасного удара по голове. Мир погас.
…Я медленно выплывал из черноты вместе с красными пятнами, которые кружились перед глазами. Сверху светила мощная лампа, я это понимал и боялся открыть глаза. Невольно застонал. Кто-то опрокинул на меня ведро воды. И боль чуть уменьшилась, будто частично растворилась в холоде воды. Я приоткрыл глаза – надо мной светила яркая лампа, похожая на операционную. Я медленно приходил в себя.
Хотел стереть рукой воду с лица, но почувствовал резь в правом запястье. Дернул левой – то же самое. Звякнули цепи. Ноги также не двигались. Я был распят на столе. Под спиной ощущались ролики. Где я видел такие столы?
Надо мной появилось лицо, частично закрыв собой лампу. Лицо исчезло. Я повернул голову. Надо мной стояла женщина. Это была сама Графиня. Она сказала:
– Это и есть легендарный Палач? Бог ты мой! Какое жалкое зрелище. Впрочем, если его отмыть и подлечить…
Графиня провела длинным ногтем мизинца по мне, и я почувствовал, что бронежилет и рубашку с меня сняли.
– Твоя вчерашняя выходка обошлась нам в много-много баксов. Мы думали, что ты подох, когда напал на фургон с наркотиками, но тебе повезло: ты выжил.
Она щелкнула пальцами, и вдруг зажужжал электромотор. Я почувствовал, как меня начало со страшной силой разрывать. Кандалы тащили меня за руки, а ноги были жестко закреплены на станине.
Внезапно я вспомнил. Это стол для растягивания кож. Шкура крепилась с одной стороны на станину, а зажимы тянули ее в другую сторону…
Господи, какая боль!
Словно раскаленная добела волна боли с хрустом костей и связок накрыла меня. Сознание гасло, не в силах плыть в этой белой боли, а в глаза слепяще давил яркий свет.
…и сверху находился мощный светильник, чтобы сразу можно было найти дефекты шкур. Небольшой редуктор неспеша вращал валы с прямоугольной резьбой…
Я не понимал уже, где я и что со мной. Я только кричал, не слыша себя, раздавленный раскаленной болью. Весь мир превратился в боль. Я провалился в боль. Нет, меня не было, во всей Вселенной была эта сплошная боль, от которой нигде нет спасения, потому что вся Вселенная и есть эта боль.
…шкуру нужно растягивать медленно, избегая разрывов. Растянутую шкуру оставляли сушиться на несколько дней, чтобы она не съеживалась…
– Не правда ли, такое ощущение, будто тело разрывается на части, выворачиваются суставы? – спросила Графиня.
Но я уже не воспринимал вопросов. Графиня сделала жест рукой, и моторы закрутились в обратную сторону. Боль медленно стихла, убегая из моего тела, словно вода из раковины с приоткрытой пробкой?
…Где я мог видеть такой станок?
– Сейчас он оклемается и продолжим, – откуда-то издалека донесся до меня голос.
Я должен вспомнить что-то важное. Что-то очень важное… Для чего важное? Сознание прояснилось.
На меня смотрят. Сейчас они опять включат моторы. Два мотора или один? А это имеет значение? А кнопка? Мотор приводит в движение через редуктор две черные промасленные оси. Откуда я это знаю? Еще с детства? Или видел на экскурсии на кожевенной фабрике?
Графиня взглянула на часики.
– Господин Палач, вы будете жить гораздо дольше, чем вам бы хотелось. Я бы желала взглянуть на это. Но у меня нет времени.
Графиня со свитой вышла, и в помещении остались только двое – кавказец и высокий парень.
Двое! Всего только двое! Почему мне от этого не легче? Пытать меня может и ребенок… Нужно только нажать кнопку. Кнопка… На двух смазанных осях движется муфта с цепями. На цепях захваты для кожи…
Есть! Вот оно. Я вспомнил эти захваты, напоминающие кандалы. Небольшие полукружия с рифлеными губками, стянутые барашковой гайкой. Если я сумею хоть немного ослабить ее…
Я покосился на бандитов. Они о чем-то совещались. Сколько у меня времени? Я пытался покрутить кистью правой руки. Теперь, когда натяжение ослабло, чувствовал, что рука в стальном полукружии ходит достаточно свободно. Вот и нащупал барашек. Я уперся большим пальцем в лепесток гайки. Гайка не поддавалась. Попробовал еще раз. Не идет. Почему? Неужели я настолько ослаб? Я пошевелил пальцами, ощупал гайку еще раз. А, вот в чем дело – надо крутить в другую сторону. На этот раз гайка сдвинулась и пошла. Бандиты перестали шушукаться. Парень подошел ко мне и встал у края станины.
– Ну что, придурок? Сейчас мы поедем в ад. На этот раз мы порвем тебе пару сухожилий. А на третий раз вырвем суставы. Желаю получить удовольствие!
Я уже почти открутил гайку, но пока еще не знал, сумею ли вырвать руку из кандального кольца. У парня за поясом торчал пистолет. Это мгновение было единственным моим шансом. Если я не сумею вырваться в эту секунду, я не выйду отсюда никогда. Сейчас парень отойдет от установки, к кнопке, и там я уже не сумею дотянуться до него, даже если высвободить руку.
Парень сделал движение, чтобы отойти. Пора!
– Стой!
Парень машинально остановился, и это мгновение я тоже использовал для поворота гайки. Я рванул руку, сложив кисть лодочкой и, ободрав кожу, выдернул кисть из кольца. Я перегнулся насколько было возможно, и коротким движением ткнул парня пальцами в горло. Тот всхрипнул и начал падать. Следующим движением я вырвал пистолет из-за пояса парня.
«Если нет патронов в патроннике – я погиб, передернуть не успею!» – мелькнула мысль. Но мой палец был быстрее мысли. Грохнул выстрел, и парень рухнул, так и не успев ничего понять. Второй выстрел усмирил еще одного бандита.
Освободиться от оков теперь было делом нескольких минут. Суставы ныли, но мне было не до этого, я рывком поднял с пола хрипящего парня, поднес к его носу ствол пистолета.
– Где дети?
Парень захрипел. В горле его забулькало. Я встряхнул его.
– Говори! Считаю до трех. Раз, два…
– Графиня перевела их… после твоего нападения… на клуб… – прохрипел бандит.
– Куда?
– В Химки… В шахматную школу…
Дальше я уже не слушал. Ударил парня рукояткой по голове. Достал нож, снял с бандитов рубашки и начал резать длинные ленты. Перевязав раны, чтобы остановить кровотечение, я направился к выходу. К царапинам мне было не привыкать. Увидев недалеко от разбитой входной двери свой изуродованный мотоцикл, я возвратился обратно. Не спеша обшарил пиджак парня, вытащил деньги, подобрал пистолет убитого кавказца. Сзади зашевелился, застонал парень. Я обернулся:
– Если ты насчет денег, то не волнуйся, я занял их на такси. При случае верну…
…Я приехал в милицию к Чегодаеву. Федор крутанулся в кресле.
– Юрий, ты уверен, что в этом не замешан Палач? Ведь мечта и цель его жизни – угробить всю мафиозную верхушку.
– Но ты сам мне говорил: свидетели показывают, что перед тем, как на двери «Александрии» появилась вывеска «закрыто», оттуда вышла Графиня в сопровождении кучи кавказцев, уселась в лимузин и укатила. И кафе тоже сняли кавказцы, к директору приходили два грузина.
– Разве Палач не мог договориться с ними?
– Вряд ли. Во-первых, зачем фанатичному ликвидатору мафии менять шило на мыло – одну мафию на другую? Место наших доморощенных бандитов занимают выходцы с Кавказа. Прибирают к рукам весь их бизнес и рынки сбыта. Во-вторых, он устроил разгром в клубе «Ночная фиалка, и в-третьих… Ты знаешь, как Графине удалось заманить всю верхушку местной мафии в это дурацкое кафе? Я думаю, она поймала их на детей. А Палач никогда не заключит союз с похитителями детей.
– А нельзя арестовать Графиню?
– А что мы ей предъявим? Десятки ее свидетелей покажут, что она вышла из кафе, когда убитые были еще живы. И что дальше?
– А дети?
– Мы их ищем, но мы ищем и Палача. Поверь, я всерьез опасаюсь за судьбы детей. Теперь, когда их родители мертвы, дети не нужны Графине, с ее-то миллионами. Она может ликвидировать их в любую минуту, если уже не ликвидировала.
– Может, отпустит?
– Нет. Ей не нужны живые свидетели, даже дети. К тому же, дети имеют обыкновение вырастать, мстить за родителей. Не забивай голову: это не наша боль. Наша боль – Палач.
Федор снова повернулся к компьютеру. Ясно, что он дурил мне голову своим компьютером. Он сказал:
– Данные от всех служб уже поступили, скоро уже будет готова карта, точнее, сводные карты разных уровней. Но я тут посмотрел на компьютере, все это дело – искать там человека – все равно, что иголку в стоге сена, он уйдет. Он наверняка уйдет. Такие лабиринты!
– У тебя есть другой план?
– Нужно выманить его на поверхность и взять.
– Ну, насчет «взять», у меня сомнений нет, – улыбнулся я. – А вот насчет «выманить»… Ты знаешь, как это сделать?
– Нет, не знаю, – честно сказал Федор. – Я, правда, пытаюсь проанализировать все случаи его появлений.
– Ну и как, есть система?
– Нет.
– Правильно, нет системы. – Я вздохнул. – Но все равно – на чем-то он должен проколоться!
– Так что же нам, сидеть и ждать его прокола?
– Нет, конечно. Прочешем канализацию, отыщем его логово. А параллельно придумаем, как выманить Палача.
– У меня тоже есть кое-какие мысли. И наработки, между прочим, тоже есть. Не думаешь ведь ты, что мы здесь в последнее время занимались только коллекционированием стреляных Палачом гильз? – хитро прищурился Федор.
– Ты не говорил ни о каких наработках.
– Рано еще… Результатов не было. А вот сегодня мне сообщили кое-что. Есть определенная подвижка.
– Какая, в чем? Что сообщили?
– Любопытство губит…
– Это профессиональное чувство.
– Чтобы вытащить Палача куда нам нужно, сначала необходимо войти в его систему информации и подсунуть дезу. А для этого нужно сначала выйти на этих людей, на тех, с кем Палачу приходится контактировать. На его поставщиков оружия…
– Я знаю, где дети! – мрачно сообщил я.
– И где же? – посмотрел Федор недоверчиво.
– Ты точно работаешь на Беркутова? – спросил тогда я. И Федор снова мне ничего не ответил.
…Тогда я ничего не понял и ушел. Ушел вообще из ОМОНа. Я рассказал Чегодаеву, где находятся дети, высказал все, что думаю о сотрудниках милиции, находящихся на услужении коммерческих структур, и хлопнул дверью. А уже потом друзья предложили мне выход на Югославию. Я совершенно не ожидал здесь, в Боснии, встретить Федора Чегодаева. У меня сложилось впечатление, что он специально приехал сюда, чтобы продолжить со мной свои загадочные игры.
Мне удалось через Андрия Зеренковича узнать, что Федор Чегодаев прибыл в Боснию при довольно странных обстоятельствах. Он приехал в Белград вполне официально, среди сопровождающих прославянски настроенную группу депутатов и там совершил что-то вроде побега. Сознательно отстал от своих. Никто его не хватился.
…Мы уже подходим к лагерю. По дороге Коста Порубович и Джанко нагрузили свои карманы бутылками ракии, перепало и в желудки. Лучший среди собеседников – я. Поэтому мне приходится выслушивать по очереди словесные излияния обоих.
Первым начинает свою порцию словесного поноса Коста. Он патетически размахивает рукой и произносит:
– Я конечно, не босниец, но по-моему, мы одинаковы – боснийцы и сербы. Ибо фатальная черта между нами в том и состоит, что босниец не осознает живущей в нем разрушительной силы, шарахается в сторону, когда ему предлагают проанализировать, и проникается злобой по отношению к каждому, кто пытается этим заняться, особенно к сербам.
– Ну, а они-то злой народ, сербы? – спрашивает Чегодаев, у которого из карманов тоже торчит по бутылке.
– А я, по-твоему, злой? – быстро обращается к нему Коста. Зачем Федор задал дурацкий вопрос? Если совершенно не отвечать Порубовичу, то у него ораторский зуд проходит очень быстро. А теперь я не знаю, на сколько затянется…
– Ну, ты… – Федор мнется, ему явно не хочется оценивать Порубовича. Всего пятнадцать минут тот в селении выбил у старухи все окна, потому что та не давала ракии.
– Говори открыто, не бойся… Да я и сам за тебя скажу. Да, я злой. Злой сам на себя. Ибо факт остается фактом: Людей, готовых в приступе неосознанной ненависти убить или быть убитыми по любому поводу и под незначительным предлогом в Сербии, Боснии и Герцеговине больше, чем в других, куда более значительных по территории и населению странах, как славянских, так и неславянских.
Федор пытается возразить, но я вовремя останавливаю его, и мы слушаем дальше. Меня интересует, до чего можно договориться в нетрезвом виде.
– Мне известно, что ненависть, так же, как и гнев, несет определенную функцию в общественном развитии, ибо ненависть вливает силы, а гнев пробуждает к действию. Немало есть застарелых, глубоко укоренившихся несправедливостей и злоупотреблений, которые могут быть уничтожены только гневом и ненавистью. Поток гнева и ненависти, схлынув, очищает место свободе, строительству лучшей жизни. Современникам видятся в первую очередь гнев и ненависть, причиняющие им страдания, но зато потомки видят результаты сдвигов. Это я хорошо знаю. Но в Боснии я наблюдал совсем иное.
Федор не выдерживает:
– Коста, беспричинной ненависти не бывает. Я тебе расскажу случай из нашей, из российской жизни. – Коста недовольно останавливает поток словес и искоса поглядывает на Чегодаева. Тот начинает рассказ:
– Жили себе жена с мужем, жили душа в душу. И дети у них были, и в доме достаток. Дожили, как говорится, до седин. А у жены была привычка – когда ела, то вот так смешно губами шевелила, как кролик. На старости лет муж и взялся ее поддразнивать. И вот однажды жена на кухне резала острым ножом мясо, а муж стоял рядом и крутил ручку мясорубки. Жена взяла щепотку фарша попробовать, ну и, естественно, сделала это самое смешное движение губами. Муж тут же взял и передразнил. И что вы думаете? – Федор обратился ко всем нам. Его рассказ заинтересовал всю группу и все его слушают с большим интересом. – Она с размаху этим ножом и – хрясь! – мужа в грудь. И прямо в сердце!
Федор выдерживает нужную паузу.
– И ее оправдали!
– М-да! – вроде бы сомневается Коста. – Почему?
– Да потому, что на суде она такое выдала! Он всю жизнь ее третировал, обижал, оскорблял. Но не прямо, а косвенно. Так к чему я все это говорю? – торжествует Чегодаев. – А к тому, что вашу тутошнюю ненависть нужно назвать неминуемой частью и преходящим моментом процесса, общественного развития. Боснийцев, как мусульман, православные никогда не простят за измену, и наоборот…
– Нет, – обрывает его Коста Порубович. – Наша ненависть выступает самостоятельной силой. Это чувство, находящее цель в самом себе. Эта ненависть поднимает человека против человека и затем приводит к нищете и страданиям или укладывает в могилу обоих врагов; ненависть, словно раковая опухоль, поражает вокруг себя все, с тем, чтобы под конец и самой погибнуть, ибо такого рода ненависть, подобно пламени, не имеет ни постоянной формы, ни собственной жизни; она лишь орудие инстинкта уничтожения и самоуничтожения и лишь как таковая и существует. При чем до тех пор, пока не исполнит свою задачу абсолютного уничтожения. Да, Босния – страна ненависти. Вот что такое Босния.
Согласен ли я с ним? Не знаю…
…Мы приходим к постоялому двору и договариваемся с Федором Чегодаевым распить бутылку. Светлана обвивает меня руками. Когда, черт побери, она смоется? Надо отдохнуть. Мне не дают покоя мысли о том, что случилось после того, как я уехал наемником в Югославию.
– Федор, расскажи, каким образом ты спас детей?
– Детей спас не я, а Палач.
И Чегодаев начинает рассказывать о том, чего я еще не знаю. Он не говорит, как он вышел на Палача, начинает с того, что он следил в своей машине за преступником в тот момент, когда Палач получил информацию о том, где находились дети. Этой информацией владел только я и сам Чагодаев. Было о чем поразмышлять.
…– Так вот, – начинает Федор, уже совсем стемнело, когда Палач вышел из такси неподалеку от набережной, на стоянке автобусов. Один из автобусов наполнился пассажирами и должен был вот-вот отправиться на линию. Смотрю, водитель выходит из автобуса и идет в диспетчерскую. Не успел я и глазом моргнуть, как Палач сел на водительское сиденье, осмотрелся, нажал кнопку закрывания дверей, двери с шипением закрылись, и автобус тронулся с места. Пока водитель опомнился – автобус скрылся за поворотом. Я еду на машине за автобусом. На первой остановке он высаживает всех пассажиров. Ну, скажу тебе, они и ругались. Прямо чуть до драки не дошло. А он погнал себе автобус, аккуратно выполняя все правила дорожного движения. На светофорах стоит, скорость большую не развивает. Может, он и чувствовал, что едет на верную смерть. У него не было ни бронежилета, ни гранат, и всего одна обойма к пистолету.
– Откуда ты знаешь? – не выдерживаю и спрашиваю я.
Федор игнорирует мой вопрос, рассказывает дальше, а Светлана зажигает новую сигарету. Если б у нее был хоть карандаш, она точно все бы записала. В данном случае ей приходится рассчитывать на память.
– Его, наверное, радовало, – говорит Федор, – что он живым предстанет перед похитителями детей. Но спасет ли он детей, Палач не знал. Я ведь тоже не знал, были там дети или нет. Может, их уже продали? Как ни странно, когда он проезжал мимо милиции, то настолько сбавил скорость, что мне казалось, он хочет сдаться. Конечно, это было бы очень простое решение. Изложить всю информацию, которой он владел, и пусть милиция разыскивает детей, ищет преступников.
Я то отпускаю автобус от себя, то обгоняю его и сворачиваю при первом попавшемся повороте, чтобы не примелькаться. Надо было видеть, как Палач терзался. Даже остановился один раз возле телефонной будки и вышел, чтобы позвонить, но постоял и ушел. Скорее всего, Палач привык рассчитывать только на самого себя. Выезжает он в район Химок. Останавливается перед старым, но ухоженным домом. Фары выхватывают из тьмы длинный забор, серые стены. Ну и местечко, скажу тебе!
Как только автобус остановился, я сразу увидел в свете фар, как кавказцы вели детей из дома к фургону. Дети были попарно связаны. Увидев автобус, они засуетились. Кому это приятно, когда высвечивают в темноте похищенных и связанных детей? Один подскочил к автобусу, замахал руками, мол, чего светишь. Им не хотелось поднимать стрельбу, место малолюдное, но ночью выстрелы далеко слышны, а товар слишком ценен, чтобы рисковать им. Графиня лично заинтересована в продолжении отношений с этим… как его… Сивицким. Ну, думаю, пора свою бригаду вызывать. И я вызвал своих людей. Я полагаю, детей намеревались в фургоне переправить в Петербург. Потом кавказец и вовсе начал орать на Палача. А тот шума не боится, достал пистолет и аккуратно крикуну в лоб – трах! – пулю. Остальные двое на пяту! Он им вдогонку по пуле, и тем вечный покой. Детям приказывает заходить в автобус. Сказал, наверное, что он из милиции.
Палачу надо было действовать очень быстро. Вот-вот остальные кавказцы выскочат из дому на звук выстрелов. Ему жутко повезло. Извлечь детей из дома Палач бы не сумел. Кавказцы сами ему помогли. Двое или трое детей еще не успели влезть в автобус, как несколько бандюг появились из дверей. Палач по ним открыл огонь. Два человека упали, два залегли.
Кавказцы о* чем-то перекрикиваются между собой. Палач рывком втащил оставшуюся пару детей – двух девочек – и рявкнул в салон: «Лечь на пол!»
Однако бандиты не стреляют. «Чего они ждут?» – думаю я. А они в детей боялись попасть, боялись испортить, так сказать, товарный вид, сволочи. А потом, скажу тебе, один разогнался, пытаясь вскочить в автобус, а Палач как раз дверь закрыл, руку защемило. Палач через щель в бандита выстрелил – и по газам. Убитый метров десять волочился по земле, пока рука не выскользнула из двери.
Я назад к своей машине. По рации сообщаю своим, чтобы шли на перехват. Кавказцы тоже по машинам. И сразу же догнали его. Но Палач сигналит и мчится по дороге. Тут светофор, он его пролетает и задевает две легковушки. Затем вывернул руль и сбил несколько телефонных будок. И снова вернулся с тротуара на мостовую. Он в зеркале видит преследователей. Палач еще раз свернул на малолюдный – слава Богу, ночь! – тротуар и направил машину на переполненные мусорные ящики. Только кошки оттуда повыпрыгивали. Я понимаю, зачем он это делал. Он хотел побольше наделать шума.
Он хорошо представлял себе, что сейчас происходит: люди выглядывают в окна, беспокоятся и, возможно, кто-нибудь позвонит в милицию. Его примут, скорее всего, за сумасшедшего или пьяного. Черт побери! Дети не лежали на полу, как он им велел, опасаясь стрельбы. Кое-как поднявшись и держась за сидения, некоторые из них во все глаза смотрели в окна. Плохо, значит, сумасшедший угнал не пустой автобус, а автобус с детьми. Значит, милиция будет стрелять на поражение без предупреждения. Значит, жить ему осталось от силы минут десять-двадцать. Дорога впереди, наверное, уже перекрыта.
– Так ты что, таким путем хотел от него избавиться, Федор? А? – открыто спрашиваю я. Светлана смотрит то на меня, то на Федора.
– А ты думаешь, Палач в тюрьме смог бы прожить больше месяца? – ответил Федор. Он помолчал немного и продолжил:
– Тем временем автомобиль кавказцев начал обходить автобус слева. Кавказцы еще надеялись перехватить «товар». Хлопнул выстрел, и автобус повело влево, автомобиль тоже сдал влево, избегая столкновения. Бандиты прострелили левый парный скат. Палачу удалось удержать тяжелую машину. Ничего, доедет на одном, лишь бы не стреляли, мои ребята уже близко. Автомобиль снова приблизился к борту автобуса. Если они прострелят второй баллон… И вдруг Палач ударил по тормозам. Грохнул выстрел. Но кавказцы проскочили вперед, и пуля срикошетив об асфальт, ударила в днище автобуса.
Палач вывернул руль влево, стараясь массой своей машины вытолкнуть джип кавказцев на встречную полосу, по которой шел грузовик. Это ему почти удалось. Автомобиль выскочил на полосу перед грузовиком. Водитель резко ушел влево, намереваясь обойти грузовик слева по встречной полосе, не увидев там машин. Но чуть-чуть не успел. Гудящий грузовик крылом и бампером все-таки задел автомобиль кавказцев, буквально выбросив его с дороги на осветительный столб.
В пылу сражения Палач забыл о второй машине – «Волге». И только взглянув в правое боковое зеркало, увидел, что «Волга» преследователей уже поравнялась с передней дверью автобуса. Но где же милиция?!
«Куда они будут стрелять: по колесам или в него? – думаю я. – Не промахнутся в обоих случаях». А Палач крутнул руль вправо. Но водитель «Волги» был настороже, и мгновенно увильнул. Через верхний люк «Волги» показался человек с автоматом в руках.
В этот момент дорога сделала поворот, и Палач увидел впереди милицейские машины с мигалками, перегородившие дорогу и, скорее, угадал, чем увидел нацеленные на автобус десятки пистолетов.
Кавказец в «Волге» мгновенно нырнул обратно в люк и «Волга», визжа шинами, круто развернулась и помчалась обратно. Палач нажал на тормоз, остановил автобус перед самыми машинами милиции. С шипением открылась передняя дверь.
– Немедленно выпустите детей! – загремел милицейский мегафон.
«Идиоты! – подумал я, – ведь он их все равно выпустит». Палач повернулся в салон:
– Выходите, конечная.
Связанные друг с другом перепуганные дети неуверенно выходили вниз и шли к санитарным машинам, стоящим в отдалении, а Палач смотрел им вслед. Из автобуса медленно выходили последние мгновения его жизни. Их оставалось все меньше и меньше. Он выйдет последним и не успеет даже сделать шага. Палач понимал, что его просто пристрелят.
– Так кто дал команду стрелять в него? – воскликнул я.
– Не горячись, – успокоила меня Светлана, – тебе вредно волноваться.
Федор удивленно посмотрел на журналистку, но ничего не сказал, а продолжил свой рассказ:
– Его бы сама милиция пристрелила. Зачем ей оставлять в живых психа, которого через день упрячут в психушку, а через полгода оправдают как невменяемого? Раз похитил детей – значит, маньяк. С такими надо быть безжалостным. В Москве будет одним маньяком меньше. Хорошо, что еще людей нет, ночь.
Палач вытащил из-за пояса пистолеты и выбросил через дверь на асфальт, не дожидаясь приказа, поднялся с водительского кресла, шагнул к выходу. В этот момент я подъехал к его автобусу. Вижу, кто-то дернул его за руку.
– Дядя!
Это была маленькая девочка, неизвестно почему не вышедшая из салона и непонятно как отвязавшаяся от своей напарницы, которая уже сидела в санитарной машине.
– Дядя, у меня живот болит, возьми меня на ручки.
– Не могу, это опасно. Иди вниз, там тебе помогут.
Девочка требовательно взглянула на Палача:
– Возьми! Они тебя убьют. Они же ничего не знают, – она кивнула на милицейские машины. – А если ты будешь нести меня, они тебя не убьют, потому что испугаются попасть в меня.
Об этом я потом узнал, девочка рассказала.
Повинуясь безотчетному порыву, Палач подхватил своими ручищами невесомое тельце, спустился по ступенькам и пошел к машинам.
– Не стрелять! – рявкнул динамик. – У него на руках ребенок!
Я так и представил себе, что голова Палача кружилась от давным-давно забытого ощущения – он прижимал к груди ребенка! Вечность тому назад… В какой-то прошлой жизни… И вот теперь снова, на короткие мгновения, десяток шагов.
– Постой, Федор, откуда тебе известно, что у Палача были дети? – опять не выдерживаю я.
– Да знаю, ты лучше слушай, – недовольный тем, что я прерываю его Федор продолжает: – Палач сглотнул и хрипло спросил:
– Как тебя зовут, девочка?
– Алеся, а тебя?
Он так и сказал, что Палач. Девочка повела ладонью по щекам Палача.
– Не плачь, Палач, все уже позади.
Короче, милиция арестовала преступника и повезла его в ближайшую милицейскую часть. Там не знают, что с ним делать.
– Поразительный случай, – говорит дежурный по части лейтенант. – С одной стороны он, конечно, спас детей крестных отцов мафии, с другой – никто из них в милицию не обращался. И не обратится – они все мертвы. То есть официально никакого похищения не было. А автобус угнан, сигнал об этом есть, под угрозу была поставлена жизнь людей. За что кто-то и должен отвечать. Но этот тип хоть и придурок, а фактически спас детей. Может, просто выпустить его к чертям, хоть он и псих?
Я сижу у них в части и жду приезда моей оперативной группы. Лейтенант тем временем повернулся к приятелю – рослому здоровяку:
– Он все еще молчит?
– Да.
– Даже не сказал, как его зовут?
– Нет, молчит как рыба. Не говорит вообще.
– Черт! Ну и что с ним делать?
– Может, отпустим? – предлагает тот.
– Ладно, до утра пусть посидит. А потом, может, отпустим. Если вот товарищ, – на меня показывает, – не заберет.
Милиционер взял большую фарфоровую кружку и пошел к умывальнику. Пройдя мимо стенда с портретами разыскиваемых преступников и ориентировки, он сделал два шага, поднял руку, чтобы поставить кружку, но застыл. Секунду милиционер о чем-то думал, потом, подскочив к стенду, уткнулся глазами в тексты под стеклом, выругался и крикнул:
– Разрази меня гром, да ты знаешь, кто сидит у нас в камере?!
– Кто? – насторожился лейтенант.
Палец милиционера был наставлен на стенд:
– Последняя ориентировка – это сам Палач! Фоторобот его!
А я сижу себе и усмехаюсь. Вот так его и задержали, Юрий!..
– Ты многого, Федор, не договариваешь, – говорю я.
– Вот все, что я могу тебе рассказать, – Чегодаев допивает ракию и уходит в свою комнату.
Этого момента словно дожидается очередной посетитель. Джанко! Он вваливается ко мне в комнату и начинает витийствовать. Светлана снова закуривает сигарету.
Несмотря на ласку Эльжбеты, рана на плече у Джанко гноится. Может, ему следует меньше пить? И больше болтать?
– Страшно, Юрко, тебе здесь? – спрашивает Джанко. – Или с такой женщиной не страшно? Верно ведь, Света?
Я улыбаюсь и отвечаю:
– Страх для профессионального бойца – хорошая вещь, это как предохранитель…
– Оставим в стороне страх, – говорит Джанко. – Он всегда сопутствует ненависти, являясь, так сказать, ее естественным следствием, и поговорим о ненависти. Да, о ненависти… Ты вздрогнул?
– И Коста Порубович об этом, и ты… – сказала Светлана. – Здесь только и говорят о страхе, ненависти и смерти…
– Многие люди не желают об этом ни слышать, ни видеть, и ничего не хотят понимать, – говорит Джанко. – А дело как раз заключается в том, чтобы это обнаружить, установить, проанализировать. В том-то и беда, что никто этого не хочет, а многие и не могут сделать.
– Ну вот, ты ведь пытаешься! – говорю я. Он умолкает и продолжает:
– И вот странный контраст: по сути дела, ничего странного тут нет, и, возможно, пристальный анализ позволил бы все это объяснить. Точно так же можно сказать, что мало стран, где в людях столько твердой веры, возвышенной стойкости характера, столько нежности и умения любить, где такая глубина переживаний, привязанности и непоколебимой преданности, такая жажда справедливости! Но подо всем этим, где-то в глубине скрываются вулканы ненависти, целые лавины накопившихся ее запасов, зреющие в ожидании своего часа…
Я слушаю снайпера, который недавно убил нескольких человек и думаю о том, что странно – говорить такие вещи после убийств. Может, его гложет раскаяние? Почему же я спокоен? На сердце у меня странная радость, та самая, какую дарует спокойная совесть. Есть чувство, которое испытывают актеры, когда они сознают, что хорошо сыграли свою роль. То есть, что их поступки в самом точном смысле слова совпадали с поступками воплощенных ими идеальных персонажей, что они в некотором роде вселились в заранее сделанный рисунок и оживили его биением своего сердца. Именно это я и чувствовал: я хорошо сыграл свою роль. Я никого не предавал, я всегда вступался за слабого и готов был наказать подлеца. Я отомстил, сколько мог, за Людмилу, за смерть близких.
– Ты не слушаешь? – Джанко тормошит меня. – Слушай: соотношение между нашей любовью и нашей ненавистью точно такое же, как между нашими высокими горами и в тысячу раз превосходящими их невидимыми геологическими наслоениями, на которых они покоятся. Так и мы все осуждены жить, опираясь на толстые слои взрывчатого вещества, время от времени возгорающиеся от искр нашей любви, наших пламенных, безудержных страстей. И, наверное, самое большое наше горе, что мы и не догадываемся, сколько ненависти вросло в нашу любовь, в наши привязанности, в традиции и религиозные верования. И так же, как почва, по которой мы ступаем, оказывает под воздействием тепла и атмосферной влаги влияние на наши тела, определяет цвет нашей кожи и внешний облик, – точно так интенсивная, невидимая, подземная ненависть, которой пропитана вся жизнь боснийца, незаметно окольными путями проникает во все его поступки, даже самые лучшие. Всюду в мире порок порождает ненависть. Ибо порок растрачивает, не возмещая, и разрушает, не создавая. Но в странах, подобных Боснии, даже достоинства часто говорят языком порока, действуют его руками.
– Джанко, да ты философ! – восклицает Светлана.
– Он в медресе учился, – подсказываю я, и делаю девушке незаметный знак рукой, чтобы она не перебивала оратора.
– У нас аскеты, – продолжает бывший потенциальный мулла, – на основе своего аскетизма приходят не к любви, а к ненависти к сладострастникам; трезвенники питают ненависть к пьяницам, а в тех, кто пьет, рождается убийственная ненависть ко всему миру. Верующие и любящие смертельно ненавидят неверующих или тех, кто верует иначе или любит по-другому. И, к сожалению, часто расходуют на эту ненависть основной запас своей веры и любви. Нигде не встретишь столько озлобленных, мрачных лиц, как на богомолье, у святых мест, в монастырях…
Мой собеседник умолкает. Он сам расстроился из-за своей проповеди. Я чувствую, что Джанко во многом прав. Но у меня нет желания продолжать диспут. У Джанко тоже. Он меняет тему, и говорит, что его ждет Эльжбета, и что он сейчас пойдет к ней.
– Она словно груша, гладкая и мягкая. Наверное, польки самые страстные женщины на свете, – говорит Джанко, наклонившись ко мне.
Да, он прав во всем. И в этом тоже. Правда, которая открылась ему, позволяет ему действовать безоглядно и безотчетно. Ему уже нашептали, что полька снюхалась с Костой Порубовичем. Доказать это он не может, и вытянуть факт измены у Эльжбеты не может. Когда он разглагольствовал со мной, полька или устала ждать оратора или решила подзаработать за свободный час еще свои двадцать или тридцать долларов. Именно в ту ночь наступила развязка в этом любовном треугольнике. Когда достаточно пьяный Джанко возвращается в свою комнатушку, он не находит там польки. Тогда он прокрадывается к комнате Эльжбеты и слышит шум, который свидетельствует, что за дверью предаются сладостным любовным утехам. Если б в комнате обнаружился хотя бы кто-то из солдат сербских позиций, то ничего бы не случилось. У Джанко кончились деньги, и Эльжбета любила его в кредит. Но когда тонкая дверь рухнула, Джанко нашел в объятиях Эльжбеты нагого Косту Порубовича. Схватка была короткой. Я услышал возню, выпутался из объятий Светланы и, пока добежал до комнаты, Порубович лежал с пронзенным ножом сердцем. Эльжбета, тоже нагая, в ужасе окаменела, охватив руками голову.
– Что ты наделал, что ты наделал! – монотонно повторяла женщина, склоняясь над поверженным телом, которое недавно ее любило.
– Это ты все! Это ты? – орал Джанко. Обеими руками парень держал нож. Тот самый нож с надписью «bors». Я не успел прыгнуть на него, как он вонзил нож между двумя холмиками грудей женщины. Он размахнулся, отпугивая меня. Я сгруппировался и нанес по руке с ножом удар ногой, пытаясь выбить оружие. Но Джанко изловчился и кромсанул лезвием меня по голени. Я закричал, не столько от боли, сколько с целью поднять людей. Джанко прыгнул на меня, я отскочил, он слетел с галереи и бросился на пустырь. Я кинулся за ним, но острая боль в голени остановила меня. Черт с ним! Не имея желания связываться с обезумевшим от ревности преступником, я побежал к себе в комнату за оружием.
Стояла глухая ночь. Все всполошились, похватав оружие, выскочили на галерею.
– Где, что? – кричали снайперы, впопыхах одеваясь. У комнаты Эльжбеты толпились и вздыхали девушки. Светлана неумело обматывала бинтом мою ногу. Порез был глубоким и болезненным.
Кровь из груди у польки хлещет ручьем. Светлана пытается остановить кровотечение. Но сделать это без специальных знаний невозможно. Двое побежали к сербским позициям за санитаром. Коста Порубович уже не дышит, начинает медленно отходить. К утру он окоченеет.
Андрия Зеренкович сказал нам, чтобы мы стреляли в Джанко без предупреждения. Мы, полураздетые, ходим вокруг постоялого двора с оружием наготове. Нога у меня неприятно саднит. Неожиданно в селении в километрах двух вспыхивает пламя. Присматриваемся – горит стог. Потом загорается еще один.
– Ну, – говорит Андрия, – пошел чудить. Пристрелить его надо, как бешеного пса. Босниец есть босниец. Надо было сразу пристрелить его, как только он к нам приволокся.
Через минут сорок с позиций сербов приходит санитар с двумя солдатами, которые приносят носилки. Лицо у Эльжбеты приобретает серый оттенок. Она шепчет на польском языке:
– Доллары, мои доллары…
Андрия Зеренкович подзывает меня к себе, и мы идем в комнату Джанко, где хранятся пожитки Эльжбеты. На наше удивление, там все перевернуто вверх дном. Денег нигде не находим.
– Неужели это сделал Джанко? – недоумеваю я, разводя руками. – Но ведь он предварительно не мог знать, что убьет?
– Да, босниец не способен предвидеть, что вытворит, особенно в порывах чувств. И забрать предусмотрительно деньги босниец тоже не способен, – отвечает Андрия Зеренкович. Но наш предводитель кое-что заприметил и принимает соломоново решение. Он выходит во двор, передергивает затвор автомата, звучно кричит и сгоняет всех женщин в одну комнатушку.
– Если через полчаса не будет денег, всех перестреляю.
Через полчаса девушки просятся выйти по одной из комнаты, чтобы собрать деньги, кто сколько может.
Андрия берет у каждой из рук доллары, но отдает их мне, как казначею. Когда проститутка-румынка пытается отделаться десятью долларами, Андрия палит в землю перед ее ногами из автомата и та, обезумев, мечется по внутреннему дворику, опанки – обувь из сыромятной кожи – слетают с ее ног, большие груди болтаются в разные стороны, как вымя на бегу у коровы. Я отмечаю про себя, что Андрия Зеренкович выскочил на шум как раз из комнаты румынки. Он утешался ее ласками, а теперь заставляет под огнем автомата плясать танец смерти. Действительно, Босния – страна ненависти!
Двое солдат-сербов, которые сопровождали санитара, бросаются успокаивать Зеренковича. Он страшен во гневе, орет на солдат, чтобы те не вмешивались не в свое дело. Кажется, он готов стрелять во всех. Его достало убийство и предательство Джанко. А ведь Джанко дружил с ним!
Покуда проститутки не насобирали необходимую сумму в долларах, Андрия не успокаивается.
Мы укладываем Эльжбету на носилки, полуголые девушки бродят по внутреннему дворику, как тени. Неожиданно среди них вспыхивает ссора, потом драка. Они набрасываются на двух цыганок, которые приторговывают здесь ракией и другими мелочами. Проститутки валят их на землю и начинают бить чем придется. Румынка хватает горсть земли и пытается засунуть ее в рот цыганке, лопоча непонятные проклятия на своем языке. Голос ее звучит резко и прерывисто, а движения размашисты и внезапны, как это бывает у женщин в минуты великого гнева, страха или любви.
Одежду на цыганках рвут в клочья, и находят среди юбок и белья аккуратную пачку долларов. Кто докажет, что это деньги Эльжбеты? Румынка торжествующе приносит деньги Зеренковичу. Он равнодушно берет их и присоединяет к тем деньгам, которые уже собраны. Когда я, на свой страх и риск, начинаю возвращать деньги проституткам, между ними опять вспыхивает ссора. Теперь они уже спорят о том, кто сколько дал. Тогда Зеренкович палит поверх их голов из автомата и начинает хохотать. Так, наверное, хохочет дьявол в преисподней.
– Райя! – кричит он. – Райя!
Райя – это что-то вроде нашего «скоты». Потом я уточнил, что так боснийцы презрительно обзывают христиан, а буквально это слово обозначает «стадо».
…Было время, когда сребрницкая долина содрогалась от песен цыганок. А теперь по ней гуляет сумасшедший, которому ради потехи ничего не стоит убить возлюбленную, ее дружка, порезать товарища ножом, поджечь стог сена, обнесенный камышовой изгородью. Вся долина в огнях, а когда всходит солнце, кажется, что сейчас праздник Ивана Купалы, когда у нас, в Беларуси, жгут костры.
Уже не до сна, и я захожу к Чегодаеву. В данный момент я настроен очень решительно.
– Так ты мне расскажешь, почему Палача выпустила милиция?
Федор вопросительно взглянул на меня. Начинает рассказывать. Я припоминаю его действия, слова и пытаюсь найти истину. Истина в том, что Федор Чегодаев говорит не всю правду, а как известно, лучшие сорта лжи готовятся на полуправде.
…– Итак, его взяли. Он сейчас в отделении? – спросил я, когда узнал, что Палач схвачен.
– Да. Едем туда? – как-то неуверенно предложил мне Федор.
– Что он говорит? – спросил я.
– Ничего. Молчит, – ответил Федор.
– Личность не установлена?
– Пока нет. Дети рассказали, что он спас их, вытащил из рук бандитов.
– А может, он просто хотел… – начал было я. Но осекся. Что-то мне подсказывало молчать.
– Я понял, что ты хотел предположить, – сказал Федор, – это глупо.
– Мне ехать с тобой? – спросил я, уверенный, что он скажет «да».
– Нет, – сказал Федор. – Я съезжу один.
И я понял, что, возможно, Беркутов разговаривал с Федором, и тот с ним заодно. Мне во что бы то ни стало необходимо повидаться с Палачом. Но когда я приехал туда, в камере уже никого не было.
– Федор, почему ты его выпустил? – спросил я Чегодаева.
– Он должен был погибнуть.
– Не крути. Ты мне когда-нибудь расскажешь, как погиб Беркутов?
…Я так и не дождался рассказа о гибели Беркутова. Уже в десять часов произошли события, круто поменявшие размеренное течение жизни, вызванное осадой города.
Это случилось в последние дни после принятия ООН резолюции, осуждающей сербов. Вскоре американские самолеты нанесли ракетный удар по сербским позициям. Боснийцы решили полностью очистить от сербов горы, прилегающие к городу, и освободить дороги. При известии, что хорваты выдвинулись к внешним границам анклава, мы едва не отступили сами. У боснийцев вдруг появилась артиллерия, и они попытались обстрелять позиции сербов. Стрелять хорошо боснийцы не умеют, идет большой разнос снарядов, но скоро они научатся, пристреляются, и нам здесь делать будет нечего. Началась неразбериха, паника и среди мирного населения. Мы стараемся без крайней необходимости не попадаться им на глаза. Всякого человека в военной форме и с оружием они проклинают страшными клятвами. Нет ничего сильнее сербских проклятий. Мы с Чегодаевым попросили у одной старухи, которая вовсе и не намеревается уходить, ракии. Ее сливовый сад ломило от слив. Гроздья этого фрукта покрылись пушком плесени прямо на ветках. Старуха услыхала, что мы говорим по-русски, вынесла ракию. А потом, когда мы выпили по стакану и поблагодарили, что-то невнятное пробормотала.
– Ты знаешь, что она пожелала нам? – сказал Федор, у которого со слухом и лингвистическими способностями значительно лучше, чем у меня.
– Что?
– Чтобы эта ракия вышла из нас кровью!
…Население уходит. Однако боснийцы, вознамерившись навсегда потушить желание сербов иметь здесь самостоятельное государственное образование, проникают в глубь подконтрольной сербам территории и нападают на женщин и стариков. Они, словно хищники, небольшими группами повсюду разыскивают сербов и пытаются загнать их выше в горы. Возле каждого дома охрану не поставишь.
Андрия Зеренкович, наш командир, не знает, что делать. Раньше он привык получать указания от своего командования, как и деньги, которые он раздавал нам. Теперь мы попросту вооруженные бродяги, которые призваны убивать всех боснийцев, где бы мы их не видели. Охота на бандитские группы боснийцев безуспешная. Сегодня они здесь, завтра – там. За ними можно угнаться разве что на вертолете. В бой они предпочитают не ввязываться, поскольку мы сразу вызываем подкрепление.
Мы по-прежнему живем на постоялом дворе, но часть сербов снялась с позиций, и мы можем в любую ночь пасть жертвой собственной неосмотрительности. Теперь мы должны еще нести и ночной дозор. Если ты нечто делаешь с девушкой, то это скрашивает серые ночные часы.
Светлана словно приклеилась ко мне и чувствует меня частью себя. Она приходит в ужас, когда я иногда говорю, что ей пора отсюда уезжать, уходить, поскольку мы ежедневно подвергаемся смертельному риску. Кажется, благодаря этому риску она и испытывает острые ощущения, которые никогда не имела от мужчин в цивильной жизни. Она преобразилась даже внешне, похорошела, сдружилась с девушками, которым тоже, как и нам, пока некуда уходить.
Наконец, Андрия Зеренкович получает приказ не пропускать бронетехнику противника по дороге через мост, а при случае разрушить мост вообще. Нам дают два стареньких РПГ, два ящика гранат к ним и рацию, по которой мы должны корректировать огонь миномета с прежних сербских позиций. Правда, миномет спрятан в лесу, поскольку, согласно решению ООН, тяжелое вооружение должно быть отведено от города.
…Я лежу за сосной на склоне горы, над дорогой, ведущей к мосту, и смотрю, как светает. Я всегда любил это время, но сейчас недолюбливаю. В это Время мы обычно занимаемся со Светланой тем, чем занимаются зрелые мужчина и женщина. И теперь мне неприятно следить за рассветом, чувствовать, будто и внутри у меня все наполняется серой мглой, словно и я участвовал в медленном редении тьмы, которая предшествует солнечному восходу, когда предметы становятся черными, а пространство между ними – светлым. Сквозь легкий туман, который ползет с реки, я вижу внизу каменную арку моста, легко и возвышенно перекинувшегося через провал, и броневики, обложенные мешками с песком.
Я вижу часового, голова которого в стальном шлеме изредка высовывается из-за мешков. Часового можно подловить и всадить ему в шею пулю, но тогда нарушится весь наш план.
Я смотрю на часы и думаю: интересно, скоро ли поползут? Если сразу бить по часовым, то нас разнесут в щепки и кусочки из крупнокалиберного пулемета. А вдруг боснийцы не решатся наступать по мосту и пойдут в другом направлении? Зеренкович сказал, что это возможно. Если же боснийцы двинут танки по этой дороге, а их люди полезут широким фронтом через реку, то мы просто-напросто побежим. Правда, минное поле на берегу никто не снимал, значит, такой вариант маловероятен.
Что толку тревожиться?
Я увидел, как два боснийца в бронежилетах и касках, с автоматами за спиной вышли из-за поворота дороги и направились к мосту. Вот они идут по мосту медленным, тяжелым шагом. Осмелели. Чувствуют, что так называемое мировое сообщество осуждает сербов за этнические чистки и поэтому ведут себя нагло. Крови они пустили не меньше, чем сербы. А может, еще и больше. Посреди моста они остановились и посмотрели на разрушенные перила. Один сплюнул в реку. Солдаты скрылись за мешками с песком. Оттуда вьется дым от сигарет.
Неожиданно я услыхал гулкое буханье и глухие разрывы артиллерийских снарядов. Неужели боснийская бронетехника пошла другим путем? Тогда можно и поохотиться. Я откладываю тяжелый гранатомет в сторону и беру в руки снайперскую винтовку, мокрую от росы. Часовые вышли из-за мешков и прислушиваются. Ствол крупнокалиберного пулемета зашевелился и начал хищно рыскать по горам.
Туман совсем рассеялся, и я отлично могу разглядывать человека, стоящего посреди дороги. Он поднял голову вверх и прислушивается к звукам взрывов.
Позади я слышу шорох. Андрия Зеренкович пробирается ко мне.
– Сейчас и ударим, – говорит Зеренкович. – Очень удобный момент. Бей вон по тому человеку из гранатомета, перезаряжай и сразу стреляй по крупнокалиберному пулемету. Мы начнем первыми…
Я прицеливаюсь гранатометом в стоящего на мосту противника и жду выстрела с позиции Зеренковича. Я никогда еще не стрелял в человека из гранатомета. Что станет с одетым в бронежилет человеком, когда по нему влупить из гранатомета?
Громоподобный выстрел потрясает окрестности. Это РПГ Зеренковича. Человек на мосту пригнулся и растерянно осматривается. Я хладнокровно нажимаю на спусковой крючок гранатомета. Оглушительный выстрел… Граната с шипением уходит к мосту. Огонек ее попадает прямо в цель. Взрыв! На месте человека остаются бесформенные куски. Быстро перезаряжаю гранатомет и прицеливаюсь поверх мешков с песков в броневик, откуда после выстрела Зеренковича идет дым. Выстрел! Слепящее пятнышко гранаты уходит к цели, раздается еще один взрыв. И тут неожиданно из города бьет орудие. Снаряд ударяет левее меня и в клочья разносит дерево. Осколки крошат ветки. Снова выстрел, и теперь снаряд разрывается уже ближе, и я тщетно пытаюсь спрятаться у корней сосны. Взрыв! Меня отшвыривает вместе с корнями, на которых повисают куски дерна.
Я оглох, перед глазами плавают оранжевые круги. Я ничего не слышу и ничего не чувствую. Мне все безразлично. Вижу перед собой размахивающего руками Андрия Зеренковича, Федора Чегодаева, который тащит рюкзак со снаряженными гранатами, и смеющегося Марко Даиджича. Вот уж весельчак! Я все понимаю, что мне показывают руками – пора уходить, но не понимаю, почему молодой Даиджич смеется. Меня тянут за одежду, волокут за шиворот, я упираюсь, пытаясь вернуться и забрать свою снайперскую винтовку. Ее нигде нет. Наконец, звон в ушах уменьшается, я немного начинаю слышать и различать голоса и тогда вижу в руках Даиджича мое оружие. Винтовочный ствол согнут взрывом снаряда в дугу. Меня ведут за руку в глубь леса. Я контужен, у меня болит порезанная нога, мою винтовку разбил снаряд.
Мы попадаем на позицию минометчиков. Сербы забрасывают мины в ствол миномета и затыкают уши. Мины с гулким шлепаньем уходят вверх и летят к мосту, накрывая разбитый и без того боснийский пост. Я ушей не затыкаю. Я все равно почти ничего не слышу. Огонь корректирует Зеренкович, который на свой страх и риск остался под артиллерийским обстрелом. Мы охраняем минометную позицию, но недолго. Из-за деревьев показывается Андрий Зеренкович и устало машет рукой.
– Все! – кричит он мне в ухо. – Все разворотили. Но от города идут два бронетранспортера и целая толпа боснийцев. Уходим…
Он берет ручную гранату, вырывает чеку, бросает гранату в ствол миномета и кидается за бруствер. Звонкий и резкий взрыв. Оружие уничтожено. Мы уходим.
На прежних позициях бродят две прикормленные собаки. Даиджич стреляет по одной и та сразу же подыхает. Другая, словно обезумев, уносится прочь, оглядываясь и оскаливая зубы.
– Не хочу, чтобы достались боснийцам. – И он пускает очередь по убегающему псу.
Странная логика!
Пуля попадает собаке в позвоночник, но она продолжает ползти на передних лапах. Я выхватываю автомат из рук Даиджича и одиночным выстрелом приканчиваю животное.
Мы спускаемся с возвышенности в лог. За перелеском находится наше обиталище – постоялый двор. Девушки в последнее время за отсутствием работы весело проводят время, благо, что окрестное население покидает в погребах ракию, которую ни унести с собой, ни выпить.
Во внутреннем дворе нет никого. Двери некоторых комнат настежь раскрыты… На галерее на скрипящих досках валяется женская одежда. Что случилось? Потом мы видим неподвижно лежащее тело одной из девушек. Кто это? Недобрые предчувствия заполняют сердце. Мы ускоряем шаг, на ходу срывая с плеч оружие.
Ужасная картина предстает перед нашими глазами. Посреди дворика лежит убитая девушка. Бедра ее бесстыдно оголены. На деревянной галерее лежит еще один труп. Это тело полной румынки. Кофта и нижняя сорочка сорваны с нее, а на белоснежных грудях вырезаны кровоточащие слова или знаки, которые из-за загустевшей крови нельзя разобрать.
Я мчусь к двери своей комнаты. Дверь болтается на одной петле. В комнате пусто. Где Светлана? Что с ней?
Некоторое время спустя мы находим в кустарнике дрожащую от холода и страха Надинку – девушку из Македонии, которая с четырнадцати лет пошла на панель и в семнадцать со своими едва огрубелыми сосками грудей очутилась здесь, в Боснии, наслушавшись россказней о щедрых солдатах ооновских формирований. Заикаясь, глотая слезы, она рассказывает, что среди бела дня на постоялый двор пришел Джанко. Он привел с собой черного человека в маске. Джанко сразу убил румынку, а потом изнасиловал и лишил жизни Марийку, подругу Надинки.
– Что делал черный человек? – спрашивает Зеренкович. Андрия сам уже почернел от гнева, горя и бессилия.
– Это был сам Джелалия! – причитает Надинка. Слезы льются между детских, не совсем развитых грудей, оставляя мокрую дорожку. – Это был Джелалия, так Джанко говорил! Я боюсь боснийцев, они говорили, что придут еще и убьют всех сербов!
– Где русская? – кричу я, как кричат все глухие. – Где Светлана?
– Русскую увел Джелалия! – отвечает Надинка.
Мы поднимаем ее с земли, отряхиваем и вытираем от грязи, даем глотнуть ракии. Надинка успокаивается, но продолжает изредка всхлипывать.
Кроме нас, некому в этом мире похоронить девушек. У меня весьма мрачное настроение. Мне даже не хочется напиться.
Надо уходить. Собирать пожитки и уходить в глубь сербской территории, обустраиваться на новом месте.
Где же Светлана? Если ее взяли в качестве заложницы, то мне придется освобождать ее. Как это тяжело, я уже испытал на примере с Федором Чегодаевым.
Чегодаев тоже мрачен, но он хлещет ракию и глаза его становятся красными, как у бегемота, а речь бессвязной.
Часа два, выставив охрану, мы долбим каменистую землю. Сооружаем из разных обрезков что-то вроде гробов. В могиле ставим один гроб на другой. Другую могилу рыть недосуг.
…Мы уходим прямо в ночь, ведя за собой Надинку, которая оправилась от потрясения и теперь безудержно хохочет. Ракия помогла ей в этом. Наверное, очень сильно. Зеренкович ведет нас.
…Он и привел нас в маленькое местечко, располагающееся недалеко от бывших наших позиций. За холмами открылась широкая, погруженная в мрак долина, среди которой возвышались несколько зданий. У нас небольшой запас провианта, почти нет боеприпасов, но есть большое желание убивать.
Мы устраиваемся на ночлег в некогда прекрасном жилом здании, узком и высоком каменном строении в пять этажей. Оно стоит у отвесной стремнины, с боков его окружают сливовые сады, а позади находится двор. Только фасад дома остается открытым и гордо смотрит на луга, которые летом зеленели по крутым склонам вышеградской долины. Несколько месяцев назад боснийцы обстреливали эту долину из пушек и подожгли крышу дома. Жильцы тогда покинули свой дом и с тех пор никогда не возвращались. Дождь и ветры начали разрушать его камень за камнем; из щелей в закопченных стенах пробивается трава и даже успели вырасти маленькие деревца.
В этом доме и засели теперь мы: все снайперы и два минометчика с позиций. Нам бы только переночевать. Двери внизу мы завалили обломками руин и бревнами. Окна в доме были пробиты высоко над землей и только с двух сторон. Из этих окон мы можем видеть каждого, кто бы ни появился на лугах перед местечком.
Ночь прошла спокойно, но утром с десяток боснийцев окружили дом. Мы проспали рассвет и возможность уйти незамеченными. Началась вялая перестрелка. Видимо, боснийцы считали штурм дома делом пустячным или ненужным вовсе. Но проходили часы, а они не давали нам уйти и не уходили сами. Правда, нам не удавалось наладить регулярной связи по рации со свободными от контроля боснийцев землями, но мы утешали себя тем, что боснийцы побоятся сунуться сюда, не зная, сколько нас. Мы так ловко перебегали от окна к окну и так метко и неожиданно стреляли, что порой создавалось впечатление, что в доме не шесть человек, а целый взвод осажденных. Или больше.
…За сутки нам удается ранить или убить до пяти человек. Боснийцы прячутся за сливовыми деревьями, за выступами скал, или укрываются за сплетенными из ветвей заслонами. И тут мы узнали, что в этом доме родился Зеренкович, а нападавшие боснийцы знают его, поскольку они его бывшие соседи. Боснийцы заприметили Зеренковича, узнали его, подходили к дому и уговаривали Андрия сдаться. Они то обещали отпустить его целым и невредимым, а то вдруг начинали рассказывать, будто уже схватили его жену и детей и грозились прирезать их, если он тотчас не сдастся. Зеренкович или молчал, или отвечал на все это бранью. Марко Даиджич целый день поет. Свистит во всю мочь, заложив в рот пальцы и тоже ругает боснийцев. В общем, шумит за троих. Он тоже родился в этой долине, это его родина, и он здесь чувствует себя превосходно и вовсю флиртует с дрожащей от страха Надинкой.
Кое-кто из боснийцев подходит поближе, только ради того, чтобы выкрикнуть ругательства. Но из дома отвечают еще крепче. Некоторых боснийцев Андрия узнавал по голосу.
– Это ты, Стоян, падаль поганая? А Стоян ему в ответ:
– Долго задумал сражаться, Андрия, придется кал свой есть. Надоест.
– Заботься о своем брюхе, а о нас не горюй. Хватит и еды, и патронов – хоть с самой Америкой воевать.
– Знаю, знаю. Недаром у тебя щеки провалились, небось, второй день воды не пьете.
Зачем нам была вода, когда у нас было море ракии – целая пятилитровая стеклянная бутыль, оплетенная мягкой проволокой в разноцветной изоляции. Такие бутыли не редкость у нас, на Западном Полесье в Беларуси.
– Я зря привел вас сюда, – говорит Андрия Зеренкович, – надо было уходить дальше. – Ничего, патроны пока есть, мы им покажем…
…Словно подтверждая слова Зеренковича, грянул из дома выстрел. И пуля чмокнула рядом с притаившимся за камнем Стояном, который ответил на это громким смехом.
– Да благословит Аллах твое ружье, Андрия! Слыхал я, что ты хороший стрелок, да не знал, что такой меткий, вот жаль, нет в живых Милоша – сделал бы он тебя генералом! Да где там, подох он…
– Не печалься о Милоше, высунь-ка лучше нос из-за своего камня, если не трусишь. Отправлю тебя без носа к твоей зазнобе в Ужице.
Так переругивались они целыми часами. Особенно старался не остаться в долгу Марко Даиджич. И за эту свою страсть поругаться с боснийцами он заплатил головой.
На третий день прибыл из Ужице бронетранспортер. Теперь нам было невмоготу высовываться из окон, поскольку бронетранспортер поливал дом из крупнокалиберного пулемета так, что отваливалась штукатурка с внутренней стороны стен. Это сильно мешало нам вести наблюдение. Тогда Зеренкович умудряется залезть на сгоревшую крышу и выстрелом из гранатомета поджечь бронетранспортер. Пока из него выскакивали боснийцы, мы метко стреляли одиночными патронами. Патронов все меньше и меньше. Гранатомет можно использовать разве что как дубину.
В передышках двое боснийцев пробрались за развалины насосного помещения и начали поносить Марко Даиджича на все лады. Особенно доставалось родным парня. Юноша в ответ бешено ругал боснийцев, припав к маленькому окошку, забранному железной решеткой. Откуда нам было известно, что в рядах боснийцев находится Джанко? Он караулил Марко Даиджича, пока не взял его на мушку. Неожиданно из укрытия прозвучал выстрел. Пуля пролетела между прутьями решетки, куда бы, кажется, и пчела не пролезла, и разворотила юноше правую половину черепа, так что мозг вывалился наружу. Андрия, в это время защищавший дом с другой стороны, бросился к нему. Он только перекрестился над умирающим и тут же принялся свистеть и осыпать бранью боснийцев, чтобы они не поняли, что товарищ его погиб. Но те догадались и уже ликовали:
– Сдавайся, Зеренкович! Погибнешь без толку!
– Сдавайся, погиб твой дружок!
– Куда же он делся? Что не воркует больше? В рощице боснийцы целуются с Джанко, не боясь наших выстрелов, поскольку мы бережем патроны, похлопывают его по плечу, а тот горделиво расхаживает среди них, полный достоинства, словно памятник себе воздвиг. И винтовка его еще дымится.
Обрадовавшись успеху, боснийцы решили вечером ударить по дому с двух сторон и захватить Андрия живым или мертвым. Нас, остальных, они не считают за противника. Для них мы словно и не существуем. Попытка сорвалась, поскольку мы забросали их последними ручными гранатами, а одного я оглушил кирпичом, спрыгнув в пролет разрушенной лестницы прямо ему на голову. Теперь у нас трофейный автомат и граната. Кроме того, у нас есть заложник. Но я не знал, что этому заложнику осталось жить не более десяти часов.
…На следующий день, рано утром, среди врагов появляется дряхлый старик, и боснийцы долго советуются. Нам видно, что старика начинают бить. А потом вытолкнули к дому. Андрия только зубами скрежетал. Оказывается, боснийцы откопали этого старика в соседнем селении, и он – родственник Зеренковича.
Старик шел по открытому пространству, разделяющему нас и боснийцев. В траве валялись брошенное боснийцами при позорном бегстве после ночной атаки оружие. Старик шел осторожными маленькими шажками. В доме было тихо. Дойдя до большого камня, лежавшего среди пустыря, шагах в пятидесяти от дома, старик опасливо огляделся и, бросив быстрый и испуганный, как у зайца, взгляд в ту сторону, где прятались боснийцы, повернулся к нам и начал разглядывать высоко расположенные окна. Он все больше горбился. Опершись ладонями о колени, почти присел на корточки. Вокруг стояла глухая тишина прохладного утра. Наконец, он негромко, отрывисто позвал:
– Андрия! Сдавайся…
Откашлявшись, крикнул громче:
– Эй-эй, Андрия! Сдавайся…
Трижды звал он нашего предводителя плаксивым старческим голосом, потом помолчал немного, словно уверяя себя в том, что Зеренкович узнал его по голосу и, укрывшись, смотрит на него и слушает.
– Сволочи, – шепчет Андрия, – это мой дядя. Ему восемьдесят лет…
Старик стоял молча, потом вдруг снял руки с колен и вытянул шею. Волосы на его голове встали дыбом, словно живые; заколыхались складки одежды. Он сложил руки рупором, приложил ко рту и крикнул уже совсем другим голосом:
– Не сдавайся живым, Андрия, не сдавайся ни за что!
Среди боснийцев, которые из-за деревьев и заслонов внимательно следили за стариком, выжидая, что он скажет и как ответит Зеренкович, наступило минутное замешательство. Каждый как бы спрашивал самого себя, так ли он расслышал, и, не веря собственным ушам, пытался прочесть ответ на лице соседа. А на всех лицах было одинаковое недоумение. Старик же повторял свой наказ:
– Слушай меня, Андрия, не попадайся живым в руки боснийцам. Верь моему слову, я знаю, что они тебе готовят.
Среди боснийцев все еще царила растерянность. В чувство их привел лишь охрипший от бешенства голос Джанко:
– Пали! Стреляй!
Теперь все вдруг подхватили этот резкий, злобный приказ и один за другим закричали:
– Стреляй! Стреляй!
Все кричали, но еще никто не выстрелил, так как не был к этому готов. А внизу, на пустыре, старик в это время все твердил и твердил Зеренковичу, чтоб тот не сдавался живым. Но теперь среди вражеских криков его голос был еле слышен:
– Не сдавайся…
Раздался первый выстрел, он заглушил слова, но пуля пролетела мимо. Сразили старика автоматными очередями сразу несколько боснийцев. Дядюшка Зеренковича как-то странно согнулся, мягко, словно лист, упал на землю и скрылся в осенней пожухлой траве за тем серым камнем, за которым стоял.
Боснийцы сделали еще несколько выстрелов в его сторону. Из дома все мы ответили каждый из своего оружия, по одному выстрелу. У нас оставалось всего по нескольку патронов, и мы решили ночью уходить, чего бы это ни стоило.
А тем временем, после убийства старика, в воздухе все больше парит, и издалека уже доносятся глухие раскаты грома. Темные легкие облачка со стороны реки растут, окутывают окрестные горы, становясь все чернее и тяжелее. Солнце поэтому скрывается раньше времени, задолго до захода. И вот вдруг стало совсем темно, и сквозь палящий зной и духоту прорвался, словно выпущенный необычным видом оружия, резкий холодный ветер. А потом, как это часто бывает в этих краях, хлынул проливной дождь с громом и молнией. Ветер стих, молнии угасли, но дождь не прекратился, а стал еще сильнее, не стихал ни на минуту и заволок все окрестности мраком и сырым туманом. Ливень погасил костры боснийцев, а потоки воды подхватили и унесли головешки. Боснийцы попрятались кто куда. Никто не сменил постовых и не поинтересовался ими. Казалось, всем было суждено погибнуть в этом потопе. У нас в доме протекает сожженная крыша, но вода заливает только пятый этаж, на четвертом сухо и даже тепло. Надинка сидит на корточках возле убитого Марко и гладит его посиневшую руку. Если ее не оттащить от трупа, то она сойдет с ума.
Боснийцы попрятались и умолкли, словно забыли, зачем пришли сюда. Так продолжалось до глубокой ночи. Я понимал, что оставаться здесь дальше бессмысленно. Но оборона дома для Зеренковича наполнена глубоким смыслом. Он родился и вырос в этом доме, он бегал мальчишкой по этому пустырю. Он не мог оставить дом, это была его последняя крепость.
В глухую ночь Зеренкович пришел к нам и сказал:
– Вы уходите, я останусь… Мы отдали ему свои последние патроны, оставляя себе по одному. Скупо прощаемся.
…Мы переметнулись через площадку к стремнине и взобрались на скалу. Справа и слева от скалы были выставлены посты. Мы идем так тихо, что слышно, как стучат наши сердца. И неожиданно справа и слева бьют автоматные очереди. Надинка, которая шла в средине нашей группы, падает, как подкошенная. Мы не залегаем, что есть силы мчимся к деревьям. Пули свистят и воют, взрывают почву у ног. Из дома сзади раздаются гулкие одиночные выстрелы. Я припадаю на колено, высматриваю вспышки автоматных очередей и стреляю последним патроном наугад. Все, я безоружен. Больше патронов у меня нет.
Мы уходим все дальше и дальше, по нам уже не стреляют, а со стороны дома доносится автоматная пальба, грохот взрывов ручных гранат. Потом стрельба затихает.
…Утром взошло из тумана солнце и осветило безоблачное, ясное, словно умытое небо. Над лужайками долины курятся густые белые облачка пара и подымаются вверх, как дым. Мы уверены, что Андрия Зеренкович израсходовал все патроны. Почему он не ушел вместе с нами? Неужели родной дом ему дороже всего на свете?! Лично я, если б пришлось, не стал бы умирать ради того дома, в котором родился. В этом-то, наверное, и разница между нами. Я еще раз убеждаюсь, что есть большая разница между сербами, русскими, поляками, боснийцами, белорусами…
…Мы бредем по колено в росистой траве. Федор Чегодаев постарел за эту ночь лет на десять. Я выгляжу не лучше. А двое минометчиков посвистывают, переругиваются, и им, вероятно, наплевать на все на свете.
– Федор, – говорю я. – Ты мне расскажешь, в конце концов, как погиб Беркутов?
– Погиб и погиб, что рассказывать, – сухо говорит Чегодаев. – Что смерть Беркутова по сравнению со смертью Зеренковича…
Я понимаю, что это своеобразный зачин к рассказу, прелюдия…
…Кабинет не был приспособлен к содержанию пленных, поэтому Палача приковали к стулу наручниками. Он сидел на нем уже полсуток, болела спина, ныли конечности. Он узнал этот кабинет. Почти над креслом хозяина кабинета располагалась вентиляционная решетка. Там стоял его микрофон. Зачем он понадобился Беркутову?
– Так что? Ты отдал Палача Беркутову? – невольно восклицаю я. Удивлению моему нет предела. Я даже не знаю, гневаться ли мне предательством и двурушничеством Федора Чегодаева, который, тем не менее, спас мне жизнь.
– Полно, Юрий! – Федор отмахивается. – Если бы ты знал все нюансы, то не удивлялся б. Там все так круто замешано… Если хочешь слушать, слушай… Ну, я привез Палача Беркутову. А он, думаешь, понимал все? Почему его с таким трудом разыскали, арестовали, а потом привезли и держат без дела и информации полсуток? Палач все руками шевелил. Ах, если бы он мог освободиться! Он ушел бы оттуда через пять минут. Но мы его приковали. Палач еще раз дернулся – бесполезно. Все бесполезно. Ему ничего не оставалось: только ждать.
За дверью послышались шаги. Дверь распахнулась, и в кабинет вошли Беркутов и двое охранников.
– Мне очень жаль, что это случилось. Так не должно быть. Ты должен погибнуть. Ты уже рассчитался со всеми, – сказал Беркутов.
Палач молчал.
– Теперь мне нужна твоя помощь, Палач. Ты освободил детей. Но ты не доделал дело. Доделай. Мой сын, – Беркутов достал фотографию и показал Палачу, – находится на двадцать пятом этаже высотного здания. Весь этаж целиком в руках кавказцев. На двадцать четвертом этаже и в холле первого этажа у кавказцев негласная вооруженная охрана. Штурм бесполезен. Ты знаешь, как туда проникнуть и забрать сына, прежде чем они успеют убить его. У тебя большой опыт.
– Зачем рисковать?
– Графине не нужны деньги.
– Чего она хочет?
– Хочет, чтобы я не рыпался, вел себя тихо, пока она не приберет к рукам весь мой бизнес.
– Отдай.
– Я бы отдал. Плевать. Но даже если она все заберет, я не получу обратно сына.
– Почему?
– А зачем ей тогда отдавать его мне? Он свидетель. Мы уже заплатили ей за детей, но она не отдала их нам, а все равно продала. Отдала на смерть! Поэтому она не вернет мне сына. Как только он станет ей не нужен, она его убьет.
– Тогда начинай войну. Раз твоя дочь обречена.
– Обречена, если ты мне не поможешь.
– У меня другие планы, Беркутов. Мне и так будет вышка. Можешь убить меня раньше.
– Что ж, примерно этого я и ожидал. Поэтому у меня есть еще один аргумент. Последний, – говорит Беркутов.
И тут ввозят тебя.
– Кого? – не верю собственным ушам я.
– Тебя, тебя! – говорит Чегодаев и не моргает глазами.
– Как это меня? – я слышу невероятные для себя вещи.
– Очень просто! – поясняет Чегодаев. – Тебя схватили, усыпили и представили в качестве заложника.
– И что?
– А то, что увидев тебя, Палач согласился выполнять задание Беркутова.
– Так кто такой Палач? – спросил я, уже не в силах ни разобраться, ни слушать рассказ Чегодаева до конца.
– Выслушай все по порядку, тогда поймешь… Кроме того, ты ведь просил меня рассказать лишь о смерти Беркутова, не правда ли?
…Я молчу. Мне нечего сказать. Я лишь вспоминаю, как однажды в подворотке получил отрезком трубы по голове и очнулся только через некоторое время. Оказывается, я был тогда прикован наручниками к массивному креслу! Меня охраняли двое, от которых я ушел через пятнадцать минут…
– Я хочу писать, – заявил я тогда, вовсе не думая, к чему это может привести. – Я хочу пи-пи.
Один из верзил ушел за бутербродами, а второй, развалившись в кресле, читал спортивные новости. Он недовольно опустил газету.
– Ну и ссы!
– А если твой босс, дай Бог ему здоровья, спросит тебя, чем тут воняет, что ты ответишь?
Охранник отбросил газету, нагнулся и открыл ту пару наручников, которой я был прикован к креслу. Я встал. Мои руки были скованы второй парой наручников за спиной.
– Пошли, – сказал охранник.
– А письку ты мне достанешь? Милый голубняк!
Бандит выругался, вынул пистолет и, направив ствол на меня, левой рукой сунул ключик в замок наручников.
– Слушай, – сказал я, потирая освобожденные руки и мало обращая внимания на пистолет. – Я все хотел спросить у тебя: нужно было пройти экзамен, чтобы попасть на эту работу?
Ответить охранник не успел: железный кулак въехал ему в челюсть, одновременно левой рукой я вырвал пистолет у неудачника.
Я переложил пистолет в правую руку, чуть отодвинул затвор и, увидев, что в патроннике нет патрона, передернул затвор, после чего аккуратно спустил курок, придерживая его большим пальцем.
– Любители! – в моем голосе не прозвучало презрения.
В дверях я столкнулся со вторым бандитом, который принес бутерброды. Бандит, естественно, не задержал меня. И я тогда ушел в темноту, жевал бутерброды, раздумывая о странном и непонятном для меня происшествии и бренности бытия.
– Эх, Федор, Федор, чего же ты мне раньше то не рассказал, – говорю я с укоризной. – А ведь тогда я ушел от бандитов и выбежал на улицу. Поймал такси. Таксист психует, я ему пистолет в затылок и кричу: «Поехал. Быстро». И в твое управление. Там сержанты сидят. Я в твой кабинет пробежал, твой компьютер включил, и там долго разбирался, что к чему. И ты знаешь, нашел, где вы. В последних файлах. И тогда – вниз: прошу объявить тревогу и патрульные машины к высотному зданию чтобы послали. Не верят, как ни прошу… Тогда вру, что там крупная авария. Звонят постовым, а те и сообщили, что взрыв слышали, а что толком делать – не знают. А теперь вот оно как выходит. Будь у меня хоть один патрон, я бы тебя пристрелил сейчас!
Федор Чегодаев невозмутимо продолжил свой рассказ о гибели Беркутова:
– Короче, Палач говорит, что согласен. Но только с одним условием. Если, мол, Беркутов его не выполнит, то может убивать всех налево и направо.
– Какое? – прямо рычит Беркутов.
– Со мной пойдешь ты сам, а не твои молодцы. Мы пойдем вдвоем, – говорит Палач.
Беркутов задумался.
– Почему только вдвоем?
– Чтобы не перестрелять друг друга в темноте. Двое – это оптимально. Я бы пошел один, но, думаю, и ты будешь полезен, – отвечает Палач.
– Хорошо, я согласен. Но тоже с условием. Пусть с нами идет представитель органов. – И показывает на меня.
Ну, думаю я, попался. Но выбирать не приходится. Я влип тогда капитально.
– Что тебе Нужно? – спрашивает Беркутов у Палача.
– Размяться. Я сижу уже здесь черт знает сколько. Все болит.
Охранник, повинуясь взгляду Беркутова, увез кресло с тобой.
– Освободите его, – приказал Беркутов, указывая на Палача. – Если будешь дурить, если охрана услышит шум, то заложник будет немедленно убит. Так что веди себя пристойно. И перечисли, что тебе нужно.
Палач потер запястья, подвигал онемевшими плечами.
– Все, что ты знаешь о планировке этажа и системе охраны, распорядке дня обитателей. Предположительное количество людей и местоположение твоего сына.
– Хорошо.
– Два «Калашникова» с глушителями, какие только сможешь достать. К ним – по пять снаряженных магазинов.
– Ты собираешься устроить большую войну.
– По пять снаряженных магазинов, – не отреагировал на реплику Беркутова Палач.
Беркутов кивнул своему охраннику-секретарю: «Записывай».
– Пластиковую взрывчатку с радиовзрывателями или взрывателями с часовым механизмом, – продолжал Палач.
– Сколько? – машинально спросил секретарь, скользя ручкой в блокноте.
– Пять брикетов граммов по 100–150. Три армейских бронежилета. Не самых тяжелых. Три пары очков ночного видения. Три пистолета с глушителями. Для меня – пару ножей.
– Что?
– Два сбалансированных ножа для метания… Так, что еще? На всякий случай две длинные нейлоновые веревки с альпинистскими карабинами. Автомобильные или велосипедные перчатки из тонкой кожи.
– Зачем? – спросил Беркутов. – Ты боишься наследить, боишься оставить «пальчики»?
– Нет. Я боюсь потерять голову. В перчатках ты не сожжешь руки, если быстро скользнешь по веревке вниз, и не разобьешь костяшки пальцев, если съездишь по зубам. Без перчаток будут потеть ладони и выскальзывать оружие… А насчет отпечатков, ты их все равно оставишь, а если перчатки будут велосипедные, то они без «пальцев»… Продолжим ликбез?
– Не надо, я понял. Понял, что в тебе не ошибся.
– Тогда не перебивай… И последнее, Беркутов. Запомни: когда все это кончится, ты – покойник. А мент пусть останется свидетелем…
Это он мне сказал.
…В подвал нужного нам здания мы вышли через проход теплотрассы в одиннадцать часов вечера. Глядя, как великолепно ориентируется в подземных катакомбах Палач, как ловко он управляется с оружием, я подумал, что такой человек действительно мог безнаказанно терроризировать здешние кланы. Почти тридцать убийств! Маньяк! Мало того, гениальный маньяк!
– Слушай, – сказал я Палачу, когда мы шли к щитовой, – я все хотел тебя спросить: зачем ты их всех убил? Ведь есть же какие-то пределы мести.
– Значит, мои пределы еще не исчерпаны… Палач вскрыл железную дверь и приладил на центральный распределительный щит два заряда, установил частоту радиосигнала.
– Это надолго обесточит весь дом и обрежет телефонную связь. В данное время охрана в холле первого этажа еще есть?
– Не знаю. Знаю только, что двери скоро закроют.
Палач вызвал лифт в подвал. Войдя в кабину, он нажал кнопку четырнадцатого этажа. В это время в высотном здании, снимаемом под офисы, уже практически никого не было, и внимание всех охранников – и внизу, и на двадцать пятом этаже – было приковано к внезапно заработавшему лифту. Они сейчас смотрят – кто это из подвала на ночь глядя поднимается наверх? Их глаза прикованы к огонькам, ползущим с цифры на цифру…
Охранники внизу уже сообщили на последний этаж, что лифт пошел из подвала. Но те уже и сами смотрят на цифры, на всякий случай поглаживая рукоятки пистолетов под мышками.
Лифт остановился.
Они еще ждут, не двинется ли лифт выше. Нет, огоньки погасли. Значит, это технический персонал. Палач знал, что в зданиях этого типа на четырнадцатом этаже находятся технические службы. Из подвала на четырнадцатый могут ехать только эксплуатационники. Это правдоподобно.
Они вышли из лифта. Палач уверенно направился, минуя трубы и электрощиты, в дальний конец этажа, к вентиляционной системе. С помощью ножа он быстро снял решетку с горизонтального короба, поставил ее рядом на пол в короб. Передвигаться там можно было только на четвереньках.
– Лезь, – велел Палач мне, – а ты, Беркутов не забудь только приладить обратно решетку, на случай, если они решат сюда прийти и глянуть. Пусть тогда думают, что мы пошли вниз по лестнице.
Я кряхтя влез за Палачом вслед. Затем влез Беркутов. Он попытался приладить решетку обратно.
– Черт, ничего не получается.
– Тогда сдай назад.
Беркутов попятился задом по коробу несколько метров. Палач сделал то же, быстро поставил решетку обратно, и мы поползли вперед.
– Не гремите! – прошипел Палач. – Если не хотите пулю через эту жестянку получить. Возьми автомат так, как я показал, – сказал он Беркутову. – И голову не поднимай, а то очками ночного видения будешь задевать… Да! И не чихайте! Что хотите делайте, но не вздумайте чихнуть! Рукава грызите.
Вскоре мы на четвереньках добрались до межэтажной вертикальной шахты.
По ней проходили трубы. Цепляясь за кронштейны и фланцы труб, мы начали взбираться вверх. С непривычки я запыхался и отстал.
Мы благополучно миновали восемнадцатый и девятнадцатый этажи. Однако впереди нас ждал сюрприз. Путь на двадцать пятый был перекрыт.
– Черт! – Палач внимательно осмотрел огромный бетонный наплыв на стене шахты – строительный брак. – Придется идти через двадцатый.
Мы спустились вниз и поползли по горизонтальному жестяному коробу вентиляции. Палач осторожно выглянул из решетки в стене. Коридор был пуст. Он медленно снял АКМС и положил рядом, а ножом начал снимать решетку. Очевидно, привлеченный скрежетом, охранник-кавказец вышел из-за поворота коридора и, прислушиваясь, шел в сторону решетки. Палач осторожно положил нож и взял АКМС, направив глушитель через решетку в сторону кавказца. Заподозрив неладное, охранник подошел к решетке, вытащив пистолет. Раздался глухой хлопок автомата, затем последовал стук упавшего тела. Палач, схватив нож, и уже не очень опасаясь шума, снял решетку, бросил ее на труп, чтобы не грохнула об пол. Молниеносно зажал нож в зубах и – вывалился из проема.
Вовремя! Появившийся из-за угла на шум второй охранник получил две пули: от Палача и из проема короба от меня. Беркутов выбрался из короба на пол и облегченно вздохнул.
Палач лихорадочно обшаривал первого охранника. Беркутов бросился ко второму.
– Если у них нет ключа, все пропало…
– Есть! – Беркутов извлек из кармана второго трупа небольшой плоский ключ на цепочке.
Мы побежали к лифтовому холлу. Беркутов нажал кнопку вызова. Вскоре подошел лифт. Мы вошли в кабину и переглянулись. Наступал решающий этап схватки. Беркутов сунул ключ в прорезь на панели, повернул ключ и нажал кнопку с цифрой «25». Кнопка засветилась. Дверцы медленно затворились и лифт поехал наверх.
…Когда остановился лифт, мы держали пальцы на спусковых крючках. Охрана ожидала, но, разумеется, не нас. Короче, через секунды две на полу лежали шесть трупов сразу. Лишь двое из них до того успели выхватить оружие. Только стулья валялись вверх ногами.
Шума не удалось избежать. Тогда Палач нажал кнопку управления минами.
Взрыв внизу грохнул так, что содрогнулось все здание. Свет погас, перестал работать телевизор. И Палач, и Беркутов сразу надвинули на глаза и включили очки ночного видения. Я одел и включил свои. И тут появился еще один охранник. Прогремел выстрел, и на груди у охранника расплылось ярко-зеленое пятно. Так в очках ночного видения выглядит кровь…
…А Графиня оказалась лесбиянкой. Занималась любовью со своей секретаршей. Когда свет погас, они переполошились. И сразу к заложнику. Он там был, в комнате для приема гостей, ну, в которой водку партийцы раньше жрали.
Палач проник туда, а секретарша бросила в него метательный нож. Нож попал в оправу очков для ночного видения.
Палач потер гудящий затылок и висок. Сильный удар. Он положил палец на спусковой крючок, но, видимо, удержался от искушения выстрелить наугад веером через двери. Где-то мог находиться сын Беркутова. И вдруг голая девушка метнулась из комнаты. Он не пожалел ее. Короткая очередь – и все. Да она, к тому же, оказалась раненой, и когда Палач проходил мимо, еще раз ударила его в ногу ножом. Кровища зеленая так и хлещет! И перевязать нечем. А тем временем Беркутов обыскал пару кабинетов, и на него сама Графиня наткнулась. Она паренька с собой тащила. Увидела Беркутова – и нож к горлу парню.
– Стой! Если двинешься…
– Отпусти ребенка или я тебя убью, сука!
– Стреляй, идиот! Попадешь сначала в него. Беркутов опустил автомат и говорит:
– Отпусти сына!
– Ты не понял, Беркутов! Здесь я диктую. Я не боюсь умереть, но сначала с удовольствием перережу глотку твоему выкормышу… – и она чиркнула по горлу мальчика ножом. То ли нож был острым, то ли она действительно не владела собой, а вижу, у мальчишки на горле зеленая полоска. Аж за воротник потекло. Беркутов бросил автомат, просится:
– Не надо…
А эта сука и говорит:
– Подними автомат и вложи ствол себе в рот. Беркутов не шевелится.
– Ну! Или ему крышка! – и давит лезвием ножа по шее.
Чувствую, она им управляет, как хочет. Тогда я сзади и грохнул ей в затылок из пистолета. Беркутов вначале не разобрался, а потом схватил мальчика, вырвал его из рук агонизирующей Графини и кинулся бежать. Куда? Тут уже и наши ребята с фонарями должны подоспеть. Понимаешь, я так и задумал, чтобы повязать их всех, но…
И вот, наконец, самое главное. Беркутов и Палач начали сводить между собой счеты.
Сидит Беркутов с мальчишкой на руках и говорит Палачу:
– Удачный день сегодня, не правда ли?
– Не сказал бы, – отвечает Палач. Ноги у него в кровищи, он свою рубашку снимает и пытается сделать перевязку.
– Слушай, как удачно, что ты уничтожил всех моих конкурентов! А я сейчас уничтожу тебя, – сказал Беркутов.
– Давай, только дай перевязаться, а то кровью истеку. – Палач ножом начал пороть свою рубашку.
– Ты что, ты думаешь, что я при них, – Беркутов кивнул на меня и на мальчика, – не смогу? Мент куплен, а когда мальчик вырастет, то я его отправлю в Америку учиться. Потом он приедет сюда, а кто ему капитал даст? Так надо, Славомир. (Это он сыну.) Если я его не застрелю, он убьет меня. Настоящий Палач!
А Палач сидит и говорит:
– Твой отец, Славомир, обыкновенный бандит. На, – и бросает ему отрезанный рукав рубашки, – перевяжи себе горло, у тебя рана открылась.
Теперь мне понятно стало: пока Палач сражался с охраной – выпулял все патроны. И в этот момент, когда он сообразил, что Беркутов не собирается оставить его в живых, нужно было, чтобы тот хоть на мгновение отвел взгляд от него.
Беркутов машинально проследил за полетом рукава к сыну – и погиб. Нож вонзился ему в горло и мелко задрожал. Так быстро и сильно Палач умел ножи бросать, просто ужас. Как здесь только этот охотник, Джелалия, умеет.
Мальчишка – не будь дурак! Выхватывает из рук отца автомат и кричит:
– Убийца! Я убью тебя!
– Убивай! – Палач расстегнул застежки бронежилета и сидя скинул его. – Давно пора, стреляй.
Мальчик весь трясся. Некоторое время силился спустить курок, но не смог. Выронил автомат и зарыдал. А Палач тем временем спокойно повернулся и, сильно хромая, пошел к лестничному пролету, на ходу снимая с плеча альпинистскую веревку.
Говорю ему:
– Стой, ведь есть еще я. Он мне:
– А чего ты до сих пор не выстрелил, раз ты мент. Только ты не выстрелишь, потому что купленный!
Так и сказал. И ушел.
…Рассказ Чегодаева огорошил меня. Мы понуро бредем по гористой местности. Два серба-минометчика идут впереди меня с Чегодаевым и распевают песни. Что за безалаберный народ! Вокруг враги, боснийцы бродят по лесу в поисках жертв, а эти знай себе горланят песни. Правда, у них уже пустые фляжки, куда вечером была налита ракия.
Неожиданно гулко звучит выстрел. Один из сербов спотыкается и падает. Другой вскидывает автомат и стреляет по невидимому нам с Чегодаевым. Еще один выстрел. Серб лихорадочно передергивает затвор, словно забыв, что больше патронов у него нет. И вот он хватается за горло и падает на колени. Из шеи торчит нож. Я выдергиваю его. Это узкий и длинный кинжал. На его лезвии все та же загадочная надпись «bors».
– Это Палач, – шепчет Чегодаев и оглядывается. Словно из-под земли, перед нами вырос высокий крепкий человек в черной, насунутой на лицо шапочке. Через прорези видны только глаза. Неужели это и есть легендарный Джелалия? Из-за него показывается еще один человек. Это Джанко. Он улыбается, хохочет, кричит:
– Джелалия, у них нет патронов, я знаю! У вас нет ни одного патрона! Мы перережем вас, как куропаток…
– Нет! – вскрикивает Чегодаев, и, вскинув автомат, бьет последним патроном в обезумевшего от крови боснийца, дважды предавшего людей.
Выстрел оглушает окрестности, Джанко хватается за левый глаз и, как сноп, падает лицом вниз, разбивая губы о камни. Но ему теперь все равно. Он уже мертв. Но и у Чегодаева из горла торчит нож. Нет сомнения, что и у этого ножа на лезвии есть загадочное слово. Федор хрипит, падает на колени.
Теперь моя очередь. Мне не совладать с таким специалистом, который так мастерски владеет метательными ножами. Джелалия стоит неподвижно. В руках у него нет оружия. Автомат – за спиной, а ножи – за поясом. Он не шевелится, застыл, как статуя.
Федор Чегодаев качается на коленях, истекая кровью и хрипит:
– Это Палач, я знал, что это Палач…
У меня перед глазами мелькает в страшно сжатом виде вся моя жизнь, начиная с детства. Боже, неужели это смерть? Джелалия медленно поднимает правую руку и сдирает с головы дурацкую черную шапочку с прорезями для глаз. И я вижу… абхазца Фарида.
– Ты? – вскрикиваю я.
– Это ты?
– Да! – слышу в ответ.
– Почему ты здесь?
– А почему ты здесь?
– Я больше ничего не умею делать, – говорю я.
– Тебе, наверное, нравится убивать мусульман? – спрашивает Фарид.
– Где Светлана? – спрашиваю я.
– Почему ты пошел в ОМОН? – спрашивает Фарид.
– Почему ты убил Чегодаева? – спрашиваю я.
– Почему ты не уберег мне моих детей? – спрашивает Фарид.
Я не знаю, что ответить. Я молчу.
– Нам никогда в жизни не надо больше встречаться, – говорит Фарид. – Ты можешь идти.
Фарид исчез за стволами сосен. Он растворился в лесу, оставив меня одного, раздавленного и униженного. Лучше бы он убил меня.
И тогда я решил завязать. Бросить все и вернуться к нормальной жизни.
Но мне не удалось. Мне не удастся это никогда.
Тетрадь четвертая ЧЕЧНЯ
Мне стало совершенно ясно, что я больше не гожусь для своей профессии. После Боснии я – профнепригоден. И по идейным соображениям, и потому, что просто не могу видеть оружия. Даже обычный нож вызывает у меня неприятные, а порой и мучительные ассоциации. Любым ножом: кухонным, перочинным можно запросто убить человека.
Мне кажется, что я уже никогда не смогу убить. Хорошо, если мне удастся жить по-новому. Я решил все бросить, порвать со всеми прежними связями и добывать хлеб каким-нибудь другим занятием. Главное – попытаться приспособиться к новой жизни, найти свою нишу.
Я обосновался в столице СНГ городе-герое Минске. Меня взяли на работу коммерческим директором одной полуполитической организации. Мой начальник, плотненький рыженький человек, по фамилии Гершенович, польстился отнюдь не на мои деловые качества. Просто мой начальник в меру трусоват. Его карманы набиты различными приспособлениями для защиты собственной персоны. Тут и электрошокер, и баллончики с паралитическим газом, а в кейсе лежит газовый пистолет. Гершенович вечно суется туда, где его не ждут и куда его не просят. Причем часто это происходит, как мне кажется, помимо его воли, случайно. Такая у него судьба. У каждого она своя… Тем не менее, слишком во многих местах моему начальнику обещали набить морду. Поэтому, прослышав о моем прошлом, оценив взглядом мой возраст, рост и бицепсы, он взял меня на работу.
Собственно, он мне никакой не начальник. Я сам по себе, он сам по себе. Зарплата у меня мизерная, лишь для отвода глаз. Но я не в накладе. Я предоставлен самому себе, пользуюсь счетом фирмы, а имея даже три извилины в голове, можно, пользуясь инфляцией и полной неразберихой в экономике молодой республики, каждый день зарабатывать на хлеб. На большее пока мне не надо.
Гершеновича зовут Франц, и он занимается «крупным бизнесом». Вначале он торговал нефтью. Но он даже ее не понюхал. Потом – лесом. С таким же успехом. Потом толкал вагоны мебели в Казахстан, но введение в этой республике своей валюты – теньге – чуть не разорили его. Тогда Гершенович организовал совместное предприятие с немцами по реализации нитей. Немцы оборудовали Гершеновичу офис, подарили дребезжащий на ходу «Мерседес», но ни одной крупной партии нитей Гершенович так и не смог реализовать. Потом были еще цемент, овощные консервы, обувь. Везде незадачливый бизнесмен прогорал. Ему хватает только на солярку для старенького «Мерседеса» и на подружек. С женой мой начальник в разводе, а в женщинах неразборчив.
Единственное ко мне требование со стороны начальника – сопровождать его в дальних поездках и пить водку за компанию, когда к нему приходят очень крутые ребята разбираться.
Все остальное свободное время я занят самим собой и хлопотами о том, как заработать денег.
Делается это просто. Меня тут подучил Гершенович. Я занимаюсь посредничеством в обналичивании. У меня немецкий дисковый телефон из запасов гэдээровского «абвера». Каждый день мне звонят по этому телефону и просят обналичить ту или иную небольшую сумму. И я веду переговоры. Если клиента устраивают мои проценты, он приезжает ко мне, и мы составляем фиктивный договор. Договор о том, чтобы я оказал клиенту услуги в ремонте автомобиля, или ремонте помещения, или произвел рекламу его продукции. На счет моей фирмы приходит сумма за якобы оказанные услуги. Я перевожу деньги следующему клиенту, который тоже обналичивает, но берет за обналичку меньший процент. Разница в процентах и есть моя прибыль. Раньше эта прибыль была почти фантастической. Теперь – всего два, три, пять процентов. С тысячи долларов это тридцать, сорок долларов. Если б даже такие, тысячные, сделки удавались каждый день, мне хватало бы за глаза. Но ко мне приходят бизнесменчики, которые работают сотнями долларов. Это вчерашние «челноки», то есть обыкновенные мешочники. Каждую сделку норовят обмыть, с одной выпитой бутылки заводятся и приглашают в ресторан, тянут домой, чтобы показать обстановку квартиры, красавицу-жену и детку, для которой нанята студентка преподавать белорусский и английский языки. Это вчерашние советские инженеришки, журналисты, преподаватели ВУЗов. Настоящие акулы бизнеса, которые в прошлом были связаны с торговлей, со мной не водятся. Это я у них покупаю за безналичку доллары тысячами, копя на счету неделями крупную сумму. Тем временем инфляция съедает деньги. Получается замкнутый круг. Так я и влачу свое существование.
Живу я у своего родственника – двоюродного деда Матея. Он отец моего дяди. Его все зовут Матейко. Он и в городе Матейко. Дед прозябает на своей пенсии, и когда я принес с первого своего барыша гроздь бананов и бутылку «Амаретто», он почему-то подумал, что я рэкетир. В разумении деда такие люди, как я, должны стоять у станка, осваивать целину или, в крайнем случае, защищать честь державы на ринге или помосте.
– Ты лучше эти деньги, что потратил на заморские присмаки, подарил бы мне. Я бы знаешь сколько картошки купил?
– Сколько тебе, Матейко, на картошку надо? Дед подозрительно смотрит на меня. Не говорит ничего, а утыкается носом в телевизор – единственное занятие пенсионера. Летом он выезжает по грибы, собирает ягоды, а глубокой осенью ему нет занятия.
По телевизору тем временем Останкино показывает министра обороны России генерала армии Павла Грачева.
– Разве это генерал? – спрашивает Матейко. – Генерал должен быть во! – дед выпячивает грудь. – Как ты!
– А Суворов? – спрашиваю я.
– Суворова не трожь! Суворов Альпы перешел, а Грачев? Белый дом расстрелял? – кипятится дед. – Вот Грачев категорически опроверг версию об организованном участии российской армии в боевых действиях в Чечении (дед именно так называет эту страну). «Бредом» назвал, что наши войска там.
– Не наши, а российские, – уточняю я.
– Какая разница, Россия, Беларусь… – злится дед. – Белорусы освоили Карелию, Сибирь, Дальний Восток… Наши предки даже Кремль и Петербург строили… Так что, теперь от всего отказаться?
– Ну ладно, только в Чечне действительно идет, в принципе, междоусобная борьба, борьба за власть. Хотя я реже смотрю телевизор, и могу быть не в курсе, но ты, дед, знай, что пока они, чеченцы, друг с другом цапаются, Россия не полезет. А если полезет, то они все бросят и будут воевать против русских.
– Да, будут, – кряхтит дед Матейко, – там с каждой стороны – и со стороны Дудаева, и на стороне оппозиции – воюет большое количество наемников. Со стороны Дудаева даже воюют наемники из Афганистана, понимаешь? Есть наемники из прибалтийских государств, есть и из других. В том числе и русские. Почему не воевать, если хорошо платят? Если бы там были регулярные войска, то… Знаешь, что Грачев сказал? Что, во-первых, он бы никогда не допустил, чтобы танки вошли в город. Это безграмотность дикая. А во-вторых, если б воевала армия, то по крайней мере одним парашютно-десантным полком можно было бы в течение двух часов решить все! Понимаешь?
– Думаешь, у Дудаева нет пушек и танков? – подливаю я масла в огонь. – И думаешь, Дудаев академий не оканчивал, и учился хуже Грачева?
Дед умолкает. Ему нечего сказать.
…Когда я прихожу на работу, то вижу, что Гершенович в очередной раз ночевал в кабинете, спал в кресле прямо в одежде. Однажды я застал его даже спящим на столе, и он быстро прыгнул на пол, грузно присел. Ему всегда тяжело от похмелья. Вот и теперь он трясущейся рукой достает деньги. В мои обязанности не входит обслуживать патрона, но я жалею человека, который перепил и его всего колотит.
– Понимаешь, вчера такую сделку обмыли, на пятьдесят миллионов, – кряхтит Гершенович.
Похмелившись, он дает зарок не мешать водку и шампанское. В таких количествах.
– Слушай, Юрий, где ты встречаешь Новый год? Я пожимаю плечами.
– Я тебе достану пригласительный билет в «Фиолетовый лимон», пойдешь?
Приходится соглашаться. В клуб «Фиолетовый лимон» вхожи только те, у которых есть на счетах около миллиона. Разумеется, долларов. Такой суммы у Гершеновича никогда не было, но он вхож в любую дырку.
…И вот приходит долгожданный для миллионов граждан день. Слякотный декабрь в середине месяца превратился в настоящий зимний месяц. Ударил-таки мороз, выпал снег, на борьбу с которым в Минске тут же выпустили снегоуборочные машины. Но прошло всего несколько дней, и мороз нехотя начал отступать, словно обидевшись на людей за то, что они не видят никакой красоты в блестящем инее, который повис на проводах, на обрубленных ветках придорожных лип.
К концу месяца ртутные столбики термометров взметнулись вверх, и вместо зимы наступило непонятно что. Перед Новым годом по улицам города уже бежали грязные ручейки, а прохожие месили ногами скользкую кашицу.
Впрочем, мало кто из них обращал на это внимание, поскольку все были заняты предпраздничной суетой. Все куда-то торопились, одни несли наполненные продуктами авоськи, другие тащили домой свежевырубленные елки.
И только одному мне, казалось, не было никакого дела до этой суеты, да и до приближающегося праздника тоже. Я уже минут двадцать неторопливо шел по проспекту, не обращая внимание на то, что рядом один за другим проносились переполненные троллейбусы. Я все никак не мог прийти в себя. У меня капала из носа кровь, саднили разбитое ухо и губа. Случилось же следующее.
Мне надо было поменять пятьдесят долларов на белорусские рубли, чтобы в карманах были деньги на расходы. Я засиделся на телефоне до вечера, бросился к обменным пунктам. Они уже позакрывались. Все-таки праздник.
Пришлось бежать на Комаровку – громадный центральный рынок столицы. Валютчики сбили цену и давали за доллар смехотворную сумму.
Я направился в торговые ряды, чтобы обменять доллары у торговцев. Картонная табличка «куплю» торчала почти возле каждого. Милиция пресекала торговлю валютой, поэтому слово «куплю» было формой компромисса.
И угораздило меня попасть на этих чучмеков! Они человек десять – сидели на мешках, обедали, разрывая куски жирной курицы руками, и отчаянно спорили о чем-то. Разговор их был явно политическим.
– Кому требуется сорок восемь часов на размышление? Кому, нам, или Ельцину? – кричал один парень, полный и круглоголовый.
Другой отвечал:
– Месяц назад Ельцин обратился к участникам конфликта в Чечне. Ну и что? «Надежда на самостоятельное разрешение внутричеченского конфликта полностью исчерпана», – передразнил чеченец российского президента. – И выдвинул ультиматум: в течение 48 часов с момента обращения, – чеченец опять начал кривляться, – «прекратить огонь, сложить оружие, распустить вооруженные формирования, освободить всех захваченных и насильственно удерживаемых граждан». Если же в установленный срок эти требования окажутся невыполненными, на территории Чечни будет введено чрезвычайное положение. А фиг ему!.. А этот меланхолик, Павел Грачев, – чеченец начал подделывать голос Грачева, – «не очень я интересуюсь, что там происходит», чтобы требовать «восстановления в Чеченской республике конституционной законности, правопорядка и мира» в течение двух суток. Правильно тогда Муса Мержуев заявил «Интерфаксу», что обращение Бориса Ельцина к чеченцам приведет лишь к объединению всех чеченцев, неизбежно выведет из стана оппозиции тех людей, которые слепо шли за ней. Я, вот лично я уже оппозиции не верю. Нахапали денег от Москвы – и все!
В разговор вмешался еще один парень:
– Любопытно, как бы отреагировал Кремль в ночь с третьего на четвертое октября девяносто третьего года на категорическое требование, скажем, Билла Клинтона к Борису Ельцину, с одной стороны, и к Александру Руцкому, с другой, немедленно разоружить своих «участников вооруженного конфликта» и отправиться спать. Неужели эта российская свинья, Ельцин, думает, что Чечня – часть России?
– Значит, думает, раз можно без церемоний, сурово, но по-свойски, – парировал его ответ плотный парень.
– Но, Руслан, в течение трех последних лет Москва словно забывала о нас. Москали фактически признавали независимость чеченского государства. И теперь, что там ни говори, введение войск – это вооруженная российская интервенция.
– Я тоже думал, – мрачно сказал тот, кого назвали Русланом, – что бикфордов шнур ультиматума сгорит за сорок восемь часов и… будет погашен, скорее всего, созданием какого-нибудь координационно-согласительного совета, центра, штаба. Потому что и там, и тут понимали: введение ЧП в Чечне – это начало большой войны, способной воспламенить весь Северный Кавказ, втянуть в смертельный круг десятки народов и народностей…
Мне пришлось перебить их трепотню, до лампочки были мне их политические дрязги, мне требовались деньги.
– Доллары возьмете?
– Сколько?
– Пятьдесят…
– Даю по десять тысяч за доллар…
– Хорошо!
Толстый, приземистый кавказец вытер руки о мешок и полез в карман. Он на глазах у меня отсчитал ровно двадцать пять двадцатитысячных купюр белорусских рублей.
– На, – сказал он и взял двумя пальцами протянутую мной пятидесятидолларовую бумажку.
Я взял деньги и пошел, на ходу пересчитывая купюры. Их оказалось не двадцать пять, как должно было быть, а двадцать четыре.
«Вот наглец!» – мысленно воскликнул я и возвратился.
– Дорогой! – сказал я. – Ты мне все деньги не отдал.
– Покажи! – ухмыльнулся толстый, молодой и наглый кавказец и взял протянутые мной деньги. Он опять на глазах у меня пересчитал купюры.
– Действительно, одной не хватает… – хмыкнул он и извлек из кармана еще одну двадцатитысячную.
Я сгреб деньги, сунул их в карман и ушел восвояси. Когда же я вышел почти на проспект, что-то подсказало мне пересчитать деньги. К моему глубочайшему изумлению, не хватало уже трех купюр.
Вначале я перетряс все карманы. Медленно пошел назад, думая, что я потерял деньги по дороге. Но у меня все больше и больше росла уверенность, что я оказался жертвой обыкновенного шулера-заломщика.
«Ну и мастак! – думал я. – У меня же глаза снайпера, и я не мог такого заметить…» Смутно мне припомнилось, что когда парень добавлял одну купюру к моим деньгам, он сунул руку с деньгами в один карман, а из другого вытащил уже заранее приготовленную заломку.
«Не на того нарвались!» – меня бесило, что я так просто попался на удочку.
Кавказцы сидели на старом месте, у ног их стояла початая бутылка водки.
– Дорогой, – спокойно сказал я заломщику, – верни ты лучше мои доллары, а свои деньги забирай, и ищи простачков.
– Что ты? – прикинулся парень. – Ты уже ушел, забрал деньги, чего ты хочешь?..
Тем временем его глаза начали наливаться кровью, а ноздри нервно зашевелились.
Остальные кавказцы спешно вытирали руки и губы от куриного жира.
Я положил деньги на прилавок и произнес:
– Слушай, давай без шума, а?
Но без шума с восточными людьми нельзя обойтись. Заломщик неожиданно громко, на весь базар, заорал:
– Ты чего от меня хочешь? Какой наглый! Взял деньги и еще требует… Вам всем тут плати… Приходят одни – плати, приходят другие – плати… Я тебе все отдал, что надо…
Я положил руки на прилавок, перепрыгнул через него и очутился рядом с наглецом. Тот отпрянул назад, уже на ходу хватаясь за «кидуху», которая лежала на мешке и которой резали хлеб и курицу.
Носком ботинка я успел выбить нож из руки парня и тот затряс ушибленной кистью. Кавказцы заорали благим матом, привлекая всеобщее внимание, и гурьбой набросились на меня. Одного я остановил ударом локтя, второй напоролся на прямой встречный удар, а вот третий с тыла нанес мне по уху боковой удар, от которого посыпались из глаз звезды, а в ухе зазвенело мощное крещендо. В это время шулер сгруппировался и ногой ударил меня в пах. Я поймал его за ногу, сбил своей ногой его с места, повалил на землю и так заломал ему руку, что кавказец заревел диким голосом. Я сунул руку ему в карман. Сверху на меня свалился человек, который дубасил меня кулаками по голове, другой лупил ногой в грудь, а третий, вцепившись руками в балку крыши над прилавком, ударами двумя ног пытался свалить меня с шулера.
Если б мне надо было прикончить негодяя, я давно бы сделал это. Но в мои расчеты входило только забрать свои деньги и проучить наглеца. Покуда на меня обрушивался град ударов, я успел вытрясти карманы у поверженного парня, ухватить кипу денег, дать коленкой одному из парней в пах и перемахнуть через прилавок в проход.
К месту драки уже бежала в неуклюжих форменных бушлатах милиция. В мои расчеты не входило в этот предновогодний вечер общество молодых сержантов. Я более тяготел к цивильному женскому полу.
– Ну, свинья! – орал заломщик. – Ты сюда больше не покажешься. Я тебя из-под земли выкопаю! Ты подохнешь!
Я выбежал на улицу и чуть ли не побежал к проспекту, стараясь затеряться среди редких прохожих. Возле самого проспекта стояли двое милиционеров, один из них переговаривался по рации. Я свернул в первый попавшийся переулок.
Когда я выбрался на проспект и осмотрел себя, то впал в уныние. Весь мой праздничный наряд был испачкан следами обуви наглых торговцев. Из носа капала кровь. Ухо тоже было разбито. Показываться в таком виде на празднике, тем более среди престижного общества, было негоже.
Вот поэтому я и брел без настроения по проспекту, не зная, что предпринять.
Наконец, я все-таки опомнился, посмотрел на часы. «Черт побери, – выругался про себя, – первый раз на елке в этом городе, приглашен и опоздал! В конце концов, можно ведь и почиститься, и лицо вымыть». Однако выражение недовольства, едва появившись на моем лице, тут же исчезло. Я даже не ускорил шаг. Я опять с головой ушел в свои мысли, которые были далеко от Минска, от Нового года. Все чаще и чаще мне вспоминается Афганистан, Абхазия, Босния. На что потратил я свою жизнь?
…Праздник, действительно, был уже в полном разгаре. Куда ни глянь, везде хорошо знакомые благодаря телевидению да газетам лица – известных политиков, членов правительства, артистов, бизнесменов. Что они делают в этом фешенебельном заведении? Или они тоже имеют по миллиону долларов. Скорее всего, «Фиолетовый лимон» – шикарное местечко.
Впрочем, было полно и незнакомых: чьих-то жен, которые смотрели вокруг себя с вызовом, втайне ревниво прицениваясь к обновкам своих знакомых; чьих-то любовниц, которые, понимая всю двусмысленность своего положения, были чересчур стеснительными; чьих-то просто подруг, которые вели себя непринужденно, весело болтали, не обращая ни на кого особого внимания.
Я немного потолкался среди приглашенных, тщетно пытаясь встретить здесь кого-либо из своих знакомых, и направился к бару. Вид у меня был нормальным. Я сдал в гардероб пальто, а в туалетной комнате почистился и привел в порядок лицо. Красное ухо и слегка разбитая губа придавали моему лицу более мужественное выражение. В баре я заказал шампанское, хотя настроение ухудшилось настолько, что теперь мне больше подошла бы водка.
И в этот момент вдруг появилось единственное знакомое в круговерти лицо – Франц Гершенович.
– Юрий, ты? А я думаю, почему не пришел? – с ходу засыпал вопросами Гершенович. – Ну, как тебе здесь? Шикарно, да? А почему один?
– Да так… – я поморщился.
– Ничего, здесь невесты на любой вкус. Только не плошай. А что это у тебя с ухом?
– Да немножко прижали… А ты сам почему один?
– Если бы, дружище! Моя баба где-то там, с подругами болтает. Давно не виделись – со вчерашнего дня. Давай выпьем, что ли?
– Давай.
– Что у тебя, шампанское?
– Как видишь.
– А я, пожалуй, коньячку. А может и ты, а? По стопочке.
– Да нет, после шампанского…
– Ну и что – после шампанского? Пока как следует не выпьешь, ты здесь ничего хорошего не увидишь, – тараторил Гершенович.
– Ладно, давай.
– Мы заказали по сто граммов «Наполеона».
– Ну, как? Краски стали ярче? – улыбнулся Гершенович, двумя глотками отправив жидкость внутрь.
Я промолчал, но тоже улыбнулся.
– Не дрейфь, смотри сколько вокруг девиц, – Гершенович тяжело вздохнул. – Я тебя пока оставлю, извини. Кажется, кое-кто уже созрел для делового разговора. Смотри, какое у него сейчас милое, доброе выражение лица.
Но я не повернулся в ту сторону, куда показывал Франц. А он только положил руку мне на плечо и подмигнул:
– Давай-давай, действуй!
Гершенович испарился. Я прислушался к разговорам. Рядом двое солидных людей говорили о Чечне. О том, что воздушные атаки на Грозный усилились. Русские бомбят днем и ночью. Основные объекты бомбежек – аэродром и аэропорт, места дислокации сторонников Дудаева. Но перепадает и мирному населению.
– Ельцин им всыплет, – говорил один из мужчин, закусывая водку бутербродом с бужениной, – он еще с начала декабря там давал им прикурить. Даже мирному населению. Помнишь, первого декабря в старопромысловском районе Грозного осколками одной из ракет штурмовика был уничтожен автобус, в котором ехали пассажиры?
– А-а! Это тогда, когда хотели раздолбать дом Дудаева? – ответил первому второй мужчина, мощными челюстями перемалывая закуску. – Они разнесли чуть ли не весь квартал, в котором находится дом Дудаева.
– Ты знаешь, – сказал первый, – Дудаев утверждает, что знал о готовящемся налете. Вся семья находилась дома и, по его словам, никак не хотела прятаться в подвале. Ему с трудом удалось затолкнуть ее туда. Самолеты заходили с четырех сторон, и бомбы попадали в соседние дома. И в доказательство случившегося Дудаев привез с собой осколок бомбы, обнаруженный возле своего дома.
– Они же тогда чуть делегацию депутатов Госдумы не накрыли! Однако последние самолеты покинули небо над Грозным за полчаса до въезда туда российских парламентариев… Мы водку еще пить будем? – поинтересовался первый мужчина.
– Ну давай еще по стопочке, – согласился напарник и продолжил разговор о Чечне: – Кто у них там министром МИДа, Юсеф какой-то? Он и вице-президент Яндарбиев встречались с этими шавками из Госдумы и встреча «носила обоюдно полезный характер». Сейчас как долбанут по Грозному, чеченцы костей не соберут. Разве военные простят, что двадцать одного русского пленного Юшенкову, этой падали, показали?
– Да-да, давай тогда еще по стопочке. За старый год… – предложил первый мужчина. Он видел, что я стою, скучая, один. Поэтому смерил меня взглядом с ног до головы и предложил:
– Вы к нам не присоединитесь?
Мы сели за пустой столик, водрузили бутылку с коньяком в центр стола.
– В случае чего вы, молодой человек, займетесь нашими женами, – шутливо сказал один из мужчин, плеснув в рюмки коньяку. – А мы тут поболтаем.
– А вы, случайно, не военный? – спросил у меня второй мужчина.
– Да, – ответил я. – Военный. Бывший…
– Мы вот тоже бывшие… Не у дел… Вот он, – мужчина кивнул на своего напарника, – дивизией командовал, а я – полком. И в расцвете сил, пожалуйста – под сокращение. Да дайте мне десяток танков, вертолетную бригаду, и я бы этого Дудаева в бараний рог скрутил бы… А то хорохорится, подавай ему в посредники Ландсбергиса, тьфу!
– Такой ты горячий, – сказал тот, кто командовал дивизией, – прямо-таки и согнешь. Там весь Кавказ встанет за Дудаева. Помянешь мое слово.
– По поводу своих соседей по Кавказу, знаешь, что Дудаев сказал? – парировал слова товарища мужчина. – Что мол, все эти народы остаются трусливыми, опасаясь возмездия со стороны России. Поэтому на помощь Конфедерации народов Кавказа он особо не рассчитывает, больше полагаясь на помощь Всевышнего.
– Аллаха? – хмыкнул бывший комдив. – Не забывай, что к Дудаеву в Чечню стекаются исламские силы. Тем более, что он призвал кавказские народы «перенести беды на российскую территорию». Его прогноз развития событий, знаешь, каков? Что Россия не откажется от агрессии, поскольку на губах «ястребов кровавая пена».
Я пил коньяк маленькими глотками и молчал. Я из-за принципа не читал газет, не слушал радио, а телевизор смотрел только тогда, когда мой дед Матейко насильно усаживал меня перед экраном. Оказывается, я многое пропустил за это время, и в Чечне, похоже, началась настоящая заварушка.
– Так что? – спросил я после того, как у меня потеплело на сердце. – Уже и пленных чеченцы набрали?
Отставники переглянулись и уставились на меня: откуда, мол, ты свалился? Старший налил коньяку мне, потом товарищу, потом себе.
– Молодой человек, а знаете ли вы, что чеченцы на митинге решили за каждый налет на Грозный вешать по одному пленному российскому офицеру? Хочется надеяться, что не митингу все-таки решать их судьбы… За это и выпьем…
Но выпить мы не успели. Неожиданно к бару подошли две разодетые женщины. Мои генералы, или, по крайней мере, полковники неожиданно резво вскочили и понеслись к дамам. Дамы подошли к бару, покрутили носами, и, повернувшись, отошли от бара, забирая с собой мужей. Шли женщины гордо, как непотопляемые авианосцы.
Я с сожалением посмотрел собутыльникам вслед. Я ухмыльнулся – не хотелось бы иметь такой конвой в этот прекрасный Праздничный вечер. И вдруг взгляд мой замер. По залу по направлению к бару неторопливо шла молодая красивая женщина с длинными, немного вьющимися волосами. Белое дымчатое платье почти полностью скрывало ее длинные ноги, выгодно подчеркивая ее великолепную фигуру.
Женщина шла прямо на меня, хотя, кажется, и не замечала меня, все время глядя по сторонам, словно кого-то искала. За несколько шагов от меня она остановилась и, чуть наклонившись к невысокому роста юноше, сказала, одарив его холодной улыбкой:
– Прошу прощения, у вас спички есть? Юноша был навеселе, и губы его тут же расползлись в стороны.
– А, по-моему, вы просто хотите со мной познакомиться, верно? Может, потанцуем, а?
Женщина, все так же улыбаясь, наклонилась к нему еще больше и произнесла довольно громко:
– Подрасти сначала, детка.
Юноша тут же густо покраснел, рассердился и спрятал зажигалку обратно, которую уже было достал из кармана и протягивал женщине. Ничего не сказав, он, покачиваясь, пошел прочь.
Женщина вплотную приблизилась ко мне. Она уже собиралась задать тот же вопрос, но я опередил ее:
– Извините, но я не курю.
Я забыл о своем малинового цвета ухе и разбитой губе. Коньяк действовал, в голове лихорадочно разрабатывался план, как познакомиться с этой женщиной.
– Вот как? Что за мужики пошли нынче… – слегка улыбнувшись, сказала женщина, высматривая в баре кого-либо из курящих.
– Простите, а что вы такое сказали этому парню, почему он бросился от вас как ошпаренный?
– Да так. А что?
– Просто хочу знать, какие вопросы не следует задавать таким красивым женщинам.
Может, комплимент задержит красавицу хоть на лишнюю секунду возле меня.
– А что вы хотите у меня спросить?
– Ну, например… – я загадочно улыбнулся. – Например, вы танцуете?
– О, Господи, и вы тоже один из них, да?
– Один из кого?
– Один из этих лицемеров, которые здесь собрались.
Я решил быть наглым. Иначе не заинтересую ее.
– Я не лицемер, я меряю не лица, а сразу все, всего человека…
– А-а. Сейчас вы скажите, что я вам нравлюсь… А потом предложите уехать, правда? – сказала женщина. Она не уходила, ее пальцы мяли тонкую сигарету. Ее тянет курить, и если она сейчас не закурит, то уйдет в поисках огонька. Я метнулся к бармену, попросил огоньку и услужливо щелкнул зажигалкой перед красавицей.
– Вы мне не нравитесь, – я покачал головой, не в силах скрыть удивления, вызванного последними словами женщины.
– Это как же? – она затянулась сигаретным дымом и стояла, покачивая бедрами между кресел, где недавно восседали отставники. В ее голосе чувствовалось легкое раздражение и даже нетерпение. Конечно, она привыкла покорять походя.
– А так, что вы чересчур красивы, понимаете…
– И что же?
– А ничего. Просто красивы, как греческая статуя и также…
– Также холодна, как мрамор? Вы это хотите сказать? – девушка снова затянулась сигаретой. Я посмотрел ей прямо в глаза. Цвет глаз у нее был странный. Светло-серый, как пепел. А белки глаз были чистыми и ясными, как у ребенка. Она смотрела в мои глаза, я – в ее. Неожиданно она смутилась, пожала плечами и, не сказав больше ни слова и даже не взглянув на меня, направилась к стойке бара. Я остался на месте, возле столика, налил себе шампанского и залпом выпил. «Кажется, я вел себя не совсем убедительно, – подумал я, почувствовав, что настроение опять начинает портиться. – И черт меня дернул прийти на эту дурацкую елку!».
Я решил побыть среди танцующих людей. Там было все так чопорно! Завалиться бы куда-нибудь на молодежную дискотеку! Еще время есть…
И тут же за спиной я услыхал знакомый голос:
– Я подумала немного… Кажется, вы тоже похожи на статую греческого бога… Очень молодого и очень красивого!
Я оглянулся. В глазах женщины прыгали озорные искорки.
– Значит, могу повторить свой вопрос? – улыбнувшись, спросил я.
– Какой?
– Вы танцуете?
– Нет.
– Ну, тогда может…
– Здесь так шумно!
– Вы правы.
Через несколько минут мы уже были на улице и ловили такси.
Наконец, одна машина остановилась.
– Куда едем? – весело спросил водитель.
– Посмотрим достопримечательности города, – с намеком сказала женщина и заглянула мне еще раз в глаза, надеясь увидеть то, что она увидела в первый раз, когда я засмотрелся на нее. – Ты не против посмотреть достопримечательности Минска?
Я чуть было не буркнул, что в Минске достопримечательностей нет, но вовремя остановил себя. Когда машина тронулась с места, она спросила:
– Я все время забываю, как тебя зовут?
– Юрий.
– Ах да, конечно.
– А тебя, кажется, Анастасия.
– Юра, ты не хочешь, например, посмотреть на такую достопримечательность, как дом первого съезда РСДРП?
Я обнял женщину и осторожно поцеловал ее в губы. Она ответила мне тем же. Водитель такси посмотрел на нас в зеркальце и улыбнулся:
– Так что, ехать к дому съезда РСДРП?
Я был не в силах оторвать свои губы от губ Анастасии, вяло махнул таксисту рукой.
– Понял, – сказал водитель и отвернул зеркальце.
Мои руки проскользнули под нутриевую шубку. Казалось, что на Анастасии ничего нет. По крайней мере, лифчика у нее не было. Моя рука скользнула вниз. Точно, под платьем тоже ничего нет. А если и есть, то нечто необычайно тонкое. Едва мои пальцы коснулись кожи между бедер, молодая женщина несколько раз содрогнулась, сильно сжала зубами мои губы… «Уже готова?» – подумал я.
Через минут пятнадцать машина остановилась у знаменитого одноэтажного домика.
Анастасия вышла из машины, не застегивая нутриевую шубку, и смело открыла калитку.
– Ты что, приватизировала этот дом? – поинтересовался я.
– Нет, – ответила девушка, – но у меня тут работает друг.
На звонок дверь открыл парень. Анастасия с ним пошепталась, и вскоре он вышел, уже одетый.
– Приглашаю, – царственным жестом Анастасия указала мне путь. Я не без некоторого смущения вошел внутрь музея. Едва закрылась дверь, как Анастасия буквально набросилась на меня. Я ответил ей тем же.
«Неплохо, черт побери, – думал я, – встретить Новый год в таком месте, но, главное, с такой дамой».
Прелюдия была короткой. Женщина была податлива, как воск в горячих руках. Я не ошибся – под дымчатым платьем у нее и в самом деле ничего не было. Согнувшись, Анастасия уперлась руками в стол, стояла лицом вниз и тихонько постанывала.
Нутриевый ворс ее короткой шубки щекотал мне живот.
Когда все бурно и неожиданно завершилось, я почувствовал зверский голод, желание выпить и побыть среди множества веселых людей. И я пожалел, что здесь, в этом затхлом домишке, ничего нет, кроме мертвых мух в чернильницах из прошлого века и молодой женщины, которая шумно дышит и испытывает оргазм от одного прикосновения мужской щетины к оголенному соску своей груди.
– Мы можем отсюда уйти?
– Тебе со мной плохо? – спросила Анастасия, жадно заглатывая сигаретный дым.
– Нет, но я не вижу здесь праздничного стола, а сегодня все-таки праздник…
– Я хочу тебя! Давай еще второй раз, а потом уже поедем к моей подруге…
…Пока я занимался вторым разом, причем довольно деловито, наступил Новый год. Это я узнал по радостным крикам и взрывам петард, взрывпакетов и шутих. Впервые в жизни у меня получилось начать в одном году, а завершить в другом. Девушка на этот раз зарыдала от удовольствия, или от чего-то другого, не знаю. Может, у меня все чересчур хорошо получилось? На голодный желудок, правда, и не такое может случиться.
Через полчаса Анастасия уже звонила в дверь незнакомой мне квартиры. Дверь долго не открывали. Наконец, дверь отворилась и появилось заспанное лицо девушки лет двадцати в цветастом коротком халатике чуть повыше колен. Девушка была явно недовольна тем, что ее потревожили, но увидев Анастасию, расплылась в улыбке.
– Привет!
– Привет. Ты что, спишь? В Новый-то год? – спросила Анастасия.
Подруга ничего не ответила, смерила меня любопытным взглядом, и лишь потом произнесла:
– Программу смотрела и уснула, представляешь?
– Представляю, чего же. Но гости-то где?
– Да вы заходите, чего стоите в пороге?
Она снова бросила любопытный взгляд на меня и отступила от двери, пропуская неожиданных визитеров.
– Слушай, Ленка, – с ходу объяснила цель своего прихода Анастасия, – мне нужна твоя квартира.
Я удивленно посмотрел на женщину: об этом мы не договаривались.
– Прямо сейчас? – разочарованно спросила Лена.
– А ты что, не одна?
– Да нет…
– Значит, тебе просто понравился мой мужчина.
Лена улыбнулась.
– Ну, ладно. Просто мне хотелось с кем-нибудь распить бутылочку шампанского, – словно оправдываясь, наконец, сказала она. – Сейчас ухожу, только переоденусь.
Подруга шмыгнула в комнату, которая, по всей видимости, служила ей спальней, и через минуту появилась снова.
– Вот и я.
– Там внизу такси, а вот ключи от моей квартиры. Я тебе потом позвоню.
– А твой там будет?
– Если и будет, ты иди прямо в мою комнату…
– Пока, – сказала Лена, взяла ключи, подошла к двери и, оглянувшись, неожиданно подмигнула мне. – В холодильнике шампанское. Можете выпить. За Новый год.
Хлопнула дверь.
– Ну, что, будем пить шампанское? – Анастасия подошла ко мне и засунула руки мне под рубашку. – Ты доволен?
Вместо ответа я поцеловал женщину в губы, а затем спросил:
– А почему мы не поехали к тебе? Там «твой»?
– А тебе это очень хочется знать? – ласково, вопросом на вопрос, ответила Анастасия. Ее руки скользнули вниз. Она явно была заинтересована моим мужским «достоинством».
– Ты замужем?
– Нет.
– Тогда давай пить шампанское! – я снова поцеловал женщину в губы и, легонько отстранив ее от себя, направился на кухню.
– А ты? – вслед мне бросила Анастасия.
– Что я? – я обернулся.
– Ты женат?
– Разве я произвожу впечатление женатого мужчины?
На лице Анастасии мелькнуло удовлетворение. Тем не менее она сказала:
– Наоборот, все женатые мужчины стараются делать вид, что они закоренелые холостяки.
– Может быть, – уже с кухни ответил я, открывая холодильник, – но мне этим, кажется, еще рановато заниматься. Хотя кое-какой опыт у меня в семейной жизни есть.
– Ты хочешь сказать, что был женат и развелся со своей женой?
– Я хочу сказать, что уже старый, чтобы заниматься такими штуками.
– Интересно, во сколько лет мужчина считает себя стариком, чтобы «заниматься такими штуками»?
Анастасия подошла к двери кухни и прижалась к косяку щекой.
– Ну, примерно в тридцать, – я состарил себя на пару лет. И сразу сказал: – Рановато. Я, действительно, был почти женат, и даже несколько раз. Но мне не везет с женщинами. Они умирают… Или пропадают без вести.
– Как это?
– А так. – Я копался в кухонном шкафу. Наконец, я извлек оттуда два бокала, взял шампанское и направился в зал. Анастасия последовала за мной.
– А у твоей подруги вовсе даже неплохая квартирка, – заметил я. – Но в холодильнике пустовато.
– Ну уж…
– Для одного человека три комнаты разве мало?
– А почему ты решил, что она одна?
– А что – нет?
– Ты, случайно, не в милиции работаешь?
– Нет, я военный.
– Боже, как интересно! – не то всерьез, не то шутя сказала Анастасия.
– И, к тому же, в свое время работал в разведке.
Я наполнил бокалы и один из них подал Анастасии.
– За знакомство?
– Давай, – согласилась она.
…Город утопал в сумерках. В квартире номер сто двадцать три одного из многоэтажных домов, что «толпятся» друг около друга на проспекте Скорины, было уютно; мы не зажигали свет.
Тихо играла легкая музыка. Два человека, тесно прижавшись друг к другу, танцевали посреди комнаты. Вернее, мы просто немного покачивались в такт медленной музыке. На журнальном столике стояли две пустые бутылки из-под шампанского и два бокала.
– Мне так хорошо с тобой, – негромко сказала Анастасия и заглянула в мои глаза в поисках ответа на незаданный вопрос.
– Мне тоже, – произнес я, улыбнулся и поцеловал женщину в мочку уха.
Но она тут же нашла мои губы своими губами и еще сильнее прижалась ко мне. Ее поцелуй был страстный и кружил голову, словно полет в невесомости.
Я закрыл глаза и, проведя руками по спине женщины, нашел молнию, потянул вниз за язычок замка. Молния была длинная, до самой талии.
Анастасия не сопротивлялась, лишь еще крепче прижалась своими губами к моим.
Тогда я положил свои руки ей на плечи и осторожно потянул вниз платье, которое тут же само легко поехало вниз. Наконец, женщина немного откинула голову, и я открыл глаза. В сумраке комнаты она была еще прекрасней, загадочней, желанней. Она улыбалась одними губами, казалось, сейчас согласная на все, что я ей ни предложу, куда ни позову.
Я подхватил ее на руки, легкую, горячую, и медленно понес в спальню. Платье белым облаком осталось лежать на полу. Все так же тихо играла приятная легкая музыка. Но ни я, ни Анастасия ее уже не слышали.
Пока я раздевался, женщина, нисколько не стесняясь, неторопливо помогала мне снимать то, что на мне еще оставалось. Потом она вытянула свои длинные ноги. От ее белого тела, казалось, даже немного посветлело в комнате.
Я лег рядом, и Анастасия тут же повернулась ко мне, приподнялась немного на руках, села на колени.
– Ты прекрасна, – сказал я, скользя жадным взглядом по ее телу.
Не дав мне больше вымолвить ни слова, она наклонилась, поцеловала меня в губы, затем в шею, потом медленно провела рукой по моей груди, от шеи и вниз, и вслед за рукой по моей груди пробегали ее горячие губы – все ниже, ниже…
«В довершение ко всему, она еще и миньетчица», – подумал я, вздрогнул всем телом от непривычных ощущений, схватился за ее мягкие волосы и сильно прижал ее голову к себе. Но ее губы, на мгновение застыв в одной точке, тут же направились обратно к шее, затем легким касанием закрыли мои глаза. И все ее тело, изгибаясь раздразненной змеей, тянулось по моему телу.
На мгновение она приподнялась, поправила все время спадавшие на лицо волосы, и вот уже снова змея бесшумно поползла по моему телу, та же и одновременно другая, немного дрожащая, горячая, невыносимо живая, и ее груди, словно два маленьких кольца, все время пробуксовывая, приятно щекотали мою грудь.
Неожиданно ее тело до боли напряглось, сжалось, совсем перестав ей подчиняться, затем резко содрогнулось несколько раз, и я тоже уже перестал соображать, где я и что со мной происходит, пытаясь отдаться этому зову природы. И в то же мгновение почувствовал, как холодный ствол пистолета уперся мне в затылок.
– Слазь! – грубо скомандовали мне. – Быстро!
Я лежал еще расслабленный, совершенно не понимая, что произошло. Я приподнялся на руках. Анастасия испуганно вглядывалась в человека, который держал меня на мушке.
– Тимур? – неуверенно произнесла девушка.
– Что – Тимур? Чего зенки таращишь? Кто этот фраер? – резко чеканил неизвестный, не отнимая пистолет от моего затылка. Мне было крайне неудобно в голом виде. Я медленно приподнимался с кровати.
– Это мой знакомый, старый знакомый, – отвечала Анастасия, пытаясь натянуть на себя одеяло. В ее голосе я почувствовал тревогу.
– Так ты по прежнему б…шь? Не бросила, а? Нимфоманка чертова! Сколько раз тебя предупреждал, просил…
– Тимур, я свободная женщина…
– Молчать, курва! Одевайся… – мужчина сделал рукой быстрое движение, очевидно, замахиваясь пистолетом, чтобы ударить женщину.
Едва незнакомец произнес эти слова, я на свой страх и риск неожиданно для противника ударил его локтем, пытаясь выбить пистолет. Грохнул выстрел.
Второго выстрела не последовало. Я прыгнул на соперника, вцепился ему в руку, стремясь завладеть пистолетом, одновременно нанося мощный удар коленкой в пах. Пистолет вывалился у того из рук. Ребром ладони я долбанул агрессора по шее. Он согнулся еще больше и ткнулся в ворс ковра носом.
Держа пистолет в руке, я быстренько оделся. Анастасия лежала, скрючившись. Шальная пуля, видимо, сразу попала в нее.
Меня прошиб холодный пот. Что делать?
Как только незнакомец зашевелился, я со всего размаху нанес удар пяткой ему в лоб. Тот свалился на бок и замер.
И тут в комнату вошла испуганная хозяйка квартиры – Лена. Она не рассмотрела в полумраке ничего и начала оправдываться:
– Анастасия, он был там, у двери твоей квартиры…
– Анастасия мертва, – сказал я.
Лена обхватила руками рот и замычала. Ноги у нее подкосились, она не владела собой.
– Вызови милицию, твою подружку застрелил он, – указал я на неподвижное тело мужчины. – Мне с милицией встречаться неохота…
Я сунул пистолет в карман брюк, натянул плащ и выскочил на лестничную площадку.
Уф! Какой удивительно прохладный и свежий воздух, сколько веселящегося народа! Ведь все-таки Новый год! А вот на душе у меня камень. Моя кожа еще пропитана теплом женщины, которая уже мертва! Прочь, прочь!
Я услышал, как позади зацокали каблучки. Я оглянулся. Это бежала, вся растрепанная, Лена. Я пошел ей навстречу, и громко и зло сказал:
– Разве неясно, что тебе сказали?
– Они меня убьют!
– Кто они?
– Чеченцы…
«И тут чеченцы», – подумал я. А вслух произнес:
– Ты в милицию позвонила?
– Нет, я боюсь… Они и милицию купят… Он там зашевелился, я испугалась. Не бросайте меня, мне некуда пойти… – и девушка схватила меня за руку, совсем, как ребенок, попыталась прижаться ко мне.
Если б я знал, чем все это кончится, я эту Лену просто оттолкнулся бы от себя и пошел к веселящимся людям. Но никто не знает, проснувшись поутру, чем закончится вечер.
Я обнял девушку, погладил ее по голове, как школьницу, которая разревелась, получив двойку, и мы пошли по праздничному ночному проспекту Скорины, по которому с сухим свистом и шелестом проносились такси.
– Ну, ты успокоилась? – спросил я, все еще обнимая девушку за плечо.
– Да, но мне все равно страшно…
– Ты можешь мне рассказать, кто этот мужчина, которого ты привела?
– Понимаете, Анастасия – это не подруга моя… Что-то вроде мачехи…
– Д-да? Ну, а этот… Тимур, кажется…
– Да, Тимур. Это ухажер Анастасии, он – чеченец…
– Это что, такая профессия – чеченец?
– Он дурак, бешеный… Чуть папу не застрелил, когда папа с Анастасией, то есть с мачехой, развелся. Анастасия отсудила комнату в папиной квартире, а папа ее туда не пускал… А там квартира с паркетом…
«Да, – подумал я, – теперь предстоит разобраться в квартирном вопросе, кто кого выселял и кто кого чуть не подстрелил. Ай да Новый год!»
– Послушай, скажу открыто, – решительно заявил я, – у меня квартиры с паркетом нет, везти мне тебя некуда, так что едь ты к своему папе на паркет…
– Ну, вы меня хоть довезете туда? – в голосе девушки было столько надежды, что я не посмел отказать.
…Такси остановилось возле многоэтажки в престижном районе. На этой улице жили сплошь цэковские работники, служащие госаппарата, артисты, придворные журналисты и, в крайнем случае, многодетные отцы и матери. В народе это место называли районом пыжиковых шапок.
Лена предупредила меня, что Тимур может приехать и сюда, чтобы попытаться замести следы. Перед дверью квартиры я на всякий случай сунул руку в карман, где лежал пистолет Тимура.
– Я только доведу тебя до двери, и – гуд бай, детка! Надеюсь, мы больше не увидимся никогда, – нагоняя на себя мрачность, сказал я.
Мы подошли к двери, и Лена позвонила. Тишина. Потом позвонила еще раз. Я стоял сбоку, чтобы меня не было видно в глазок, и сжимал рукоятку пистолета. Я ничуть не удивился бы, если б дверь открылась и оттуда выскочили пятеро милиционеров.
За дверью послышалось шарканье, и глухой, но удивительно знакомый голос спросил:
– Ты одна?
– Одна?
– А где Тимур?
– Не знаю…
– Ты не врешь? – замок на двери щелкнул, но дверь квартиры открылась не сразу. Очевидно, хозяин осматривал через глазок лестничную площадку.
– Заходи, – буркнул мужчина дочери.
И тут на пороге возник я. Голос настолько был знаком, что я решил взглянуть на его владельца. И кого же я увидел?
Своего начальника: рыжеволосого, толстоватого и трусоватого Франца Гершеновича!
Вид у него был живописен. На груди на широком кожаном ремне висело двуствольное охотничье ружье. Гершенович был весь всклокочен, глаза у него были, как у кролика-альбиноса.
Увидев меня, он не улыбнулся, как обычно это делал, а хмуро спросил у дочери:
– Кто это?
– Мой… друг, – ответила Лена. Гершенович раздумывал с минуту.
– Заходи. Где ты эту б…дь подцепил? – все так же хмуро спросил у меня Гершенович, указывая глазами на дочь.
– Сама прицепилась, – не стал жалеть девушку я.
Гершенович захлопнул дверь и замкнул ее на все замки.
– Жду чеченцев… Должны нагрянуть…
– Ты что, войну, как Ельцин, им объявил?
– Да, я на военной тропе! Идем выпьем! Новый год, а мне и выпить не с кем.
Квартира действительно была богатой, с паркетом, но в ней царил полный беспорядок. На полу валялись выделанные кабаньи шкуры и чучела уток. В зале был накрыт стол, на диване спала утомленная и явно не первой молодости женщина. Заслышав шаги, она подняла голову, но через секунду уронила ее на подушку.
Лена скрылась в другой комнате, но когда мы раскупорили бутылку, она вышла, переодетая в домашнее платье и накрашенная.
Мы выпили за Новый год, и Гершенович вкратце рассказал о той ситуации, которая сложилась у него дома.
Анастасия была его второй женой. Известие о ее кончине нисколько не опечалило моего начальника, наоборот, он даже как-то приободрился.
Мы распили бутылку, а потом пили до утра, покуда я прикорнул на диване, но Лена перевела меня в комнату Анастасии, где уложила меня на очень широкую и мягкую кровать, сняла с меня ботинки и легла рядом, не раздеваясь.
Странные чувства овладели мной, когда около полудня я проснулся на кровати женщины, которая была мертва. Простыни свежо пахли лавандой, а каждая нитка наволочки несла, казалось, память об удивительной любовной энергии женщины, с которой мне довелось быть знакомым всего несколько часов.
Я проснулся от шума, и рука моя потянулась к пистолету, засунутому за пояс брюк. На кухне громко и весело разговаривал Гершенович, Вскоре он появился собственной персоной с подносом, на котором рядом с бутылкой водки в тарелках дымилось аппетитное мясо. Рядом со мной все еще лежала Лена. Она спала.
– Ты мой гость, гость и охранник. Мы покажем этим засранцам! Мы устроим им тут Чечню… Слыхал? Что творится в Грозном? Штурмовали! Чеченцы доигрались. Целый месяц россияне сообщали по телику, что мол, неизвестные вооруженные формирования в Чечне совершали нападения на подразделения российских военнослужащих. А потом от местного населения стали поступать сведения о том, что в среде боевиков появились панические настроения, в ряде случаев вспыхивали споры с применением оружия в связи с обращением президента России о продлении на сорок восемь часов ультиматума… А теперь все, русские терпеть больше такое не станут… – говорил Франц Гершенович, наливая уже по второй.
– А сколько у Дудаева сил? Войск там, вооружения? – спросил я у Гершеновича.
– Недавно вычитал я в газете, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Михаил Колесников оценивает количество вооружения у сторонников в двадцать единиц бронетехники, два-три вертолета. У них нет самолетов, ощущается нехватка боеприпасов, – ответил, как заправский военный спец, Гершенович.
– А русские сколько подтянули сил? – спросил я, выпивая третью рюмку.
– По сведениям штаба Джохара Дудаева, – Гершенович размахивал вилкой в воздухе, – в составе наступающей российской группировки около двухсот единиц бронетехники, в том числе сто двадцать тяжелых танков.
– Неужели договориться не смогли? Это ведь позор на весь мир! – сказал я, аккуратно намазывая горчицу на мясо.
– Видишь, как они действовали, – объяснил Гершенович. – Ельцин посылает Дудаеву телеграммы, мол, давай, мы готовы с тобой встретиться для переговоров в Москве. Встретит тебя Егоров. А Дудаев, в свою очередь, шлет Ельцину телеграммы: мы, мол, тоже готовы встретиться для переговоров, но в Грозном.
– Кровь в Чечне, если дойдет до этого, Ельцину не простит никто. Вероятно, в Чечне испытывается модель устранения законного президента от власти, – предположил я. – Если подобное можно проделывать с Дудаевым, то почему нельзя с Ельциным?
– Так там же не только Дудаев один, – все еще размахивая вилкой, сказал Гершенович, – там есть и другие влиятельные из приближенных к Дудаеву люди, которые являются его опорой. Дудаев рассчитывает на помощь и Усмана Имаева, назначенного Генеральным прокурором и министром юстиции по совместительству; и на Султана Гелисханова, начальника департамента госбезопасности; и на Аюба Сатуева, министра внутренних дел.
Голова у Франца Гершеновича была министерская. Если б ему чуть-чуть везения, то он мог бы рассчитывать на большой пост. Он называет по имени и по отчеству даже продавщиц в аптеках, у которых покупает слабительное.
– А милиции знаешь, сколько там у Дудайчика? – произнес Гершенович. – По данным газет, в подразделениях МВД находится двенадцать с половиной тысяч человек, на вооружении пятьдесят единиц бронетехники, ракеты «Муха», гранатометы, пулеметы, автоматы, огромный комплект боеприпасов.
– Так что, они Россию завоюют, эти чеченцы? – пошутил я.
– Ага. А в отряде спецназа, который подчинен департаменту госбезопасности, знаешь сколько человек насчитывается? – не унимался Гершенович. – Насчитывается триста бойцов. Такое же количество – триста человек – находится в президентской охране. Ожидается, что в случае объявления всеобщей мобилизации, на сторону Дудаева станут еще шестьсот тысяч человек в возрасте от шестнадцати до шестидесяти пяти лет.
– Да ну? – не верится мне.
Мы выпили бутылку, потом вторую и начали петь песни. Лена уже проснулась, умылась, напудрилась и теперь ходила вокруг меня, как кошка вокруг живого ерша. Девушка и сидела рядом со мной, касаясь своим плечом моего, и даже чуть обнимала мою шею. Потом она осмелела и, встав, обняла меня сзади, прижалась к моей голове. Я от выпитого туго соображал. Гершенович разглагольствовал о Чечне, чеченской мафии и грозился всех перестрелять. На столе попеременно менялись закуски, а счет бутылкам водки был давно потерян. Таким образом многие встречают Новый год, что же тут удивительного?..
Нет ничего странного в том, что незаметно для себя я очутился в спальне, не владея ни руками, ни языком. Смутно припоминается, что я тревожился за оставленное в квартире мертвое тело женщины, с которой я встретил Новый год. Леночка успокаивала меня, говорила, что все обойдется, ухаживала за мной, прижималась губами к моим губам, и, в конце концов, накрыла меня одеялом, разделась и голая залезла под него сама, наставив на меня свои острые груди. Но меня поташнивало, то ли от выпитого и съеденного, то ли от этих девичьих холодных грудей.
Я очнулся, когда за окном были серые сумерки. Девушка спала рядом, ее каштановые с рыжеватым отливом волосы разметались по подушке.
«Где пистолет?» – было моей первой мыслью. Рукой я потянулся к висящим на стуле брюкам. Лена проснулась, обхватила меня за спину, поцеловала в желобок на спине и спросила:
– Ты пистолет ищешь?
– Где он?
– Возьмите, мужчина! – девушка двумя пальцами протянула мне оружие. Когда она протягивала мне его, бицепс на ее руке заметно напрягся.
Я взял пистолет. Мне не давал покоя труп в ее отдельной квартире.
В дверях спальни появился Гершенович с дробовиком наперевес.
– Вы уже проснулись? Ну так подъем, надо продолжить. Вставай, Леночка, сваргань нам чего-нибудь горяченького, а я уже бабу послал за водкой.
…Мне пришлось долго отказываться от продолжения застолья, я совсем было уже оделся, чтобы уйти, но Гершенович был очень настойчив. Наконец, он уговорил меня, но только мы уселись за стол и выпили по одной, как в дверь позвонили. «Точно милиция», – подумал я. Гершеновича с первой рюмки развезло, он стал необычайно смелым, отставил ружье в сторону и пошел открывать. Я ожидал услышать сухие и краткие вопросы служителей порядка, но в прихожую шумной толпой ввалилось несколько человек.
– А! Беслан? Дорогой! Что у тебя с глазом? Подрался? И ты тут, Яраги! А где Сулейман? Вот он! Хорошие мои, как я вас люблю… – в прихожей началось пьяное лобызание.
Я выглянул в дверь. В прихожей покачивались пьяноватые низкорослые молодые люди со смуглыми лицами. Одеты они были в кожу, вельвет и кримплен. На головах – одинаковые, шоколадного цвета норковые шапки.
Кто это? Цыгане? Чеченцы? Неожиданные гости снимали кожаные куртки, стаскивали сапожки и в шерстяных носках шествовали прямо в зал. Я для пущей уверенности потрогал пистолет за поясом и застегнул нижнюю пуговицу на пиджаке, чтобы оружия не было видно.
По очереди гости подали мне руку и назвали свои имена:
– Сулейман!
– Яраги!
– Беслан!
Я тоже назвал себя.
Под глазом у Беслана красовался шикарный синяк. Нет ничего удивительного в том, что в чеченце, который представился как Беслан, я узнал вчерашнего шулера-заломщика.
Он тоже сразу узнал меня. Других я помнил смутно, кроме крепкого Яраги, который разбил мне губу и чуть не оторвал ухо.
– Послушай, Юра, – сказал, наклонившись ко мне Беслан. – Я же не знал, что это ты!
– А кто же это был? – спросил я, наливая из бутылки каждому по рюмке.
– Ну, извини… – сказал парень.
– Так вы что, действительно чеченцы? – поинтересовался я.
– Да, а что? – спросил Беслан. – Так ты меня прощаешь? Я же говорю, извини?
Извинение из уст чеченца было для меня новостью.
– А денег я тебе дам, сколько захочешь… – еще раз сказал Беслан. Он был полноват, а руки у него – удивительно пластичные.
Не успели мы напиться, как снова затрезвонили в дверь. Лена щелкнула замком, и тут в прихожую вломился мужчина крепкого телосложения.
– Папа! Тимур! – вскрикнула Лена.
Дочь Гершеновича забыла посмотреть в глазок. Тимур тем временем, не снимая кожаной куртки, прошествовал в зал и крикнул (но нельзя было понять, дурачится он или его надо воспринимать всерьез):
– Стоять, смирно! Родина в опасности! Почему вы не там, где ваш народ?
– Где Настя? – спросил Гершенович. Указательным пальцем Тимур показал на меня.
– Анастасия мертва! Этот ее убил!
– Где она? Куда ты ее дел?
– Ее уже нигде нет. У меня есть знакомый в морге.
– Что?
Гершенович заплакал. А как еще он мог поступить в данной ситуации? Надо было играть в спектакле до самого конца.
– Чего ревешь, как женщина?
– Я ее любил, – простонал Гершенович.
– Я тоже ее любил, и Беслан ее любил, и Яраги ее любил, и вот этот ее любил, – указал Тимур на меня. – А, кстати, где мой пистолет?
Вопрос был явно адресован мне.
– Выбросил его в Свислочь, – сказал я как можно более спокойней и уверенней. Тон, которым я это произнес, не оставил у Тимура сомнений в правдивости моих слов.
– Жаль. Хороший был пистолет. Лучше оставил бы его себе.
– Так я его и оставил, – еще более спокойней и уверенней произнес я.
– Правда? – обрадовался, как ребенок, Тимур. – Тогда, пожалуйста, верни мне его… – сразу позабыл он свое пожелание.
– Надеюсь, ты больше не будешь тыкать мне пистолетом в затылок? – Я протянул оружие Тимуру: пистолет отдельно, магазин – отдельно.
Тимур тотчас вставляет магазин в рукоятку и передергивает затвор. Я весь напрягся. Гершенович все еще плачет.
– На, лучше застрелись, раз ты такой несчастный, – говорит Тимур и протягивает Гершеновичу пистолет.
Гершенович берет оружие и подносит его к собственному виску. Я вижу, как палец его на спусковом крючке дрожит.
– Ты не мужчина, ты даже застрелиться не можешь… – бурчит Тимур. В это время сухо лязгает курок. Лицо Гершеновича застыло, рука судорожно вцепилась в рукоятку оружия. Неожиданно он вскакивает и изо всех сил бьет Тимура стволом пистолета по зубам. Тимур отпрянул, зацепился за ковер и грохнулся на пол. Чеченцы загоготали. Очевидно, подобные сцены им были не в новинку.
Тимур вскочил, сжав кулаки, но Яраги, крепкий парень, ударом поймал Тимура, и тот оказался снова на полу. Из его губы струилась кровь. «Ну, – подумалось мне, – тут без стрельбы никак не обойдется».
Однако обошлось. Тимур хмуро уселся за стол. Яраги что-то сказал ему по-чеченски. Тон у него покровительственный. Убитой женщины словно не существует. Это тема – табу. Я все время жду звонка в дверь. Я уже хочу, чтобы пришла милиция.
– Хорош? – спрашивает Яраги у меня по-русски, показывая на Тимура. – Он – чеченец наполовину, поэтому такой бешеный. Мы тут решили обсудить то, что происходит у нас дома, а не буянить или паясничать. Представь себя на месте рядового российского гражданина, слегка уставшего от ежегодных путчей. Итак, несколько фактов, всем известных. Президент, пьяную рожу которого последние недели мы видели почти ежедневно, вдруг исчез с телеэкранов. Вместо него появился Виктор Илюшин с сообщением о носовой перегородке. Эта российская свинья, иначе не назовешь, удрала от ответственности. На другой день войска вдруг пришли в движение, хотя не истек срок ни ультиматума, ни начала переговоров. Разве он мужчина? Вот Гершенович мужчина, осмелился нажать на курок…
…Уже далеко за полночь. Чеченцы пьют не хуже россиян. Но они и есть россияне. Или не россияне? Они не хотят быть россиянами, они хотят быть чеченцами. Я – белорус, я тоже не хочу быть россиянином, как бы это гордо для кого-то не звучало. Я пью, как белорус, а чеченцы пьют просто, как чеченцы. Оказывается, чеченцы пьют здорово, по-черному, почти как белорусы. Мне пора домой. Лена не пускает меня.
– Не уходи, ты нетрезвый, тебя заберет милиция. Я прошу тебя…
Руки ее скользят по моей одежде… Я ухожу. Какая милиция меня заберет? Я сам заберу милицию! Оставаться мне нельзя. Через месяц она скажет: «У меня от тебя ребенок! Папа свидетель, что ты со мной спал!». Не хватало еще, чтобы я, в довершение ко всему, стал зятем Франца Гершеновича.
…На следующий день я сижу в офисе за телефоном. Голова раскалывается, как старый мартен на ремонте.
Приехал Гершенович, ворвался в кабинет и заявил:
– Мы богаты! Юра! Мы – богачи!
– Не понял… Это что у тебя, с перепоя?
– Мы заработаем по сто тысяч. Долларами! Ты не хочешь сто тысяч долларов?
Гершенович был возбужден, словно бык на корриде. Он убежал куда-то и через час привел «черненьких» людей в кожаных куртках. Это вчерашние чеченцы. Они свежи, как ягодки граната. А вот я выгляжу, как пожелтевший парниковый огурец.
М-да. Гершенович с перепоя выглядит хоть, как приличный грунтовый огурец. Не идет мне спиртное. Очень туго потом выходит. Дня на три я теряю форму. А кому оно, в принципе, идет?
– Ты еще занимаешься обналичкой? – задает вопрос Гершенович.
– Да.
– Надо ребятам обналичить… Спрашиваю:
– Этим?
– Этим.
– Сколько?
Глазом не моргнув, Гершенович говорит:
– Пять миллиардов белорусских рублей.
Я подтягиваю к себе калькулятор, но и так мне ясно, что пять миллиардов белорусских рублей – это где-то в районе полумиллиона зелененьких. Таких денег у меня не было, нет и не будет никогда.
– Ты не сомневайся, Юрий, я тебе помогу. У меня есть выходы. Деньги на наш счет пойдут от одного совместного предприятия. Белорусско-кипрского, – заговорщицки шепчет Гершенович.
Да, у Гершеновича обширный круг знакомств, масса входов и выходов. Даже чересчур.
– А что за договор мы составим под обналичку? Слишком большая сумма.
– У нас в уставе есть торговля произведениями искусства, – говорит Гершенович. – Или мы станем учредителями иностранного банка.
– Так это же вывоз капитала!
– Пока до нас доберутся, все изменится, к власти придут новые люди. Юра, я тебя прошу помочь!
– Да любая налоговая инспекция…
– Она не появится у нас года три, понимаешь? Все схвачено…
Короче, меня повязали сами же чеченцы. Пять миллиардов белорусских рублей, которые надо было превратить в пятьсот тысяч долларов, затмили в те дни для меня все на свете.
Я веду переговоры со своими партнерами, тщательно выбирая слова, чтобы не испугать их огромной суммой. Потом, разговаривая с Гершеновичем, слышу, как чеченцы спорят о том, что в район Моздока еще месяц назад самолетами военно-транспортной авиации переброшен личный состав нескольких частей Псковской и Тульской воздушно-десантных дивизий. Приблизительно триста человек с соответствующим вооружением и техникой утром тридцатого ноября убыли из расположения частей на аэродром стратегической авиации в Моздоке. Десантники расквартированы неподалеку от аэродрома. Продолжается подвоз к ним оружия и техники. Из разговора чеченцев я узнаю: русские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но маскируют это зимней боевой учебой. Какая учеба, когда в ночь на первое января чеченцы разгромили русских в пух и прах на подступах к Белому дому в Грозном! Об этом мне утром поведал дед Матейко.
Я молчу. До сегодняшнего дня я считал, что живу, как у Бога за пазухой. Ни тебе стрельбы, ни крови, никакой опасности! Крути себе диск телефона, обмывай стодолларовые сделки и знай, что ты никому не нужен, никто тебя не тронет. Лафа!..
Через день на счет нашей фирмы приходит гигантская сумма. Почти миллиард белорусских рублей. Дело пахнет жареным. Гершенович тут же снимает со счета крупную сумму на представительские расходы. Он спешит оборудовать офис за счет чеченских денег. Те не против. В офисе появляются компьютер, факс, холодильник и новенькая, то есть молоденькая секретарша, которая достаточно умело крутит перед Гершеновичем задницей. Пока я занимаюсь обналичкой, Гершенович занимается секретаршей, вернее, ее телом. Кажется, для него ничего не существует, кроме этой девушки. Гершенович обходится с ней, как с живым факсом или компьютером, поглаживает любуется. Он в ней души не чает, пространно рассуждает о ее достоинствах при ней же. Но дамочка относится к такому сорту женщин, что лучше оденет вчерашние чулки, чем станет любовницей Гершеновича за так. Но теперь, когда запахло большими деньгами, Гершенович идет на все, и подаркам и угощениям числа нет.
Чеченцы прочно оккупировали наш офис, днюют и ночуют в нем. Они сопровождают меня, как телохранители, когда я езжу забирать наличные. У чеченцев одна тема бесед и споров: говорят о том, что в связи с обострившейся обстановкой в Чеченской республике им срочно необходимо закупить оружие и выехать на родину. Для защиты государственных коммуникаций и важных объектов, пресечения актов бандитизма и диверсий, исключения и воспрепятствования подходов российских вооруженных формирований. Пока они занимались торговлей в Минске, в суверенной Беларуси, у них сложилось впечатление, что Чечня – это независимое государство. Что они, телевизора не смотрят? Разве Кремль отпустит Чечню в свободное плавание?
– Но Беларусь отпустил же? А мы, чеченцы имеем больше шансов не быть похожими на русских, чем вы – белорусы! – кипятится Яраги.
– До поры до времени! – говорю я. – Краник с нефтью у них под контролем. Только мы, белорусы, рыпнемся, они тут же заморозят города. Правительство летит, назначаются новые выборы, и к власти приходят угодные Кремлю силы. Всем руководит тот, у кого краник с нефтью. А затем мы превращаемся в Северо-Западный край.
– Нет, – говорит Яраги, – они не одолеют Кавказ. Нам поможет мусульманский мир, а вам пусть помогает Запад.
– Что же мусульманский мир Азербайджану не помог? Армения вон какая маленькая, а забрала пол-Азербайджана…
– Это еще как сказать… – отвечает Яраги.
Я меняю в день по двадцать-сорок тысяч долларов, не решаясь на крупную сделку. Моя прибыль уже давно перевалила за десять тысяч и упакована в жестянку под кроватью у деда Матейки. Это на случай, если нагрянет налоговая инспекция или попросту милиция и, если меня не упекут за решетку, то, по крайней мере, я окажусь не у дел. Но, кажется, все тихо. В банке, который нас обслуживает, вращаются и не такие суммы.
Когда Гершенович увозит на «Мерседесе» секретаршу домой, в его кабинет почти всегда приезжает Лена. Она в курсе всех дел. Девушке явно нравится, когда я за ней ухаживаю. Не знаю, или деньги ей не дают покоя, или она действительно хочет иметь опору в жизни? Чувствуется, что девушка ищет эту опору преимущественно в моих штанах. Но я слишком озабочен работой.
Наконец, я решаюсь играть по-крупному. И вот, все документы оформлены, и я жду денег, которые по договоренности мне должны привезти Прямо сюда, в офис.
В конце дня ко мне заходят два солидных человека. Где я их видел? Так это же офицеры-отставники, с которыми я под Новый год выпивал в баре «Фиолетового лимона»! Они увидели меня, и на их лицах выразилось некоторое замешательство.
– Это ваша фирма заказывала обналичить?
– Наша…
– Это ваша подпись стоит под платежным поручением?
– Как видите.
– Ну и дела, парень, а мы-то думали!..
– И я думал, что вы спокойненько на пенсии коньячок попиваете… – не уступая гостям и не считая нужным поддерживать субординацию, ответил я.
– Н-да. На коньяк не хватит с пенсии. На пиво, и то не хватит… – говорит один из бывших военных.
Их фирма заключила с нашей «липовый» контракт на поставку в одну из третьих стран кожаной обуви. Кому какое дело, что деньги поступили вперед? Предоплата! Недостающие документы сгорят во время умышленного поджога.
Отставники вываливают из «дипломата» пачки долларов и усаживаются в креслах, очевидно ожидая, что я стану пересчитывать деньги.
– Сколько здесь, – спрашиваю я.
– Сто пятьдесят тысяч, – отвечает полковник. – Пересчитай… Здесь тысячу пятьсот стодолларовых купюр.
– Пятнадцать пачек? – я не в силах пересчитать даже пачки. Я зову из соседней комнаты Яраги, Тимура и Беслана, и они быстро начинают считать доллары. Особенно это удается Беслану. Тонкие пальцы шулера нежно и быстро касаются «зелени».
При виде чеченцев лица бывших военных каменеют. Они даже отказываются от коньяка. Они уходят, поигрывая желваками на скулах. Вполне вероятно, что скоро мной займутся если не сотрудники ФСК, то ребята из белорусского КГБ. По мне плачет тюрьма. Куда я влип с этой «зеленью»?
Мне остается только запереть деньги в металлическом ящике, который мой начальник упрямо называет сейфом. Ясное дело, что домой сегодня я ночевать не пойду. Пусть Матейко не обижается.
– Нас заложат… – говорю я чеченцам. – Заложат вот эти военные…
– Откуда ты знаешь, что это военные? – спрашивает у меня Тимур.
– Это случайные знакомые. По-моему, как говорят бывалые люди, надо рвать когти…
– Не паникуй, – произносит Яраги. – Доллары найдут своего настоящего хозяина всегда…
Деньги в металлический ящик не попали. Яраги отсчитал пятьдесят тысяч долларов и попросил меня на эти деньги набрать команду головорезов. По дружбе. И за деньги. Хорошие деньги. Навербовать, где угодно: в Прибалтике, в Польше, в Минске. Чтобы воевать в Чечне. Человек десять. Но – специалистов.
– Нет, – сразу же говорю я.
– Ты забыл о трупе женщины. Ты забыл об Анастасии, – говорит Тимур. – Отпечатки пальцев давно сняты.
Я молчу. Мне ничего не идет в голову. Неужели это шантаж, и все подстроено: и убийство Анастасии, и приставания Лены… Кто они мне, зачем я с ними связался?
– Все, что останется от этой суммы – твое. Контракт заключай на месяц, но лучше на три. Все «обострения» решай через нас. Ты понял? – голос у Яраги несколько суховат. Он не смотрит на меня. Я не смотрю на него.
Наверное, такова моя участь. Я получил повышение. Раньше я нанимался воевать сам, теперь буду уговаривать воевать других.
Условия контракта, который я должен заключать с наемниками, должен придумать сам.
Вначале я чуть было не подался в Прибалтику, с целью выйти там на центр киллеров, чтобы снять с себя всю организационную работу. Но подумал, что возня с паспортами займет уйму времени. А в Чечне развязана настоящая война. Россияне бомбят города, и вся Чечня, со слов Яраги, становится под ружье. В город Грозный подъезжают все новые отряды, сооружаются завалы и баррикады, оборудуются огневые точки, минируются подходы и особо важные объекты. Спешно чинят (с привлечением пленных российских военнослужащих) танки. Слишком много времени… Для чеченцев был дорог каждый день. Пришлось разыскивать ребят здесь, в Минске.
Тем временем Гершенович предлагает мне переехать жить к нему на квартиру.
– Девка по тебе сохнет, – объявляет он. – А тебе-то что? Она хоть б…во бросит.
Я пока отказываюсь. Тогда они действуют более хитро: устраивают дома пирушку, пригласив меня, но получилось на самом деле что-то вроде свадьбы. Посаженные отцы – чеченцы – кричат «горько». Я вяло целую Леночку. Зачем она мне? Может, это только дополнительное условие негласного контракта, заключенного мной с чеченцами и Гершеновичем? Но, кажется, девушка искренна со мной. По крайней мере, ни один из чеченцев больше не приближается к ней. Да и они, кроме Тимура, по росту не подходят ей. Хотя, я подозреваю, она спала с ними со всеми. Черт побрал бы их всех! Мне хочется все бросить и исчезнуть, но очень уж большие суммы вращаются в этой компании. Если мне удастся продержаться, я обеспечу себя лет на десять. Тогда тихо и мирно устроюсь где-нибудь в лесной деревне. Боже мой, зачем так глупо мечтать?
И вот, всего за неделю я с помощью Тимура собрал бригаду. Особенно трудно было завербовать первого человека. Пришлось восстанавливать старые связи.
…Передо мной высокий, грузный не по годам, очень молодой человек.
– И придется убивать русских? – спрашивает парень. Он еще не дал согласия, значит, еще не наемник. Только кандидат.
– Думаю, да. Контракт пока заключаем с вами на месяц, а потом видно будет.
– А сумма контракта?
– Аванс – один миллион рублей, участие в операции – пять миллионов, удачное завершение операции – три миллиона. Естественно, по курсу в валюте.
Не заметив на лице кандидата в наемники особого удовольствия, я поспешно добавил:
– При непредвиденных осложнениях – доплата: уничтожение БТРа, танка, самоходной артиллерийской установки – по миллиону. Ну, а командиру, как обычно, двадцать пять процентов надбавка.
– Идет, – сказал наемник.
– Вылет через три дня. Завтра с утра – подготовка на нашем полигоне.
Понимая, что разговор на этом окончен, наемник встал и начал топтаться на месте, не в силах решить, как быть: подписывать контракт прямо сейчас или еще оттянуть до вечера, до завтрашнего дня. Но я, заметив замешательство на лице парня, сам быстро протянул ему бумагу и ручку.
– Чего ты так волнуешься? – говорю я. – Аж рука вспотела! В первый раз, что ли?
– В первый, – говорит парень.
– И, пожалуйста, списочек родных, знакомых, близких…
– А это еще зачем?
– На всякий случай. Для страховки…
Лицо у парня вытягивается. Я уверен, что к вечеру он будет пьян, как сапожник.
…Через неделю дни начинаются занятиями с командой на базе одного спортивного клуба.
Ребята как на подбор: молодые, высокие, широкоплечие. Все в спортивной форме. Большинство из них я не знал, с остальными не надо было знакомиться. Впрочем, называть их новичками было бы не совсем верно. За спиной у некоторых был Афганистан, у других – контрактная работа в Боснии, в Приднестровье.
Я выстроил своих подчиненных в шеренгу, подошел к одному из незнакомых парней и, ткнув пальцем ему в грудь, спросил:
– Фамилия?
– Петрович, – бодро ответил тот.
– С такой фамилией тебя там на первом столбу повесят, если поймают, – сказал я. – Кстати, все знают, куда мы направляемся?
– Так точно, – послышалось неуверенно.
– Это хорошо, что знаете, – сказал я. – В таком случае, вы должны помнить, что надо быть всегда готовыми к чему?
Парни молчали. Я резко повернулся и нанес несильный удар ногой в живот одному из новичков. Тот упал на землю, но тут же вскочил.
– Вы должны быть всегда готовы отразить нападение противника, то есть – к любым неожиданностям, – заключил я.
Несколько шагов взад-вперед я сделал молча, потом неожиданно крикнул: – Снайпер!
Большинство членов команды упали на землю, но некоторые остались стоять на месте.
– Смертники мне не нужны, – как можно более мрачно сказал я. – Надо тренироваться. А времени у нас мало. Так что если кто думает, что едет на курорт, предлагаю, пока не поздно, бежать обратно домой.
– Слушай, командир, – не выдержал один из новичков, – да мы пороха нанюхались не меньше твоего, когда в Афгане были. Что ты нам лекции читаешь?
Я не спеша подошел к говорящему и пристально посмотрел ему в глаза.
– То, что ты пороха понюхал немного, – спокойно сказал я, – это хорошо. А вот то, что отвечаешь за остальных, плохо. То, что тебе не нравятся мои лекции, мне, собственно, наплевать, но то, что ты вслух возмущаешься этим, мне не нравится. Возмущаться будешь перед своей мамой, когда вернешься. Если, конечно, вернешься. А это будет не так-то просто, если ты не попридержишь свой язык. Я понятно говорю?
Парень молчал.
– Значит, понятно.
Потом мы выехали на спортивное стрельбище и стреляли до темноты из мелкокалиберных винтовок.
– Остальное вспомним на месте, – было мое последнее напутствие.
…Тимур спросил меня:
– Ты хоть раз был в Чечне?
– Несколько лет тому назад мне приходилось бывать в Чечне. Правда, всего несколько дней.
– Вот и прекрасно. «Кавказского пленника» Льва Толстого, надеюсь, тоже читал?
– Читал. И «Кавказскую пленницу» смотрел.
– Ну, так значит, что такое Кавказ, тебе рассказывать не надо.
Я пожал плечами.
– В общих чертах ситуация такая. Если раньше на территории этой республики ежегодно добывалось до десяти миллионов тонн нефти, то во времена правления Дудаева данный показатель упал до двух миллионов тонн. Основная часть полученной валютной выручки уходит на закупку оружия и обогащения узкой коррумпированной правящей прослойки. Плюс – на развитие наркобизнеса. Поэтому мы имеем право на часть доходов от наркотиков, поскольку это нефтяные деньги, – озабоченно сказал Тимур. – Наркотики надо доставить оттуда, из нашей республики…
– Это сложно, – сказал я. – Это опасно. Видишь ведь, что сейчас там творится…
– Я понимаю, – пробормотал Тимур, – но нужна постоянная денежная подпитка тех, кто там воюет…
– Сколько будет стоить?
– Тебе – десять процентов… А потом – потом видно будет, – улыбнулся Тимур.
– Но в чем моя задача?
– Доставить кейс с деньгами в Нальчик. Даже не заезжая в Чечню. Понял?
– Понял, а команда?
– Надо управиться за двое-трое суток… Мы пока организуем автотранспорт и прикрытие для группы наемников…
…Последний день в Беларуси, в Минске. Кажется, я уже вообще забыл об Анастасии, я все меньше думаю о ней и все чаще о Лене. Я уеду, а чем будет заниматься она? Сколько оставить ей денег? Или вообще не оставлять? Если деньги дать деду Матейко, он сойдет с ума и сдаст их в Красный Крест.
И вот наступил момент прощания с Леночкой.
У тротуара плотным рядом стояли машины, и такси, медленно проехав несколько десятков метров в поисках свободного места, наконец, остановилось просто посреди проезжей части. Водитель с тревогой начал оглядываться по сторонам, но мне и Лене, казалось, до этого не было никакого дела.
Мы сидели, обнявшись, застыв в бесконечном поцелуе.
– Приехали, – нетерпеливо напомнил водитель. Но в его голосе не было злости. Мы ему чем-то очень понравились, и шоферу хотелось расстаться с нами по-хорошему. Ему приглянулась Лена, моя рыжеватая красавица. Таксист, наверное, сходил с ума от красивых женщин и даже незнакомкам, казалось, готов был простить все на свете.
– Приехали, – снова тактично напомнил он, но я и Лена и на этот раз никак не отреагировали на его замечание.
– Молодые люди, – жалобно взмолился таксист, – меня же оштрафуют!
И, словно в подтверждение его слов, позади засигналил автобус, который не мог объехать машину.
– Ну вот… – я и Лена, наконец, оторвались друг от друга.
– Извини, старик, – я быстро полез в карман, достал оттуда бумажник и протянул водителю несколько крупных купюр.
– Я и говорю: чего сигналить? Куда торопиться? – улыбнулся таксист, с готовностью принимая деньги. – Что за народ пошел!
– Будь осторожен, – ласково сказала Лена, сжимая руку. – Не выпади за борт самолета, не кушай испорченных продуктов.
– Я учту это.
– Слушай, как быстро пролетело время!
– Да, быстро.
– Ты будешь вспоминать меня?
– Каждый день.
– Врешь!
– Почему?
– Все мужчины врут.
– Логично.
– Только посмей не вспоминать!
– А ты?
– И я буду.
– Все женщины так говорят.
Лена засмеялась и нежно поцеловала меня в щеку.
– Я – не все.
– Надеюсь.
– А, может, все-таки я провожу тебя до аэропорта?
– Нет, не надо.
– Ну, как знаешь. Ты мне обязательно звони.
– При каждом удобном случае.
– Смотри мне!
Позади уже образовался длинный воющий хвост машин. Водитель опять нетерпеливо заерзал.
– Ну, все, – сказала Лена. Мы еще раз поцеловались на прощанье, и она выскочила из такси. Машина тут же резко рванула с места.
До вылета самолета оставалось еще около часа. Я прошел в зал ожидания и выбрал себе свободное место. Я уже начал жалеть, что приехал сюда так рано, что не захотел, чтобы Лена прощалась со мной здесь, в аэропорту. Но тут же убедил себя в правильности своего решения. Кажется, у меня с ней зашло очень далеко, и это плохо. По крайней мере, для меня может окончиться плохо.
Я интуитивно чувствовал, что эта девушка таит для меня какую-то опасность, но в чем она заключается, никак не мог понять. Смешно! Я, профессиональный разведчик, наемник, проведя с ней не одну ночь в постели, почти ничего не знаю о ней! Даже побывав столько раз у нее дома!.. Я не знаю, где она работает. И работает ли вообще. Кто она? Откуда у нее связи с этими чеченцами? И случайно ли она появилась в моей жизни?
А, может, это проверка? Но зачем? А что, если сейчас у меня отберут этот кейс с деньгами? Я оглянулся. Ничего подозрительного. Наоборот, за мной присматривает Беслан. Сулейман – на улице. Но их только двое.
Мне было о чем подумать.
– Может, он глухонемой?
– И слепой, к тому же.
До меня только теперь дошло, что меня о чем-то спрашивают. Передо мной стояли парень с девушкой, лет по восемнадцать каждому. Девушка держала в руке сигарету. Парень, скорее, не стоял, а висел на ней, обняв свою подругу одной рукой, немного покачиваясь. Кажется, он был пьян. Он, почти не мигая, смотрел на меня, и в то же время словно совсем не видел ничего своими мутными глазами.
Мне сразу не понравилась эта парочка, если не сказать больше, но я сдержался и спокойно, даже на удивление самому себе, произнес:
– Вы меня о чем-то спрашивали?
– Кажется, ты ошиблась. Он не глухонемой, – покачал головой парень.
– И, возможно, даже не слепой, – добавила девушка, пряча кривую улыбку.
– Так вы меня о чем спрашивали? – уже более резко повторил я.
– Дядя, у тебя спички есть? – спросил парень.
– Нет, только зажигалка.
– Остряк, – ухмыльнулся парень. – Люблю остряков. Ладно, давай зажигалку. А то Нинок закурить хочет, прямо сил нет. Для нее сигарета, как для тебя воздух, представляешь?
– Вполне.
– Тогда ты нас понимаешь.
Я достал из кармана куртки зажигалку и протянул девушке.
– Благодарствуем, – ответил за нее парень. – Ты только не обижайся, что мы с тобой по-простому. У нас горе, понимаешь?
– Замолчи, – недовольно сказала Нина, делая длинную затяжку и возвращая мне зажигалку.
– Ну, почему… Я вижу, у него добрые глаза, мне он понравился. Я хочу ему все рассказать.
– Пойдем, Славик.
– Ну, подожди. Ты посмотри, какие у него глаза.
И парень снова обратился ко мне:
– У меня, то есть у нас горе, понимаешь? Я пожал плечами.
– Мы сегодня проиграли ее в очко, на одну ночь. Этим двум козлам…
Нина сделала очередную длинную затяжку и толкнула парня плечом:
– Да замолчи ты наконец! Пойдем!
И она потянула его за собой. Девушка, которая еще минуту назад улыбалась, теперь смотрела на своего приятеля почти с ненавистью. И я понял, почему ее улыбка была кривой. Эта улыбка была обыкновенной маской, за которой она пыталась скрыть свою боль.
– Ты нас понимаешь, да? – пробормотал, упираясь, парень, но я уже не смотрел в их сторону.
На душе у меня как-то сразу стало противно, и о Лене думать уже не хотелось.
Я взглянул на часы. До посадки на самолет оставалось чуть меньше получаса. А там – опять проблемы: как добраться до Нальчика? Ведь кейс, да еще с деньгами могут проверить!..
По телевизору показывали Грозный – остовы многоэтажек, бетонные столбы, несущие опоры – скелеты уютных некогда жилищ. Диктор рассказывает о пленных боевиках. О том, как их допрашивают. Потом препровождают в Моздок. Говорит, что есть свидетельские показания, будто часть таких людей просто безрассудно расстреляна. Разумеется, это всего только свидетельские показания, неподтвержденные другими показаниями. Они требуют тщательной проверки и расследования. Это дело прокуратуры, но с военной прокуратурой и заместителем генерального прокурора корреспонденту не дали встретиться. Только обещали встречу. А в лагерь для военнопленных пока никого из инспекторов не допустили.
Я поднялся и подошел к окошку регистрации. Сзади ко мне прижался подозрительный тип. Вот он толкнул, вроде нечаянно, коленкой кейс. Проверяют, что в нем? Казалось, все присутствующие в этом зале смотрят на меня. Мне уже хотелось исчезнуть отсюда как можно быстрее. Хоть бы и в Ростов-на-Дону… Но если честно, лететь не хотелось. Конфликт в Чечне казался мне очередным абсурдом. Россия со всей этой бойни хочет получить как можно большую выгоду, но, кажется, она завязнет там в кровавой грязи.
Я давно понял, что политика – это нечистая игра, но до сих пор не мог привыкнуть, что в этой игре в расчет идут не деньги, а целые народы, тысячи, десятки тысяч жизней.
«Впрочем, – подумал я, – все, наверное, просто от того, что я никак не могу привыкнуть, что, находясь в своей родной республике, работаю на чужое государство. Даже теперь не знаю, на какое: чеченское ли, российское ли?».
Наконец, объявили посадку на самолет «Минск – Ростов-на-Дону». Я потоптался на месте, и, словно раздумывая, крепко сжимая ручку «дипломата», поплелся на посадку. На душе теперь было спокойно, только немного грустно. Почему – я и сам не знал.
…В Ростове-на-Дону, как и было условлено, меня встретил Яраги, который вылетел туда на день раньше. Он на машине и будет меня сопровождать до Нальчика. Или это я буду его сопровождать. Дело в том, что каждый милиционер считает за обязанность проверить у чеченца документы. Разумеется, дипломат в руках Яраги вызовет непреодолимое желание у милиции поинтересоваться, что в нем.
Мне необходимо позвонить в Минск, на квартиру Лены. Мы подъехали к переговорному пункту.
– Возьми кейс, – сказал Яраги, – а вдруг милиция меня проверит! И рацию…
Я набрал нужный номер телефона. На том конце провода долго не отвечали, наконец, послышался негромкий, немного сонный женский голос:
– Алло…
– Ага, – удовлетворенно сказал я и почти закричал в трубку:
– Алло, Лена?!
На другом конце провода молчали.
– Алло, Лена, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Это я, Юрий!
Тут же послышались короткие гудки.
– Черт побери! – я выругался. – Что это за связь такая, я же бросил жетон, почему не сработало?
– Набери еще раз, – посоветовал стоящий в очереди за мной мужчина с бородой.
– Наверное, эту штуку пока не накормишь до отвала жетонами, ни за что не дозвонишься, – сказал я. Мне надо было с кем-то поговорить. Не бурчать же себе под нос проклятья, как старик какой-нибудь! Я еще раз набрал номер. На другом конце провода было занято.
– Что, краля изменила? – неожиданно спросил бородач.
Я ничего не ответил, вся энергия подозрительности и накопившейся злости мгновенно вскипела во мне. Я резко взмахнул рукой и ударил в лицо наглецу. Тот отпрянул, повернулся и побежал, испуганно оборачиваясь.
Однако эта выходка дорого мне стоила. Очевидно, женщины всегда делают мужчин неврастениками. Я понял, что на минуту потерял самообладание. Но картина, которая вспыхнула в моем мозгу сразу после произнесенных слов о том, что «краля изменила», была настолько явственна и болезненна, что я не смог удержаться. Перед моими глазами встала спальня с двумя-тремя гогочущими чеченцами и голой Леной, которая готова ради денег на все.
Не успел я отойти метров десять от переговорного пункта, как дорогу мне перегородили незнакомые люди. Целая банда.
– Это он? – спросил лысый мордоворот с кулоном на груди.
– Да, – ответил мужчина с бородой, который недавно сцепился со мной возле телефонной будки.
Нужно было как-то реагировать. Взяв свой кейс, я невозмутимо сказал:
– Ну ладно. Я знаю, сейчас вы мне скажете о том, что есть местные правила… И такие поганые насекомые, как я, не имеют права сюда приходить. Правильно?
Все трое смотрели на меня с издевательскими насмешками, понимая, что я у них в руках.
– Нет, – сказал «борода». – Это было бы напрасной тратой времени. Мы просто изуродуем тебя.
– Так-так, – протянул я, – понимаю…
Я сделал шаг вперед, и неожиданно для этих типов, используя кейс как щит, стал молотить уродов, раскидывая их в стороны. Я сразу нанес несколько ловких и точных ударов, но знал, что барбосы очень скоро могут очухаться, и пока Яраги в машине сообразит, что к чему, либо должен продержаться, либо…
Банда перешла-таки в наступление. Хорошо натренированные тела ловко уворачивались от моих ударов, нанося ответные. Это могло продолжаться еще долго, у меня хватило бы сил отбивать шквал, если б мне не набросили на шею шнурок. Один из нападавших затягивал шнурок сзади, двое других молотили меня в лицо, в живот, в пах. Я пытался, подцепив пальцем, оттянуть шнурок, но и это мне не удалось. Все же время от времени я находил в себе силы отбиваться ногами, но этой защиты было недостаточно.
Я понимал, что Яраги встревожится моим долгим отсутствием. Кроме того, моя рация молчала, сколько бы я не взывал к ней. Она работала только на прием. Драка происходила на месте, просматриваемом с шоссе.
– Юрий! Юрий! Ты меня слышишь? – звучала рация, включенная на прием. Я же не мог ответить. – Ты что, баб там клеишь?
Разъяренная шайка заканчивала свою расправу надо мной. Я понял, что это конец. Они обязательно заберут кейс. Бандиты как бы соревновались друг перед другом в жестокости. Наконец, последнее слово осталось за «бородой», который с остервенением принялся добивать меня ногами, издавая при этом истошные крики.
Я закрыл глаза. Мне уже было все равно, что со мной сделают. Я больше не пытался сопротивляться. Но вдруг почувствовал, как мой мучитель отпрянул и удары прекратились. Открыв глаза, я увидел того валявшимся навзничь на земле. На моей груди стояла чья-то нога. Я поднял глаза и увидел Киреева, сослуживца по Афганистану. Откуда он только взялся?
– Отпустите его, он со мной! – крикнул властно Киреев. Он был малый не промах.
– Поцелуй меня в задницу, – процедил сквозь зубы тот, который держал меня сзади за шнурок.
Киреев принял оборонительную стойку и так же спокойно, но уже с угрозой произнес:
– Назад. Я серьезно говорю. Ты понял, тощее дитя беременной козы?
Лысый с грязным ругательством отпустил меня, не забыв напоследок пнуть меня в спину коленом.
– Спасибо, – нарочито вежливо процедил Киреев.
– Киреев, не лезь ты в эту историю, – поднимаясь с земли, сказал «борода». – Хоть ты и работаешь на КГБ, мы тебя уроем!
– Слушай, как тебя зовут? – пытаясь отдышаться, спросил я.
– Металлист! – ответил «борода».
– Металлист? – у меня поднялись брови. – Я хочу тебе сказать, очень рад, что нашел тебя.
– Да? Почему же?
Размахнувшись, я изо всех сил нанес Металлисту страшный удар в челюсть. Тот рухнул на землю, ударившись головой о камень. Мгновенно на меня сзади обрушился ответный удар. Дружки бросились Металлисту на помощь, но Киреев отбрасывал их одного за другим.
Я почувствовал поддержку, распалился с новой силой, и мы, уже вдвоем, довольно быстро расшвыряли шайку. Драка привлекла внимание прохожих, и я отчетливо услышал, что кто-то собирается вызывать милицию. Это услышал и Киреев.
– Очень жаль, но нам придется уйти, – сказал он. – Пошли, Юра.
Сопровождаемые воплями бессилия и боли тех, кто только что жаждал расправы со мной, мы не спеша пошли прочь.
А Яраги в это время уже бежал, оставив машину и едва не угодив под колеса встречного автобуса, по направлению к телефонным будкам. Он учуял недоброе, и его маленькое юркое тело мчалось, как торпеда. Он был готов ко всему. Кроме того, что со всего разбега налетит на меня.
Я мирно беседовал с Киреевым. По выражению моего лица Яраги мгновенно понял, что раскрываться не следует.
– Эй, стойте, ребята… – Яраги, растопырив руки, перегородил нам путь. – Вы не видели здесь одного парня? Он у меня из машины спер магнитофон и побежал куда-то туда…
– Нет, не видели, – ответил я. – Там четверо валяются, может, они знают. Спроси у них.
– О-о, спасибо! – и Яраги помчался дальше.
– Надеюсь, ты все-таки найдешь магнитофон! – крикнул вдогонку Киреев.
– Найду, найду, – не оглядываясь, ответил Яраги. Мы вместе с Киреевым пошли дальше.
– Здорово ты им вмазал!.. – похвалил я своего спасителя. – Откуда ты взялся?..
– Да и ты не промах… Я живу здесь, – ответил Киреев.
А кто они, собственно, такие? – поинтересовался я, стараясь говорить так, чтобы Киреев не почувствовал интереса, с которым я задал вопрос.
– Местные придурки… После Афгана. Дети войны. У них есть всякие прозвища, я даже не все знаю.
– Говоришь, дети войны?
– Да у них целый отряд! Мозги давно неправильно работают… Накурятся какого-нибудь дерьма, а потом буянят. От них одни неприятности.
– Не понял, – сказал я. – С законом, что ли?..
– Да со всеми… Видишь ли, они ничего не понимают; они не понимают, что такое хлеб, что такое земля, что такое, в конце концов, собирать металлолом для поезда метро!
– Ты мне собираешься проповедь прочесть, что ли? – заулыбался я, явно довольный доверием Киреева.
– Ты так и не понял, – вдруг сказал Киреев, – что такое эти ребята. Им только посули по сотке баксов, и они пойдут воевать против своих же в Чечне… Вот в чем вопрос…
– А, к слову, если тебе предложат то же самое? Что ты ответишь?
– Пошлю по матушке…
– А если тысячу зеленых, или не одну…
– Ну а сколько?
– «Кусок» в неделю!
Киреев подозрительно посмотрел на меня, и на этом мы распрощались.
…Я и Яраги мчались по автостраде из Ростова-на-Дону на юг, в сторону Кавказа. Я едва представлял, где находится Нальчик. Уверенно управляя машиной, Яраги продолжал мне выговаривать:
– Когда в следующий раз надо будет позвонить, я тебя не выпущу из машины. Напорешься на таких субчиков – деньги коту под хвост. Ты понял? Я кивнул.
В это время нас догнал старый добитый «жигуленок». В его салоне сидели хорошо знакомые мне парни, с которыми я полчаса назад дрался возле междугородних телефонов. Но больше всего меня поразило то, что за рулем автомобиля сидел Киреев. Я мысленно ругал себя за то, что затеял с ним разговор о наемничестве.
«Жигуленок» мчался на огромной скорости, нарушая все правила. На заднем сиденьи улюлюкали и потрясали кулаками четверо парней.
Я мгновенно схватился за пистолет, который бы припрятан в машине на всякий случай.
– Это Киреев! Он унюхал деньги, точно!
– Кто такой Киреев? – спросил Яраги.
– Мы вместе воевали в Афгане… На деньги падок, зараза.
«Жигуленок» начал обгонять нашу машину. Нас прижали к обочине.
– Черт их подери… Стреляй по колесам… – крикнул Яраги.
Едва я высунулся из салона, чтобы получше прицелиться, как из окна «ВАЗа» показался ствол автомата и прогрохотала очередь по нашей машине. Автомобиль пошел юзом. Я успел сделать один прицельный выстрел по колесу «жигуленка». Его занесло, но Киреев, знаю, попадал и не в такие ситуации.
Снова выпустили автоматную очередь. Теперь пули пронзили обшивку автомобиля.
– Бей по людям!.. – крикнул Яраги.
– У них автомат, не горячись…
– У меня есть граната…
– Давай ее сюда! Чего же ты молчал?..
Но было уже поздно, наш автомобиль безнадежно зашлепал пробитыми шинами по асфальту. Грабители вылезли из своего автомобиля и медленно приближались к нам. Яраги судорожно сжимал гранату.
– Спокойно, – сказал я и крикнул: – Киреев!
– Что, дорогой? – невозмутимо спросил Киреев, выхватывая из рук одного из нападавших автомат.
– За нами едет машина вооруженных до зубов чеченцев, – я блефовал. У меня не было выбора. – Если вы нас тронете хоть пальцем, вам вырежут кишки. Будь умницей, предлагаю тебе контракт: будешь инструктором по тренировке «серых гусей».
– Сколько положишь?
– Яраги, сколько ему положим на круг?
– Десять «кусков», – буркнул Яраги.
– Идет, – ухмыльнулся Киреев. Он резко повернулся и длинной автоматной очередью словно выкосил своих дружков. Такого вероломства я еще не видел. Парни рухнули один за другим на асфальт, так ничего и не успев сообразить.
– А теперь вы отстегнете ровно третью часть того, что у вас есть, – так же невозмутимо сказал Киреев.
Яраги попытался было броситься к Кирееву, но автоматная очередь высекла искры из асфальта у его ног.
– Стоять!
У Киреева были серьезные намерения.
– Клади пистолет на асфальт! – крикнул Киреев.
Я осторожно положил оружие перед собой.
– Давай, Юра, по честности! Всем будет ровно по третьей части того, что у вас есть! – невозмутимо сказал грабитель.
Я, не спуская глаз с Киреева, достал кейс и вытряхнул деньги на асфальт. Отгреб на глазах третью часть денег. Остальное погрузил обратно.
– Достаточно?
– Хватит! Теперь идите в поле!
Мы с Яраги, пятясь, пошли в поле. Ситуация была интересной. Я понимал, что стоит только на мгновение отвести от Киреева глаза, как он нажмет на спусковой крючок.
– Ну, Юра, надеюсь тебя встретить! – весело крикнул Киреев, рассовывая пачки с долларами по карманам. – И не наткнитесь на милицию. По дороге на Кавказ этих ментов, как собак нерезаных!
…Настроение у Яраги испортилось. По правде говоря, его у него и не было. Он стал мрачен и зол.
Потом неожиданно начал хохотать.
– Честный русский! Честный русский! – кричал он ухватившись за живот. – Я еще такого не встречал.
– Ну и дьявол с ним! – сказал я. – Хорошо, что в живых оставил, придурок поганый.
Мы, размахивая кейсом, шли по полю. Теперь нам необходимо было выйти к какому-либо селению и нанять автомашину, чтобы доехать до Армавира.
В Армавире мы взяли такси до Нальчика. Таксист оказался разговорчивым. На мой вопрос, что делается сейчас в Чечне, он сказал:
– Там заваруха. Я в Моздок еще до Нового года ездил. Скопления танков, бронетранспортеров, воинских подразделений на моздокском аэродроме уже нет: судя по всему, выдвинулись на позиции. Война, понимаешь, война. На всей зоне, занятой войсками, режим строжайшей секретности – пикеты, составы, часовые, оцепление, сложная система пропусков.
Таксист рассказывает много интересного, но мне плевать, что в декабре на дороге в качестве подозрительного десантники задержали самого директора ФСК Степашина. Вот если тормознут и нас, то плакали наши денежки.
– А пятого декабря в Моздок прилетал сам министр обороны Павел Грачев. По его словам, одна из основных задач приезда – организация переговоров по мирному урегулированию кровавого конфликта в Чеченской республике. Грачев собирался встретиться одновременно с лидерами чеченской оппозиции и генералом Дудаевым или с его полномочными представителями.
– А правда, – спрашиваю я, – что Дудаев с Грачевым шампанское пили?
– Пили, точно… Понимаешь, тут ведется интенсивная воздушная и наземная разведка, развернуты дополнительные технические посты, зенитно-ракетные комплексы, усилены пограничные заставы, поднята авиация ПВО, а они шампанское хлещут. Со стороны Грозного идет активная подготовка к обороне. Эвакуируются все ценности, Документы, вывозятся мирные жители. Правда, со слов разведчиков, кроме русскоязычных.
– Так сколько у Дудаева было сил?
– Да тысяч под двадцать!
– Ну, ты загнул! Тысяч десять, поверю, но не двадцать же…
– Ну, тысяч пятнадцать. Танков мало, БТРы там, артиллерия, средства ПВО и противотанковой обороны. Есть наемники и добровольцы из других северо-кавказских республик, Абхазии, стран Прибалтики, Украины, Афганистана.
Яраги мрачно молчит.
– Чеченцы хитро действуют, – таксист покосился на Яраги, – женщины и дети из местных обступали и останавливали боевые машины, а потом боевики разоружали солдат. Их развели по домам в окрестных селеньях в качестве заложников. Первая мысль при такой вести – облегчение: ведь это возможно только в том случае, если солдаты не стреляют.
Таксист явно симпатизирует русским. Яраги все больше хмурится.
– Слава Богу, у наших ребят хватило выдержки, мужества предпочесть неизвестность плена стрельбе по мирным жителям. Значит, еще не все потеряно. А на другой день Грачев заявил с возмущением: он не думал, что местное население так обойдется с наступающими. А почему, собственно, не думал? Не мешало бы и подумать. Военачальник вообще обязан думать о характере населения на территории, куда вступают его войска.
Таксиста распирает от всего того, что он знает, и я осторожно выспрашиваю его о характере войны в Чечне. Ведь рано или поздно я буду там.
– Где-то в начале декабря мне довелось офицеров подвозить, – рассказывает таксист, – так они не скрывали ничего. Говорили, что в расположение полка прибыли челябинский, нижегородский, саратовский, самарский и московский ОМОНы. Переодели в обычную милицейскую форму, без омоновских нашивок, и все девятьсот человек отправили в Беслан. Начальником группировки был генерал-майор Воробьев, тот самый, что недавно погиб в Грозном. Беслановская группировка шла в Чечню со стороны Владикавказа. ОМОН двигался вторым эшелоном: впереди – Тульская дивизия воздушно-десантных войск. Шли медленно: дудаевцы стояли насмерть.
Представляете, уже тогда шла настоящая война, а что газеты сообщали? Тишь да гладь.
– Как они службу несут? – поинтересовался я.
– Да вахтовым способом: два дня в окопах, в голом поле, два – отдых. Поставленная задача – «охрана общественного порядка». Потери понесли относительно большие. В екатеринбургском ОМОНе – двое раненых; сотрудник саратовского отряда открыл стрельбу в палатке, ранил троих коллег, а затем покончил самоубийством. Омоновцы «прикрывали» девятнадцать постов. У одного офицера жена в Краснодаре, так он мотался регулярно к ней. Рассказывал, что солдаты дивизии ВВ мальчишки, совершенно не подготовленные к боевым действиям. Вот и стояли, охраняли их. На глазах у этого офицера по приказу командира батальона сорок седьмого полка дивизии ВВ «Дон» было расстреляно из безоткатного орудия нефтехранилище. Боятся, что дудаевцы нефть продают и вооружаются.
– Может, знаешь, на сколько их присылали? – мои вопросы несколько настораживают таксиста, но он продолжает отвечать:
– Срок окончания командировки омоновцев – второе января. Однако незадолго до Нового года ее продлили по приказу замначальника управления МВД РФ полковника Зюрикова до конца января.
Впереди показывается Пост милиции. Яраги нервно заерзал на заднем сидении.
– А ничего, – успокаивает нас водитель. – Они только документы проверят и, если наглые, взятку потребуют.
Так и случилось. Капитан милиции забрал наши документы и сел в свою машину: внимательно изучить их. Потом вышел, отдал паспорт Яраги, а мне сказал:
– Куда вы, гражданин, направляетесь? Разве не знаете, у нас особый режим…
Таксист незаметно толкнул меня ногой.
– Я еду по коммерческим делам, – невозмутимо ответил я.
– Но вы же гражданин другого государства, – сказал капитан. – Я думаю, у вас возникнут сложности…
– Нельзя ли этих сложностей избежать, товарищ капитан? – я достал бумажник и копался в нем. Передо мной стоял вопрос, за сколько тысяч рублей этот Капитан покупается?
Капитан молчал. Я вытащил из бумажника три российские пятидесятитысячные бумажки и положил их себе на колено.
– А баксов нет? – как ни в чем не бывало спросил мент, протягивая мой паспорт.
– А разве мы похожи на людей, у которых есть баксы?
– Так значит, ты из Белоруссии? Как там Лукашенко? – капитан похлопывал полосатым жезлом по халяве сапога. Он явно не осмеливался протягивать руку за деньгами. Тогда я вложил деньги в свой паспорт и снова протянул его милиционеру.
– Посмотри, командир, мою прописку, и не станешь задавать интересных вопросов.
Когда капитан вернул мне паспорт, денег в нем не было.
– Счастливого пути! – сказал он.
– Счастливо оставаться, – не остался в долгу таксист.
Когда мы отъехали, таксист сказал:
– Жируют на дорогах, но я слышал, что в милиции набирают добровольцев – работать в Чечне.
– И какая у них будет задача? – спрашиваю я, – там война же?
– Охрана общественного порядка… Эх, какая охрана? Там действительно идет война, танки, артиллерия, а у милиции стрелковое оружие да газ «Черемуха». Тем омоновцам, про которых я вам рассказывал, даже не выдавали карту местности. Начальство попросту хотело скрыть эту войну – отсюда вся неразбериха. И знаете что, по оценкам этого офицера, количество погибших на стороне МО и МВД РФ достигает нескольких тысяч человек.
тогда, к середине декабря. Так поняв, что высокое командование «подставляет» их, сотрудники екатеринбургского ОМОНа почти в полном составе (за исключением раненых) вернулись на Урал. Местное начальство уже предложило майору «оставить службу».
– Жизнь – одна, – продолжил таксист, – и погибать так глупо ни у кого нет желания.
«Погибать всегда глупо», – хотел сказать я, но промолчал.
Я перестал поддерживать разговор, и таксист умолк.
…– Здесь, – сказал Яраги водителю такси, и машина резко затормозила у тротуара.
Я достал из бумажника несколько долларовых купюр и протянул их таксисту:
– Спасибо.
– Тебе спасибо, – улыбнулся таксист, заметив, что я не собираюсь брать сдачу и уже открываю дверцу машины.
Я окинул взглядом нечто огромное: город не город, поселок не поселок, и мы отправились искать нужную квартиру. Яраги устало плелся за мной. Откровения таксиста его расстроили.
Дверь открыл прилично одетый пожилой человек. Не чеченец, русский.
– Мне нужен Валентин Крылов.
– Я Валентин.
– Тетушка прислала подарок.
– К сожалению, племянник заболел коклюшем…
– Лекарство к сроку.
– Ладно, заходи, «лекарство». С дороги отощали, небось, круги под глазами. Сейчас покормим.
Крылов налил мне водки и сказал:
– Свершилось то, чего боялось и не хотело большинство россиян: войска вступили в Чечню…
– С какого они там?
– С одиннадцатого декабря. Я считаю по тому, что именно в эти дни на подходах к Чечне со стороны Дагестана и со стороны Ингушетии были взяты в плен десятки солдат внутренних войск России.
– Так что, нежели Грачев, министр обороны все же, – сказал я, – не знает, что обычаи горских народов, отличаются от наших? Вряд ли не знает и о том, что в прошлый раз внутренние войска вошли в Чечено-Ингушетию полвека назад, чтобы загнать всех жителей поголовно в вагоны и выслать в Казахстан – на зиму глядя, почти без вещей и еды, так что многие женщины и дети не доехали даже до места ссылки.
– Послушай, – продолжил Крылов, – Аушев ведь предупреждал, что не будет пропускать войска через Ингушетию. Руслан Аушев, законный президент Ингушетии, генерал российской армии и Герой Советского Союза предупреждал генерала и Героя – как же Грачев об этом не думал?
В разговор вмешался Яраги:
– Грачев что – всерьез ожидал, мол, ингуши выставят себя предателями перед своими братьями?
Крылов продолжает:
– Ингуши между тем начали освобождать пленных в тот же день. Не потому, что Грачев их пристыдил – они его пристыдили… А теперь, дорогие, спать.
Перед сном Крылов и Яраги выходят в другую комнату и о чем-то шепчутся. Скорее всего, о том, что по дороге нас обчистил мой знакомый Киреев. «Как бы не было из-за этого осложнений!» – думаю я, но все обошлось.
Утром Крылов вручил мне тот самый «дипломат», в котором я привез деньги, и сказал:
– Доставишь Тимуру.
– Что здесь? Травка? – наконец, я понял, на что намекал в Минске Тимур.
– Понимаешь правильно. Поэтому на самолете не полетишь. Украину лучше не пересекать. Ехать только через Воронеж, Орел, на Гомель или Смоленск. Тебя из области вывезут мои ребята.
– Это без дополнительной оплаты?
– Про оплату спросишь у Тимура.
На улице уже прогревались «жигули» бордового цвета. И вот мы в пути. Ехали целый день, а ночевали в лесу. Потом мы с Яраги сели на поезд. Яраги едет как бы отдельно от меня, сам по себе. Его постоянно проверяет милиция.
Сутки мы ехали до Воронежа. Потом ждали поезда до Орла. И, наконец, приехали через Гомель в Минск.
В Минске я заехал на пару минут к своему деду. Дед, как только увидел меня, соскучившись по собеседнику, заговорил:
– Ты знаешь, я думаю, Ельцин не виноват, что войска ввели в Чечню. Ведь когда принимали решение о вводе войск, Ельцин болел. И за те сутки Россия так и не увидела своего премьера, который лишь во вторник, выступая на конференции о положении женщин, коснулся Чечни. Россия так и не узнала, чем занят пресс-секретарь премьера. Спохватился пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков. Этот, по-моему, дурак, об отставке которого уже вроде объявлено. Так что он, казалось бы, и не должен был беспокоиться. Спохватились несколько человек из аппарата президента. Помнишь, благодаря проведенной этими прислужниками вечером двенадцатого декабря серии брифингов и телеинтервью, общественность получила ответы на несколько очень важных вопросов. Первое и главное: мы узнали, что страной все-таки управляет не Александр Коржаков, не Павел Грачев или кто-нибудь еще – страной управляет президент Ельцин. За исключением двух часов – времени операции – он был и остается работоспособным, встречается с премьером, подписывает важные документы. Не показывается на экране, потому что операция не на руке или ноге – на лице; по сути дела, была операция, и показаться, не подлечившись, любому неохота. Мы узнали, что пока не известен исход переговоров, задачей войск является не штурм Грозного, а блокирование его с целью недопущения подхода «добровольцев» из некоторых сопредельных республик Северного Кавказа: из Абхазии и даже, говорят, из Саудовской Аравии готовы прибыть энтузиасты…
– Ладно, дед, разбирайся ты со своей Чечней и Ельциным сам.
– А ты, часом, не один из таких энтузиастов? – Матейко внимательно посмотрел Мне в глаза. – Куда ты ездил? Не в Чечню? От тебя постоянно пахнет порохом.
У деда хороший нюх. Действительно, после тира моя одежда пропитана пороховой гарью. Я ничего не ответил, вышел из квартиры, остановил такси и примчался на квартиру к Лене.
Несколько секунд она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно никак не могла поверить в мое возвращение, а затем громко воскликнула:
– Боже! Мой наемник вернулся! И повисла у меня на шее.
Я выронил «дипломат» и крепко прижал женщину к себе.
– Я так ждала тебя! – шептала Лена. – Как я рада, что ты вернулся!
Я осторожно внес ее в комнату, поставил на пол, затем вернулся в прихожую и поднял с пола «дипломат».
– Гершенович на работе?
– Да!.. Слушай, – суетилась Лена, – неужели это ты, а? Почему не звонил мне?
– Я звонил тебе…
– Не оправдывайся, ты звонил только один раз. А говорил, позвонишь обязательно…
– Но разве я сделал хуже, чем обещал? Я здесь!
– Не оправдывайся. Ты не представляешь, как я рада! – улыбка не сходила с ее лица. Но за этой улыбкой да, и в ее словах скрывалась растерянность и тревога. Я незаметно для Лены пытался найти следы присутствия в ее комнате другого мужчины.
Я подошел к ней и снова прижал ее к себе. Я гладил ее тело, целовал ее губы, лоб, шею, глаза…
– Ты там случайно ничем не заразился? – весело шептала Лена. – А ну, признавайся!
Но я не отвечал и неустанно целовал ее.
– Кажется, на мне слишком много одежды, хотя и такое ощущение, что на мне ничего нет.
Лена гладила мою спину, волосы, потом резко, но не сильно оттолкнула меня от себя.
– Подожди! Твое появление необходимо запечатлеть.
Лена бросилась к тумбочке, на которой стоял телевизор, достала оттуда «Поляроид».
– Откуда это у тебя?
Она замялась, потом сказала:
– Папа подарил… Ну-ка…
– Нет, не надо! – я запротестовал. – Слушай, что ты собираешься делать?
– Я собираюсь тебя фотографировать! Отступая, я споткнулся о кровать и спиной упал в постель.
– Прекрасно! – засмеялась Лена. – Сейчас получится отличный кадр!
– Послушай, какую часть меня ты снимаешь? Перестань! Ты извращенка!
Несколько раз блеснула вспышка.
– Порядок, – сказала Лена. – А теперь у меня к тебе есть другое дело.
И она, словно пантера, прыгнула в постель.
То, что было потом, я запомню на всю жизнь. Лена словно преобразилась за последнюю неделю. Откуда только у нее появились эта страсть и это умение? Я ничего не понимал.
Мы проснулись рано. Я взглянул на часы. Была только четверть седьмого – почти три часа до начала работы, хотя добираться мне отсюда не более получаса.
Лена положила свою голову мне на грудь. Я погладил ее волосы.
– Знаешь, – сказал я, – мне никогда не было так хорошо, как сейчас.
– Ты имеешь ввиду, с другими женщинами? – Лена подняла голову и заглянула мне в глаза. – И сколько их у тебя было? Много?
– Да нет.
Я не хотел сейчас говорить о женщинах, хотя минуту назад как раз о них и думал. Перебирая их в памяти сравнивал – нет, так хорошо, как с Леной, кажется, действительно, еще не было. Разве что с Анастасией.
Я улыбнулся. «Если бы еще вспомнить, как хорошо и с кем мне было лет пять-десять тому назад!», – весело подумалось мне.
– Ты чего смеешься? – настороженно спросила Лена. – Что-то от меня скрываешь? А ну-ка, говори сейчас же!
– Ничего я не скрываю. Просто подумал, как хорошо, что на Новый год не прогнал тебя! А ведь было такое желание…
Лена дотянулась своими губами до моих губ, и некоторое время мы так лежали, не отрываясь друг от друга.
Наконец, она высоко вскинула голову и, не открывая глаз прошептала:
– Пора вставать.
– Еще рано, – я совсем не хотел вылезать из постели.
– Пора, – замотала головой Лена. – Привести себя в порядок, приготовить завтрак и – работа, работа, работа…
– И где так вкалывают, если не секрет?
– В одной фирме. Я там секретаршей.
– Надо увольняться, – не то серьезно, не то шутя сказал я. – Денег на жизнь хватит.
– Надо, – Лена резко поднялась с кровати, отбросив одеяло. – Надо, все надо!
Она нащупала ногами тапочки и медленно, покачиваясь, направилась в ванную. Я полежал еще несколько минут, но, наконец, пересилил себя и тоже поднялся. Натянул штаны и направился вслед за Леной.
– Это еще что такое? – я протянул руку через ее плечо и взял с полочки золотую коробочку для украшений.
– Это подарок.
– Подарок?
– Да, – спокойно сказала Лена. – Мне подарил папа. Он любит дорогие вещи. И это, – Лена кивнула на коробочку, – для него мелочь.
Я открыл коробочку и увидел изумительной красоты перстень с весьма крупным бриллиантом.
– Так, значит, у твоего папаши дела пошли в гору, раз он дарит брилики, походя? Я правильно тебя понял?
В моем голосе послышались холодные нотки.
– Ну, перестань злиться! Бука!
– А я ничего злого и не говорю.
– А тебе и не нужно ничего говорить. Я догадываюсь, о чем ты хочешь меня спросить.
– Ну, и…
– Хорошо. Я соврала тебе. Это подарок Тимура. Ты доволен? – расстроенно спросила Лена. Идиотка!
Я молчал. Я был ошарашен. Но тут же попытался взять себя в руки.
– У тебя хороший вкус, – сказал я, по-актерски ухмыльнувшись.
– Почему?
– С богатыми людьми всегда неплохо поддерживать связи. Теперь я понимаю, откуда у тебя эта огромная квартира.
– Если это попытка сделать мне больно, то считай, что у тебя получилось. Квартиру мне «сделал» папа.
– А о том, что можно сделать больно мне, ты, конечно же, не подумала.
– Но ведь я же не упрекаю тебя за твоих женщин! Мне нет до них никакого дела.
– Понятно.
– Прости, я что-то не то сказала!
– Я на тебя не обижаюсь. Даже рад, что тебе нет никакого дела и мне не нужно перед тобой отчитываться.
– Прекрасно.
– Ну, а что же дальше?
– Что – дальше?
– Это я у тебя спрашиваю. Ты у нас человек занятой. А я – свободный.
– В таком случае, предупреждаю, что сегодня я вернусь поздно, а завтра я тоже целый день занята.
– А, значит, ваша фирма и по выходным работает, я правильно понял?
– Совершенно верно.
– Ну, что ж, буду знать. И, пожалуй, не стану тебе сейчас мешать, а то вдруг на работу опоздаешь…
Я быстро оделся и, не попрощавшись, громко хлопнул дверью.
…В офисе, куда я, обозленный, притащился, шло самое настоящее заседание штаба. На журнальном столике стояла наполовину опорожненная бутылка водки, лежало печенье. Лица чеченцев были мрачны. У многих лихорадочно блестели глаза. Яраги тоже был в офисе.
«Докладывал» Тимур:
– Что Лабазанов? Это тоже фуфло! Пресса расписала, что самое организованное и вооруженное оппозиционное формирование в чеченской республике – группировка Руслана Лабазанова. Так он же беглый зэк, этот Лабазанов, получивший десять лет за убийство. Он в августе 1991 года, в дни путча, освободил себя и весь следственный изолятор в Грозном. Его за это посадить надо! Из своих сообщников он создал организованную команду отборных убийц. Что, мы будем им помогать? Только Дудаеву!
– Но они же, лабазановцы, в охране Джохара Дудаева были!
– Да, но потом ушли от него вместе со своим командиром. Я согласен, что на сегодняшний день Руслан Лабазанов – один из самых непримиримых противников и личных врагов Джохара Дудаева. В его группировке насчитывается более сотни боевиков, которые вооружены автоматами, гранатометами, пулеметами.
– Как там? – спросили у меня сразу, когда я вошел.
– Все нормально, – ответил я. – Слухи разные ходят. В Чечне обстановка все обостряется… На самом деле уничтожается все, что связано с Чечней, – сказал я. Чеченцы не смотрели на меня. Тимур разлил водку по рюмкам.
– Уничтожается население поселков: русские, чеченцы, евреи. Переговоры с Россией Дудаев назвал фарсом, поскольку под их прикрытием ведутся бомбометания по населенным пунктам, – продолжал я. – Президент призвал граждан республики и весь народ идти в бой за право на жизнь на этой земле. Земля должна гореть под ногами оккупантов. По мнению Дудаева, миротворческие усилия должны быть закончены. Единственно, с кем он готов разговаривать, – это донское казачество, с которым у Чечни заключен договор. А вы тут водку пьете…
– Ты нас не трогай! – вспылил Тимур. – Граница с Грузией и Азербайджаном закрыта?
– Да.
– А самолеты летают?
– Нет, – буркнул я.
– Русских сколько намолотили? – грубо спросил Тимур.
– Если верить правительственным известиям… – К черту! Они в конце декабря сообщали, что общие потери российских военных составили семнадцать человек погибшими и пятьдесят четыре ранеными. А я сам видел, когда там был, человек сорок мертвых русских, а пленных было человек сто! Никому верить нельзя. Тот же хренов правозащитник Ковалев сказал, что не видел ни одного убитого боевика, а опять же у меня на глазах нашего парня убило. И не одного. Это точно, что русские уничтожили 15 единиц чеченской бронетехники и 10 артиллерийских установок. Брехня, что дома не бомбили или бомбардировку имитировали сторонники Дудаева, взрывая жилые дома.
– Что, может, чеченцы сами стрелялись, чтобы имитировать жертвы? – сказал Сулейман, наиболее молчаливый из чеченцев. – Скоро одиннадцать часов. По «Свободе» будут передавать новости, надо послушать… – он подошел к радиоприемнику, включил его и настроил на нужную волну.
Через некоторое время из динамика донеслось: «…совершен варварский акт бомбардировки города. Несколько заходов авиации бомбардировали перекресток проспекта Кирова и улицы Садовой, где было сконцентрировано много автомобилей. Восемь сгоревших остовов автомобилей и двенадцать трупов около них мы видели, когда приехали спустя некоторое время на место трагедии. В районе этого же перекрестка полностью разрушено три одноэтажных дома, двадцать два жилых дома сильно повреждены, снесены крыши. В то же время бомбовому удару подвергся грозненский район Башировка, мы были и здесь. Около пятидесяти домов повреждены, шесть уничтожены полностью. К счастью, в этом районе многие дома почти полностью покинуты. В это же время попадания бомб мы отмечаем и в центре города».
– Ужас! Это же мой дом! На Башировке! Ужас, я убью всех! Тимур, я сегодня же уезжаю, – завопил Яраги, – В Башировке мой дом! Я должен уехать!
– Подожди, поедете вместе, – сказал Тимур. По радио голос продолжил сообщение новостей:
– О жертвах только этой дневной бомбежки: мы были в больницах, куда поставляли пострадавших из названных выше трех районов после дневной бомбардировки. Двадцать восемь человек госпитализированы. Это тяжелораненые. Восемь человек из больницы отправлены в морг. Количество раненых, которым оказана минимальная помощь и которые с помощью родственников или самостоятельно отправлены домой, официально не зарегистрировано из-за экстремальных условий, но определяется медиками в несколько десятков человек. Из всех пострадавших в трех районах Грозного во время дневной бомбардировки и доставленных в больницу, где мы побывали, только два человека имели при себе оружие. Только что примерно в пятистах метрах от места нашего нахождения взорвалась очередная бомба. В станице Ново-Артемовской, по сообщению Ковалева, от прямого попадания ракеты в такой «стратегический объект» погибла сразу вся семья, в том числе пять детей.
– Что творится! Это сволочье нас уничтожает! А мы сидим здесь и, как правильно говорит Юра, жрем водку! Надо ехать. Ведь все готово! – произнес короткий монолог Яраги.
– Короче, Юрий, – сказал Тимур, – мы приготовили тебе отличное прикрытие. Поедете, как представители Международного Красного Креста. Документы – вот, а оружие вмонтировано в микроавтобусы. Для прикрытия повезете лекарства. Можете продать в Нальчике, а там прикупить боеприпасов… Выезд послезавтра в десять.
– А ты остаешься?
Я не смотрю в глаза Тимуру. Если я это сделаю, он прочтет в моих глазах ненависть.
– Тимур остается делать деньги. Ему надо сбыть травку… – говорит Яраги.
…Остаток дня я провел сам не свой. Вечером несколько раз направлялся к телефону, даже снимал трубку, но так и не позвонил Лене.
Не позвонил я и на следующее утро, но теперь желания набрать знакомый номер поубавилось – я был зол на Лену за то, что она сама не сделала ни одного шага к примирению.
Еще полдня я ждал ее звонка, впрочем, уже не особенно надеясь на него, а после обеда, ближе к вечеру – не пропадать же вконец субботе! – решил навестить Гершеновича.
Но, к моему удивлению, того не оказалось дома. И я, почувствовав, что сильно проголодался, и вспомнив, что у деда Матея в холодильнике, ничего нет, направился к ресторану одной из гостиниц.
Я редко ходил сюда, тем более с женщинами. Здесь было особенно уютно и спокойно. Впрочем, возможно, далеко не последнюю роль тут играла привычка. Во всяком случае, о многих других ресторанах у меня было весьма смутное представление.
Посетителей – из тех, которые любят посидеть допоздна, которые приходят всей семьей да еще иногда и с друзьями, или тех, которые хотят показать своим любовницам, какие они богатые, независимые и умные, – еще почти никого не было. Несколько человек сидели за разными столиками, но это были одни из тех «новых русских», которые, имея в карманах приличные суммы, забегают сюда на минутку, чтобы плотно поесть, поскольку бывать в шумных и, как правило, грязных кафе считают ниже своего достоинства.
Я, чтобы не напиться, заказал себе «Сангрию», салат из свежих овощей, курицу. Выпил вина, закусил, и почувствовав, что голод начинает отступать, пожалел, что заказал слабенькое вино – мне вдруг захотелось, чтобы голова шла кругом, захотелось забыть о всех неприятностях, а еще лучше – подцепить здесь какую-нибудь потаскушку. Я боялся признаться самому себе, что таким образом хочу отомстить Лене.
Однако вместо того, чтобы попросить официанта принести водку, я, едва опустошив бокал, тут же опять наполнял его до краев.
Тем временем зал уже заполнился больше чем наполовину. Стало шумно. Появились музыканты.
Я оглянулся по сторонам в надежде увидеть свободную девушку, и вдруг мой взгляд остановился на фигуре необычайно красивой и интересной женщины. Она до ужаса напоминала… Анастасию, застреленную мачеху Лены. На ней, как и на той тогда, на новогодней елке, было дымчатое длинное платье из натурального шелка, но немного другого фасона, декольтированное, розового цвета.
Женщина тоже посмотрела на меня.
У меня мороз пошел по коже.
Это была… Анастасия. Она увидела меня, и в первые минуты растерялась. Резко отвернулась, но тут же опять взглянула на меня и улыбнулась одними губами. Только теперь я заметил, что рядом с ней стоял Тимур. Он размахивал руками, и что-то усердно доказывал незнакомому мужчине.
Я расплатился с официантом и, поднявшись со своего места, неторопливо направился прямо к Анастасии. Я видел, как менялось ее лицо – оно становилось все бледнее, растерянность сменялась страхом, страх – ужасом.
Когда я приблизился к ней почти вплотную, Тимур неожиданно взглянул в мою сторону и, вскинув свои густые брови, улыбнулся:
– Добрый вечер, рад тебя видеть. – Я заметил, что рука его потянулась к карману брюк.
– Добрый вечер. Я тоже рад.
Анастасия смутилась, кивнула головой и ничего не сказала.
– А почему ты один, где твоя дама? – поинтересовался Тимур.
Он имел в виду Леночку. Вот почему они так усердно мне ее навязывали! Анастасия оказалась всего лишь обыкновенной «подсадной уткой». Но какой замечательной «уткой»! Боже, как она классно трахалась!
– Она на улице, в машине, – неожиданно для самого себя солгал я. – Только почему вдруг трупы оживают? – сказал я так, чтобы Анастасия слышала и чтобы слышали все, кто сидел за столиком.
– В машине? – удивился Тимур, не придавая абсолютно никакого значения моей последней фразе. – Как это… Извините, я, кажется, не совсем понял. По-моему, ты не в накладе? А методы работы не должны тебя интересовать. Кроме того, прошу, не вмешивайся именно сегодня.
Эти слова Тимур уже не говорил, а шипел прямо мне в лицо, оттесняя меня от столика.
– Она ждет меня в машине, – спокойно повторил я и задержал пристальный взгляд на Анастасии. – Мы сейчас уезжаем в маленькое романтическое путешествие, – делая ударение на каждом слове, сказал я.
– Вот как? – произнес Тимур. – Что ж, это неплохо. Но, надеюсь, в понедельник утром мы поговорим о возможности нашего дальнейшего сотрудничества? – засмеялся он. – Я имею в виду не менее романтическую командировку на юг.
– Разумеется, – я тоже состроил улыбку, пожелал приятного вечера и на прощание опять задержал пристальный взгляд на Анастасии.
Я вышел в фойе. Голова у меня кружилась. Меня окрутили, как допризывника. Сегодня был удобный момент для мести.
Прошло несколько минут. Мне самому идея отомстить сегодня же начала казаться бредом, но я все сидел, почти неподвижно, глядя через черное окно вдаль, в вечерний сумрак улицы, но перед глазами была сплошная серая завеса.
Я выжидал, когда Тимур зайдет в туалетную комнату. Слишком много людей… Но мне было уже все равно.
Я не видел другого выхода. Теперь мне все ясно. А тогда было невдомек, что у Тимура двое телохранителей, которые ходят за ним по пятам. И в тот момент, когда я вошел в туалетную комнату и решительным шагом направился к Тимуру, который мыл руки, неожиданный удар слева остановил меня. Бил профессионал, но я успел поставить блок. Ко мне подскочил мужчина справа и замахнулся. Я ушел от удара и прыгнул к Тимуру, который вытаскивал пистолет. Грохнул выстрел, раздробив фаянсовую плитку пола. Я отпрянул и скрылся за дверью. Через минуту здесь будет милиция. Я выскочил через дверь в фойе. Туалетную комнату бегом покидали оказавшиеся здесь испуганные посетители ресторана.
Нигде не было ни Тимура, ни Анастасии. Я на такси поехал к Гершеновичу. Но и его не было дома. На квартире Лены тоже никого не было. Куда все подевались?
…Когда я утром, совершенно разбитый, притащился в офис, то увидел, что за столом как ни в чем не бывало сидит Тимур. Рядом с ним – взвинченный Яраги. Он говорил о желании мстить. Мстить тем, кто разбомбил его дом. Я следил за рукой Тимура. Но тот словно забыл о вчерашнем. Неужели они принимают меня за дурачка?
– Вот задаток, – волосатая рука Тимура выложила на стол пачки долларов. Мне хочется швырнуть их в лицо Тимуру, но, некоторое время поколебавшись, я беру деньги.
– Пошли, – сказал Яраги, увидев меня, – ты, я вижу, готов.
Мы вышли во двор, где стояли два микроавтобуса, доверху набитые коробками с лекарствами.
– Сюда поместится десять человек? – спросил я.
– Почему нет? Вести машины будем сами… К десяти утра мы объехали город и в разных местах собрали «диких гусей».
– Так, вашу мать, – сказал Яраги, – бриться – каждые пять часов, пока не доедем. И не пить.
– А по сто граммов можно? – спросил языкатый Петрович.
– Можно… – буркнул Яраги.
Ребята рвались в бой. Молодые, дураки, неопытные. Но с жаждой заработать. Заработать на трупах.
– Так, будем осторожны, – сказал Яраги, – впереди едет настоящий представитель немецкого Красного Креста. Тамерлан Каунта – чеченец, сын Абдурахмана Автарханова. Надо обогнать его и воспользоваться тем, что милиция оповещена о том, что едут представители Красного Креста.
– Может, замолотим их, – предложил Петрович.
– Чуть попозже, перед Грозным. Свалят все это на мародеров.
– Война все спишет. Вот и мы, русские, будем убивать русских, и все сотни российских солдат, погибших в бою, спишут на варварство чеченцев.
– Поэтому они и не убирают трупы сейчас, чтобы на чеченцев списать? – предполагаю я. В голове у меня каша – вот я, оскорбленный… Член, одним словом…
Мы благополучно, выдерживая дистанцию, продвигались по территории Беларуси, потом – России. Нас несколько раз обыскивали, но оружия, спрятанного техниками Тимура, милиция не находила.
…Вот и Ингушетия. Потом – Чечня. Взорванные мосты по всей трассе приходится объезжать через окрестные поселки. Везде, где прошла армия, видны следы невиданного и безжалостного разрушения: сожженные дома, сломанные деревья, воронки на дорогах…
Вдоль дороги бредут русские дети – девочка лет десяти и мальчик лет шести. Грязные, оборванные. Я попросил остановить микроавтобус. Дети не понимают вопросов, плачут, не могут вспомнить своих имен. С трудом удается выяснить: в дом несколько дней назад угодила ракета, все родные погибли. Дети в этот момент гуляли во дворе. Легкая контузия. Куда им идти – не знают. Не ели уже три дня. От протянутого хлеба отказываются.
Оставшиеся без крова люди молча бредут прочь от городов. Боже мой, сколько их! В основном русские, пожилые, я снова прошу у хмурого Яраги остановить микроавтобус. Спрашиваю у беженцев, почему они уходят.
– Живность осталась, корова, гуси, – объясняют некоторые. – Жалко бросать, но ничего не поделаешь – еще день-два в этом аду, и мы просто сойдем с ума.
Они даже не голосуют, не пытаются найти транспорт, просто бредут куда-то, тащат жалкие остатки имущества.
Слухи о контроле над Грозным российских войск оказались сильно преувеличенными. В город, если не обращать внимания на дальний артобстрел и пожары, можно въехать почти отовсюду, исключая северо-запад. Там сосредоточились основные силы российских войск. Но их не разглядеть из-за дымовой завесы. Она словно пожирает город, ориентироваться в котором из-за снайперов, артобстрелов и разозленного полчища собак почти невозможно.
Еще было светло, когда мы натолкнулись на патруль. На счастье, военные остановили нас лишь с той целью, чтобы стоящие рядом журналисты могли с нами поговорить. Это было рискованно, поскольку дотошные газетчики могли догадаться, что мы никакие не представители баварского Красного Креста.
И тут я не поверил своим глазам. Прямо на меня шла… Светлана. Да, моя старая знакомая по Боснии. Вот проныра! Уже тут. Что, она специализируется на горячих точках?
Теперь она, если увидит меня, сразу поймет, что Красный Крест для нас всего лишь прикрытие. Я знаю ее прославянские настроения, поэтому у меня есть основания думать, что она запросто выдаст меня. Времени для размышлений нет.
– Яраги, эта баба знает меня. Знает по Боснии, где я воевал наемником. Надо прорываться…
Яраги быстренько связывается по рации со второй машиной и предупреждает ребят.
– Мы же не сможем даже отстреливаться, – шепчет Яраги.
– Тогда устроим дымовуху, – говорю я, отворачивая лицо от приближающейся Светланы. Но она уже увидела меня, лицо ее хмурится, потом она неожиданно улыбается. Я улыбаюсь ей в ответ. В это время я воспламеняю Дымовую гранату и роняю ее под колеса микроавтобуса. Военные заняты второй машиной. Яраги врубает скорость, и микроавтобус мчится вперед. Светлана едва успевает отскочить. Она лупит ладонью по обшивке микроавтобуса и кричит:
– Юра! Куда ты? Юра-а! Я тебя все равно разыщу! Мне надо с тобой поговорить!
Я бросаю еще одну «дымовуху», потом еще. Вторая машина тоже рванула с места. Военные пытаются открыть огонь, но Светлана размахивает перед солдатами руками – не стрелять!
Микроавтобусы мчатся по разбитому шоссе. Выстрелы сзади все же раздаются. Несколько пуль попадают в заднее стекло.
Задний микроавтобус заюлил. У него пробиты шины. Яраги тормозит, машет рукой и кричит:
– Сюда, сюда!
Я выбрасываю часть коробок с лекарствами. Иначе все не влезут.
Выстрелы грохочут с новой силой, но Яраги уже вовсю жмет на педаль газа. Мои «дикие гуси» достают из днища микроавтобуса автоматы. Ответный огонь мы так и не открыли. Успели уйти далеко.
На обочине дороги снова появляются беженцы. Теперь уже Яраги весь в расспросах. В основном, он расспрашивает чеченцев. Беженцы рассказали ему, что в редкие часы затишья кое-кто старается с окраин Грозного проехать в центр – проведать родственников в подвалах, привезти в свой район информацию о новых десятках убитых, о разрушенных домах. Мертвый город, лишь в разных местах вспыхивают ожесточенные стычки. Линии фронта нет. Все окружили всех и ждут ночи, чтобы под ее покровом подойти поближе к врагу для последней решающей схватки. Центр города уничтожен полностью.
– Так, действительно, в основном бьют минометы, дальнобойная артиллерия с гор над Первомайской, установки «Град», – говорит Яраги. – Немного подождем до вечера и будем прорываться в город.
…Канонада близких сражений гораздо слышнее. Микроавтобус мчится все ближе и ближе к пригородам Грозного. Бои идут на непосредственных подступах к столице. Орудийные выстрелы и грохот взрывов со стороны Долинского слышатся все явственнее. Ночное время мы использовали для сна, потому что именно ночью милиция норовит переворошить все в микроавтобусах. Но сегодняшним вечером мы намерены въехать в Грозный. Еще не темно, но окрестности озаряют сброшенные с самолетов на парашютах осветительные бомбы. По свидетельству очевидцев, которых мы расспрашиваем по дороге и которые идут из Грозного, российская бронетехника укрепила ожесточенное сопротивление ополченцев в районе селений Асиновская, Серноводский, Давыденко, Первомайское. Танки не решались входить в населенные пункты, из которых велась по ним стрельба, поливали селения огнем с расстояния. Разрушены дома, сожжены автомобили, есть погибшие, раненые.
Чтобы не подвергать себя опасности, мы немного проехали по центральной улице Грозного и свернули в переулок, а затем во двор. Мы вышли из микроавтобуса и забрались внутрь дома. Никто в доме не живет, но впечатление такое, что жители просто на минутку вышли куда-то. В глубине соседнего двора стояли три БТРа, люки открыты, солдаты курили, а вот часовых нигде не было.
«Не армия, а бардак», – подумал я и, махнув Яраги рукой, спрыгнул с лестницы.
Часовой все-таки был. Но он оказался до того невнимателен, что я беспрепятственно дошел в темноте до него, и уже был на расстоянии протянутой руки, когда он спросил:
– Кто это?
– Это, милый, я, дикий гусь! – негромко и спокойно сказал я и безжалостно всадил нож парню под сердце.
– Ай! – вскрикнул часовой и обмяк в моих руках. Я смотрел, как у него изо рта пузырится кровь.
– Тихо, тихо, – осторожно опустил я его тело на землю, чтобы не было сильного шума. Затем нащупал у солдата в подсумке гранаты. Я подождал, чтобы услыхать условный сигнал нападения на бронетранспортеры. Наконец, услышал короткий свист и увидел, как Яраги бесшумно скользнул к одному из БТРов. Я тоже подскочил к бронетранспортеру. Чека из гранаты выдернута. Бросаю гранату на сигаретные огоньки. Слышен треск запала, сигаретные огоньки взметнулись – и мощный взрыв глушит окрестности. Вторая граната летит вслед за первой. С третьим БТРом расправился Петрович. Слышатся крики раненых, стоны.
Яраги подбегает ко мне и шепчет:
– Теперь к ним попробуют прийти на помощь, тебе следует прикрыть нас, а мы тут тушенку доделаем…
– В бронетранспортерах? – спрашиваю я.
– Да. Мне чеченские беженцы рассказали, что сделать тушенку означает побить из гранатомета бронетехнику – танк, БТР, БМП и уничтожить весь экипаж.
Я выбегаю из закоулка на улицу. Ложусь возле самого забора, и жду. Вот слышатся шаги, приглушенный разговор. Я швыряю гранату на голоса, и после взрыва короткими очередями бью в темноту. Я могу не бояться, что меня увидят в темноте в прибор ночного видения. Такого никогда не случится, поскольку вдоль улицы протянута труба газопровода, который горит во многих местах, а поэтому прибор ночного видения можно выбросить к чертям собачьим: на фоне огней ничего не видно. Противник отступает, а я вижу, как Яраги выволакивает за волосы российского солдата на освещенное огнем разорванного газопровода место и прямо у меня на глазах начинает бить ножом того в шею. Чеченец рычит, из человека превращается в зверя, вся его злость выливается на этого солдата, вина которого в том, что он выполнял приказ командования. Солдат отчаянно отбивается, кусает Яраги за пальцы, но кровь хлещет из шеи. Они топчутся на месте, и я вижу перед собой танец безумцев, над которыми торжествует смерть. Мне становится настолько жутко, что хочется застрелить их обоих и застрелиться самому. Но вот, наконец, Яраги накалывает солдата на нож; выдергивает тот из груди и несколькими ударами пытается отсечь солдату голову. Ему это не удается. Он пилит ножом по человеческим позвонкам, пытается оторвать голову за уши, закручивает ее в одну сторону, а солдат еще дергается, хрипит. Я прикладываю автомат к плечу и мой палец ложится на спусковой крючок. Я не прицеливаюсь, но знаю, что автоматная очередь прошьет грудь Яраги насквозь, и через дырочки вытечет – нет, теперь уже не кровь, а вскипевшая злоба. Но в этот момент голова жертвы отрывается, и Яраги торжествующе поднимает ее за волосы. Неужели он жаждал этой минуты?
Неожиданно Яраги отшвырнул голову от себя, она тяжело ударилась об асфальт, подпрыгнула, прокатилась с полметра и неподвижно застыла. Яраги падает на землю и его начинает трясти. Он колотится своей головой о мостовую, кричит что-то нечленораздельное, ползает на коленях и рыдает. Мне становится невыносимо жутко. Мне опять хочется пристрелить обезумевшего чеченца. Но вместо этого я выволакиваю из вещмешка баклагу со спиртом, подхожу к Яраги, хватаю его за волосы, поворачиваю голову набок, надавливаю всем своим весом на спину и выплескиваю спирт чеченцу в лицо. Он ревет некрасиво, как баба, но когда жидкость обжигает ему губы, попадает в нос, в глаза, то затихает, охватывает лицо руками и неподвижно лежит.
– Вставай, мы на виду!
Яраги молчит. Потом медленно поднимается. В это время невдалеке слышится автоматная очередь. Трассеры мелькают над головами. Мы стреляем по вероятному противнику и начинаем пробираться к центру города. Яраги ведет нас. Он знает город, как свои пять пальцев, но ему приходится петлять, протискиваться через завалы. Кажется, психоз у него прошел.
Только к утру Яраги натыкается на группу ополченцев. Между ними происходит оживленный разговор по-чеченски. Затем чеченцы по очереди подходят к нам и, подсвечивая фонариком, внимательно всматриваются в наши лица. Так происходит знакомство.
– Гоните ваш микроавтобус сюда, – приказывает один из ополченцев. – Лекарства нам очень нужны. «Врачи без границ» развернули здесь неподалеку передвижной госпиталь, на двух джипах с красными крестами ежедневно отправляют из Грозного раненых. И все возвращаются за новыми и новыми ранеными. Ингуши возят нам хлеб и продовольствие, рискуя жизнью, попадая под обстрелы…
– Кто занимается нефтью? – неожиданно спросил Яраги.
– А откуда вы знаете?
– Догадался. Торговля нефтью на сегодняшний день – это самые высокие доходы. Не так ли?
– Может быть, – уклончиво ответил ополченец, – однако нефтью уже некому заниматься. Все воюют…
– А Джохара можно увидеть? – спрашивает Яраги.
– Нет. Он почти что инопланетянин. Во всяком случае, увидеть его не так-то просто. На людях он появляется редко.
– Понятно.
В мутном рассвете мы возвращаемся к микроавтобусу вместе с чеченцами и видим, как из него выскакивают несколько человек с оружием и скрываются в доме.
– Это мародеры. Окружаем их, – скомандовал ополченец.
Я вошел в подъезд одного из домов. На меня пахнуло отвратительной вонью. К смраду от трупов и нефтяной гари привыкаешь быстрее, чем к виду погибших. Я несколько раз натыкался на трупы и меня всегда тянуло рассмотреть их лица. Когда же я привыкну к виду трупов? Разве я не насмотрелся на них?
– Жаль их, лежат, гниют, а ведь все-таки свои, – говорит чеченец, который идет следом. Когда я пытаюсь в темноте высмотреть лицо очередного убитого, он произносит:
– Дети они! Эта сволочь, Ельцин, послал их сюда на верную смерть.
Такое о российских солдатах мне не приходилось еще слышать от «боевика».
– Они еще мальчишки. В плен мы не берем только контрактников. Их видно сразу – в масках. В основном, их трупы и лежат перед президентской резиденцией. Каждый здесь может рассказать о количестве своих погибших родственников – жертв среди чеченцев уже тысячи, продолжает на ходу рассказывать ополченец. Он немолод, борода седая.
– Мой внук третий день лежит убитым, на вокзале.
Русские снайперы не подпускают забрать, – говорит он. – Что я скажу его матери? Она пока не знает, что он убит.
Яраги уже ждал в условленном месте. Я подбежал к нему, он дал мне маленькую милицейскую рацию, передернул затвор своего автомата и устремился к дому, под одной из стен которого уже стояли два ополченца с автоматами наизготовку.
Я начал обходить дом и снова наткнулся на трупы солдат. Уже было достаточно светло, солнце малиновым шаром выползло из-за горизонта, и меня непреодолимо тянуло смотреть в лица мертвых солдат. Такого за собой я раньше не замечал… Поэтому я и замешкался.
Вот лежит что-то совершенно непонятное в форме солдата российской армии. Глаза выколоты, нос отрезан… Или отъеден? Впечатление отвратительное. Этот труп притягивает внимание, он словно не отпускает.
Когда я обогнул дом и вышел к ополченцам, каждый занял свою позицию.
– Могу ли я вам чем-нибудь помочь? – спросил я невозмутимо у ополченцев.
– Вот, засранец! Надо же, спрашивает в этом деле разрешения! Болван, – не оглядываясь на меня, пошутил дюжий ополченец. – Это же мародеры, ночью ходят и грабят.
– Чеченцы, русские?
– И те, и другие. Я припал к рации:
– Я здесь, Яраги.
– Слава Аллаху, явился, – ответил Яраги, поправляя под рубашкой бронежилет. Застежки явно не давались ему, а бронежилет висел на нем мешком.
– Я готов, Яраги, где я должен быть? – продолжал я.
– Ты будешь возле окна у забора. Ребята меня прикроют. И никаких фокусов и самодеятельности. Мне нужна твоя поддержка. Запомни – не высовываться. Они не должны тебя видеть.
Яраги говорил все это, стоя в метрах ста от одноэтажного дома, в котором разместились уличенные в мародерстве.
– Не забывай, – бросил Яраги, – ты «дикий гусь», а не чеченец… Все по местам! Начинаем! – уже голосом начальника приказал Яраги.
– Есть!
Я бросился исполнять приказ Яраги. Я решил затаиться под окном дома.
Яраги возбужденно закричал на всю улицу:
– Эй, в доме! Вы окружены! Сдавайтесь! Чеченцы или русские, все равно сдавайтесь!
Он неуверенно шагал по улице, внимательно всматриваясь во все двери и окна, в любую секунду готовый прыгнуть за укрытие.
Ополченцы оцепили дом. Я пробрался к следующему окну, вытащил из кармана зеркальце и принялся изучать то, что происходило внутри дома. А Яраги не унимался. Он сулил оставить мародеров в живых, если те сдадутся.
А я пристально вглядывался в отражение. Мне слышны даже шорохи в комнате, поскольку окно было выбито. Я видел мускулистого парня, который корчился на топчане, а рядом валялись шприцы. Парня явно ломало. За столом с пулеметом в руках сидел мрачный небритый военный. Вдруг буквально в метре от меня раздался дикий рев. Я мгновенно среагировал, направив на звук ствол автомата. Угроза оказалась ложной. Это над домом несся российский военный вертолет. Я облегченно вздохнул, а затем вновь принялся с помощью зеркальца разглядывать то, что происходило в доме. На этот раз обстановка резко изменилась. В комнату вбежал широкоплечий детина и принялся расталкивать своего приятеля:
– Вставай! Вставай быстрее! Пошевеливайся.
– А? Что такое? Не понял.
– Чеченцы!
От этого слова, как ударенный током, парень подскочил и забегал по комнате, опрокидывая коробки с лекарствами, которые бандиты уворовали из нашей машины. Его приятель в это время вытряхивал на пол содержимое большого черного мешка. Залязгало железо, дзинькнуло стекло. На полу оказались: оружие, несколько золотых часов, портсигары, старинные подсвечники.
«Е-мое! – подумал я, – и они думают на этом разбогатеть? Сейчас чеченцы прирежут их, полных кретинов!».
Мародеры расхватали оружие и бросились к окнам.
– Ты куда! Ты стань к двери!
– А ты – к окну!
– Валера, прикроешь нас.
– Я им сейчас устрою, – передергивая затвор автомата, – шипел детина. Тем временем Яраги дошел до двери и постучал в нее. Она открылась. В проеме показалась девушка-чеченка. Она непонимающе смотрела на Яраги, пытавшегося протиснуться в дом.
– Что вам нужно? – вскрикнула она.
– Свали отсюда, – крикнул Яраги.
Девушка-чеченка заплакала. Как мне потом рассказывал Яраги, она была совсем молоденькая, лет шестнадцати. Беременная, полуголая. Рядом появилась грузная женщина, очевидно, мать:
– Ей рожать через месяц. Что нам с ней делать? Все больницы бомбят. Роддом закрыт, врачи разбежались. В Аргуне разбомбили детскую инфекционную больницу, десятки больных детей погибли – что, это бандформирование было? Я вас не пущу, чего вам надо? – пыталась сопротивляться чеченка.
Ясно, что женщины ломали комедию и были заодно с мародерами. Поэтому отделаться от Яраги им было не так-то легко. Все, что он делал, было профессионально. Кроме отрезания голов… И он знал это. Его нога уже стояла за дверью.
Как раз в это время над городом пролетала эскадрилья боевых «вертушек». Шум стоял невообразимый.
Я понял, что дело принимает новый оборот, и сейчас может произойти непоправимое. События раскручивались со стремительной скоростью и по незапланированному сценарию. Я включил радио:
– Это говорит Юрий. Это Юрий. Вытащите оттуда Яраги. У них в доме целый арсенал.
– Юрий, повтори. Юрий, повтори, – послышалось из рации. Но ничего услышать нельзя было из-за оглушительного воя вертолета.
– Эй, вы слышите меня? Петрович? – повторял я в микрофон. – Не позволяйте ему входить в дом!
Я сообразил, что рация здесь бессильна и не поможет. Я отбросил ее в сторону и выхватил из-за пояса пистолет.
По голосам, которые доносились из дома, я понял, что мародеры готовятся к серьезному бою, что они будут драться до конца.
– Я этим чуркам сейчас устрою… Всех укокошу. Стой у двери и не рыпайся.
– Держи «Калашников»!
– Брось мне гранату!
– Спрячьте это дерьмо! – кричал детина, бросая пакет с награбленными золотыми вещами своему компаньону, который возился с лентой к пулемету.
Наконец, девушка-чеченка не выдержала навязчивости Яраги. Он что было силы толкнул дверь:
– Ты!.. Убирайся отсюда!
Яраги оттолкнул девушку и ворвался в дом. Этот его крик и послужил сигналом к началу стрельбы. Затрещали автоматы. Пули прошили дверь и стену. Яраги успел отскочить в коридор.
Бандиты стреляли из окон по ополченцам.
– А ну, бросай оружие! – закричал я, вбежав в дом с черного хода. Я поднял свой пистолет и направил его на мародера в черном бушлате. Тот, не мешкая, нажал на спусковой крючок. Прогремела оглушительная очередь. Со стены посыпалась штукатурка, разлетелись разбитые стекла. Недаром я считался лучшим стрелком.
Я дважды выстрелил, и две пули прошили грудь мародера. Тот судорожно взмахнул руками, и уронив «Калашников», замертво рухнул на пол.
Дикий крик и визг перепуганной, с отвисшим животом девицы, грохот выстрелов заполнили весь дом.
Из соседней комнаты выглянул еще один мародер. Он повел стволом автомата. Засвистели пули. Едкий пороховой дым заполнил комнату. Я, пригибаясь, прячась за шкафами и комодами, пробирался в соседнее помещение.
А в это время ополченцы уже высадили парадную дверь и ворвались в дом. Один из мародеров изумленно поднял руки.
– Подождите, подождите! – причитал он. – Я здесь ни при чем. Я не занимаюсь грабежом.
Но сильный удар в челюсть не дал ему закончить оправдательную тираду. Он рухнул на пол, ломая стулья. Один из ополченцев бросился на него и защелкнул наручники.
– Лежи, сволочь, и не двигайся! Яйца мы потом тебе отрежем… Если шевельнешься – прострелю голову!
И он с силой ударил прикладом автомата по стриженой голове мародера. Тот сразу потерял сознание и без движения замер на полу.
В гостиной в это время происходило следующее. Длинноволосый мародер, прикрываясь девушкой, пытался пройти к двери, которую загораживал Яраги. Мародер приставил пистолет к виску девушки и истошно орал. Испуганная девушка тоже вопила не своим голосом.
– Заткнись, сволота, а ты слушай сюда! – кричал он, обращаясь к Яраги.
– Бросай оружие, сдавайся!
– Жди, сейчас брошу. Если ты не откатишься от двери, я пристрелю ее, как паршивую собаку.
Девушка снова завизжала. Мародер решил исполнить свое обещание. Он еще сильнее уперся стволом той в висок. Казалось, еще мгновение, даже доля секунды – и он нажмет на курок. Яраги мгновенно оценил ситуацию.
– Ну ладно, ладно, успокойся, – обратился он к мародеру, нажимая на спуск своего автомата.
Грохнул очередной выстрел, и между глаз мародера появилось кровоточащее отверстие. Мародер отпустил девушку, зашатался и с изумленным выражением на лице расстался с жизнью. Его тело грузно опустилось на пол. Как мешок. Яраги подхватил испуганную полуголую девушку и вместо того, чтобы отшвырнуть ее в безопасное место, или просто отпустить, нанес сильный удар ей в челюсть.
Я, под выстрелами мародеров, продолжал пробираться в гостиную. Возможно, это мне удалось бы, но совершить маневр я не успел. Неожиданно на пороге появилась пышногрудая блондинка. Ее я прежде не заметил в доме. Она ловким профессиональным движением выбила у меня пистолет, а потом нанесла два сокрушительных удара, от которых я покачнулся и, согнувшись, присел на пол. Но баба при этом не остановилась. Она сложила руки замком, ударила меня по шее. И, в довершение, сильным ударом ноги отбросила к стене. Я, явно не ожидавший от нее такой прыти, осунулся на пол, удивленно вращая глазами и хватая ртом воздух. Блондинка тем временем принялась за следующего ополченца. Она с остервенением набросилась на него со спины и теперь наносила свои сокрушительные удары. Возможно, и того постигла бы моя участь, если бы не подоспел Яраги. Он ударил пышногрудую ребром ладони по печени, а потом, схватив за плечи, грохнул о стену. Шустрая бабенка рухнула на ополченца, который пытался подняться с пола.
Я, наконец, пришел в себя. Озлобленный и озверевший, схватил одного из мародеров и вышвырнул в окно, а сам бросился вслед за ним. Мы упали на землю почти одновременно. Начали бороться, нанося друг другу удары. Я попытался схватить гадину за горло, но бандит изловчился и выхватил из-за пояса большой нож.
В нескольких шагах от нас неожиданно разорвалась ручная граната. Полыхнул взорвавшийся в газопроводе газ. Я, хрипя и рыча, выкручивал запястье бандиту. Бандит ловко вывернулся, заломил мне руку, опрокинул меня на живот, схватил за волосы и начал толкать мою голову в пламя. Я упирался из последних сил. От напряжения, казалось, лопнут сухожилия. Волосы на моей голове начали спекаться. Тогда я резко выгнулся и, подбросив верзилу вверх ногами, отправил того в пламя. Несколько секунд я наблюдал, как на человеке горела одежда, потом залоснилась кожа, которая скоро лопнула и показалось дымящееся мясо.
Я повернулся и вскочил через окно в дом. На полу дрались двое: бандит подмял под себя Яраги.
– А ну-ка, пару слов в микрофон, болван! – я сунул пистолет прямо в рот бандиту. Потом ногой перевернул его тело на живот. Мародер продолжал рычать.
– Давай сюда руки, быстро! И вторую тоже! – Яраги пришел в себя.
Бандит протянул две руки, думая, что ему наденут наручники. Но не тут-то было! Яраги сорвал с ковра старинную саблю и со всего размаху отхватил руку мародера. Одна рука отлетела сразу, а другая повисла на коже. Яраги схватил ее и оторвал.
– Свободен, – бросил он бандиту. – Можешь дальше грабить, сука!
Я облизывал окровавленные губы и наблюдал, как работает Яраги.
– С тобой все в порядке? – поинтересовался Яраги.
– Пока нормально, – спокойно ответил я.
В доме тем временем уже шли разборки. Лежали трупы убитых. Раненых добивали ножами. Обыскивали дом. В гостиной на диване насиловали блондинку. «Дикие гуси» из моей группы едва не гоготали от возбуждения и похоти. Я подошел к умывальнику и попытался ополоснуть лицо. В отражении разбитого зеркала увидел своего напарника.
– Вода в Грозном на вес золота, – сказал Яраги. – Ею сначала моются, потом процеживают и пьют или варят еду.
Я промолчал.
– Сволочи, они убили жителей дома, и ночевали здесь. Увидели микроавтобус и решили поживиться. А ты ничего дерешься, – похвалил меня Яраги.
– Приходится, – мрачно сказал я, глядя на отрубленную руку грабителя. Мне почему-то хотелось взять её, положить в полиэтиленовый пакет и спрятать. Как необычный сувенир.
Тем временем получилось так, что по дому ударили из миномета. Стрельба в доме вызвала интерес российской армии. Первая мина разорвалась во дворе. Вторая разворотила чердак.
– Нас засекли, быстро сматываемся. Блондинку оставим привязанной к дивану – пусть русские мины ее прикончат, пусть падаль сгорит.
Мы выскользнули из дома и помчались к микроавтобусам. Но там оказались непонятно кто. Рядом стояли «Жигули», а в салоне микроавтобуса копошились какие-то люди. Они тут же открыли по нам огонь. Мы ответили. Микроавтобус рванул с места и помчался по улице.
Громко ухнула еще одна мина. Она угодила на чердак, пробила его и взорвалась в середине дома. Истошный крик был заглушен новым минным взрывом.
Яраги вскочил в рядом стоявшие «Жигули», на которых, очевидно, подъехали незнакомцы, завел двигатель и вывел машину на середину улицы. Я открыл пальбу из автомата по удалявшемуся неприятелю. Я бежал некоторое время так, пока меня не нагнал Яраги, который открыл дверцу и крикнул:
– Давай быстрее, быстрее! Живо!
Я успел продырявить в нескольких местах угнанный микроавтобус и разнести в мелкие крошки его заднее стекло, впрыгнул в машину, и мы понеслись в погоню.
Лавируя между разбитых машин и подожженных БТРов, мы довольно быстро нагнали микроавтобус и плотно прижались к нему правым боком. Неожиданно позади нашего автомобиля грохнула граната. Нас встряхнуло, что-то затарахтело по асфальту, но мы продолжали ехать. Я лупил из автомата по противнику. Но микроавтобус упрямо летел вперед. По асфальту покатился, словно сверкающая тарелка, колпак от колеса.
– Скорее! – орал я, норовя схватиться за руль.
– Да не лезь ты! – рявкнул Яраги. – Я и так на пределе!
Визжали тормоза, машину заносило то вправо, то влево. Микроавтобус с противником неумолимо удалялся.
Погоня продолжалась с переменным успехом. Я не мог совладать с собой, все время бросал реплики:
– Они оторвутся от нас!
– Никуда они не денутся, молчи, – огрызался Яраги.
– Вправо, вправо, быстрее!
Несущийся впереди микроавтобус приближался к завалу, сооруженному из разного хламья. Даже не затормозив, он налетел на него. Доски и бревна шуганули в стороны. Мы влетели в проем.
Улица была освещена ярким, поднимающимся над горизонтом солнцем и пожарами. Но местами, среди пятиэтажных домов, было довольно сумрачно. Иногда, на удивление, нам попадались встречные машины, которые шарахались в стороны, их крутило волчком, и мы несколько раз чуть не врезались в эти беспомощные, потерявшие управление, агрегаты.
– Все в порядке, они едут к центру Грозного, а их там перехватят, – возбужденно говорил Яраги и остервенело давил на акселератор.
– Вам конец! – заревел он. Впереди показались ополченцы в черных куртках. Это, несомненно, были чеченцы. Они открыли огонь по микроавтобусу, били по колесам, а когда микроавтобус остановился, перенесли огонь по нам. Я увидел, как из микроавтобуса выскочили два человека с автоматами. Это тоже были чеченцы. Внутри микроавтобуса оставалось еще несколько человек.
Мы выбрались из «Жигулей», и я догнал одного из врагов. Я накинулся на чеченца и повалил его на землю. У него на голове была зеленая повязка. Мы оба покатились прямо в пылающую дорожку, тянущуюся от горящего микроавтобуса. Я понимал, что это ополченец, но уже не мог остановиться. Бушлат на спине у моего противника воспламенился. Но он словно не замечал этого, продолжая борьбу. Мы озверели, душили друг друга, продолжали кататься в горящей луже. Наконец, мой противник сумел вырваться и, тяжело дыша, бросился убегать. Я помчался следом.
Очевидно, тот, кто убегал, был предводителем группы, которая захватила микроавтобус, поскольку остальные, выйдя из пылающей машины, остолбенело наблюдали за удаляющимися фигурами, на которых ярко пылали одежды. Я почти не чувствовал, что у меня горит спина.
Подоспевший Яраги, не прицеливаясь, выстрелил в заднее стекло микроавтобуса, в котором все еще находился один из угонщиков с автоматом. Попал он в него или не попал, я не видел.
– О, черт! – выкрикнул один из ополченцев. – Кто вы?
– Он уходит, надо его догнать! – крикнул я и побежал за человеком, который вбежал в узкий проход между домами и скрылся за развалинами. Я не отставал, не сбавлял темп. Я понимал, что если сейчас упущу главаря, то больше никогда его не увижу…
Противник, промчавшись Молнией сквозь очередной дом, выбегал во двор и ловко перемахивал через любой высоты забор. Мы неслись по каким-то лестницам, коридорам и кухням. В одном из домов беглец успел, вбежав в чью-то гостиную, запереть дверь на ключ. Я с разбега высадил дверное стекло и нырнул в комнату. Меня встречала площадная брань хозяйки дома, которая успела несколько раз огреть меня по спине какой-то клюкой. Беглеца в этом доме уже не было. Я прыгнул в распахнутое окно – впереди был пустырь. В конце пустыря высился каменный забор, на который карабкался беглец. Если он перемахнет через забор, то может уйти. Я вскинул пистолет и прицельным выстрелом, наконец-то, прикончил беглеца. Он свалился по эту сторону забора.
– Не надо! – орал позади Яраги. – Это свои! Что ты наделал?
– Откуда я знал? – я не мог отдышаться.
– Я тебе кричал… – Яраги подбежал ближе. – Тебя сейчас могут убить его друзья. Поэтому уходим.
…В этот день Грозный предстал перед моими глазами во всем своем ужасном виде. Он производит впечатление брошенного города. В двух-трех километрах от центра улицы выглядят вымершими: наглухо заперты ставни, на замке – ворота.
Яраги по рации связался с остальными ребятами из нашей группы, и мы обосновались на день в одной из пятиэтажек. Русская женщина, живущая в пятиэтажке, рассказывает, что в их доме осталось всего пять семей. Зато по-прежнему многолюдно в окрестностях президентского дворца. Стихийные митинги возникают то тут, то там. Ораторы клеймят российское руководство и клянутся стоять насмерть.
В целях конспирации иногда Мы выдаем себя за сторонников русских солдат. Яраги не в счет.
Ближе к вечеру мы пробираемся к площади перед президентским дворцом. Там, оказывается очень много людей. С оружием и без. Ополченцы, приехавшие из сел, привезли с собой все, что может стрелять или взрываться. На плечах – у кого двустволка, у кого карабин, у кого автомат, а у кого и пулемет или гранатомет. Каждую такую группу обычно охраняют нацеленные в небо легкие орудия. Среди нескольких сотен добровольцев вижу паренька лет четырнадцати с самодельным автоматом в руках.
– Откуда ты прибыл, такой грозный? – спрашиваю у пацана.
– Из Мехкеты Веденского района, – гордо отвечает паренек. От бойцов узнаю, что это не самый юный защитник города. Есть помоложе. Мне показывают двенадцатилетнего мальчика с каской в руках. Оружия ему не досталось, поэтому он будет подносить бойцам патроны. Безоружна и половина взрослых. Они надеются, что число стволов после первого же боя у них прибавится, и ссылаются на пример братьев-чеченцев в дагестанском приграничье, которые отобрали на днях у российских солдат не только стрелковое оружие, но и БТРы. Добровольцы говорят, что пока они находятся в резерве, но по приказу своего руководителя из департамента госбезопасности республики готовы в любой момент выступить на боевые позиции. На улицах все чаще встречаешь людей с зеленой повязкой на голове – смертников. Точное местонахождение президента Дудаева не разглашается. Говорят, что он очень занят, и встреча с журналистами, к которым он обычно благоволит, в ближайшее время не намечается, но произойдет обязательно. Я думаю, что Светлана, с ее горячим характером, во что бы то ни стало будет на этой встрече. Вот бы и мне туда попасть! Я убил бы Дудаева и рука моя б не дрогнула. Ведь именно он виновник всего этого кровавого побоища. Да еще Ельцин.
Яраги ушел к начальству получать задание. Наконец, нам выдали снайперские винтовки, и мы будем заняты тем, для чего подписывали контракт. Опытные бойцы рассказывают молодым о тактике ведения снайперской войны. Здесь все не совсем так, как в Боснии. После выстрела необходимо как можно быстрее убраться с позиции, иначе на стрелка обрушится град снарядов. Групп прикрытия здесь тоже нет. Все работают в одиночку.
Я не видел еще за свою жизнь такого огромного количества мертвых. Трупы валяются в самых неожиданных местах. В основном, это мирное население и русские. Люди гибнут везде: когда идут в город в поисках воды и пропитания, когда отправляются проведать соседей, когда сидят дома.
На город падают листовки: «С кем ты, чеченский народ?». «С Аллахом, не с тобой же, Ельцин!» – ругаются ополченцы. Листовки пачками летят в костер.
– Война? А посмотришь вокруг – тишина, птицы поют, вон девушки улыбаются, – говорит мне Петрович.
– В городе – полнейшая анархия, так что, я думаю, никто вами интересоваться не станет, – говорит Яраги. – ФСК здесь почти не работает, занимаются чем попало. В общем, вся эта шумиха с независимостью яйца выеденного не стоит. На высоких постах много дилетантов. Все заняты лишь тем, как бы побольше украсть. Так же, как и Ельцин, главный мародер.
– Посмотрим, – говорю я, – кто тут мародерствует.
…Днями мы заняты тем, что выслеживаем на позициях русских солдат и стреляем, стреляем и еще раз стреляем. Русские солдаты в Грозном ведут себя совсем, как где-нибудь в Омске или Новосибирске. У них совершенно отсутствует чувство самосохранения. Убивать этих вояк – полная бессмыслица. Это дети с оружием. Но я подписал контракт и поэтому «работаю». Кровь течет рекой, Яраги вполне доволен мной и моими напарниками из группы. Отработав неделю, мы выбираемся с помощью чеченцев из Грозного в сельскую местность и отдыхаем. В деревнях царит полный мир. Чеченцы кормят нас, просят не особенно высовываться на улицу, чтобы не было провокаций. Отдохнув три дня, мы возвращаемся назад на войну.
Прошло только две недели с начала нашего появления здесь, а все уже успевает измениться. Раньше, когда русские атаковали, они пускали вперед танки, которые ополченцы поджигали из гранатометов, гранаты начинены напалмом, потом отсекали пулеметным огнем пехоту, а затем брали горящих танкистов в плен. В отместку работает только русская артиллерия. Снаряды лупят по домам, превращая их в обломки, смешивая жильцов с бетонной и кирпичной крошкой.
Но уже теперь тактика русских меняется. Они образовывают ударные группы и охотятся на таких, как мы, снайперов. Мало того, они вообще поотходили по всему фронту, высылают вперед хорошо экипированных наводчиков, и те корректируют огонь артиллерии. В нашу задачу теперь входит противодействие русским ударным группам и уничтожение наводчиков.
– Надо брать пленных, – однажды заявляет Яраги. – Пленные – это большие деньги, а оружия у нас все меньше.
– Сколько времени вы намерены воевать? – спрашиваю я у Яраги.
– Если понадобится – всю жизнь! – отвечает чеченец.
Я замечают, что характер Яраги с приездом на родину изменился. Это только подтверждает, что нацию, народ делает местный ландшафт: горы, быстрые реки, характер почвы, растительность. В Минске Яраги был спокойным малым, продающим по стаканчику перекупленные у узбеков арахисовые орешки. Здесь, в Грозном, он превратился в хищника, защищающего свое материнское логово.
Мы совершаем ночную вылазку на окраину города. Идем втроем: я, Петрович и Яраги. Взяли в плен ровно десять человек. Целое отделение. Солдаты спали беспробудным сном во главе с командиром. Охраны никакой не было. Куда они приехали? На курорт?
Когда мы привели пленных к дворцу президента, то по дороге слышали, как ополченцы просили нас отпустить этих мальчишек.
В подвалах дворца Яраги тоже приказали отпустить пленных, кроме офицера.
– Если вы еще попадетесь, то я вас не пощажу, – кипятится Яраги. Теперь пленных надо вывести обратно, потому что иначе они погибнут под бомбами или орудийными выстрелами.
Через пару дней Яраги высматривает в бинокль своих бывших пленных. Те снова с оружием, и снова на бронетранспортерах.
– Все, паршивцы сраные! – кипятится Яраги, – я жизнь положу, а они опять будут пленниками!
Через день к Яраги приводят нескольких пленников. Это те самые, которых он в тот раз отпустил. Избитые в кровь солдатики упрятаны в подвал одного из домов.
– Что ты будешь с ними делать? – спрашиваю я у Яраги. – Постреляешь?
– Нет, – ответил чеченец, – я придумал кое-что поинтереснее. – И ушел в подвал. Глаза его горят зловещим огнем.
Когда чеченцы выходят из подвала, я вижу, как Яраги вытирает газетой нож. Ради интереса, я спускаюсь в подвал и вижу, как на полу со стонами валяются русские парни, держась руками за пах. Под ногой у меня лопается кровяной шарик. Другие такие шарики валяются тут и там. Боже, они же их кастрировали! Меня едва не вытошнило. Сам не свой я выбрался из подвала и некоторое время не находил себе места. Это уже черт знает что, а не война.
…– Ты поедешь в Минск и привезешь еще десять человек, – сказал однажды Яраги. – Мы тебя выведем из Грозного, а дальше действуй сам.
Как только я это услышал, перед моими глазами предстала Лена. Однако существование Тимура отравляло мое отношение к ней. Чувство ревности жгло мне сердце. «Удобный случай ее проверить, – носились в голове мрачные мысли, – я заявлюсь неожиданно, и посмотрю, с кем, Лена, ты спишь.»
Я понимал, что это несколько недостойно мужчины, но не мог управлять собой.
…Ровно через три дня я шел по мирному Минску. Контраст с военным Грозным был поразительным. Особенно радовали глаза смеющиеся дети, но, словно тени, за ними стояли окровавленные пленники в Грозном…
Вечер я выстоял возле подъезда дома, где жила Лена. У меня с собой был бинокль. Мне, конечно, стыдно, но я рассматривал в бинокль окна квартиры своей женщины. Своей ли? Я поймал себя на том, что чуть ли не хочу увидеть в окнах Тимура. Но никого там не оказалось. Окна черны. Потом появилась Лена, и никто к ней так и не пришел. Я поднялся на ее этаж и нажал на кнопку звонка…
Лена была бесконечно счастлива, и весь следующий день мы провели вместе. У нее появился автомобиль. Это бывший «Мерседес» Гершеновича, себе он купил новый «Вольво». Уставшие от любви, но безмерно счастливые, мы чувствовали себя так, словно молодожены в первые дни медового месяца. Вечером неожиданно зазвонил телефон.
– Не поднимай трубку, не хочу ни с кем разговаривать, – сказала Лена. – А вдруг что-нибудь срочное?
Я промолчал. Лена выждала еще несколько звонков и резко поднялась с кровати.
– Алло, – уставшим голосом бросила она в трубку, но тут же изменилась в лице. – Привет! Ты уже звонила? Да, меня не было. Ты себе представить не можешь…
Я сделал вид, что не хочу слушать женские сплетни, и вышел из комнаты. Но как только я вышел, через щель начал наблюдать за Леной. Она сразу же пригнулась, прикрыла ладонью трубку и стала быстро что-то говорить. Слов я не разобрал.
Когда я вернулся в комнату, Лена опять лежала на кровати в своем тонком цветастом халатике.
– Лена, кто звонил, если не секрет? – спросил я.
– Да подружка. Собирается замуж, хорошая девушка! Мы учились в одной школе.
– Тогда давай выпьем за твою подругу!
Я вышел на кухню и через несколько минут вернулся с подносом в руках, на котором красовались бутылка французского шампанского, два мандарина и два бокала.
Лена поднялась с кровати, и в это время опять зазвонил телефон.
– Черт побери, – возмутился я, – по-моему, его надо отключить, а то нам не дадут сегодня и слова друг другу сказать.
– Наверное, опять подруга, – Лена торопливо схватила трубку, но на ее лице сразу же появились испуг и растерянность.
– Да, – почти шептала она, – я только вернулась. Нет. Хорошо.
Она осторожно положила трубку и с мольбой в глазах посмотрела на меня.
– Это Тимур.
Но я уже и сам все прекрасно понял.
– Ну и что? – спросил я.
– Он будет здесь через десять минут…
– И что ты предлагаешь? – мое лицо сделалось каменным. Неужели Лена искренна и не лжет?
– Юра, я тебя умоляю, уходи!
– Значит, уходить должен я?
– Ну, прошу тебя! Я тебе обещаю, все будет хорошо. Я разберусь с ним.
– Разберешься? А потом со мной, да? – я начал нервно расхаживать по комнате. Лена, словно тень, следовала за мной, все время пытаясь дотронуться до моего плеча, но я нервно дергал им и отступал в сторону.
– Я брошу его, обещаю, что брошу!
– Когда? Через день? Через месяц? А, может, через год? Сколько мне еще ждать? Ты ему что-то должна?
– Пойми, ведь это все его! Квартира, мебель… Он мне купил ее. Я ведь нищая!
– Ты не нищая, но ты боишься стать ею. Ведь правда? Ты привыкла к роскоши, и тебя теперь пугает другая жизнь.
– Да, пугает, – Лена зарыдала, – но ведь я обещаю тебе, что сегодня наша последняя с ним встреча. Ну, пожалуйста, поверь мне!
– Хорошо, я тебе верю.
Я подошел к окну и посмотрел на слабо освещенную улицу.
– Ну, уходи же, он вот-вот появится, – умоляла Лена. – Ведь это плохо кончится и для тебя тоже.
– За меня не беспокойся.
Я резко повернулся, протянул руку, чтобы погладить ее волосы, но передумал и быстро направился к выходу. Лена закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали.
Я быстро спустился вниз. Громко хлопнула дверь в подъезде. Я остановился и посмотрел по сторонам. Было темно, но я узнал человека, который в это время метрах в пятнадцати от меня закрывал дверцу своего автомобиля. Тот тоже оглянулся на стук закрываемой двери подъезда, но, кажется, меня не узнал, потому что тут же опять повернулся к своему автомобилю.
Я быстро направился в противоположную сторону. Неужели я люблю Лену? Это очень мучительное чувство. Я сгораю от ревности. А мне, тем не менее, следует работать. Я должен срочно набрать группу снайперов. На сегодняшний день это невероятно трудно. Дело не в деньгах, в чем-то другом. Один из кандидатов в снайперы со мной говорил следующее:
– Куда же я поеду, если в Грозном ждут нового штурма. Перемирие закончилось тринадцатого января, да? Как докладывает Сергей Ковалев, на сегодняшний день в Грозном и его окрестностях погибло около восемнадцать тысяч мирных жителей, да? Кто против кого там воюет? Это я поеду шлепать детей и старух? Чеченцы сами с армией справятся. Знаешь, сколько там русских полегло? Дудаев называет соотношение пятьдесят к одному. Он полагает, что за каждого одного чеченского ополченца Россия положила пятьдесят солдат. Сергей Ковалев также считает, что потери российских военных превосходят потери чеченцев… Нет, никуда не поеду. Это не позиционная война, где все понятно: тут свои, там чужие…
– Ты прав, – пытаюсь уговорить я парня, – руины Грозного завалены трупами. Да, ты не ошибаешься, это – трупы российских солдат. Их грызут одичавшие собаки. Да, эти обглоданные останки были чьими-то сыновьями. А ты знаешь, сколько там пленных? У иных из них началась гангрена… Они тоже чьи-то сыновья. И чем быстрее мы поможем закончить это кровавое побоище, тем меньше будет страданий.
Агитатор из меня неважный. За меня агитируют деньги. Большие деньги, которые добывает Тимур. Но Тимур не жалеет денег и на Лену. Меня все это бесит.
Поэтому меня нисколько не удивило, когда в кабинете Гершеновича я однажды застал Анастасию. Никого – ни Тимура, ни Гершеновича на работе тогда не было. Тимур уехал в Литву, а Гершенович был в Польше – повез туда свою секретаршу.
Анастасия долго сидела в кресле, а я, как ни в чем не бывало, занимался своим делом. Потом женщина подошла ко мне и заглянула мне в глаза. Я еще раз отметил красивый цвет ее глаз. Они были серые, словно сигаретный пепел. На лице у Анастасии не было ни следа косметики, но оно было прекрасно. Неужели ее разжигает желание? Или она попросту была деловой женщиной, умело распоряжающейся своим единственным товаром – телом?
– Мы займемся любовью? Меня всего передернуло:
– Что тебе от меня нужно? Если денег, я их дам и так. Я не занимаюсь любовью с трупами!
– Но я воскресла… – сказала женщина, и я почувствовал, что не я ею, а она овладеет мной. Анастасия сбросила с себя на пол плащ. Во взгляде ее было что-то змеиное: чарующее и опасное. Под плащом у Анастасии оказалось шерстяное платье. Я почему-то знал, что под ним ничего нет. Женщина обхватила платье руками на спине и сказала:
– Ты мне поможешь…
Мне захотелось увидеть эту женщину голой. Совершенно голой. При дневном свете. У меня возникло острое желание сначала овладеть ею, а потом убить. Задушить собственными руками, как будто я – сексуальный маньяк. Испытать при этом острое, неиспытанное ранее наслаждение, когда ее тело, тело этой змеи будет содрогаться под моими пальцами на ее шее. Я решительно шагнул к ней и потянул платье вверх. Передо мной вновь предстало удивительно красивое женское тело. Кожа женщины от холода покрылась крупными пупырышками. Неужели я в самом деле задавлю эту гусыню?
– Тебя там, в Чечне, случайно не кастрировали? – спросила Анастасия, играя глазами. – Чего ты стоишь?
Я уже намеревался обхватить женщину руками, повалить на пол, забыв обо всем на свете, даже о том, что дверь офиса не заперта. И тут дверь внезапно распахнулась. На пороге застыла изумленная… Лена. Откуда она тут взялась?
Анастасия без тени смущения уселась в кресло. Рука ее даже не шевельнулась, чтоб хотя бы накинуть платье.
Лена густо покраснела. Она задыхалась…
– И ты, и ты… – силилась она что-то сказать, повернулась и убежала. Из окна офиса я видел, как она рывком тронула свой «Мерседес» и, разгоняя прохожих, помчалась по улице.
– Так мы займемся тем, что намечали, – услышал я томный голос.
– Если я смогу, – признался я.
– Успокойся, расслабься, и ты сможешь все. Ты – отличный боец… – уже шептала женщина, поглаживая меня, – а дверь не запирай, так я быстрее и больше возбуждаюсь…
Я щупал пупырышки на женской коже, пытался разгладить их, и мне становилось все противнее. Произошло обыкновенное спаривание: без нежности, почти грубо, чисто механически. Мой маниакальный порыв задушить Анастасию прошел. Я теперь думал о том, как я оправдаюсь перед Леной.
Действительно, после этого случая Лена словно в воду канула. Лишь на третий день, когда я открыл своим ключом дверь ее квартиры, увидел в зале свет.
«Лена»! – радостно подумал я и тут только вспомнил, что сегодня мы собирались в театр.
«Черт, как это я забыл?» – я представил обиженное лицо женщины, и мне стало не по себе.
Я разделся и медленно побрел в зал, на ходу соображая, как бы загладить свою вину.
– Ну-у, – покачал я головой, увидев на Лене новое платье, – в нем ты просто сногсшибательна!
– Да, согласилась Лена. – К сожалению, тебе по вкусу другие платья. Оно тебе действительно нравится?
– Очень. А ты не простудишься в этом платье? В квартире холодновато. Лукашенко экономит нефть…
– Нет, не простужусь. К нему есть перчатки.
– Что ты говоришь! А где они? Я могу на них взглянуть? Покажи, пожалуйста.
– Пошли, они в спальне.
– В спальне? Как это мило!
Я осторожно направился вслед за Леной, стараясь предугадать, чем это может для меня закончиться. Она взяла с журнального столика белые перчатки.
– Видишь? – спросила. – Сейчас я их надену, чтобы не поранить руки, когда буду бить тебя!
И она действительно начала неторопливо надевать их, проделывая это с таким удовольствием, словно палач, безумно любящий свою работу.
– За что ты хочешь меня бить? Что я такого сделал? – я изобразил на своем лице недоумение.
– Ты уже успел опять переспать с ней, да? «И какой черт меня дернул рассказать ей про эту Анастасию!» – выругался я про себя. Как-то на днях я признался Лене, что видел Анастасию живой и невредимой. К моему удивлению, Лена поначалу не обратила на это внимания.
– С кем переспать? – я сделал вид, что ничего не понимаю.
– Я сейчас убью тебя?
– А где ты возьмешь пистолет, чтобы убить меня?
– Ты мне дашь, – невозмутимо и нагло ответила Лена.
– Но у меня его нет.
– Значит, вернешься на работу и принесешь мне. Заодно еще раз посмотришь на свою любимую Настю. Можешь даже полизаться с ней. Впрочем, ее уже там, конечно, давно нет. Как, впрочем, и дома. Ты думаешь, ты один у нее такой красавчик? Наивный! Не удивлюсь, если она окажется вообще какой-нибудь нимфоманкой, а? Она может кончать от вибрации в лифте, ты не знал? Кроме того, мне будет гадко, если ты принесешь мне какую-нибудь заразу.
Поняв намек, я приблизился к женщине, нежно обнял ее и тихо сказал:
– Послушай, я люблю только тебя, страшно люблю.
И Лена сразу же обмякла и прижалась к моей груди.
Золотой свет настольной лампы разлился по полу, а ему наперерез из-под кресел, из-под журнального столика бросились длинные тени; испуганные, слеповатые, они высунули свои ужасные фигуры, похожие на изуродованные трупы, из-за телевизора, из-за дивана, из-за старого самовара, из-за круглых часов на стене…
У женщин подобного рода все решается через секс. И правильно! Разве может быть что-нибудь лучше этого хмельного чувства невесомости и полного отсутствия в пространстве и времени, лучше этого полумрака, этих легких шагов и еле слышного шелеста туго натянутой на бедра юбки?
– Эй, соня! Это что, у тебя такой метод выпрашивания кусочка секса?
Я неохотно открыл глаза. Увидел прекрасные рыжеватые волосы, большие карие глаза и неожиданно для самого себя спросил:
– Слушай, Лена, зачем я тебе нужен?
– Почему ты так решил? А вдруг – не нужен? Ее груди тесно облегала белая блузка, они резко выступали под ней вытянутыми, заостренными полушариями, и я подсознательно, словно тонущий, который хватается за тонкую ветку посреди реки, потянулся к ним и начал ласкать, словно маленьких котят.
Она не оттолкнула меня, даже не промолвила ни слова, только груди – я почувствовал это – напряглись, казалось, даже потяжелели, соски еще больше обострились, будто маленькие котята почувствовали опасность и навострили ушки.
Вдруг Лена подалась вперед, обняла мою голову руками и поцеловала в мочку уха: раз, второй, третий…
…Тимур вернулся из Литвы, у него там не все получилось, и теперь мне надо ехать туда самому. Он весь в заботах. Под глазами мешки, руки мелко дрожат.
– Русские объявили, что они потеряли убитыми сорок четыре человека. Сто шестнадцать бойцов было ранено. Пятьдесят девять захвачены в плен. Подбиты и сожжены десятки единиц техники, несколько вертолетов… Наконец-то эта свинья, Ельцин, признается: убитых и раненых много. А вот из того, что власти обнародовать забыли, напомню – множество солдат на передовой обморозились, потому что были брошены в зимнюю кампанию без теплого белья, без обеспечения горячей пищи, без создания пунктов обогрева.
– Что в Литве говорят об этой войне? – спрашиваю я.
– Разное… Но в основном говорят об возрождении империи, готовятся к обороне. Разве не варварство, что второго января прямо на базар в Шали было совершено пять налетов? Десятки трупов – «точечное бомбометание» по скоплению народа. Когда в Сараево одна мина упала на базар, об этом закричал весь мир. Шали – маленький городок. Кто про него знает? Такие удары наносятся сейчас по всем предгорным селениям…
…В Минске уже нет желающих ехать за пару тысяч «зеленых» подставлять себя под бомбы. В Литве, в одном из киллерских центров мне надо заключать контракты. Я «делаю» паспорт и уезжаю на несколько дней туда.
Когда возвращаюсь, то заглянув в квартиру Лены, нахожу ее спящей перед включенным телевизором. Я тихонько подхожу к ней, беру с пола пульт дистанционного управления и переключаю телевизор на другой канал.
На лице тут же проснувшейся женщины застыло удивление, но вот она, что-то почувствовав, резко обернулась, и ее глаза заискрились радостью.
– Кто приехал! – закричала Лена, вскочила с дивана и бросилась мне на шею.
– Привет, крошка, я рад тебя видеть!
Я обнял ее и поцеловал.
– Но ты же говорил, что приедешь не раньше, чем через неделю.
– А ты что, не рада меня видеть? – я состроил обиженное лицо.
– Рада.
– А ну-ка, давай рассказывай, чем занималась в мое отсутствие?!
– Как видишь, смотрела телевизор.
– Все эти дни?
– Да.
– Плохое алиби, – я улыбнулся.
– Почему?
– Потому что это легко проверить.
– Как?
– Расскажи, что творится в Чечне?
– Пожалуйста. Недавно передача была, там сельский учитель, шестидесятилетний человек рассказывал, что прямо при нем в деревне его ученику, четырнадцати лет, мозги вышибли. Из пистолета. Как он мог быть учителем в этой деревне?
– То есть, война в полном разгаре? Да?
– Там про одного полковника рассказывали. Он белорус. Имя не называли. Теперь он на российской стороне. Он приехал вывозить из Грозного жену и детей. Во время бомбежки их убило – это было уже после двадцать третьего, когда, как говорит Грачев, бомбежки прекратились. Подполковник согласился командовать любым подразделением в Чечне, но у местных жителей хватило ума не допустить этого. Ладно, сыщик, ты, наверное, проголодался?
– Немножко.
– Сейчас поищем что-нибудь в холодильнике. Лена почти бегом, напевая песенку, направилась на кухню. Я устало опустился в кресло, вытянул ноги и, нажав кнопку на пульте приглушил звук телевизора.
– Ты есть будешь на кухне или тебе принести?
– Принеси, – попросил я.
Через несколько минут Лена подкатила передвижной столик, на котором красовалась бутылка шампанского и несколько тарелок – с салатом, тонко нарезанной сырокопченой колбасой, солеными грибами, сыром.
– Ого, – удивился я, – откуда такое изобилие продуктов?
– Это ты называешь изобилием? – пожала плечами Лена, – значит, не видел настоящего изобилия. И я покажу его тебе, как только ты дашь мне достаточное количество денег.
– Достаточное – это сколько?
– Двести тысяч хотя бы.
– Всего двести тысяч? – я даже переспросил. – Ты что, может, собираешься на них нолики дорисовывать?
– Ты меня не понял: двести тысяч в день.
– А-а-а, – вырвалось у меня, – ну тогда, пожалуй, можно обойтись без ноликов.
– Ну, давай же, откупоривай шампанское! Лена забралась на диван рядом со мной и преданно смотрела мне в глаза:
– Как я без тебя соскучилась!
– Я тоже.
– Это мы скоро проверим.
Я покачал головой, улыбаясь одними глазами, и начал разливать янтарный напиток по бокалам. Через пару дней я уеду в Чечню: под пули, под осколки, в мрак, в неизвестность.
…И вот, наконец, мы все сделали, снова закупили два джипа и теперь мы опять «врачи без границ». Старый, хорошо зарекомендовавший себя способ попасть в Чечню.
Знакомая дорога на юг не показалась такой длинной, как в первый раз. Но мы были вынуждены для прикрытия на несколько дней заняться не совсем свойственным наемникам делом. Мы развернули передвижной госпиталь в Ингушетии. Ребята-литовцы выдают себя за швейцарцев, и на двух джипах с красными крестами ежедневно отправляются в Чечню за новыми и новыми ранеными. Ингуши вместе с нами возят чеченцам хлеб и продовольствие, рискуя жизнью, попадая под обстрелы…
Но только так мы сможем попасть в Грозный.
Однажды по дороге мы подобрали женщину, которая с плачем сказала, что ее сын сгорел в танке в Грозном. Просит помочь: «Я хочу поехать, привезти хоть кусочек моего мальчика…». Ей диктуют номера каких-то телефонов, она дрожащими руками записывает их на клочке бумаги, плачет и звонит. Милиционера, который что-то вынюхивает, она явно нервирует. «Да чем вам здесь помогут?» – говорит он ей, пытаясь выпроводить.
Мы попали в Грозный, не дождавшись темноты. Простреливался город уже будь здоров. Мне повезло: я со своими «дикими гусями» из Литвы присоединился к группе ополченцев, поехал на передовую, чтобы там узнать, где Яраги и мои ребята из первой группы. Мне удалось поговорить с ополченцами. Я встретился с людьми, которым оставалось жить час, может быть, сутки. Потому что тот район потом был взят федеральными войсками. Там были не только чеченцы, но и много людей других национальностей.
Опять я видел большое количество трупов. Откуда только берутся? И погибают все молодые… В холодные глаза погибших русских ребят я смотрел двое суток. Это были не те парни, которые погибли в минувших боях. Эти погибли за последние двое-трое суток. Я их насчитал в Грозном больше двухсот.
Такой кровищи я, кажется, еще не видел. Я прекрасно помню, с каким дикарским наслаждением в Москве снарядами точно так же расстреливали людей. Это был всем хорошо известный российский гуманизм. Цена ему – грош. Шла настоящая гражданская война. Никто не считает отрезанные головы и руки солдат, не считает снаряды, которые летят на мирных жителей. Неужели есть люди, которые считают, что ради сохранения единства России нужны трупы? Но предъявить претензии к войне – это не в моих правилах.
Яраги не узнать. Он зарос, почернел еще больше. Глаза лихорадочно блестят. Он отводит меня в сторону и без обиняков предлагает:
– Тебе задание – убить Ису Далгаева. Он командует Шалинским танковым полком.
Я соглашаюсь.
В эти дни Грозный напоминает город, разрушенный в годы минувшей войны. Так говорят ветераны, избежавшие в сорок пятом фашистской пули на той войне и чудом не попавшие пятьдесят лет спустя под российские бомбы на этой.
Мне дают проводников. Мы едем на двух старых «Жигулях». Ополченцы родом из Пригородного района в Ингушетии.
– Мы уже попробовали русского свинца. Мы знаем, что такое российские танки – два года назад, в Пригородном районе… Все повторяется: там тоже были «незаконные вооруженные формирования», – говорит наш водитель Муса, депортированный из Пригородного района. – Все повторяется… Ельцин хуже Сталина. Ведь Чечено-Ингушетия отдала Борису Николаевичу на выборах в президенты девяносто шесть процентов голосов. Мы сами выбрали свою гибель.
Многие ингуши, воевавшие в Пригородном районе, едут сражаться в Грозный.
Дороги забиты беженцами. Здесь, в Ингушетии, только-только сумели разобраться со своими семьюдесятью тысячами из Пригородного района. И вот новые тысячи чеченских мирных жителей.
По мусульманским обычаям, покойный должен быть захоронен в день смерти. Поэтому убитых ополченцев и тех, кто погиб в ходе российских бомбардировок в столице Чечни, быстро увозят родственники. Россия потеряла уже более тысячи военных. Некий местный инспектор ГАИ на трассе, ведущей в Назрань, якобы сумел приоткрыть брезентовый тент армейского грузовика, остановившегося на одном из постов. В кузове инспектор увидел тела военных в форме, плотно уложенные на полу.
Я видел не один грузовик, а три КамАЗа. Причем точно известно, что в каждом КамАЗе можно разместить более пятидесяти тел российских военнослужащих.
Оружия у нас нет. Мы приехали в Нальчик, а потом пристроились за колонной российской бронетехники из тридцати пяти БТРов, которая двигалась по старой дороге из станицы Слепцовская в Грозный. Так нам удобнее попасть в Шали. Навстречу нам ехала колонна беженцев из Чечни. Неожиданно со стороны беженцев раздалась автоматная очередь. Несколько русских солдат свалились с брони. Тогда четыре БТРа выехали из колонны и обстреляли автобусы и машины. Боже, что творилось! Мои проводники скрежетали зубами. Когда люди побежали, солдаты стали добивать их из автоматического оружия. Убитые валялись прямо на дороге. Те, кто успел упасть в кюветы, спаслись.
Мы отстали от колонны бронетранспортеров и заехали в одно из селений. Всех нас одиннадцать человек – я, как командир, и десять моих подчиненных, включая проводников.
Все бойцы переоделись в маскировочные комбинезоны грязно-зеленого цвета, за плечами – вещмешки, в руках – автоматы. Оружие и амуницию проводники достали у местных жителей.
Быстро вытянувшись в одну шеренгу, отряд спешно скрылся в небольшом лесу.
Пройдя около километра в северном направлении, я остановил отряд, достал карту и, внимательно разглядев ее, сказал:
– Если все правильно, через два километра должен быть бывший военный полигон, переоборудованный под небольшой аэродром, куда садятся самолеты с оружием и наркотиками. Это хозяйство оппозиции. Его надо уничтожить. Всем быть предельно внимательными и осторожными.
И отряд опять двинулся вперед.
Через пятнадцать минут деревья неожиданно расступились, и впереди действительно показался аэродром. Правда, если его так можно назвать, поскольку единственными признаками этого были лишь небольшое взлетное поле да одинокий АН-2 на его краю.
Несколько человек, военных, на деревянных ящиках у домика, напоминавшего русскую баню, играли в карты. Рядом лежали автоматы.
– Ратомкин? – едва слышно прошептал я, и один из парней моей команды осторожно развязал вещмешок, достал из него сверток, немного повозился с ним и так же неслышно прошептал:
– Готово.
– Иванаускас, Горулев – прикрытие. Ратомкин – вместе с Пузыней, – снова приказал я.
Четыре человека, прячась за деревьями, осторожно начали обходить аэродром, чтобы подобраться к самолету с той стороны, с которой их вряд ли смогут обнаружить охранники.
Остальные бесшумно, словно змеи, поползли поближе к кромке поля.
Время для меня, казалось, остановилось. Я вслушивался в тишину, боясь нарушить ее даже вздохом, готовый в любую секунду нажать на курок и всадить целый магазин в любого из охранников, который попытается нарушить мои планы.
Прошла минута, две.
Пот выступил на лбу, но я не вытирал его, боясь пошевелиться. Хорошо быть предоставленным самому себе, отвечать только за себя. Но если ты командир, ты в ответе за жизни других. От этого появляется напряжение.
Прошло пять минут. Десять. Наконец, вернулись Пузыня и Ратомкин, за ними – Иванаускас и Горулев.
Уже по их лицам легко было догадаться, что все прошло хорошо.
– Все ко мне! – приказал я и, выждав, когда все соберутся, нажал на кнопку пульта дистанционного управления.
Раздался мощный взрыв. Самолет мгновенно взорвался, его части разлетались далеко в стороны. Охранники, сидевшие метрах в тридцати от самолета, даже не успели сообразить, что случилось – сотни горячих осколков мгновенно пронзили их тела.
– Уходим! – я впервые здесь, на этом задании, отдал приказание громко, ничего не боясь.
Теперь мне предстояло убрать Далгаева. Однако приехал гонец от Яраги, который отозвал группу с задания. Ситуация изменилась. Яраги остался доволен даже частью выполненного задания. Как я понял, были убраны конкуренты в торговле наркотиками.
– Знаешь, – сказал Яраги, когда я с ним увиделся, – предатели чувствуют себя здесь хозяевами. Так я пришел к тебе, чтобы сказать, что завтра после обеда в Знаменском состоится встреча представителей российского Министерства обороны с Автурхановым и ему подобными.
– Откуда тебе это известно? – спросил я.
– Московская птичка рассказала, – хитро улыбнулся Яраги. – Так вот, тебе надо наделать там шума. Я не могу приказать кого-нибудь убить, охрана там будет, что надо. Но пошуметь со своими «дикими гусями» нужно. Ты пошуми.
– Да. Настоящая гражданская война. Не правда ли?
– Не мы эту войну развязали! – неожиданно со злобой сказал чеченец. Потом отвернулся, уставился в окно с выбитыми стеклами.
– Я пойду, если ты не против?
Яраги ничего не ответил. Он стоял возле окна и молча смотрел в черные глаза ночи. И ничего не видел там.
В эту ночь авиация нанесла удар ракетами и бомбами по Урус-Мартану, где сосредоточено сорок пять тысяч жителей и пятнадцать тысяч беженцев. Там многие друзья Яраги. Этой же ночью Грозный пережил шесть ракетно-бомбовых ударов. Рано утром ракетами разрушены дом для сирот и жилой дом рядом. Дети находились в подвале и не пострадали. В пятнадцать часов нанесен ракетный удар по микрорайону «Минутка». Бойня! Это была настоящая бойня!
Во время бомбардировок мы отсиживаемся в подвалах, а в остальное время пытаемся вырваться из Грозного. Потом необходимо совершить налет на указанную цель.
Обстановка ежедневно меняется, что усложняет выполнение задания. Судя по всему дудаевская цитадель в Грозном – президентский дворец, или, как его еще называют здесь, Белый дом Чечни – Ичкерии, доживает последние часы. Вместе с теми, кто в нем находится. Пока у нас нет возможности выбраться из Грозного. Мы нужны здесь. На российских солдат ведется настоящая охота. Нам эта охота удается более удачно, чем самим чеченцам.
Едва темнеет, мы выбираемся наверх из подвала и идем по развалинам. С нами всегда кто-нибудь из ополченцев. Для того, чтобы мы не напоролись на самих же чеченцев. Сегодня в сопровождении идет сам Яраги. У него в руках автомат. У нас – у каждого вещмешки с минами-ловушками, которые мы должны установить на улицах, в кварталах домов, заминировать трупы. Яраги ведет нас по известному только ему маршруту. Иногда его окликают по-чеченски, он отвечает.
Непрерывные бомбежки заставили нас укрыться в подвале. По центру города бьют гаубицы, на головы сыплются мины. Это настоящий Сталинград. Я установил свою рацию и слушаю в радиоэфире боевиков. Из разговора между «Пантерой» и «Циклоном» (позывные боевиков) было ясно, что дело идет к концу. Кровавая развязка действительно близка. «Пантера» сообщала «Циклону», что самолеты добивают здание, раз за разом нанося по нему ракетные удары. «Снаряды прошивают нас сверху до самого подвала. Спастись невозможно». Им в ответ: «Уточните, есть ли попадания в те отсеки, где находятся пленные». Трудно понять, занялся ли кто-нибудь уточнением.
Впечатление такое, что осажденным не до пленников. Они не просили о подмоге, а готовились к отходу. Подкрепления, кстати, им не обещали. Яраги мне рассказал, что последняя группа, которая должна была заступить на смену, отказалась идти во дворец. Пятеро «отказников» расстреляны.
– Кто расстреливал? – спрашиваю я.
– Дудаевцы, кто же еще, – отвечает Яраги. Он хоть и защищает город, но подчиняется командованию, которое поддерживает Дудаева. Однако я заметил, что особых симпатий к генералу он не испытывает.
С наступлением темноты, говорилось в донесении «Циклона», всем нужно было выбираться из дворца и уйти за Сунжу. Для тех, кто не сможет перебраться на правый берег, местом встречи назначалась площадь «Минутка».
Мы сидим в подвале недалеко от президентского дворца. Если он падет, то русские будут прочесывать местность и обязательно найдут нас. Рядом, в соседнем здании Совмина, внутри которого уже почти две недели идут непрерывные бои за этажи, а точнее, за то, что от них осталось – обрушенные пролеты, куски бетона на искореженной арматуре, – полегли сотни солдат и морских пехотинцев. Чеченцы справляются с этим делом не хуже, чем авиация. Особенно удачно они охотятся по ночам на армейские похоронные команды, выносящие раненых. Мы на такую охоту не ходим. Пока мы здесь. Нам трудно выбраться из Грозного. Чтобы выполнить намеченное задание, появляемся на этажах со снайперскими винтовками. Мы шагаем по трупам российских солдат, засыпанными обломками. Да, Грозный постигла участь Карфагена. Вот чеченцы тащат пленного военврача. Они взяли его в аэропорту. Я останавливаю знакомых ополченцев и расспрашиваю пленника. Оказывается, что только с утра до полудня в районе дворца дудаевцы «набили» шестьдесят человек… Случайно или нет, но брать дудаевский дворец будут солдаты тридцать третьего мотострелкового полка, того самого, в котором пятьдесят лет назад служили знаменитые Егоров и Кантария.
Мне все это начинает не нравиться. Я знаю, что со взятием президентского дворца территориальный раскол города резко изменится. Возможна паника, анархия. Трудно будет управлять своей «десяткой».
Однако мои предположения оказались неточными. Даже неверными. Дворец разбомблен, ополченцы ушли оттуда, но город почти полностью под их контролем.
Перед началом штурма я слышал, как авиация дала команду всем «сухопутчикам» залечь в укрытия по возможности глубже и не высовываться. Су-25 били по дворцу. Один из моих парней, знающий на слух все виды фугаса, говорил, что не может понять, чем стреляют бомбардировщики.
Полностью блокированный центр, казалось, не давал возможности осажденным выбраться из него. Но, когда закончилась бомбардировка и пошла пехота, во дворце никого уже не было. Мы вместе с дудаевцами покинули его ночью, уйдя за Сунжу, а потом выбрались в северо-западный район, протянувшийся узкой полосой на десятки километров.
Ополченцы изощряются в тактике ведения боев. Минометы, установленные на «КамАЗах», дав один залп, моментально перемещаются в другой район. А вчера русская установка «Град» накрыла свою же разведроту в районе аэропорта, куда подступают горы и леса.
Когда мы уходили, вместе с нами шли и другие наемники – «джентльмены удачи», основу которых действительно составляют отнюдь не афганские моджахеды и арабы, а русские. Один из «диких» или «серых гусей», бывший спецназовец рассказал мне, как он набирал «на свои кровные» ребят из Свердловска. Надоело беззаконие. Все воруют: и вчерашние партийцы, и нынешние «новые русские». Его молодые ребята согласились ехать в Чечню за «лимон». Показал контракт, по которому лично он за три месяцы получит всего тысячу двести долларов. В контракте, по словам спецназовца, указан его домашний адрес, родственники, жена и дети. Если оставит позиции раньше срока, все поименно указанные в списке будут убиты. Таково условие. Разговоры о «больших деньгах», о тысяче долларах за сутки и за каждого убитого солдата я теперь считаю выдумкой официальной пропаганды. Оказывается, мне еще «повезло» с Тимуром, он снабдил меня достаточным количеством денег. Правда, эти деньги «грязные», полученные от продажи наркотиков.
Сами чеченцы мне говорили, что боевики не испытывают недостатка в вооружении и боеприпасах, которые поступают к ним с юго-запада в количествах, не меньших, чем получает российская армия. Остается загадкой, откуда это оружие?
Российские войска применяют уже испытанную тактику – прочесывание боевыми группами. Снайперы уничтожаются артиллерией. Так погиб один из моих литовцев – Чепайтис. Если бы я засиделся с ним еще полминуты – был бы и мне каюк. Но я вовремя ушел.
Иногда я слушаю в радиоэфире голоса командиров российских подразделений. Из их разговоров становится понятным, что каждый из них потерял за неполные три недели почти всех своих соратников. Обещают замену в конце января, но мало кто из них верит, что обещание – уже третье по счету – будет выполнено.
В их интонациях чувствуются злость, раздражение и какой-то страшный азарт. Желание «разобраться с чеченцами», добить их, кажется, преобладает над здравым рассудком.
«От целого взвода я остался один, – говорит среди шипящего шума некий „Орел“. – Теперь не уйду отсюда, пока не отомщу за своих парней. С ними я жил в одном доме… А если я потом в Волгограде, где живу, увижу чурбана – руками разорву!».
…В конце концов, нам удалось вырваться из осажденного города, и мы пробираемся на юг на двух автомобилях. Правда, не все. Часть парней-наемников еще осталась, воюет там. Ратомкин, Горулев…
Вяло течет разговор.
– Юрий! – сказал мне литовец Иванаускас, – мы сегодня видели мощную гаубицу, которую полтора часа тому назад ополченцы захватили в качестве трофея у русских вместе с запасом снарядов, и видели боевую машину пехоты. С нашей точки зрения, русские разучились воевать! Как вы думаете?
– Русские очухаются. Очухаются быстро. Тогда нам не сдобровать. Впечатление такое, что в России нужно было сделать кровопускание, и Ельцин его сделал. Сначала передал Дудаеву оружие, а теперь это оружие изымает. Дебилизм какой-то!
– Это чеченцам не сдобровать, а мы-то что? У нас контракт, – резонно ответил Иванаускас. – Мы тут разговаривали с пленным одним. Совсем еще мальчик, четверо суток провел, будучи засыпанным в подвале, оказалось, он – солдат Майкопской бригады. Когда Дудаеву, как вы говорите, передавалось оружие, этому мальчику было всего четырнадцать лет. А сегодня он вынужден решать проблемы, которые были заложены взрослыми людьми с высокими званиями…
– Конечно, отвечают за кровь мальчишки, которые отношения к этой войне не имели. Зато другие рядятся в тогу благодетелей, очень благородных людей. Особенно стараются некоторые продажные журналисты. Они ведь говорят, что тут дети погибли, а, еще хуже, сочиняют, что наемники вроде нас, заскочив в один из детских садов, изнасиловали всех детей, воспитателей и поварих. А женщину, которая им об этом якобы рассказывала, воспитательницу из детского сада, они не смогут поставить перед телекамерой, поскольку она, видишь ли, боится за жизнь своих детей и свою собственную.
Я похлопал ладонью по пухлому саквояжу, который мне вручил Яраги, и добавил:
– Ребята, зачем нам политика, когда у него есть консервы?
– И выпить найдется, а?
– Да, вода здесь плохая, – я сделал вид, что ничего не понял.
– Ой, хитрец! «Вода плохая»! Ой, хитрец! – добродушно захохотал один из бойцов, минчанин Шуляковский, и я тоже не выдержал и рассмеялся.
Через несколько минут нас обогнал мотоциклист. Черный шлем почти полностью скрывал его лицо, но я успел рассмотреть глаза мотоциклиста – успел потому, что тот тоже внимательно посмотрел на меня. Они были холодные, злые. Мотоциклист обогнал нашу машину, потом обогнал машину, идущую впереди и, еще прибавив скорости, растворился в дорожной пыли.
– Мне не понравились его глаза, – наклонившись к Шуляковскому, произнес я. – Как бы мы не вляпались в дерьмо! Один чеченец приказал убить другого чеченца. Может, нас предали а? Нутром чую какую-то мерзость…
– Да брось ты! – сказал Шуляковский. Он положил мне руку на плечо и добавил:
– У всех у них здесь такие глаза.
– Глаза глазами, но, бывает, что таких гусаков, как мы, пускают под нож, чтобы не кормить. Ты так не думаешь? – недобрые предчувствия зашевелились во мне.
С левой стороны дороги простиралась равнина. С правой – подступали горы. Дорога огибала их, делая крутой поворот. Передняя машина шла почти не сбавляя скорости, и я покачал головой:
– Куда он так несется?!
– Молодой, резвый – сказал Шуляковский. – Я тоже в юности был автолюбителем, лихачил будь здо…
Шуляковский не успел договорить. Машина круто повернула вправо и тут же резко затормозила.
Я еще успел увидеть несколько больших камней, которые перегородили дорогу, увидел стоявшую около них машину с охраной. Тут же раздался взрыв, передняя машина загорелась. А потом все слилось перед глазами, все звуки смешались в один грозный нескончаемый грохот. Вот оно и сбылось, недоброе предчувствие!
– Поворачивай, поворачивай! – закричал я водителю, хотя тот и так изо всех сил крутил руль влево.
Шуляковский выхватил автомат и начал стрелять почти наугад, потому что люди, открывшие по нам огонь, прятались за обочиной, во рву.
Впрочем, беспорядочная стрельба вначале немного, но помогла сидящим в машинах – пули проносились мимо нас, хоть и рядом; не причиняя особого вреда, рвались заряды гранатометов. Но я понимал, что ненадолго… Ведь достанут, все равно достанут…
Силы были слишком неравными, как и положение, в котором оказались стороны.
Вот загорелась вторая, наша машина. Из первой выскочил и тут же был расстрелян автоматной очередью ее водитель – чеченец.
Сидящие на заднем сиденьи мои бойцы не успели сделать и этого – один из них был убит шальной пулей, а второй скончался от осколков гранаты.
Автомобиль, в котором сидел я, наконец, развернулся, но в это мгновение ему наперерез по склону побежали несколько человек и открыли по машине огонь. Водитель вскрикнул, дернулся и затих. Литовец Иванаускас, сидевший рядом с ним, схватился за грудь, и по его пальцам потекли темные струйки крови. Одной рукой он схватился за ручку в дверце, она повернулась, и он вывалился на дорогу.
– Стреляй, Коля, стреляй! – закричал я Шуляковскому, сам посылая очереди, одну за другой в противника.
Когда те, на дороге, стрелявшие по нам, сами упали замертво, я быстро перебрался на переднее сиденье, освободил водительское сиденье от трупа шофера, нажал на газ, и машина рванула вперед.
Позади слышались автоматные очереди, несколько пуль просвистели рядом, но я только немного пригнулся и, как завороженный, смотрел вперед и давил, давил на газ, уносясь из этого страшного места.
Проехав так километра три, я, наконец, почти отпустил педаль акселератора и устало выдохнул:
– Кажется, все… Вырвались! Слышь, Коля?
Шуляковский молчал. Я резко повернулся и увидел, что он лежит, запрокинув голову, а изо рта у него сочится кровь.
Я ударил по тормозам. Машина резко остановилась.
Я вышел из нее, осторожно открыл заднюю дверцу и взял соратника за запястье руки, нащупывая пульс.
Шуляковский был мертв. Что поделаешь? Пришлось и его тело оставить на обочине шоссе. Потом я опять сел за руль.
Как можно быстрее нужно было добраться до штаба чеченской оппозиции, чтобы сообщить о предательстве. В том, что это предательство, я не сомневался. Но я поехал самой длинной, пустынной дорогой. Тянул время. Впервые в жизни я не выполнил задания. Не потому, что это было невозможно, а потому, что не хотел этого. Мне надоели трупы. У меня перед глазами стояло озеро с плещущимися в нем утками, я видел перед собой Лену, которая гладила белье, и даже запах горячего утюга был таким заманчивым…
…Яраги встретил меня недружелюбно.
– Узнай, кто это делает, – сказал он, выслушав мой краткий рассказ о предательстве. Парень явно не отдавал себе отчета в своих действиях. Он уже перестал правильно ориентироваться.
– Хорошо. Только как я это сделаю?
– Если среди нас есть предатель, то это, конечно, чеченец. Единственный, кто знал о готовящейся операции – Тимур. Тебе этого мало?
– Нет… Так мне Тимура проверять?
– Почему ты настолько спокоен, когда говоришь о Тимуре? Тебе недостаточно того, что он спит с Леной?
– Просто я не стал делать из этого трагедии, – у меня внутри медленно накапливалась злость.
– К твоему сведению, у Тимура есть разные паспорта… Он может смыться в любое государство Европы, у него открыты счета… Он давно замечен в том, что нечист на руку. Тебе следует поехать в Минск и разобраться с ним. Через него пропущены огромные деньги, а он снарядил, с твоей помощью, разумеется, только две группы снайперов! Дудаев… – Яраги показал пальцем вверх, – не очень-то и доволен Тимуром. Кроме того, все выплаты «серым» или «диким гусям» отменяются, посколько они мертвы. Спрашивается, куда деваются деньги? А теперь этот прокол с Автурхановым? А?
– Так, значит, мне следует проверить Тимура?
– Да. Благодаря решительным действиям наших сотрудников удалось обнаружить его банковские счета не только в российских банках, но и за границей – на Кипре, в Германии, Швейцарии… Вот так, Тимур!.. Я понимаю… Он отмывал наши грязные деньги. Отмывал в беспрецедентном масштабе. Это миллионы долларов…
Яраги сжал кулаки и зло прошептал:
– Он ворует наши деньги! Я их заработал, мои братья их заработали, а он ворует их у меня! Кто-то должен ответить за это! Кто-то обязательно ответит за это! Клянусь, ответит! Я хочу, чтобы эта собака больше не считала себя хозяином положения, а нас недоносками!
– Красивые слова!
– Да, красивые! Как и сама идея нашей независимости, которую хотят растоптать!
– Независимость, которая достигается за счет нефти и наркотиков?
– Пусть и так! Все средства хороши, особенно, когда выбирать не из чего. Но я тебя не затем позвал, чтобы спорить с тобой или… – глаза его зло блеснули.
– Хорошо. Ты хочешь, чтобы эта, как ты говоришь, собака не считала себя хозяином. Слушай, а если это все-таки рука Москвы, рука Кремля? – уже спокойнее произнес я.
– Вот таким ты мне больше нравишься! – заулыбался Яраги. – Если это Москва, то мы найдем способ, как ей отомстить.
– Какой способ?
– Мне надо подумать. Может быть, ты скоро поедешь в Минск. Или позже… Неважно… Я скажу, когда… Я тебе сейчас дам отличную прослушивающую аппаратуру. Куплена в Германии…
И Яраги направился к выходу.
Я спускаюсь в подвал. Стонут русские пленные. Среди них много раненых. Смотрю, возле раненых бродит женщина. Приглядываюсь – и вижу журналистку Светлану. Она смотрит на меня, но не узнает. Ее взгляд отрешенный, безучастный. Она смотрит словно сквозь меня.
– Светлана! – зову я. – Чередниченко! Девушка вяло улыбается. Глаза ее, наконец, проясняются:
– И ты здесь?
Я пытаюсь вывести девушку наверх, прочь от пленных, но озлобленный ополченец, который присматривает за ними, не отпускает ее.
– Она – враг! – кричит ополченец. – Она наводила на нас русскую артиллерию! Она должна умереть…
– Но она только журналистка!
– Она проститутка… Ее захватили в плен, когда трахалась с офицером…
Светлана мрачнеет. Лицо ее в саже. Руки в крови раненых. Она устало опускается на груду кирпичей. Я ставлю автомат между ног и сажусь рядом.
– Хочешь вырваться отсюда?
Девушка молчит, взгляд у нее потухший. Неожиданно она всхлипывает:
– После того, что я увидела здесь, я не хочу жить…
…С помощью Яраги мне удалось освободить журналистку. Теперь она в моей группе. Когда мы выберемся из Грозного, она может катиться ко всем чертям! Мое же задание состоит в том, чтобы попытаться «пощипать» оппозицию, предателей.
Мы сидим и слушаем по радиоприемнику выступления министра обороны Российской Федерации. Восторг, с которым Павел Грачев живописал по телевидению смерть восемнадцатилетних солдат, погибающих в Грозном «с улыбкой на устах за Россию», мне непонятен.
– Боже, – шепчет Светлана, – какая ложь, какое лицемерие! В Грозном я видела совсем другое. Еще до штурма президентского дворца встретила одного пленного раненого офицера из разбитой в новогоднюю ночь сто тридцать первой Майкопской бригады. Фамилии он не назвал, как и многие из тех, с кем мне приходилось встречаться, но, проклиная «тупых генералов» и всех, кто заварил эту «чеченскую кашу», отрешенно сказал: «Да и вы, журналисты, не пишете правду. Все – вранье!». Что ж, за правдой надо ехать только на передовую. Кстати, желающим попасть туда препятствий никто не чинит. Если нашел место в вертолете, а затем и на попутке, считай, что ты у цели.
– И ради чего ты все это делаешь? – спросил я. – Почему тебе не сидится в Москве?
– Люди должны знать, что в мире творится. В Боснии, в Сомали… В этом грозненском аду… Знаешь, Юра, здесь на выездных дорогах везде стоят обгоревшие щиты «добро пожаловать». Там, наверху – ад, а вот здесь подвал кажется потерянным и обретенным раем. Только забившись в подвал, не сомневаешься, что еще имеешь отношение к роду человеческому и что ты не на том, а на этом свете. Юра! Я законченная атеистка, но истово крестила свой лоб в темном чреве БТРа, который подобрал меня у аэропорта, перед тем, как я попала в плен…
Залпы орудий, если и не слились в протяжный вой, то гремят без умолку, и невозможно понять, кто по кому стреляет. Подвал напоминает Ноев ковчег, где на небольшом пространстве расположился пункт управления дудаевскими частями. Здесь встретишь и беженцев, и заплаканных солдатских матерей, и «думцев» – в основном, жириновцев и выбороссов. Вся активная жизнь протекает в подземелье. Наверху находиться опасно – из глазниц окружающих зданий бьют российские снайперы. Взятие президентского дворца не стало поворотным этапом. В центре города и прилегающих к нему кварталах по-прежнему идут бои.
…Наконец, мы, наемники, – те, кто еще уцелел, – решаемся выбираться из Грозного. Вместе со Светланой, разумеется. Надо выполнять новое задание.
Все мы переодеваемся в форму солдат федеральных войск. Теперь мы – якобы бойцы тридцать третьего полка. Главное для нас – это не напороться на блок-пост.
Блок-посты, то и дело упоминаемые в разговорах, представляют собой небольшие группы российских солдат, тех самых восемнадцатилетних «героев», что сидят в подвалах и штурмуют этажи, а когда все взято, они не могут покинуть без приказа своих позиций. Они лишь с наступлением темноты получают боеприпасы, еду. И у них надо забрать раненых! Эти юнцы набрались опыта и отчаялись. Они готовы перегрызть горло любому, кто в них выстрелит. Поэтому трудно решить, когда лучше идти. Если идти ночью, то напорешься на тех, кто подвозит боеприпасы. Днем от артобстрелов и снайперов покоя тоже нет.
Мы перебегаем от подвала к подвалу. В очередном убежище застреваем надолго. Снаряды рвутся прямо над нами.
Артобстрел продолжался более двух часов. Потом наступило затишье. Пока мы пытались разобрать завал, начало светать.
– Все, – сказал я, – «днюем» тут.
Перед входом в убежище на земле лежат шесть заснеженных трупов. Сверху их привалило обломками дома. Это так называемые «неопознанные». Мы затаились и видим, как к полудню приходят российские командиры, ищут своих, но этих за своих не признали. Трупы лежат, наверное, дня три. Подъехавшая санитарная машина тормознула было, но не остановилась. Светлана не выдержала, протиснулась между бетонными плитами, выскочила перед машиной и пытается навязать эти трупы санитарам. Те отказываются их брать. Не знают, куда везти. Правда, военврач, вышедший из машины, настоял, чтобы погрузили. «Везите, куда хотите», – сказал он санитарам. На снегу остались патроны, гранаты, десантный нож.
Кругом руины, рисующие сцены апокалипсиса. Пытаемся пробраться через улицу. Натыкаемся на трех солдат, которые спрашивают дорогу. Убивать их нет смысла. Поэтому мы только просим рассказать их, можно ли пройти на окраину через этот район. Те раздраженно отвечают, что сами потеряли своих и теперь ищут. У одного лаза в подземелье мы увидели часовых. Встреченные нами трое солдат устанавливают с часовыми контакт. Часовые пригласили зайти внутрь подвала. Оказалось, мы попали к тем, кто уцелел от тридцать третьего полка. Это опасно, по нашей легенде мы тоже из того полка Я не знаю даже фамилии командира…
Холод, копоть, тьма. Иду, натыкаясь на тела спящих. Рядом готовят обед: с помощью паяльной лампы. Разговор у всех один: Дудаев – гад, Ельцин – сволочь. Ребята – военные, им приказали, они остаются верны присяге, иначе трибунал. Вот и вся окопная правда.
У мертвого солдата вывалилось из кармана письмо. Я незаметно беру его и в укромном уголке начинаю читать: «Папа! Поймет меня лишь тот, кто испытал тридцать суток войны. Сперва было тяжело. Теперь это уже привычка. Не знаю, папа, но мне кажется, я стал волком, который готов разорвать любого в считанные секунды. Папа, это ужасно… Мне снится дом, домашний хлеб. Не думай, что я здесь голодаю. Наоборот, ем то, что ты ел по праздникам и то не всегда. Жаль, что двое моих друзей не смогут уже никогда вернуться домой. Будь проклята эта война! Проклятый снайпер! Я его разорвал на куски… Отец, у меня автомат с подствольным гранатометом. Я этого снайпера засек, в горячке прорвался к нему поближе и увидел девку лет двадцати. Она сидела и „шлепала“ наших пацанов, как мух. Я ее окликнул, она обернулась и увидела меня. Она была испугана, сука! Не ожидала. И я выстрелил из гранатомета прямо ей в грудь, одни куски остались… Отец, я этого никогда не забуду. Не дай Бог, если мои друзья увидят такое! Пусть лучше они не знают, что такое война.
У меня уже две медали. Одна за Петропавловку – «За отличную воинскую службу», там мне пришлось попотеть. И «За отвагу». Это за Грозный. Маме ничего не говори. Знай, что твой сын не трус, как говорил Витька, и ни разу не дрогнул, не оставил ребят в беде».
– Птенец «гнезда Грачева», – бормочу я и рву письмо на мелкие кусочки.
Мы уходим из подвала и пробираемся по простреливаемым улицам Грозного на окраину. Спустя некоторое время нам удается остановить «Жигули» и вытолкнуть оттуда водителя. Плевать, что чеченец рычит и злится. Когда мы отъезжаем, он хватается за кирпич и бросает нам вдогонку. Для него мы – мародеры. Русские мародеры. Интересно, кому он пойдет жаловаться? Или снимет с первого попавшегося трупа оружие и начнет убивать сам? Не знаю.
Когда наш «жигуленок» выехал из Грозного, в пятидесяти метрах перед нами на небольшой высоте завис российский вертолет. При этом дуло его пулемета медленно повернулось в нашу сторону. В доли секунды мы выскочили из машины и оказались в кювете. Стрелять пилот не стал… Своеобразие загадочного русского характера.
Потеряв, по моим подсчетам уже около четырех-шести тысячи солдат, большое количество техники, изрядно разрушив Грозный, российская армия уверенно обогащает мировую военную науку опытом ведения городских боев в современных условиях.
– Да, – говорит щуплый, но удивительно жилистый минчанин Ратомкин, – намолотили чеченцы русских.
– Никто же толком не знал, что и как делать, попав в большой город. Ребята гибли по-глупому… Теперь вот кое-чему научились, – вторит ему Гору-лев.
– Подтверждаю, научились. Узнали, что бронетехника на улицах города – это «гробы на колесах». Только на собственных ошибках, да еще такой ценой, сами знаете, кто учится, – говорю я.
Автомашина увязла в грязи на проселочной дороге и мы бросили ее. Проводник довел нас до селения. Там мы попрощались со Светланой. Ей помогут оттуда добраться до Москвы. Скорее всего, на перекладных…
Дальше – горы. Днем нас повели в горы, а еще через два дня мы вышли в долину. Здесь я получил от проводника последние инструкции, в том числе и кое-что существенное. По сообщениям радио в это время в Грозном пытаются заключить перемирие и вовсю трезвонят о создании правительства национального примирения…
Впрочем, меня это мало волновало. Я со склона горы смотрел в бинокль на копошащихся в долине людей, на часовых, расставленных на дороге, и мне было немного жаль их. Сколько им осталось жить – час, полчаса или того меньше?
По дороге к дому, расположенному в долине, направилась очередная машина – черный «Мерседес». Кто-то за моей спиной тихо произнес:
– Третья. А сколько их должно быть? Я повернулся к говорящему:
– Этого, к сожалению, мы не знаем. Будем ориентироваться по тому, что начало встречи назначено на двенадцать часов.
Я посмотрел на часы: было без пяти минут двенадцать.
– А вон еще три машины, – сказал тот же парень, который только что задавал вопрос мне.
– Насколько я понимаю, в двух из них – первой и третьей – находится охрана, – не совсем уверенно произнес Ратомкин.
– Значит, вполне вероятно, что это появился Автурханов. Сейчас мы проверим.
Но человек, вышедший из второй машины, стоявшей между двумя, все время находился к нам спиной. К тому же, его сразу заслонили собой охранники.
– Черт бы их побрал! – выругался Ратомкин. Мы со злостью смотрели, как мужчина в черном костюме в сопровождении нескольких человек направляется в дом. За ним тут же закрылась дверь.
Я включил рацию:
– «Скорпион», «Скорпион», как слышно? Вызывает «Медведь». Как слышно? Как слышно?
Секунд двадцать-тридцать я безуспешно пытался вызвать из небытия «Скорпиона». И вдруг он отозвался. Это и было то самое существенное, что передал мне проводник-чеченец. Теперь мне оставалось только навести российские бомбардировщики на этот дом, где скрылся тот, кого нам необходимо было убрать.
– «Скорпион», «Скорпион»! Это «Медведь», даю координаты: квадрат А-6, по той карте, что вы мне дали! – передавал я по рации.
– Вас слышу, понял. Укажите цель в квадрате А-6! – ответил летчик.
Цель – большой дом в углу квадрата под красной черепицей. Рядом – автомашины… Черные «Мерседесы». И еще всякие-разные…
– Вас понял, ждите… – последовал ответ. Самолет Су-25 появился в небе внезапно. Словно опустился из космоса. Из маленькой мошки он превратился в тускло блестящую в скуповатых лучах солнца машину с идеально правильными геометрическими формами. Вот он сделал первый заход, высматривая цель. Заложил вираж и неожиданно быстро возвратился. Теперь он несся чуть выше, но на большей скорости. Неожиданно от корпуса самолета отделилась серебристая «болванка». Из конца «болванки» полыхнул огонь, и ока устремилась к дому под черепичной крышей. А из дома уже выбегали люди – очевидно, владельцы или водители черных «Мерседесов», чтобы разогнать их в стороны, потому что в таком скоплении они представляли собой прекрасную цель. Серебристая «болванка», не пролетев и половины пути, неожиданно распалась на несколько бомб поменьше, которые с угрожающим воем неслись к цели.
Мощный взрыв потряс все вокруг. Это был даже не один Взрыв, а целая серия взрывов. На площади чуть меньше гектара земля «встала дыбом». На том месте, где только что стоял дом, взметнулся в воздух огромный черный столб дыма, из которого вырывались страшные языки пламени. Доски, обломки черепицы, куски человеческих тел летали в воздухе.
Словно завороженные, смотрели мы на картину бомбардировки. Поэтому не заметили, как второй Су-25 тоже появился над целью и выпустил свою страшную кассетную бомбу.
Вверх, словно сделанные из картона, поднялись искореженные автомобили, люди, точнее то, что от них осталось…
– Уходим! – скомандовал я. – А то сейчас хватятся… Наводчиков искать начнут.
…Мы шли по незнакомой местности. Карта, которую дал мне проводник, была очень мелкого масштаба. Мне уже казалось, что мы заблудились. Мой «отряд» остановился у маленькой горной речки.
Привал? – спросил Ратомкин, который всегда отличался рассудительностью. – Горулева в дозор? – вновь спросил он у меня.
– Да ладно тебе, – недовольно пробурчал Гору-лев, – какой тут к черту дозор – ни одной души на пять километров!
– Спорить будешь со своей мамкой на печи, – зло сказал Ратомкин и опустился на камень. Горулев обиженно зыркнул на него своими зелеными глазами, но ничего не сказал и медленно направился вдоль речки к небольшой рощице.
И тут произошло следующее: оружие мы аккуратно сложили в одном месте, а потом спустились к воде, чтобы помыться. Прошло минут пять. Уже скрылся в ближней рощице Горулев, уже, разувшись, вытянув усталые Ноги, лежали мы на осеннем солнышке. И вдруг автоматные и пулеметные очереди рассекли воздух. Растерянные, ничего поначалу не понимающие, мы вскочили. А с горы прямо на нас медленно спускалось человек тридцать, одетые кто во что, с автоматами и ручными пулеметами наперевес. Скрыться на громадной поляне было некуда!
Только два человека: я да Ратомкин, как заколдованные, лежали рядом, прижавшись к земле, и все пули пока, к счастью, пролетали мимо нас.
И вот стрелявшие подошли к нам и ткнули дулами автоматов в спины:
– Вставайте!
Я и Ратомкин медленно встали.
– Руки за голову.
Мы выполнили и эту команду.
– Быстро вперед! – показали нам в сторону горы. Мы побрели в указанном направлении.
– Быстрее!
Мы ускорили шаг.
– Еще быстрее.
И мы почти бежали. А позади раздалось несколько автоматных очередей – для пущего страху.
«Что делает Горулев? Неужели он ничего не предпримет? Он видел все это, стоял же еще в то время, когда прозвучали первые выстрелы на опушке рощицы! Почему не открыл огонь? Неужели ему каюк?»
– Куда нас ведут? – спросил Ратомкин.
– Не разговаривать! – рявкнули сзади.
Нас вели назад по дороге. Больше всего я боялся, что нас выведут к дому, который разнесли в щепки российские бомбардировщики. Разъяренные жители разорвут нас в клочья. Хорошо, что рация осталась среди оружия, которое мы так небрежно на этот раз оставили вдали от себя. Преступно небрежно. Видимо, сказалось напряжение…
Нас ввели в селение. Затолкали в подвал. Целую ночь мы просидели там. Ранним утром нас неожиданно вывели оттуда.
– Здравствуй! – неожиданно услышал я за своей спиной знакомый голос и хотел было оглянуться, но тут же мне в спину уперлось дуло пистолета.
– С приездом! – сказал тот же голос.
– Спасибо, – ответил я, еще ничего не понимая.
– Видишь вон те зеленые «Жигули»? – спросил незнакомец, и теперь я вспомнил этот голос. Киреев! Откуда он взялся? Неужели успел навербовать группу? Что он предпримет?
– Вижу, – повертев головой, наконец, ответил я.
– Давай к ним! Как только очутишься рядом, вскакивай в автомобиль, заводи – и по газам. Ключ в замке…
– Понял.
Когда мы подошли к машине, Киреев внезапно выстрелил в охранника и в Ратомкина.
– Открывай дверцу.
Я рванул ее на себя, вскочил в салон на место водителя.
Мотор взревел, Киреев с пистолетом опустился на заднее сиденье.
– Поехали! – крикнул Киреев.
– Куда? – не оборачиваясь, спросил я.
– Я покажу. И запомни: я стреляю без предупреждения!
– Знаю, – мягко сказал я. Машина резко тронулась с места.
Когда мы выехали за селение, я нарушил молчание.
– А знаешь, – сказал я, – по-моему, нам по дороге.
– До определенного времени.
– Кто ты, Киреев? За кого?
Машина чуть дернулась в сторону и опять поехала ровно.
– Что, испугался? – насмешливо спросил Киреев. – Так знай, я – честный человек, который воюет только за себя. Постой, постой… Да у тебя железные нервы! Ты чего лыбишься, зубоскал?
– Я обрадовался, – ответил я.
– И в чем причина твоей радости?
– Что меня расстреляют свои, а не чеченцы.
– Я хочу тебе помочь. Зачем же тебя расстреливать? Ты можешь искупить вину…
– Помочь мне? Разве можно искупить такую вину?
– Да. Я уже тебя вытащил. Разве не помог?
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ты провалил всю нашу операцию! Ты, Юрий!
– Провалил? Я???
– Да, провалил! Тебя обманули. В этот дом, который только что столь усердно раздолбала авиация, должен был приехать Дудаев, на встречу с оппозицией.
– Это ты решил нас всех наколоть, праведник! – не выдержал я. Кирееву нельзя было верить. Я это знал.
– Короче, парень. Тебя обманули, и сейчас ты никому из них не нужен. Живой ты им только мешаешь! – после паузы ответил Киреев…
Через полчаса езды на машине он приказал загнать автомобиль в лесок, и дальше мы пошли пешком. Шли долго, очень долго, углубляясь в лес, поднимаясь все выше в горы.
База отряда Киреева находилась в небольшом охотничьем домике, расположенном в горном ущелье. Когда-то здесь любили останавливаться охотники, но с разделением республики на два враждующих лагеря домик стал пустовать. Да и сами охотники начали понемногу забывать свое ремесло, так как это стало небезопасно – человека с ружьем легко было принять за врага, и ничего не стоило выпустить в него несколько шальных пуль.
– Ну, что? – бросил Киреев часовому у двери и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Я направился за ним. Киреев взял со стола трубку радиотелефона и стал набирать номер. В домик вошел часовой.
– Связь-то не наладил, – зло улыбнулся Киреев, – а ты мне все время лапшу на уши вешаешь. Сейчас мы с тобой разберемся…
Я не понял, с кем собирается разбираться Киреев, и ничего не спросил, а лишь устало опустился на узкую, расшатанную лавку. Если не считать нескольких военных вещмешков, в домике ничего не выдавало присутствия здесь людей. Огромный стол посреди единственной комнаты, несколько табуретов – вот и вся мебель. Везде чистота и порядок. Будто никто не живет здесь вообще.
– Алло! – крикнул Киреев в трубку. – Вызывает «Агроном». Да, я. Агрессор готов. Присылайте вертолет. Что? Что это значит?.. Вы же сказали, если я сделаю это, то вы поможете мне. Вы же гарантировали, что…
Киреев с минуту растерянно смотрел на радиотелефон, а затем с силой швырнул его в стенку.
– Они опять отключили спутниковую связь, – глухо сказал он.
Я промолчал. Смутные догадки приходили мне в голову. Наверное, Киреева повязали. Заставили отрабатывать. И он начал специализироваться на охоте на «диких гусей», ведя двойную, а, возможно, и тройную игру! Дурак!
– Последний раз они вышли на связь вот отсюда, – Киреев постучал по карте пальцем и умолк, перевел дыхание.
Метрах в ста от домика текла небольшая речка. С левой стороны к ней подступали горы, а чуть дальше по течению виднелась крохотная рощица.
– Черт, это сколько же мы протопали пешком? – спросил я. – Километров десять?
– Что-то около того, – взглянув на часы, ответил Киреев. «Столбняк» у него прошел.
– На машине мы бы добрались сюда значительно быстрее, – сказал я.
– Она нам еще пригодится, кроме того – это конспирация, сам понимаешь…
Киреев похлопал по плечу своего бойца, как оказалось, единственного, кто остался с ним тут, в этом домике, из его команды, и добавил:
– Ладно, я раскрою тебе все карты. Как я уже говорил, сюда должен был приехать Дудаев. Я был внедрен среди аппозиции. У меня было задание грохнуть Джохара. Ты спутал все наши карты. Дудаев не успел доехать, скрывается здесь неподалеку, если не умчался, конечно, в Турцию. Мои бойцы, возможно, где-то в этой роще, – Киреев постучал пальцем по карте. – Без моей команды они вряд ли что-нибудь станут предпринимать.
– А какое у них задание? – поинтересовался я. Киреев на это недоверчиво посмотрел на меня, но все же ответил:
– В трех километрах отсюда – склад с боеприпасами. Нам надо было его ликвидировать. Но это только прикрытие главного моего задания.
– А что, разве он не охраняется?
– Охраняется, – спокойно ответил Киреев. – В нем, кроме стрелкового оружия, есть снаряды для зенитно-ракетных установок, тротил, мины. Там капитальные подвалы! Короче, от пуль все к черту, вероятно, не взлетит. Это не на полчаса работы. Если нет Дудаева, все равно надо склад грохнуть. Ты мне поможешь? А то у меня, не знаю точно, наверное, один этот «гусь» и остался…
– Ладно, – соглашаюсь я. – Долг платежом красен.
Спустившись к речке, мы двинулись в сторону рощи.
– Сюда бы летом приехать, – мечтательно сказал я.
– Летом здесь тоже стреляют, – ухмыльнулся Киреев.
– Но не вечно же здесь будут стрелять.
– Не знаю. А по мне – так лучше поскорее отсюда унести ноги.
– Куда?
– А хоть куда!.. Кстати, ты где родился? В Минске? Я никогда раньше об этом не спрашивал, а сам ты никогда не рассказывал…
– На юге Беларуси.
– Значит, ты тоже южанин… Эх, так хочется напиться! От души! Чтоб даже на карачки стать не мог. Вернусь в Ростов, праздник для души устрою!
– Ну, знаешь, еще вернуться надо…
– Да ладно, разведчик, не дрейфь, выберемся мы из этого дерьма. Вот только ребят моих найдем!
Мы подошли к самой опушке рощи.
– Что дальше? – спросил я.
– А дальше – пойдем туда, в лес.
Он сделал уже несколько шагов к ближайшим деревьям, как вдруг из-за них выскочил грязный, ободранный парень и вцепился Кирееву в шею.
– Ты бросил нас! Ты бросил нас! – кричал он.
– Спокойно! – попытался оторвать от себя его руки Киреев.
– Ты бросил нас! – упрямо повторял парень. Я подбежал к ним и разнял их.
– Он не виноват! – тяжело дыша, сказал я.
– А кто же? – зло бросил боец.
– Я. Я виноват, – пришлось мне взять на себя вину. Парень сумасшедшими глазами уставился на меня, потом тяжело опустился на землю.
– Что случилось, Алеша? – тихо спросил Киреев.
– Мы с Петром были в дозоре, – не сразу ответил парень. – Услышали стрельбу. Пока разобрались откуда, пока бежали… Выбегаем сюда вот – а они их уже добивают. Ножами, палками. Чтобы патроны не тратить.
– Так где остальные? – не своим голосом спросил Киреев.
– Мы их похоронили. Недалеко здесь. В лесу.
– А Петро где?
– Пошел к вам в домик. Только что. Его еще можно догнать. А я сказал, что не пойду к предателю, – обиженно добавил боец. Киреев провел шершавой ладонью по его лбу, сказал, обращаясь ко мне:
– Видишь, каких неврастеников нарожала перестройка… А нам с ним еще склад надо уничтожить. Этот склад снабжает Грозный оружием.
Мы подобрали Петра, который тоже был почти в истерике. Киреев рассказал о своем плане по уничтожению склада. Он основывался на моем знании паролей чеченцев, некоторых имен. Я должен был проникнуть в склад и навести там шорох.
– Вот тебе пистолет, спрячь куда-нибудь. Лучше всего прибинтуй к ноге, – сказал Киреев. – Когда мы услышим шум, будем штурмовать склад.
Моя задача – не из легких. Я подумал, что, вероятно, я совсем беспринципный. Рожден, чтобы убивать, как только кто-нибудь прикажет. Но у меня не было иного выхода.
…Когда я подошел к бывшему КПП бывшей российской воинской части, из окошка будки часового показалась заспанная голова человека кавказской национальности.
– Куда прешь? – спросила голова недовольным тоном.
– Мне нужно встретиться с Тимуром Кильчибеевым, – как можно вежливее ответил я.
– А кто это такой? Он тебе назначал встречу? – поинтересовалась голова.
– Нет.
– Значит, он тебя не может принять. Тем более, что его здесь нет.
– А может, стоит попытаться?
– Слушай, ты что, русского языка не понимаешь? Ты со мной поругаться хочешь, да? Ты что за птица такая?
Тогда я сказал условный пароль и протянул бумажку, которую дал мне на всякий случай Яраги. Я понимал, что этим самым превращаюсь в предателя… Тут же из окошка высунулась рука и взяла документ.
– Так бы сразу и сказал, – голова теперь смотрела на меня с нескрываемым интересом. – Только пойдешь без оружия…
– У меня его нет, – ответил я. Пистолет был прибинтован к левой щиколотке.
– Хотя, если хочешь знать правду, плевать я хотел на вашего Тимура, – пробормотал часовой и не стал меня обыскивать.
Вернув мой документ, часовой снова спрятался в будке, и я только слышал его голос:
– Махмуд, позвони Рафику, скажи – русский пришел. – И через минуту: – Ладно, отведи его.
Из будки вышел парень лет двадцати пяти, с густой черной щетиной и коротко остриженный. На плече у него словно пастушья плеть, болтался автомат Калашникова.
– Пойдем, – сказал парень мне и первым направился по бетонной дорожке к зданию, в котором, наверное, раньше находился штаб. Я внимательно огляделся по сторонам. Вокруг было пусто, словно все вымерло. Мы подошли к зданию, и навстречу нам с камня, лежащего у входа, поднялся еще один часовой.
– Отведи его к Рафику, – сказал тот, который пришел вместе со мной.
– Сам отведи, – огрызнулся часовой.
– Слушай, почему ты так разговариваешь? – взорвался коротко остриженный.
– Ты что, думаешь, взял в руки автомат – и все, начальником стал?
– Ладно, уговорил, – почесал затылок часовой. – Пошли, – бросил он мне.
Рафик сидел в большом кабинете и нетерпеливо ждал незванного гостя.
– Садись, – сказал он, когда я переступил порог кабинета, и глазами указал на стул с другой стороны стола. – Чем могу помочь?
– Я не знал, к кому еще могу обратиться, – присаживаясь, начал я. – Речь идет о наркотиках. Мой компаньон всегда давал травку в Нальчике, а вот сейчас…
– Хороший бизнес, парень, но, понимаешь, деньги вперед.
– Я на деньги от наркотиков набираю наемников: воевать на стороне Чечни против федеральных войск, – произнес я заранее придуманную фразу. По-моему, вышло убедительно.
– Да? Хорошо. Значит, денег нет, а что дальше?
– А дальше вы мне дайте товар и помогите выбраться из Чечни…
Брови Рафика поползли вверх:
– Каким образом?
– Вы прекрасно знаете, каким. Мне нужна бригада сопровождения…
– Сколько ты возьмешь товара? – спросил Рафик и поправил свой автомат, лежащий на коленях.
– По максимуму…
– Центнер героина тебя устроит? – чеченец снял с колен автомат и положил перед собой на стол. – Героин высший класс. Приперли прямо из «золотого треугольника».
У меня перехватило дыхание. Килограмм героина стоил порядка двадцати-тридцати тысяч долларов. Если нам с Киреевым удастся перепродать этот героин, то мы станем богачами на всю оставшуюся жизнь. Я слегка нагнулся, чтобы почесать ногу. Пальцы нащупали пистолет, и я осторожно потянул его на себя.
– Маловато, – продолжал блефовать я.
Но Рафик оказался не таким дураком, как это могло показаться на первый взгляд.
– Хорошо, – сказал он. – Только в долю войду я. Мне – тридцать процентов.
– Я не могу гарантировать тридцать процентов. Не я этим распоряжаюсь… Сколько вы можете дать мне человек для группы прикрытия? – спросил я, делая вид, что поправляю носок, а тем временем высвобождая пистолет из-под резинового бинта.
– Нас всего пять человек на базе, понимаешь… – мрачно сказал Рафик.
– Четыре! – сказал я и, вытащив пистолет, выстрелил Рафику в лоб. Голова его откинулась назад. Я схватил автомат со стола и выбежал в коридор. По коридору уже бежали часовые. Я выпустил очередь из автомата по ним. Мне даже показалось, что это были те самые парни, которые встретили меня на КПП. Заметив, что один из них упал, а второй пригнулся, я сделал несколько прыжков назад, потом опять остановился, не целясь выпустил длинную очередь в коридор и снова бросился в кабинет Рафика.
Во дворе стреляли. Я разбил прикладом стекло и выскочил во двор. Через стену перепрыгивали ребята Киреева. Сам Киреев стоял на пороге КПП и поторапливал их:
– Быстрее! Быстрее! Я закричал:
– В здании один автоматчик, где-то еще два или три человека.
В окне кабинета Рафика показался автоматчик. Киреев выпустил по нему очередь. Чеченец повис на окне.
– Остались человека два, не больше!.. – крикнул я. – Если верить их командиру…
Но больше мы никого не обнаружили. Склады оказались забиты вооружением. Оставалось удивляться, что такая прорва боеприпасов находилась при такой малочисленной охране.
Мы быстро минировали боеприпасы, отыскивая все новые и новые ящики со снарядами, минами, автоматами и патронами.
– Поработать придется основательно, – заметил Киреев.
В одном из помещений мы обнаружили мешки с пакетиками, в которых была коричневая паста.
– Да тут же героин! – присвистнул Киреев и опустился на одно колено. – Мать честная! Да это же Багамы на всю оставшуюся жизнь, Юра!
– Как бы не Колыма! – ответил я напарнику. Героина оказалось около трехсот килограммов.
– Грузим на автомобиль, он стоит во дворе, только сначала проверь, сколько в баках бензина, – распорядился Киреев. Потом подошел поближе ко мне и сказал негромко:
– Наркоту надо вывезти и спрятать… Это же миллионы…
Мы освобождаем ящики из-под патронов и загружаем в них мешки с героином. Два солдата тем временем минируют склады.
Через полчаса Петр выкрикнул:
– Готово, мастер! Что, рвать?
– Давай! – махнул он рукой. – Поджигай! – Киреев повернулся ко мне: – Ну что? С Богом!
– С Богом, – сказал я.
Киреев забрался в кабину рядом со мной, я отпустил тормоза, и машина тут же рванула вперед. Позади послышались взрывы. Один, другой, третий, целая канонада взрывов.
– Б…дь, в своей стране свое же добро портим! Ты знаешь, как мне жаль оружие уничтожать, можно было бы продать. Надо делать деньги!
– Ты бы лучше чеченцев взял в плен да продавал, – не удержался я.
– А что ты думаешь? Я присутствовал, когда тридцать четырех бравых российских десантников, плененных недавно в чеченских горах, обменяли на сорок восемь чеченцев. Обмен происходил неподалеку от Хасавюрта. Эту акцию можно считать первой успешной операцией в войне «за целостность России». Знаешь, как томительно тянулось время… Час, другой… Чеченские боевики снуют по шлюзу туда-сюда, чтобы переброситься словцом с чеченцами из дагестанских сел. А наши, русские женщины, чуть не плачут. «В чем дело? Неужто снова не обмен, а обман? Мы деньги собрали уже…». Спрашиваю, какие деньги? А они отвечают, что чеченцы не отдадут сыновей, если не будет выкупа. Понял?
Несколько секунд Киреев молчит. Над нашими головами на низкой высоте барражируют два штурмовика, рассыпая в небе веер светящихся обманок из тепловых ракет.
– Все как положено – прикрытие с воздуха, – говорит Киреев. Потом он умолк и прислушался к продолжающимся взрывам на складах.
– Ну и дальше что? – спросил я, притормаживая грузовик. Надо было подождать ребят Киреева.
– Так вот, на дагестанском берегу собрались в кружок чеченские мужчины – родственники пленных чеченцев, и собирают деньги. Среди наших была пожилая такая женщина, Екатериной звали. Рассказала, ей в январе позвонил какой-то чеченец и сообщил, что ее сын-молокосос в плену. Плачет, говорить не может, отворачивается – денег у нее шиш. Мужчина один поразговорчивее. Виктор, из Геленджика Краснодарского края. Его девятнадцатилетний сын Евгений был призван в ноябре позапрошлого года. Нес службу в подразделении спецназа вэдэвэ, дислоцированном в поселке Ковалевка Аксайского района Ростовской области. О том, что сын в чеченском плену, этот папаша узнал из сообщения по «Радио свободы». Впоследствии четырежды встречался он с сыном, сидящим в Шалинском КПЗ. По словам парня, его разведывательной группе из тридцати вояк (первой из двух выброшенных в чеченских городах) дали в запас продовольствия, рассчитанного на одни сутки! Вот олухи! Задача – идти по направлению к Грозному. Но карту при этом дать забыли. Десантники почти сразу заблудились. Жили подаянием, ветки грызли. Их заметили, стали преследовать боевики и, в конце концов, окружили. Потеряв двух бойцов, командир отряда приказал сдаться. Ну и что, молодец! Ребят хоть сохранил…
Когда радиоэфир принес этому папаше безрадостную весть, он тут же отправился в Геленджикский горвоенкомат. Несмотря на будний день, комиссариат пустовал. Дежурный заявил, что ни одного офицера сегодня не будет. Виктор вскипел: «За сына я сожгу вас к чертовой матери, е… вашу мать!» Вышел подполковник: «Звоните в Ростов-на-Дону». Дал телефон Северо-Кавказского военного округа. Отец звонит. «В списках погибших и раненых ваш сын не значится, больше ничего не знаем», – отвечают там и дают телефон Министерства обороны. «Звоните в округ», – парируют в Москве. Убедившись в том, что на судьбу его сына отцам-командирам, по сути, наплевать, Виктор предпринял самостоятельный поиск, сравнимый со шпионской операцией. Выяснив позывные подразделения спецназа вэдэвэ, он наконец-то смог кое-что узнать о судьбе сына. Несчастный отец, одолжив миллион на свое предприятие у друзей, отправился в Хасавюрт. Местные чеченцы-акинцы помогли встретиться с сыном… Короче, только спустя четыре часа вернулись делегаты: «Все решено, через двадцать минут пленные будут здесь». Образовав коридор, по краям шлюза выстроились чеченские боевики. На противоположной стороне показались крытые брезентом грузовики с символикой внутренних войск. У въезда на шлюз занял боевую позицию БТР. На середине шлюза сошлись замминистра по делам национальной политики генерал Ким Цаголов и выпускник Университета дружбы народов Абу Мусаев. Обменялись списками. Через несколько минут из двух автобусов на берег высадились десантники. По их лицам видно, что счастью своему полностью еще не верят: затравленный вид, суетливые движения. Выстроились в ряд по двое. Впереди десятка чеченских боевиков с автоматами и гранатометами. С другой стороны – чеченские пленные – мужчины и подростки. Идут вслед за офицерами российской армии. И у тех, и у других следов побоев не видно. Колонна военнопленных встречается в центре шлюза, убыстряет шаг и попадает в объятия друзей и родственников. Родители десантников уселись с сыновьями в грузовики, чеченцы – в автобусы. Вот так-то! Сколько миллионов матери за сына не жаль, а?
– А где она возьмет их? Наркотиками ведь не торгует… – сказал я.
– Найдет! Одолжит, обманет, украдет, наконец… – сказал Киреев и вышел из грузовика, передернув автоматный затвор. Я почувствовал неладное, но не успел ничего предпринять.
Прогрохотала автоматная очередь. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Понял: ни Алеши, ни Петра больше никогда не увижу.
Киреев уселся в кабину:
– Трогай. Свидетели нам не нужны…
…Вечером мы приехали на грузовике в Грозный. Киреев сказал ехать в сторону аэропорта. Разбитый еще в новогоднюю ночь бомбардировщиками с воздуха, аэропорт восстановлен и уже выполняет главные функции – принимает самолеты и вертолеты. В основном, это военные машины, которые перевозят раненых и убитых солдат, а также доставляют необходимые армии грузы.
В самом здании начался ремонт, действует диспетчерская служба. Новый начальник аэропорта сказал Кирееву, когда тот предъявил удостоверение сотрудника ФСК, что через неделю-две возобновятся гражданские рейсы. Чеченец по национальности, начальник живет в Грозном, но к месту работы добирается не напрямую, а кружным путем. Утром выезжает в Знаменское, где располагается центр Временного совета, оттуда вертолетом до Моздока – в Северную Осетию, а уж потом транзитом до «Северного». К ночи тем же манером возвращается домой.
– А мне не нужен гражданский рейс. Мне необходимо отправить груз военным спецрейсом.
– Я подумаю, надо просить военных, – отвечает чеченец.
Окрестности аэропорта – те же передовые позиции, но с элементами тыла. Военные открыли здесь пекарню, баню, столовую, где кормятся не только солдаты и офицеры, но и приезжие, ожидающие отправки в ту или иную сторону. Повсюду гражданское население. Каждый норовит высказать свою беду. Три женщины поведали мне, что их дом по улице Мира в центре города сгорел, так сказать, «вне очереди». Стоял до тех пор, пока чердак и верхние этажи не освоили снайперы. Как только тех засекли, артиллерия открыла огонь. Последние три года жизни называют «сплошным кошмаром». По радио, если оно и начинало вещать на русском языке, их называли не иначе, как «русское быдло». Вооруженные боевики много раз угрожали их выселить, а когда началась эвакуация, (уезжали, главным образом, зажиточные чеченцы), этим трем женщинам даже мест в автобусе не нашлось. Да, к тому же, не было никакой гарантии, говорили они мне, что по дороге не ограбят и не выкинут на обочину. С началом боев перешли в подвалы. Дудаевцы нередко наведывались к ним и заставляли кого-нибудь идти к российским позициям на разведку. В заложниках, как правило, оставляли детей. Узнав, где в данный момент скопление солдат, били из минометов. Порой собирали с жителей деньги «по миллиону с подъезда» и уходили, не стреляя. На иных зданиях, рассказывали беженки, вывешивали из окон, привязав за ноги, пленных солдат, и тогда артиллерия замолкала.
Аэропорт обложен огневыми позициями. Танки и гаубицы палят отсюда по городу днем и ночью. Над головами пролетают и снаряды, выпущенные российскими артиллеристами из Толстого-Юрта, что в пятнадцати километрах в противоположном направлении.
Охрана и местная служба говорят, что если нет стрельбы, то и уснуть трудно. Привыкли.
Это направление в Грозный все больше предпочитают журналисты. Только перед нами улетела домой большая группа западных корреспондентов. Собираются улететь и наши журналисты. Киреев хочет пристроиться к ним.
– Надо доставить к месту назначения останки сотрудников, – мрачно сообщает он журналистам, которые везде суют свои носы. Я сижу в кузове грузовика, как затравленный зверь. Завеса секретности, которую создает. Киреев, размахивая перед каждым любопытным своим удостоверением сотрудника ФСК, может в любую минуту разлететься в пух и прах.
Тем временем продолжаются боевые стычки в районе трамвайного парка, расположенного недалеко от президентского дворца. В районах, которые контролируются федеральными силами, сторонники Дудаева предпринимают ночные вылазки. Четкой линии боевых действий в Грозном нет. Журналисты рассказывают, что в подвалы спускаются люди из спецназа внутренних войск или еще из какого-то подразделения. Кто сидит в подвале? Женщины, дети, старики. И мужчины. Вот мужчинам говорят: «Пожалуйста, наверх». Затем они должны проследовать в Моздок, в район железнодорожного вокзала, в столыпинские вагоны, «вагонзаки», которые стоят на запасных путях. Это и есть фильтрационное учреждение, где допрашивают людей.
– Одного из наших свидетелей, – говорит журналист, – просто под артобстрелом привязали к дереву и сказали: «Ну и стой тут, пока тебя не убьют свои же». Их подозревают в том, что они боевики либо корректировщики огня. Вот такие дела, братишки…
…Ночью Киреев привез на грузовике цинковые гробы. Мы должны перегрузить наркотики в них. Мне становится не по себе. Киреев идет на все… Мы загоняем грузовик между двумя домами и перемещаем наркотики из апломбированных снарядных и патронных ящиков в цинковые гробы. Киреев запаивает их. Он паял, а я стоял «на часах». Попросту, на стреме. Мы запаяли последний гроб. Всего их вышло три штуки, а мешок с героином, который Киреев уже не мог втиснуть в гроб, он выбросил в канализационный люк.
Нам дают вертолет. Мы грузим гробы с журналистами и улетаем в Моздок. Киреев, опять воспользовавшись своим удостоверением, выбивает транспортный самолет для перелета в Ростов-на-Дону. Он связывается по телефону со своими дружками в этом городе, и те готовят нам встречу. Журналисты летят с нами, поэтому вовсю помогают нам, выступая в роли грузчиков.
В Ростове-на-Дону Киреева встречают люди в военном и штатском. У них две грузовые машины.
Киреев спрашивает у меня, что я намерен делать дальше.
– Знаешь, продавай ты свой товар сам, я отказываюсь…
– Но у тебя выход на Тимура! – уговаривает меня Киреев.
– Я не хочу быть предателем до конца. Перед Яраги. Мне Тимура надо вывести на чистую воду. По-моему, ты останешься не в накладе, если я откажусь.
– Ладно, – успокаивается Киреев, – езжай в свой Минск. Но возьми ты с собой хоть немного, ведь всем позарез нужна капуста…
Мы едем в ночь на грузовых машинах. Попадаем в военную часть. Разгружаем гробы и переносим их на склады с оружием. Сюда никто не сунется.
Один гроб мы везем на квартиру в городе, адрес которой указывает Киреев. Грузовик с военными уезжает, а мы с Киреевым тащим гроб килограммов под сто, если не больше, на шестой этаж. Дверь открывает миловидная Женщина. Она вначале улыбается при виде мужчин, а потом хватается за голову, когда мы проносим в квартиру длинный, укутанный брезентом «ящик».
– Ничего, Маруся, потерпи… – шепчет Киреев. – Дверь на ключ, а эмоции под юбку.
Он берет большой кухонный нож и вонзает в крышку гроба. Вырезает прямоугольник, отгибает его и – резко отшатывается! Комната мгновенно наполняется трупным смрадом. Я заглядываю в проделанное отверстие и вижу шоколадного цвета пузырящуюся плоть человека…
– Подменили! Кто? – Киреев вцепляется руками в волосы. – Неужели и в тех двух гробах трупы?
– Грузим назад! – говорит Киреев после длительной паузы. – Пока не рассвело, избавимся от этого дерьма.
– Может, Киреев, для тебя это и дерьмо, а для меня это солдат, воин, – я чеканю слова и пальцы мои сжимаются в кулаки.
– Это дерьмо, дерьмо! – едва не вопит взбешенный Киреев.
Я совершаю прыжок и что было силы ударяю с разворота ногой в ухо Кирееву. Он падает на ковер и остается там лежать, потряхивая головой. Жена его, или б…, вопит, чтобы я его больше не бил.
В эту минуту мне нечем убить Киреева, а руками или ногами мне делать этого не хочется. Омерзительно прикосновение к нему. И я сам себе омерзителен. Мы с Киреевым в большей степени трупы, чем труп девятнадцатилетнего парня в цинковом гробу.
…Прослушивающее устройство я оборудовал в коридоре, где располагался офис Гершеновича. Это было просто. Открыл щит, нащупал клеммы и присоединил маленькие проводки от миниатюрного передатчика. Передатчик спрятал в нише. С первого взгляда, если открыть щит, нельзя заметить, что здесь установлено прослушивающее устройство. Затем я прошел на последний этаж здания и вышел в чердачное помещение. Всюду валялись пустые бутылки и окурки. Я нашел за трубами укромное местечко и решил, что именно отсюда буду вести прослушивание. Даже если на чердачное помещение забредут любители «раздавить» бутылочку, за трубами к конце чердака они меня не заметят. Сюда я приду завтра, а если понадобится, то и послезавтра.
На следующий день, захватив с собой батарею бутылок пива, я восседал на чердаке в наушниках.
Ровно в девять в офисе появился Гершенович, который принялся обзванивать своих друзей и знакомых. Говорил он всякую ерунду, хотел занять денег, жаловался на секретаршу, которая его обдирает, как липку. В разговоре с одним из своих дружков Гершенович сказал:
– Дочь тоже хороша: связалась с чеченцами и отца родного позабыла. Есть у нее чучмек один, богатый, но я его давно сдал. Его пасут и наши кэгэбэшники, и ребята из ФСК. Так поверь, они доят этого чеченца, как только хотят. Он отстегивает буквально всем. Короче, его уличили, и теперь он работает на аппозицию… Я дочери приказал с ним больше не водиться! А замуж пусть идет за одного лоха; он сейчас там, где стреляют. Если, конечно, чеченцы его не шлепнут…
– И что она? – спросил дружок Гершеновича.
– Да за брилики запросто в огонь пойдет или к самому черту на рога… Хоть ты ее спутай, как кобылу…
У меня перехватило дыхание… Хотелось спуститься с чердака и звездануть пару раз Гершеновичу. Посмотреть, какого цвета у него кровь. А Лена? Неужели она продолжает свою охоту на Тимура?..
В одиннадцать в офисе появился Тимур. Он долго созванивался с какими-то совместными предприятиями, требовал выполнения условий договоров. Голос его был уже не тот, что раньше. От прежней наглой самоуверенности, дерзости и высокомерия не осталось и следа. Я все ждал, когда он позвонит Лене. Но Лене он так и не позвонил.
В принципе, информация от Гершеновича была непроверенной, но мне просто все надоело. Если я убью Тимура, его смерть будет многим на руку.
…Замок никак не открывался. Наконец, в нем что-то щелкнуло и ключ повернулся влево. Я облегченно вздохнул и сильно толкнул дверь.
Вещи Лены в беспорядке лежали на столе. Я некоторое время с болью смотрел на них, затем бросил в эту кучу целлофановый пакет с золотой коробочкой и уже собрался выходить, как вдруг почувствовал за своей спиной чей-то холодный взгляд.
Я резко обернулся. В дверном проеме стоял человек крепкого телосложения. Я сразу узнал его. Это был Киреев!
«Ну вот, наконец, пришла и моя очередь, – подумал я без страха. – Значит, в тех двух гробах оказались наркотики. Но я не хочу иметь к этому никакого отношения!»
– Что ты здесь делаешь? – спросил Киреев. – Это квартира моей женщины. А ты, вероятно, об этом не знал!..
Я, опустив голову, как побежденный, направился было к выходу и вдруг неожиданно для самого себя заорал:
– Ах ты, сукин сын!
Я изо всех сил ударил Киреева ногой в живот. Тот скорчился от боли. Он не ждал от меня такой прыти. Не теряя ни секунды, я выскочил из квартиры, бросился в коридор, бегом по лестнице. Киреев очухался и, кривясь, побежал за мной. Мы выбежали из подъезда. На улице я нос к носу столкнулся с тремя омоновцами.
– Арестуйте его! – крикнул я на ходу и показал рукой в сторону подбегающего Киреева.
– Нет, это его арестуйте! Он прибыл из Чечни, чтобы убить директора одной фирмы! – заорал Киреев. – Я – сотрудник российской ФСК!
Омоновцы растерянно переглянулись. Я остановился.
– Чего же вы стоите? – я был готов разорвать их в клочья. – Вы же не в России, а в Беларуси! Неужели этот москаль будет вами командовать? – кричал я. – Он же из другого государства!
– Заткнись! – крикнул Киреев и обратился к омоновцам: – Если будет сопротивляться, убейте его!
Однако омоновцы решили по-своему. Они схватили Киреева и несколькими ударами свалили его на землю. Я, не раздумывая, ударился в бега…
Теперь у меня уже не было другого выхода – я должен раскрыть перед Тимуром все карты. А там – будь что будет.
…Где могла быть Лена? Где мог быть Тимур? Думаю, оставалось только одно место, где они могли скрываться. Это квартира Гершеновича.
Через полчаса я уже был там. Дверь никто не открывал. Я вышел во двор и так, чтобы из квартиры меня не заметили, осмотрел окна. Форточка на балконе была отворена.
Мне требовалась крепкая веревка. И я раздобыл ее. Стоявший рядом с домом троллейбус лишился веревок со своих рогов-штанг.
Когда я проник в квартиру, вакханалия секса была в самом разгаре. Гершенович валялся в зале мертвецки пьяный, по нему ползала какая-то голая баба, а дверь в спальню Анастасии оказалась заперта. Одним ударом я выломал эту дверь. Тимур успел вскочить с постели, но тут же рухнул, поверженный мощным ударом в челюсть.
Лена пыталась сопротивляться, но я оглушил ее. Пока она приходила в себя, я привязал Тимура к кровати и принялся за операцию.
– Что ты делаешь, сумасшедший? – шептала Лена, – у него миллионы долларов! Он заплатит… Не делай этого, – и она попробовала оттянуть меня за руку. Я отшвырнул женщину, и она ударилась щекой об угол спинки деревянной кровати. Девушка поднялась и снова попыталась помешать мне. Я швырнул ее на постель, чтоб не лезла больше, и продолжал молча делать свое дело. Так!.. Два надреза по ребристой коже… Потом выдавливаю и отрезаю по очереди, один за другим два сиреневых, окровавленных клубочка. Я бросаю их на постель женщине.
– Все! Пусть меня ищут, где хотят! Плевать! Плевать на все и на всех! – ору я, чувствуя неотвратимую ненависть к Тимуру, к Лене, ко всему на свете…
(На этих словах рукопись обрывается).
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Считаем необходимым сообщить читателям следующие обстоятельства появления в печати «Записок наемника».
В одном из подвалов города Минска был найден труп молодого, физически крепкого мужчины с резаной раной живота. Лица, которые указали милиции на труп, это бомжи. То есть граждане без определенного места жительства. Они при предварительном опросе дали показания, что видели мужчину накануне вечером живым, но в сильно возбужденном состоянии. Мужчина, скорее всего на почве сильной алкогольной интоксикации грозился сделать харакири, то есть собирался самому себе вспороть живот. Однако орудия, которое могло быть употреблено для совершения резаной раны живота, при нем не нашли. Это послужило поводом для возникновения у следствия версии не о самоубийстве, а, возможно, об убийстве.
Рядом с трупом неизвестного был обнаружен кейс черного цвета. В нем оказалась общая тетрадь, исписанная мелким, неразборчивым почерком. При исследовании специалистами выяснилось, что это дневниковые записи, вымышленные или явные откровения человека, занимавшегося заказными убийствами.
При дальнейшем расследовании по материалу, содержащемуся в рукописи было установлено, что труп принадлежит монаху Жировичского монастыря Сергию, который исчез из расположения монастыря при неизвестных обстоятельствах. При выезде следователя в монастырь в келье, где проживало указанное лицо, были найдены еще три тетради, также плотно исписанные стенографическими знаками, расшифровка которых для опытной стенографистки не представляет особой сложности.
После подготовки к печати данной рукописи пришлось некоторые места сократить, поскольку они носили откровенно натуралистический характер. Не удалось расшифровать и отдельные сильно запутанные страницы.
Многие фамилии и имена, по понятным причинам при подготовке рукописи к публикации изменены.




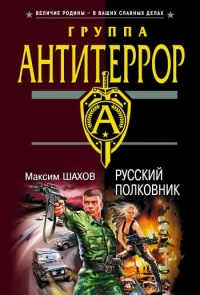
Комментарии к книге «Записки наемника», Виктор Николаевич Гончаров
Всего 0 комментариев