Мобильность и стабильность на российском рынке труда Под редакцией В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Авторский коллектив:
Вишневская Н.Т. (гл. 11); Воскобойников И.Б. (гл. 3); Гимпельсон В.Е. (введение, гл. 1, 2, 3, 4, 5, 8, заключение); Денисенко М.Б. (гл. 9); Жихарева О.Б. (гл. 1); Зудина А.А. (гл. 10); Капелюшников Р.И. (введение, гл. 1, 2, 5, 6, 8, заключение); Лукьянова А.Л. (гл. 7); Ощепков А.Ю. (гл. 8); Чернина Е.М. (гл. 9); Шарунина А.В. (гл. 4, 5)
Рецензент:
кандидат экономических наук, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ
М.Г. Колосницына
Введение
Рынок труда можно представить как обширную «сцену», на которой «актеры»-фирмы встречаются с потенциальными «актерами»-работниками. В результате этих «встреч» заключаются договоренности о том, что первые получают работников, обеспечивающих выпуск продукции или услуг, а работники – работу и соответствующую ей вознаграждение. Но «встречи» предполагают движение с обеих сторон. Являются ли все детали таких договоренностей вечными? Конечно, нет. Значит нужно «двигаться» снова…
Мобильность на рынке труда – сложное социально-экономическое явление, имеющее множество измерений. О мобильности можно говорить во всех случаях, когда меняется какая-либо из значимых характеристик трудовой активности индивидов. Список подобных изменений является открытым, и в зависимости от конкретной социально-экономической ситуации та или иная характеристика может выходить на первый план и становиться предметом анализа. Это может быть смена статуса на рынке труда (перемещения между состояниями занятости, безработицы и неактивности); смена профессии (профессиональная мобильность); смена места работы (межфирменная мобильность – наймы и увольнения работников); смена месторасположения работы (территориальная мобильность); движение вверх или вниз по карьерной лестнице внутри одного и того же предприятия (внутрифирменная мобильность); движение вверх или вниз по шкале заработной платы (зарплатная мобильность) и т. д. Оценка интенсивности и направленности таких передвижений представляет собой важную и интересную исследовательскую задачу. Исходя из подобных оценок мы можем судить, насколько гибким или, напротив, ригидным является рынок труда, насколько сильны его внутренняя неоднородность и сегментированность, как быстро он реагирует на позитивные и негативные шоки.
Очень часто перемены по одной оси (например, смена работы) ведут к комплексным переменам в жизни человека: в профессии, виде деятельности, месте жительства и т. п. Следствием участия (или неучастия) в подобных перемещениях являются изменения в благосостоянии людей, в их месте в социальной структуре, в удовлетворенности жизнью и работой. В итоге за микропеременами (на индивидуальном уровне) следуют макроизменения – в пропорциях занятости, в производительности, в социальной структуре. Отсюда очевидны и глобальность проблемы, и актуальность изучения ее различных аспектов.
Современный рынок труда отличается динамизмом всех его участников: и индивидов, и фирм, действующих в экономике. Значительная часть взрослых индивидов постоянно пребывает в движении, перемещаясь между статусами на рынке труда, предприятиями, видами деятельности, рабочими местами, профессиями и т. п. Одни сами ищут изменений в своей трудовой деятельности в надежде получить лучшие условия, другие вроде бы и довольны тем, что имеют, но к переменам их вынуждают обстоятельства. Тех, кто постоянно находится в таком движении, мы называем «мобильными», а тех, кто застрял в одной точке и не может (или не хочет) ее поменять, мы относим к «стабильным». Но и фирмы не стоят на месте: меняют сферы деятельности, рынки, технологии, выпускаемую продукцию. Соответственно, меняются количество и структура рабочих мест, а значит, и положение занятых на них работников.
Очевидно, что понятия «мобильность» и «стабильность» относительны и во многом условны. Индивид, проработав много лет в одной компании, может с этой точки зрения считаться стабильным, но даже при такой «стабильности» он наверняка неоднократно менял свой статус, должностные обязанности, зарплату и т. п. Иначе говоря, можно быть «мобильным» в одном и «стабильным» в другом. Это означает, что мобильность и стабильность трудно разделимы.
Наконец, важно помнить, что и интенсивность трудовой мобильности, и характер связи между различными ее формами неодинаковы для разных групп рабочей силы. Мужчины и женщины, молодежь и пожилые, городские и сельские жители, представители различных профессиональных групп, как правило, обладают неодинаковой готовностью к перемещениям на рынке труда и демонстрируют очень разную степень вовлеченности в них. Измерение дифференциации в показателях трудовой мобильности между социально-демографическими группами и выявление ее причин – не менее важная исследовательская задача. Учет этой дифференциации имеет особое значение для политики государства на рынке труда, позволяя сделать ее более адресной и эффективной.
В конечном счете мобильность означает изменения в положении людей в экономике и на рынке труда, а также их способность адаптироваться к происходящим изменениям. Адаптация, в свою очередь, также требует мобильности. При этом различные типы трудовой мобильности существуют не изолированно, а тесно переплетаются друг с другом. Тем не менее в аналитических целях их можно вычленять и исследовать самостоятельно.
Обсуждение проблем рынка труда часто фокусируется на его гибкости. Гибкость рынка труда не является полным синонимом мобильности, но выступает важным условием последней. Чем регулирование «жестче», тем больше ограничений для мобильности и для фирм, и для работников. Это сдерживает мобильность, но полностью ее не исключает. При этом оборот работников между фирмами может сократиться, а потоки из занятости в безработицу или в неформальную занятость – возрасти. То есть одни направления и формы мобильности заменяются другими и не всегда «лучшего» качества.
Именно трудовая мобильность во многом определяет адаптационный потенциал экономики – способность быстро и эффективно приспосабливаться к непрерывно происходящим экономическим, технологическим и институциональным изменениям. Ее интенсивность зависит от качества человеческого капитала (готовности работников к смене рабочих мест, профессий, форм занятости, мест проживания и т. д.); институциональных условий (отсутствия искусственных барьеров на пути перемещения работников); частоты и масштабности «шоков», заставляющих участников рынка труда пересматривать свои предыдущие решения; степени их информированности о происходящих в экономике изменениях; многих других факторов. В условиях иммобильности рабочей силы значительная часть новых благоприятных возможностей, которые открывают научно-технический прогресс и современная глобализированная экономика, остаются нереализованными, поскольку агенты не способны так изменить свое положение и поведение, чтобы воспользоваться этими возможностями. И здравый смысл, и исследования говорят о том, что в современном мире в экономическом соревновании чаще всего выигрывают страны с гибкими, подвижными рынками труда. Компании, способные гибко использовать свою рабочую силу, приобретают дополнительные конкурентные преимущества. Работники, готовые осваивать новое и не боящиеся перемен, получают дополнительные выгоды на рынке труда.
Однако высокая мобильность также имеет свою цену и для фирм, и для работников. Увольняясь, работники уносят с собой специфический человеческий капитал, обесценивая прошлые и дестимулируя будущие инвестиции в него. Смена работы сопряжена с временным снижением производительности: перед уходом и в первое время на новом месте она ниже. Высокая мобильность часто связана с нестабильностью трудовых отношений и социальной незащищенностью работников.
Обсуждение проблем мобильности предполагает, что мы умеем ее адекватно измерять. Но поскольку мобильность имеет множество аспектов, для каждого из них должны быть свое измерение и своя мера интенсивности. Относительно интенсивности процессов мобильности на российском рынке труда существуют различные, зачастую диаметрально противоположные представления.
Весьма распространена точка зрения о том, что российский работник является маломобильным. Согласно ей, он держится за свое рабочее место любой ценой, не готов ни менять работу, ни переучиваться другим профессиям. Этому взгляду соответствует и представление о работодателях-патерналистах[1]. Они, якобы, относятся к своим работникам чуть ли не как к членам семьи, которых и за провинность из дома не выгонишь. К этому добавляются представления о слабой географической мобильности. В сумме они должны сложиться в картину застывшего и полуфеодального рынка труда с минимальной интенсивностью перемещений.
Альтернативная позиция исходит из того, что российский рынок достаточно динамичен. Фирмы активно нанимают и увольняют работников, а сами работники предпочитают подолгу не засиживаться на одном месте. В пределе мы получаем сверхгибкий рынок, на котором все условия непрерывно меняются, а работники находятся в постоянном движении[2].
Какие аргументы есть у нас в этом споре? Во-первых, обе позиции – пусть не в самых крайних формах – в реальной действительности могут сосуществовать. Представим, что одна группа людей отличается очень высокой мобильностью, а другая всю жизнь лояльна одному работодателю и чувствует себя зависимой от него. В этом сочетании нет ничего противоестественного, а вопрос заключается в соотношениях между величинами и составом этих групп. (Например, к первой могут относиться работники малых предприятий, а ко второй – жители моногородов.) Во-вторых, мобильность по одной оси может подолгу сосуществовать с иммобильностью по другой. Индивид может сменить за короткий период времени множество работ, сохраняя профессию и не покидая свой населенный пункт.
В качестве отправной точки в этом обсуждении мы можем использовать данные об интенсивности наймов и увольнений в фирмах и информацию о стаже работников. В конечном счете многие (но, естественно, далеко не все!) изменения происходят именно как следствие смены места работы.
Какую картину рисуют эти показатели? Ежегодно российские крупные и средние предприятия увольняют в среднем примерно 25–30 % работников от своей численности. Примерно столько же они ежегодно нанимают[3]. Это является свидетельством интенсивной мобильности на рынке труда. Показатели найма и выбытия сильно варьируются по видам деятельности: например, в 2012 г. их коэффициенты составляли менее 17 % в государственном управлении и более 65 % в секторе «Гостиницы и рестораны». Этот разброс значений хорошо иллюстрирует, как в условиях российского рынка труда могут соотноситься мобильность и стабильность. Но интенсивность оборота вне крупных и средних предприятий, на которых сегодня трудятся около половины всех занятых, еще выше. Такие показатели говорят об очень высокой мобильности на рынке труда даже в сравнении с рынком труда США[4]. За показателями наймов и увольнений скрываются трудовые биографии конкретных людей, которые теряют и находят работу, переходят из одной фирмы в другую, попутно меняя много всего прочего в своей повседневной жизни.
Однако приведенные выше показатели оборота рабочей силы не означают, что все работники имеют одинаковую вероятность смены работы. Очевидно, что это не так. В результате «сверхмобильные» соседствуют с совершенно «стабильными». Это мы видим с помощью показателей специального стажа (т. е. продолжительности пребывания на данном предприятии), разделяя всех работников на обладателей короткого (скажем, до 1 года) и длинного (более 10 лет) стажа.
В фокусе нашей книги – мобильность на российском рынке труда в различных своих проявлениях и сопровождающие ее экономические и социальные последствия. Эта тема слишком широка и сложна, чтобы претендовать на полное раскрытие в одной – даже весьма пухлой – монографии.
Наш подход в этой книге имеет несколько особенностей, которые мы хотели бы специально подчеркнуть.
Во-первых, данная монография представляет не теоретические, а преимущественно эмпирические исследования.
Во-вторых, исследования, которые легли в основу нашей книги, основываются на больших и разнообразных массивах статистических макро– и микроданных. Хотя ни один из них не безупречен, взятые вместе они дают более-менее комплексную и когерентную картину. При этом мы использовали лишь те базы данных, в качестве которых можно быть уверенными. Среди них широко известные Российский мониторинг экономики и здоровья (РМЭЗ ВШЭ)[5], обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ)[6] и обследование заработных плат по профессиям (ОЗПП)[7], проводимые Росстатом. Дополнительные источники данных, используемые авторами, детально обсуждаются в соответствующих главах.
В-третьих, главы книги представляют собой полусамостоятельные исследования, которые изначально не объединены единой жесткой программой, методологией или используемыми данными[8]. Такая гибкость позволяет избегать дополнительных ограничений и расширять сферу анализа.
Структура работы. Книга состоит из Введения, 11 глав и Заключения.
Глава 1 (авторы В. Гимпельсон, О. Жихарева, Р. Капелюшников) посвящена анализу движения рабочих мест в российской экономике на основе официальных оценок, разрабатываемых и публикуемых Росстатом. Она вводит определение того, что в международной статистике принято называть «рабочим местом», и описывает методологию, позволяющую сопоставлять показатели движения рабочих мест во времени и в пространстве. Помимо обсуждения общих трендов оценивается вариация показателей создания и ликвидации рабочих мест по формам собственности и видам экономической деятельности. Анализ данных о создании и ликвидации рабочих мест подсвечивается анализом данных о рождаемости и смертности предприятий. Авторы показывают, что в нашей экономике ликвидация идет активнее, чем создание, а последнее сосредоточено преимущественно в отдельных секторах неторгуемых услуг.
В Главе 2 те же авторы (В. Гимпельсон и Р. Капелюшников) обсуждают изменения в занятости в российской экономике в 2000–2012 гг., анализируя изменения в структуре рабочих мест, но с других методологических позиций и под другим углом зрения. Рабочие места в данном случае не сводятся к занятым индивидам, а понимаются как профессионально-отраслевые ячейки, с которыми ассоциируется занятость тех или иных групп индивидов. Качество таких «рабочих мест» измеряется величиной заработков или уровнем образования в ячейке (по сравнению с другими ячейками).
В фокусе главы – вопрос о том, по какому сценарию шла эволюция структуры рабочих мест в российской экономике. Один возможный сценарий предполагал последовательное улучшение качества рабочих мест, тогда как другой – их поляризацию. Под поляризацией понимается экспансия как относительно «плохих», так и относительно «хороших» мест, но при сокращении «средних» по качеству. Оказывается, что в период 2000–2012 гг. произошло сильное сжатие сегмента «плохих» рабочих мест при значительном расширении сегмента «хороших» рабочих мест. В докризисный период 2000–2008 гг. изменения в структуре рабочих мест шли намного активнее, чем в посткризисный период 2008–2012 гг. Среди факторов, способствовавших подобной эволюции структуры рабочих мест, выделяются активная реструктуризация сельского хозяйства; сдвиги в структуре потребления российского населения, вызванные быстрым ростом реальных доходов; стремительное повышение образовательного уровня российской рабочей силы; технологические сдвиги, связанные с компьютерной революцией; активная институциональная перестройка экономики.
Авторы Главы 3 – И. Воскобойников и В. Гимпельсон – исследуют влияние структурных сдвигов, т. е. межсекторной реаллокации труда, на рост агрегированной производительности труда в российской экономике. Структурные сдвиги рассматриваются как результат двух процессов: во-первых, перераспределения рабочей силы между отраслями и, во-вторых, ее перетока между формальным и неформальным сегментами. В приросте агрегированной производительности труда обычно выделяются вклад внутриотраслевых источников роста и вклад перераспределения затрат труда между отраслями с разной производительностью. Хотя реаллокация в целом за рассматриваемый период способствовала росту производительности, расширение неформального сегмента его тормозило. Этот вывод согласуется с результатами, полученными ранее для некоторых развивающихся стран, но данное исследование позволяет лучше понять механизм этого замедления – через увеличение вариации в уровнях производительности между различными сегментами экономики.
В. Гимпельсон и А. Шарунина в Главе 4 анализируют основные потоки на российском рынке труда за 2000–2012 гг. между состояниями формальной занятости, неформальной занятости, безработицы и неактивности. Дополнительно вводится деление экономики на бюджетный и рыночный секторы. В главе отмечается высокий уровень мобильности и значительная транзитивная роль неактивности. Анализ показывает также, что работники бюджетного сектора отличаются слабой подвижностью по сравнению с работниками рыночного сектора, а неформально занятые и экономически неактивные имеют более высокие шансы попадания в безработицу по сравнению с формально занятыми. Наблюдаемые интенсивность и направленность потоков хорошо согласуются с действующей в России институциональной конфигурацией рынка труда.
Основной сюжет, обсуждаемый в Главе 5 (В. Гимпельсон, Р. Капелюшников и А. Шарунина), посвящен различным формам мобильности на предприятиях и тому, как происходит выбор между ними. Исходная гипотеза заключается в том, что внешняя (межфирменная) мобильность доминирует по сравнению с внутренней (внутрифирменной) и носит во многом компенсационный характер, будучи реакцией на имеющиеся ограничения для продвижений работников внутри предприятий. Авторы отвечают на вопросы о динамике и детерминантах мобильности – как внешней, так и внутренней.
С точки зрения фирм внутренняя и внешняя мобильность в качестве альтернативных способов рекрутирования работников обладают как плюсами, так и минусами. Внутренне мобильные работники располагают большими запасами накопленного специфического человеческого капитала и демонстрируют по отношению к фирмам большую лояльность. К тому же фирмы обладают более полной информацией о способностях и производительности таких работников, что открывает возможности для более точного мэтчинга. С точки зрения работников, внутренние вертикальные перемещения имеют то преимущество, что в этом случае им не нужно нести издержек, связанных с поиском и накоплением специфического человеческого капитала. В то же время при внешней мобильности как перед фирмами, так и перед работниками открываются несравненно более широкие возможности, поскольку любой даже очень большой внутренний рынок труда (на крупном предприятии) составляет лишь ничтожно малую часть от внешнего рынка труда. В главе анализируется, как соотносятся внешняя и внутренняя мобильность на российском рынке труда и как их интенсивность менялась во времени. Одна из ключевых проблем, которая также обсуждается в ней, существует ли в условиях российского рынка труда связь между заработками и направлением мобильности.
Глава 6 (автор Р. Капелюшников) посвящена особенностям формирования директорского корпуса в российской промышленности. Топ-менеджеры – это специфическая и очень важная подгруппа рабочей силы, от мобильности которой во многом зависит эффективность функционирования экономики. Анализ свидетельствует, что среди руководителей российских промышленных предприятий поддерживается достаточно высокая текучесть (хотя и более низкая, чем в первые десятилетия существования рыночной экономики) и что подавляющее их большинство по-прежнему совмещают функции владения и управления. Автор выявляет основные факторы, влияющие на сменяемость генеральных директоров и их принадлежность к группам собственников либо наемных менеджеров. Особое внимание уделяется вопросу о связи мобильности руководителей предприятий с показателями экономической деятельности последних. Исходя из общетеоретических соображений, можно ожидать, что смена топ-менеджеров должна чаще происходить на менее эффективных предприятиях и что замена менее компетентных и менее добросовестных руководителей на более компетентных и добросовестных должна быть фактором, способствующим повышению эффективности. Однако полученные в работе оценки свидетельствуют об отсутствии явной отрицательной связи между мобильностью топ-менеджеров и показателями экономической деятельности возглавляемых ими предприятий, откуда можно сделать вывод о сохраняющейся невысокой эффективности российской системы корпоративного управления.
Еще один аспект мобильности связан с изменениями в заработной плате. Этому посвящена Глава 7, написанная А. Лукьяновой. Высокая «зарплатная» мобильность имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, она указывает на динамичность рынка труда – работники могут существенно повысить свои заработки, сменив место работы, накопив специфический человеческий капитал, продемонстрировав свою высокую производительность и т. д., и благодаря этому не возникает «ловушек бедности». С другой стороны, это может означать, что заработные платы крайне чутко реагируют на внешние шоки. На российском рынке труда мы видим как положительные, так и отрицательные проявления высокой зарплатной мобильности.
Анализ показывает, что реальные заработные платы российских работников чрезвычайно чувствительны по отношению к макроэкономической динамике: они быстро «надуваются» в условиях роста экономики, но падают в кризис и стагнируют при замедлении. Однако в целом за рассматриваемый период (2003–2013 гг.) в плюсе оказались все работники. Сильнее всего улучшилось положение малооплачиваемых работников с низкими заработками. На этапе экономического роста их доходы росли быстрее, чем у остальных; благодаря мерам государственной поддержки они с минимальными потерями пережили кризис 2008–2009 гг. Реальные заработные платы высокооплачиваемых работников росли медленнее, и именно они испытали на себе основную тяжесть кризиса в 2008–2009 гг.
Помимо изменений в абсолютных уровнях реальной заработной платы, мобильность включает в себя «перетряску» относительных зарплатных позиций работников, что может вести к изменениям в долгосрочном уровне неравенства. В российских условиях мобильность по относительным заработкам имеет сильный выравнивающий эффект: неравенство по усредненным показателям заработной платы за несколько лет оказывается на 8-15 % ниже неравенства по текущим показателям за отдельные календарные годы. Столь сильный выравнивающий эффект может свидетельствовать о нестабильности доходов, которая ограничивает возможности работников планировать свои доходы и крупные расходы, связанные с получением долгосрочных кредитов, а также оказывает влияние на получение образования и рождение детей.
В Главе 8 (авторы В. Гимпельсон, Р. Капелюшников и А. Ощепков) анализ трудовой мобильности ведется через призму такого важнейшего показателя, как специальный стаж. В ней обсуждаются оценки продолжительности специального стажа (длительности работы на одном и том же предприятии) в России за разные годы, полученные на данных из разных источников, а также их вариация по основным социально-демографическим группам. Однако центральной частью главы является анализ того, какие экономические блага дают работникам длительные трудовые отношения с одним и тем же работодателем. Другими словами, авторы ищут ответ на вопрос о том, кем «выгоднее» быть в своей организации: «новичком» или «старожилом»? Интуитивный ответ, что лучше быть «старожилом» в среднем оказывается неверным. В работе подробно обсуждается методология таких оценок, сами оценки и вытекающие из них следствия.
Такой важной и противоречивой форме мобильности, как международная трудовая миграция в Россию, посвящена Глава 9 (М. Денисенко и Е. Чернина). На основе широкого круга данных она обсуждает тенденции трудовой миграции, ее масштабы и состав. Глава сочетает макроанализ с результатами микроэкономических исследований. На примере мигрантов из Таджикистана обсуждаются отдельные аспекты поведения и положения мигрантов на рынке труда принимающей страны. В этой части рассматриваются заработки таджикских мигрантов относительно заработков российских работников и анализируются региональные факторы, влияющие на выбор мигрантами направления внутри принимающей страны.
Тема мобильности не исчерпывается рассмотрением изменения лишь объективных показателей. В Главе 10 А. Зудина анализирует ее через призму динамики субъективного восприятия населением своего экономического положения. Многочисленные исследования, проведенные в 2000-е годы, свидетельствуют о том, что средние самооценки россиян оставались в этот период устойчиво низкими. Автор делает попытку заглянуть внутрь «среднего» уровня социального самочувствия и проанализировать, была ли подобная стабильность характерна для всех групп населения или же противоположные тенденции динамики самовосприятия в разных частях общества «погашали» друг друга. Представленное в главе исследование позволяет ответить на вопросы о том, насколько чутко самовосприятие россиян реагирует на положительные и отрицательные изменения во внешней среде (потеря и нахождение работы, смена семейного статуса, появление ребенка) и насколько устойчивым и длительным является этот эффект.
Заключительная Глава 11 (автор Н. Вишневская) ставит своей основной задачей найти ответ на вопрос, как процессы реаллокации на рынке труда, характерные для России, выглядят в контексте межстрановых сопоставлений. Несмотря на наличие отдельных общих черт, между развитыми странами и странами с переходной экономикой, к которым принадлежит и Россия, наблюдаются значительные различия в темпах реаллокационных процессов, создания и ликвидации рабочих мест, оборота рабочей силы. Хотя российская экономика демонстрирует даже более высокие темпы оборота рабочей силы по сравнению со многими другими странами, также осуществлявшими радикальные экономические преобразования, они не сопровождались высокой интенсивностью создания новых рабочих мест. Это является еще одним подтверждением того, что существующая в нашей стране институциональная структура экономики никак не способствует активизации предпринимательской активности.
Благодарности. Эта книга не состоялась бы без всесторонней поддержки со стороны НИУ ВШЭ и, в частности, Программы фундаментальных исследований, реализуемой в университете. Благодаря этой Программе, авторы имели возможность работать над этой темой в течение трех лет (2013–2015 гг.).
На разных этапах работы авторы получали замечания и комментарии, которые помогли сделать итоговый текст лучше. Особо отметим наших коллег В. Бессонова, И. Денисову, М. Колосницыну, Б. Кузнецова, О. Лазареву, М. Локшина, С. Рощина и А. Яковлева, высказывавшимся по отдельным исследованиям, превратившимся затем в главы книги.
Успех эмпирических исследований во многом зависит от качества и доступности данных. В связи с этим мы не можем не отметить тот факт, что в целом ряде глав используются данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, а их качество – итог большой работы исследовательской группы «Демоскоп» под руководством П. Козыревой и М. Косолапова. Несколько глав базируются на данных Росстата, которому мы также признательны.
Эта книга является одним из результатов многолетнего плодотворного сотрудничества с Издательским домом НИУ ВШЭ. Особо отметим вклад О. Осиповой, которая «довела» нашу рукопись до нужных кондиций, и Л. Моисеенко, которая превратила рукопись в красиво набранную книгу. Ряд представленных в монографии глав вначале увидели свет в качестве препринтов серии WP3 «Проблемы рынка труда». Мы крайне признательны А. Заиченко за большую работу в качестве редактора серии.
Некоторые главы книги ранее публиковались в качестве статей в научных журналах. Статьи, легшие в основу глав 1–3, были опубликованы в журнале «Вопросы экономики (2014 № 7; 2015 № 7 и № 11), главы 4 и 5 используют материалы, публиковавшиеся в «Экономическом журнале Высшей школы экономики» (2015 № 3; 2016 № 1 и № 2).
Для кого предназначена эта книга? Прежде всего, конечно, книга ориентирована на исследователей, преподавателей и студентов – экономистов и социологов. На наш взгляд, она может быть небезынтересной для всех, кто интересуется устройством и функционированием институтов переходной экономики. Мы надеемся, что в ней найдется полезное и для специалистов-практиков в области рынка труда и занятости, среди которых представители профсоюзов и работодателей, специалисты по управлению персоналом и аналитики рекрутинговых агентств.
Материалы монографии могут быть использованы при преподавании таких дисциплин, как экономика труда, переходная экономика, социология труда, управление человеческими ресурсами и др.
Глава 1 Движение рабочих мест: в поисках созидательного разрушения
1.1. Введение
Лозунг «создадим больше новых рабочих мест!» является беспроигрышным в любой политической ситуации. Это не удивительно, поскольку интенсивное создание новой занятости представляет собой наилучший ответ на многообразные экономические и социальные вызовы, которые стоят перед странами. В то же время ответы на вопросы о том, сколько рабочих мест в экономике, скажем за год, возникло, сколько исчезло, какие факторы на эти процессы повлияли и к чему эти изменения привели, не являются самоочевидными и предполагают глубокий экономический и статистический анализ. Предпосылкам и некоторым результатам такого анализа, касающимся России, и посвящена данная глава.
В любой экономике в любой период создается и ликвидируется большое число рабочих мест. Одни действующие компании наращивают свой персонал, другие в то же самое время его сокращают. Новые компании рождаются и начинают свою деятельность, а многие ранее действовавшие прекращают функционирование. В итоге и работники, и рабочие места непрерывно перемещаются между регионами, отраслями, предприятиями. В развитых экономиках ежегодно возникает порядка 10–15 % новых рабочих мест (по отношению к суммарному числу всех занятых во всех компаниях) и исчезает примерно столько же «старых» [Cahuc, 2014]. При этом активное создание рабочих мест не обязательно ведет к суммарному увеличению занятости; точно также их интенсивная ликвидация не всегда сопровождается ее суммарным сокращением. Создание и ликвидация рабочих мест в популяции организаций всегда идут параллельно – как рождение и смерть в популяции людей. Одно без другого чревато серьезными проблемами.
Движение (создание и ликвидация) рабочих мест лежит в основе любых структурных изменений в современной экономике. Замещение менее производительных и технологически устаревших рабочих мест более эффективными и современными вносит значительный вклад в рост агрегированной производительности труда (см. главу 3). Если же замещение идет в обратном направлении (новые рабочие места оказываются менее производительными), то его вклад в рост производительности оказывается отрицательным.
Изменения в числе и в структуре рабочих мест, в свою очередь, отражают действие разнообразных факторов. Среди них: распространение новых технологий и переход к выпуску новых видов продукции, освоение современных форм управления и маркетинговых стратегий, усиление конкуренции на национальном и международном уровнях, расширение или сжатие рынков товаров и услуг, смена собственников и корпоративная реструктуризация. Создание и ликвидация рабочих мест генерируют перемещения работников – оборот рабочей силы и структурные изменения в занятости. Другими словами, движение рабочих мест является отражением разнообразных процессов адаптации и реструктуризации фирм на рынке труда и одной из ключевых форм более общего феномена – движения рабочей силы.
В последние 20 лет проблематика движения рабочих мест вызывала значительный интерес исследователей и получила отражение в большом числе публикаций, посвященных как развитым и развивающимся странам, так и странам с переходной экономикой [Halti-wanger, Davis, 1999]. Этому в немалой степени способствовало введение в научный оборот больших массивов микроданных, в том числе лонгитюдных. В то же время оригинальные исследования по России немногочисленны, написаны преимущественно на английском языке [Acquisti, Lehmann, 1999; Brown, Earle, 2002, 2003; Kapeliushnikov, 1997] и в целом малоизвестны российскому читателю.
В данной главе мы ставим перед собой несколько задач. Во-первых, ввести российского читателя в проблематику движения рабочих мест, представив методологию и новые статистические данные, которые лишь недавно начали разрабатываться Росстатом. Используемая методология должна вести к более точному отражению динамических процессов на российском рынке труда и при этом обеспечивать сопоставимость получаемых оценок с теми, что имеются по другим странам. Во-вторых, обсудить основные тенденции в движении рабочих мест в российской экономике, проявившиеся в последнее время (2008–2014 гг.). Продолжительность рассматриваемого периода ограничена доступными данными, но он является достаточно разнообразным с макроэкономической точки зрения. Анализ тенденций представлен как для экономики в целом, так и в отраслевом и региональном разрезах.
Глава имеет следующую структуру. В разделе 1.2 мы вводим основные понятия, приводим ключевые определения и рабочие формулы. Раздел 1.3 содержит краткий обзор основных тенденций в движении рабочих мест в России в 2008–2014 гг. В разделе 1.4 обсуждается рождение и смертность предприятий как фактор динамики рабочих мест. Разделы 1.5 и 1.6 посвящены обсуждению этой динамики в 2008–2014 гг. в отраслевом разрезе и по формам собственности. В заключении подведены итоги и намечены пути совершенствования методологии статистики движения рабочих мест.
1.2. Что же такое рабочие места и как они «движутся»[9]
Определение рабочего места вызывает споры, что не удивительно: для разных специалистов это понятие может иметь разный смысл. Как отмечают авторы Доклада о мировом развитии [World Bank, 2013], понятие «рабочее место» многозначно, а потому трудно дать его простое и единое для всех случаев определение.
Исходное понимание рабочего места в статистике зафиксировано в методологии Системы национальных счетов (СНС). Здесь рабочее место (или работа, по-английски – job) определяется как «некий договор в явной или неявной форме, заключаемый между конкретным лицом и институциональной единицей на выполнение определенной работы за оговоренную плату в течение установленного срока или до дальнейшего уведомления» [System of National Accounts, 1993, р. 513]. В редакции методологии СНС 2008 г. говорится, что «договор между работником и работодателем определяет рабочее место, и у каждого самозанятого также есть рабочее место» [System of National Accounts, 2008, р. 408]. Таким образом, рабочее место – это заполненная работником позиция, созданная для реализации такого договора. Другими словами, рабочих мест столько, сколько заключено трудовых договоров. Их общее количество может превышать общее число работников на число тех, кто имеет более одного места работы (т. е. один работник может занимать несколько рабочих мест). Продолжительность рабочего времени, безусловно, – важная характеристика трудового договора, как и уровень и структура вознаграждения, срочность контракта, условия труда и т. п. Однако плохие условия или короткое время не отменяют сам факт наличия договора.
Несколько иная по форме, но схожая по содержанию формулировка содержится в решениях 19-й Международной конференции статистиков труда [ILO, 2013]. Согласно ей, рабочее место определяется «как круг задач и обязанностей, которые выполняются или должны выполняться одним лицом в интересах одной экономической единицы». «Круг задач и обязанностей» составляет центральную часть трудового договора и всегда привязан к конкретному работнику.
В этих определениях важно, что рабочее место не является какой-то «физической субстанцией» в виде станка или стола или особо выделенного пространства. Например, существование рабочих мест учителя или врача означает выполнение ими соответствующих (определенных в договоре) обязанностей, а не физическое наличие оборудованных кабинетов. Мы возвращаемся к этому вопросу, поскольку часто в экономико-политических дискуссиях «рабочее место» однозначно идентифицируется с чем-то сугубо материальным.
Изменение числа рабочих мест характеризует изменение численности занятых без учета изменения числа незаполненных вакансий. Вакансия означает, что договор потенциально возможен. Многие вакансии на бумаге существуют годами, а работников часто нанимают без предварительного объявления вакансий. Организация может создать любое число виртуальных вакансий, но будет стремиться заполнить лишь те, которые считает экономически необходимыми. Поскольку период наблюдения обычно значителен (не менее квартала, а в большинстве случаев – год), за это время практически любая вакансия может быть заполнена при наличии экономической целесообразности.
Число рабочих мест в фирме (на предприятии, в организации) в определенный момент (обычно на начало и конец года, квартала, месяца) равно количеству занятых на ней работников безотносительно к тому, сколько часов длится их рабочий день. Это показатель запаса (stock). Создавая рабочие места, бизнес-единица увеличивает число занятых работников, а ликвидируя, – уменьшает. Исходя из этого, все фирмы (предприятия, организации) можно разделить на три группы: 1) «создатели» рабочих мест (с растущей занятостью); 2) «держатели» (с неизменной занятостью); 3) «ликвидаторы» (с падающей занятостью). Создание и ликвидация рабочих мест характеризуют их потоки (flows).
Соответственно валовое создание рабочих мест есть суммарное увеличение занятости во всех организациях, расширявших ее, за период между t – 1 и t. Валовая ликвидация рабочих мест есть суммарное сокращение занятости во всех организациях, снижавших ее, за период между t – 1 и t. Тогда итоговое изменение занятости можно представить как разность между числом созданных и числом ликвидированных рабочих мест. Создание рабочих мест имеет два возможных источника: наращивание занятости на непрерывно действовавших предприятиях и выход на рынок новых, ранее не существовавших предприятий. Аналогично ликвидация рабочих мест может происходить как из-за сокращения занятости на непрерывно действовавших предприятиях, так и в результате прекращения деятельности (закрытия) ранее существовавших предприятий. (Напомним, что все работники входят при этом в расчет с одинаковыми весами и учитываются как целые единицы независимо от режима труда на занимаемых ими рабочих местах, т. е. от того, заняты они на них полное или неполное рабочее время.)
Приведенные выше определения позволяют рассчитывать относительные показатели создания и ликвидации рабочих мест как доли от средней занятости. Для этого сумма положительных изменений по организациям-«создателям» (число созданных рабочих мест) делится на среднее арифметическое для численности занятых во всех организациях в моменты t-1 и t (0,5 × (Et-1 + Еt))[10]. Аналогично рассчитывается коэффициент ликвидации рабочих мест. Основные расчетные формулы представлены в Приложении.
Сумма созданных и ликвидированных рабочих мест в период между t-1 и t характеризует валовое перераспределение рабочих мест между организациями или бизнес-единицами. Если из этого показателя вычесть итоговое изменение занятости, то получим величину избыточного перераспределения рабочих мест. Она показывает, сколько всего рабочих мест было создано и ликвидировано за анализируемый период сверх числа, которое было минимально необходимо, чтобы обеспечить фактически наблюдавшееся итоговое изменение занятости. Высокие значения говорят о том, что структурная перестройка не сталкивается с серьезными ограничениями на рынке труда и потери рабочих мест в стагнирующих секторах экономики успешно компенсируются их наращиванием в растущих секторах.
Движение рабочих мест выступает частью более общего феномена – движения рабочей силы. Их оборот по определению не может быть больше оборота последней, но может быть намного меньше. Заполнить вновь созданное рабочее место далеко не всегда удается с первой попытки; наем и выбытие могут повторяться (причем многократно) на рабочих местах, которые сами не вовлечены в движение; наконец, появление нового рабочего места на одной фирме может порождать длинную цепочку перемещений работников между целой группой фирм.
Разность между валовым оборотом рабочей силы (суммой всех наймов и выбытий) и валовым оборотом рабочих мест позволяет получить индикатор перераспределительных процессов – так называемый «холостой» оборот рабочей силы (churning). Он показывает, какая часть перемещений работников не была продиктована перераспределением рабочих мест между предприятиями и осуществлялась независимо от него. «Холостой» оборот экономически не бессмыслен, обеспечивая более точное соответствие качественных характеристик рабочей силы и рабочих мест. Без такой «притирки» работников к рабочим местам экономика несла бы серьезные потери в эффективности. Однако чрезмерно избыточный оборот увеличивает издержки предприятий на наем персонала и не способствует повышению конкурентоспособности.
Предпочтительной единицей наблюдения при таком анализе выступает предприятие или организация как бизнес-единица. Под этим понимается пространственно выделенное место («производственная площадка»), в пределах которого осуществляется экономическая деятельность. В отличие от этого «фирма» – это «массив» экономической деятельности, находящийся под общим операционным контролем. Фирма может состоять из множества отдельных бизнес-единиц (пример – торговая сеть, имеющая десятки фирменных магазинов в разных частях страны). Очевидно, что оценки интенсивности создания и ликвидации рабочих мест могут сильно отличаться в зависимости от того, строятся они на данных по бизнес-единицам («заведениям») или по целым фирмам. В идеале желательно располагать данными, относящимися к обоим уровням наблюдения. Это связано с тем, что открытие/закрытие «заведений» и открытие/закрытие «фирм» сталкиваются с разными ограничениями и сопровождаются неодинаковыми издержками. Поэтому важно знать, каков вклад каждого источника в формирование потоков создания и ликвидации рабочих мест. Однако в большинстве стран информация о движении рабочих мест собирается либо только по «предприятиям», либо только по «фирмам».
Смещение фокуса с уровня всей экономики или отдельных секторов на микроуровень (отдельных предприятий) связано с качественной неоднородностью предприятий как в экономике в целом, так и в любой ее части. Внутри одной отрасли, одного региона процессы расширения и сокращения занятости идут, как правило, параллельно. Естественным ограничением данного подхода служит то, что он не «видит» качественной неоднородности внутри предприятий. Для детального анализа характеристик отдельных рабочих мест (условий занятости, применяемой технологии, требуемых навыков, величины оплаты труда и т. п.) необходим иной статистический инструментарий, сфокусированный на занятом индивиде как единице наблюдения. (Таковы, например, регулярные обследования рабочей силы.)
Оговоримся, что методология, используемая Росстатом при измерении движения рабочих мест, в нескольких важных отношениях отличается от стандартной методологии, представленной выше. Во-первых, российская статистика движения рабочих мест охватывает только крупные и средние предприятия (КСП). Поскольку на малых предприятиях рабочие места «оборачиваются» намного активнее, чем на крупных, их исключение чревато занижением получаемых оценок.
Во-вторых, в отличие от общепринятой практики, отдельные категории занятых учитываются в российской статистике не как целые единицы, а пропорционально отработанному времени. В таких случаях счет ведется не по фактическим, а по «полновременным» рабочим местам (в эквиваленте полной занятости). В результате, скажем, два рабочих места, на которых занят работник-полуставочник, превращаются в одно. Такой подход потенциально ведет к недооценке как общего количества рабочих мест, которыми располагает экономика, так и масштабов их реаллокации. Особенно сильные искажения он способен вносить в оценки по вновь создаваемым и ликвидируемым предприятиям.
В-третьих, статистика движения рабочих мест не полностью «стыкуется» со статистикой движения рабочей силы. Если данные о создании и ликвидации рабочих мест собираются по всему персоналу КСП (не только списочным работникам, но и внешним совместителям и занятым по гражданско-правовым договорам), то о найме и выбытии рабочей силы – только по работникам списочного состава. Кроме того, при формировании данных о движении рабочей силы все нанятые и выбывшие работники учитываются как целые единицы, без взвешивания пропорционально отработанному времени, которое в ряде случаев производится при формировании данных о движении рабочих мест.
Вследствие этих методологических особенностей оценки движения рабочих мест по России не полностью сопоставимы с аналогичными оценками по другим странам, где используется такая же методология. Об этом необходимо помнить при проведении сравнительного межстранового анализа.
1.3. Основные тренды
Рассматриваемый нами период (2008–2014 гг.) был крайне неоднородным: экономический бум нулевых годов достиг пика в 2008 г., но затем сменился глубоким спадом в 2009 г., после чего началось медленное и затухающее восстановление. За 2014 г. ВВП увеличился (в постоянных ценах) всего лишь на 0,6 % (перед тем как упасть почти на 4 % в 2015 г.). Эта макроэкономическая турбулентность отражалась на многих показателях рынка труда, включая и показатели динамики рабочих мест. Экономический рост должен стимулировать спрос на труд, тогда как спад – подавлять его.
В таблице П1-1 Приложения представлены обобщенные оценки движения рабочих мест по российской экономике в целом и отдельно по промышленности[11]. В среднем за год во всем секторе КСП создавалось примерно 3–4 млн новых рабочих мест за счет расширения занятости на одних предприятиях и примерно столько же ликвидировалось за счет их сокращения на других[12]. Таким образом, общее число ежегодно перераспределяемых (сумма создаваемых и ликвидируемых) рабочих мест колебалось в пределах 6,5–8 млн. В промышленности в среднем за год создавалось порядка 600–700 тыс. рабочих мест, а наблюдаемый масштаб ликвидации варьировался от 1,5 млн в кризисном 2009 г. до 720 тыс. в посткризисные 2011–2012 гг.
В год кризиса интенсивность создания рабочих мест уменьшилась, а ликвидации – возросла (табл. П1-2). При этом увеличение второй (на 2,4 п.п. относительно уровня 2008 г.) было несколько сильнее, чем снижение первой (на 2,2 п.п.). Более выраженная асимметрия наблюдалась в промышленности, где соответствующие изменения были намного резче -5 и 3 п.п. соответственно. Однако и в остальные посткризисные годы масштабы ликвидации рабочих мест превышали масштабы их создания. В целом динамика показателей создания рабочих мест была более плавной и инерционной, чем ликвидации (рис. П1-1 Приложения).
Отмеченное превышение темпов ликвидации рабочих мест над темпами их создания означало продолжение долговременной тенденции к сокращению занятости в секторе КСП и ее постепенному перераспределению в пользу остальной экономики (т. е. вне сектора КСП). Этот тренд сформировался задолго до кризиса и не исчез после него[13]. Общее число рабочих мест в этом секторе сократилось за 2008–2014 гг. более чем на 4 млн, а его промышленный сегмент стал «тоньше» на 1,7 млн.
Показатели создания и ликвидации рабочих мест в сумме характеризуют их валовой оборот, т. е. общее количество реаллоцированных рабочих мест. Чем он выше, тем динамичнее рынок труда и интенсивнее структурное обновление занятости. По-видимому, на этот показатель не в последнюю очередь воздействуют макроэкономические шоки: кризисы ускоряют ликвидацию рабочих мест, а бумы поддерживают их создание, хотя полной симметрии здесь не существует. В 2008 и 2009 гг. в экономике было «переброшено» по 21 % рабочих мест, после чего показатель снизился до 18–19 %. В 2014 г. оборот составил 23 %. В промышленности максимальное число рабочих мест было реаллоцировано в 2009 г. – около 23 % по сравнению с 21 % в 2008 г., 15–16 % – в 2011–2012 гг., и этот показатель поднялся до 19 % в 2014 г.
В 2008 г. сальдо движения рабочих мест (итоговое изменение занятости как разность между их созданием и ликвидацией) было в целом слабо положительным (см. табл. П1-1), но уже в 2009 г. экономика потеряла 1,6 млн рабочих мест, а в 2010 г. – еще 0,8 млн. За 20112012 гг. суммарные потери составили около 350 тыс. рабочих мест. Промышленность в переходном (от бума к кризису) 2008 г. сократила около 200 тыс. рабочих мест, в кризисном 2009 г. – более 900 тыс., в посткризисном 2010 г. – около 340 тыс., а за 2011–2012 гг. – суммарно еще 130 тыс. За 2013–2014 гг. суммарный сброс рабочих мест составил 833 тыс., из которых половина пришлась на промышленность. Хотя основной кризис в российской экономике развернулся в 2015 г., итоговый годовой масштаб сокращения не достиг уровня 2009 г. Относительные оценки сальдо движения рабочих мест для всей экономики и для промышленности представлены в табл. П1-2 и на рис. П1-2.
Совместная динамика создания и ликвидации рабочих мест говорит о том, что за относительной стабильностью их общего числа могут скрываться нетривиальные изменения в их составе. Причем в российском случае, как мы видели, основным драйвером этих перемен выступают процессы, связанные с ликвидацией рабочих мест (во всяком случае, внутри сектора КСП).
Рассмотрим эти тенденции отдельно для всей экономики и для промышленности, разделив предприятия на две группы: непрерывно функционировавшие и вновь созданные (или ликвидированные) в том или ином году.
Действовавшие предприятия отреагировали на кризис 2009 г. довольно умеренным (на 1 п.п.) снижением коэффициента создания рабочих мест (рис. П1-3 и П1-4). Однако уже в 2010 г. этот показатель (как для экономики в целом, так и для промышленности) вернулся на докризисный уровень – примерно 5 %. Более того, в промышленности коэффициент создания рабочих мест действовавшими предприятиями в 2011–2012 гг. вышел даже на более высокую отметку, чем достигнутая в исходном 2008 г. (прирост примерно на 0,5 п.п.). Однако в 2013–2014 гг. темпы создания снова замедлились, хотя и не радикально.
«Созидательная» реакция новых предприятий была несколько иной. Во-первых, в кризис она оказалась более интенсивной (снижение на 1,5–2 п.п.). Во-вторых, она проявилась с лагом: минимум пришелся уже на посткризисные годы. В-третьих, коэффициенты создания рабочих мест новыми, ранее не существовавшими предприятиями на рассматриваемом интервале не достигли предкризисных значений. В 2012 г. они составили 4 и 2,3 % (для всей экономики и для промышленности соответственно) по сравнению примерно с 5 % (как для той, так и для другой) в 2008 г.
Интересно, что в 2013 и 2014 гг. новые предприятия интенсифицировали создание примерно на 2 п.п. Это кажется странным с учетом замедления роста экономики. Этому явлению есть несколько объяснений. Одно из них связано с тем, что такой рост отражает временные лаги в реакции занятости на послекризисные восстановительные процессы. Другое объяснение предполагает, что статистика плохо разделяет создание новых предприятий и перерегистрацию старых. В пользу второго говорит то, что динамика создания новых рабочих мест на вновь создаваемых предприятиях практически совпадала с динамикой ликвидации на ликвидируемых предприятиях.
Ситуация с ликвидацией рабочих мест была иной. В этом были «виноваты» действовавшие предприятия, которые оперативно отреагировали на кризис ускоренным сокращением занятости. Именно они обеспечили наблюдаемую динамику рабочих мест. В 2008 г. показатели ликвидации у непрерывно действовавших предприятий составляли около 6 % для экономики в целом и примерно 7 % для промышленности. В 2009 г. они повысились соответственно до 8,5 и 13 %, но уже в 2010 г. практически вернулись к докризисным уровням. В 2011–2013 гг. сокращение рабочих мест действовавшими предприятиями протекало даже медленнее, чем в 2008 г. В 2014 г. сокращение интенсифицировалось.
В отличие от этого поведение ликвидируемых предприятий было инерционным. Кризис, как ни странно, привел к ослаблению ликвидационной активности в форме закрытия целых предприятий. Соответствующий показатель для всей экономики снизился с 4,4 % в 2008 г. до 4,1 в 2009 г. и 3,7 % в 2010 г., после чего вновь повысился до 4 % в 2012 г. В промышленности снижение было монотонным: с 4,6 % в 2008 г. до 3,6 в 2009 г. и затем последовательно до 2,5 % в 2012 г. Возможно, в отсутствие антикризисных мер, которые осуществлялись в 2009–2010 гг. и помогли сохранить ряд предприятий, эти показатели были бы выше, хотя вряд ли намного.
Как можно оценить полученные нами значения создания и ликвидации рабочих мест по России? Для этого их нужно сопоставить с аналогичными показателями других стран. Например, в Докладе о мировом развитии за 2013 г. суммарные годовые показатели создания рабочих мест варьируются от 10 до 18 %, а ликвидации – от 10 до 15 % [World Bank, 2013, р. 100]. Российские показатели находятся ниже нижней границы интервала, наблюдаемого для стран с развивающейся и переходной экономикой.
Наиболее подробные данные за относительно длительный период доступны для США[14]. Сопоставление с американскими оценками позволяет сделать несколько заключений. Во-первых, показатели по двум странам для вновь создаваемых и ликвидируемых предприятий в целом сопоставимы (с учетом структурных особенностей их экономик, хотя в российских данных велика вероятность двойного счета). Во-вторых, показатели создания рабочих мест для непрерывно действовавших предприятий в России на 2–3 п.п. ниже американских. В-третьих, показатели ликвидации рабочих мест такими предприятиями в России также немного ниже – на 1–2 п.п.
Показатели создания и ликвидации рабочих мест могут колебаться под воздействием двух факторов: 1) изменений в соотношении числа предприятий-«создателей» и числа предприятий-«ликвидаторов» и 2) за счет ускорения или замедления процессов создания и ликвидации рабочих мест на них (темпов либо наращивания, либо сокращения занятости). В первом случае можно говорить об «эффекте структуры», во втором – об «эффекте темпов». Каково их соотношение в российском случае? (Оговоримся, что по понятным причинам такой расчет целесообразен только применительно к непрерывно действовавшим предприятиям.)
В таблице П1-3 приведены данные о доле рабочих мест, аккумулируемых предприятиями-«создателями» и предприятиями-«ликвидаторами», а также о темпах наращивания занятости первыми и ее сокращения вторыми. Виден четкий циклический рисунок: в кризисном 2009 г. доля рабочих мест, аккумулируемых предприятиями-«создателями», резко упала при одновременном падении темпов наращивания занятости. В посткризисные годы ситуация была обратной: сегмент рабочих мест, приходящихся на долю предприятий-«создателей», стал больше при ускорении темпов роста занятости. Как можно было ожидать, в 2009 г. доля рабочих мест, аккумулируемых предприятиями-«ликвидаторами», возросла, а темпы сокращения ими занятости резко ускорились. Напротив, в посткризисные годы сегмент рабочих мест, приходящихся на долю предприятий-«ликвидаторов», стал меньше при замедлении темпов сокращения занятости. В 2013–2014 гг., по-видимому, в связи с новым замедлением экономики доля «создателей» вновь стала снижаться, а вклад «ликвидаторов» расти. К сожалению, данные о реакции на спад 2015 г. на момент написания этой книги еще отсутствовали.
Как показывают расчеты, колебания в интенсивности создания рабочих мест примерно поровну объясняются изменениями их доли на предприятиях-«создателях» и темпов прироста занятости на них. Колебания интенсивности ликвидации рабочих мест лишь на 20 % связаны с изменением их доли на предприятиях-«ликвидаторах», а на 80 % – с изменением темпов сокращения занятости на них. Иные соотношения были характерны для промышленности: в случае ликвидации рабочих мест эффект темпов преобладал, но был значительно слабее, а в случае их создания вообще доминировал эффект структуры.
1.4. Рождаемость и смертность предприятий
Как мы уже отмечали, создание и ликвидация рабочих мест могут протекать в двух формах: за счет их наращивания/сокращения на продолжающих действовать предприятиях и за счет открытия/закрытия целых предприятий. Масштабы оборота по второму каналу зависят, во-первых, от количества создаваемых/ликвидируемых предприятий и, во-вторых, от их размеров (численности занятых на них работников). Например, создание даже большого числа малых предприятий может не компенсировать потерю рабочих мест в результате закрытия одного крупного. Обратное также возможно.
К сожалению, статистика Росстата не содержит данных о распределении непрерывно действовавших, вновь созданных и ликвидированных предприятий по размерным группам (в зависимости от средней численности их персонала). Поэтому мы не можем оценить, как на динамику рабочих мест в российской экономике влияли изменения в количестве открываемых/закрываемых предприятий и изменения в их средних размерах.
Частично этот информационный пробел удается восполнить с помощью данных по демографии предприятий, описывающих процессы их «рождения и умирания»[15]. Правда, и в этом случае мы сталкиваемся с определенными ограничениями, поскольку статистика по демографии предприятий не полностью стыкуется со статистикой движения рабочих мест. Во-первых, даже данные, относящиеся к сектору КСП, имеют серьезные пропуски: не охватывают бюджетные организации, а также организации финансовой сферы. Во-вторых, в них, как правило, не проводится четкого разграничения между процессами создания/ликвидации и реорганизации производственных единиц (путем их слияния, разделения, выделения и т. п.). Но даже с этими ограничениями оценки рождаемости и смертности предприятий представляют несомненный интерес и позволяют ответить на некоторые вопросы.
В нашем распоряжении имеются данные за 2005–2014 гг. (табл. П1-4). За этот период общее число предприятий (речь идет только о секторе КСП) сократилось со 112 тыс. до примерно 90 тыс., т. е. почти на 20 %. Главными драйверами этого процесса выступали сельское хозяйство (-13,3 тыс. ед.) и обрабатывающие производства (почти -4 тыс.). Процесс «депопуляции» в этом секторе промышленности шел тем же темпом (около 20 %), что и во всей экономике. Сократилась и торговля на 3,1 тыс. ед.
На рисунке П1-5 представлены годовые оценки темпа прироста, коэффициентов создания и ликвидации предприятий для всей экономики (точнее, для всего сектора КСП). Последний показатель рассчитывался косвенным путем как сумма темпа прироста общего числа предприятий и коэффициента их создания за соответствующие годы, поскольку данные о ликвидации предприятий в интересующем нас сегменте экономики Росстат не публикует. Отметим также, что его данные содержат оценки как по всем открытым, так и отдельно только по новым, возникшим «с нуля» предприятиям. На рисунке П1-5 представлены и те, и другие.
Как можно видеть, годовые темпы прироста общего числа предприятий колебались в очень широком диапазоне. Они были положительными лишь в 2007 г. (+3,6 %) и в 2013 г. (+2,6 %). Сильный провал наблюдался в переходном от бума к кризису 2008 г. (-18 %). В остальные годы они находились в зоне слабо отрицательных значений.
Показатели «рождения» предприятий отличались высокой устойчивостью и слабой чувствительностью к циклическим колебаниям: в рассматриваемый период общий коэффициент создания предприятий не выходил за пределы 2,3–4,2 %, а коэффициент их создания «с нуля» составлял 2,1–3,4 %. (Таким образом, из общего числа открытых предприятий примерно 70–80 % составляли созданные «с нуля» и примерно 20–30 % – преобразованные из существовавших ранее юридических лиц.) Кризис привел к падению интенсивности возникновения новых предприятий до очень низкой отметки (2,1 %), слабая тенденция к ее восстановлению наметилась только в 2011 г.
Как следует из рис. П1-5, циклическая динамика численности предприятий в секторе КСП практически полностью определялась колебаниями в темпах их ликвидации. Минимума – 0,5 % – этот показатель достиг в 2007 г., максимума – 21 % – в 2008 г., составляя в остальные годы 4–5%.
На рисунках П1-6-П1-7 представлены коэффициенты рождаемости и смертности предприятий для промышленности в целом и для обрабатывающих производств в частности. Их движение происходило примерно по тем же траекториям, что и для всей экономики. Динамика численности предприятий во всей промышленности и в обрабатывающих производствах также в большей мере определялась изменением интенсивности их ликвидации и в гораздо меньшей – интенсивности их создания. Отметим, однако, что в промышленности коэффициенты создания и ликвидации колебались в более узких пределах. (Например, в 2008 г. в промышленности было ликвидировано менее 9 % предприятий против 21 % во всей экономике.)
На рисунках П1-8-П1-9 показана структура распределения крупных и средних предприятий по возрасту (датам образования). Эти оценки позволяют предположить, что популяция российских предприятий (даже в секторе КСП) очень молода: четверть из них появилась на свет еще в дореформенный период, а другая четверть – в первое и свыше половины – во второе десятилетие реформ. Самые «молодые» предприятия – в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (свыше 70 % создано в 2001–2011 гг. – следствие реформы в электроэнергетике), самые «пожилые» – предприятия обрабатывающих производств (около 25 % старше полувека).
Эта картина, казалось бы, свидетельствует об исключительно высоком организационном динамизме корпоративного сектора российской экономики. Однако, на наш взгляд, к данному выводу следует относиться с большой осторожностью. Мы уже отмечали, что российская статистика недостаточно четко разграничивает процессы «рождения/умирания» предприятий и процессы их преобразования из одних форм в другие. Поэтому, наверное, корректнее говорить не столько о высокой созидательной/ликвидационной, сколько о высокой реорганизационной активности участников корпоративного сектора российской экономики.
В целом амплитуда колебаний коэффициентов рождаемости и смертности предприятий была примерно такой же, как коэффициентов создания рабочих мест на открывавшихся и их ликвидации на закрывавшихся предприятиях (для соответствующего набора видов экономической деятельности)[16]. Это предполагает, что среди как открывавшихся, так и закрывавшихся бизнес-единиц преобладали средние по численности персонала предприятия.
1.5. Движение рабочих мест и формы собственности
В большинстве стран показатели движения рабочих мест оцениваются только для частного сектора экономики, поскольку процессы реструктуризации занятости в государственном секторе регулируются во многом нерыночными факторами. Российская статистическая практика в этом отношении составляет исключение: соответствующие оценки рассчитываются для всей экономики, а не только для частного сектора. Предположительно это должно вести к занижению российских показателей, ограничивая их сопоставимость с аналогичными показателями по другим странам.
Однако данные Росстата содержат также оценки для отдельных типов предприятий с различной формой собственности. Выделяется шесть ее укрупненных групп: государственная; муниципальная; общественных организаций (в дальнейшем ввиду малочисленности этой группы мы ее не рассматриваем); частная российская; смешанная российская (с участием государства); совместная (российские и иностранные предприятия). Частные и совместные предприятия образуют частный сектор экономики (в нашем понимании), государственные, муниципальные и смешанные – государственный[17]. Показатели движения рабочих мест за 2014 г. по указанным шести группам приведены в табл. П1-5.
Из этих оценок следует, что в частном секторе (как на чисто отечественных предприятиях, так и на предприятиях с иностранным участием) рабочие места создавались примерно в полтора раза активнее, чем в государственном. Намного более высокая активность была характерна как для старых, давно существующих, так и для новых, «созданных с нуля» предприятий этого сектора. Наименьшую склонность к созданию рабочих мест проявляли смешанные предприятия, чуть выше она была у государственных, еще выше – у муниципальных (по темпам создания рабочих мест в форме открытия новых предприятий они даже опережали предприятия частного сектора)[18].
Хотя по показателям ликвидации рабочих мест частные и совместные предприятия уступали муниципальным, они значительно превосходили государственные и особенно смешанные. Причем их отставание от «муниципалов» наблюдалось только по ликвидации рабочих мест в форме закрытия целых предприятий. Если говорить о ликвидации рабочих мест непрерывно действовавшими предприятиями, то здесь явное превосходство было за частным сектором. Это дает основания полагать, что высокие показатели создания/ликвидации рабочих мест за счет открытия/закрытия целых предприятий в муниципальном секторе – статистический артефакт и, скорее всего, связаны с постоянной реорганизацией муниципальных структур, осуществлявшейся в последние годы[19].
В любом случае, с точки зрения общей динамики рабочих мест ситуация однозначно складывалась в пользу частного сектора. Если у частных и совместных предприятий сальдо движения рабочих мест было положительным или слабо негативным, то государственные, муниципальные и смешанные сворачивали занятость (сальдо движения рабочих мест -1-2 п.п.). При этом безусловными лидерами по темпам чистого прироста занятости с большим отрывом от остальных групп выступали совместные предприятия, а безусловными аутсайдерами – муниципальные и смешанные.
При таких межгрупповых различиях в показателях создания/ликвидации рабочих мест наиболее активный валовой оборот также должен был наблюдаться на частных и совместных предприятиях. Они же лидировали по активности перераспределения рабочих мест, измеряемой коэффициентом избыточного оборота.
Отметим, что превосходство предприятий частного сектора над предприятиями государственного было устойчивым и наблюдалось на протяжении практически всего периода 2008–2014 гг. Так, на первых интенсивность создания рабочих мест была перманентно в 1,5–2 раза выше, чем на вторых. Также они выступали неизменными лидерами по интенсивности ликвидации рабочих мест (если исключить муниципальные предприятия, где в 20122014 гг. в полной мере проявилась проблема точной идентификации создания/реорганизации).
Особый интерес с этой точки зрения представляет сравнительная динамика сальдо движения рабочих мест. У частных и совместных предприятий она лишь в 2009 и 2010 гг. была отрицательной, а в остальные годы – положительной. Это резко контрастирует с ситуацией на государственных, муниципальных и смешанных предприятиях, которые постоянно снижали занятость – иными словами, имели отрицательное сальдо движения рабочих мест (исключением стал 2011 г., когда на смешанных предприятиях сальдо было практически нулевым).
Это позволяет предположить, что долгосрочная тенденция к сокращению занятости в секторе КСП во многом объясняется особенностями поведения предприятий с участием государства – государственных, муниципальных и смешанных. Именно они постоянно, из года в год «сбрасывали» имевшиеся на них рабочие места. В то же время предприятия частного сектора (прежде всего совместные) скорее противостояли этой тенденции, пытаясь даже в условиях неблагоприятного делового климата сохранять или даже наращивать занятость.
Вместе с тем необходимо отметить более высокую чувствительность частных и совместных предприятий к циклическим колебаниям. Так, в кризисном 2009 г. они в 1,5 раза уменьшили интенсивность создания рабочих мест (с 15 до 10 %), вплотную приблизившись к гораздо более низким показателям, характерным для государственных, муниципальных и смешанных предприятий (рис. П1-10). Напротив, в посткризисный период темпы создания рабочих мест на них заметно возросли, хотя и не достигли докризисных значений. На предприятиях, связанных с государством, подобных резких колебаний не наблюдалось.
Аналогично обстояло дело и с показателями ликвидации рабочих мест. Как показано на рис. П1-11, в кризисном 2009 г. частные и смешанные предприятия ликвидировали почти 1/5 (!) имевшегося у них «запаса» рабочих мест, что намного превосходило сокращение занятости на предприятиях с государственным участием. Зато в посткризисные годы темпы ликвидации рабочих мест в частном секторе резко пошли вниз, чего не наблюдалось на государственных или муниципальных предприятиях, где они не изменились или даже возросли. Складывается впечатление, что для предприятий, наиболее тесно связанных с государством, как кризис, так и последующее восстановление прошли практически незамеченными. Процессы создания/ликвидации рабочих мест протекали на них по своей автономной логике, вне прямой связи с изменением общей экономической ситуации.
В результате, как показано на рис. П1-12, за 2011–2012 гг. совместные предприятия сумели полностью, а частные – частично компенсировать кризисные потери рабочих мест. В отличие от этого на предприятиях, связанных с государством, никакой посткризисной компенсации не наблюдалось: как и во все предыдущие годы, они продолжали монотонно сокращать занятость.
В целом можно утверждать, что для частного сектора российской экономики характерны намного больший динамизм и намного большая вовлеченность в процессы реструктуризации занятости по сравнению с государственным. С одной стороны, в частном секторе гораздо быстрее создаются новые рабочие места, а с другой – из него намного активнее «вымываются» рабочие места, оказавшиеся неэффективными. В результате реаллокация рабочих мест внутри частного сектора оказывается одним из важнейших факторов повышения производительности труда в российской экономике.
Обратимся к проблеме, сформулированной в начале данного раздела. Насколько велики искажения, связанные с тем, что в российском случае показатели движения рабочих мест рассчитываются для всей экономики, включая обширный государственный сектор?[20] В среднем за период 2008–2014 гг. показатели создания рабочих мест для частного сектора на 3 п.п., их ликвидации – на 2 п.п., а валового оборота – на 5 п.п. выше, чем для всей экономики. Как следствие, они попадают примерно в середину коридора значений, который зафиксирован в докладе Всемирного банка. Если вспомнить, что оценки по России рассчитываются только для крупных и средних предприятий с исключением наиболее динамичного сектора малого предпринимательства, то можно сделать вывод, что ее, возможно, следовало бы отнести к группе стран с высокими показателями движения рабочих мест в «рыночном» секторе.
1.6. Межотраслевая дифференциация
Результаты эмпирических исследований в разных странах показывают, что существует значительная межотраслевая дифференциация в масштабах реаллокации рабочих мест [Gomez-Salvador et al., 2004; Haltiwanger et al., 2010; Martin-Barroso et al., 2011]. Это может определяться тем, что распределение фирм по капиталоемкости, размеру и возрасту различается по видам деятельности. Малые, относительно недавно созданные и некапиталоемкие фирмы могут расти быстрее (в случае успеха), но и быстрее сокращаться (в случае неудачи). Кроме того, жесткость регулирования также неодинакова для фирм в разных секторах и разных размеров. Отсюда естественно ожидать лидерства таких секторов, как торговля, строительство и бизнес-услуги. Следовательно, сложившаяся специализация страны (или региона) на определенных видах деятельности должна влиять на агрегированные показатели мобильности рабочих мест.
При анализе межотраслевой дифференциации показателей движения рабочих мест мы ограничимся оценками, относящимися к 2014 г. Отметим, что колебания во времени практически не меняли ранжирование различных видов деятельности с точки зрения их динамизма, так что наш анализ достаточно представителен для всего периода 2008–2014 гг.
Показатели реаллокации по видам деятельности в России в 2014 г. приведены в табл. П1-6. И в нашей стране лидерами по темпам создания рабочих мест оказываются торговля и строительство. За 2014 г. в них было создано соответственно 16 и 15 % новых рабочих мест, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по всей экономике. Они опережали другие секторы по интенсивности наращивания рабочих мест как на недавно открытых, так и на старых предприятиях. Логична высокая активность и таких секторов сферы услуг, как финансовое посредничество, операции с недвижимостью и гостинично-ресторанный, которым также свойствен повышенный динамизм.
Несколько неожиданно, что рабочие места весьма активно создавались в образовании – около 9 %, причем не столько за счет расширения действующих организаций (3,1 %), сколько за счет появления новых (5,8 %). В то же время в родственном сегменте бюджетной сферы – здравоохранении – показатели создания рабочих мест находились на более низких отметках. В предыдущие годы образование входило в число явных аутсайдеров. Похоже, что мы имеем дело со статистическим артефактом, когда меры по реорганизации системы образования были ошибочно приняты статистикой за создание «с нуля» новых образовательных учреждений. (С этим предположением хорошо согласуется ранее отмеченный факт трудно объяснимой высокой активности в создании новых и закрытии старых предприятий в муниципальном секторе.) В роли аутсайдеров с точки зрения интенсивности создания рабочих мест выступали рыболовство (5 %), а также сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Их показатели (6,3–6,4 %) заметно ниже среднего уровня по всей экономике.
Лидерами по темпам ликвидации рабочих мест выступали: строительство (17 %), торговля (10 %), сельское хозяйство (12 %), гостинично-ресторанный бизнес (13 %). Рабочие места ликвидировались здесь активнее, чем в других секторах, за счет как сокращения занятости на продолжавших действовать предприятиях, так и закрытия целых бизнес-единиц. Во многом это было, по-видимому, связано с сильно выраженным сезонным характером экономической активности в данных секторах. И вновь аномально высокая оценка для образования (около 13 %) выводит его по уровню ликвидационной активности на второе место после строительства. Этот неправдоподобно высокий результат подтверждает наши опасения относительно недостаточной надежности данных по этому сектору. Медленнее всего рабочие места ликвидировались в добывающих отраслях (около 7 %), за которыми следовали финансовое посредничество, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8–9%).
Межотраслевые различия в динамике рабочих мест отражают своего рода дифференциацию внешних условий функционирования между различными видами экономической деятельности. В одних рабочие места отличаются волатильностью и нестабильностью, в других – относительной устойчивостью. Так, в торговле и строительстве в течение года перераспределялось примерно 30 % рабочих мест, а в добывающих отраслях – чуть более 13 %. Все остальные секторы располагались между этими крайними точками. Например, в обрабатывающих производствах коэффициент валового перераспределения составлял чуть больше 15 %, что заметно ниже даже среднего показателя по всей экономике. В число неизменных лидеров по темпам создания и ликвидации рабочих мест входили торговля и строительство, в число неизменных аутсайдеров – здравоохранение и образование (исключая «аномальный» 2012 г.).
Практически во всех видах деятельности большая часть (от 60 до 80 %) общего объема реаллокации приходилась на непрерывно действовавшие предприятия (аномально на этом фоне выглядела ситуация в образовании, где основной вклад в перераспределение рабочих мест вносили вновь созданные и ликвидированные предприятия). Подобные соотношения типичны для большинства стран.
В 2014 г. положительное сальдо движения рабочих мест сохранялось в четырех секторах российской экономики: торговле, гостиничном бизнесе, финансах и операциях с недвижимостью. В остальных оно было отрицательным, причем в сельском хозяйстве превышало -6%, а в обрабатывающих производствах —2 %. Именно эти два вида деятельности лидировали по чистым потерям рабочих мест, причем с заметным отрывом от всех остальных.
В целом, если говорить о главных структурных сдвигах, то, как показывают приведенные оценки, в 2014 г. в секторе КСП «переброска» рабочих мест шла в основном из промышленности в сферу услуг, а внутри последней – из сферы нерыночных услуг в сферу рыночных. Хотя конкретные «успехи» разных видов деятельности варьировались от года к году, эти тренды, как показывает анализ, были характерны для всего периода 2008–2014 гг.
1.7. Заключение
Тема обновления рабочих мест остается крайне актуальной как с научной, так и с политической точек зрения. В 2008–2014 гг. в среднем за год в секторе крупных и средних российских предприятий создавалось примерно 3–4 млн новых рабочих мест за счет расширения занятости на одних предприятиях и примерно столько же ликвидировалось из-за их сокращения на других. В итоге общее число ежегодно перераспределяемых рабочих мест колебалось в пределах 6,5–8 млн. В промышленности в среднем за год создавалось порядка 600–700 тыс. рабочих мест, а наблюдаемый масштаб ликвидации варьировался от 1,5 млн в кризисном 2009 г. до 720 тыс. в посткризисные 2011–2012 гг. Такое соотношение показателей создания и ликвидации рабочих мест обеспечивало постепенное сокращение общей занятости в этом сегменте российской экономики.
Согласно имеющимся данным по демографии предприятий, на протяжении рассматриваемого периода коэффициенты рождаемости и смертности предприятий, как правило, незначительно отличались от коэффициентов создания рабочих мест на вновь открывшихся и ликвидации рабочих мест на закрывшихся предприятиях. Это предполагает, что как среди создаваемых, так и среди ликвидируемых предприятий преобладали бизнес-единицы со средней численностью персонала. Такая закономерность расходится с тем, что нам известно из опыта других стран, где среди и создаваемых, и ликвидируемых предприятий абсолютное большинство составляют малые и мельчайшие бизнес-единицы.
Исследования показывают, что средние значения показателей движения рабочих мест крайне чувствительны к структурным характеристикам экономики. Используемые нами данные позволяют дифференцировать историю создания и ликвидации рабочих мест по формам собственности, видам деятельности и регионам.
В частном секторе реаллокационная активность предприятий была намного выше, чем в государственном. В среднем за весь период 2008–2012 гг. показатели создания рабочих мест для частного сектора на 3 п.п., ликвидации рабочих мест – на 2 п.п., валового оборота рабочих мест – на 5 п.п. выше, чем для всей экономики. Эти показатели окажутся еще выше, если учесть наиболее динамичный сектор малого предпринимательства, не охватываемый используемыми нами данными.
Межотраслевые различия в динамике рабочих мест отражают специфику разных отраслей и дифференциацию во внешних условиях функционирования между различными видами экономической деятельности. В одних рабочие места отличаются значительной волатильностью, в других – относительной устойчивостью. Межотраслевые различия достаточно устойчивы во времени. В число неизменных лидеров по темпам создания и ликвидации рабочих мест входили торговля и строительство, в число неизменных аутсайдеров – здравоохранение и образование. В целом, как свидетельствуют наши оценки, в рассматриваемый период «переброска» рабочих мест шла в основном из промышленности в сферу услуг, а внутри последней – из сферы нерыночных услуг в сферу рыночных.
В любом случае мы можем констатировать, что структура рабочих мест в российской экономике оказывается достаточно мобильной. Ежегодно значительное их число «перебрасывается» с одних предприятий на другие, что ведет к изменению всей структуры занятости. Хотя российские показатели для всей экономики ниже средних значений по другим странам, применительно только к частному сектору такого отставания нет.
К сожалению, из-за отсутствия необходимых данных мы не можем определить направление реаллокации рабочих мест. Перераспределяются ли они с менее эффективных предприятий на более эффективные? Или, наоборот, с более эффективных на менее эффективные? Носит она характер «созидательного» (в смысле Шумпетера) или «антисозидательно-го» разрушения? Ведет она к повышению или снижению производительности? Однако все, что нам известно из данных различных выборочных обследований, однозначно свидетельствует о том, что динамика занятости на предприятиях положительно и очень тесно связана с характеристиками их экономической деятельности – рентабельностью, финансовым положением, загрузкой производственных мощностей, производительностью труда и т. д. [Brown, Earle, 2003; Капелюшников, 2006; Гимпельсон, 2010]. Иными словами, экономически успешные предприятия увеличивают рабочие места, а неуспешные их сокращают. Это позволяет предполагать, что в российских условиях, несмотря на все препятствия и ограничения, шум-петерианский процесс «созидательного разрушения» все-таки пробивает дорогу.
Здесь, однако, необходима оговорка. В лучшем случае мы можем говорить лишь о том, что внутри сектора КСП реаллокация рабочих мест действительно идет в «правильном» направлении – от менее эффективных и производительных предприятий к более эффективным и производительным. Однако сам этот сектор на протяжении двух последних десятилетий практически непрерывно сжимался. Иными словами, рабочие места все больше «утекали» из него в другие сегменты экономики – на малые предприятия, в неформальный сектор и т. д. Есть серьезные сомнения в том, что подобное перераспределение рабочих мест способствовало росту производительности: была ли все возрастающая ликвидация рабочих мест корпоративным сектором российской экономики действительно «созидательной»?
К этому вопросу мы вернемся в главах 2 и 3.
Приложение П1 Методология расчета показателей движения рабочих мест
Допустим, в экономике действует N фирм, которые распадаются на две большие группы: на фирмах с 1 по m занятость в течение года возрастала («создатели»), а на фирмах с m + 1 по N – сокращалась («ликвидаторы»). (Для простоты предположим, что отсутствовала промежуточная группа предприятий с неизменной занятостью – «держатели» рабочих мест.)
Коэффициент создания рабочих мест, с, будет равен отношению
где в числителе – разность между численностью занятых на конец и на начало года по предприятиям первой группы, а в знаменателе – среднегодовая численность занятых во всей экономике. Коэффициент с показывает, какую долю общего количества рабочих мест, имевшихся в экономике, составили вновь созданные рабочие места. Их создание может протекать в двух формах: за счет открытия новых предприятий; за счет расширения занятости на старых. При наличии необходимых данных можно рассчитать два частных коэффициента создания рабочих мест.
Аналогично определяется коэффициент ликвидации рабочих мест, d:
который показывает, какую долю общего количества рабочих мест, имевшихся в экономике, составили ликвидированные рабочие места. Их сокращение также возможно в двух формах: за счет закрытия целых предприятий; за счет потерь в занятости на продолжающих действовать предприятиях. Интенсивность каждого из этих процессов можно оценить с помощью частных коэффициентов ликвидации рабочих мест.
Масштабы общей реаллокации рабочих мест измеряются коэффициентом их валового перераспределения, g:
g = с + d,
который показывает долю всех рабочих мест, вовлеченных в движение.
Показатели движения рабочих мест связаны с показателями движения рабочей силы – коэффициентами найма, h, и выбытия, s, – базовым тождеством
c – d = n = h – s,
где n – итоговое изменение занятости.
Разность между коэффициентом валового перераспределения рабочих мест и абсолютным значением итогового изменения занятости дает коэффициент «избыточного» перераспределения рабочих мест, г.
r = g – |n|.
Как известно, показатель валового оборота рабочей силы принято определять как сумму коэффициентов найма и выбытия.
t = h + s.
Разность между валовым оборотом рабочей силы и валовым перераспределением рабочих мест – это показатель «холостого» оборота, i:
i = t – g,
с помощью которого оценивается часть перемещений работников, не связанная с перераспределением рабочих мест и происходившая независимо от него.
Зная эти соотношения, можно определить долю избыточного перераспределения рабочих мест в их валовом перераспределении.
e1 = r / g = (– |n|)/g = 1 – (c – d|)/(c + d),
а также долю «холостого» оборота в валовом обороте рабочей силы.
e2 = i/1 = (t – g)/1 = 1 – (c + d)/(h + s).
Таблица П1-1
Абсолютные показатели движения рабочих мест и рабочей силы во всей экономике и в промышленности Российской Федерации, 2008–2014 гг., тыс. человек
Источник, в этой и последующих таблицах расчеты авторов и данные Росстата.
Таблица П1-2
Относительные показатели движения рабочих мест и рабочей силы во всей экономике и в промышленности Российской Федерации, 2008–2012 гг., %
Таблица П1-3
Доля рабочих мест, аккумулируемых предприятиями-«создателями» и предприятиями-«ликвидаторами», темпы изменения занятости на них, 2008–2014 гг., %
Таблица П1-4
Численность предприятий по видам экономической деятельности, сектор КСП, 2005–2014 гг., тыс. ед.*
* Без организаций бюджетного сектора и сферы финансовых услуг.
Таблица П1-5
Движение рабочих мест на предприятиях разных форм собственности, 2014 г., %
Таблица П1-6
Показатели движения рабочей силы и рабочих мест по видам экономической деятельности в 2014 г., %
Рис. П1-1. Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест, вся экономика и промышленность, 2008–2014 гг., %
Рис. П1-2. Сальдо движения рабочих мест, вся экономика и промышленность, 2008–2014 гг., %
Рис. П1-3. Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест на непрерывно действовавших, вновь созданных и ликвидированных предприятиях, вся экономика, 2008–2014 гг., %
Рис. П1-4. Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест на непрерывно действовавших, вновь созданных и ликвидированных предприятиях, промышленность, 2008–2014 гг., %
Рис. П1-5. Показатели оборота организаций в секторе КСП, вся экономика, 2005–2013 гг., %
Рис. П1-6. Показатели оборота организаций в секторе КСП, промышленность, 2005–2013 гг., %
Рис. П1-7. Показатели оборота организаций в секторе КСП, обрабатывающие производства, 2005–2013 гг., %
Рис. П1-8. Распределение организаций в секторе КСП по датам образования, вся экономика и промышленность, 2013 г., %
Рис. П1-9. Распределение организаций в секторе КСП по датам образования, секторы промышленности, 2013 г., %
Рис. П1-10. Коэффициент создания рабочих мест на предприятиях разных форм собственности, 2008–2012 гг., %
Рис. П1-11. Коэффициент ликвидации рабочих мест на предприятиях разных форм собственности, 2008–2012 гг., %
Рис. П1-12. Сальдо движения рабочих мест на предприятиях разных форм собственности, 2008–2012 гг., %
Литература
Гимпельсон В.Е. Предприятия обрабатывающей промышленности на рынке труда: индикаторы приспособления: Серия WP3 «Проблемы рынка труда». Препринт WP3/2010/01. М.: ГУ ВШЭ, 2010.
Гимпельсон В., Капелюшников Р., Рыжикова З. Движение рабочих мест в российской экономике: в поисках «созидательного разрушения» // Экономическая политика. 2012. № 3. C. 99-114; № 4. С. 5–21.
Капелюшников Р.И. Российский рынок труда сквозь призму предпринимательских опросов: ретроспективный анализ. М.: ИМЭМО РАН, 2006.
Acquisti A., Lehmann H. Job Creation and Job Destruction in Russia: Some Preliminary Evidence from Enterprise-level Data. LICOS Discussion Paper, Discussion Paper 84/1999.
Brown D., Earle J. Gross Job Flows in Russian Industry Before and After Reforms: Has Destruction Become More Creative? // Journal of Comparative Economics. March 2002. Vol. 30(1). Р. 96–133.
Brown J.D., Earle J.S. The Reallocation of Workers and Jobs in Russian Industry: New Evidence on Measures and Determinants // Economics of Transition. June 2003. Vol. 11(2). Р. 221–252.
Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Flows // Handbook of Labor Economics / ed. by O. Ashenfelter, D. Card. Vol. 3. Ch. 41. Elsevier, 1999.
Cahuc P. Search, Flows, Job Creations and Destructions // Labour Economics. October 2014. Vol. 30. P. 22–29.
Gomez-Salvador R., Messina J., Vallanti G. Gross Job Flows and Institutions in Europe // Labour Economics. 2004. Vol. 11. P. 469–485.
Haltiwanger J., Jarmin R., Miranda J. Who Creates Jobs? Small vs. Large vs. Young: NBER Working Paper № 16300. August 2010.
Haltiwanger J. Job Creation and Firm Dynamics in the U.S. // Innovation Policy and the Economy / ed. by J. Lerner, S. Stern. Vol. 12. Chicago: University of Chicago Press (forthcoming), (/ chapters/c12451.pdf)
Haltiwanger J., Scarpetta S., Schweiger H. Cross Country Differences in Job Reallocation: The Role of Industry, Firm Size and Regulations: EBRD Working Paper. № 116. EBRD, 2010.
ILO. Report II. Statistics of Work, Employment and Labour Underutilization: Report for discussion at the 19th International Conference of Labour Statisticians. Geneva, 2-11 October 2013. (/ wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/publication/wcms_220535.pdf)
Martin-Barroso D., Nunez-Serrano J., Turrion J., Velazquez F. The European Map of Job Flows: MPRA Paper. № 33602. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autonoma de Madrid, GRIPICO, 2011.
System of National Accounts 1993. Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, D.C., 1993. ()
System of National Accounts 2008. New York, 2009. (/ docs/SNA2008.pdf)
The World Bank. World Development Report 2013: Jobs. Washington DC, 2012.
Глава 2 Поляризация или улучшение? Эволюция структуры рабочих мест в России в 2000-е годы
2.1. Введение
Основная идея данной главы связана с активной дискуссией по поводу структурных изменений занятости в современных экономиках. Ключевой вопрос достаточно прост: какой из двух альтернативных сценариев качественной эволюции рабочих мест лучше описывает фактический ход событий – прогрессирующего улучшения или поляризации?
Первый предполагает последовательное повышение спроса на квалифицированный труд и соответствующее снижение на неквалифицированный. Основным драйвером этого процесса считается технологический прогресс, генерирующий более сложные рабочие места, предъявляющий все более высокие требования к образованию и квалификации и в итоге перераспределяющий плоды экономического роста в пользу обладателей таковых. Данный сценарий связан с гипотезой о технологических изменениях, смещенных в пользу квалифицированного труда (skill-biased technological change – SBTC) [Katz, Murphy, 1992]. Своего рода тестом на оправданность этой гипотезы выступает монотонная положительная связь между приростом занятости и качественными характеристиками рабочих мест.
В соответствии с альтернативным сценарием ситуация развивается иначе. Да, «хороших» рабочих мест становится больше, и в этом заслуга (в частности) технологического прогресса. Но одновременно становится больше и «плохих» рабочих мест – не рутинных, но и не требующих особой квалификации. Таких особенно много в сфере услуг, где занятость непрерывно растет. Принципиально нерутинный характер делает невозможной автоматизацию подобных рабочих мест, поэтому их число по мере развертывания компьютерной революции не сокращается, а увеличивается. Отсюда – поляризация, когда и «хороших», и «плохих» рабочих мест становится все больше, а середина «проваливается», так как промежуточные по качеству рабочие места активно свертываются (routine-biased technological change – RBTC) [Autor, Levy, Murnane, 2003]. Их нарастающая ликвидация обусловлена рутинным характером трудовых операций, относительно легко поддающихся автоматизации. В итоге возникает U-образная зависимость между ростом занятости и качеством рабочих мест. Этот сценарий также связывает структурные изменения с технологическим развитием, но иначе идентифицирует знаки эффектов и группы рабочих мест, подвергающихся его воздействию.
Наша работа – первая попытка взглянуть на российскую экономику под таким углом зрения. Есть несколько причин, почему российский случай может представлять особый интерес. Во-первых, российская экономика одна из самых крупных в мире. Во-вторых, в 2000-е годы она ускоренно росла, ВВП почти удвоился, что сопровождалось стремительным повышением реальной заработной платы. В-третьих, этот рост носил экспортоориентированный характер, что должно было оказывать неоднозначное влияние на структуру занятости. В-четвертых, в этот период серьезно изменилась отраслевая структура занятости: доля сельского хозяйства и промышленности быстро сокращалась, тогда как сферы услуг – расширялась. Наконец, в-пятых, происходила бурная экспансия высшего образования, в результате к началу 2010-х годов каждый третий российский работник стал обладателем вузовского диплома. Добавим, что все эти «драматические» сдвиги наблюдались в переходной экономике, только что вышедшей из глубокой и затяжной трансформационной рецессии. Причем некоторые изменения (предположительно) лучше согласуются со сценарием прогрессирующего улучшения структуры рабочих мест, а другие – со сценарием поляризации. Такая неоднозначность делает эмпирическое тестирование этих альтернативных гипотез вдвойне интересным.
Используемый нами эмпирический подход основан на ранжировании рабочих мест в зависимости от их качества [Fernandez-Macias, 2012; Fernandez-Macias, Storrie, Hurley, 2012].
В его рамках тот или иной тип, или кластер, рабочих мест определяется как ячейка, образуемая пересечением отраслевой и профессиональной принадлежности работников.
На первом этапе анализа мы ранжируем все рабочие места по их качеству, для чего используем данные об уровне образования и заработной плате во всех ячейках. Полученный рейтинг разбивается на пять равных частей (квинтилей), где первая соответствует «худшим», а последняя – «лучшим» рабочим местам. На втором этапе мы анализируем изменения в структуре рабочих мест как во всей экономике, так и в ее отдельных сегментах.
2.2. Общие концептуальные представления
Технологический прогресс порождает структурные изменения в экономике, которые на рынке труда выражаются в перестройке структуры рабочих мест. Рабочие места неоднородны по своим качественным характеристикам: одни предполагают высокую, другие – низкую квалификацию рабочей силы; одни связаны с высокой, другие – с низкой оплатой; одни более привлекательны с точки зрения неденежных преимуществ, чем другие. Вопрос, в каком направлении меняется структура занятости под воздействием технологического прогресса (от «хороших» рабочих мест к «плохим» или, наоборот, от «плохих» к «хорошим»), уже несколько веков привлекает внимание исследователей.
Первоначальная точка зрения, сформировавшаяся под влиянием промышленной революции, была пессимистичной: развитие машинного производства должно было, как предполагалось, вести к постепенному вытеснению сложного, квалифицированного труда примитивным, неквалифицированным. В этом сходились такие разные мыслители, как А. Смит и К. Маркс. В рамках подобного подхода машины рассматривались как комплементарные по отношению к неквалифицированной рабочей силе, но как субституты по отношению к квалифицированной. В длительной исторической перспективе этот пессимистический прогноз не оправдался. И в XIX в., и в первой половине XX в. спрос на квалифицированных работников рос быстрее, чем на неквалифицированных, так что структура занятости постепенно сдвигалась от менее привлекательных рабочих мест к более привлекательным.
Во второй половине XX в. под воздействием компьютерной революции и распространения информационных технологий возникло однозначно оптимистичное представление о природе и последствиях современного технологического прогресса. В экономической теории оно было формализовано в концепции «технологического прогресса, смещенного в пользу высококвалифицированной рабочей силы» (SBTC). Согласно ей, современные компьютерные технологии тесно связаны с процессом накопления человеческого капитала, поскольку для их внедрения и использования необходима квалифицированная рабочая сила с высоким формальным образованием [Katz, Murphy, 1992]. Иными словами, IT-технологии рассматриваются как комплементарные по отношению к высококвалифицированной рабочей силе и как субституты по отношению к неквалифицированной. Если так, то тогда результатом технологического прогресса должно быть последовательное улучшение структуры рабочих мест: «плохих» (неквалифицированных, низкооплачиваемых и т. д.) должно становиться все меньше, а «хороших» (квалифицированных, высокооплачиваемых и т. д.) – все больше.
Однако в последние годы появилась ревизионистская точка зрения, получившая выражение в концепции «технологического прогресса, направленного на вытеснение рутинного труда» (RBTC). Сторонники идеи RBTC ввели в анализ новое измерение, обратив внимание на то, что рабочие места могут отличаться не только уровнем сложности совершаемых трудовых операций, но и степенью их «рутинности» – монотонности, повторяемости, однообразия [Autor et al., 2003]. С одной стороны, рутинные операции легче поддаются автоматизации и программированию с помощью компьютерных технологий. С другой, как свидетельствует опыт, рутинный труд наиболее характерен для работников, занимающих средние этажи профессиональной иерархии (конторских служащих, учетчиков и т. д.). В то же время многие профессии, не требующие высокой квалификации (официантов, сиделок и др.), плохо поддаются компьютеризации, так как предполагают личный контакт с клиентом.
С учетом этого в концепции RBTC современные IT-технологии рассматриваются как комплементарные по отношению к высококвалифицированной и нейтральные – к низкоквалифицированной рабочей силе, но как субституты – по отношению к рабочей силе средней квалификации. В таком случае технологический прогресс будет вести к поляризации структуры рабочих мест: в середине профессиональной шкалы должен наблюдаться провал, а рост происходить по ее краям, где концентрируются, с одной стороны, «худшие», а с другой – «лучшие» рабочие места. Иными словами, динамика занятости должна иметь U-образную форму. Для общества поляризация рабочих мест чревата серьезными негативными последствиями, поскольку она, во-первых, провоцирует углубление экономического неравенства и, во-вторых, подрывает основу существования среднего класса. Отсюда – связанная с ней угроза дестабилизации общей социально-политической обстановки.
Конечно, технологический прогресс – далеко не единственный фактор, способный порождать поляризацию рабочих мест. Так, она может быть следствием глобализации – либерализации внешней торговли и возрастающей экономической интеграции между странами. Либерализация внешней торговли в основном затрагивает деятельность торгуемых отраслей (прежде всего промышленности), производство в которых, если мы говорим о развитых странах, начинает сжиматься под действием растущего импорта из развивающихся стран. Но именно торгуемые отрасли традиционно выступают главными «поставщиками» рабочих мест, располагающихся на средних этажах профессиональной иерархии (прежде всего, предназначенных для квалифицированных и полуквалифицированных рабочих). Сходные последствия имеет и офшоринг – перенос фирмами рабочих мест из развитых стран в развивающиеся с целью экономии трудовых издержек. Он также затрагивает преимущественно среднеквалифицированные рабочие места в промышленности, тогда как высококвалифицированные (юристов, врачей, ученых и т. д.) и низкоквалифицированные (официантов, уборщиц, сиделок) рабочие места сферы услуг поддаются такому переносу гораздо хуже.
Источником поляризации рабочих мест могут служить и институциональные изменения. Чаще всего в этом контексте ссылаются на тенденцию к ослаблению профсоюзов и политику дерегулирования рынка труда. Сильные профсоюзы, установление высокого порога минимальной заработной платы, жесткое законодательство о защите занятости делают невыгодным для фирм наем низкопроизводительной рабочей силы, что укрепляет позиции работников со средним уровнем производительности (прежде всего, квалифицированных и полуквалифицированных рабочих). Ослабление профсоюзов и политика дерегулирования способствуют возвращению на рынок труда неквалифицированных работников, сокращая спрос на работников средней квалификации.
Из этого краткого обзора видно, что дискуссия по поводу эволюции структуры занятости вращается вокруг двух ключевых тем: 1) какой из альтернативных теоретических подходов – SBTC или RBTC – и соответственно какой из альтернативных сценариев – улучшения или поляризации структуры рабочих мест – точнее описывают изменения на рынке труда; 2) каков сравнительный вклад в эти изменения различных факторов (таких как технологический прогресс, глобализация, институциональные сдвиги).
Прежде чем переходить к обсуждению эмпирических оценок, поясним, как в данном направлении исследований определяется его ключевое понятие – «рабочее место». В этой главе оно понимается иначе, чем в главе 1 и в исследованиях, посвященных созданию/ликвидации рабочих мест. В данном случае предполагается, что любое рабочее место может быть описано комбинацией двух базовых характеристик, а именно его отраслевой и профессиональной принадлежностью. Подобное определение интуитивно убедительно и согласуется со здравым смыслом. Действительно, когда человека спрашивают о его работе, ответ чаще всего сводится к указанию, где и кем он работает: «неквалифицированный рабочий на машиностроительном заводе», «водитель в государственном учреждении», «инженер на угольной шахте», «уборщица в школе» и т. д. [Fernandez-Macias et al., 2012].
Впервые такой подход был применен в докладе Комитета экономических советников при президенте США под руководством Дж. Стиглица [U.S. Council of Economic Advisors, 1996]. Все рабочие места авторы разбили на две части – «хорошие» и «плохие» в зависимости от уровня заработной платы в соответствующих профессионально-отраслевых группах. Позднее начали использоваться более дробные группировки – например, деление всех рабочих мест на связанные с выполнением нерутинных физических («плохой сегмент»), рутинных когнитивных («средний сегмент») и нерутинных когнитивных («хороший сегмент») функций [Autor, Katz, Kearney, 2006]. Однако при ближайшем рассмотрении многие подобные классификации оказывались произвольными, в частности состоящими из очень разных по размеру частей [Fernandez-Macias et al., 2012].
Более строгий подход разработали американские социологи Э. Райт и Р. Двайер. Они предложили делить все множество существующих рабочих мест на пять равных частей (квинтилей), ранжированных в зависимости от уровня заработной платы (средней или медианной) в соответствующих профессионально-отраслевых ячейках [Wright, Dwyer, 2003]. К настоящему времени именно этот подход завоевал наибольшую популярность.
Самые первые эмпирические оценки были получены для США в упомянутом докладе Комитета экономических советников [U.S. Council of Economic Advisors, 1996]. Из них следовало, что из общей величины чистого прироста занятости за 1994–1996 гг. 68 % пришлось на долю «хороших» и лишь 32 % – на долю «плохих» рабочих мест, что вполне согласовывалось с предсказаниями «канонической» модели SBTC. Однако при использовании вместо простейшей дихотомической классификации рабочих мест более сложных вариантов (трихотомического или квинтильного) картина оказывалась совсем не оптимистической. Как показали, например, Райт и Двайер, в 1990-е годы динамика занятости в США отличалась асимметрией и поляризацией: в верхнем сегменте рабочих мест рост был очень быстрым, в нижнем – умеренным, а в промежутке между ними – крайне низким [Wright, Dwyer, 2003]. Причем в течение нескольких предшествующих десятилетий ситуация была совершенно иной: в 1960-е годы наблюдалось четко выраженное улучшение (upgrading) структуры рабочих мест (чем выше было их качество, тем быстрее они увеличивались), тогда как в 19701980-е годы динамика занятости была практически симметричной (во всех сегментах темпы роста были примерно одинаковы).
Дальнейшее подтверждение тезис о поляризации получил в работе Д. Аутора с соавторами [Autor et al., 2006]. По их выкладкам, в США доля высококвалифицированных/высокооплачиваемых рабочих мест быстро увеличивалась как в 1980-е, так и в 1990-е годы, но если в первом случае этот рост происходил на фоне сокращения низкоквалифицированных/низкооплачиваемых рабочих мест, то во втором – на фоне их увеличения. Это свидетельствовало о переходе от сценария улучшения к сценарию поляризации структуры рабочих мест. В качестве критериев для оценки качества рабочих мест авторы использовали не только данные об уровне образования и заработной платы работников, но и экспертные оценки, разрабатываемые в рамках Dictionary of Occupational Titles (DOT) Министерства труда США и отражающие квалификационные требования, предъявляемые к различным профессиям. С помощью этих оценок они выделили три укрупненных кластера рабочих мест – нерутинные когнитивные; нерутинные физические; рутинные – и показали, что если первый кластер в 1990-е годы быстро рос, а второй почти не менялся, то третий быстро сокращался. Все эти результаты соответствовали предсказаниям, вытекающим из концепции RBTC. В ее пользу свидетельствовали и более поздние оценки, полученные для 2000-х годов [Autor, Dorn, 2013; Dwyer, 2013; Jaimovich, Siu, 2012].
Сходные тренды наблюдались также в Великобритании. Анализируя период 19791999 гг., М. Гуус и А. Маннинг обнаружили сильный прирост в верхнем сегменте рабочих мест, небольшой прирост в нижнем и глубокий провал в промежуточных средних сегментах [Goos, Manning, 2007]. В более поздней работе аналогичный результат получен уже для 15 европейских стран: в период 1993–2006 гг. поляризация не отмечалась лишь в Португалии [Goos, Manning, Salomons, 2009]. Однако серьезным методологическим дефектом этого межстранового анализа было то, что ранжирование профессиональных групп по уровню заработной платы, полученное авторами для Великобритании, распространялось на остальные 14 стран. Корректнее для каждой страны использовать свое, характерное именно для нее ранжирование рабочих мест по качеству, и такой подход рисует намного более сложную и менее однозначную картину.
Так, на материале Великобритании, Германии, Испании и Швеции было показано, что в период 1990–2008 гг. в трех из этих стран структура рабочих мест улучшалась, а поляризация наблюдалась только в Великобритании, причем в слабой форме (сегмент «хороших» рабочих мест расширялся, «средних» – сжимался, а «плохих» – практически не увеличивался, оставаясь почти неизмененным) [Nellas, Olivieri, 2012]. В другой работе сдвиги в структуре занятости анализировались на примере 15 европейских стран за период 1993–2009 гг. [Oesch, Rodriguez Menes, 2011]. Было показано, что за эти годы сегмент «хороших» рабочих мест увеличился везде, за исключением Португалии; «средних» – уменьшился везде, за исключением Румынии; «плохих» – также уменьшился везде, за исключением Португалии и Хорватии.
Наиболее широкой по охвату можно считать работу «Трансформация структуры рабочих мест в ЕС и США» [Fernandez-Macias et al., 2012], где динамика занятости анализировалась для 23 европейских стран в период 1995–2007 гг. Главный ее вывод – отсутствие какого-либо общего сценария. В пяти странах (Нидерландах, Франции, Кипре, Словакии и Венгрии) наблюдалась сильная поляризация структуры рабочих мест, в пяти (Германии,
Бельгии, Ирландии, Великобритании и Словении) – слабая, в пяти (Финляндии, Люксембурге, Швеции, Дании и Италии) – улучшение, в четырех (Испании, Португалии, Греции и Чехии) – «центрирование» (с «вздуванием» средней части распределения рабочих мест) и, наконец, в четырех (странах Балтии и Австрии) ситуация была неопределенной. Такое разнообразие национальных моделей нельзя объяснить ссылками на технологический прогресс (скажем, на последствия компьютерной революции), поскольку его действие по определению должно быть общим для всех стран. По-видимому, это не единственный и, возможно, даже не всегда главный фактор сдвигов в структуре рабочих мест. При столь сильной межстрановой дифференциации не менее важную роль должны играть институциональные факторы, специфические для каждой страны. Добавим, что в работах последнего времени тезис о поляризации рабочих мест начал оспариваться даже применительно к США, хотя и только для периода 2000-х годов [Mishel, Schmitt, Erholz, 2013].
Что касается изменений в структуре рабочих мест в странах с переходной экономикой, то они почти никогда не попадали в поле зрения исследователей. Одно из немногих исключений – работа А. Шарле [Scharle, 2012], посвященная анализу динамики занятости в семи странах ЦВЕ и Балтии. Основной вывод: активная ликвидация «плохих» (наименее квалифицированных и наименее оплачиваемых) рабочих мест наблюдалась только в постсоциалистических странах со снижавшейся занятостью, в то время как в странах с растущей занятостью их число, напротив, возрастало.
Наша работа вносит вклад в дискуссию о реструктуризации занятости в постсоциалистических странах. В ней впервые объектом изучения становится крупная – российская – экономика, для которой, добавим, переход от плановой системы к рыночной оказался сопряжен с несравнимо более высокими социальными и экономическими издержками, чем для стран ЦВЕ. Кроме того, наш анализ фокусируется не на начальном (1990-е годы), а на более позднем (2000-е годы) этапе переходного процесса, после завершения наиболее активной фазы рыночных реформ. В частности, он охватывает период кризиса 2008–2009 гг. и последующего посткризисного восстановления.
2.3. Эмпирическая база и методология
Наш анализ ограничивается периодом 2000–2012 гг. Мы используем несколько источников данных. Основной – выборочные Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) Росстата, которые охватывают взрослое население всех регионов страны в возрасте 15–72 лет. Они проводились ежегодно до 1999 г., ежеквартально – последующие десять лет и ежемесячно – с сентября 2009 г.
В качестве исходных мы берем данные за 2000 г., которые сопоставляем с данными за 2012 г. Внутри этого временного интервала выделяются два подпериода – 2000–2008 и 2008–2012 гг. В качестве пограничного мы выбираем 2008 г., поскольку именно он стал переходным от бума к кризису. Такие временные ограничения связаны с тем, что до 1997 г. в рамках ОНПЗ использовались «советские» классификаторы видов занятий и отраслей, что делает самые ранние из доступных данных несопоставимыми с более поздними. При переходе от ежегодного к ежеквартальному режиму проведения ОНПЗ Росстат серьезно пересмотрел методологию, поэтому использовать данные за 1997–1998 гг. также оказывается невозможно. Что касается 1999 г., то в нем обкатка новой методологии только началась и, кроме того, это был первый посткризисный год после затяжной трансформационной рецессии.
Используемый Росстатом Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) в целом гармонизирован с Международной стандартной классификацией занятий ISCO-88, а Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) – с Международной стандартной классификацией отраслей ISIC-3. Оба допускают несколько уровней дезагрегирования. Мы сделали выбор в пользу комбинации двухразрядной кодировки занятий (предполагающей выделение 33 профессиональных групп) с одноразрядной кодировкой видов экономической деятельности (предполагающей выделение 17 секторов). Однако для такого важнейшего сектора, как обрабатывающие производства, мы используем двухразрядную кодировку видов экономической деятельности с выделением внутри него дополнительно еще 14 отраслей. В результате все наши оценки строятся на основе классификации «2/1,5», в рамках которой теоретически возможное число профессионально-отраслевых ячеек (различных типов рабочих мест) составляет 990 (33 χ 30).
Однако фактически при данном уровне дезагрегирования общее число непустых ячеек, на которое выводят данные ОНПЗ, оказывается равно 635. Сокращение их числа связано как с исключением некоторых мелких секторов, таких как «Рыболовство» (ОКВЭД-2), «Деятельность домашних хозяйств» (ОКВЭД-16), «Деятельность экстерриториальных организаций» (ОКВЭД-17) (подробнее об этом см. ниже), так и с наличием ряда ячеек, остающихся пустыми.
К сожалению, в ОНПЗ отсутствует критически важная для нас информация – о заработках работников. Это делает невозможным ранжирование различных типов рабочих мест по их качеству исходя из величины заработной платы, которую получают занятые на этих рабочих местах индивиды. Мы решали эту проблему двумя способами. Во-первых, использовали альтернативный показатель качества рабочих мест – среднее число лет обучения работников, принадлежащих к тем или иным профессионально-отраслевым группам. (Подобный способ ранжирования рабочих мест с точки зрения их качества часто встречается в литературе и используется, когда исследователи не располагают данными о заработках работников.) ОНПЗ содержит информацию об уровнях образования респондентов. Мы переводили эти данные в оценки длительности обучения в годах с использованием следующей шкалы соответствия: нет неполного среднего образования – 6 лет, неполное среднее – 9 лет, полное среднее – 11 лет, начальное профессиональное – 12 лет, среднее профессиональное – 13 лет, незаконченное высшее – 14 лет, законченное высшее – 16 лет, послевузовское – 19 лет обучения.
Во-вторых, мы реконструировали отсутствующие в ОНПЗ данные о заработной плате, пользуясь данными альтернативного источника – Обследования заработной платы по профессиям (ОЗПП). Эти обследования проводятся Росстатом в октябре один раз в два года и содержат информацию о месячных заработках примерно 750 тыс. работников практически по всем субъектам РФ. К сожалению, ОЗПП начали проводиться лишь с 2005 г., и оценок, которые относились бы к началу анализируемого периода (к 2000 г.), не существует. Мы взяли за основу данные 2007 г., поскольку он примерно соответствует середине рассматриваемого нами временного интервала. Сначала, исходя из данных ОЗПП за 2007 г., мы проранжировали различные типы рабочих мест по величине средней месячной зарплаты, которую имели занятые на них индивиды: чем она выше, тем выше ранг (качество) соответствующей профессионально-отраслевой группы. Затем эти ранги вменялись респондентам ОНПЗ за 2000, 2008 и 2012 гг. с учетом их профессионально-отраслевой принадлежности.
Для наших целей наиболее серьезный недостаток ОЗПП заключается в том, что они охватывают предприятия и организации лишь 11 из 17 секторов по ОКВЭД. Поэтому для наиболее значимых видов экономической деятельности, не представленных в ОЗПП[21], мы реконструировали показатели средней заработной платы исходя из данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ ВШЭ) за 2007 г.
Расчет проводился отдельно для каждой профессиональной группы, выделяемой в рамках двухразрядной кодировки по ОКЗ. Сначала по данным РМЭЗ для каждой такой группы (например, «Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики» – ОКЗ-94) оценивалось соотношение показателей средней заработной платы в секторе, не охваченном ОЗПП (например, сельское хозяйство), и в остальных 11 «охваченных» секторах. Полученный таким образом коэффициент умножался затем на величину средней заработной платы для этой профессиональной группы по данным ОЗПП. Так удалось восполнить большинство пробелов в данных ОЗПП, касающихся средней заработной платы работников различных профессий, занятых в сельском хозяйстве, финансовой деятельности и государственном управлении.
Некоторые профессионально-отраслевые группы были исключены из анализа, поскольку информация о них отсутствует в данных либо ОЗПП либо РМЭЗ. Однако суммарно работники, принадлежащие к этим исключенным группам, составляют менее 0,3 % общей численности занятых. Кроме того, номенклатура видов занятий в ОНПЗ не полностью соответствует их номенклатуре в ОЗПП и РМЭЗ. В таких случаях мы переходили на более высокий уровень агрегирования, объединяя близкие профессиональные группы (например, подгруппы ОКЗ-61 «Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства» и ОКЗ-62 «Квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, производящие продукцию для личного потребления и продажи излишков» были объединены в группу ОКЗ-60 «Квалифицированные работники сельского хозяйства»).
Отметим, что ОЗПП содержат обширную информацию о различных характеристиках оплаты труда. Так, в них имеются данные о величине тарифного заработка (без учета премий и региональных надбавок), а также о количестве отработанных в течение месяца часов, позволяющие получать оценки часовых ставок заработной платы. Для проверки устойчивости получаемых результатов мы ранжировали типы рабочих мест по величине не только среднемесячной заработной платы, но и тарифных заработков и часовых ставок.
Насколько избранные нами критерии оценки качества рабочих мест согласуются друг с другом? Как показывают данные табл. П2-1 Приложения, при ранжировании профессионально-отраслевых ячеек по уровням образования в 2000 и 2012 гг. наблюдается сильная корреляция (около 0,8). Еще теснее корреляция между альтернативными показателями оплаты труда (0,90-0,99). В то же время образовательные и зарплатные характеристики рабочих мест связаны намного слабее (коэффициенты корреляции порядка 0,45-0,5). Отсюда можно сделать вывод, что использование при ранжировании рабочих мест того или иного образовательного или зарплатного критерия едва ли серьезно повлияет на получаемые результаты. В то же время оценки на основании данных о числе лет обучения, с одной стороны, и об оплате труда – с другой, могут заметно различаться.
Итак, качество рабочих мест оценивалось нами исходя из пяти альтернативных критериев: двух образовательных (среднее число лет обучения соответствующих профессионально-отраслевых групп в 2000 и в 2012 гг.) и трех зарплатных (средняя месячная заработная плата, средний месячный тарифный заработок и средняя часовая ставка заработной платы соответствующих профессионально-отраслевых групп в 2007 г.). Определив ранги (чем выше ранг, тем выше качество рабочего места), мы делили весь пул рабочих мест, имевшихся в 2000 г., на квинтили так, чтобы в первый квинтиль попадала их «худшая» пятая часть, а в последний – «лучшая». Затем мы анализировали изменения в каждом квинтиле на протяжении 2000–2012 гг., а также на протяжении двух выделенных нами подпериодов (докризисного и посткризисного): какие из них расширялись, какие сжимались, в каких численность не менялась.
Сценарий параллельного разрастания низшего и высшего квинтилей с проваливающейся серединой означал бы поляризацию структуры рабочих мест; сценарий разбухания высшего квинтиля при сжатии низшего – ее последовательное улучшение. Естественно, реальная картина может быть более сложной и противоречивой. Важно также иметь в виду, что в разных частях экономики сдвиги в структуре рабочих мест могут происходить с разной скоростью и в разных направлениях: при использовании агрегированных оценок эта неоднородность теряется. Поэтому свой анализ мы строили не только для всего занятого населения, но и для его отдельных демографических, профессиональных и отраслевых сегментов.
2.4. Общие тренды
Данные табл. П2-2 и П2-3 дают общее представление о том, как в период 2000–2012 гг. менялась отраслевая и профессиональная структура российской рабочей силы. Среди секторов главными «проигравшими» были сельское хозяйство (-7 п.п.), обрабатывающие производства (-4,5 п.п.), коммунальные услуги (-2,6 п.п.), а главными «выигравшими» – торговля (+3,8 п.п.), операции с недвижимым имуществом (+3,3 п.п.) и строительство (+2,3 п.п.). Таким образом, с одной стороны, наблюдалось резкое сокращение представительства секторов с традиционно низкими уровнями образования и оплаты труда (сельское хозяйство, прочие коммунальные услуги) при росте представительства секторов с традиционно высокими их уровнями (операции с недвижимым имуществом). С другой стороны, обрабатывающие производства, концентрирующие большой массив высокооплачиваемых рабочих мест, которые требуют высокой квалификации, быстро теряли занятость, тогда как торговля, где много низкооплачиваемых рабочих мест, не требующих высокой квалификации, быстро ее наращивала.
Более четкая и однозначная картина вырисовывается при обращении к данным о профессиональной структуре занятости. Мы наблюдаем значительный прирост представительства наиболее квалифицированных и высокооплачиваемых (руководители – (+3,9 п.п.), специалисты высшего уровня квалификации – (+3,8 п.п.)) и значительную убыль представительства наименее квалифицированных и низкооплачиваемых профессиональных групп (неквалифицированные рабочие – (-3,1 п.п.), квалифицированные работники сельского хозяйства – (-2,9 п.п.)). Однако при этом имели место заметное сокращение такой профессиональной группы с относительно «хорошими» качественными характеристиками, как квалифицированные рабочие (-2,9 п.п.), и существенное расширение такой профессиональной группы с относительно «плохими» качественными характеристиками, как работники сферы обслуживания (+2,8 п.п.). Поэтому вопрос о направленности структурных сдвигов остается открытым.
В любом случае агрегированные данные свидетельствуют о чрезвычайно активной перестройке структуры рабочих мест. Более того, они дают основания предполагать, что бурный экономический рост 2000-х годов, скорее всего, сопровождался масштабным перераспределением рабочей силы от «плохих» рабочих мест к «хорошим». Используя более дезагрегированные данные и применяя к ним методологию, описанную в предыдущем разделе, можно проверить, насколько это предположение соответствует действительности.
Сначала, используя данные ОНПЗ за 2000 г. о среднем числе лет образования в различных профессионально-отраслевых группах, мы разбили всю совокупность занятых в этом году на квинтили по данному показателю. Затем оценили, какую часть общей численности занятых аккумулировал каждый квинтиль в 2008 и 2012 гг.: 20 %, как в 2000 г., больше или меньше? Таким образом, становится возможным понять, в каком направлении в рассматриваемый период менялась структура рабочих мест – смещалась ли она в пользу менее или более «образованных» профессионально-отраслевых ячеек?
Результаты расчета представлены на рис. П2-1а. Из них следует, что ежегодный отток из нижнего квинтиля, включающего самые «плохие» рабочие места, достигал почти 350 тыс. работников, а ежегодный приток в верхний квинтиль, включающий самые «хорошие» рабочие места, приближался к 570 тыс. Три центральных квинтиля также притягивали дополнительных работников, но в гораздо меньших объемах (35-150 тыс. человек ежегодно). В докризисный период (2000–2008 гг.) отток из нижнего квинтиля и приток в верхний квинтиль шли в полтора-два раза быстрее, чем в посткризисный (2008–2012 гг.). Таким образом, высокие темпы экономического роста активизировали структурную перестройку экономики, а кризисные потрясения 2008–2009 гг. вызвали ее замедление. Однако это происходило на фоне резкого сокращения общих темпов роста занятости: если до кризиса она ежегодно увеличивалась в среднем на 720 тыс. человек, то после – лишь на 230 тыс. Но общая направленность структурных сдвигов в посткризисный период оставалось той же, что и в докризисный: массив «плохих» рабочих мест продолжал устойчиво сжиматься, а «хороших» – расти.
Перейдя от абсолютных показателей прироста к относительным, мы получаем более четкую картину того, что происходило в отдельных квинтилях (рис. П2-2а). Практически все изменения концентрировались по краям шкалы, а ее центральная часть отличалась исключительно высокой стабильностью: в 2012 г. второй, третий и четвертый квинтили аккумулировали, как и в 2000 г., примерно по 20 % от общей численности занятых каждый. В то же время сегмент самых «плохих» рабочих мест из первого квинтиля уменьшился почти на 8 п.п., а сегмент самых «хороших» из последнего (пятого) квинтиля, напротив, увеличился почти на 8 п.п. Таким образом, ничто не свидетельствует о поляризации структуры рабочих мест в российской экономике. Наблюдавшиеся изменения носили однонаправленный характер: шло активное вымывание «худших» (наименее квалифицированных) рабочих мест при активном наращивании «лучших» (наиболее квалифицированных).
Подобный метод оценки неявно предполагает, что иерархия рабочих мест с точки зрения их качества (в данном случае – с точки зрения продолжительности образования работников) неизменна во времени: группы, бывшие аутсайдерами в 2000 г., продолжали оставаться ими и в 2012 г.; лидеры 2000 г. оставались ими и в 2012 г. В действительности в иерархии рабочих мест с точки зрения их качества возможны серьезные подвижки: одни профессионально-отраслевые группы могут подниматься вверх (если уровень образования у входящих в них работников рос опережающими темпами), другие – опускаться вниз (если уровень образования у входящих в них работников не повышался или повышался очень медленно).
Поэтому на следующем шаге для проверки устойчивости полученных оценок мы провели альтернативный расчет, используя в качестве критерия качества показатель среднего числа лет обучения у работников, относившихся к различным профессионально-отраслевым ячейкам, в 2012 г. Этот способ ранжирования приводит к почти идентичным результатам. Как видно на рис. П2-1б, показатели абсолютного прироста для различных квинтилей остаются практически такими же, как при ранжировании по среднему числу лет обучения в 2000 г. Точно так же оказывается, что в докризисный период темпы структурной перестройки были существенно выше, чем в посткризисный. В относительных терминах (рис. П2-2б) и в этом случае не наблюдается серьезных изменений в центральной части шкалы: практически все сдвиги оказываются сконцентрированы на полюсах – в первом (-7 п.п.) и последнем (+8 п.п.) квинтилях. Это подтверждает вывод об отсутствии тренда к поляризации структуры рабочих мест, а также о постепенном замещении «худших» рабочих мест «лучшими».
Как ни странно, но при переходе от ранжирования по показателям образования к ранжированию по показателям оплаты труда картина почти не меняется (рис. П2-1в, П2-1г и П2-1д). Среднегодовой отрицательный прирост в нижнем квинтиле составляет 320–340 тыс. человек, а среднегодовой положительный прирост в верхнем – 550–680 тыс. Это почти не отличается от представленных ранее оценок. Мы вновь фиксируем резкое сжатие сегмента «худших» (в данном случае наименее оплачиваемых) рабочих мест на 7–8 п.п. и активное расширение сегмента «лучших» (наиболее оплачиваемых) рабочих мест на 8-10 п.п. (рис. П2-2в, П2-2г и П2-2д). И вновь ситуация в центральной части шкалы оказывается практически неизменной.
Итак, все пять используемых нами подходов не дают оснований полагать, что экономический рост 2000-х годов мог вести к поляризации структуры рабочих мест. Все они свидетельствуют о том, что в условиях быстрого роста в российской экономике шли два встречных процесса – активное создание «хороших» и почти столь же активная ликвидация «плохих» рабочих мест.
2.5. Секторальный анализ
Даже когда во всей экономике наблюдается структурный сдвиг от «худших» рабочих мест к «лучшим», в отдельных ее сегментах ситуация может складываться иначе. В настоящем разделе мы попытаемся ответить на вопросы: распространялся ли сценарий прогрессирующего улучшения структуры рабочих мест на все или хотя бы на большинство сегментов российской экономики; как часто встречались отступления от этого доминирующего тренда и насколько они значительны? Поскольку результаты ранжирования рабочих мест с использованием альтернативных показателей образования и оплаты труда практически идентичны, в секторальном анализе мы ограничимся двумя критериями качества из пяти, которые будем рассматривать как базовые: среднее число лет обучения в 2000 г. и средняя месячная заработная плата в 2007 г.
Гендер. На рисунках П2-3а и П2-3б представлены данные о среднегодовом абсолютном приросте занятых по квинтилям рабочих мест у мужчин. В среднем в течение всего периода 2000–2012 гг. численность мужчин, принадлежавших к нижнему квинтилю по критерию образования, ежегодно сокращалась на 176 тыс. человек, а принадлежавших к верхнему – увеличивалась на 262 тыс. Три центральных квинтиля также демонстрировали тенденцию к росту, хотя и намного более слабому. При использовании показателя заработной платы структурные сдвиги выражены еще резче: ежегодная убыль в нижнем квинтиле – на 206 тыс. человек, ежегодное приращение в верхнем – на 382 тыс. Отметим, что в этом случае сжатие по абсолютной численности оказывается характерно не только для первого, самого «плохого», но и для второго, следующего за ним квинтиля. В относительных терминах кумулятивные потери в нижнем квинтиле у мужчин составляли 4,0–4,4 п.п., а кумулятивные приращения в верхнем – 3,6–5,1 п.п. (рис. П2-4а и П2-4б).
Для женщин мы также обнаруживаем быстрое падение спроса на труд в нижнем квинтиле (с самым низким образованием и самой низкой заработной платой) на 114–164 тыс. человек ежегодно и быстрый рост спроса в верхнем (с самым высоким образованием и самой высокой заработной платой) на 172–305 тыс. человек (рис. П2-3в и П2-3г). Отметим, что если у мужчин оценки по критерию образования оказываются ниже оценок по критерию заработной платы, то у женщин соотношение обратное. Подобное расхождение объясняется тем, что, несмотря на более высокое образование российских женщин, их заработная плата в среднем значительно ниже, чем у мужчин.
Как в нижнем, так и в верхнем квинтилях кумулятивный прирост у женщин в относительных терминах был меньше (по абсолютному значению), чем у мужчин: в первом случае 2,3–4,1 п.п., во втором —3,6–5,1 п.п. (рис. П2-4а и П2-4б). В результате вклады мужчин и женщин в общее изменение структуры рабочих мест по критерию образования были примерно равнозначны, но по критерию заработной платы доминировали мужчины: их вклад как в сжатие нижнего квинтиля, так и в увеличение верхнего примерно вдвое превышал аналогичный вклад женщин.
Возраст. Оценки для трех укрупненных возрастных групп – молодежи (15–29 года), лиц зрелого возраста (30–49 лет) и пожилых (50–72 года) – представлены на рис. П2-5 и П2-6.
Результаты для молодежи заметно различаются по подпериодам – докризисному и посткризисному (рис. П2-5а и П2-5б). Это объясняется тем, что на рубеже 2000—2010-х годов российская экономика вступила в демографическую «яму», обусловленную резким падением рождаемости в первое десятилетие рыночных реформ. Если в докризисный период общая численность работников в молодежных возрастах быстро возрастала (в среднем на 250 тыс. в год), то в посткризисный столь же быстро сокращалась (в среднем на 262 тыс. в год). Если в первом подпериоде мы наблюдаем и активное сжатие нижнего квинтиля (на 113–137 тыс. человек в год), и активное расширение верхнего (на 254–239 тыс. человек), то во втором сжатие нижнего квинтиля продолжилось (хотя и с меньшей интенсивностью – примерно на 90 тыс. человек в год), но прирост в верхнем квинтиле стал почти нулевым или даже отрицательным.
Для лиц зрелого возраста подобное расхождение между подпериодами отсутствует (рис. П2-5в и П2-5г). (Отметим, что общая численность этой возрастной группы устойчиво снижалась как в 2000–2008, так и в 2008–2012 гг.) В целом за 2000–2012 гг. в нижнем квинтиле численность рабочих мест, занятых лицами зрелого возраста, ежегодно снижалась примерно на 220 тыс., а в верхнем – симметрично возрастала на 200–225 тыс.
Совершенно иная картина вырисовывается для работников предпенсионного и пенсионного возрастов (рис. П2-5д и П2-5е). И в докризисный, и в посткризисный периоды их общая численность стремительно увеличивалась – примерно на 500 тыс. человек в год. В результате число рабочих мест, занимаемых такими работниками, росло во всех четырех верхних квинтилях, и хотя в пятом квинтиле рост был немного выше, чем в трех других, разница была непринципиальной. Даже в нижнем квинтиле у лиц пожилого возраста в посткризисный период отмечались признаки некоторого роста занятости.
Относительные оценки позволяют лучше осмыслить эти разнонаправленные тенденции (рис. П2-6а и П2-6б). Основной вклад в сжатие нижнего квинтиля вносили лица зрелого возраста – 2/3 общего сокращения самых «плохих» рабочих мест пришлось именно на них. Значительный вклад (примерно 1/3) внесла молодежь, а вклад пожилых был практически нулевым. Более равномерно распределялись роли различных возрастных групп в расширении сегмента «лучших» рабочих мест: здесь вклады всех трех групп были сопоставимыми. Но наиболее интересные процессы наблюдались в средней части шкалы: убыль рабочих мест в трех центральных квинтилях у лиц зрелого возраста и (в меньшей степени) у молодежи компенсировалась их наращиванием у лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. Если бы не это, то глубокий провал наблюдался бы не только в первом, но и в трех следующих квинтилях.
Профессиональная принадлежность. Мы разбили всех работников на четыре укрупненные категории в зависимости от их профессиональной принадлежности: «беловоротничковые» профессии высокой квалификации (группы 1–3 по ОКЗ); «беловоротничковые» профессии низкой квалификации (группы 4–5); «синеворотничковые» профессии высокой квалификации (группы 7–8); «синеворотничковые» профессии низкой квалификации (группы 6 и 9 по ОКЗ). Был ли характерен общий тренд к последовательному улучшению структуры рабочих мест для всех профессиональных групп или только для некоторых? Были ли такие группы, положение которых с точки зрения качества занимаемых рабочих мест не улучшалось, а ухудшалось? Судить об этом позволяют данные, представленные на рис. П2-7 и П2-8.
Закономерно, что работники, принадлежащие к первой группе («белые воротнички» с высокой квалификацией), сосредоточены преимущественно в двух верхних квинтилях. Именно здесь наблюдался активный рост их представительства: на 81-190 тыс. человек в год в предпоследнем, четвертом, квинтиле и на 433–566 тыс. в год в последнем, пятом (рис. П2-7а и П2-7б). В остальных квинтилях на протяжении всего рассматриваемого периода прирост был близок к нулю. Иными словами, хотя в 2000–2012 гг. российская экономика испытала гигантский приток «белых воротничков» высокой квалификации (в среднем на 650 тыс. человек в год), он практически полностью направлялся на самые «хорошие» рабочие места из четвертого и пятого квинтилей, а на «плохие» рабочие места из трех нижних квинтилей представители этих профессиональных групп почти не попадали. При этом оценки на основе показателя заработной платы в несколько раз ниже оценок с использованием показателя числа лет обучения. Главная причина – существование обширного бюджетного сектора, где уровень образования работников очень высок, но заработная плата сравнительно невелика и где высока концентрация женщин.
Иначе складывалась ситуация для «белых воротничков» низкой квалификации (рис. П2-7в и П2-7г). Подавляющая их часть оседала на рабочих местах среднего качества из второго, третьего и четвертого квинтилей. В то же время доступ к верхнему квинтилю был для них практически закрыт (среднегодовые приросты были близки к нулю). Что касается нижнего квинтиля, то здесь оценки с использованием показателей образования и заработной платы различаются. Первые говорят о том, что приток «белых воротничков» низкой квалификации на самые «плохие» рабочие места был нулевым, вторые – что он был положительным, хотя и довольно скромным.
Еще больше расхождения между альтернативными оценками для «синих воротничков» высокой квалификации (рис. П2-7д и П2-7е). Отметим, что их присутствие на российском рынке труда быстро сокращалось. Причем, если в докризисный период их численность оставалась более или менее постоянной, то в посткризисный она стала стремительно уменьшаться (примерно на 170 тыс. человек ежегодно). Используя критерий образования, можно сделать вывод, что весь этот отток был сконцентрирован в двух нижних квинтилях, почти не затрагивая три верхних. Отметим, что на рабочие места из верхнего квинтиля, требующие высокого образования, «синие воротнички» высокой квалификации, как и «белые воротнички» низкой, не попадали почти никогда. Однако если ранжировать рабочие места по критерию заработной платы, то ситуация меняется. В этом случае оказывается, что в первых четырех квинтилях «синих воротничков» высокой квалификации становилось все меньше (особенно сильный отток – в среднем почти на 100 тыс. человек в год – наблюдался в самом «плохом» первом квинтиле), а в последнем, пятом, квинтиле – все больше (приток в среднем на 120 тыс. человек в год). Это расхождение можно объяснить тем, что в российских условиях многие «синие воротнички» высокой квалификации, не имеющие высокого образования, трудятся на тяжелых и вредных работах в неблагоприятных климатических условиях и в качестве компенсации получают высокую заработную плату.
Для последней группы – «синих воротничков» низкой квалификации – мы получаем вполне однозначные результаты (рис. П2-7ж и П2-7з). В 2000–2012 гг. ее общая численность быстро сокращалась (в среднем примерно на 250 тыс. человек в год), причем почти исключительно за счет нижнего квинтиля. В остальных квинтилях заметных изменений не наблюдалось.
Каков относительный вклад различных профессиональных групп в изменение структуры рабочих мест? Как видно на рис. П2-8а и П2-8б, сокращение нижнего квинтиля происходило почти исключительно за счет «синих воротничков» высокой и особенно низкой квалификации, а расширение верхнего – почти исключительно за счет «белых воротничков» высокой квалификации.
Отраслевая вариация. Российская экономика отличается высокой межотраслевой дифференциацией показателей и образования, и оплаты труда. Это дает основания предполагать, что в разных секторах перестройка структуры рабочих мест могла принимать различные формы. Как следует из рис. П2-9 и П2-10, это действительно так.
Сельское хозяйство традиционно аккумулирует наименее квалифицированные и наименее оплачиваемые рабочие места. Структурная перестройка выражалась здесь в форме ускоренного вымывания рабочих мест из нижнего квинтиля. Ежегодно сельское хозяйство теряло свыше 300 тыс. таких «плохих» рабочих мест, причем в посткризисный период темпы этого процесса были примерно такими же, как в докризисный (рис. П2-9а и П2-9б). В остальных квинтилях количество рабочих мест, аккумулируемых аграрным сектором, оставалось практически неизменным. Результатом этого стало значительное улучшение структуры рабочих мест во всей экономике.
Обрабатывающая промышленность и строительство относятся к секторам со средними уровнями как образования, так и заработной платы. Однако структура рабочих мест менялась в них по разным сценариям. В строительстве (рис. П2-9в и П2-9г) распределение общего прироста занятости по отдельным квинтилям, если мы используем показатель образования, было более или менее равномерным (лишь в четвертом квинтиле он был почти нулевым). Однако при использовании показателя заработной платы мы обнаруживаем резкий сдвиг в пользу верхнего квинтиля, где численность занятых возрастала в среднем примерно на 130 тыс. человек в год, хотя во всех остальных квинтилях она почти не менялась.
Для обрабатывающей промышленности (рис. П2-9д и П2-9е) характерно монотонное сокращение общей занятости, ставшее важнейшей составляющей процесса «деиндустриализации» российской экономики. В результате при оценке качества рабочих мест по показателю образования в четырех нижних квинтилях обнаруживается сильное сокращение (самое большое – во втором) и только в верхнем квинтиле – рост. Более того, при оценке по показателю заработной платы даже этот положительный эффект практически полностью сходит на нет, поскольку прирост рабочих мест в последнем, пятом, квинтиле становится почти неотличим от нуля. Основные потери при этом концентрируются в трех средних квинтилях. В результате российская обрабатывающая промышленность испытывала нечто, похожее на поляризацию рабочих мест, хотя и в слабой форме – без видимого роста занятости по краям распределения.
В секторе рыночных услуг наблюдалось небольшое падение в нижнем квинтиле при росте численности занятых в четырех верхних, причем его темпы возрастали по мере улучшения качества рабочих мест (рис. П2-9ж и П2-9з). Так, во втором квинтиле абсолютный прирост числа занятых составлял от 30 тыс. до 80 тыс. человек в год, а в пятом – от 280 тыс. до 350 тыс.
Для бюджетного сектора (государственное управление, образование, здравоохранение) в зависимости от метода ранжирования рабочих мест результаты сильно различаются (рис. П2-9и и П2-9к). При использовании показателя образования картина очень напоминает полученную для сектора рыночных услуг: небольшое сокращение в первом квинтиле при росте во всех остальных, причем самый сильный – в последнем, пятом, квинтиле. Однако при использовании показателя заработной платы рост обнаруживается уже во всех пяти квинтилях, причем самый слабый – в верхнем с самыми «хорошими» рабочими местами. Как отмечено выше, это расхождение объясняется спецификой бюджетного сектора, привлекающего высокообразованную рабочую силу, но оплачивающего ее труд относительно невысоко.
На рисунках П2-10а и П2-10б показан вклад различных секторов в общее изменение структуры рабочих мест (для большей наглядности сектор рыночных услуг разделен на два подсектора – торговлю и прочие рыночные услуги). С точки зрения сокращения нижнего квинтиля наибольшее значение (-6,5 п.п. из итоговых -7,6 п.п.) имело уменьшение сельскохозяйственной занятости. Намного меньше вклад обрабатывающих производств (-0,1/ -0,5 п.п.) и прочих рыночных услуг (-0,6/-0,7 п.п.). В то же время рост занятости в строительстве и торговле способствовал расширению сегмента «плохих» рабочих мест. (Правда, подобное отрицательное воздействие обнаруживается только при ранжировании рабочих мест по критерию образования; при использовании критерия заработной платы данный эффект пропадает.)
В средней части шкалы (квинтили 2–4) активнее других ликвидировали рабочие места обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, а создавали – торговля и прочие рыночные услуги.
Наибольший вклад в расширение верхнего квинтиля вносили прочие рыночные услуги (2,6/3,7 п.п.), бюджетный сектор (2,0/0,4 п.п.), строительство (0,8/1,8 п.п.) и торговля (1,5 п.п.). Слабоотрицательным (по критерию заработной платы) было влияние обрабатывающей промышленности (это означает, что по темпам создания «хороших» рабочих мест она значительно проигрывала другим секторам). В целом можно утверждать, что в России главным драйвером сокращения «плохих» рабочих мест выступало сельское хозяйство, а наращиванию «хороших» в основном способствовал сектор рыночных услуг.
Итак, практически ни в одном сегменте российской занятости не наблюдались ни сценарий последовательного ухудшения структуры рабочих мест, ни сценарий их поляризации. В подавляющем большинстве случаев можно говорить о ее последовательном улучшении, в некоторых – о стягивании к центру (со «вздуванием» середины шкалы и уплощением краев).
2.6. Социально-демографический профиль
Каков социально-демографический «портрет» выделенных нами квинтилей? Работники с какими характеристиками имеют больше шансов оказываться на более квалифицированных и более оплачиваемых и с какими – на менее квалифицированных и менее оплачиваемых рабочих местах? В таблицах П2-4 и П2-5 мы приводим данные о социально-экономическом профиле различных квинтилей в 2012 г. при использовании в качестве критериев «качества» рабочих мест среднего числа лет образования в 2000 г. и средней месячной заработной платы в 2007 г. Как правило, обстоятельства, которые вырисовываются при ранжировании рабочих мест по этим показателям, оказываются очень близкими. Однако встречаются и расхождения.
Так, «плохие» рабочие места из первого квинтиля по критерию образования примерно на две трети «заселены» мужчинами, а такие же рабочие места по критерию заработной платы – на две трети женщинами. Зеркальная ситуация наблюдается в верхнем квинтиле: по критерию образования здесь доминируют женщины, тогда как по критерию заработной платы – мужчины. Это расхождение в показаниях легко объяснимо: если по уровню образования значительным преимуществом в российских условиях обладают женщины, то по уровню заработной платы – мужчины.
На наименее квалифицированных и наименее оплачиваемых местах из первого квинтиля гораздо чаще, чем на наиболее квалифицированных и наиболее оплачиваемых, встречаются молодые люди (до 20 лет) и лица пожилого возраста (60 лет и старше). Это неудивительно, поскольку обе эти группы могут считаться традиционными аутсайдерами как по уровню образования, так и по уровню оплаты труда. В остальных квинтилях распределение работников по возрасту оказывается более или менее сопоставимым.
Качество занимаемых рабочих мест достаточно слабо связано с семейным статусом работников: в нижних сегментах шкалы распределения как по среднему числу лет образования, так и по средней месячной заработной плате доля лиц, состоящих в браке, оказывается примерно такой же, как в верхних.
Структура занятости на «плохих» рабочих местах предсказуемо смещена в пользу жителей села. Так, если в нижнем квинтиле их доля приближается к 60 % (по обоим критериям), то в верхнем не дотягивает до 15 %.
Чем выше ранг квинтиля, тем меньше там доля работников с низким образованием и больше доля работников с высоким. При оценке «качества» рабочих мест по среднему числу лет обучения такой результат выглядит вполне ожидаемо (поэтому мы оставляем его без комментариев). Но и при оценке по величине заработной платы оказывается, что если в нижнем квинтиле основное образование и ниже имеют свыше 10 % работников, то в верхнем – менее 2 %. Если в первом доля обладателей вузовских дипломов не дотягивает до 10 %, то в последнем приближается к 50 %. Вообще между рангами квинтилей по заработной плате и долей работников с высшем образованием прослеживается однозначная положительная связь: чем выше ранг квинтиля, тем выше в нем доля таких работников.
Нижние квинтили аккумулируют преимущественно «новичков», лишь недавно попавших на занимаемые ими рабочие места, тогда как верхние – преимущественно «старожилов», уже много лет проработавших на одном месте. Так, в первом квинтиле около 1520 % работников имеют стаж работы на данном месте менее года и 25–30 % – свыше 20 лет. Аналогичное соотношение для последнего квинтиля выглядит принципиально иначе: 7-10 % и 36–43 % соответственно.
Резкие контрасты прослеживаются в профессиональном составе верхних и нижних квинтилей. При ранжировании по показателю образования два нижних квинтиля оказываются стопроцентно «синеворотничковыми», а два верхних – стопроцентно «беловортничковыми». Последний, пятый, квинтиль вообще формируется исключительно из представителей только двух профессиональных групп – руководителей и специалистов высшего уровня квалификации. Контрасты с точки зрения профессионального наполнения «худших» и «лучших» рабочих мест сохраняются и при их ранжировании по показателю заработной платы, хотя в этом случае они становятся менее резкими. Так, в первом квинтиле доля неквалифицированных рабочих приближается к 40 %, тогда как в последнем является нулевой; в первом квинтиле доля руководителей и специалистов высшей квалификации не дотягивает даже до 0,5 %, тогда как в последнем составляет почти 60 %.
Среди отраслей главным поставщиком «худших» рабочих мест выступает сельское хозяйство – почти половина работников из первого квинтиля заняты именно в нем. При ранжировании по показателю образования значимый вклад в формирование нижнего квинтиля помимо сельского хозяйства вносят также обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и отрасли бюджетной сферы. При ранжировании по показателю заработной платы вклад бюджетного сектора возрастает еще больше, достигая 40 % (!) от общей численности работников в этом квинтиле. Ряд отраслей (таких как добывающая промышленность, транспорт, финансовая деятельность) «плохих» рабочих мест вообще не генерируют.
В роли главных поставщиков наиболее квалифицированных рабочих мест выступают бюджетные отрасли, обрабатывающая промышленность, торговля и операции с недвижимостью, а в роли поставщиков наиболее оплачиваемых рабочих мест – строительство, транспорт, обрабатывающая промышленность, торговля и операции с недвижимостью. Амбивалентное положение бюджетного сектора, как уже упоминалось, связано с тем, что в нем сконцентрировано большое количество высококвалифицированных, но при этом мало-или среднеоплачиваемых работников.
Представленные наблюдения согласуются с результатами более строгого эконометрического анализа. С помощью модели упорядоченной пробит-регрессии мы оценили уравнения, где в качестве зависимой переменной, принимающей значения от 1 до 5, выступала принадлежность работников к тем или иным квинтилям распределения по среднемесячной заработной плате, а в качестве независимых переменных – различные социально-демографические характеристики (табл. П2-4). Практически все полученные коэффициенты являются статистически значимыми на однопроцентном уровне и имеют ожидаемые знаки. По сравнению с женщинами мужчины оказываются с большей вероятностью представлены в более высоких квинтилях по заработной плате. Эффект возраста является нелинейным. Он оказывается максимальным для группы 20–29 лет и затем монотонно снижается по мере увеличения возраста. Однако он остается положительным даже для самой старшей возрастной группы. Наименее благоприятная ситуация для самой младшей группы объясняется тем, что большинство принадлежащих к ней индивидов еще продолжают свое образование и их переход к работе на полное рабочее время происходит позднее. Состояние в браке и проживание в городе увеличивает шансы на попадание к верхние квинтили по заработной плате. Высокое образование и принадлежность к двум первым профессиональным группам по ОКЗ, при прочих равных условиях, также выступают в качестве сильных предикторов попадания в наиболее оплачиваемые сегменты рабочих мест. Напротив, принадлежность к самым неквалифицированным профессиональным группам повышает вероятность получения низкой заработной платы. Наконец, «новички» (со специальным стажем до года) находятся в намного худшем положении по сравнению со «старожилами», давно работающими на данном рабочем месте.
2.7. Заключение
В нашей работе впервые анализируются сдвиги в структуре рабочих мест в российской экономике за период 2000–2012 гг. Используя пять альтернативных критериев качества рабочих мест (два показателя образования и три – оплаты труда), мы приходим к общему выводу о том, что в 2000–2012 гг. никаких признаков поляризации структуры рабочих мест не наблюдалось. Изменения шли по сценарию прогрессирующего улучшения: доля самых «плохих» рабочих мест быстро сокращалась, а самых «хороших» – быстро увеличивалась. Этот вывод справедлив и для докризисного, и для посткризисного подпериодов, хотя на протяжении первого интенсивность структурных сдвигов была выше, чем второго. В относительном выражении кумулятивное сжатие нижнего, первого, квинтиля составляло 7–8 п.п., кумулятивное расширение верхнего, пятого, – 8-10 п.п. В середине шкалы изменения были почти незаметными; иными словами, как в 2000 г., так и в 2012 г. второй, третий и четвертый квинтили аккумулировали примерно по 20 % рабочих мест каждый. Полученные нами результаты устойчивы и практически не зависят от выбора критерия оценки качества рабочих мест.
Основной вклад в сокращение числа работников, занятых на «плохих» рабочих местах, внесло резкое уменьшение занятости в сельском хозяйстве. Об этом говорят оценки, получаемые при ранжировании рабочих мест по критериям как образования, так и заработной платы. В случае «хороших» рабочих мест ситуация менее однозначна. Критерий образования указывает на ведущую роль рыночных услуг и бюджетного сектора, критерий заработной платы – на ведущую роль рыночных услуг и строительства. Как ни странно, но деиндустриализация российской экономики (сокращение занятости в обрабатывающей промышленности) не имела значимых последствий с точки зрения изменений в структуре рабочих мест и не привела к ухудшению ее качества. При этом потери рабочих мест в данном секторе концентрировались почти исключительно в трех центральных квинтилях. В результате по отношению лишь к обрабатывающей промышленности можно говорить о поляризации рабочих мест (и то в слабой форме).
Важной частью нашей работы была оценка вероятностей попадания на «плохие» и «хорошие» рабочие места работников, принадлежащих к различным социально-демографическим группам. По критерию формального образования более высокие шансы на занятие «лучших» (наиболее квалифицированных) рабочих мест имеют женщины; лица зрелого возраста; состоящие в браке; живущие в городах; «старожилы» с большим специальным стажем; руководители и специалисты высшего уровня квалификации; работающие в таких видах экономической деятельности, как финансовые услуги, операции с недвижимостью и отрасли бюджетной сферы. К несколько иным результатам приводит ранжирование рабочих мест по критерию заработной платы. В этом случае более высокие шансы на занятие «лучших» (наиболее оплачиваемых рабочих мест) имеют мужчины; лица зрелого возраста; обладатели более высокого образования; состоящие в браке; городские жители; «старожилы» с большим специальным стажем; руководители, среднеквалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня квалификации; работающие в таких видах экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, строительство, финансовые услуги и транспорт. Наличие значимых расхождений между двумя этими перечнями связано с тем, что в российской экономике продолжает существовать значительный массив высокооплачиваемых рабочих мест, не требующих высокого образования, или, в зеркальной формулировке, с тем, что в ней продолжает существовать большой массив рабочих мест, требующих высокого образования, но обеспечивающих при этом невысокую заработную плату.
Нам осталось обсудить ключевой концептуальный вопрос: за счет чего российской экономике удалось избежать тренда к поляризации рабочих мест, типичного для многих развитых и постсоциалистических экономик? Благодаря чему в российских условиях реализовался сценарий последовательного улучшения структуры рабочих мест с резким сокращением «худшего» и резким расширением «лучшего» ее сегментов? Но прежде необходимо ответить на вопрос: не могут ли полученные нами оценки быть артефактом, связанным с дефектами исходных данных, имевшихся в нашем распоряжении? Одно из возможных возражений касается расширения сегмента «хороших», другое – сжатия сегмента «плохих» рабочих мест.
Так, при ранжировании профессионально-отраслевых ячеек по критерию заработной платы мы оперировали оценками, построенными на данных по крупным и средним предприятиям. Но иерархии заработной платы в этом секторе и во всей экономике могут сильно отличаться. При сравнении данных ОЗПП с официальными данными (построенными с учетом сектора малых предприятий) мы сталкиваемся по меньшей мере с двумя случаями серьезных расхождений, когда официальные оценки средней заработной платы оказываются заметно ниже оценок по ОЗПП: это строительство и торговля. Кроме того, как официальные оценки, так и оценки по ОЗПП не охватывают неформальных работников, оплата которых, как правило, еще ниже, причем значительная их часть сосредоточена в тех же двух секторах. Не исключено, что вменяя всем работающим в торговле и строительстве более высокую заработную плату, которую получают занятые на крупных и средних предприятиях работники этих секторов, мы относим соответствующие профессионально-отраслевые ячейки к сегменту «лучших» рабочих мест. Результатом такой ошибочной адресации могут быть завышенные оценки прироста верхнего, пятого, квинтиля.
Отметим, однако, что, во-первых, это возражение не касается оценок, получаемых при ранжировании рабочих мест по критерию образования. Во-вторых, оно не дает оснований сомневаться в наличии глубокого провала в нижнем, первом, квинтиле. Наконец, в-третьих, даже при исключении вклада торговли и строительства мы все равно получаем для верхнего квинтиля заметный, хотя и не столь драматичный, прирост – примерно на 4 п.п. Таким образом, вывод о прогрессирующем улучшении структуры рабочих мест в любом случае остается в силе.
Другое возражение связано с наблюдавшимся на протяжении всего пореформенного периода активным притоком на российский рынок труда временных трудовых мигрантов (прежде всего из стран бывшего СССР). Как правило, приезжающие в Россию временные мигранты имеют низкое образование и низкую производительность. Иными словами, основная их часть оседает на наименее квалифицированных и наименее оплачиваемых рабочих местах. Но данные ОНПЗ, на которых основаны наши расчеты, строятся без учета таких работников. Если активный отток российских граждан с «худших» рабочих мест, о котором свидетельствуют эти данные, компенсировался столь же или даже более активным притоком на них трудовых мигрантов, то наш вывод о провале в нижнем, первом, квинтиле может оказаться статистической иллюзией.
К сожалению, заслуживающих доверия данных о масштабах трудовой миграции в Россию не существует, поскольку значительная ее часть является нелегальной. По более или менее реалистичным оценкам, в 2012 г. на российском рынке труда могло единовременно находиться порядка 4–4,5 млн мигрантов (таковы официальные оценки Росстата), что эквивалентно 6–7% от общей численности занятых. Если предположить, что за 20002012 гг. их количество утроилось (что, скорее всего, преувеличение) и все они были сосредоточены исключительно в сегменте «худших» рабочих мест (что также безусловное преувеличение), то тогда наши оценки сокращения нижнего квинтиля следовало бы уменьшить с 7–8 п.п. до примерно 3 п.п. Как можно видеть, даже в этом случае вывод о провале в первом квинтиле сохраняет свою силу.
На наш взгляд, несмотря на все недостатки, присущие используемым нами данным, можно с уверенностью говорить об отсутствии признаков поляризации структуры рабочих мест на российском рынке труда. В российском случае явно доминировала тенденция к ее последовательному улучшению. Каковы же возможные драйверы этих структурных сдвигов?
Главная причина резкого сжатия сегмента «худших» рабочих мест достаточно очевидна: это реструктуризация российского сельского хозяйства. Основная масса рабочих мест в этом секторе относится к числу наименее квалифицированных и наименее оплачиваемых. Но в 2000–2012 гг. в результате активной реструктуризации занятость в нем резко сократилась – как абсолютно, так и относительно, – что стало основной причиной глубокого провала в нижнем, первом, квинтиле рабочих мест.
В том же направлении действовал еще один важный фактор – растущая интеграция российской экономики в мировой рынок. Как и в развитых странах, в России глобализация вела к сокращению (по меньшей мере, относительному) производства в торгуемых секторах, продукция которых вытеснялась импортом, и к расширению производства в неторгуемых секторах. Как следствие, занятость в крупнейших торгуемых секторах – сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности – быстро снижалась.
Сложнее ответить на вопрос, что стало причиной «разбухания» верхнего квинтиля. Здесь можно указать на действие нескольких возможных факторов.
Во-первых, в 2000-е годы стремительно росли доходы российского населения. Так, годовые темпы прироста реальной заработной платы доходили в этот период до 10–15 %! Бурный рост реальных доходов мог вызвать переориентацию потребительского спроса на более качественные товары и услуги, производимые на высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих местах. «Хорошие» рабочие места могли активно создаваться в ответ на подобные изменения в структуре потребительского спроса.
Во-вторых, структурный сдвиг в пользу наиболее квалифицированных и наиболее оплачиваемых рабочих мест мог генерироваться не на стороне спроса, а на стороне предложения на рынке труда. (В этом смысле он мог носить эндогенный характер.) По данным российских переписей населения, за восемь лет, с 2002 по 2010 г., доля работников с высшим образованием в общей численности занятых выросла с 26 до 36 %, а со средним профессиональным сохранялась на отметке 36–37 %. Можно предположить, что столь бурный приток на рынок труда высокообразованной рабочей силы должен был сделать ее намного более доступной для предприятий и стимулировать рост спроса на нее с их стороны. Следствием этого могло стать быстрое расширение сегмента наиболее квалифицированных и наиболее оплачиваемых рабочих мест, заполнявшихся работниками с высоким образованием.
В-третьих, здесь могло сказаться действие технологического прогресса, смещенного в пользу высококвалифицированной рабочей силы (SBTC). Стимулируя спрос на нее, «смещенный» технологический прогресс способствует ускоренному созданию высококвалифицированных рабочих мест с высокой оплатой [Acemoglu, 1998; Card, Di Nardo, 2002; Autor et al., 2003]. Быстрая компьютеризация российской экономики в 2000-е годы может служить аргументом в пользу такого объяснения. И все же в случае переходной российской экономики к тезису о «смещенном» технологическом прогрессе следует отнестись с осторожностью [Sabirianova Peter, 2002]. В условиях глубокого и затяжного трансформационного кризиса 1992–1998 гг. во многих секторах наблюдался скорее технологический регресс, чем прогресс: шло быстрое физическое и моральное старение производственного аппарата; резко упали расходы на НИОКР; возобладала тенденция к примитивизации используемых технологий. В ослабленной форме эти негативные тренды продолжали действовать и в 2000-е годы.
Наконец, драйвером последовательного улучшения структуры рабочих мест мог стать институциональный (организационный) прогресс, смещенный в пользу высококвалифицированной рабочей силы, что стало важной частью процесса системной трансформации российской экономики. Не только экономики, использующие разные технологии, но и экономики, основанные на различном наборе институтов, могут нуждаться в неодинаковой структуре рабочих мест. Именно такая перестройка – переход от плановых институтов к рыночным – началась в России в 1990-е годы и продолжилась в 2000-е.
Отличительной чертой стран с плановым хозяйством была гигантская экономия на издержках информации, но достигалась она «варварским» способом – искусственным ограничением ее объема. Переход к иным принципам организации общества привел к радикальной децентрализации информационных потоков и изменил их общую конфигурацию, превратив ее из преимущественно вертикальной в преимущественно горизонтальную. Тотальная институциональная перестройка потребовала освоения и внедрения множества принципиально новых организационных и управленческих практик, неизвестных плановым экономикам. Она повлекла резкое увеличение объемов генерируемой и перерабатываемой информации и как следствие – эскалацию спроса на услуги тех, кто этим занимается. Спрос на представителей «беловоротничковых» профессий, специализирующихся на работе с информацией (законодателей, политиков, журналистов, юристов, экономистов, бухгалтеров), стал непрерывно нарастать, а многих «синеворотничковых» – сокращаться.
Конечно, все эти механизмы могли действовать (и, по-видимому, действовали) одновременно, не столько исключая, сколько дополняя друг друга. Результатом их совместного действия и стало быстрое наращивание сегмента «хороших» рабочих мест.
Что ждет российскую структуру рабочих мест в будущем? Пока ничто не указывает на ее переход в режим поляризации. Скорее всего, ситуация будет и дальше развиваться по сценарию прогрессирующего улучшения, хотя и не столь быстрыми темпами, как в 2000-е годы.
Мы уже видели, что по сравнению с докризисным периодом интенсивность структурных сдвигов в посткризисный период снизилась и, вероятно, это снижение продолжится. Во-первых, российская экономика вошла в длительный период низких (возможно, даже отрицательных) темпов роста, что практически исключает возможность быстро повышать доходы населения, как в 2000-е годы. Во-вторых, она вступила в длительную демографическую «яму» (по прогнозам, к 2030 г. численность экономически активного населения может сократиться на 8-12 млн человек): если в 2000-е годы сдвиги в структуре рабочих мест происходили на фоне непрерывно возраставшей, то теперь они должны будут происходить на фоне непрерывно убывающей общей занятости. В-третьих, действие многих драйверов структурных сдвигов, о которых мы упоминали, сегодня исчерпано или близко к исчерпанию. Так, занятость в сельском хозяйстве снизилась уже настолько, что эффект от ее дальнейшего сокращения едва ли будет значительным. Что касается предложения рабочей силы с высшим образованием, то оно, по-видимому, уже вышло на плато и его дальнейшее быстрое наращивание маловероятно. Не видно предпосылок и для резкого технологического рывка. Наконец, с точки зрения отраслевой и профессиональной структуры занятости российская экономика уже вплотную приблизилась к развитым странам, так что ожидать значительного эффекта «догоняющего развития», который играл большую роль в предшествующие десятилетия, тоже не приходится.
Приложение П2
Таблица П2-1
Коэффициенты корреляции между альтернативными показателями качества рабочих мест
Примечания: N = 635; все коэффициенты значимы на уровне 0,01 (2-tailed).
Таблица П2-2
Отраслевая структура (по секторам ОКВЭД) российской занятости, 2000, 2008 и 2012 гг., % (все занятые = 100 %)
Источники: ОНПЗ, Росстат.
Таблица П2-3
Профессиональная структура российской занятости, 2000, 2008 и 2012 гг., % (все занятые = 100 %)
Источники: ОЗПП, Росстат.
Таблица П2-4
Социально-демографический профиль квинтилей рабочих мест в 2012 г., % (ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.)
Таблица П2-5
Социально-демографический профиль квинтилей рабочих мест в 2012 г., % (ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.)
Таблица П2-6.
Результаты оценивания порядковой регрессии по выборке 2012 г. для квинтилей, выделенных исходя из средней заработной платы в 2007 г. в профессионально-отраслевых группах, к которым принадлежали респонденты
Примечание: *** p < 0,01; ** p < 0,05.
а) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2012 г.
в) Ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
г) Ранжирование по среднему месячному тарифному заработку в 2007 г.
д) Ранжирование по средней часовой ставке заработной платы в 2007 г.
Рис. П2-1. Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям качества рабочих мест за 2000–2012 гг., все занятые, тыс. человек
а) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2012 г.
в) Ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
г) Ранжирование по среднему месячному тарифному заработку в 2007 г.
д) Ранжирование по средней часовой ставке заработной платы в 2007 г.
Рис. П2-2. Изменение структуры рабочих мест в российской экономике по квинтилям их качества, 2000–2012 гг., все занятые, п.п.
а) Мужчины, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Мужчины, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
в) Женщины, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
г) Женщины, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-3. Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям качества рабочих мест за 2000–2012 гг., по полу, тыс. человек
а) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-4. Изменение структуры рабочих мест в российской экономике по квинтилям их качества и по полу, 2000–2012 гг., п.п.
а) Молодежь (15–29 лет), ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Молодежь (15–29 лет), ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
в) Лица зрелого возраста (30–49 лет), ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
г) Лица зрелого возраста (30–49 лет), ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
д) Пожилые (50 лет и старше), ранжирование – по среднему числу лет образования в 2000 г.
е) Пожилые (50 лет и старше), ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-5. Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям качества рабочих мест за 2000–2012 гг., по возрасту, тыс. человек
а) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-6. Изменение структуры рабочих мест в российской экономике по квинтилям их качества и возрасту, 2000–2012 гг., п.п.
а) «Беловоротничковые» профессии высокой квалификации, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) «Беловоротничковые» профессии высокой квалификации, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
в) «Беловоротничковые» профессии низкой квалификации, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
г) «Беловоротничковые» профессии низкой квалификации, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
д) «Синеворотничковые» профессии высокой квалификации, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
е) «Синеворотничковые» профессии высокой квалификации, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
ж) «Синеворотничковые» профессии низкой квалификации, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
з) «Синеворотничковые» профессии низкой квалификации, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-7. Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям качества рабочих мест и профессиональным группам, 2000–2012 гг., тыс. человек
а) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-8. Изменение структуры рабочих мест в российской экономике по квинтилям их качества и профессиональной принадлежности, 2000–2012 гг., п.п.
а) Сельское хозяйство, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Сельское хозяйство, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
в) Строительство, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
г) Строительство, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
д) Обрабатывающие производства, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
е) Обрабатывающие производства, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
ж) Рыночные услуги, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
з) Рыночные услуги, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
и) Бюджетный сектор, ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
к) Бюджетный сектор, ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-9. Абсолютные среднегодовые приросты занятости по квинтилям качества рабочих мест и секторам, 2000–2012 гг., тыс. человек
а) Ранжирование по среднему числу лет образования в 2000 г.
б) Ранжирование по средней месячной заработной плате в 2007 г.
Рис. П2-10. Изменение структуры рабочих мест в российской экономике по квинтилям качества и секторам, 2000–2012 гг., п.п.
Литература
Acemoglu D. Why Do New Technologies Complement Skills? Directed Technical Change and Wage Inequality // The Quarterly Journal of Economics. 1998. Vol. 113. № 4. P. 1055–1089.
Autor D., Dorn D. The Growth of Lowskill Service Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market // American Economic Review. 2013. Vol. 103. № 5. P. 1553–1597.
Autor D.H., Katz L., Kearney M. The Polarization of the U.S. Labor Market // American Economic Review. 2006. Vol. 96. № 2. P. 189–194.
Autor D.H., Levy F., Murnane R.J. The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration // Quarterly Journal of Economics. 2003. Vol. 118. № 4. P. 1279–1334.
Card D., Di Nardo J. Skill Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puzzles: Working Paper. № 8769. Cambridge MA: NBER, 2002.
Dwyer R.E. The Care Economy? Gender, Economic Restructuring, and Job Polarization in the U.S. Labor Market // American Sociological Review. 2013. Vol. 78. № 3. P. 390–416.
Fernandez-Macias E. Job Polarization in Europe? Changes in the Employment Structure and Job Quality, 1995–2007 // Work and Occupations. 2012. Vol. 39. № 1. P. 157–182.
Ferndndez-Macias E., Storrie D., Hurley J. Introduction // Transformation of the Job Structures in the EU and USA / E. Fernandez-Macias, D. Storrie, J. Hurley (eds.). London, UK: Palgrave MacMillan, 2012.
Goos M., Manning A. Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain // Review of Economics and Statistics. 2007. Vol. 89. № 1. P. 118–133.
Goos M., Manning A., Salomons A. The Polarization of the European Labor Market // American Economic Review. 2009. Vol. 99. № 2. P. 58–63.
Jaimovich N., Siu H.E. The Trend Is the Cycle: Job Polarization and Jobless Recoveries: NBER Working Paper. № 18334. Cambridge MA: NBER, 2012.
Katz L.F., Murphy K.M. Changes in Relative Wages 1963–1987: Supply and Demand Factors // Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol. 107. № 1. Р. 35–78.
Mishel L., Schmitt J., Erholz H. Assessing the Job Polarization Explanation of Growing Wage Inequality: Economic Policy Institute Working Paper, № 295. Washington: Economic Policy Institute, 2013.
Nellas V., Olivieri E. The Change of Job Opportunities: The Role of Computerization and Institutions: University of Bologna, Department of Economics: Working Paper DSE, № 804. Bologna: University of Bologna, Department of Economics, 2012.
Oesch D., Rodriguez Menes J. Upgrading or Polarization? Occupational Change in Britain, Germany, Spain and Switzerland, 1990–2008 // Socio-Economic Review. 2011. Vol. 9. № 3. P. 503–532.
Sabirianova Peter K. Skill-biased Transition: The Role of Markets, Institutions, and Technological Change: IZA Discussion Paper, № 893. Bonn: IZA, 2003.
Scharle A. Job Quality in Post-socialist Accession Countries // Transformation of the Job Structures in the EU and USA / E. Fernandez-Macias, D. Storrie, J. Hurley (eds.). London, UK: Palgrave MacMillan, 2012.
U.S. Council of Economic Advisors. Job Creation and Employment Opportunities: The United States Labor Market, 1993–1996. Washington, DC: Office of the Chief Economist of the USA, 1996.
Wright E.O., Dwyer R.E. Patterns of Job Expansions in the USA: A Comparison of the 1960s and 1990s // Socio-Economic Review. 2003. Vol. 1. № 3. P. 289–325.
Глава 3 Реаллокация труда и рост производительности
3.1. Введение
Данная глава обсуждает связь между структурными сдвигами в занятости и динамикой производительности в российской экономике.
Повышение производительности труда часто связывают с модернизацией, инвестициями, технологическим обновлением. Но всегда ли в случае успеха они ведут к соответствующему росту производительности? Если мы говорим о конкретных предприятиях, то ответ будет положительным. Однако реакция производительности экономики в целом – агрегированной производительности – зависит также от того, что происходит с работниками, которые лишаются старых рабочих мест в результате модернизации. Переход индивида от работы лопатой к работе на экскаваторе повышает его производительность, а обратный переход, наоборот, снижает. Переход из сельского хозяйства в обрабатывающий сектор, как правило, приводит к ее росту, а с фабрики на ферму – к ее снижению. Другими словами, масштаб и направления потоков высвобождаемой рабочей силы имеют существенное значение.
Если работники, ставшие лишними на модернизируемых предприятиях, совсем перестанут трудиться, то агрегированная производительность труда, при прочих равных условиях, возрастет (поскольку выпуск продукции увеличится, а совокупные затраты труда сократятся). Повысится агрегированная производительность и в случае, если такие работники на новом рабочем месте будут работать продуктивнее, чем на старом. Однако если они найдут менее производительную работу, то агрегированная производительность может вырасти в меньшей степени, чем на отдельном модернизируемом заводе или в отрасли, и даже снизиться.
Итак, перераспределение рабочей силы между предприятиями или отраслями с разным уровнем производительности – реаллокация труда – может либо стимулировать рост агрегированной производительности, либо замедлять его. Как показывают М. Макмиллан и Д. Родрик, в странах Восточной Азии реаллокация стимулировала рост производительности (а значит, и рост экономики), а в странах Латинской Америки и Африки ее эффект был негативным. Они подчеркивают, что «…потоки рабочей силы из низкопроизводительных в высокопроизводительные виды деятельности выступают ключевыми факторами развития» [McMillan, Rodrik, 2011, p. 87]. Реаллокация дает положительный вклад, если институты, прежде всего рынка труда, активно способствуют генерации более производительных рабочих мест по сравнению с выбывающими; если нет помех «созидательному разрушению» – созданию новых предприятий и уходу с рынка старых и неэффективных.
В своей работе указанные авторы исходят из межотраслевой неоднородности труда, но не рассматривают внутриотраслевую. В реальном мире – особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой – внутри одной отрасли могут долго сосуществовать разные технологические уклады, кратно различающиеся продуктивностью. Например, внутри одной отрасли могут вести хозяйственную деятельность и современный высокотехнологичный машиностроительный завод, и кустарная мастерская, расположенная в частном гараже или подвале, в которой используется значительная доля ручного труда. Деление экономики на «формальную» и «неформальную» выступает одним из измерений такой неоднородности и наглядно отражает качество институциональной среды.
Неформальная экономика в целом отличается низкой капиталоемкостью, отсталыми технологиями, невысоким уровнем человеческого капитала, ограниченным доступом к кредитам и рынкам сбыта и вследствие этого – недостаточной производительностью [Perry et al., 2007; La Porta, Shleifer, 2014]. Однако вход в нее для предпринимателей и работников, как правило, свободен, тогда как доступ в «формальную» экономику ограничен регулированием и связанными с этим издержками. Медианная производительность неформальных фирм составляет в среднем около 15 % формальных, а с учетом самозанятых она еще ниже [La Porta, Shleifer, 2014]. В таком случае реаллокация труда в пользу неформального сегмента может влиять на динамику производительности в экономике в целом[22], особенно, если его масштабы велики и продолжают расширяться. Это означает, что анализ эффектов межотраслевой и межсегментной (между формальным и неформальным сегментами) реаллокации представляет и научный, и практический интерес.
В этой главе исследуется влияние структурных сдвигов в занятости на рост агрегированной производительности труда. В качестве таких сдвигов рассматривается межотраслевая реаллокация, в том числе с учетом изменения в соотношении долей занятости формального и неформального сегментов[23]. Мы пытаемся ответить на вопрос, как учет неформальности меняет вклад межотраслевой реаллокации в рост производительности труда.
Влиянию структурных межотраслевых сдвигов на производительность посвящено немало исследований[24]. Так, Э. Денисон, анализируя различия в темпах экономического роста между ведущими странами в послевоенное время, отмечает положительные эффекты радикального сокращения занятости в сельском хозяйстве и несельскохозяйственной самозанятости, отличающихся низкой производительностью [Denison, 1967]. Говоря о самозанятых, он пишет, что есть значительная по численности группа работников (the «fringe» group), сокращение и переток которых в занятость по найму дали бы заметную прибавку к национальному доходу [Denison, 1967, p. 204][25].
Хотя эффект неформальности для динамики агрегированной производительности труда интуитивно очевиден, соответствующих эмпирических исследований на отраслевом уровне крайне мало и они посвящены развивающимся странам[26]. Одна из причин этого – отсутствие надежных статистических данных за сравнительно длительный период. Появление детализированной отраслевой статистики и данных о неформальности позволит проводить такой анализ [Vries et al., 2012].
Новизна нашего исследования в том, что мы впервые изучаем влияние межотраслевой реаллокации, выделяя при этом неформальный сегмент, на рост агрегированной производительности в крупной стране с переходной экономикой, зависимой от мировых цен на экспортируемые природные ресурсы. Наше исследование продолжает линию работ: [McMillan, Rodrik, 2011; Vries et al., 2012; Timmer et al., 2015].
Во-первых, мы формируем новый массив данных отраслевых показателей выпуска, занятости и производительности труда для 30 видов деятельности за период с 1995 г. по 2012 г. с разделением каждого вида деятельности массива Russia KLEMS [Timmer, Voskoboynikov, 2014] на формальный и неформальный сегменты. Во-вторых, для анализа неформальности мы используем не только традиционные [Denison, 1962; 1967; De Avillez, 2012], но и – впервые – новые методы анализа структурных сдвигов [Tang, Wang, 2004; Diewert, 2015], обеспечивающие независимость декомпозиции прироста производительности труда от выбора базового года. Последнее также важно в условиях зависимости внутренних относительных цен от конъюнктуры мировых рынков в случае России.
Мы получили три основных результата. Во-первых, мы показываем, что уровень агрегированной производительности за период с 1995 по 2012 г. вырос почти вдвое, причем его основными драйверами были отрасли, связанные с производством неторгуемых продуктов, – строительство, розничная торговля, телекоммуникации, финансовые услуги, а также с добычей и реализацией полезных ископаемых. Во-вторых, применяя новые методы анализа к российским данным, мы находим подтверждение гипотезы о том, что расширение неформального сегмента замедляет рост производительности. Аналогичные результаты были представлены для Индии [Vries et al., 2012]. Этот эффект мы наблюдаем в рассматриваемый период при использовании всех четырех методов декомпозиции, обеспечивающих разложение суммарного прироста производительности на внутриотраслевые и реаллокационные компоненты. Эффект замедления роста производительности связан с перераспределением труда из более производительных формальных сегментов в менее производительные неформальные. В-третьих, используя декомпозицию Э. Диверта [Diewert, 2015], мы показываем, что в 2005–2012 гг. более двух третей вклада нефтегазового комплекса в структурную компоненту роста производительности обеспечивалось ростом относительных цен на продукцию этого сектора и лишь треть – реаллокацией рабочей силы.
3.2. Рост производительности труда и отраслевые структурные сдвиги. Методология анализа
Рост агрегированной производительности труда зависит как от динамики производительности внутри отдельных отраслей, так и от перераспределения рабочей силы между отраслями с разной производительностью. Соответствующие внутриотраслевая и реаллокационная компоненты роста агрегированной производительности труда имеют разную природу. Первая связана с накоплением физического и человеческого капитала, нематериальных активов, развитием технологий[27]. Вторая зависит от происходящих в экономике различных структурных изменений. Например, рост доходов населения смещает спрос от простых и дешевых товаров к более сложным и дорогим, а также от товаров к услугам, в результате меняется структура занятости. Изменения возможны и со стороны предложения. Например, совершенствование технологии производства компьютеров ведет к снижению их цен и соответственно доли отрасли в добавленной стоимости по экономике в целом, а офшоринг сокращает занятость. Еще одна группа примеров касается институциональной среды. Так, аутсайдерам открыть магазин или мастерскую в арендованном помещении гораздо проще, чем получить лицензию на добычу нефти или даже разрешение на новое строительство; при недостаточной защите прав собственности рабочие места будут создавать там, где риски экспроприации меньше. Таким образом, действующие в стране институты облегчают вход в одни отрасли и затрудняют или даже блокируют – в другие.
В экономической литературе методы декомпозиции производительности на внутри– и межотраслевую компоненты объединены общим названием «анализ структурных сдвигов» (shift-share analysis). Исследования в этой области начались с работ С. Фабриканта [Fabri-cant, 1942] и продолжаются до сих пор [Diewert, 2015]. Среди множества различных методов мы выделяем группу, которая включает «традиционную» (TRAD) декомпозицию[28], восходящую к работам Денисона [Denison, 1962; 1967], и ее последовательные модификации в работах канадского Центра изучения стандартов уровня жизни (CSLS)[29] [30], декомпозицию GEAD [Tang, Wang, 2004] и ее трехфакторную версию (GEAD-3f), предложенную Дивертом [Diewert, 2015]. Такой набор методов в данной работе позволяет полнее анализировать эффекты реаллокации, учитывая ограничения каждого подхода.
Представленные выше методологические подходы предусматривают использование агрегированных отраслевых данных. Однако в последнее время все более популярными становятся исследования, в основе которых лежат микроданные, – по фирмам [Bartelsman et al., 2013]. Такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, он дает возможность анализировать не только межотраслевую, но и внутриотраслевую реаллокацию. Создание и ликвидация рабочих мест протекают в значительной мере внутри узких отраслей, что макроотраслевые данные игнорируют. Во-вторых, микроданные, особенно имеющие панельную структуру, позволяют анализировать причинность во взаимоотношениях динамики производительности и структурных изменений занятости. Однако здесь есть свои ограничения, важные для нашего исследования.
Прежде всего данные по фирмам обычно охватывают лишь избранные отрасли и тем более не учитывают деятельность микропредпринимателей, самозанятых, работающих по найму у частных лиц. Этот сегмент занятости, в наибольшей степени ассоциирующийся с неформальностью, во многих странах растет и при этом отличается наименьшей производительностью. Его исключение из рассмотрения занизит вклад неформальности в агрегированную производительность. Кроме того, анализ данных по предприятиям в отдельных отраслях не отражает вклад реаллокации в рост производительности на уровне экономики в целом, измеряемой показателями СНС.
Аддитивность выпуска в постоянных ценах. Эффекты Денисона и Баумоля.
Традиционный подход к декомпозиции (TRAD) основан на предположении об аддитивности выпуска в постоянных ценах. Оно состоит в том, что для экономики в целом выпуск (или добавленная стоимость) в году t в постоянных ценах базового года может быть представлен в виде простой суммы уровней выпуска в отраслях :
(3–1)
Затраты труда L, представляющие количество отработанных часов или численность работников, также могут быть представлены в виде суммы затрат труда в отраслях:
(3–2)
Производительность труда определяется как отношение уровня выпуска к уровню затрат труда . В этом случае темпы прироста агрегированной производительности труда по отношению к некоторому начальному году t = 0 можно представить в виде декомпозиции TRAD[31]:
(3–3)
где – доля уровня выпуска отрасли n в году 0 в агрегированном выпуске; – темпы прироста производительности труда отрасли η; – темпы приприроста доли затрат труда в отрасли η по отношению к начальному году. Первое слагаемое в (3–3) представляет вклад роста производительности внутри отраслей (эффект within). В свою очередь, эффект реаллокации (эффект between) представлен в виде суммы вкладов второго и третьего слагаемых, которые У. Нордхаус назвал соответственно эффектами Денисона и Баумоля [Nordhaus, 2002]. Эффект Денисона – это вклад перераспределения рабочей силы между отраслями с разными уровнями производительности в рост агрегированной производительности [Denison, 1962; 1967]. Он связан с изменением долей отраслей в общей занятости.
Допустим, в некоторой отрасли А благодаря определенным технологическим и организационным улучшениям производительность выросла, но в других отраслях изменений не произошло. Если спрос на продукцию А при этом не меняется, то часть рабочей силы высвободится. Если высвободившийся труд перераспределится в отрасли с более низкой производительностью, например из обрабатывающей промышленности в розничную торговлю, то уровень агрегированной производительности труда может не измениться или даже снизиться. При этом рост производительности в А будет компенсирован увеличением доли менее производительных отраслей в общей рабочей силе [Bosworth, Triplett, 2007].
Эффект Баумоля представляет вклад перераспределения работников между отраслями с высокими и низкими темпами роста производительности труда – соответственно прогрессирующими и стагнирующими – в темпы роста агрегированной производительности. Анализируя роль сектора услуг, У. Баумоль считал спрос на услуги неэластичным, а возможности роста производительности труда в отраслях услуг – ограниченными [Baumol, 1967; Baumol et al., 1985][32]. Высвобождающаяся из прогрессирующей промышленности рабочая сила перетекает в стагнирующие отрасли услуг, в результате увеличивается их доля и, как следствие, замедляется рост агрегированной производительности.
Наряду с малореалистичными предпосылками о равенстве средней и предельной производительности труда традиционная декомпозиция (3–3) имеет и другие недостатки. Например, она не во всех случаях обеспечивает интуитивно понятную интерпретацию эффекта реаллокации. Можно выделить такой случай для отраслей с уровнем производительности ниже среднего. Так, произведение в (3–3) предполагает положительный вклад в рост производительности, если такая отрасль расширяется (σn > 0), а компонента будет положительной, если она теряет занятых (σn < 0), при том, что ее производительность падает .
Для устранения интерпретационных сложностей в методе CSLS, являющемся модификацией TRAD, предлагается учитывать разность между отраслевым уровнем производительности и средним по экономике[33]:
(3–4)
Первое слагаемое – эффект внутриотраслевого роста производительности – в (3–3) и в (3–4) одинаковое. Отраслевые компоненты второго слагаемого, представляющего эффект Денисона, теперь отрицательные, если занятость растет в отрасли с производительностью ниже средней, поскольку в этом случае . По аналогии,
почти во всех случаях, когда сокращается занятость в отрасли с уровнем производительности ниже среднего по экономике, вклад третьего слагаемого – эффекта Баумоля – будет положительным.
Каковы другие достоинства и недостатки рассмотренных выше методов? Серьезное достоинство подходов (3–3) и (3–4) – наличие опирающегося на них обширного массива исследований[34]. Это позволяет сравнивать полученные результаты с оценками для большого числа стран и в разные периоды. Другим достоинством выступает возможность использовать более дезагрегированные данные. Это особенно важно, если обсуждается влияние учета неформальности на эффекты реаллокации.
Есть, однако, и недостатки[35]. Во-первых, часть реаллокационного эффекта между отраслями более дробной классификации, а также эффекта межфирменной реаллокации выпадает из рассмотрения[36]. Во-вторых, акцент делается на эффектах агрегированного предложения, а параметры спроса – его структура и эластичность отдельных продуктов по доходу – считаются экзогенно заданными. В то же время они меняются со временем и сами зависят от уровня дохода [Pasinetti, 1981]. Рассматриваемые методы предполагают равенство предельной производительности труда различных групп работников. Наконец, игнорируются возможные эффекты межотраслевой диффузии технологий, в результате чего возможен рост выпуска без увеличения затрат труда. Так, если в секторе A, производящем промежуточный продукт для сектора B, произошли позитивные технологические изменения, и цена на его продукт снизилась, то при прежнем уровне издержек в секторе B выпуск в секторе A будет выше, что не связано с ростом производительности труда в нем.
Помимо содержательных недостатков имеются и недостатки измерения. Они связаны с предпосылкой об аддитивности выпуска в постоянных ценах (3–1). Такая предпосылка выполняется, если при расчетах выпуска используется система индексных формул Ласпейреса для индексов физического объема выпуска с фиксированными весами в ценах некоторого базового года, но при этом результаты зависят от его выбора. Погрешность тем сильнее, чем более значительны изменения относительных цен по сравнению с базовым годом. Такие изменения имели место в последние десятилетия и в развитых странах, и в странах с переходной экономикой. Если в первых этот процесс был во многом обусловлен бурным развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [Nordhaus, 2002; Stiroh, 2002], то во вторых – структурными и институциональными сдвигами, связанными с постепенным избавлением от диспропорций планового периода [Campos, Coricelli, 2002; Бессонов, 2005]. Решить эту проблему и для измерения динамики выпуска, и для декомпозиции темпов роста агрегированной производительности можно при переходе к системе цепных индексов.
Декомпозиция роста производительности в системе цепных индексов. Если для расчета индексов физического объема выпуска используют цепные индексы (как рекомендовано в СНС[37] 1993 и 2008 гг.), то предпосылка (3–1) об аддитивности выпуска в постоянных ценах нарушается. В этом случае вместо TRAD и CSLS для декомпозиции темпов роста производительности требуются иные подходы.
Соответствующие методы для экономики в целом были предложены в работах Нордхауза и Стайроха [Nordhaus, 2002; Stiroh, 2002]. Однако они ограничивались разложением темпов роста производительности труда на внутриотраслевые вклады и реаллокацию, не обеспечивая разложение эффекта последней на вклады отдельных отраслей. Позднее была предложена декомпозиция темпов роста производительности для цепных индексов, обеспечивающая аддитивность вкладов отдельных отраслей [Tang, Wang, 2004][38]. Подход этих авторов не требует аддитивности выпуска в постоянных ценах (3–1), и для него достаточна аддитивность выпуска лишь в текущих ценах V:
(3–5)
Реальный выпуск Y представляет выпуск в текущих ценах, скорректированый на индекс цен P, который задает уровень цен по отношению к уровню базового года
(3–6)
В общем случае из того, что в каждой отрасли n Yn = VnlPn, не следует, что . В то же время может использоваться такая система индексов цен и соответствующих им индексов количеств , для которых свойство аддитивности выпуска (3–1) будет выполняться. Тогда темпы прироста производительности труда γ = ΔΧ /X, где X = Y/L, можно представить как
(3–7)
где и – отношение отраслевого индекса производительности в отрасли n к агрегированному. Соотношение (3–7) – это разложение GEAD, в котором первое слагаемое отвечает за внутриотраслевые источники роста, второе интерпретируется как эффект Денисона, а третье – как эффект Баумоля.
Декомпозиция GEAD имеет несколько преимуществ перед TRAD [Dumagan, 2013]. Во-первых, в GEAD внутриотраслевая компонента роста (первое слагаемое в (3–7)) зависит только от отраслевых дефляторов цен, а в TRAD она (первое слагаемое в (3–3)) определяется и дефлятором для экономики в целом[39]. Другими словами, в TRAD на внутриотраслевую компоненту влияет изменение соотношения отраслевых и агрегированных уровней цен, которое может быть не связано с соответствующими внутриотраслевыми процессами. Например, оно может меняться из-за использования другой индексной формулы или иного способа усреднения весовых коэффициентов.
Во-вторых, TRAD может давать смещения в декомпозиции внутриотраслевой компоненты роста производительности на отраслевые вклады даже при использовании выпуска в постоянных ценах и выполнении условия аддитивности (3–1), а GEAD таких смещений не дает. Это объясняется тем, что в качестве весов при агрегировании внутриотраслевой компоненты в TRAD используются доли выпуска в постоянных ценах некоторого базового года , а в GEAD – в текущих . Так, при бурном росте некоторой отрасли и соответственно снижении относительных цен на ее продукцию вклад этой отрасли в агрегированные темпы роста в TRAD будет завышен, поскольку доля ее выпуска для некоторого, возможно, весьма удаленного базового года, будет рассчитана в завышенных ценах[40].
В-третьих, GEAD учитывает возможность реаллокации труда только вследствие изменения относительных цен, а в TRAD это невозможно. Допустим, развитие технологий расширяет границы производства при постоянном уровне затрат факторов. Новое равновесие должно установиться с учетом существующих предпочтений и может привести к изменению относительных цен. Такие ценовые сдвиги не обязательно определяют изменение долей занятости в отраслях и могут объясняться изменениями в потоках услуг капитала. В этом случае TRAD покажет отсутствие реаллокационных эффектов, а GEAD такой эффект выявит. Однако будет ли этот эффект следствием реаллокации труда?
Одновременный учет перераспределения затрат труда и изменения относительных цен затрудняет интерпретацию реаллокационного вклада в рост производительности, поскольку такой вклад может быть связан не только с физическим перетоком работников, но и с изменениями ценовых пропорций, имеющими разную природу. К их числу относятся, в частности, существенные для российской экономики колебания мировых цен на энергоносители и скачки обменного курса. В связи с этим представляет интерес разделение эффекта реаллокации на отдельные вклады, связанные с изменениями занятости и относительных цен.
Диверт, используя полученное в работе [Tang, Wang, 2004] представление производительности труда, показал, что темпы ее роста (X1 / X0) можно представить в виде суммы произведений трех факторов – отраслевых темпов роста относительных цен (p1n/ p0n), долей занятости (S1L,n /S0L,n) и производительности труда (X1n / X0n) [Diewert, 2015]:
(3–8)
После ряда преобразований[41] он предлагает следующее перераспределение, выделяя эффекты изменения производительности труда, относительных цен и долей занятости[42]:
(3–9)
где
(3-10)
(3-11)
(3-12)
Разложение (3–9) – (3-12) представляет трехфакторный вариант разложения GEAD – GEAD-3f. В настоящей работе мы используем четыре вида декомпозиции темпов прироста производительности труда. Подход TRAD основан на предпосылке о фиксированных относительных ценах на продукты отраслей. Переход к методу CSLS, также основанному на этой предпосылке, упрощает интерпретацию результатов. Отказ от предпосылки фиксированных относительных цен при сохранении эффектов декомпозиции Денисона и Баумоля дает метод GEAD. Наконец, GEAD-3f позволяет отделить часть реаллокации, которая связана непосредственно с изменением долей затрат труда, от эффекта изменения относительных цен. Разумеется, рассмотренные разложения – не единственно возможные[43], однако предлагаемый аппарат представляет взаимосвязанную систему методов с хорошо разработанной экономической интерпретацией.
3.3. Используемые данные
Методы, рассмотренные в предыдущем разделе, предполагают наличие соответствующих данных: отраслевых временных рядов номинального и реального выпуска, а также затрат труда. При этом отрасли должны быть максимально дезагрегированы и разделены на формальный и неформальный сегменты[44].
В последнее время появилось немало исследований о влиянии структурных сдвигов на производительность, использующих микроданные по фирмам[45]. Эти данные позволяют учитывать эффекты, выпадающие при анализе отраслевых данных в рамках неоклассической парадигмы. К числу таких эффектов относятся внутриотраслевая неоднородность предприятий, а также возможность учитывать эндогенность экономического механизма, связывающего производительность и занятость. Вместе с тем используемая в этих работах методология практически не позволяет учитывать неформальность. Неформальные фирмы не попадают в регистры и обследования, а для неформальных самозанятых, которых охватывают обследования домохозяйств, невозможно оценить производительность. По этим соображениям мы вынуждены использовать агрегированные отраслевые данные, включающие разные и взаимодополняющие источники информации.
В наших расчетах мы используем данные Russia KLEMS, основанные на показателях российской системы национальных счетов[46]. В настоящее время это единственный источник информации о российской экономике, обеспечивающий динамические ряды показателей выпуска и затрат труда в разрезе 34 видов деятельности ОКВЭД за период с 1995 г. Данные о номинальной добавленной стоимости для экономики в целом за весь рассматриваемый период – официальные. Что касается отраслевых показателей, то с 2003 г. используются официальные данные российской СНС о номинальной и реальной добавленной стоимости, а также баланса затрат труда об отработанных часах. Данные до 2003 г. получены путем досчета с использованием подробной статистики СНС и баланса трудовых ресурсов в старой отраслевой классификации ОКОНХ, официальных переходных ключей, а также, где возможно, с помощью официальных ретроспективных досчетов (см. подробнее: [Voskoboynikov, 2012]).
Особая задача в контексте нашего исследования – выделить в каждом виде деятельности неформальный сегмент. Не вдаваясь в дискуссию по поводу определений[47], отметим лишь, что мы относим к формальному сегменту все предприятия, имеющие статус юридического лица. Другими словами, мы приравниваем его к корпоративному сектору экономики. Соответственно произведенная в нем продукция и занятые работники – «формальные». В свою очередь, все производство вне этого сегмента – в некорпоративном сегменте[48] – мы считаем «неформальным» и произведенным «неформальными» работниками. Подобное определение соответствует «производственной» трактовке неформальности (в отличие от легалистской). Оно не единственно возможное, но позволяет использовать отраслевую статистику занятости и выпуска, на основе которой построен массив Russia KLEMS, а также имеющиеся данные о неформальной деятельности.
Валовая добавленная стоимость, производимая вне корпоративного сегмента, не наблюдается прямыми статистическими методами, но поддается учету с помощью общепринятой системы косвенных оценок[49]. В качестве показателя доли неформального сегмента в отраслевом разрезе мы используем отношение добавленной стоимости, произведенной в секторе домашних хозяйств, к добавленной стоимости в целом по виду деятельности[50]. Данные опубликованы в разрезе разделов классификатора ОКВЭД, и мы вынуждены использовать соответствующие отношения для видов деятельности более подробного уровня дезагрегирования. В наибольшей мере это огрубляет результаты для обрабатывающих производств (раздел D), включающих 13 видов деятельности, которые существенно различаются по степени неформальности[51]. Хотя Росстат публикует такие данные с 2002 г., мы принимаем 2005 г. в качестве первоначального[52].
Доли неформального сегмента во всех видах деятельности в суммарном отработанном времени мы рассчитывали как отношение разности в количестве отработанных часов в целом по экономике и в организациях к общему количеству отработанных часов.
Для видов деятельности, которым соответствует двузначный код ОКВЭД, мы использовали доли валовой добавленной стоимости и отработанных часов ближайшего к ним старшего уровня отраслевой классификации. Так, доля неформальности в «Производстве пищевых продуктов, напитков и табака» (DA в ОКВЭД; 15t16 в KLEMS) считалась равной доле неформальности для видов деятельности обрабатывающей промышленности в целом (D). В данном случае, по-видимому, мы могли недооценить долю неформальной компоненты, а в других (например, в металлургии) – наоборот, переоценить.
Долю неформальности в добывающей промышленности (C) мы считаем равной нулю. Во-первых, согласно официальным статистическим публикациям, она варьировалась между 0,1 и 0,2 % всей добавленной стоимости. Во-вторых, точность измерения здесь крайне невысока из-за вертикальной интеграции и непрозрачности трансфертного ценообразования[53]. В случае с финансовым посредничеством (J) официальный досчет добавленной стоимости на неформальную занятость дает значения, примерно на 1 % отличающиеся от нуля, только за последние три года рассматриваемого периода, и мы тоже можем ими пренебречь.
Наконец, завершающий показатель в нашей базе данных – индексы физического объема добавленной стоимости для формального и неформального сегментов. Мы их рассчитываем в предположении, что уровень и динамика цен в обоих сегментах одинаковы. В этом случае для дефлирования номинальной добавленной стоимости можно воспользоваться имплицитным дефлятором ВДС, рассчитанным на основе официальных данных о номинальной добавленной стоимости и индексах физического объема добавленной стоимости в отраслях. Такой подход основан на предположении, что и в формальном, и в неформальном сегментах внутри одного вида деятельности производится одинаковый продукт.
В какой мере данная предпосылка оправданна? Например, цены на товары на неформальном рынке могут не отличаться от цен в магазинах, а врач может иметь частную практику, соблюдая установленные тарифы, но без формальной регистрации и, соответственно, не платя налоги.
Разумеется, продукты формального и неформального сегментов могут в реальности различаться. Так, в строительстве нельзя «неформально» построить сложную автомобильную развязку или многоквартирный дом. В то же время можно силами неформалов сделать ремонт в квартире, построить дачный домик или коттедж. Если учесть такую дифференциацию продуктов в сегментах одной отрасли, то и динамика цен на них будет разная. Однако доступный уровень дезагрегирования наших данных такую дифференциацию не обеспечивает.
В то же время легко представить ситуацию комплементарности, когда формальный и неформальный труд привлекается для разных технологических операций, дополняя друг друга. Скажем, в рамках большого строительного проекта для рытья канав частично привлекают неформалов, а для монтажа бетонных конструкций – строительные организации с полноценным штатом и сложной строительной техникой на балансе. В качестве альтернативного варианта можно взять другой предельный случай, когда динамика выпуска формального и неформального сегментов совпадают, а цены отличаются. Расхождения в результатах оценок оказались незначительными.
3.4. Динамика производительности и сдвиги в структуре занятости в 2000-е годы
Период 1995–2012 гг. характеризовался значительной волатильностью темпов экономического роста (рис. 3–1). До кризиса 1998 г. российская экономика находилась в продолжительной трансформационной рецессии, а среднегодовой темп снижения реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) составлял около 2,6 % в 1995–1998 гг. В 1999–2008 гг. динамика ВДС стала положительной и ускорилась, составив в среднем 7,3 %. В 2009 г. реальная ВДС снизилась на 8,5 % (по отношению к 2008 г.), но затем темпы роста восстановились и составили в среднем 4,2 % за оставшийся период.
По сравнению с реальным выпуском динамика затрат труда (отработанного рабочего времени всеми занятыми) была крайне вялой на протяжении всего периода. И в моменты сильного спада, и в эпизоды бурного роста реакция занятости оставалась малоэластичной, тем самым отражая специфику российских институтов рынка труда, тормозящих количественное приспособление к шокам и дающих преимущество ценовому [OECD, 2011; Gimpelson, Kapeliushnikov, 2013]. В целом за рассматриваемые годы темпы прироста затрат труда едва превысили 1 %. При этом, за исключением спада 2008–2009 гг., который привел к снижению затрат труда на 3,6 %, их прирост колебался в интервале от -1,3 % в год в кризисные 1995–1998 гг. до 2,2 % в годы бурного роста. В итоге динамика производительности определялась главным образом темпами изменения выпуска.
Примечание. Рассматривается рыночный сектор экономики, не включающий виды деятельности, связанные в основном с оказанием нерыночных услуг – государственным управлением, образованием, здравоохранением и жилищно-коммунальным хозяйством.
Рис. 3–1. Динамика производительности труда, валовой добавленной стоимости и отработанных часов в российской экономике в 1995–2012 гг.
Рисунок 3–1, отражая тенденции в (рыночной) экономике в целом, скрывает значительную неоднородность составляющих ее отраслей. Рисунок 3–2 частично восполняет этот пробел, показывая динамику соотношения максимального и минимального уровней производительности рассматриваемых видов деятельности. Так, в 2005 г. номинальная добавленная стоимость на отработанный час отрасли-лидера (23: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов) превышала значение соответствующего показателя в отрасли-аутсайдере (AtB: сельское хозяйство) в 60 раз. В разные годы это соотношение менялось от 24 в 1997 г. до почти 70 в 2012 г. В значительной мере этот разрыв объясняется высокой капиталоемкостью расширенного добывающего комплекса (РДК) и широким применением простого ручного труда в российском сельском хозяйстве[54]. Действительно, значение того же показателя для отраслей рыночного сектора без сельского хозяйства и РДК снижается как минимум в два раза. Более того, исчезает эффект возрастания разрыва в отраслевой производительности, что, по-видимому, объясняется более высокими темпами роста капитала в РДК по сравнению со многими другими отраслями в период роста мировых цен на энергоносители [Voskoboynikov, Solanko, 2014].
Примечание. Производительность труда определяется как номинальная добавленная стоимость в расчете на один отработанный час.
Рис. 3–2. Отношение уровней производительности труда отрасли-лидера и отрасли-аутсайдера в 1995–2012 гг.
Неоднородность отраслей в полной мере проявилась и в темпах роста производительности. За весь рассматриваемый период ее среднегодовые темпы варьировались от -7,2 % в год в социальных и персональных услугах (О) до 7,6 % в финансовом посредничестве (J).
Таблица 3–1.
Доли занятости и добавленной стоимости по секторам в 1995 и 2012 гг., %
Хотя динамика затрат труда была вялой, их отраслевая структура в 1995–2012 гг. претерпела существенные изменения (табл. 3–1). Особенно заметны сокращение доли сельского хозяйства в суммарных затратах труда (с 35 до чуть более 26 %) и обрабатывающих производств (с 23 до 19 %) на фоне увеличения доли строительства, розничной торговли и телекоммуникаций (с 24 до почти 35 %).
Не менее значительную трансформацию претерпела отраслевая структура добавленной стоимости. Доля сельского хозяйства в ней упала почти в два раза, обрабатывающей промышленности – с 26 до почти 19 %, транспорта – с 14 до 8 %. В то же время удельные веса добывающего сектора, финансов и бизнес-услуг заметно возросли, а доли строительства, розничной торговли и телекоммуникаций практически не изменились. За этими впечатляющими структурными сдвигами скрываются не менее впечатляющие реаллокационные процессы. В сочетании с отраслевой неоднородностью в производительности они могут влиять на динамику агрегированной производительности, хотя остается вопрос, будет этот переток усиливать рост или тормозить его.
Картина неоднородности российской экономики будет неполной, если не учитывать степень и динамику ее деформализации. Данные Росстата свидетельствуют и о высоком темпе ее распространения, и о наиболее общих структурных особенностях этого процесса.
Таблица 3–2. Доли добавленной стоимости и отработанных часов неформальных сегментов в секторах российской экономики, %
Примечание. Высокая доля неформального сегмента в нефтегазовом комплексе обусловлена следующими обстоятельствами. Для вида деятельности «Оптовая торговля» (51) доли добавленной стоимости и отработанных часов в неформальном секторе полагаются равными этим показателям в секторе «Торговля» и составляют (2005 г.) 24 % для добавленной стоимости и 57 % – для отработанных часов. В то же время вид деятельности «Оптовая торговля» сам по себе характеризуется значительной неформальностью. По количеству отработанных часов, согласно балансу затрат труда, она составляет (2005 г.) 21 % в основном за счет деятельности предпринимателей без образования юридического лица. Однако остается открытым вопрос, связана деятельность этих ПБОЮЛ с экспортом энергоносителей или относится к другим видам активности в рамках оптовой торговли.
На рис. 3–3 представлено изменение занятости за 2000–2013 гг. как в целом, так и в корпоративном и некорпоративном сегментах, а также дифференцированно по всем видам деятельности. Можно констатировать факт масштабной реаллокации труда из первого сегмента во второй, а также определить отрасли-доноры и отрасли-реципиенты. Если общая численность занятых за рассматриваемый период возросла примерно на 3,5 млн человек, то корпоративный сектор потерял более 5 млн. Соответственно некорпоративный абсорбировал почти 9 млн. Наибольшие потери наблюдались в корпоративном сегменте в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, а соответствующие «приобретения» – в торговле, строительстве, обрабатывающих отраслях и на транспорте. Другими словами, работники в массовом порядке меняли свою отраслевую и сегментную «прописку».
Рис. 3–3. Численность занятых по укрупненным видам деятельности с разделением на корпоративный (формальный) и некорпоративный (неформальный) сегменты
Как видно из данных табл. 3–2, более 10 % ее добавленной стоимости и 40 % всех отработанных часов рыночного сектора приходилось на неформальный сегмент экономики. Значительная часть затрат труда в нем расходуется в сельском хозяйстве при производстве в личных подсобных хозяйствах [Капелюшников, 2006], в строительстве, на транспорте, в розничной торговле и телекоммуникациях. Велика доля неформальной занятости и в обрабатывающей промышленности. Общая тенденция заключается в переливе занятости в некорпоративный сегмент при сокращении доли приходящейся на него добавленной стоимости, что может свидетельствовать о снижении уровня производительности труда.
Оценка эффекта реаллокации с учетом неформального сегмента может существенно отличаться от оценок, полученных без его учета, поскольку в последнем случае часть этого эффекта, вызванная внутриотраслевым, но межсегментным перетоком работников, остается незамеченной, а степень неоднородности уровней производительности оказывается ниже. Действительно, как видно из сопоставления рис. 3–2 и 3–4, неформальный сегмент усиливает вариацию в уровнях производительности. В благополучные годы середины 2000-х годов соотношение максимальной и минимальной производительности даже с учетом исключения отраслей-аутлайеров превышало вариацию между формальными отраслевыми сегментами. На рис. 3–4 видно, что такой показатель к 2012 г. был почти в два раза больше, чем аналогичный показатель для отраслей без сегментации (рис. 3–2).
Примечание. Удалены некоторые виды деятельности с небольшими долями ВДС и неформальной занятости, для которых доля погрешности может оказаться очень высокой, а также виды деятельности РДК. Включение любой удаленной отрасли-аутлайера приводит к значительному смещению кривой вверх.
Рис. 3–4. Соотношение уровней производительности труда в отрасли-лидере и отрасли-аутсайдере в 2005–2012 гг. с учетом разбивки отраслей на формальный и неформальный сегменты, раз
Разделение отраслей на формальный и неформальный сегменты увеличивает вариацию в их производительности, наряду с влиянием сельского хозяйства и РДК [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2015]. Как видно на рис. 3–4, разрыв в уровнях производительности труда растет на протяжении всего рассматриваемого периода. Это могло быть связано с интенсивным вымыванием наименее квалифицированных работников в неформальный сегмент, где их предложение в расчете на единицу капитала сильно возросло, тем самым резко снижая предельную производительность труда. В то же время рабочие места в формальном сегменте экономики возникали крайне медленно; темп их создания отставал от темпа ликвидации, отражая стагнацию спроса на труд в условиях плохих институтов (глава 1).
Воздействие реаллокации труда на динамику агрегированной производительности в российской экономике может быть следствием как межотраслевых, так и межсегментных перетоков рабочей силы. При этом априори трудно сказать, каково направление влияния этих реаллокационных процессов, какие отрасли обеспечивают ускорение/замедление производительности и каков при этом вклад неформальности. Возможные ответы на эти вопросы мы постараемся дать в следующих разделах.
3.5. Результаты декомпозиции
Результаты декомпозиции TRAD для 30 отраслей рыночного сектора российской экономики за период 1995–2012 гг., сгруппированные по вкладам шести крупных секторов, представлены в табл. 3–3. За указанный период уровень производительности труда вырос почти на 93 %, или почти вдвое. Около 1/3 всего прироста дал РДК. Вклад строительства, розничной торговли и телекома также значителен (25 п.п.) и уступает РДК лишь 4 п.п. Затем с некоторым отставанием следуют финансы и бизнес-услуги (22 п.п.) и обрабатывающая промышленность (10 п.п.), а роль транспорта (5 п.п.) и сельского хозяйства (2 п.п.) не столь заметна.
Однако вклад каждого сектора в рост агрегированной производительности обеспечивается не только внутриотраслевым накоплением и более эффективным использованием физического и человеческого капитала, но и перетоками рабочей силы. При этом вклад такой реаллокации на агрегированном уровне очень значительный – более 21 п.п.
Таблица 3–3. TRAD – декомпозиция темпов прироста производительности труда в 1995–2012 гг. по вкладам секторов российской экономики, внутриотраслевому (within) и межотраслевому (between) эффектам, в постоянных ценах 2005 г., п.п.
Рассмотрение собственных вкладов отдельных секторов без учета реаллокационных эффектов (столбец 2 табл. 3–3) несколько меняет представление об их роли в агрегированном росте. Лидером оказывается РДК, обеспечивающий 1/4 всего роста. Это не удивительно, поскольку на данный сектор приходится значительная доля услуг капитала в экономике [Timmer, Voskoboynikov, 2014]. Далее с отрывом 6 п.п. следуют обрабатывающая промышленность и рыночные услуги (строительство, розничная торговля и телекоммуникации). При этом промышленность сокращает занятость, снизив свою долю с 26 % в 1995 г. до почти 19 % в 2012 г. (см. табл. 3–1), так что значительный рост производительности можно объяснить оптимизацией производства. В то же время рыночные услуги ее стремительно наращивают: за тот же период доля отработанных часов здесь возросла с 24 до почти 35 %. Следовательно, рост производительности в секторе рыночных услуг обусловлен притоком капитала, как и в РДК [Timmer, Voskoboynikov, 2014]. Транспорт и сельское хозяйство – в группе отстающих, хотя вклад последнего за счет внутриотраслевых источников возрос почти в три раза по сравнению с его общим вкладом. Таким образом, влияние реаллокации существенно и на агрегированном уровне, и при анализе вкладов отдельных секторов.
Теперь обсудим реаллокационные эффекты за весь период с 1995 г. (столбец 3 табл. 3–3). Реаллокация практически полностью определяется примерно одинаковым вкладом двух секторов – 12 п.п. в секторе рыночных услуг и 10 п.п. в РДК. Однако природа реаллокации в них разная (см. табл. 3–1). Если в РДК стремительно росла доля ВДС – с 23 % в 1995 г. до 33 % в 2012 г. при расширении доли занятости менее чем на 2 п.п. – до 5,7 % в 2012 г., то в секторе услуг картина обратная. Доля добавленной стоимости сектора на протяжении почти 20 лет оставалась неизменной, колеблясь в пределах 22 %, тогда как его доля занятости выросла на 10 п.п. – почти до 35 % в 2012 г. Таким образом, значительный вклад РДК в эффект реаллокации связан с большим разрывом в производительности между ним и другими секторами при сравнительно небольших перетоках рабочей силы[55]. В основе вклада сектора рыночных услуг в реаллокацию лежат именно перетоки рабочей силы.
Вклад других секторов относительно невелик. Высокопроизводительные финансы и бизнес-услуги расширяются и обеспечивают положительный вклад в реаллокацию (6 п.п.), но отток работников из низкопроизводительного сельского хозяйства и относительно высокопроизводительной промышленности практически полностью нивелирует этот прирост. Действительно, каждая из этих двух отраслей дает умеренно негативный вклад – порядка 3 и 4 п.п. соответственно. Интуитивно понятно, что если отрасль с уровнем производительности выше среднего теряет работников, то такая тенденция должна скорее негативно влиять на агрегированный уровень производительности. Именно это и наблюдается в обрабатывающей промышленности: ее реаллокационный вклад в рост производительности равен -3,8 п.п. (см. табл. 3–3). Но если сокращается доля отрасли с уровнем производительности ниже среднего, то соответствующий вклад должен быть положительным. Однако сельское хозяйство, будучи аутсайдером по уровню производительности и снизив долю отработанных часов с почти 35 % в 1995 г. до 26 % в 2012 г. (см. табл. 3–1), дает тем не менее отрицательный вклад -3 п.п. (см. табл. 3–3). В этом и проявляется недостаток TRAD, связанный с трудностями интерпретации (см. выше переход от TRAD (10) к CSLS (11)).
Разделение каждого сектора на формальный/неформальный сегменты может менять оценки внутриотраслевого роста производительности. Так, часть вклада в рост агрегированной производительности, которая изначально рассматривалась как составляющая внутриотраслевого эффекта, теперь дает прибавку к реаллокационному эффекту, отражая последствия перетока работников между формальным и неформальным сегментами.
Таблица 3–4. TRAD – декомпозиция темпов прироста производительности труда в 2005–2012 гг. по вкладам секторов российской экономики, внутриотраслевому (within) и реаллокационному (between) эффектам, в постоянных ценах 2005 г., п.п.
В столбцах 2 и 3 табл. 3–4 показаны результаты расчетов для отраслей без выделения формального и неформального сегментов, а в столбцах 4 и 5 – с таким разделением. Так, для экономики в целом (без учета неформальности) реаллокация стимулировала рост и обеспечила 4,5 п.п. из 28. Учет неформальности снижает общий реаллокационный эффект на 1/5 (3,6 п.п.). Уравнение (3–7) позволяет дать следующую интерпретацию этому результату: стимулирующий рост эффекта межотраслевого перетока был частично нивелирован отрицательным влиянием межсегментных переходов работников.
Наиболее сильно эффект реаллокации между формальным и неформальным сегментами проявился в обрабатывающей промышленности. Здесь уход работников в неформальные виды деятельности привел к снижению ее вклада в рост производительности на 0,9 п.п. (0,9 = -2,10 – (-1,18)). Другими словами, внутриотраслевой рост производительности (за счет модернизации производства и инноваций) оказывается даже выше, чем считалось раньше (3,4 п.п. вместо 2,9), но его часть была утрачена за счет перехода ряда высвобождаемых работников с обновленных промышленных предприятий на менее производительные рабочие места вне корпоративного сектора. Аналогичная картина наблюдается и на транспорте, где эффект межсегментных перетоков привел к увеличению отрицательного вклада реаллокации на 0,6 п.п., и в меньшей мере – в сельском хозяйстве. В розничной торговле и строительстве учет неформальности практически не изменил значения эффекта реаллокации, что, возможно, объясняется компенсацией деформализации строительства и перетоком работников розничной торговли с рынков в супермаркеты. Действительно, доля отработанных часов в неформальном сегменте в строительстве выросла с 40 % в 2005 г. до 43 % в 2012 г., а в розничной торговле сократилась с 72 до 64 %.
Таблица 3–5. CSLS – декомпозиция темпов прироста производительности труда в 2005–2012 гг. по секторам российской экономики, внутриотраслевому (within) и реаллокационному (between) эффектам с разделением секторов на формальный и неформальный сегменты, в постоянных ценах 2005 г., %
Как мы уже отмечали, подход CSLS (выражение (3–4)) модифицирует интерпретацию декомпозиции, определяя эффект реаллокации уровнем и темпами роста производительности относительно средних по экономике. Результаты его использования по отношению к данным, учитывающим сегментацию, представлены в табл. 3–5. В соответствии с (3–4), вклад секторов во внутриотраслевой рост не изменился, однако их вклады в реаллокационный эффект существенно модифицировались (столбец 3 табл. 3–5). Теперь отток занятых из низкопроизводительного сельского хозяйства обеспечивает прирост агрегированной производительности более чем на 1,4 п.п. и превышает вклад за счет внутриотраслевых источников. При этом обрабатывающая промышленность, имея более высокий уровень производительности и теряя занятость, вносит отрицательный вклад в общий эффект реаллокации.
Отметим изменения в составе секторов-лидеров и аутсайдеров, которые произошли из-за смены методологии с TRAD (табл. 3–4) на CSLS (табл. 3–5). Лидирующие позиции по вкладу реаллокации сохранил сектор финансов и бизнес-услуг. В то же время сельское хозяйство заняло вторую позицию вместо сектора рыночных услуг. Положение РДК не изменилось, а строительство, розничная торговля и телекоммуникации наряду с обрабатывающей промышленностью оказались в конце списка. Однако если в рыночных услугах это обусловлено некоторым расширением сравнительно низкопроизводительных видов деятельности, то в обрабатывающих производствах – сокращением высокопроизводительных.
Таблица 3–6. GEAD – декомпозиция темпов прироста производительности труда в 2005–2012 гг. по секторам российской экономики, внутриотраслевому (within) и межотраслевому (between) эффектам с разделением секторов на формальный и неформальный сегменты, %
До сих пор мы анализировали результаты декомпозиционных расчетов (по TRAD и CSLS), предполагающих фиксированные веса компонентов выпуска, что эквивалентно фиксации относительных цен на уровне базового года. В нашем случае таким годом принят 2005 г.[56], что чревато значительными искажениями [Бессонов, 2005]. Если в 1990-е годы относительные цены менялись под влиянием высокой инфляции, то в 2003–2012 гг. на них могли сильно воздействовать колебания мировых цен на сырье. Поэтому неудивительно, что учет динамики относительных цен (с помощью GEAD) может дать иную картину, точнее отражающую отраслевые источники реаллокации (табл. 3–6).
Во-первых, учет динамики относительных цен снижает общий прирост производительности с 28 до 26 % за счет уменьшения эффекта реаллокации. Другими словами, существующие перетоки рабочей силы из одной отрасли в другую и между формальным и неформальным сегментами ускоряют среднегодовые темпы роста производительности лишь на 1,7 п.п. в год, что составляет 6,5 % общего прироста. Такой вклад заметно меньше, чем 12,9 % при использовании методологии TRAD/CSLS (см. табл. 3–4, 3–5).
Во-вторых, положительный вклад в реаллокацию оказывают только два сектора – РДК (3,5 п.п.) и финансы и бизнес-услуги (1,3 п.п.). Это означает, что, будучи лидерами по производительности, они увеличили свою долю в общей численности занятых. Что касается расширенного добывающего сектора, то он отличается не только высокой капиталоемкостью (это типично для всех периодов), но и тем, что в рассматриваемый период получал значительную сырьевую ренту через рост относительных цен на свою продукцию. Кстати, часть этой ренты, перетекая в неторгуемые секторы, способствовала росту производительности в них. Отрицательный реаллокационный вклад сельского хозяйства, проявившийся при использовании GEAD и учете неформальности (сравните с табл. 3–4), может быть связан со значительным падением относительных цен на соответствующие продукты[57].
В то же время GEAD не позволяет явным образом разделить эффект реаллокации на вклады от изменения относительных цен и от изменения долей занятых. Такое разложение обеспечивает GEAD-3f (3–9)-(3-12) (табл.3–7). При сравнении с результатами декомпозиции GEAD и по величине, и по знаку эффекты реаллокации близки, хотя в GEAD-3f заметно некоторое перераспределение в пользу внутриотраслевого роста. Эти различия не несут содержательного смысла и объясняются коррекционными поправками в методе Диверта для обеспечения аддитивности (слагаемые внутри скобок в (3-10)-(3-12), которые прибавляются к единице). В обеих версиях GEAD существенный положительный вклад в реаллокацию обеспечивают РДК и финансы. При этом соответствующие значения столбцов 4 и 5 табл. 3–7 показывают различную природу этого эффекта в данных секторах. В РДК реаллокационная компонента в целом (between) объясняет 1/3 внутрисекторного роста производительности (почти 14 % роста агрегированной производительности), но она сама на 2/3 (68 %) состоит из эффекта роста относительных цен. На эффект перетока занятых между этим сектором и остальной экономикой приходится 1,1 п.п. роста производительности, или около 11 % всего роста производительности в секторе. В свою очередь, эффект between в финансах и бизнес-услугах, составляющий в целом 1,3 п.п., связан именно с реаллокацией, тогда как относительные цены на продукты сектора падали и отрицательно влияли на агрегированную производительность.
Таблица 3–7. GEAD-3f – декомпозиция темпов прироста производительности труда в 2005–2012 гг. по вкладам секторов российской экономики, внутриотраслевому (within) и межотраслевому (between) эффектам с разделением секторов на формальный и неформальный сегменты, п.п.
С этой точки зрения именно эффект изменения долей занятости служит более точным индикатором вклада межотраслевых перетоков рабочей силы, поскольку он очищен от влияния динамики относительных цен (сравните столбец 5 и столбец 3 табл. 3–7). Три сектора-реципиента (работников) в этот период обеспечивают положительный вклад в реаллокацию – финансовые и бизнес-услуги; строительство, розничная торговля и телекоммуникации, а также РДК (см. табл. 3–1). В свою очередь, снижение доли занятости в обрабатывающей промышленности на 1,9 п.п. ведет к замедлению роста производительности, несмотря на сглаживающий эффект роста относительных цен.
В табл. 3–8 приведены результаты выделения эффектов Денисона и Баумоля, полученные тремя из четырех рассматриваемых методов. Все они показывают одно: если анализ влияния структурных сдвигов на рост производительности не учитывает неформальный сегмент, то вклад реаллокации оказывается значительно выше. Все три метода дают примерно одинаковую оценку такого завышения – почти на 0,9 п.п. за семь лет или примерно 0,12 п.п. в среднем в год. Такие масштабы завышения могут приводить к тому, что при учете неформальности реаллокация оказывается если не тормозом, то и не таким сильным драйвером производительности.
Таблица 3–8. Декомпозиция реаллокации на эффекты Денисона и Баумоля для рыночной экономики в целом в 2005–2012 гг.
Примечание. Методы TRAD и CSLS – в постоянных ценах 2005 г.
Данные табл. 3–8 позволяют сделать еще одно важное наблюдение, связанное с влиянием учета неформального сегмента. Замедление или падение темпов роста производительности за счет эффекта Денисона сильнее, чем за счет эффекта Баумоля. Действительно, эффект Денисона снизился на 0,6 п.п. для TRAD/CSLS и на 0,7 п. п. – для GEAD, а эффект Баумоля – на 0,27 и на 0,15 п. п. соответственно. Другими словами, при учете неформального сегмента увеличение наблюдаемого разрыва в уровнях производительности оказывает большее влияние на эффект реаллокации, чем увеличение разброса отраслей по темпам роста.
Хотя оценки декомпозиции прироста производительности с помощью альтернативных аналитических методов и при разных допущениях различаются, в главном они рисуют схожую картину: реаллокация в российской экономике в 2005–2012 гг. не была нейтральной по отношению к экономическому росту. Ее вклад в агрегированный рост производительности был положительным, что проявляется в последовательном улучшении качества рабочих мест в 2000–2012 гг. (как было показано в главе 2). Однако более точный учет динамики неформального сегмента снижает этот вклад на 20 %. Это означает, что реаллокация в целом была «прогрессивной», повышая агрегированную производительность труда. Правда, тенденция к деформализации действовала в обратном направлении. Работники, переходившие из формального сегмента в неформальный, находили новое занятие в отраслях и с более низким уровнем производительности, и с более низкими темпами ее роста.
3.6. Заключение
В данном исследовании мы впервые рассматриваем влияние структурных сдвигов на рост агрегированной производительности труда в российской экономике с учетом неформального сегмента и с применением широкого набора аналитических методов. В работе представлены три основных результата.
Во-первых, мы показываем дифференцированный вклад разных отраслей/секторов в прирост агрегированной производительности за рассматриваемый период (2005–2012 гг.). Основными драйверами роста были отрасли, связанные с производством неторгуемых товаров (строительство) и рыночных услуг (розничная торговля, телекоммуникации, финансовые услуги), а также с добычей полезных ископаемых. На них в целом приходится около 80 % всего роста. Таким образом, можно сделать вывод, что рост производительности определялся развитием не обрабатывающей промышленности, как утверждают сторонники структуралистского подхода (см., например: [Roncolato, Kucera, 2014]), а рыночных услуг.
Во-вторых, наша работа подтверждает вывод, сделанный в статье [Vries et al., 2012], что учет неформальности меняет оценку эффекта реаллокации. Неформальность усиливает неоднородность экономики, и увеличение ее доли означает рост менее производительной занятости. В результате труд как фактор производства используется менее эффективно. Мы анализируем природу этого эффекта, разлагая его на составляющие – на эффект Денисона (предполагающий переток работников между отраслями с разными уровнями производительности) и эффект Баумоля (переток работников между отраслями с разными темпами роста производительности). Альтернативные методы декомпозиции согласованно показывают, что влияние учета неформального сектора на эффект реаллокации в большей мере обусловлено усилением межотраслевой неоднородности уровней производительности (эффект Денисона).
В-третьих, реаллокацию можно представить как следствие изменения относительных цен и долей занятости [Diewert, 2015]. Этот подход позволяет разрешить следующий парадокс. С одной стороны, виды деятельности, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой природных ресурсов, капиталоемкие и не генерируют значительного количества рабочих мест. С другой стороны, как показывают методы TRAD, CSLS и GEAD[58], в российской экономике именно расширенный добывающий комплекс обеспечивает большую долю вклада реаллокации. Согласно подходу Диверта, значительный вклад РДК в реаллокационную компоненту производительности объясняется ростом относительных цен на его продукцию, а собственно приток в него работников играет более скромную роль. Мы утверждаем, что неформальный сектор, а тем более его расширение, тормозит рост агрегированной производительности труда и лишает экономику структурного бонуса.
Во многих развивающихся странах экспансия неформальности в значительной мере вызвана отсутствием необходимого человеческого капитала у работников. В России основной проблемой выступает, по-видимому, не столько структура предложения труда, сколько ограниченный спрос на труд в формальном секторе. Он активно подавляется самим государством через избыточное и непредсказуемое регулирование с очень тяжелым для компаний административно-надзорным бременем. Формальная занятость сокращается, экономическая активность вытесняется «в тень», куда вход намного проще и где издержки регулирования значительно ниже, но и производительность труда также крайне низкая. В итоге даже высококвалифицированный работник оказывается не востребован в формальном сегменте и уходит в неформальный. В результате его человеческий капитал используется неэффективно и быстро амортизируется.
Казалось бы, вывод о том, что неформальность тормозит экономический рост, для экономической политики означает призыв к прямой борьбе с этим явлением за счет ужесточения различных мер государственного контроля. Однако природа и функции неформальности слишком сложны и неоднозначны, чтобы применять просто репрессивные меры по отношению к неформальному сектору в качестве основного лекарства. Не случайно это явление в разных странах, несмотря на значительные усилия правительств, не исчезает, а, наоборот, имеет тенденцию к расширению. На наш взгляд, основные факторы деформализации российской экономики связаны с неблагоприятным бизнес-климатом, не способствующим экономической активности «на свету». Это системная проблема, имеющая глубокие политико-экономические корни. Ее решение – в коренном переосмыслении роли российского государства в экономике.
Литература
Бессонов В.А. О динамике совокупной факторной производительности в российской переходной экономике // Экономический журнал ВШЭ. 2004. Т. 8. № 4. С. 542–587.
Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической динамики переходного периода. М.: Институт экономики переходного периода, 2005.
Воскобойников И.Б., Гимпельсон В.Е. Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике: Препринт НИУ ВШЭ. № WP3/2015/04. Серия: Проблемы рынка труда. 2015. ()
Гимпельсон В.Е., Жихарева О.Б., Капелюшников Р.И. Движение рабочих мест: что говорит российская статистика // Вопросы экономики. 2014. № 7. С. 93–126.
Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Неформальная занятость: определения, измерения, межстрановая вариация // В тени регулирования. Неформальность на российском рынке труда / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников (ред.). М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. С. 78–115.
Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. «Поляризация» или «улучшение»? Эволюция структуры рабочих мест в России в 2000-е годы: Препринт НИУ ВШЭ. № WP3/01/2015. 2015. Серия: Проблемы рынка труда. ()
Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса // Вопросы экономики. 2004. № 10. С. 4–31.
Капелюшников Р.И. Занятость в домашних хозяйствах населения // Нестандартная занятость в российской экономике / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников (ред.). М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 224–280.
Росстат. Методологические положения по статистике. Вып. 2. М.: Росстат, 1998.
Росстат. Национальные счета России в 2002–2009 годах. М.: Росстат, 2010.
Росстат. Национальные счета России в 2005–2012 годах. М.: ФСГС, 2013.
Росстат. Национальные счета России в 2006–2013 годах. М.: ФСГС, 2014.
Balk B.M. Dissecting Aggregate Output and Labour Productivity Change // Journal of Productivity Analysis. 2014. Vol. 42. № 1. P. 35–43.
Bartelsman E.J., Haltiwanger J.C., Scarpetta S. Cross-country Differences in Productivity: The Role of Allocation and Selection // American Economic Review. 2013. Vol. 103. № 1. Р. 305–334.
Baumol W.J. Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis // American Economic Review. 1967. Vol. 57. № 3. Р. 415–426.
Bosworth B.P., Triplett J.E. The Early 21st Century U.S. Productivity Expansion Is Still in Services // International Productivity Monitor. 2007. № 14. Р. 3–19.
Brown D.J., Earle J.S. Understanding the Contributions of Reallocation to Productivity Growth: Lessons from a Comparative Firm-level Analysis: IZA Discussion Paper. № 3683. (September). 2008. ()
Campos N.F., Coricelli F. Growth in Transition: What We Know, What We Don’t, and What We Should // Journal of Economic Literature. 2002. Vol. 40. № 3. Р. 793–836.
De Avillez R. Sectoral Contributions to Labour Productivity Growth in Canada: Does the Choice of Decomposition Formula Matter? // International Productivity Monitor. 2012. Vol. 24. Fall. Р. 97–117.
Denison Ed.F. The Sources of Economic Growth in the United States and the alternatives Before Us // Supplementary Paper. № 13. Published by the Committee for Economic Development. New York: Committee for Economic Development, 1962.
Denison Ed.F. Why Growth Rates Differ. Postwar Experience in Nine Western Countries. Washington, DC: The Brookings Institution, 1967.
DiewertE.W. Decompositions of Productivity Growth into Sectoral Effects // Journal of Productivity Analysis. 2015. Vol. 43. № 3. Р. 367–387.
Dumagan J.C. A Generalized Exactly Additive Decomposition of Aggregate Labor Productivity Growth // Review of Income and Wealth. 2013. Vol. 59. № 1. Р. 157–168.
FabricantS. Employment in Manufacturing, 1899–1939: NBER chapters. NBER, 1942.
Gimpelson V.E., Kapeliushnikov R.I. Labour Market Adjustment: Is Russia Different? // M. Alexeev, Sh. Weber (eds.). The Oxford Handbook of the Russian Economy. Oxford University Press, 2013. Р. 693–724.
Gimpelson V.E., Kapeliushnikov R.I. Between Light and Shadow: Informality in the Russian Labour Market // S. Oxenstierna (ed.). The Challenges for Russia’s Politicized Economic System. Routledge, 2015.
Harris J.R., Todaro M.P. Migration, Unemployment and Development: A Two-sector Analysis // American Economic Review. 1970. Vol. 60. № 1. Р. 126–142.
Jorgenson D.W., Timmer M.P. Structural Change in Advanced Nations: A New Set of Stylized Facts // Scandinavian Journal of Economics. 2011. Vol. 113. № 1. Р. 1–29.
Kuboniwa M., Tabata Sh., Ustinova N. How Large Is the Oil and Gas Sector of Russia?: A Research Report // Eurasian Geography and Economics. 2005. Vol. 46. № 1. Р. 68–76.
Landefeld S.J., Parker R.P. BEA’s Chain Indexes, Time Series, and Measures of Long Term Economic Growth // Survey of Current Business.1997. Vol. 77. May. Р. 58–68.
La Porta R., Shleifer A. Informality and Development // Journal of Economic Perspectives. 2014. Vol. 28. № 3. Р. 109–126.
Lehmann H. Informal Employment in Russia: Incidence, Determinants and Labour Market Segmentation // Comparative Economic Studies. 2015. Vol. 57. March. Р. 1–30.
Lewis W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor // The Manchester School of Economic and Social Studies. 1954. Vol. 22. Р. 139–191.
McMillan M., Rodrik D. Globalization, Structural Change, and Productivity Growth // M. Bacchetta, M. Jansen (eds.). Making Globalization Socially Sustainable. Geneva: ILO; WTO, 2011. Р. 49–84. (/-dgreports/—dcomm/–publ/documents/publication/wcms_144904.pdf)
Nordhaus W.D. Productivity Growth and the New Economy // Brookings Papers on Economic Activity. 2002. Vol. 33. № 2. Р. 211–244.
OECD. Measuring the Non-observed Economy: A Handbook. Paris: OECD, 2002.
OECD. Reviews of Labour Market and Social Policies: Russian Federation 2011. Paris: OECD, 2011.
Pasinetti L.L. Structural Change and Economic Growth. A Theoretical Essay on the Dynamics of the Wealth of Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Perry G.E., Maloney W.F., Arias O.S., Fajnzylber P., Mason A.D., Saavedra-Chanduvi J. Informality: Exit and Exclusion. Washington, DC: The World Bank, 2007.
Reinsdorf M. Measuring Industry Contributions to Labour Productivity Change: A New Formula in a Chained Fisher Index Framework // International Productivity Monitor. 2015. № 28. Р. 3–26.
Roncolato L., Kucera D. Structural Drivers of Productivity and Employment Growth: A Decomposition Analysis for 81 Countries // Cambridge Journal of Economics. 2014. Vol. 38. № 2. Р. 399–424.
Stiroh K.J. Information Technology and the U.S. Productivity Revival: What Do the Industry Data Say? // American Economic Review. 2002.Vol. 92. № 5. Р. 1559–1576.
System of National Accounts. Brussels, New York, Paris, Washington, 1993. (/ unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf)
System of National Accounts. Brussels, New York, Paris, Washington, 2008. (/ unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf)
Tang J., Wang W. Sources of Aggregate Labour Productivity Growth in Canada and the United States // The Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne d’Economique. 2004. Vol. 37. № 2. Р. 421–444.
TimmerM.P., Szirmai A. Productivity Growth in Asian Manufacturing: The Structural Bonus Hypothesis Examined // Structural Change and Economic Dynamics. 2000. Vol. 11. № 4. Р. 371–392.
Timmer M.P., Inklaar R., O’Mahony M., van Ark B. Economic Growth in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Timmer M.P., Voskoboynikov I.B. Is Mining Fuelling Longrun Growth in Russia? Industry Productivity Growth Trends Since 1995 // Review of Income and Wealth. 2014. Vol. 60 (Supplement Iss. S2). Р. S398-S422.
Timmer M.P., Vries G. de. Structural Change and Growth Accelerations in Asia and Latin America: A New Sectoral Data Set // Cliometrica. 2009. Vol. 3. № 2. Р. 165–190.
Timmer M.P., Vries G. de, Vries K de. Patterns of Structural Change in Developing Countries // Journal of Development Studies. 2015. (Forthcoming.)
Voskoboynikov I.B. New Measures of Output, Labor and Capital in Industries of the Russian Economy. GGDC Research Memorandum, № GD-123. 2012. (/ ggdc/index)
Voskoboynikov I.B. Economic Growth in Russia: A Comparative Perspective. Theses in Economics and Business. Groningen: University of Groningen, 2014.
Voskoboynikov I.B., Solanko L. When High Growth Is Not Enough: Rethinking Russia’s Precrisis Economic Performance // BOFIT Policy Brief. 2014. № 6.
Vries G.J. de, Erumban A.A., Timmer M.P., Voskoboynikov I.B., Wu H.X. Deconstructing the BRICs: Structural Transformation and Aggregate Productivity Growth // Journal of Comparative Economics. 2012. Vol. 40. № 2. Р. 211–227.
World Bank. Russian Federation: From Transition to Development. Washington, DC: The World Bank, 2005. March.
World Bank. Unleashing Prosperity: Productivity Growth in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, DC: EBRD and the World Bank, 2008.
Глава 4 Потоки на рынке труда
4.1. Введение
Все взрослые граждане распределяются между тремя состояниями: они могут быть занятыми в экономике, безработными или пребывать вне рабочей силы и рынка труда (быть экономически неактивными). Принадлежность к тому или иному состоянию не является раз и навсегда закрепленной, мобильность между ними представляется нормой. Направленность и интенсивность таких перемещений непосредственно сказывается на значениях ключевых показателей рынка труда, например, таких как коэффициенты занятости и безработицы. В современном мире индивиды редко надолго застаиваются в одном состоянии, периодически меняют или теряют работу, уходят с рынка труда и вновь возвращаются на него. Перемещаясь между состояниями – статусами на рынке труда или внутри пула занятых, они вливаются в определенные потоки. Анализ информации о параметрах потоков открывает новые возможности и в понимании более общих механизмов функционирования рынков труда, и в объяснении движения показателей занятости и безработицы (см., например: [Blanchard, Diamond, 1990; Petrangolo, Pissarides, 2008; Elsby, Smith, Wadsworth, 2011]).
Данная глава анализирует российский рынок труда через призму потоков. Что нового нам может предложить такой подход?
Как было показано в целом ряде исследований, российский рынок труда выработал свою и не совсем стандартную модель адаптации к шокам (см., например: [Заработная плата в России, 2007, гл. 1; OECD, 2011]). Ее суть заключается в том, что приспособление к шокам спроса происходит в основном через изменение ценовых, а не количественных параметров. Такой режим адаптации поддерживается всей системой институтов рынка труда, включая низкие уровни минимальной заработной платы и пособий по безработице, механизмы формирования заработной платы и жесткую защиту занятости. Однако эти же институты не являются нейтральными по отношению к движению рабочей силы, поскольку могут стимулировать одни потоки и тормозить другие, влиять как на выбор направлений перемещений, так и на их интенсивность, а также и на продолжительность пребывания индивидов в том или ином состоянии.
Взгляд на поведение российского рынка труда с использованием данных о потоках позволяет поднять целый ряд новых вопросов, имеющих и исследовательский, и практический интерес. Насколько эти потоки интенсивны? Куда направлены и кого затрагивают? Как влияют на динамику показателей занятости и безработицы? И это лишь начало длинного списка вопросов.
Ответы на вопросы о том, каковы природа, интенсивность и направленность основных потоков, имеют значение для политики на рынке труда. Во-первых, они характеризуют общие механизмы адаптации, действующие на рынке труда, и влияют на параметры и динамику занятости и безработицы. Во-вторых, характер соединения работников с рабочими местами и связанные с этим реаллокационные процессы могут влиять на экономический рост и производительность (см. Главу 3).
Цель данной главы – представить специфику функционирования российского рынка труда через призму потоков рабочей силы в 2000–2012 гг. Эта «призма» должна показать, кто, куда и как движется. Поскольку обсуждаемый период отличался быстрым снижением безработицы, одной из задач является анализ вклада потоков работников в ее динамику. Уровень безработицы снизился с 10,6 % в 2000 г. до 5,5 % в 2012 г., а уровень занятости в то же время вырос с 58,5 до 64,9 % [Труд и занятость, 2013, c. 30]. Такие изменения в условиях относительно стабильной численности населения предполагают интенсивное межстатусное движение.
Анализ потоков за предыдущий период (90-е годы ХХ в.) был проведен в ряде работ, но затем эти вопросы в литературе практически не рассматривались[59]. В нулевые годы основные количественные параметры функционирования рынка труда сильно изменились, хотя качественные и институциональные изменения были несущественными.
Опираясь на панельные данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2000–2012 гг., мы показываем, что:
1) мобильность между основными состояниями на российском рынке труда значительна, а состояние неактивности играет существенную роль в адаптационных процессах на рынке труда;
2) работники бюджетного сектора отличаются слабой подвижностью по сравнению с работниками рыночного сектора;
3) неформально занятые и экономически неактивные имеют более высокие шансы попадания в безработицу (чем формально занятые); это особенно заметно у мужчин;
4) безработные мужчины с большей вероятностью получают работу в частном формальном секторе, а безработные женщины – покидают рынок труда;
5) динамика безработицы практически полностью объясняется интенсивностью входных потоков, а изменения в оттоке практически на нее не влияют;
6) наблюдаемые интенсивность и направленность потоков хорошо согласуются с действующей в России институциональной конфигурацией (российской моделью) рынка труда.
Особенности мобильности в рамках российской модели рынка труда описаны в разделе 4.2. В разделе 4.3 мы кратко представляем данные и используемую технологию работы с ними. В разделе 4.4 обсуждаются направленность, интенсивность и структура основных потоков на рынке труда. В разделе 4.5 анализируются индексы мобильности. В разделе 4.6 приводятся оценки, полученные на основе динамической мультиномиальной логит-модели (Д-МНЛ). Раздел 4.7 представляет результаты декомпозиции потоков рабочей силы, соединяющих безработицу с иными состояниями. Заключение подводит итоги и формулирует выводы для экономической политики.
4.2. Российская модель и следствия для мобильности
Анализ потоков не имеет смысла вне более общего контекста функционирования рынка труда. В постсоветский период в России сложилась и закрепилась особая модель. Ее основным отличием признан неконвенциональный режим приспособления к шокам – адаптация происходит, как правило, через изменение ценовых, а не количественных параметров [OECD, 2011; The Oxford Handbook of Russian Economy, 2013, ch. 29]. При значительном падении ВВП мы наблюдаем слабый и очень инерционный отклик агрегированных показателей занятости и безработицы, но быструю и сильную реакцию со стороны цены труда. Подобная картина наблюдалась во время всех кризисных эпизодов (1992, 1994, 1998, 2008/09, 2014/15), но так было – хотя и с обратным знаком – в период быстрого экономического роста в нулевые годы.
Так, за 2000–2008 гг. ВВП вырос на 66 %, а общая численность занятых всего лишь на 6,2 % (численность занятых в организациях даже сократилась на 3,5 %). При этом безработица снизилась с 10,6 до 6,2 %. Сильно изменилась и отраслевая структура занятости. В кризис 2008–2009 гг. ВВП сократился на 8,5 %, занятость опять изменилась слабо, а безработица ненадолго подросла до 8,3 %. Однако затем безработица очень быстро стала отыгрывать назад и вновь сократилась до 5,5 %, продолжились и сдвиги в структуре занятости. Реальная зарплата при этом (в 2009 г.) потеряла 3,5 % [Труд и занятость, 2013, с. 32]. Таким образом, приспособление зарплаты во все шоковые эпизоды устойчиво доминирует над приспособлением численности занятых.
Что стоит за такой реакцией? Как уже неоднократно отмечалось, подобный отклик предполагает определенную конфигурацию институтов рынка труда. Одни институты (законодательство о защите занятости и используемые при этом административные процедуры) подтормаживают количественные колебания в численности занятых, а другие (минимальная зарплата, пособия по безработице, «двухслойное» строение зарплаты) дают возможность трудовым издержкам свободно подстраиваться как вверх, так и вниз. Но эти же институты могут влиять и на мобильность рабочей силы. Так, российские институты, связанные с формированием оплаты труда, увеличивают неравенство в заработках, в частности за счет вариации в их переменной составляющей, но тем самым они провоцируют дополнительные наймы и увольнения. Низкие пособия должны дестимулировать вход в безработицу и стимулировать скорейший выход из нее. Жесткость правил, регулирующих трудовые отношения в формальном секторе, стимулирует экспансию неформального сектора, в котором преобладают краткосрочные трудовые отношения, т. е. интенсифицируются перемещения разного рода и в разных направлениях. К тому же, демпфирующее влияние на потоки со стороны законодательства об увольнениях отчасти компенсируется неполным и выборочным инфорсментом формальных правил.
В итоге мы ожидаем, что сформировавшаяся модель адаптации рынка труда проявляется и в конфигурации потоков рабочей силы. Можно предположить, что потоки должны быть интенсивными, но при этом несимметричными, стараясь обходить безработицу стороной. Но имеют ли такие ожидания эмпирическое подтверждение?
4.3. Эмпирические данные и логика анализа
В качестве основного источника информации мы используем данные РМЭЗ НИУ ВШЭ (далее просто РМЭЗ)[60]. Благодаря их панельной природе мы можем проследить изменения в положении индивидов во времени и оценить интенсивность и состав потоков. К сожалению, годовой интервал в наблюдениях не позволяет учесть переходы, имевшие место в период времени между обследованиями. Лучшим решением было бы использование месячных или квартальных данных, но таковых, к сожалению, не существует. Дополнительно на потенциальное занижение общих показателей мобильности может влиять естественное истощение панели, если выбывающие из нее индивиды являются более мобильными.
Мы ограничиваем наш анализ периодом 2000–2012 гг., хотя РМЭЗ доступен и за более ранние годы. Однако в 1997 г. и 1999 г. данные не собирались, а двухлетний перерыв между обследованиями для наших целей чрезмерен и чреват серьезными искажениями оценок мобильности. Мы рассматриваем индивидов в возрасте 20–72 лет, поскольку вне этого интервала уровни экономической активности с обеих сторон очень малы. В итоге мы имеем выборку, включающую 136268 наблюдений.
Для анализа мы делим всех индивидов в нашей выборке по статусу на рынке труда на три группы (занятые {E}, безработные {U} и неактивные {IN}), стараясь при этом следовать (насколько это возможно с учетом имеющихся данных) стандартным правилам такого рода классификации. К занятым относятся индивиды, которые удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий: они 1) работали в предшествующем опросу месяце; 2) находились в любом оплачиваемом отпуске, кроме декретного или по уходу за ребенком до трех лет; 3) находились в неоплачиваемом отпуске; 4) занимались случайной или нерегулярной оплачиваемой работой в течение последних 30 дней. К безработным отнесены те, кто не имел работы, ее искал и был готов приступить. Соответственно, все остальные индивиды классифицируются как экономически неактивные, т. е. не входят в состав рабочей силы и находятся вне рынка труда.
Кроме того, в разделе 4.4 и разделе 4.6 мы дополнительно делим всех занятых на три группы по типу занятости. К бюджетному сектору {PB} мы относим индивидов, которые: 1) работают по найму на предприятиях и в организациях (юридических лицах), единственным собственником которых является государство; 2) относятся к таким видам деятельности, как здравоохранение, образование, органы управления, наука и культура. Если индивиды трудятся на предприятиях и в организациях, но условия (1) и (2) одновременно не соблюдаются, то мы считаем их работниками корпоративного коммерческого сектора {PR}. Наконец, все, чья трудовая деятельность не связана трудовыми контрактами с работодателями – юридическими лицами, считаются занятыми в некорпоративном секторе {IF}. Сюда относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также работающие по найму у них и у отдельных граждан. Эта последняя группа примерно соответствует тому, что можно назвать неформальным сектором в производственном определении[61].
Дескриптивная статистика, которая дает представление о структуре данных и распределении основных переменных, представлена в табл. П4.1 Приложения. В анализируемой выборке в среднем за весь период занятые составляли около 65 % всего населения в соответствующем возрасте, из которых 2/3 были заняты в небюджетном секторе. Оставшаяся треть делилась примерно в равной пропорции между бюджетным и некорпоративным секторами. Что касается демографической структуры данных, то женщины преобладали (они составляли около 57 %), а средний возраст индивидов составил 42 года. Почти половина респондентов (в среднем 44,5 %) имели третичное (высшее или среднее специальное) образование, а 38 % – вторичное. Каждый третий проживал в региональных столицах, еще треть – в малых населенных пунктах (ПГТ, село и т. д.), и лишь 11,4 % в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем 28,1 % являются пенсионерами и 6,1 % – студентами. Все названные параметры близки к соответствующим показателям из официальной статистики.
Наш дальнейший анализ потоков на рынке труда использует несколько методологических подходов. В сумме они позволяют получить оценки мобильности и ее доминирующих направлений, сравнить мобильность в России с мобильностью в странах Европы, оценить вероятности межстатусных перемещений и вклады разных потоков в динамику безработицы.
Стандартные вероятности переходов (pij/pi.) из состояния i в состояние j (i→j), равные численности перешедших, отнесенной к численности в исходном состоянии, просты для интерпретации, но не учитывают различия в численности индивидов между конечными состояниями, т. е. используют разные знаменатели. В итоге большее значение коэффициента может достигаться при незначительной абсолютной численности самого потока. Это создает ложное впечатление сильной динамики, хотя затрагивает лишь малое число индивидов. Абсолютные величины потоков, соотнесенные с единым знаменателем – общей численностью населения, отражают долю вовлеченных в данный поток в общей численности населения. Это облегчает сопоставления, но ничего не говорит о том, какова вероятность для индивидов перейти из состояния i в j.
Имея матрицы переходов, мы можем рассчитать индексы мобильности, впервые предложенные А. Шорроксом [Shorrocks, 1978]. Они дают интегральную оценку гибкости рынка труда. В этом упражнении мы следуем за работой М. Вард-Вармедингер и С. Мачиарелли [Ward-Warmedinger, Macchiarelli, 2013], в которой исследуются потоки в странах ЕС. В качестве количественных критериев интенсивности мобильности мы можем использовать аналогичные показатели по другим странам. Они, как правило, выше в странах с более динамичным рынком труда. Однако такие индексы не учитывают смену работы без выхода из состояния занятости и тем самым занижают оценки общей мобильности.
Далее мы оцениваем динамическую мультиномиальную логит-модель (Д-МНЛ), в которой в качестве регрессоров наряду с наблюдаемыми социодемографическими переменными используются лагированные (со сдвигом в один год) дамми для статусов на рынке труда. С ее помощью мы ищем ответ на вопрос об устойчивости наблюдаемых состояний и наличии влияния предшествующего состояния. Д-МНЛ-модель исследуется нами отдельно для мужчин и для женщин, поскольку мы ожидаем разное поведение на рынке труда в зависимости от пола респондента. На основе полученных коэффициентов симулируются вероятности выбора того или иного статуса при заданной характеристике и фиксировании всех прочих. Ограничением данного подхода является неслучайность начального состояния в нашей панели и наличие ненаблюдаемых характеристик, потенциально влияющих на выбор статуса.
Почти двукратное снижение безработицы за рассматриваемый в статье период означает существенное изменение объемных параметров либо входа в нее, либо выхода из нее, либо и того и другого. Для анализа вклада входящих и исходящих потоков по разным направлениям мы используем соответствующие методы декомпозиции, предложенные Б. Пет-ронголо и А. Писсаридесом [Petrongolo, Pissarides, 2008].
Более подробно используемая методология анализа приводится в соответствующих разделах данной главы.
4.4. Потоки
Агрегированные потоки. Рисунки П4-1 и П4-2 представляют усредненные ежегодные потоки на российском рынке труда за 2000–2012 гг. в двух версиях: как вероятности перехода из состояния i в состояние j (в процентах от величины запаса в статусе исхода) и как доли (в процентах) от всего населения (в анализируемом возрасте), где i,j = {E,U,IN} (подробнее см. раздел 4.3).
Можно сразу отметить высокую стабильность пула занятых и значительный динамизм пула безработных. Начнем с занятых. В среднем около 90 % из них сохраняли свой статус на рынке труда между двумя последовательными обследованиями, хотя многие при этом меняли работу. Те же, кто выходили из этого пула, распределялись между безработными и неактивными в примерном соотношении 1: 3. Другими словами, отток из занятости в неактивность существенно преобладал над оттоком в безработицу. Вообще из всех шести потоков, связывающих между собой основные статусы на рынке труда, этот поток по величине оказывается самым значительным: на него приходится около 5,2 % всего населения в рассматриваемом возрасте (рис. П4-2). Отдавая в незанятость всего около 6,8 % населения (5,2 % в неактивность плюс 1,6 % в безработицу), пул занятых примерно столько же оттуда получал обратно. Поток из безработицы составлял около 2,1 % населения, а из неактивного населения – примерно 4,7 %. Таким образом, поддерживалось позитивное сальдо обмена занятости с безработицей, но негативное – с неактивностью.
Динамизм пула безработных объясняется интенсивным замещением его состава. Лишь менее 20 % безработных задерживались в этом состоянии на срок более года. Каждый второй (50,9 %) находил себе работу в течение года, а каждый третий (30,2 %) покидал рынок труда. Однако при пересчете на доли всего населения эти показатели не поражают воображения: ежегодно из безработицы в занятость перемещалось около 2,1 % населения и в неактивность – около 1,2 %. Пополнение же самого пула безработных шло на 60 % за счет потерявших занятость и на 40 % – за счет неактивных, выходящих на рынок в поисках работы.
Состояние экономической неактивности воспроизводится в 80 % случаев в течение годового цикла. Однако пул неактивных состоит из двух очень разных групп населения: с одной стороны, это пенсионеры и домохозяйки, уже полностью и навсегда ушедшие с рынка труда. С другой, это студенты и учащиеся, только выходящие на рынок (или постоянно мигрирующие между состояниями занятости и незанятости), а также лица, временно пребывающие вне занятости (например, матери, воспитывающие маленьких детей, или «молодые» и вполне работоспособные пенсионеры). Их стратегии поведения заметно различаются. Первая группа с постоянным статусом экономически неактивных придает «стабильность» этому пулу, а вторая – «динамизм». Интересно, что основным каналом взаимодействия пула неактивных с рынком труда является его взаимообмен с пулом занятых. Почти 16 % неактивных находят работу в течение года и лишь менее 4 % становятся безработными. Эти потоки охватывают 4,7 и 1,1 % всего населения. Пул неактивных очень мало отдает в безработицу, но и мало из нее получает (примерно 1,2 % населения)[62].
В целом же адаптация рынка труда в рассматриваемом периоде – как и в 1990-е годы – шла преимущественно через обмен между состояниями занятости и неактивности, слабо затрагивая безработицу. Такой режим мобильности ранее отмечала К. Сабирьянова, анализировавшая потоки на российском рынке труда в середине 1990-х годов [Сабирьянова, 1998]. Основное изменение, произошедшее в нулевые годы, касается дальнейшего усиления адаптационной роли неактивности в адаптации рынка труда. Возросли (по сравнению с серединой 1990-х) вероятности перехода как из занятых в неактивное население, так и в обратном направлении, а вероятность остаться неактивным через год, наоборот, снизилась.
Мы можем сопоставить полученные нами значения годовых потоков с теми, что наблюдались в Великобритании примерно в то же время (1996–2010 гг.; см.: [Gomes, 2012, fig. 1]. Великобритания в качестве страны для сравнения удобна тем, что она отличается крайне либеральным регулированием и, как следствие, динамичным рынком труда. Большинство значений очень близки, но два показателя выделяются. В России суммарные потоки между занятостью и неактивностью были в относительном выражении примерно на 40 % больше, чем в Великобритании. Именно за их счет относительный объем «перекачки» рабочей силы в России оказывается на 4,4 п.п. больше. Интенсивный обмен между этими состояниями хорошо вписывается в картину устойчиво низкой безработицы в экономике с низкими пособиями, практическим отсутствием массовых увольнений и растущей неформальностью[63]. Жесткие условия доступа к пособиям (включая низкую величину последних) стимулируют незанятых индивидов браться за любую доступную работу как можно скорее и тем самым сдерживают уровень безработицы. Состояние безработицы (как поиска работы при отсутствии дохода) для индивида оказывается малодоступным по сравнению с ситуацией поиска при наличии какого-то – пусть небольшого и неустойчивого – заработка. Отсюда интенсивное перемещение между занятостью и неактивностью, минуя при этом безработицу как станцию поиска и «пересадки», кажется рациональной стратегией. Другое следствие того же институционального устройства – это большое число краткосрочных (и, по-видимому, неудачных) соединений (matches) работников с рабочими местами, которые длятся недолго, завершаются увольнениями и новым – очередным – поиском работы. Это также увеличивает интенсивность потоков, включая и потоки внутри занятости (job-to-job), создающие холостой оборот (churning).
Описанная выше картина построена на усредненных (за 12 лет) значениях потоков. Однако экономическая ситуация в эти годы не отличалась постоянством. В 2000 г. еще в полной мере ощущались последствия кризиса 1998 г., а в 2008–2009 гг. случился новый сильный макрошок. Между этими эпизодами имел место период восстановления и быстрого экономического роста, затем наступило новое восстановление (2010–2011 гг.) с постепенным сползанием в стагнацию. Реагировали ли потоки на рынке труда на такие эпизоды, и наблюдается ли какая-либо цикличность в их динамике? Для ответа на этот вопрос мы дезагрегируем общую картину по годам.
На рис. П4-3 представлены потоки за все пары лет в период с 2000 г. по 2012 г., выраженные как вероятности перехода и в процентах от населения. Верхние панели рисунка показывают динамику уровней занятости, безработицы и неактивности на данных ОНПЗ Росстата и РМЭЗ. Этот период не полностью совпадает с экономическим циклом, но охватывает его значительную часть. (Если цикл можно датировать периодом с 1998 г. по 2008 г., то мы с помощью наших данных в ежегодном режиме наблюдаем 2000–2012 гг.).
Мы могли бы ожидать увидеть явно выраженную цикличность во входящих и исходящих потоках для всех состояний; она статистически значима, хотя ее абсолютная амплитуда не всегда велика. Выраженные циклические колебания «смазываются» скачками в значениях некоторых потоков, относящихся к 2005 г. Стабильность занятости (как сохранение этого состояния от года к году) последовательно растет до кризиса 2008 г., после чего начинает снижаться, стабильность пребывания в пулах безработных и неактивных меняется обратным образом. Ежегодный валовый переток из занятости в неактивность снизился примерно с 5,8 % (от всего населения) на 1 п.п., но затем снова возрос в кризис. Обратный [64] переток рос с 4,5 до 5–5,5 % до кризиса и затем вернулся к уровню в 4 %. Разница между ними (т. е. чистый – не валовый – поток) составляет 1,5 % от всего населения и показывает значительную абсорбционную реакцию неактивности на макрошок. Циклические изменения в других потоках также статистически значимы, но меньше по амплитуде и абсолютной величине чистых перетоков.
Все вышесказанное позволяет предположить, что динамизм и инерция на российском рынке труда благополучно сосуществуют. Действующие институты, по-видимому, успешно гасят возможные неожиданные ускорения, но не тормозят сами перетоки, которые идут с примерно постоянной скоростью.
Структура потоков: кто «едет» и куда? Каково демографическое наполнение этих потоков и как оно меняется во времени? Даже взаимонаправленные потоки могут сильно различаться по своему составу, не говоря уже о разнонаправленных. Например, индивиды, переходящие из занятости в безработицу, отличаются по своим индивидуальным характеристикам как от тех, кто движется обратным курсом, так и от всех остальных. Сначала мы рассмотрим усредненные (за период) показатели (см. табл. П4-2), а затем вкратце отметим их возможную динамику.
Как мы видели ранее, наиболее «полноводными» по объему являются взаимонаправ-ленные потоки между состояниями занятости и неактивности. В каждом из них женщины преобладают, составляя около двух третей от всего состава, что превышает их долю во всей выборке. Можно предложить три объяснения «женского лица» в этих перемещениях. Во-первых, женщины относительно позже (по сравнению с мужчинами) выходят на рынок труда и раньше уходят с него. Это означает, что часть мужчин может не попадать в выбранные возрастные рамки анализа, т. е. цензурироваться нашими данными. Во-вторых, из-за более высокой смертности в трудоспособном возрасте мужчины имеют более высокие шансы выпасть из выборки. Наконец, в-третьих, женщины в большей мере вовлечены в возвратные перемещения между этими состояниями. Это, в частности, объясняется рождением детей и связанным с этим временным прекращением трудовой деятельности.
Распределения индивидов по возрасту в противоположно направленных потоках не симметричны. Из занятости чаще уходят люди старшего возраста (в возрасте 50+) – таких 43 %, а приходят младшего и среднего возраста – по 37 % соответственно. Это понятно: обновление рабочей силы идет за счет притока молодежи извне рынка труда и оттока пожилых в неактивность. Конечно, в этом обмене участвуют все возрастные группы, но такое смещение очевидно. Распределения по образованию среди перемещающихся между состояниями занятости и экономической неактивности, если и не идентичны, то близки.
В структуре обмена между состояниями занятости и безработицы мужчины и женщины представлены примерно поровну. Распределение «перемещающихся» из занятости в безработицу слегка сдвинуто (относительно обратного потока) в пользу старших возрастов. Среди них 32 % лиц моложе 29 лет против 42 % в обратном потоке и 20 % старше 50 лет против 15 % соответственно. Эта небольшая асимметрия подчеркивает тот факт, что с возрастом находить работу людям становится сложнее.
Выше мы уже писали о том, что потоки, соединяющие неактивность и безработицу, в абсолютном выражении невелики. Занятые при потере работы чаще сразу уходят в неактивность, нежели делают это транзитом через безработицу. Это связано как с дестимулирующей величиной пособия (которая, напомним, на протяжении всего периода была очень мала по сравнению с замещаемой ею зарплатой), так и с дефицитом привлекательных вакансий для поиска из состояния безработицы. В этих потоках (как и в других, связанных с неактивностью) преобладают женщины. Поток в безработицу (из неактивности) моложе, чем идущий в обратном направлении. В первом случае лица моложе 30 лет составляют 44 %, а лица старше 50 лет – 19 %. В обратном потоке они составляют примерно по 30 % соответственно. Что же касается образования, то лица с более высоким образованием чуть больше представлены в потоке в безработицу, чем в обратном потоке из нее. Объяснение аналогично: с возрастом и с более низким образованием поиск привлекательной работы осложняется и удлиняется, а перспектива неактивности становится более приемлемой.
Такая структура потоков оставалась относительно стабильной на протяжении всего периода. Изменения, которые все же можно отметить, касаются, прежде всего, взаимообмена между занятостью и неактивностью. В потоке E→IN снижались доли мужчин, молодежи, лиц с образованием ниже среднего, но возрастала доля обладателей третичного образования. В обратном направлении (INWE) доля лиц без образования также снижалась. Во всех остальных потоках, затрагивающих безработицу, можно отметить одно главное изменение – тенденцию к увеличению доли лиц старше 50 лет.
Таблица П4-3 представляет результаты декомпозиции потоков по основным демографическим характеристикам.
Различия в интенсивности потоков у мужчин и женщин в той или иной мере проявляются во всех потоках (соединяющих разные состояния), но наиболее очевидны в потоках между занятостью и неактивностью. Так, у женщин интенсивность «движения» по этому маршруту составляла 5,8 % (E→IN) и 5,4 % (IN→E) от (женского) населения, а у мужчин 4,4 и 3,8 % соответственно. Мужчины с большей вероятностью сохраняют занятость (68 против 54 %), а женщины более стабильны в неактивности (29 против 17 %). Если выше мы указывали на особую адаптационную роль маршрута (E→IN), то для женщин этот вывод звучит сильнее, чем для мужчин, хотя он верен в обоих случаях.
Дифференциация по возрастным группам еще более выпукла. Движение между любыми состояниями в младшей группе (до 30 лет) идет особенно активно, потоки между занятостью и неактивностью максимальны: 6,3 % (E→IN) и 8,4 % в обратном направлении (IN→E). Молодые люди курсируют между этими состояниями в поиске привлекательной работы, разбавляя временной занятостью учебу, поиски себя, уход за детьми и пр. При этом итоговое сальдо перемещений оказывается в пользу занятости, поскольку с возрастом их интенсивность снижается, и индивид в конце концов находит ту работу, на которой готов задержаться на продолжительное время. В этом возрасте потоки между занятостью и безработицей также значительны: 2,5 % идут в безработицу и 4,3 % – в обратную сторону.
В старшей возрастной группе (50+) практически все движение приостанавливается, исключением являются переходы между занятостью и неактивностью. В направлении (E→IN) ежегодно перемещается примерно 6 % населения, а в обратном направлении лишь 3,3 %. Это соответствует постепенному выходу населения с возрастом из рабочей силы. При этом вероятность сохранить занятость снижается (до 37,8 %), а вероятность неактивно-сти возрастает (до 49,4 %). В среднем возрасте (30–50 лет) все показатели приближены к средним значениям, что не удивительно. Однако показатели перетоков между занятостью и неактивностью остаются значительными и составляют около 4 % от всего населения в этой возрастной группе в каждую сторону.
Декомпозиция по образованию также подчеркивает доминирование потоков между занятостью и неактивностью во всех образовательных группах. При этом максимальных значений они достигают в группе со средним образованием. Во всех образовательных группах отток из занятости (в неактивность) превалирует над притоком и тем самым обеспечивает негативное сальдо обмена.
Стабильность занятости (т. е. шансы сохранить ее на следующий год) является минимальной (относительно других образовательных групп) в группе с образованием ниже среднего, а стабильность неактивности здесь максимальна. Это подчеркивает усиливающуюся маргинальность работников с низким уровнем образования, проявляющуюся в их постепенном вытеснении с рынка труда.
Потоки и структура занятости. Предполагая, что очевидная неоднородность занятости может влиять на интенсивность соответствующих потоков, мы разделили всех занятых на три подтипа (см. раздел 4.3): занятые в бюджетном секторе, в небюджетном корпоративном секторе и в некорпоративном секторе, который представляет собой всех занятых вне предприятий и организаций. Напомним, что в первый подтип вошли занятые в организациях образования, здравоохранения, культуры и государственного управления, где единственным собственником является государство. Во второй попали работники всех прочих предприятий и организаций, являющихся зарегистрированными юридическими лицами. Наконец, третий составили те, кого можно назвать неформалами в широком смысле – самозанятые и предприниматели, не имеющие регистрации в форме юридических лиц, занятые по найму у таких предпринимателей или у граждан[65]. Мы ожидаем, что предлагаемое деление схватывает некоторые сущностные различия между этими подтипами в природе генерируемых ими рабочих мест. Нас здесь интересует то, как они взаимодействуют друг с другом и с другими статусами на рынке труда. Можно предположить, что параметры взаимодействия будут различаться, учитывая и разную природу рабочих мест, и различия в индивидуальных характеристиках типичных «обитателей» этих подтипов.
Однако различия между ними связаны не только с характеристиками составляющих их работников и рабочих мест, но и с особенностями функционирования регулирующих институтов. Это, прежде всего, касается законодательства о защите занятости, которое в России – по своей букве – отличается достаточной жесткостью. Однако его инфорсмент далеко не полон и варьирует от максимального уровня в бюджетном секторе до минимального в неформальном [Gimpelson, Kapeliushnikov, Lukianova, 2010]. Аналогичные соображения применимы к установлению минимальной заработной платы или функционированию профсоюзов. Хотя у нас нет возможности разделить эффекты регулирования, характеристик рабочих мест и работников с учетом возможного неслучайного отбора в подтипы занятости, эту взаимосвязь мы должны иметь в виду.
В таблице П4-4 представлены оценки потоков с указанием вероятностей i^j перехода, где i,j = {PB, PR, IF, U, IN} (т. е. в процентах к численности группы исхода). Если мы будем анализировать только потоки с вероятностями перехода 20 % и более, то таких у нас всего три. Это переходы из безработицы в небюджетный сектор (около 30 %) и в неактивность (около 30 %), а также из неформального в небюджетный сектор (24 %). Еще три перехода имеют вероятности от 10 до 20 %. Это потоки из неформального сектора в неактивность (19 %), из безработицы в неформальный сектор (около 16 %) и из бюджетного в небюджетный (11 %). Можно сказать, что фокусом притяжения является небюджетный сектор, принимающий индивидов из других подтипов занятости и из неактивности. Кроме того, выделяется активное движение в контуре «безработица – неактивность – неформальность».
Если на те же перемещения мы посмотрим через призму потоков, нормированных на общую численность населения, то картина несколько меняется. Мы сконцентрируемся здесь на наиболее значимых потоках, каждый из которых охватывает не менее 1 % населения. Небюджетный сектор остается центром притяжения: его связывает обмен со всеми другими состояниями. Интенсивность его ежегодного обмена с неформальным сектором и с неактивностью составляет более 2 % в каждом направлении. Он также достаточно активно обменивается с бюджетным сектором, оставаясь здесь нетто-реципиентом. При этом для бюджетного сектора – это единственная активная линия обмена. Другим фокусом взаимодействия является состояние неактивности, которое обменивается со всеми, кроме бюджетников.
Что можно здесь отметить, основываясь на данных о потоках? Два обстоятельства нам кажутся особенно важными. Во-первых, относительная изолированность бюджетного сектора, который крайне слабо «общается» через взаимообмен рабочей силой с другими секторами или состояниями. Учитывая это обстоятельство, а также устойчивые различия в заработной плате между сопоставимыми бюджетниками и небюджетниками в пользу вторых [Заработная плата в России, 2007, гл. 4; Шарунина, 2013], можно предположить выделение первых в своего рода автономный сегмент. Во-вторых, «активная» роль состояния неактивности, участвующего в интенсивном обмене с другими состояниями, и тем самым выполняющего важную роль в адаптации рынка труда в целом.
Однако, как уже отмечалось выше, стабильность пула занятых также не является абсолютно статичной. Оставаясь в нем, многие находятся в активном движении между рабочими местами, не выходя при этом в состояние незанятости. Сохраняя рабочее место, несмотря на общие и локальные кризисы, работники могут в то же время искать другую работу, подготавливая тем самым почву для своих будущих перемещений. Различные имеющиеся данные о смене работы говорят о том, что такие перемещения (Б^Б) идут очень интенсивно, постоянно видоизменяя структуру занятых по видам деятельности, профессиям и т. п.
4.5. Интенсивность потоков: индексы Шоррокса
Выше мы неоднократно говорили об интенсивности межстатусных перемещений на российском рынке труда, иллюстрируя этот тезис косвенными сопоставлениями. Для прямой оценки мы используем индексы мобильности M, впервые предложенные в работе А. Шоррокса [Shorrocks, 1978]. Они рассчитываются на основе матрицы Pij, элементы которой представляют собой вероятности перехода из статуса i в статус j. В случае c тремя статусами на рынке труда матрица P имеет размер 3 × 3, где сумма вероятностей по строкам равна единице. Формула расчета индекса мобильности Шоррокса имеет вид
где n – размерность матрицы, а trace (P) – это след матрицы P, т. е. сумма всех элементов на главной диагонали.
При достаточно высоком пособии по безработице поиском лучше заниматься и будучи безработным.
Индекс Шоррокса принимает значения от нуля до единицы, где M = 0 соответствует ситуации полной стабильности (все индивиды остаются в своих статусах между ежегодными наблюдениями, т. е. все диагональные элементы равны единице), а M = 1 представляет совершенную или полную мобильность (perfect mobility, по Шорроксу). Однако, как отмечает Шоррокс [Shorrocks, 1978], индекс ограничен сверху значением единица только при условии, что трансакционная матрица имеет максимальные элементы на главной диагонали (pii ≥ pij для всех i, j ). Если это условие не выполняется, то матрицу P необходимо преобразовать в , элементы которой удовлетворяли бы условию, μipii ≥ μjpij для всех i, j .В нашем случае это условие соблюдается.
Значения М для перемещений между тремя состояниями {E, U, IN} для всех пар лет с 2000 г. по 2012 г. для всей выборки и для отдельных демографических групп представлены в табл. П4-5. Мобильность в данном контексте ассоциируется с волатильностью статуса и с более высокой вероятностью межстатусных перемещений. Это означает, в частности, что безработица не является застойно-хронической, но и занятость также не гарантирована.
Как следует из табл. П4-5, максимальной межстатусной мобильностью отличаются представители самой младшей из рассматриваемых групп, причем с возрастом мобильность ожидаемо снижается. Самые низкие показатели – у лиц со средним образованием. Мобильность женщин и мужчин различается слабо. При этом динамика показателя по годам трудно поддается интерпретации, поскольку выглядит как совокупность случайных колебаний. Единственное, что можно отметить с определенной уверенностью, – это постепенное снижение мобильности в младшей возрастной группе и тенденцию к конвергенции индексов для разных групп. В принципе, это согласуется с «успокоением» рынка труда в целом, индикатором чего является и тенденция снижения безработицы. Если в Европе максимальная мобильность наблюдается в группе лиц с высшим образованием [Ward-Warmedinger, Mac-chiarelli, 2013], то в России – в группе со средним. По-видимому, лица с высшим образованием «мобильны» внутри занятости, а «границы» состояний чаще пересекают обладатели среднего образования.
Межстрановые сопоставления позволяют делать выводы о том, являются ли полученные значения высокими или низкими. Здесь мы ориентируемся на оценки по странам Европейского союза за период 1998–2008 гг., приведенные в работе [Ward-Warmedinger, Mac-chiarelli, 2013] и полученные по сопоставимой методологии. В обоих случаях (Россия и страны ЕС) показатели рассчитываются на основе матрицы переходов размерностью 3*3 и периоды, за которые оценивается мобильность, почти совпадают.
Российские значения индекса Шоррокса оказываются устойчиво выше, чем в европейских странах, и эти различия существенны. Например, среднее значение индекса для России за период 2000–2012 гг. равно 0,555 против 0,295 для стран ЦВЕ, входящих в ЕС, 0,272 для стран еврозоны, и оно максимально для Дании – 0,449 и Швеции – 0,44. В целом же Дания оказывается самой «мобильной» страной, Швеция идет вслед, а население стран Восточной Европы наименее склонно к мобильности такого рода.
4.6. Драйверы потоков
Матрицы мобильности и построенные на их основе индексы дают усредненное представление об интенсивности и направлении перемещений и не учитывают неоднородность индивидов. Например, в одну сторону могут двигаться более молодые и образованные, а в другую – пожилые и менее образованные. Поэтому закономерен вопрос: как влияют характеристики респондентов на выбор ими соответствующего статуса на рынке труда при условии равенства всех остальных характеристик? Ответ на него мы ищем с помощью динамической мультиномиальной логит-модели (Д-МНЛ) выбора статуса на рынке труда.
Модель выглядит следующим образом:
(4–1)
Наша зависимая переменная принимает три значения, соответствующие состояниям занятости, безработицы и неактивности {j = E,U,IN}. Регрессорами служат основные индивидуальные характеристики респондентов (X) (пол, возраст, образование, поселение, семейное положение, наличие детей), год проведения обследования, проживание в определенном федеральном округе, а также дихотомические переменные для статусов занятости в предшествующем периоде (вектор Zt-1).
Коэффициенты при лагированных переменных для статусов характеризуют зависимость от предыдущих состояний[66]. Поскольку коэффициенты Д-МНЛ-регрессии неудобны для интерпретации, далее мы симулируем условные вероятности выбора статуса для индивидов по всем выделенным группам. Для этого мы фиксируем определенные значения лагированнных статусов для всех индивидов и, используя полученные коэффициенты, рассчитываем вероятность каждого состояния в настоящем периоде для «усредненного» индивида, зафиксировав для него все прочие характеристики на уровне средних значений по выборке.
В таблице П4-6 представлены симулированные вероятности выбора индивидами статуса на рынке труда. Согласно ей, вероятность быть занятым для мужчин выше, чем для женщин, а вероятность неактивности – наоборот, выше для женщин. Что же касается вероятности безработицы, то она невелика для обоих полов, но чуть выше для мужчин. Риск безработицы снижается с возрастом (достигая 5,3 % в группе 20–29 лет), а риски неактивности выше в крайних возрастных группах. С ростом образования вероятность быть занятым растет, а риск неактивности снижается. Максимальный риск безработицы при этом наблюдается в группе со средним образованием. Влияние типа поселения выражено не очень явно, но вероятность неактивности оказывается выше в столицах и в сельской местности. Для пенсионеров и студентов возрастает риск экономической неактивности.
Особый интерес для нас представляют условные вероятности межстатусных переходов (вероятности перехода из состояния i в году t – 1 в соответствующее состояние j в году t). Они представлены по строкам табл. П4-7. Эти оценки подтверждают и уточняют выводы, которые были получены на основе безусловных матриц переходов (в разделе 4.4). Мы видим, что вероятности движения через состояние экономической неактивности высоки и существенно превышают вероятности движения через безработицу. С вероятностью в 62 % безработные мужчины и 49 % безработные женщины находят работу в течение года и с вероятностью в 17 и 36 % соответственно уходят с рынка труда. Что же касается неактивных, то они в 73 % (мужчины) и 47 % (женщины) случаев переходят в занятые и лишь с вероятностью меньше 5 % попадают в безработицу.
Результаты симуляционных расчетов условных вероятностей еще нагляднее демонстрируют и высокий общий уровень мобильности на российском рынке труда, и особую транзитивную роль состояния неактивности. Так, условная вероятность перехода из занятых в неактивные составляет 10 % по сравнению с 8 % в безусловных матрицах переходов, а из неактивности в занятые она равна 57 % по сравнению с 16 % в безусловном случае. При этом условные вероятности других переходов изменились незначительно.
В таблицах П4-4 и П4-9 представлены матрицы безусловных и условных (симулированных) вероятностей межстатусных переходов для мужчин и для женщин с дальнейшей дезагрегацией пула занятых на бюджетников, небюджетников и неформалов (симулированные вероятности представлены в табл. П4-8). В этом случае наша зависимая переменная в уравнении (4–1) принимает пять значений. Основной вывод из расчетов заключается в том, что подтверждается высокая степень стабильности низкой мобильности работников бюджетного сектора. Если мужчины покидают его, то ради работы в небюджетном. Женщины же, покидая его, часто совсем уходят с рынка труда. Сопоставление двух наборов оценок (безусловных и условных) показывает, что результаты качественно близки, но «сырые» вероятности недооценивают интенсивность мобильности. Оценки вероятности сохранения статуса снижаются – значения соответствующих диагональных элементов в таблицах при контроле наблюдаемых переменных оказываются ниже, хотя и не намного. Это происходит, прежде всего, за счет повышения вероятности ухода в неактивность у женщин и выхода из неактивности у мужчин. Например, у мужчин вероятность перехода из неактивности в небюджетный сектор увеличивается с 15 до 32 % и в некорпоративный сектор – с 10 до 17 % (вход на рынок труда). У женщин особо выделяется прирост вероятностей перехода в неактивность из небюджетного сектора с 13 до 23 %, а из безработных – с 32 до 37 % (выход с рынка). Такие результаты хорошо согласуются с нашими общими выводами о том, что экономическая неактивность часто «работает» как своего рода стабилизатор и перекачивающий насос, замещая определенные функции безработицы. Индексы Шоррокса как количественные меры интенсивности мобильности при переходе к условным вероятностям на матрице 5*5 повышаются с 0,56 до 0,67 у мужчин и с 0,56 до 0,65 у женщин.
С чем связана такая «популярность» состояния неактивности? По-нашему мнению, это может быть зеркальным отражением низкой «популярности» безработицы из-за непривлекательных пособий и слабой доступности реальной помощи в трудоустройстве. Учитывая высокий оборот внутри пулов занятых и неактивных, естественно предположить, что поиск работы идет преимущественно из этих состояний.
4.7. Безработица: вклад потоков
Данные о межстатусных потоках на рынке труда дают дополнительные возможности для анализа динамики уровней занятости, безработицы и неактивности. Наибольший интерес в связи с этим представляет динамика уровня безработицы. Численность пребывающих в этом состоянии в каждый момент времени зависит от того, сколько было безработных в начале предшествующего периода (месяца, квартала, года) и сколько индивидов вошло в безработицу из занятости и неактивности (E→U и IN→U) и сколько вышло из безработицы в эти состояния (U→E и U→IN). Вызывается ли изменение (в нашем случае – снижение) безработицы соответствующим изменением в притоке в нее или же дело в изменившемся оттоке? Или это комбинация и того, и другого? Соотношение различных потоков может быть функцией институционального устройства рынка труда. Тогда ответ на этот вопрос полезен для выработки адекватной политики на рынке труда.
Анализ занятости и безработицы через призму потоков может опираться на разные методологии декомпозиции изменения безработицы, которые в целом схожи, хотя и имеют некоторую вариацию. Основной их смысл в том, чтобы получить разложение изменения безработицы (или, соответственно, занятости) на изменения во входящих в безработицу и исходящих из нее потоках. В ряде работ авторы рассматривают лишь два состояния на рынке труда (занятость и безработицу), представляя прирост или снижение безработицы как сумму двух слагаемых (см., например: [Fujita, Ramey, 2007; Shimer 2007, Elsby, Smith, Wadsworth, 2011]). Другие расширяют число возможных состояний на рынке труда до трех, добавляя к ним экономическую неактивность [Petrongolo, Pissarides, 2008].
Для декомпозиции изменения безработицы мы используем вероятности из матриц перехода, которые анализировались нами ранее. Конечно, для получения более точных оценок желательно иметь данные за месячные или квартальные периоды времени, но за отсутствием таковых мы работаем с данными РМЭЗ НИУ ВШЭ, собираемыми с годовым интервалом.
Как показывают Б. Петронголо и А. Писсаридес [Petrongolo, Pissarides, 2008], уровень безработицы ut можно приближенно выразить через параметры интенсивности потоков:
(4–2)
где st – вероятность (transition rate) перехода из занятости в безработицу в году t, a ft – в обратном направлении. Другими словами, показатель безработицы есть отношение величины входящего (E→U) потока к величине оборота между этими состояниями (E↔U). Тогда изменения в безработице можно записать как
(4–3)
где первое слагаемое отражает изменения, касающиеся входящего (в состояние безработицы) потока, а второе – исходящего.
Обозначим занятость, безработицу и неактивность в году t как Et,Ut,It соответственно; f0t и f1t – вероятности перехода из безработицы в неактивность (U→IN) и занятость (U→E) соответственно; s0t и s1t – вероятности перехода из занятости в неактивность (E→IN) и безработицу (E→U), а e0t и e1t – вероятности перехода из неактивности в безработицу (IN→U) и занятость (IN→E). Тогда стационарные условия для безработицы и занятости могут быть записаны как
(4–4)
(4–5)
Решение уравнений (4–4) и (4–5) имеет следующий вид:
(4–6)
Уравнение (4–6) можно переписать как
(4–7)
где выражения и могут быть проинтерпретированы как вклад неактивности (относительно безработицы и занятости) в изменение безработицы. Если обозначим st = s1t + i0t и ft = f1t + i1t, то уравнение (4–7) идентично уравнению (4–2) и может быть разложено в уравнение (4–3). С помощью первых разностей суммарные потоки входящих в безработицу и исходящих из нее могут быть разложены на переходы между занятостью и безработицей и безработицей и неактивностью (см. уравнения (4–8) и (4–9)).
(4–8)
(4–9)
Если рассматриваем два состояниями, то далее измеряем тесноту связи между изменением потоков и изменением уровня безработицы. Следуя за C. Фужита и Г. Рамеем [Fujita, Ramey, 2007], для каждого из двух слагаемых правой части уравнения (4–3) рассчитываем , где j = s, f, а Δus и Δuf представляют собой изменения в уровне безработицы, вызванные входящими и исходящими потоками соответственно. Так как Δu = Δus +Δuf, то βs + βf = 1.Далее мы будем оценивать лишь βs, т. е. изменение той части безработицы, за которую отвечают входящие в нее потоки. На втором этапе, следуя за Б. Петронголо и А. Писсаридесом [Petrongolo, Pissarides, 2008], мы делаем аналогичные разложения для уравнений (4–8) и (4–9).
Сначала представим результаты декомпозиции изменения безработицы при разбиении населения на две группы (табл. П4-10): занятых и безработных. Наши расчеты относятся к России, а данные по Великобритании, Франции и Испании, приводимые в таблице, взяты из работы [Petrongolo, Pissarides, 2008[. Исследуемые периоды в этих странах также характеризуются устойчивым снижением уровней безработицы. Следует однако отметить, что такого рода межстрановые сопоставления требуют определенной осторожности в интерпретации, поскольку российские данные имеют годовой интервал измерения в отличие от квартального для европейских стран и месячного для США. Тем не менее различия столь значительны, что не могут объясняться лишь особенностями измерения.
Значения βs показывают взаимосвязь между изменением входящего в безработицу потока и суммарным изменением ее уровня. При этом мы измеряем лишь тесноту связи между ними, не учитывая знаки этих изменений. В России за исследуемый период уровень безработицы, по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, снизился с 8,1 % в 2000 г. до 4,8 % в 2012 г., т. е. почти вдвое. Вклад притока в это снижение составил около 96 %, что говорит о том, что рассасывание безработицы практически полностью происходило за счет сокращения входного потока. Суммарный отток из нее оставался примерно постоянным (с точки зрения вклада в динамику)[67].
В других странах картина была принципиально иной. Вклад притока не превышал 45 %, а значит, и рассасывание безработицы происходило в основном за счет активизации выхода из нее, в том числе на создаваемые рабочие места.
В таблице П4-11 приведены полученные нами результаты декомпозиции в случае трех состояний. Оценки для России даны в столбце 1, а в столбцах 2–4 – соответствующие оценки для Великобритании, США и Испании [Petrongolo, Pissarides, 2008; Shimer, 2008]. Для трех стран (кроме США) рассматриваемые периоды отличались устойчивым снижением уровня безработицы. Период для США охватывает более 40 лет, когда динамика безработицы была разнонаправленной.
Согласно табл. П4-11, снижение безработицы в России на 89 % объясняется «осушением» входящего потока, при этом 51 % приходится на вход из занятости (E→U) и еще 38 % – на переход из неактивного состояния (IN→U). Другими словами, из 3,3 п.п. (8,1 % – 4,8 %) 1,65 п.п. сокращения объясняется уменьшением входа из занятости и 1,35 п.п. – входа извне рабочей силы.
Полученные (для России) значения существенно отличаются от аналогичных показателей для других стран. Так, вклад потока (E→U) в России превышает соответствующие вклады в других странах в 1,5–2 раза. Вклад потока (E→U) также очень значителен и в разы больше, чем показатели других стран. Что касается изменения безработицы за счет оттока из нее, то тут российскому рынку труда особо «похвастаться» нечем. Потоки (U→E) и (U→IN) дают лишь по 5–6% от общего снижения (Δυ). В странах, с которыми мы можем сравнить себя в табл. П4-11, отток из занятости и особенно на рабочие места во много раз интенсивнее.
Какую историю в итоге нам рассказывают показатели потоков? Как она согласуется с тем, что мы знаем о поведении российского рынка труда, и что нового она добавляет?
Картина, которую рисуют полученные оценки, расширяет наши представления о политике на российском рынке труда. Пул безработных можно представить себе как «бассейн» (рис. П4-4), в котором есть два «входных крана» (из занятости и из неактивности) и соответственно два «выходных». Размер пула зависит от разности между входными и выходными потоками. Институты рынка труда являются своего рода регулировочными «кранами», меняющими интенсивность притока и оттока.
Жесткое трудовое законодательство, подкрепляемое – если надо – энергичным административным вмешательством, тормозит выталкивание с формальных рабочих мест. Это означает, что регулируется выходная «труба» из занятости, ведущая в безработицу. Низкий коэффициент замещения для пособий по безработице дестимулирует втягивание в этот пул. Тем самым регулируется «входной кран». Но таким же образом пособие поощряет быстрый выход из него. Что же касается оттока из безработицы в занятость, то создание новых рабочих мест на протяжении всего периода оставалось достаточно вялым ([Гимпельсон, Капелюшников, Рыжикова, 2012]; глава 1 настоящей книги). Это также означает, что если бы вдруг появились дополнительные причины для вытеснения из занятости или стимулы для того, чтобы индивиды предпочли безработицу как форму незанятости неактивности как другой ее форме, то безработица начала бы ускоренно расти. Так, увеличение размера пособий по безработице (pull) и интенсификация увольнений (push) могли бы ее сильно простимулировать.
Межстрановые различия во вкладах разных потоков в динамику безработицы хорошо отражают различия в принципиальных подходах к политике на рынке труда (и институтах). В нашей стране политики и чиновники озабочены преимущественно защитой существующих рабочих мест, а в странах ОЭСР – созданием новых. В первом случае инструментами являются законодательные и административные меры по ограничению увольнений, во втором – экономические по стимулированию новой занятости.
4.8. Заключение
Российский рынок труда имеет тот же «стандартный» набор институтов, что и большинство стран с рыночной экономикой. Однако эти институты настроены во многом «иначе», обеспечивая специфический – отличный от других стран – режим адаптации. Это проявляется в динамике основных показателей, характеризующих как запасы, так и потоки рабочей силы. Например, минимальная заработная плата, пособия по безработице, законодательство о защите занятости могут ускорять одни потоки и подтормаживать другие.
В этой работе мы исследуем мобильность рабочей силы на российском рынке труда в 2000–2012 гг., анализируя ее через призму основных потоков. Обсуждаемый период отличался значительным макроэкономическим «разнообразием», включающим и фазу быстрого экономического роста, и острый кризис 2008–2009 гг., и посткризисную адаптацию. Такие колебания влияли на реаллокацию рабочей силы: процессы выталкивания из занятости и втягивания в нее. В то же время именно за эти годы мы имеем необходимые микроданные.
В фокусе нашего анализа – динамика рынка труда, проявляющаяся в интенсивности и направленности основных потоков рабочей силы. Для этого используются панельные микроданные РМЭЗ за соответствующий период.
В исследовании мы последовательно применяем различные методологические приемы, которые дополняют друг друга и позволяют анализировать потоки под разными углами зрения. Во-первых, это матрицы переходов, документирующие вероятности межстатусных перемещений. Рассчитанные на их основе индексы Шоррокса дают интегральную оценку интенсивности перемещений. Во-вторых, это динамическая мультиномиальная логит-модель, которая отвечает на вопросы об индивидуальных детерминантах межстатусной мобильности и о наличии/отсутствии предопределенности, задаваемой прошлыми состояниями на рынке труда (наличие структурной зависимости). И, наконец, в-третьих, мы выделяем вклады входящих и исходящих потоков в динамику пула безработных.
Какие выводы мы можем сформулировать по итогам всех этих упражнений? Их несколько.
Мы документируем интенсивную мобильность между занятостью, безработицей и неактивностью. Матрицы перехода свидетельствуют о том, что безработица у нас не является застойным состоянием, и каждый второй из вчерашних (прошлогодних) безработных сегодня (через год) уже имеет работу. Сравнение индексов Шоррокса, рассчитанных нами для России, с соответствующими показателями мобильности в европейских странах подтверждает этот вывод.
В развитых странах, как правило, превалирует движение индивидов между состояниями занятости и безработицы, однако в нашей стране потоки конфигурированы иначе. Мы отмечаем особую роль состояния неактивности в адаптационных процессах на рынке труда. Оно не только ежегодно абсорбирует до трети всех безработных, но и с лагом в год возвращает значительную часть своего состава обратно в занятость. Более того, все используемые нами методы подтверждают, что неактивность частично берет на себя те функции, которые на рынке труда обычно выполняются безработицей. Это может быть отражением низкой «востребованности» специфических условий помощи безработным и признанием того простого факта, что при отсутствии альтернативного дохода надо браться за первую попавшуюся работу. Мизерные пособия и слабая доступность реальной помощи в трудоустройстве со стороны государственной службы занятости создают отрицательные стимулы для поиска работы из состояния безработицы. Индивиды предпочитают искать новую работу, уже имея какую-то, либо ожидают предложения вакансий, пребывая вне рынка труда. Высокий оборот внутри пулов занятых и неактивных позволяет предположить, что поиск работы идет преимущественно из этих состояний. По-видимому, низкое качество соединения работников с рабочими местами, подпитывающее высокий оборот рабочей силы, может быть следствием этой ситуации.
Особая абсорбционная способность неактивности имеет и структурные социально-демографические причины. Например, ранний возраст выхода на пенсию дает людям нетрудовой доход, позволяющий иначе строить стратегии поиска на рынке труда. Схожий эффект имеет и высокая степень вовлеченности в очное образование.
Стабильность занятости (а мы видим, что 90 % всех занятых сохраняют этот статус от года к году) не означает ее неизменность. Данные говорят о значительном обороте внутри этого пула, что связано и с неоднородностью рабочих мест внутри него, и с неслучайной сортировкой работников по рабочим местам. Для анализа потенциальной неоднородности мы делим всех занятых на три большие группы: работников бюджетного сектора, корпоративного и расширенного неформального. Такое деление отражает как эффекты регулирования, различающиеся по этим сегментам, так и возможные эффекты самоотбора в них. Оно высвечивает сильный контраст между слабой подвижностью в бюджетном секторе и высокой мобильностью в рыночном секторе и, особенно, в неформальном сегменте последнего.
В рамках нашего анализа мы исследовали также зависимость текущего состояния на рынке труда от прошлого состояния. Наш анализ показывает, что она значительна, но не абсолютна. При этом если мужчины оставляют бюджетный сегмент, то ради работы в небюджетном; женщины же, покидая его, уходят с рынка труда совсем. Роль неактивности как временного резервуара свободной рабочей силы особенно заметна для женщин. Однако и у мужчин она не может быть недооценена.
Наше исследование также свидетельствует о том, что динамика безработицы зависит главным образом от величины притока в нее, в то время как отток практически не влияет на ее движение. Приток же определяется темпом ликвидации рабочих мест, который меняется циклично, возрастая в кризис и снижаясь в периоды восстановления и роста. По-видимому, навес избыточной занятости, характерный для российских предприятий в 1990-е годы, понемногу рассеивался, снижая тем самым постепенно давление на поток из формальной занятости в безработицу. Можно ожидать, что отток из безработицы является функцией интенсивности создания новых рабочих мест, т. е. скоростью абсорбции безработных вновь генерируемой занятостью. Создание же, в свою очередь, оказывается слабо цикличным и почти постоянным во времени.
Полученная нами картина перемещений хорошо вписывается в институциональную матрицу российского рынка труда. Жесткое трудовое законодательство должно тормозить потоки из занятости в безработицу, что оно и делает. Оно же должно подтормаживать и наймы в формальном секторе, с чем тоже «неплохо» справляется. В то же время низкий уровень пособий должен служить барьером на вход в безработицу и стимулировать скорый выход из нее. Это мы также успешно наблюдаем. Таким образом, мы получаем более полное описание российского рынка труда, включающее такое важное измерение, как мобильность рабочей силы.
Продолжение и углубление данного исследования может идти в разных направлениях. Прежде всего, это анализ влияния институтов рынка труда и особенно системы помощи безработным (включая как пассивную, так и активную политику) на конфигурацию и интенсивность потоков. Другое направление предполагает более детальное изучение эффектов самоотбора, вызванных индивидуальными – в том числе ненаблюдаемыми – характеристиками индивидов. Чем лучше мы понимаем явные и скрытые механизмы мобильности, тем более точными будут рекомендации для политики на рынке труда.
Приложение П4
Таблица П4-1
Дескриптивный анализ данных, 2000–2012 гг., %
Таблица П4-2
Демографический состав потоков, средние значения, 2000–2012 гг., %
Таблица П4-3
Декомпозиция потоков, средние значения, 2000–2012 гг., в % от населения в соответствующей группе
Таблица П4-4
Усредненные оценки, 2000–2012 гг., %
Примечание: в каждой ячейке верхнее значение соответствует вероятности перехода, нижнее – проценту от населения в рассматриваемом возрасте.
Таблица П4-5
Индексы Шоррокса, 2000–2012 гг.
Таблица П4-6
Мультиномиальная логит-регрессия, симулированные условные вероятности, 2001–2012 гг. (зависимая переменная: статус занятости)
В регрессиях дополнительно контролировались годовые дамми и дамми для федеральных округов. При использовании мультиноминальной логит-регрессии стандартные ошибки оценивались как робастные и кластеризованные по индивидам. При расчете предельных эффектов стандартные ошибки рассчитывались дельта-методом.
Таблица П4-7
Матрица предсказанных вероятностей переходов, построенная на основе симуляций, 2001–2012 гг.
Таблица П4-8
Мультиномиальная логит-регрессия, симулированные условные вероятности, 2001–2012 гг. (зависимая переменная: статус занятости)
В регрессиях дополнительно контролировались годовые дамми и дамми для федеральных округов. При использовании мультиномиальной логит-регрессии строились робастные и кластеризованные по индивидам стандартные ошибки. При расчете предельных эффектов стандартные ошибки рассчитывались дельта-методом.
Таблица П4-9. Матрица предсказанных вероятностей переходов, построенная на основе симуляций, 2001–2012 гг.
Таблица П4-10
Вклад входящего потока в изменение уровня безработицы
Источник. Россия – расчеты авторов, другие страны – [Petrongolo, Pissarides, 2008].
Таблица П4-11
Вклад потоков в динамику уровня безработицы
Источник. Россия – расчеты авторов, другие страны – [Petrongolo, Pissarides, 2008].
Рис. П4-1. Усредненные ежегодные потоки на российском рынке труда, вероятности перехода, 2000–2012 гг.
Рис. П4-2. Усредненные ежегодные потоки на российском рынке труда, в % от населения, 2000–2012 гг.
Рис. П4-3. Потоки, 2000–2012 гг.
Обозначения: З – занятость, Б – безработица, НА – неактивность.
Рис. П4-4. Безработица: вход и выход
Литература
В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014.
Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
Гимпельсон В., Жихарева О., Капелюшников Р. Движение рабочих мест: что говорит российская статистика // Вопросы экономики. 2014. № 7. С. 144–160.
Гимпельсон В., Капелюшников Р., Рыжикова З. Движение рабочих мест в российской экономике: в поисках «созидательного разрушения» // Экономическая политика. 2012. № 4. С. 5–21.
Мальцева И. Трудовая мобильность и стабильность: насколько высока отдача от специфического человеческого капитала в России // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 2. С. 243–278.
Сабирьянова К. Микроэкономический анализ динамических изменений на российском рынке труда // Вопросы экономики. 1998. № 1. C. 42–58.
Труд и занятость в России, 2013. М.: Росстат, 2013.
Шарунина А. Является ли российский «бюджетник» «неудачником»? Анализ межсекторных различий в оплате труда // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 17. № 1. С. 75–107.
Blanchard O., Diamond P. The Cyclical Behaviour of the Gross Flows of US Workers // Brookings Papers on Economic Activity. 1990. № 2. P. 85–143.
Blanchard O., Diamond P. The Flow Approach to Labor Markets // The American Economic Review. 1992. Vol. 82. № 2. Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association. May, 1992. P. 354–359.
Elsby M., Smith J.,Wadsworth J. The Role of Worker Flows in the Dynamics of UK Unemployment // Oxford Review of Economic Policy. 2011. Vol. 27. № 2. P. 338–363.
Fujita S., Ramey G. The Cyclicality of Separation and Job Finding Rates: Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper. № 07–19. 2007.
Friebel G., Guriev S. Attaching Workers Though Inkind Payments: Theory and Evidence from Russia // World Bank Economic Review. 2005. Vol. 19. № 2. P. 175–202.
Foley M. Labor Market Dynamics in Russia. 1995. (Mimeo.)
Gimpelson V., Kapeliushnikov R., Lukiyanova A. Stuck between Surplus and Shortage: Demand for Skills in Russian Industry // Labour. 2010. Vol. 24. № 3(09). P. 311–332.
Lehmann H., Wadsworth J. Tenures that Shook the World: Worker Turnover in Russia, Poland, and Britain // Journal of Comparative Economics. 2000. Vol. 28. № 4. P. 639–664.
OECD. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Russian Federation, 2011. OECD Publishing, 2011.
Petrangolo B., Pissarides C. The Ins and Outs of European Unemployment // American Economic Review Papers and Proceedings. 2008. № 98. P. 256–262.
ShorrocksA. The Measurement of Mobility // Economertica. 1978. Vol. 79. № 5. P. 1013–1024.
Shimer R. Reassessing the Ins and Outs of Unemployment: NBER Working Paper. № 13421.2007.
SlonimczykF., Gimpelson V. Informality and Mobility: Evidence from Russian Panel Data // Economics of Transition. 2015. № 23(2). P. 299–341.
The Oxford Handbook of Russian Economy / ed. by M. Alexeev, S. Weber. Oxford University Press, 2013. P. 693–724.
Ward-Warmedinger M., Macchiarelli C. Transitions in Labour Market Statusin the EU: IZA Discussion Paper. № 7814. 2013.
Глава 5 «Дороги, которые мы выбираем»: перемещения на внешнем и внутреннем рынках труда
5.1. Введение
Для описания различных перемещений на рынке труда мы используем обобщающее понятие трудовой мобильности. Каждый индивид постоянно находится перед выбором: сохранить статус-кво, который у него сложился, или что-то изменить в своей трудовой жизни. Изменения могут быть разными и по направлению, и по природе: внутри фирм (организаций) или связанные с их сменой, сохраняющие занятость или ведущие в незанятость, добровольные или вынужденные. Хотя любые трудовые биографии всегда индивидуальны (как индивидуальны их субъекты) и движимы специфическим сочетанием разнообразных обстоятельств, все они могут быть типологизированы с точки зрения того, куда направлены наблюдаемые перемещения. Во-первых, это могут быть внутрифирменные перемещения (т. е. осуществляемые на внутреннем рынке труда), во-вторых, перемещения связанные с выходом из организации (т. е. с уходом на внешний рынок труда). Соответственно, первую группу перемещений мы называем внутренними, а вторую – внешними. Мы также исходим из того, что, принимая решение о перемещениях, индивиды соотносят ожидаемые ими выгоды с возможными издержками, которые могут сопровождать такую мобильность.
Вопрос, который мы ставим в этой главе, звучит следующим образом: как соотносятся между собой разные виды мобильности и что определяет выбор между ними?
Почему ответ на этот вопрос может представлять научный интерес?
Российский рынок труда известен значительной интенсивностью внешней мобильности, которая проявляется в высоких показателях оборота рабочей силы (коэффициенты найма и увольнений) и низких показателях специального стажа. Накопление внутрифирменного человеческого капитала идет плохо, отдача то него низкая, объем производственного обучения невелик и т. д. [Российский работник… 2011]. Это позволяет предположить действие факторов, дестимулирующих внутрифирменные перемещения и ограничивающих отдачу от специфического человеческого капитала. В то же время альтернативная внешняя мобильность не сталкивается с жесткими барьерами. Действующая конфигурация стимулов и ограничений, формирующая мобильность на рынке труда, может негативно сказываться на конкурентоспособности российских предприятий.
Наша общая гипотеза заключается в том, что внешняя мобильность доминирует (по сравнению с внутренней) и носит во многом компенсационный характер, будучи реакцией на имеющиеся ограничения для внутреннего продвижения.
Вакансии открываются непрерывно: либо создаются новые рабочие места, либо они освобождаются уходящими работниками. Их замещение возможно как продвижением «своих» – «инсайдеров», так и привлечением работников со стороны – «аутсайдеров» [Lindbeck, Snower, 2001]. С точки зрения фирм внутренняя и внешняя мобильность как альтернативные способы рекрутирования работников обладают как плюсами, так и минусами. Инсайдеры располагают большими запасами накопленного специфического человеческого капитала и демонстрируют по отношению к фирмам большую лояльность. Со своей стороны фирмы обладают более полной информацией о способностях и мотивации таких работников (и в конечном счете об их производительности), что открывает возможности для более точного мэтчинга. Кроме того, перспектива будущего возможного продвижения по службе стимулирует работников трудиться с большей отдачей на занимаемых ими (на данный момент) более низких позициях. Повышение в должности также служит эффективным средством удержания наиболее ценных кадров. В то же время на внешнем рынке труда пул потенциальных кандидатов значительно шире, чем на внутреннем; среди них могут встречаться работники с лучшими способностями, чем те, кто уже давно трудится в фирме. Аутсайдеры могут приносить новые компетенции и новые идеи, которые отсутствуют у «старожилов» компании. Привлечение работников с внешнего рынка труда может обеспечивать экономию издержек на рабочую силу, если резервируемая заработная плата у них ниже, чем у инсайдеров. Внешний наем уменьшает также риск «сговора» (фаворитизма) между начальниками и подчиненными, которым чреваты внутренние назначения. Взвешивая эти «за» и «против», любая фирма пытается отыскать оптимальное для себя сочетание внутренних перемещений и внешних наймов.
С точки зрения работников, внутренние вертикальные перемещения имеют то преимущество, что им не нужно нести издержек, связанных с поиском и накоплением специфического человеческого капитала. Кроме того, в этом случае они располагают намного большей информацией о своих новых рабочих местах, чем при внешних перемещениях. В то же время возможности для получения привлекательных рабочих мест на внутреннем рынке труда достаточно ограничены, что может побуждать их начинать поиск на внешнем рынке труда.
В настоящей главе мы пытаемся ответить на несколько взаимосвязанных вопросов: какова динамика и каковы детерминанты (кто и как мобилен?) мобильности; есть ли связь между накоплением человеческого капитала и направлением мобильности; ведет ли мобильность к росту заработков и если да, то в большей мере которая из двух – внутренняя или внешняя?
Если внешняя мобильность на российском рынке труда уже привлекала внимание исследователей [Lehmann, Wadsworth, 2000; Мальцева, 2009; Рощин, Слесарева, 2012], то внутренняя, насколько нам известно, до сих пор не становилась предметом детального обсуждения. Исследования по этой теме и в мире в целом малочисленны. Хотя существует значительная литература, посвященная либо внешней, либо (намного реже) внутренней мобильности, попытки рассматривать их как взаимосвязанные опции одного выбора единичны. Но и в них анализ чаще всего ведется с точки зрения фирм (на данных по отдельным компаниям), а не с точки зрения работников (на данных обследований домохозяйств).
Данная глава представляет эмпирические свидетельства распространенности обеих форм мобильности на российском рынке труда и оценки сопутствующего мобильности роста заработной платы. Полученные результаты подтверждают вывод о высокой интенсивности мобильности, хотя она снижалась со временем. При этом межфирменные потоки значительно превышают внутрифирменные, а частота восходящих внутренних перемещений – частоту нисходящих. Наше исследование фиксирует тесную и положительную связь с динамикой заработной платы, хотя и не отвечает на вопрос о том, что является причиной, а что следствием. По итогам перемещений внешне мобильные работники «догоняют» по зарплате иммобильных работников, выходя на уровень рыночных ставок, а внутренне мобильные – уходят вперед по отношению к ним.
Глава состоит из 7 разделов и заключения. В разделе 5.2 мы описываем проблему выбора, которая стоит перед индивидом на рынке труда, и формулируем основную гипотезу исследования. Здесь мы также обсуждаем основные теоретические представления, через призму которых исследуем проблему мобильности, и приводим обзор имеющихся эмпирических исследований. Раздел 5.3 посвящен описанию используемых данных. В разделе 5.4 приводятся оценки масштаба и динамики рассматриваемых потоков, а в разделе 5.5 – оценки межгрупповой вариации. Раздел 5.6 в рамках мультиномиальной логит-модели анализирует факторы, влияющие на мобильность. Связь с динамикой заработной платы является предметом раздела 5.7. Заключение подводит итоги.
5.2. Пути перемещений: взаимоотношения между внутренним и внешним рынками труда
Общие представления. У работников в организациях есть несколько основных опций, связанных с мобильностью. Во-первых, они могут сохранять статус-кво, не меняя работодателя и не перемещаясь по вертикали. Во-вторых, они могут двигаться внутри организаций по вертикали, т. е. на внутреннем рынке труда[68]. Как правило, такие перемещения предполагают продвижение вверх по иерархической лестнице и обычно сопровождаются ростом заработной платы (но, конечно, не исключены и перемещения вниз, ведущие к ее снижению). И, наконец, в-третьих, работники могут сменить работодателя и найти себе лучшую (с точки зрения оплаты и условий труда) альтернативу на внешнем рынке труда. Каждая из этих опций имеет свои выгоды и ограничения. Различаются и причины, по которым работник делает тот или иной выбор. Мы исходим из того, что, решая «уйти или остаться», работник максимизирует ожидаемую полезность от работы. Эта полезность определяется величиной заработной платы, но не исчерпывается ею и может включать различные неденежные характеристики (содержание работы, наличие профессиональных перспектив, хороший коллектив, близость к дому и т. п.).
Проблема мобильности на рынке труда может рассматриваться с разных теоретических позиций. Наиболее очевидные – это теория человеческого капитала [Becker, 1964; Mortensen, 1978], теория мэтчинга [Jovanovic, 1979; 1984; Petrongolo, Pissarides, 2001] и теория поиска работы [Mortensen, 1986; Pissarides, 2000]. В первом случае речь идет о том, как накопление знаний и профессиональных навыков влияют на предлагаемую заработную плату (внутри предприятия и вне его). Мобильность проявляется как ответ на соответствующие ожидания: если человеческий капитал данного качества выше оценивается на стороне, то внешняя мобильность (с учетом связанных с ней издержек) может стать приоритетной стратегией. Во втором случае речь идет о наиболее эффективном соединении (мэтчинге) работников и рабочих мест. Как работники, так и рабочие места различаются по своим характеристикам. В общем случае можно ожидать, что работники будут перемещаться с рабочих мест, которым они подходят хуже (где их производительность ниже) на рабочие места, которым они подходят лучше (где их производительность выше). Третья теория рассматривает поиск как двусторонний динамический процесс, делая упор на связанные с ним издержки. И хотя она больше относится к безработным, но и поиск при наличии работы также не бесплатен, поскольку требует времени и может быть сопряжен со снижением производительности (и соответственно, заработной платы) на данном месте. Наличие заработной платы снижает общие издержки поиска для работника, но повышает резервируемую зарплату при поиске новой работы. С другой стороны, сам факт наличия работы является сигналом потенциальному новому работодателю, снижающим его затраты на скрининг.
Эти перспективы не исключают, а взаимодополняют друг друга. Например, недостаток информации о производительности при найме новых работников может стимулировать завышение фирмами требований к наблюдаемым характеристикам человеческого капитала, и наоборот. Кроме того, вероятность вертикального продвижения положительно связана с прохождением подготовки на рабочем месте (инвестициями в специфический человеческий капитал), отбор для которой осуществляется на основе предварительной информации о работнике [Pfeifer et al., 2011].
Казалось бы, выгоды от длительной работы у одного работодателя очевидны. Оставаясь внутри организации продолжительное время, работник накапливает свой специфический человеческий капитал в виде опыта и внутрифирменных компетенций, которые теряют свою ценность при переходе в другую организацию. Это создает для него определенные преференции, особенно если издержки мобильности (включая поиск новой работы) значительны. Он может ожидать, что его человеческий капитал здесь в конечном счете будет вознагражден лучше, чем у альтернативного работодателя, и предпочтет дожидаться своей премии (в виде продвижения или просто повышения оплаты). Как следствие, он рассчитывает на отложенный выигрыш, и тогда в текущем периоде мы не увидим проявлений мобильности. Возможен и другой вариант, когда альтернативные опции отсутствуют или неблагоприятны, а работник защищен законодательством от увольнения. В таком случае он может предпочесть статус-кво как «синицу в руке», особенно если страх безработицы силен.
Однако потенциальные выгоды для работника от накопленного им специфического человеческого капитала реализуются далеко не всегда. Дело в том, что более длительный специальный стаж не обязательно ведет к соответствующему росту оплаты. В отсутствие дополнительного производственного обучения и переобучения длительный стаж может не коррелировать с накоплением требуемых навыков, в результате чего относительная ценность работника для данной организации снижается, а ожидаемые выгоды от его замены на кандидатов с внешнего рынка увеличиваются. Если текучесть кадров велика (а это реальность российского рынка труда), то может складываться замкнутый круг: она препятствует инвестициям в обучение, а отсутствие таковых еще более стимулирует текучесть.
Во многих простых профессиях опыт повышает производительность труда только на начальном этапе работы в организации, а в дальнейшем она практически не возрастает. В малых организациях (где карьерная лестница по объективным причинам коротка) возможности продвижения ограничены, в результате чего работник быстро достигает своего профессионального (карьерно-должностного) потолка. Кроме того, у работодателя могут быть свои причины (как связанные с финансовым состоянием организации, так и с оценкой им производительных характеристик работника) для того, чтобы не повышать данного работника в должности и в оплате.
Ограниченные возможности реализации собственного производительного потенциала при наличии альтернатив на внешнем рынке труда подталкивают к смене работодателя. Работник принимает решение о переходе исходя из ожидаемых от этого денежных и неденежных выгод на новом месте работы с учетом неизбежных издержек мобильности. Учитывая эти издержки, новый работодатель должен предлагать значительную премию, которая компенсировала бы потери. Конечно, информация о характеристиках новой работы, которой располагает работник (и информация о работнике, которой располагает работодатель!), неполна и качество нового соединения работника с рабочим местом далеко не гарантировано. Если соединение (match) оказывается неудачным, то это ведет к новому акту мобильности. В условиях низких пособий по безработице вероятность плохого соединения возрастает, так как издержки поиска быстро растут и в итоге безработные начинают хвататься за первую попавшуюся работу, прерывая дальнейший поиск. Очень частая смена работы становится негативным сигналом для будущего трудоустройства.
На внешнюю мобильность также может влиять межфирменная дифференциация в заработных платах, если она формируется за счет переменного компонента, связанного с финансовыми результатами (возможностями) организации. Привязка индивидуальных зарплат к (групповым) результатам через введение значительной премиально-бонусной составляющей означает, что одна и та же индивидуальная производительность оплачивается разными работодателями очень по-разному, что не может не подстегивать мобильность между ними [Гимпельсон, Капелюшников, 2015]. Каждый акт перехода порождает целую цепочку вакансий, стимулирующих перемещения.
Многое также зависит от особенностей организации внутрифирменного рынка труда. (По-видимому, имеет место значительная вариация в типах его организации; здесь имеют значение отрасль, размер и возраст фирмы, технологические особенности, интенсивность конкуренции в данном виде деятельности.) Если он имеет мало входных портов – наймы с внешнего рынка идут только на самые низкие этажи должностной иерархии, а позиции на более высоких этажах оказываются изолированными от внешнего рынка труда и заполняются исключительно путем внутренних восходящих перемещений, то мы вправе ожидать относительно более сильную внутреннюю мобильность. Внешняя мобильность при этом будет относительно слабой и ограничиваться нижними этажами квалификационной лестницы. Напротив, если входные порты существуют на всех ступенях должностной иерархии, так что наймы извне осуществляются и на низкие, и на высокие позиции, то это будет подрывать внутреннюю мобильность и подстегивать внешнюю. Хотя об организации внутреннего рынка труда российских предприятий известно мало, наблюдения за их поведением заставляют предполагать, что большинство из них даже высокие должностные позиции держат открытыми для внешних наймов. В условиях высокой текучести кадров это отчасти оказывается вынужденным решением.
Эмпирические свидетельства. Эмпирические исследования мобильности обычно анализируют либо внутрифирменную, либо межфирменную мобильность, хотя важность их рассмотрения во взаимосвязи не вызывает сомнений [Frederiksen et al., 2016, p. 348]. Относительно надежные свидетельства о том, как соотносятся показатели внешней и внутренней мобильности, существуют для очень незначительного набора стран. При этом прямые межстрановые сопоставления затруднены и институциональными различиями, и различиями в методологии исследований. Доступные оценки сильно варьируются, но говорят о том, что интенсивность внешней – межфирменной – мобильности, как правило, значительно выше, чем внутренней. В более либеральных экономиках это превышение оказывается больше, чем в тех странах, где рынки труда регулируются сильнее. Например, отмечается, что в Канаде в 1980-е годы внешняя мобильность в десять раз превосходила внутреннюю: 15 против 1,5 % [Drewes, 1993]; в США в 1970-1980-е годы примерно втрое: 11 против 4 % [McCue, 1996]. В Великобритании интенсивность межфирменной мобильности в 1991–1995 гг. достигала 15 %, а внутрифирменной – 9 % [Francesconi, 1991]. Однако, согласно М. Гиббсу с соавторами [Gibbs et al., 2003], в Швеции в 1970-1990-е годы среднегодовые темпы мобильности работников беловоротничковых профессий частного сектора составили 6,1 % для межфирменных перемещений, 5,8 % для повышений по службе и 1,2 % для понижений по службе[69] [Gibbs et al., 2003].
Другая важная эмпирическая закономерность, которую можно вывести из имеющихся исследований, заключается в том, что в последние десятилетия (начиная с 1980-х годов) интенсивность внешней мобильности повсеместно возрастала. Этому способствовали несколько глубинных факторов, действовавших взаимосвязанно: повышение внешней гибкости рынка труда, структурный сдвиг в пользу сектора услуг и глобальное усиление конкуренции. В итоге крупные компании стали отходить от модели пожизненного найма и внутренней мобильности в пользу альтернативной модели, предполагающей активный найм на внешнем рынке труда на всех этажах должностной иерархии. Отметим, что наиболее выпукло этот сдвиг проявился в 2000-е годы, т. е. в более поздний период, чем тот, который охвачен процитированными обследованиями.
Естественно ожидать, что соотношение между показателями внутренней и внешней мобильности будет сильно варьироваться по различным группам работников и различным типам фирм. Эмпирические исследования подтверждают эти ожидания.
Практически все исследователи констатируют, что внешняя мобильность – привилегия мужчин, а внутрифирменная больше распространена среди женщин, хотя величина гендерных различий между странами различается [Drewes, 1993; McCue, 1996; Francesconi, 2001; Fereira, 2009].
Наиболее интенсивный поиск работы, сопровождающийся множественной сменой работодателей, происходит в младших возрастных группах, а затем по мере накопления специфического опыта активизируются внутрифирменные продвижения. Это означает, что с возрастом внешняя мобильность, как правило, ослабевает, а внутренняя, наоборот, усиливается, но затем также затухает [Gibbs et al., 2003]. Влияние образования на обе формы мобильности в одних странах положительно [Fereira, 2009], однако в некоторых других незначимо [Drewes, 1993].
Выбор формы мобильности зависит также от структурных характеристик исходного рабочего места. Авторы не приходят к полному консенсусу по поводу того, что движет перемещениями и какими – как. Факторы различаются по странам, периодам и зависят от используемых данных. Тем не менее отмечается, что внутренние перемещения более вероятны на крупных и юнионизированных предприятиях, чем на мелких и неюнионизированных [Drewes, 1993; Francesconi, 2001; Gibbs et al., 2003]; в промышленности, чем в сфере услуг и строительстве [Drewes, 1993; McCue, 1996]. При этом шансы на внутреннюю мобильность в виде продвижения растут с уровнем квалификации. Все это вполне соответствует теоретическим ожиданиям.
Одной из наиболее тщательно исследованных стран является Швеция, хотя ее институты рынка труда и соответственно масштабы мобильности могут отличаться от большинства других экономик. Как показали Э. Лэзир и П. Ойер на шведских данных, соотношение между внутренним и внешним рекрутированием сильно варьируется по уровням должностной пирамиды. Так, для самых верхних этажей иерархии доля работников, пришедших с внутреннего рынка труда, может превышать 80 %, тогда как для более низких составляет не более 30 % [Lazear, Oyer, 2003]. М. Гиббс с соавторами [Gibbs et al., 2003] анализируют профессиональную, внутрифирменную и межфирменную мобильность на панельных данных за 1970-1990-е годы. Прошлый опыт внутренней мобильности положительно влияет на вероятности как последующего повышения по службе, как и последующего перехода на другую фирму.
Исследуя факторы внутрифирменной мобильности на примере одной крупной германской компании, К. Пфайфер [Pfeifer, 2010] обнаружила, что шансы на получение более высоких должностей выше у работников, отличающихся меньшей склонностью к абсентеизму, работающих сверхурочно и занятых по длительным контрактам. Высокое образование также этому способствует. Во внутренние перемещения чаще оказываются вовлечены высокооплачиваемые работники фирм с более высокой средней заработной платой, тогда как внешние перемещения обычно затрагивают низкооплачиваемых работников, причем «пунктами прибытия» выступают фирмы с более низкой средней заработной платой [Fereira, 2009b].
Один из ключевых вопросов в изучении механизмов и последствий выбора «пути» связан с анализом различий в заработной плате. По-видимому, при наличии добровольного выбора работники будут отдавать предпочтение тому решению, которое сулит большую прибавку. Конечно, если перемещение вынужденное, то результат может быть любым. Изучение связи перемещений с ростом заработной платы осложняется целым рядом проблем, среди которых и сложность точной идентификации обоих событий, и их глубокая эндогенность, которая связана как с неоднозначной направленностью влияния, так и с эффектами шоков дохода [Frederiksen et al., 2016[, сопутствующих мобильности.
Все виды мобильности обеспечивают более быстрый прирост заработной платы по сравнению с иммобильными работниками [Frederiksen et al., 2016; Gibbs et al., 2003]. Согласно Маккью, при прочих равных условиях, внутренне мобильные работники оплачиваются выше, но прирост заработной платы после перехода на новое место больше у внешне мобильных работников [McCue, 1996]. Иными словами, у внутренне мобильных работников долговременные профили заработков располагаются выше, чем у внешне мобильных, однако наклон этих кривых у вторых оказывается круче, чем у первых. При этом внутрифирменные перемещения объясняют примерно 10 % роста заработной платы в течение первых десяти лет трудовой жизни индивида, тогда как внешние – примерно 24 %. По оценкам М. Францескони [Francesconi, 2001], продвижение вверх по карьерной лестнице внутри компании обеспечивало прирост заработной платы на 7 % у мужчин и на 4 % у женщин. Максимальный прирост наблюдался при этом у работников, принадлежащих к нижним квинтилям по заработной плате среди мужчин, но к верхним квинтилям – среди женщин. Кроме того, внутрифирменная мобильность значительно увеличивала удовлетворенность индивидов работой (особенно – заработной платой). В Португалии внутрифирменная мобильность обеспечивает прирост заработной платы на 3 % у мужчин и на 2 % у женщин, тогда как межфирменная мобильность сопровождалась нулевой или даже отрицательной отдачей [Fereira, 2009b]. Однако, по другим данным, в Португалии и внешняя, и внутренняя мобильность обеспечивают непосредственный прирост в заработной плате в размере 5 % [Da Silva, van der Klaauw, 2011].
У пришедших извне работников отсутствует специфический (для фирмы) человеческий капитал, что делает их менее производительными – по крайней мере, в начальный период – по сравнению с назначенцами-инсайдерами. На ликвидацию этого отставания в производительности, по оценкам М. Бидуэлла [Bidwell, 2011], уходит в среднем два года. Кроме того, фирмы не располагают информацией о ненаблюдаемых способностях вновь нанятых работников, которая имеется у них в отношении инсайдеров. Нехватка этой информации компенсируется завышенными требованиями к наблюдаемым характеристикам рекрутируемых на внешнем рынке работников. В результате внешне мобильные работники чаще оказываются и более образованными, и более опытными, следствием чего становится их более высокая оплата по сравнению с внутренне мобильными работниками. Одновременно работники-новички сталкиваются с большим риском, чем работники-инсайдеры, поскольку обладают менее полной информацией о характеристиках рабочих мест, которые им предстоит занять. Компенсация за риск служит еще одним фактором, обеспечивающим им более высокую заработную плату. Двусторонняя информационная асимметрия приводит также к тому, что вариация в ненаблюдаемых способностях у пришедших извне работников оказывается выше, чем у внутренних назначенцев (среди них шире представлены индивиды как с худшими, так и с лучшими способностями). В результате для них оказываются характерны более высокие показатели как выбытия, так и дальнейшего продвижения по службе: фирмы избавляются от тех, чья производительность оказывается недостаточной, и продвигают тех, чья производительность превысила ожидания. Добровольные увольнения среди приходящих извне работников также должны быть выше, чем среди внутренних назначенцев, поскольку многие из них (из-за нехватки начальной информации) разочаровываются в полученных рабочих местах. Важно отметить, что отмеченные Бидуэллом закономерности относятся к работникам, находящимся на одном и том же уровне служебной иерархии, и сформулированы на материале одной крупной американской инвестиционной компании. Не очевидно, что они должны сохранять силу применительно ко всему массиву мобильных работников, работающих в разных фирмах и в разных отраслях.
Нам известны лишь две работы, посвященные трудовой мобильности на российском рынке труда [Мальцева, 2009; Рощин, Слесарева, 2012]. Обе строятся на данных РМЭЗ ВШЭ, в обеих рассматривается только внешняя мобильность. И. Мальцева, используя данные РМЭЗ ВШЭ за 2000–2006 гг., показывает, что межфирменная мобильность отрицательно связана с возрастом, специальным стажем и образованием работников. Для мужчин она выше, чем для женщин, в частном секторе – выше, чем в государственном. Смена места работы обеспечивает значительный экономический выигрыш – дополнительный прирост номинальной заработной платы, при прочих равных условиях, составляет около 14 %.
С. Рощин и А. Слесарева на данных РМЭЗ ВШЭ за 2000–2010 гг. рассматривают межфирменную мобильность среди молодежи. Согласно их оценкам, пол не оказывает влияния на вероятность межфирменных перемещений. С возрастом их интенсивность затухает, но возрастает с повышением уровня образования. В сельской местности они происходят реже, чем в городской. Факторами, положительно влияющими на смену места работы, выступают также продолжительность рабочего времени и хорошее здоровье. Что касается влияния внешней мобильности на заработную плату, то здесь были получены противоречивые результаты. Оценивание с использованием МНК показало, что по сравнению с иммобильными работниками мобильные получают более высокую заработную плату и что темпы ее прироста у них выше. Однако при переходе к модели с фиксированными эффектами выяснилось, что в спецификациях отдельно для мужчин и для женщин фактор мобильности становится вообще незначимым, а в спецификации для всех работников выигрыш в заработной плате составляет едва заметные 1,3 %. Конечно, эти выводы относятся к очень специфической группе – молодежи в возрасте 18–24 лет, так что не известно, приложимы ли они также и ко всей совокупности занятых.
Все перечисленные выше факторы, дестимулирующие длительные трудовые отношения и при этом подстегивающие внешнюю мобильность, присутствуют на российском рынке труда. Незначительные масштабы обучения, привязка переменной части заработной платы к финансовым результатам деятельности предприятия, значительная дифференциация заработных плат, особенности системы поддержки безработных, стимулирующие быстрые, но короткие соединения работников с рабочими местами, – все это вносит свой вклад в ускорение оборота рабочей силы.
Наш анализ институциональных характеристик и особенностей функционирования российского рынка труда [Гимпельсон, Капелюшников, 2015] позволяет выдвинуть гипотезу о сочетании интенсивной внешней мобильности и ограниченной внутренней. При этом внешняя и внутренняя мобильность должны быть важными факторами повышения заработной платы. Ее эмпирическая проверка и подробное обсуждение результатов будут представлены в последующих разделах главы.
5.3. Данные
Идеальным источником информации для такого рода исследований являются объединенные данные о работниках и работодателях (matched employer-employee data), которые позволяют с большой точностью регистрировать как мобильность, так и динамику заработной платы. Большие возможности также открывают базы данных, построенные на регистрах (например, [Frederiksen et al., 2016]). К сожалению, для анализа мобильности на российском рынке труда таких информационных ресурсов нет.
Наши расчеты строятся на данных РМЭЗ ВШЭ за 2006–2013 гг. РМЭЗ ВШЭ за эти годы содержит вопросы, позволяющие проследить изменения в положении индивида, произошедшие за последний год (в период между двумя последовательно проведенными обследованиями)[70]. Использование обследований домохозяйств для анализа мобильности имеет свои преимущества по сравнению с обследованиями фирм, так как последние обычно сильно скошены в пользу крупных фирм. В этом случае будет переоцениваться внутренняя мобильность и недооцениваться внешняя [McCue, 2006].
Для идентификации случаев внешней и внутренней мобильности работников мы используем два вопроса из основной анкеты, которые задавались занятым на предприятиях и в организациях[71]. Первый вопрос касается сохранения/смены места работы по сравнению с предыдущим годом: «Пожалуйста, вспомните и скажите, вы сменили место работы или профессию по сравнению с ноябрем предыдущего года или все осталось по-прежнему?». Он допускает следующие ответы:
1) профессия и место работы остались прежними;
2) сменили профессию, но не сменили место работы;
3) сменили место работы, но не сменили профессию;
4) сменили и место работы, и профессию.
Респонденты, выбравшие варианты ответов 1 и 2, могут рассматриваться как не подверженные, а выбравшие варианты 3 и 4 – как подверженные внешней мобильности.
Следующий вопрос задается только работникам, не менявшим места работы, и касается их возможных перемещений внутри предприятия: «После ноября предыдущего года изменились ли ваши позиции на этом месте работы? Например, вы:
1) продвинулись по службе, получили более высокую должность;
2) перешли работать в другое структурное подразделение – отдел, цех;
3) перешли на более низкую должность».
Анализируя этот вопрос, мы выносим за скобки случаи горизонтальной внутренней мобильности (переходы между структурными подразделениями) и рассматриваем в качестве мобильных только работников, переместившихся (по вертикали) либо на более высокую, либо на более низкую должность. В результате наша базовая классификация складывается из трех групп: 1) иммобильные (не сменившие место работы и оставшиеся в прежней должности); 2) внешне мобильные (сменившие место работы); 3) внутренне мобильные (не сменившие места работы, но при этом переместившиеся вверх или вниз по служебной лестнице). К сожалению, мы не располагаем информацией о том, сопровождаются ли переходы на новое место работы повышениями или понижениями в должности, поскольку второй вопрос, как уже было сказано, задается только респондентам РМЭЗ ВШЭ, не менявшим места работы. Это накладывает определенные ограничения на наш анализ. Другое серьезное ограничение связано с тем, что данные РМЭЗ ВШЭ не содержат информации о характере внешней мобильности – в каких случаях она была добровольной (увольнения по инициативе работников), а в каких – вынужденной (по инициативе работодателей).
При формировании показателя заработной платы использовался следующий вопрос анкеты РМЭЗ ВШЭ: «Скажите, пожалуйста, за последние 12 месяцев какова была ваша среднемесячная зарплата на этом предприятии после вычета налогов – независимо от того, платят вам ее вовремя или нет? Если вы работаете на этом предприятии меньше 12 месяцев, то какова была ваша среднемесячная зарплата за то время, что вы работаете; если все или часть денег вы получаете в иностранной валюте, переведите, пожалуйста, все в рубли и назовите сумму вашей среднемесячной зарплаты». Затем названная респондентом сумма дефлировалась к ценам 2005 г. с использованием годового ИПЦ и переводилась в логарифмический вид.
База РМЭЗ ВШЭ хорошо известна и используется едва ли не в большей части исследований по российскому рынку труда. Отметим только, что мы не вводим никаких ограничений (например, возрастных или по типу трудовых контрактов) и используем данные по всей выборке взрослых индивидов. Общее число годовых наблюдений варьируется от 6284 до 9847, в среднем – 8015 наблюдений ежегодно. Для экономии места мы не приводим развернутых таблиц с дескриптивными статистиками. Что касается демографической структуры, то здесь преобладают женщины (в среднем 54 %), а средний возраст индивидов составляет 40 лет. Половина респондентов (53,8 %) имеют третичное (высшее или среднее профессиональное) образование, а 35,6 % – вторичное. Примерно треть проживает в региональных столицах, еще треть – в малых населенных пунктах (ПГТ, село и т. д.) и лишь 11,4 % в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем, 60 % занятых являются «белыми воротничками», причем 2/3 из них занимают рабочие места, требующие высокого уровня квалификации. Все перечисленные параметры близки к официальным оценкам, публикуемым Росстатом.
5.4. Масштабы и динамика мобильности
На рис. П5-1 Приложения представлена динамика внешней и внутренней трудовой мобильности по данным РМЭЗ ВШЭ за 2006–2013 гг. Ежегодно в течение этого периода мобильным оказывался примерно каждый пятый работник (22 %). Интенсивность внешней мобильности была почти втрое выше внутренней: 16,3 против 5,8 %[72]. Частота восходящих внутренних перемещений намного превышала частоту нисходящих: соответственно 5,1 и 0,7 %. Если сравнивать с доступными данными по другим странам (см. раздел 5.2), то можно сделать вывод о том, что внешняя мобильность на российском рынке труда является очень высокой, тогда как показатели внутренней мобильности находятся примерно на том же уровне, что и в других странах (соответствующие оценки приводились выше).
С течением времени (в рамках наблюдаемого нами периода) мобильность на российском рынке труда постепенно ослабевала, причем это касалось как внешних, так и внутренних перемещений. По данным РМЭЗ ВШЭ, за 2006–2013 гг. интенсивность внешней мобильности сократилась с 18,2 до 15,7 %, а внутренней – с 6,7 до 4,1 %. При этом если переход с более высокого на более низкий уровень внешней мобильности совпал с экономическим кризисом 2008–2009 гг., то внутренняя мобильность ослабевала постепенно на протяжении всего рассматриваемого периода[73]. Возможно, это свидетельствует о том, что как внешние, так и внутренние лифты в эти годы стали работать хуже. Но допустима и противоположная интерпретация: не исключено, что это свидетельствует о возросшей эффективности мэтчинга между работниками и рабочими местами. При этом в динамике нисходящей внутренней мобильности никакого явно выраженного тренда не наблюдалось и, как правило, ее колебания происходили ниже отметки 1 %. Интересно, однако, отметить, что своего пика – 1,1 % – она достигла в кризисном 2009 г., что согласуется с теоретическими ожиданиями.
Насколько внешняя и внутренняя мобильность устойчивы во времени? Как перемещения работников в данном году влияют на их возможные перемещения в следующем году? Другими словами, является ли мобильность устойчивой структурной характеристикой индивида? Отметим, что с теоретической точки зрения возможен любой исход. С одной стороны, наличие определенного поведенческого опыта облегчает соответствующее поведение в будущем, снижая связанную с мобильностью неопределенность (индивид лучше представляет возможные в связи с этим риски). Кроме того, если интенсивность внешней мобильности положительно коррелирует со склонностью к риску (что, по-видимому, имеет место), то это обстоятельство будет постоянно подталкивать «к перемене мест»[74]. С другой стороны, если внешняя мобильность вызывается неудовлетворенностью от нынешнего мэтчинга, то смена работы может решать эту проблему, снимая стимулы к дальнейшим переходам [Jaeger et al., 2010].
Ответить на эти вопросы с помощью эмпирических данных позволяют табл. П5-1 и П5-2, где представлены матрицы вероятностей переходов между тремя альтернативными состояниями – иммобильности, внешней и внутренней мобильности. Оценки представлены в двух вариантах – без учета (табл. П5-1) и с учетом (табл. П5-2) переходов занятых работников в состояние незанятости. Результаты в обоих случаях оказываются очень близкими.
Так, мы видим, что предшествующий опыт перемещений – как внешних, так и внутренних – заметно стимулирует последующую мобильность. Среди тех, кто сменил место работы в году t, примерно каждый третий менял его затем также и в году t + 1, что в несколько раз выше аналогичного показателя для иммобильных работников. Столь высокая «вторичная» мобильность может свидетельствовать о том, что многим работникам не удается закрепиться на новом месте с первой попытки, и они вынуждены продолжать поиск [75].
У нас нет ответа на вопрос, что им мешает. Это могут быть как факторы выталкивания (например, производительность работника оказалась ниже ожидаемой и фирма предпочитает не продолжать трудовые отношения), так и факторы притяжения (для высокопроизводительных работников на рынке всегда есть лучшая альтернатива). Среди тех, кто продвигался по должностной лестнице в предыдущем году, примерно каждый пятый получал повышение и в последующем году, что также намного выше аналогичного показателя для иммобильных работников. Это предполагает, что во многих случаях внутренняя мобильность строится как непрерывное восхождение по ступеням карьерной лестницы.
В то же время опыт как внешних, так и внутренних перемещений практически не влияет на вероятность альтернативных форм трудовой мобильности. Так, среди внешне мобильных работников повышение по службе в следующем году получали около 6 % – это не намного больше, чем среди иммобильных работников. Среди внутренне мобильных работников место работы в следующем году меняли около 11 % – это также почти не отличается от ситуации с иммобильными работниками. Наконец, учет возможных перемещений в состояние незанятости (табл. П5-2) показывает, что если внутренняя мобильность снижает риск последующей потери работы (по сравнению с иммобильными работниками), то внешняя, напротив, его повышает, причем весьма значительно[76]. Другими словами, эти формы мобильности кажутся заменителями друг для друга, а не дополнениями. Это подтверждает, что значительная часть внешних перемещений направлена на неустойчивые рабочие места, тем самым предопределяя новые перемещения в будущем. Это также согласуется с данными о значительной (и растущей) доле неустойчивой неформальной занятости [В тени регулирования… 2014].
5.5. Групповая вариация
Показатели трудовой мобильности сильно варьируются по различным социально-демографическим группам (табл. П5-3).
Как и можно было бы ожидать, по показателю общей мобильности мужчины заметно превосходят женщин: в среднем за 2006–2013 гг. гендерный разрыв в интенсивности достигал 6 п.п. Однако он практически полностью объясняется более высокой внешней мобильностью мужчин, тогда как по интенсивности внутренней мобильности женщины им почти не уступают (что достаточно неожиданно). (С известными оговорками это можно рассматривать как свидетельство достаточно слабой гендерной дискриминации на российском рынке труда – во всяком случае, если говорить о шансах на продвижение по служебной лестнице.)
Вполне естественно, что с возрастом мобильность последовательно ослабевает, причем это касается как внешних, так и внутренних перемещений. Так, среди молодежи (до 30 лет) интенсивность внешней мобильности превышает 25 %, а внутренней достигает 8,5 %, тогда как среди пожилых (50 лет и старше) аналогичные показатели составляют соответственно лишь 9,5 и 3 %. Этот результат не удивителен, поскольку и активность на внешнем рынке труда (в поисках наиболее подходящего места работы), и частота продвижений по должностной лестнице (на начальном этапе трудовой карьеры) должны быть максимальными у молодежи и снижаться по мере приближения пенсионного возраста. В то же время после достижения пенсионного возраста у работников возрастает вероятность нисходящей внутренней мобильности (см. табл. П5-3).
В ряду образовательных групп самыми иммобильными являются обладатели среднего профессионального образования. Среди них в той или иной форме мобильности ежегодно участвуют около 19 %, среди обладателей вторичного образования (полного среднего и начального профессионального) свыше 23 %, а среди обладателей первичного (неполного среднего и ниже) – свыше 25 %. Для работников, получивших вузовские дипломы, этот показатель составляет 22 %. Таким образом, связь мобильности с накоплением человеческого капитала является нелинейной. В то же время, когда мы смотрим отдельно на внутреннюю и внешнюю мобильность, эта связь оказывается однозначной – однозначно положительной в первом случае и однозначно отрицательной во втором. Так, интенсивность внутренней мобильности для обладателей вузовских дипломов достигает 9 против 4 % у лиц, не пошедших дальше неполной средней школы. По-видимому, во многих ситуациях обладание высшим образованием выступает важным условием для продвижения вверх по карьерной лестнице. И наоборот: у работников с третичным образованием (высшим или средним профессиональным) внешними перемещениями охвачено только 13 против 22 % среди работников с первичным образованием. Конечно, причина такой связи образования и мобильности может быть не в уровне образования как таковом, а в том, что его отсутствие ведет на неустойчивые рабочие места, повышая тем самым риски многократного трудоустройства.
Получение дополнительного обучения стимулирует мобильность, но здесь многое зависит от того, за чей счет оно финансируется. Если подготовка, оплачиваемая работодателями, активизирует внутреннюю мобильность, то оплачиваемая самими работниками – внешнюю. Так, работники, проходившие дополнительное обучение за счет работодателя, примерно вдвое чаще, чем работники, его не проходившие или проходившие его за собственный счет, получали новые назначения внутри своих предприятий. В то же время работники, дополнительно обучавшиеся за свой счет, примерно вдвое чаще, чем не обучавшиеся работники или работники, обучавшиеся за счет работодателя, уходили на другие предприятия. Похоже, что получение дополнительного обучения за счет работодателя выступает важным предварительным условием повышения по службе (мы здесь имеем в виду связь этих событий, а не строгую причинность), тогда как получение дополнительного образования за свой счет часто становится прологом к смене места работы. Этот результат полностью соответствует предсказаниям теории человеческого капитала.
Достаточно неожиданные результаты мы получаем для предприятий разного размера. Первоначально с увеличением их размеров внешняя мобильность убывает, тогда как внутренняя – возрастает. Это вполне закономерно, поскольку текучесть рабочей силы на малых предприятиях, как правило, намного выше, а внутренние рынки труда, которыми они располагают, намного уже (служебная пирамида состоит из меньшего числа этажей). Поскольку же первый эффект сильнее второго, то это ведет к последовательному ослаблению общей мобильности. Однако в случае сверхкрупных предприятий (с численностью 1000 занятых и выше) эта закономерность оказывается нарушенной: показатели внутренней мобильности у них неожиданно «проваливаются», а внешней – неожиданно подскакивают резко вверх. Объяснение этого парадоксального результата кроется, возможно, в том, что крупные производства требуют обычно значительного массива работников невысокой квалификации, которые, с одной стороны, не имеют больших перспектив для карьерного роста, а, с другой, отличаются повышенной склонностью к текучести. К тому же процессы постепенного сокращения занятости на подобных предприятиях, которые не останавливались в исследуемые годы, затрагивали в первую очередь именно таких работников.
Государственные и негосударственные (российские) предприятия практически не отличаются по интенсивности внутренней мобильности, но по интенсивности внешней мобильности первые значительно – примерно вдвое – проигрывают вторым. Если первый результат расходится с ожиданиями (с учетом большей протяженности служебной лестницы в государственных предприятиях и учреждениях естественно было бы предполагать, что внутренняя мобильность на них должна быть выше), то второй полностью им соответствует: хорошо известно, что по показателям текучести рабочей силы частный сектор намного превосходит государственный. (Это – универсальный феномен, характерный для всех без исключения стран.) Однако лидерами по показателям как внутренней, так и внешней мобильности выступают предприятия с иностранной собственностью. Скорее всего, это связано с тем, что такие предприятия являются наиболее эффективным и динамично растущим сектором российской экономики. Отсюда – более высокая потребность в найме дополнительного персонала и более широкие возможности для карьерного роста внутри них.
Внутренняя мобильность монотонно убывает по мере спуска вниз по ступеням профессионально-квалификационной иерархии: наиболее активные перемещения на внутреннем рынке труда характерны для руководителей (ОКЗ-1), наименее активные – для неквалифицированных рабочих (ОКЗ-9). И наоборот: на внешний рынок чаще всего выходят неквалифицированные рабочие, реже всего – руководители и специалисты высшего уровня квалификации[77].
Среди секторов самая высокая внутренняя мобильность наблюдается в промышленности и нерыночных услугах (где средний размер предприятий больше, чем в других видах экономической деятельности), самая низкая – в сельском хозяйстве. По интенсивности внешних перемещений безусловным лидером выступает строительство, традиционно отличающееся высокой текучестью рабочей силы. Реже всего такие перемещения происходят в нерыночных услугах – государственном управлении, образовании и здравоохранении.
Влияние характеристик внутреннего рынка труда на показатели мобильности показано в последней секции (двух строках) табл. П5-3. Все работники разбиты в ней на две группы – имеющие и не имеющие подчиненных. Естественно ожидать, что большинство работников, занимающих «начальственные» позиции, во-первых, располагают значительными возможностями для карьерного роста (над ними находится много этажей, куда они при благоприятном стечении обстоятельств могут перемещаться) и, во-вторых, по этой причине менее склонны к переходу на другие предприятия. Данные РМЭЗ ВШЭ согласуются с этими интуитивными предположениями. Если у работников, имеющих подчиненных, интенсивность внутренних перемещений приближается к 14 % (!), то у работников без подчиненных не превышает 3 %. В то же время у первых вероятность перехода на другое место работы оказывается в полтора раза ниже, чем у вторых: чуть более 11 против почти 17 % соответственно.
Объем накопленного специфического человеческого капитала – ключевая характеристика, от которой зависят перспективы работников на внутреннем рынке труда. В табл. П5-4 приведены оценки внутренней мобильности в зависимости от величины специального стажа (продолжительности работы на данном предприятии). (По понятным причинам такой анализ невозможен для внешне мобильных работников, поскольку у них специальный стаж по определению не превышает одного года.) Мы обнаруживаем вполне ожидаемую картину. «Новички», только что принятые на работу, имеют максимально высокие шансы продвижения вверх по служебной лестнице: из них в течение первого года работы более высокую должность получает каждый седьмой. По мере увеличения специального стажа вероятность продвижения вверх последовательно убывает, достигая минимума в группе «старожилов» (со специальным стажем 10 лет и более). Но одновременно у «новичков» наблюдается и самая высокая нисходящая внутренняя мобильность. Среди них в течение первого года работы на карьерное понижение идет примерно каждый двадцатый. Эти результаты показывают, что при приеме на работу работодатели достаточно плохо осведомлены о потенциальной производительности нанимаемых ими работников, и в зависимости от того, как «новички» показывают себя в деле, их достаточно быстро начинают перемещать вверх или вниз по служебной лестнице. Еще одна группа с интенсивностью нисходящей внутренней мобильности выше средней – «старожилы». Среди них достаточно много лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые могут переводиться на более низкие должности по «возрастным» причинам (состояние здоровья и т. д.).
Как мы упоминали выше, показатели специального стажа на момент проведения обследования не позволяют увидеть, как накопление специфического человеческого капитала связано с внешней мобильностью (поскольку все работники, сменившие место работы, попадают в группу со специальным стажем до одного года). Чтобы преодолеть это ограничение, мы сформировали двухгодичные панели для смежных по времени обследований и на их основе выделили группы в зависимости от величины специального стажа на момент проведения предыдущего обследования (т. е. не в текущем, а в предшествующем году). Полученные оценки представлены в табл. П5-5[78]. Из них видно, что наиболее сильной склонностью к внешней мобильности отличаются работники со специальным стажем до года: среди них почти каждый третий (!) в течение следующего года меняет место работы. Затем по мере накопления специфического человеческого капитала склонность к «перемене мест» последовательно убывает. Однако в группе «старожилов» она вновь идет вверх. Связать это можно с тем, что в этой группе присутствует значительное число работников старшего возраста, многие из которых после выхода на пенсию – по разным причинам – хотят или вынуждены сменить место работы[79].
Хотя двумерные распределения дают представление о том, с чем может быть связана мобильность, они не учитывают влияния других факторов. Далее мы используем стандартную эконометрическую технику, предполагающую контроль прочих переменных.
5.6. От чего зависит трудовая мобильность?
На следующем этапе анализа мы исследуем факторы, связанные с трудовой мобильностью. Менять работу или нет – это индивидуальное решение, принимаемое в рамках избранной стратегии на рынке труда, и оно зависит от разных обстоятельств. Мы представляем его с помощью модели множественного выбора, описываемой мультиномиальной логит-регрессией. Для оценивания мы используем панель, охватывающую 2006–2013 гг. Математически мультиномиальная логит-регрессия может быть записана следующим образом:
Зависимая переменная принимает три возможных значения: 1 – иммобильность, 2 – внутренняя мобильность, 3 – внешняя мобильность. Поскольку нисходящая внутренняя крайне невелика, мы объединили всех внутренне мобильных работников – как с переходами вверх, так и с переходами вниз – в одну группу. В качестве независимых переменных выступали различные характеристики работников и рабочих мест. Это – пол; возраст (4 группы); семейное положение; образование (4 уровня); тип поселения; регион (федеральные округа); размер предприятия (5 групп по численности персонала); форма собственности предприятия (3 группы); профессиональная принадлежность (4 группы); отраслевая принадлежность (5 групп); наличие/отсутствие подчиненных (3 группы); получение дополнительного профессионального образования (3 группы); год проведения обследования.
Поскольку при таком подходе (исключении незанятых) мы сталкиваемся с потенциальной проблемой самоотбора в занятость, дополнительно мы оценивали две альтернативные спецификации. Во-первых, на пуле занятых работников с включением только их индивидуальных характеристик (без характеристик рабочих мест) и, во-вторых, на пуле всех респондентов (включая незанятых) с добавлением еще одного, четвертого, возможного исхода – незанятости. Поскольку коэффициенты в мультиномиальных регрессиях сложны для интерпретации, на основании полученных результатов мы произвели симуляции, рассчитав условные (при фиксации всех прочих характеристик на уровне средних по выборке) вероятности попадания в состояния иммобильности, внутренней и внешней мобильности для различных типов работников (а также в состояние назанятости при использовании третьей спецификации)[80]. Результаты представлены в табл. П5-6-П5-7.
Анализ показал, что симулированные вероятности, рассчитанные на основе всех трех спецификаций, практически совпадают. Отсюда можно сделать вывод, что в нашем случае проблема самоотбора в занятость не является критической и что мы можем пользоваться оценками, полученными для наиболее полной спецификации с включением характеристик рабочих мест, относящейся только к занятым работникам (левая панель табл. П5-6).
В целом результаты эконометрического анализа хорошо согласуются с основными выводами из обсуждения дескриптивных данных.
Так, при прочих равных условиях, общая трудовая мобильность среди мужчин оказывается заметно выше, чем среди женщин. Это «превосходство» достигается практически целиком за счет более высокой внешней мобильности у мужчин (17 против 13 %), тогда как по частоте перемещений на внутреннем рынке труда мужчины и женщины почти не различаются.
Трудовая мобильность монотонно убывает с возрастом, причем это касается обеих ее форм. Внешняя мобильность снижается с 21 % у молодежи до 9 % среди пожилых, внутренняя – с 9 % среди молодежи до 3 % среди пожилых.
С ростом уровня образования внешняя мобильность имеет тенденцию к снижению. Напротив, внутренняя мобильность выше у более образованных и ниже у менее образованных работников. Однако такая закономерность соблюдается только тогда, когда мы не учитываем характеристики рабочих мест (правая панель табл. П5-6). При их контроле связь внутренней мобильности с образованием исчезает (левая панель табл. П5-6).
Дополнительное профессиональное обучение, оплаченное работодателем, повышает вероятность внутренней, тогда как оплаченное самим работником, – вероятность внешней мобильности. Самыми иммобильными оказываются работники, не получавшие никакого дополнительного обучения.
Лица, не состоящие в браке, несколько чаще перемещаются на внешнем рынке труда, но на внутреннюю мобильность семейное положение заметного влияния не оказывает.
Мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург – лидируют по частоте как внутренних, так и внешних перемещений. Аутсайдером и в том, и в другом отношении выступает село. Вообще из полученных оценок можно сделать вывод, что трудовая мобильность последовательно убывает по мере уменьшения размеров населенных пунктов, где проживают работники. (При отсутствии контроля за характеристиками рабочих мест (правая панель табл. П5-6) эти контрасты оказываются выражены еще резче.)
Среди федеральных округов относительно более высокая мобильность наблюдается в Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО, относительно более низкая – в Центральном и Приволжском ФО. Такие различия прослеживаются по большей части как для внутренней, так и для внешней мобильности.
Со стороны такого фактора, как размер предприятия, мы не обнаруживаем какой-либо однозначной связи с мобильностью. Так, например, внутренняя мобильность оказывается максимальной, а внешняя минимальной для занятых на предприятиях среднего размера.
Лидерами по интенсивности как внутренней, так и внешней мобильности выступают предприятия с иностранной собственностью. Если же сравнивать государственные и частные российские предприятия, то первые оказываются впереди по вероятности перемещений на внутреннем, тогда как вторые – по вероятности перемещений на внешнем рынке труда.
Как и можно было бы ожидать, чаще всего на внешний рынок труда выходят неквалифицированные синие воротнички, а реже всего – квалифицированные белые воротнички. В то же время частота перемещений в пределах внутреннего рынка труда у белых воротничков оказывается заметно выше, чем у синих воротничков.
Среди отраслей наиболее высокая внешняя мобильность наблюдается в строительстве (следом идут рыночные услуги), наиболее низкая – в сельском хозяйстве. Что касается показателей внутренней мобильности, то в большинстве отраслей они удерживаются в очень узком диапазоне – 5,5–6%. Единственной отраслью, где они выходят за эти границы, и то незначительно, является промышленность.
Занятые на «неначальственных» должностях намного чаще выходят на внешний рынок труда, тогда как занятые на «начальственных» намного чаще (в три раза!) перемещаются в пределах внутреннего рынка труда.
Как показывают вероятности для календарных дат проведения обследований, со временем как внутренняя, та и внешняя мобильность на российском рынке труда постепенно ослабевали. Этот процесс несколько затормозился в годы, последовавшие за кризисом 2008–2009 гг., но в 2013 г. он, похоже, возобновился. В итоге, при прочих равных условиях, в начале рассматриваемого нами периода вероятность внутренних перемещений достигала 7,5 %, а внешних – 17,7 %, тогда как в конце аналогичные показатели составляли соответственно 4,9 и 14,3 %.
Дополнительно мы оценили спецификацию с включением переменной мобильности в предыдущем периоде (три значения – стабильность, внешняя мобильность, внутренняя мобильность). Как показывают полученные оценки, мобильность является во многом «инерционным» процессом: опыт внешней мобильности в прошлом году повышает ее вероятность в нынешнем году – точно так же, как опыт внутренней мобильности в прошлом году повышает ее вероятность в нынешнем году (табл. П5-8). Этот результат согласуется
с эмпирическими наблюдениями по многим другим странам, показывающими, что интенсивность как межфирменных, так и внутрифирменных перемещений затухает по мере увеличения специального стажа (см. раздел 5.2). В то же время связь между альтернативными формами мобильности оказывается достаточно слабой (внешне мобильные и иммобильные работники в период t – 1 почти не отличаются по интенсивности внутренней мобильности в период t, точно так же как внутренне мобильные и иммобильные работники в период t – 1 почти не отличаются по интенсивности внешней мобильности в период t).
В целом наш анализ свидетельствует, что в России на межфирменную и внутрифирменную мобильность влияют те же факторы, что и в большинстве других стран мира, по которым имеются данные, и что, как правило, их действие является сходным. В этом смысле можно говорить о «нормальности» процессов трудовой мобильности в условиях российского рынка труда.
5.7. Мобильность и заработная плата
Как было сказано выше, исследования в разных странах фиксируют связь между мобильностью и заработной платой, хотя вопрос о причинности (мобильность «толкает» вверх заработную плату или более высокая оплата «вытягивает» работников на новые рабочие места?) остается без ответа. В этой работе мы также не претендуем на то, что можем определить направление влияния.
Анализ связи мобильности и заработной платы мы начинаем с обсуждения различий в средних показателях.
Как показывает табл. П5-9, в среднем за 2006–2013 гг. внутренне мобильные работники зарабатывали примерно на четверть больше, чем внешне мобильные, а внешне мобильные работники – примерно на 5 % больше, чем иммобильные. Таким образом, самой высокооплачиваемой группой были работники, перемещавшиеся по должностной лестнице внутри фирм, самыми низкооплачиваемыми – работники, остававшиеся на том же месте, где были и год назад. (Если для внутренне мобильных работников мы различаем направление мобильности (вверх или вниз), то тогда самой низкооплачиваемой группой вполне предсказуемо оказываются работники, испытавшие понижение в должности.)
Однако приведенные оценки относятся к показателям заработной платы, фиксировавшимся после того, как происходили перемещения. Не меньший интерес представляет вопрос, как они соотносились до этого[81]. Как видно из табл. П5-9, в этом случае расположение групп по уровню заработной платы остается тем же: впереди – внутренне мобильные, затем – внешне мобильные, в конце – иммобильные работники. Однако межгрупповые различия оказываются тогда заметно меньше. Это предполагает, что, во-первых, мобильность (особенно – внутренняя) чаще затрагивает высокооплачиваемые категории персонала, и что, во-вторых, она, как правило, сопровождается достаточно сильным приростом заработной платы, так что после перемещения превосходство мобильных работников над иммобильными возрастает.
В то же время, если говорить о темпах прироста заработной платы, то здесь лидерами выступают внешне мобильные, за ними следуют внутренне мобильные и замыкают ряд иммобильные работники (табл. П5-10). У первых среднегодовые темпы прироста реальной заработной платы в период 2005–2013 гг. достигали 23 %, у вторых составляли 19 %, у третьих приближались к 10 %. С этой точки зрения стратегия внешней мобильности предстает как экономически наиболее привлекательная. При этом наибольшую отдачу такая стратегия обеспечивала до кризиса 2008–2009 гг.; в последние же годы она практически перестала давать видимые преимущества по сравнению с альтернативной стратегией внутренней мобильности.
Эконометрический анализ связи между мобильностью и заработной платой мы начинаем с оценивания стандартного уравнения Минцера с помощью МНК (табл. П5-11). Оцениваемое уравнение имеет вид
Зависимой переменной является натуральный логарифм денежной заработной платы ln (Wagei), полученной респондентом за месяц (в ценах 2005 г.). Вектор Хвключает все контролируемые характеристики индивида i (пол, возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, федеральные округа, размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, тип собственности предприятия, год); Di – переменная, отвечающая за мобильность индивида; εί – независимые и одинаково распределенные по индивидам остатки.
Полученные оценки показывают, как при прочих равных условиях соотносились уровни реальной заработной платы мобильных и иммобильных работников. Как можно заключить из табл. П5-11, между иммобильными и внешне мобильными работниками, обладающими сходными характеристиками, серьезных различий не наблюдается. Иными словами, они оплачиваются практически одинаково. В то же время внутренне мобильные работники зарабатывали в среднем примерно на 7 % больше, чем иммобильные. Другими словами, заработки двух работников, имеющих идентичные наблюдаемые характеристики, но различающиеся фактом продвижения в текущем году (один работник был повышен, а положение другого не изменилось), будут различаться на указанную величину.
Однако связь между мобильностью и заработной платой в такой спецификации не является причинной. Переменная D,· – индикатор мобильности – не является экзогенной. Она может коррелировать с ненаблюдаемыми характеристиками индивидов (аккумулированными в остатке ε), которые при этом прямо влияют на зарплату. (Например, способности, которые определяют производительность и через нее и мобильность, и заработную плату.) В этом смысле мобильность осуществляет лишь трансмиссию прочих эффектов. Кроме того, связь может быть и обратной: от заработной платы к мобильности. В этом случае именно более высокая заработная плата на стороне является спусковым механизмом мобильности. Такой вариант также кажется вполне вероятным[82].
Мы можем воспользоваться панельной природой наших данных для того, чтобы ослабить эндогенность мобильности по отношению к заработной плате. Оценка моделей с фиксированными и случайными эффектами (табл. П5-11), позволяющих частично решать эту проблему (в части влияния ненаблюдаемой неоднородности), приводит к сходным результатам: коэффициенты для внешней мобильности остаются статистически незначимыми, тогда как для внутренней – значимыми и положительными (правда, выигрыш от нее в этих спецификациях снижается примерно вдвое – до 3–4%).
Как показывают оценки отдельно для мужчин и женщин, ситуация для гендерных групп выглядит неодинаково (табл. П5-12). Если при прочих равных условиях внешне мобильные женщины оплачиваются примерно так же, как иммобильные, то внешне мобильные мужчины по заработкам немного проигрывают иммобильным. Если внутренне мобильные мужчины зарабатывают примерно столько же, сколько иммобильные, то внутренне мобильные женщины – на 5-10 % больше, чем иммобильные. Похоже, что женщины выигрывают от перемещений как на внешнем, так и на внутреннем рынке труда больше мужчин.
Насколько устойчивыми являются эффекты мобильности? Нельзя исключить, что выигрыш от нее является краткосрочным и что он наблюдается только непосредственно после перемещения на новое место, а в последующие годы «уходит в песок», так что различия в заработках между мобильными и иммобильными работниками исчезают. Возможен, естественно, и обратный вариант, когда со временем эти различия, наоборот, нарастают. Чтобы выяснить это, мы оценивали также минцеровское уравнение для заработной платы не в том же году, в котором имело место перемещение, как в табл. П5-12, а для заработной платы год или два года спустя после того, как оно состоялось. Иными словами, мы сравнивали заработную плату в году t + 1 у работников, бывших мобильными в году t и немобильными в году t + 1, с заработной платой в году t + 1 у работников, бывших немобильными оба года, либо заработную плату в году t + 2 у работников, бывших мобильными в году t и немобильными в году t + 1 и в году t + 2, с заработной платой в году t + 2 у работников, бывших немобильными все три года. Результаты представлены в табл. П5-13. Мы видим, что в обеих спецификациях они практически не отличаются от результатов оценивания нашего базового уравнения для заработной платы в году t. Между внешне мобильными и иммобильными работниками различия отсутствуют (коэффициенты при соответствующей переменной являются статистически незначимыми), а заработная плата внутренне мобильных работников через один-два года продолжает превышать заработную плату иммобильных работников на 6,5–7,5 %. Иными словами, тот разрыв в заработках между мобильными и иммобильными работниками, который наблюдается сразу после перемещения, затем практически не меняется – со временем он не убывает и не возрастает.
На следующем шаге мы оценивали модель, где в качестве зависимой переменной использовалась разность в логарифмах реальной заработной платы между текущим и прошлым годами. Эти оценки показывают, как, при прочих равных условиях, соотносятся темпы прироста реальной заработной платы у мобильных и иммобильных работников. Как следует из табл. П5-14, у внешне мобильных работников в среднем она повышалась за год на 5 % быстрее, а у внутренне мобильных работников – на 6 % быстрее, чем у иммобильных. В этом смысле как внешняя, так и внутренняя мобильность обеспечивали заметную премию и являлись достаточно хорошо окупаемыми инвестиционными стратегиями. Оценивание моделей со случайными и фиксированными эффектами дает практически те же результаты. Повторим, отсюда не следует, что именно мобильность движет вверх заработную плату, но связь между этими явлениями подтверждается.
Как можно интерпретировать полученные результаты? Они предполагают, что ситуации, в которых находятся внешне и внутренне мобильные работники, развиваются по разным сценариям. Как правило, до перемещения внешне мобильные работники оплачиваются по ставкам ниже рыночных[83], что и становится для них стимулом для перехода на другие предприятия. После перемещения они начинают оплачиваться по рыночным ставкам (о чем свидетельствует отсутствие различий в уровнях заработной платы по сравнению с иммобильными работниками). В отличие от этого внутренне мобильные работники до повышения получают примерно такую же заработную плату, как иммобильные, но после перемещения начинают зарабатывать больше, чем они.
Оценки отдельно для мужчин и для женщин подтверждают наше предположение, что в относительных терминах мобильность (причем как внутренняя, так и внешняя) является более выигрышной стратегией для женщин. При перемещениях заработная плата возрастает у них в среднем примерно на 8 %, тогда как у мужчин – только на 3 % (табл. П5-15).
Расчет по двухгодичным панелям (табл. П5-16) дает основания полагать, что отдача от внешней мобильности была максимальной в период до кризиса 2008–2009 гг., резко упала в кризис и затем восстановилась, хотя и не до исходной высокой отметки. В отличие от этого в оценках отдачи от внутренней мобильности никакой явно выраженной динамики не обнаруживается, в конце рассматриваемого периода она оставалась примерно на том же уровне, что и в его начале.
Полученные нами оценки отдачи от мобильности фактически говорят о том, как меняется заработная плата в случае межфирменных или внутрифирменных перемещений работников при условии идентичности их отраслевой и профессиональной принадлежности. Очевидно, однако, что смена места работы очень часто сопровождается одновременной сменой отрасли и/или профессии. Естественно при этом полагать, что, как правило, потоки на рынке труда будут направляться из хуже оплачиваемых профессий и отраслей в лучше оплачиваемые. Как следствие, «валовой» эффект трудовой мобильности может превышать оценки ее «чистого» эффекта. Однако, как показывают наши расчеты, оценки без контроля отраслевой и профессиональной принадлежности работников оказываются не намного выше оценок с их контролем. Иными словами, «валовой» эффект трудовой мобильности почти не отличается от «чистого».
5.8. Заключение
В данной главе мы обсуждаем две взаимосвязанные формы трудовой мобильности: вертикальное движение работников по внутрифирменной лестнице рабочих мест и горизонтальное перемещение между работодателями (вне связи с вертикальным движением). В ходе своей трудовой жизни индивиды периодически оказываются на развилке: «двигаться» или нет, а если да, то куда. Делая свой выбор, индивид руководствуется ожидаемой выгодой с учетом всех прогнозируемых им издержек.
Здесь возникает целая цепочка взаимосвязанных вопросов о том, какова динамика и детерминанты мобильности, как последняя связана с накоплением и использованием человеческого капитала, какие выгоды (или потери?) она сулит в терминах заработной платы. Мы констатируем, что убедительные ответы на эти «простые» вопросы пока отсутствуют. Но если внешняя мобильность на российском рынке труда все же уже привлекала внимание исследователей, то внутренняя до сих пор оставалась вне анализа и обсуждения. Тем более редки случаи их рассмотрения как взаимосвязанных опций одного выбора.
Эмпирической базой нашего анализа являлись данные РМЭЗ ВШЭ за 2006–2013 гг. Они позволяют не только измерять интенсивность внешней и внутренней мобильности, но и анализировать, от каких факторов зависят внешние и внутренние перемещения и как они влияют на заработную плату работников.
Российский рынок труда «славится» высокой интенсивностью внешней мобильности. Результаты нашего исследования подтверждают этот вывод. В течение наблюдаемого периода ежегодно примерно каждый пятый работник (22 %) менял работу либо перемещался на внутреннем рынке труда. При этом интенсивность внешней мобильности была почти втрое выше внутренней, а частота восходящих внутренних перемещений намного превышала частоту нисходящих. Однако наше исходное предположение о том, что российский рынок труда отличается низкой внутренней мобильностью, не подтвердилось. При сравнении с аналогичными оценками, доступными по другим странам, мы видим, что в российских условиях внутренние перемещения происходят примерно с той же частотой, что и в странах с наиболее мобильными внутренними рынками труда. Можно предположить, что высокая внешняя мобильность, характерная для российского рынка труда, приводит к «оголению» большого числа рабочих мест, и поскольку многие из них начинают заполняться «инсайдерами», это способствует поддержанию внутренней мобильности также на достаточно высокой отметке. В этом смысле внешняя мобильность выступает катализатором внутренней.
По данным РМЭЗ ВШЭ, постепенно (в рамках наблюдаемого нами временного периода) мобильность ослабевала, причем это касалось как внешних, так и внутренних перемещений. Это может объясняться как возросшим качеством мэтчинга, так и сокращением возможностей (вакансий) для «хорошей» мобильности. В пользу второго объяснения говорит то, что значительная часть внешних перемещений шла на неустойчивые рабочие места, тем самым предопределяя новые перемещения в будущем.
За средними цифрами мобильности скрывается значительная межгрупповая вариация. Мужчины в целом динамичнее женщин, молодежь мобильнее пожилых, а работники с высшим образованием «стабильнее», чем не имеющие оного. С увеличением размера предприятий увеличиваются шансы на внутреннее продвижение и снижается вероятность внешних перемещений, но эта связь является нелинейной. На самых крупных предприятиях внутренняя мобильность оказывается ниже, а внешняя выше, чем на предприятиях среднего размера. Доступ к производственному обучению за счет работодателя стимулирует перемещения на внутреннем, тогда как доступ к производственному обучению за счет работника – на внешнем рынке труда.
Очень часто мобильность не ограничивается одним календарным годом, а строится как цепочка последовательных перемещений: переход на другое предприятие в данном году повышает вероятность такого перехода в следующем, точно так же как продвижение по службе в данном году повышает вероятность дальнейшего продвижения в следующем. Можно говорить о существовании группы «летунов» (работников, постоянно меняющих место работы») и группы «карьеристов» (работников, из года в год продвигающихся вверх по карьерной лестнице).
Мобильность на рынке труда тесно и положительно связана с динамикой заработной платы, хотя что здесь является причиной, а что следствием, не столь очевидно. Перемещения могут вести к более высокой оплате, но стремление к ней может нарушать стабильность трудовых отношений. Но если до перемещения внешне мобильные работники получают в среднем заработную плату несколько ниже «рыночной», то внешне мобильные – примерно на «рыночном» уровне. Иначе говоря, если первые всего лишь «догоняют» иммобильных работников, то вторые – начинают их опережать.
Данные о динамике показателей мобильности хорошо согласуются с данными о динамике отдачи от нее. Мы видим, что отдача от внешней мобильности постепенно снижалась (это снижение оказывается еще сильнее, если сравнивать с оценками И. Мальцевой для более раннего периода), что, по-видимому, в значительной мере подрывало стимулы к межфирменным перемещениям.
В любом случае, как показывают наши результаты, мобильность в условиях российского рынка труда – как внешняя, так и внутренняя – является разумной и неплохо окупаемой стратегией. Она выступает важнейшим механизмом, обеспечивающим приведение оплаты труда работников в соответствие с их производительностью.
Приложение П5
Рис. П5-1. Динамика показателей внешней и внутренней мобильности, 2006–2013 гг., %
Таблица П5-1.
Матрица переходов между состояниями иммобильности, внутренней и внешней мобильности, 2006–2013 гг.(усредненные показатели), %
Таблица П5-2.
Матрица переходов между состояниями иммобильности, внутренней мобильности, внешней мобильности и незанятости,2006–2013 гг. (усредненные показатели), %
* Группа незанятых в корпоративном секторе, включающая безработных, неактивных и самозанятых.
Таблица П5-3. Показатели трудовой мобильности по социально-демографическим группам, 2006–2013 гг. (усредненные показатели), %
Таблица П5-4. Показатели трудовой мобильности по специальному стажу на момент обследования, 2006–2013 гг. (усредненные показатели), %
Таблица П5-5. Показатели трудовой мобильности по специальному стажу на момент предыдущего обследования, 2006–2013 гг. (усредненные показатели), %
Таблица П5-6. Мультиномиальная логит-регрессия, симулированные условные вероятности, 2006–2013 гг. Зависимая переменная – мобильность (3 состояния)
Примечания. Все коэффициенты значимы на однопроцентном уровне (р < 0,01). В регрессиях дополнительно контролировались регион проживания (федеральный округ) и год обследования.
Таблица П5-7. Мультиномиальная логит-регрессия, симулированные условные вероятности, 2006–2013 гг. Зависимая переменная – мобильность (4 состояния)
Примечания. Все коэффициенты значимы на однопроцентном уровне (р < 0,01). В регрессиях дополнительно контролировались регион проживания (федеральный округ) и год обследования. Группа незанятых в корпоративном секторе включает безработных, неактивных и самозанятых.
Таблица П5-8. Мультиномиальная логит-регрессия, симулированные условные вероятности, 2006–2013 гг. Зависимая переменная – мобильность (3 состояния)
Примечания. Все коэффициенты значимы на однопроцентном уровне (р < 0,01). В регрессиях дополнительно контролировались пол, возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, регион (федеральные округа), размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, ДПО, тип собственности предприятия, год.
Таблица П5-9. Усредненные показатели реальной заработной платы по группам внутренне мобильных, внешне мобильных и иммобильных работников, тыс. руб. (индекс потребительских цен в 2005 г. = 100 %)
Таблица П5-10.
Темпы прироста реальной заработной платы по группам внутренне мобильных, внешне мобильных и иммобильных работников, 2006–2013 гг.*, %
* Оценки с усечением 5 % наблюдений с самыми низкими и самыми высокими значениями.
Таблица П5-11. Оценка уравнения для логарифма реальной заработной платы, 2006–2013 гг.
Примечания. *** – p < 0,01, ** – p < 0,05, * – p < 0,1. Стандартные ошибки робастные и кластеризованы по индивидам. Для экономии места приводятся результаты оценивания только для переменных внешней и внутренней мобильности. В регрессиях дополнительно контролировались пол, возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, регион (федеральные округа), размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, тип собственности предприятия, год и продолжительность рабочей недели (логарифм).
Таблица П5-12. Оценка уравнения для логарифма реальной заработной платы по полу с использованием МНК, 2006–2013 гг.
Примечания. – p < 0,01, – p < 0,05, – p < 0,1. Стандартные ошибки робастные и кластеризованы по индивидам. Для экономии места приводятся результаты оценивания только для переменных внешней и внутренней мобильности. В регрессиях дополнительно контролировались возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, регион (федеральные округа), размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, тип собственности предприятия, год и продолжительность рабочей недели (логарифм).
Таблица П5-13. Оценка уравнения для логарифма реальной заработной платы через год и через два года после перемещения с использованием МНК, 2006–2013 гг.
Примечания, см. примечания к табл. П5-11.
Таблица П5-14. Оценка уравнения для разностей логарифмов реальной заработной платы, 2005–2013 гг.
Примечания. Все коэффициенты значимы на однопроцентном уровне (р < 0,01). Стандартные ошибки робастные и кластеризованы по индивидам. Для экономии места приводятся результаты оценивания только для переменных внешней и внутренней мобильности. В регрессиях дополнительно контролировались пол, возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, регион (федеральные округа), размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, тип собственности предприятия, год и продолжительность рабочей недели (разность логарифмов).
Таблица П5-15. Оценка уравнения для разностей логарифмов реальной заработной платы по полу, 2005–2013 гг.
Примечания. *** – p < 0,01, ** – p < 0,05, * – p < 0,1. Стандартные ошибки робастные и кластеризованы по индивидам. Для экономии места приводятся результаты оценивания только для переменных внешней и внутренней мобильности. В регрессиях дополнительно контролировались возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, регион (федеральные округа), размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, тип собственности предприятия, год и продолжительность рабочей недели (разность логарифмов).
Таблица П5-16. Оценки уравнения для разностей логарифмов реальной заработной платы с использованием МНК по двухгодичным панелям, 2005–2013 гг.
Примечания. *** – p < 0,01, ** – p < 0,05, * – p < 0,1. Для экономии места приводятся результаты оценивания только для переменных внешней и внутренней мобильности. В регрессиях дополнительно контролировались пол, возраст, образование, тип поселения, семейное положение, наличие подчиненных, регион (федеральные округа), размер предприятия, вид деятельности, профессиональная принадлежность, тип собственности предприятия, год и продолжительность рабочей недели (разность логарифмов).
Литература
В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / под общ. ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014.
Российский работник: образование, профессия, квалификация / под общ. ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.
Гимпельсон В., Капелюшников Р. Перестройка на рынке труда: можно ли считать Россию особым случаем? // Экономика России. Оксфордский сборник / пер. с англ. Кн. 1. М.: Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, 2015. С. 1173–1225.
Мальцева И. Трудовая мобильность и стабильность: насколько высока отдача от специфического человеческого капитала в России? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 2. С. 243–278.
Рощин С., Слесарева А. Межфирменная мобильность молодых работников на российском рынке труда: Препринт WP15/2012/03. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012.
Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research, 1964.
Bidwell M. Paying More to Get Less: Specific Skills, Incomplete Information and the Effects of External Hiring versus Internal Mobility. 2011. (Draft)
Da Silva A.D., van der Klaauw B. Wage Dynamics and Promotions inside and between Firms // Journal of Population Economics. 2011. Vol. 24. № 6. P. 1513–1548.
Doeringer P., Piore M. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington: D.C. Heath and Company, 1971.
Drewes T. Internal and External Labour Mobility in Canada // Applied Economics. 1993. Vol. 25. P. 1355–1363.
Ferreira P. The Determinants of Promotions and Firm Separations: ISER Working Paper № 2009-11. Essex: University of Essex, Institute for Social and Economic Research, 2009a.
Ferreira P. Returns to Job Mobility: The Role of Observed and Unobserved Factors: ISER Working Paper № 2009-12. Essex: University of Essex, Institute for Social and Economic Research, 2009b.
Francesconi M. Determinants and Consequences of Promotions in Britain // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 2001. Vol. 63. № 3. P. 279–310.
Frederiksen A., Halliday T., Koch A. Within and Cross-Firm Mobility and Earnings Growth // Industrial and Labor Relations Review. 2016. Vol. 69. № 2. P. 320–353.
GibbsM., Ierulli K., Meyersson M.E. Careers in Firm and Occupational Labor Markets. 2003. (Draft)
Jaeger D., Dohmen T., Falk A., Huffman D., Sunde U., Bonin H. Direct Evidence on Risk Attitudes and Migration // The Review of Economics and Statistics. 2010. 92. 3. Р. 684–689.
Jovanovic B. Job Matching and the Theory of Turnover // Journal of Political Economy. 1979. Vol. 87. № 5. P. 972–990.
Jovanovic B. Matching, Turnover, and Unemployment // Journal of Political Economy. 1984. Vol. 92. № 1. P. 108–122.
Lazear E.P., Oyer P. Internal and External Labor Markets: A Personnel Economics Approach: NBER Working Paper 10192. Cambridge, MA: NBER, 2003.
Lehmann H., Wadsworth J. Tenures That Shook the World: Worker Turnover in Russia, Poland, and Britain // Journal of Comparative Economics. 2000. Vol. 28. № 4. P. 639–664.
Lindbeck A., Snower D.J. Insiders versus Outsiders // Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15. № 1. Р. 165–188.
McCue K. Promotions and Wage Growth // Journal ofLabor Economics. 1996. Vol. 14. № 2. P. 175–209.
Mortensen D.T. Specific Capital and Labor Turnover // Bell Journal of Economics. 1978. Vol. 9. № 2. P. 572–586.
Mortensen D.T. Job Search and Labor Market Analysis // O. Ashenfelter, R. Layard (eds.) Handbook of Labor Economics. Vol. 2. Amsterdam: North-Holland, 1986.
Petrongolo B., Pissarides Ch. Looking into the Black Box: A Survey of the Matching Function // Journal of Economic Literature. 2001. Vol. 39. № 2. P. 390–431.
Pfeifer Ch. Determinants of Promotions in an Internal Labour Market // Schmalenbach Business Review (SBR). 2010. Vol. 62. P. 342–358.
Pfeifer Ch., Janssen S., Yang Ph., Backes-Gellner U. Effects of Training on Employee Suggestions and Promotions in an Internal Labor Market: IZA Discussion Paper № 5671. Bonn: IZA, 2011.
Pissarides C. Equilibrium Unemployment Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
Глава 6 Мобильность и идентичность руководителей российских промышленных предприятий
6.1. Введение
Настоящая глава[84] посвящена особенностям формирования директорского корпуса на современном этапе развития российской экономики. В ее фокусе – два взаимосвязанных процесса: во-первых, ротации руководителей российских промышленных предприятий и, во-вторых, передачи управления от собственников к наемным менеджерам. Первый связан с теоретической проблемой «окапывания» менеджмента компаний, второй – с теоретической проблемой отделения собственности от контроля. Для идентификации случаев «окапывания» мы будем использовать данные о сменяемости руководителей предприятий; для обнаружения случаев отделения собственности от контроля – факт наличия/отсутствия у генерального директора пакета акций, обеспечивающего ему контроль над предприятием.
Однако содержательная интерпретация этих показателей становится возможна только при их рассмотрении в связке с показателями экономической эффективности. Если при прочих равных условиях обновление руководства предприятий ведет к улучшению результатов их экономической деятельности, то, значит, проблема «окапывания» эффективно решается за счет обновления директорского корпуса; если такая связь отсутствует, то, возможно, российские предприятия страдают не столько от «засиживания» директоров на одном и том же месте, сколько от излишне высокой текучести, не позволяющей им накапливать оптимальные объемы специфического человеческого капитала. Если при прочих равных условиях предприятия, возглавляемые собственниками, проигрывают по эффективности предприятиям, возглавляемым наемными менеджерами, то, значит, в российской экономике издержки, связанные с совмещением функций владения и управления, превосходят издержки, связанные с разделением этих функций, и, соответственно, наоборот в противном случае.
Очевидно, что проблемы «окапывания» и отделения собственности от контроля взаимосвязаны. С одной стороны, совмещение функций владения и управления должно тормозить процесс обновления директорского корпуса, поскольку в этих условиях для смены генерального директора недостаточно простого решения о его увольнении, но нужно также преодолеть его сопротивление в качестве одного из крупных собственников (скажем, выкупить его долю акций). Говоря иначе, участие собственников в управлении служит фактором, способствующим более глубокому «окапыванию» генеральных директоров, когда они остаются на своих постах даже при очень значительном ухудшении дел на возглавляемых ими предприятиях. С другой стороны, мы вправе ожидать, что чем активнее идет обновление директорского корпуса, тем чаще вместо собственников в кресле генеральных директоров будут появляться наемные менеджеры.
Тем не менее на начальном этапе становления рыночной экономики действующие в России предприятия отличались, во-первых, высокой ротацией директорского корпуса и, во-вторых, повсеместным «склеиванием» собственности и контроля. Главными причинами того и другого являлись тотальная реструктуризация предприятий, вызванная необходимостью их перевода из режима плановой в режим рыночной экономики, а также чрезвычайно низкая защищенность прав собственности, связанная со слабостью институтов государства. (К этому добавлялся и такой важный фактор, как масштабность и «инсайдерский» характер российской приватизации, благодаря чему директора множества приватизированных предприятий становились держателями крупных – нередко контрольных – пакетов их акций.) Однако с течением времени по мере того, как осуществлялась реструктуризация (в частности, отходило от дел поколение «красных директоров») и повышалась степень защищенности прав собственности, можно было бы ожидать, что «текучесть кадров» среди директорского корпуса будет снижаться, а собственность будет все больше отделяться от контроля. Эмпирическая проверка этих предположений – одна из главных задач нашего анализа.
Используя микроданные недавнего репрезентативного опроса предприятий российской обрабатывающей промышленности, проведенного в 2014 г., мы пытаемся, во-первых, выяснить, какие факторы влияют на ротацию генеральных директоров и на отделение собственности от контроля, и во-вторых, понять, как в российских условиях смена руководителей и их принадлежность к собственникам либо к наемным менеджерам отражаются на результатах экономической деятельности – способствуют они их улучшению или ухудшению.
Наш основной вклад в существующую литературу о формировании директорского корпуса российских предприятий состоит в том, что мы рассматриваем процессы мобильности топ-менеджеров и отделения собственности от контроля в единой связке, учитываем большее число факторов и строим свой анализ на базе более поздних данных, относящихся к 2010-м годам.
Структура главы такова. Сначала исходя из общетеоретических соображений мы формулируем гипотезы о связи мобильности и идентичности топ-менеджеров с различными аспектами экономической деятельности предприятий, а затем описываем эмпирические данные. Далее мы последовательно рассматриваем факторы, влияющие в российских условиях на мобильность и идентичность генеральных директоров, а после этого задаемся вопросом о том, как различия в экономической эффективности связаны со сменой руководителей предприятий и их принадлежностью к группам собственников либо наемных менеджеров. В заключении подводятся итоги проделанного исследования.
6.2. Общие представления
Современная «зрелая» корпорация предполагает «распыление» акций между множеством мелких акционеров и отделение собственности от контроля, что обеспечивает целый ряд преимуществ [Berle, Means, 1932]. Однако эти преимущества достаются не даром. Одновременно подобная форма организации бизнеса способна порождать множество трудно разрешимых проблем и отрицательно сказываться на экономической эффективности, в частности – вести к «окапыванию» наемных менеджеров, которые в условиях распыленной собственности получают возможность оставаться у власти, несмотря на низкое качество управления и связанное с этим ухудшение показателей экономической деятельности [Jensen, Meckling, 1976].
Существует множество механизмов, которые, несмотря на отделение собственности от контроля, могут тем не менее дисциплинировать поведение наемных менеджеров в интересах собственников. Среди прочего они способствуют поддержанию ротации среди топ-менеджеров на высоком уровне, позволяя достаточно быстро отстранять недобросовестных или некомпетентных руководителей еще до того, как они успевают нанести серьезный ущерб. Но хотя различные дисциплинирующие механизмы могут значительно снижать риск менеджериального оппортунизма, они неспособны устранить его полностью, поскольку их использование в свою очередь сопряжено с немалыми издержками [Shleifer, Vishny, 1997].
В результате в зависимости от характеристик институциональной среды преимущества, которые дает отделение собственности от контроля, могут как перевешивать связанные с этим издержки, так и оказываться значительно ниже них. Как показывают имеющиеся исследования, первый сценарий характерен для развитых стран с эффективно работающими механизмами корпоративного управления, второй – для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Многие важнейшие институты, необходимые для успешного функционирования рыночной системы (включая институты корпоративного управления), находятся в этих странах в зачаточном состоянии или вообще отсутствуют. В подобных условиях соединение собственности и контроля становится компенсаторным механизмом, восполняющим многочисленные институциональные пустоты. При низком уровне доверия, слабой контрактной дисциплине, ограниченности и непрозрачности экономической информации, отсутствии независимых судов, ненадежности механизмов инфорсмента, высокой коррупции и т. д. издержки, связанные с совмещением функций владения и управления, могут оказываться меньше издержек, связанных с их разделением. В силу этого в странах с малоэффективной экономикой и несовершенными институтами естественно ожидать доминирования компаний, руководителями которых выступают их собственники [Капелюшников, 2006]. Одним из следствий подобной практики неизбежно оказывается более низкий уровень сменяемости топ-менеджеров.
Естественно, корпоративный ландшафт любой страны неоднороден и в любой стране можно встретить компании разного типа, размера, степени успешности, как с эффективно, так и с неэффективно работающими механизмами корпоративного управления, как с высокой, так и с низкой ротацией менеджмента. Это открывает возможности для сравнительного анализа и выявления факторов, влияющих на обновление первых лиц компаний и их идентичность (т. е. их принадлежность к категории собственников либо категории наемных менеджеров).
В первом приближении можно выделить несколько групп таких факторов: 1) структурные характеристики предприятий (размер, возраст, юридический статус, структура рынка и т. д.); 2) характеристики структуры собственности (степень ее концентрации, тип доминирующих собственников, участие в бизнес-группах и т. д.); 3) характеристики бизнес-климата (отношения с государством, уровень коррупции, состояние правовой системы и т. д.); 4) показатели экономической деятельности (курс акций, рентабельность, динамика продаж, производительность труда и т. д.). Сначала мы обсудим возможное влияние этих групп факторов на сменяемость руководителей предприятий, затем – на возможности передачи управления от собственников к наемным менеджерам.
Размер предприятий может оказывать неоднозначное воздействие на мобильность директорского корпуса. С одной стороны, чем они крупнее, тем с большими трудностями будут сталкиваться попытки их поглощения. С другой стороны, чем они крупнее, тем выше цена ошибок топ-менеджеров и тем сильнее стимулы к их отстранению от занимаемой должности. Кроме того, у больших компаний степень «публичности» в среднем выше, чем у небольших, что создает благоприятные условия для более быстрой ротации их руководства.
Давно существующие предприятия с большей вероятностью будут возглавлять представители «старых» поколений директорского корпуса; отсюда – потребность в их замене более молодыми, более современными менеджерами. Кроме того, для таких предприятий, как правило, выше потребность в реструктуризации. В то же время для старых компаний, по-видимому, выше риск «окапывания» менеджеров, поскольку в их распоряжении оказывается больше времени для того, чтобы оградить себя с помощью различных защитных мер от угрозы отстранения от власти. Поэтому эффект возраста так же, как и эффект размера предприятий, представляется априори неочевидным.
Чем более «открытой» рынку (более публичной) является форма организации бизнеса, тем активнее, как можно ожидать, должно обновляться его руководство. (Например, для открытых корпораций мы вправе ожидать более высокой сменяемости топ-менеджеров, чем для закрытых.) Точно так же естественно предполагать, что сменяемость генеральных директоров будет выше в тех случаях, когда предприятиям приходится действовать в более конкурентной рыночной среде.
Что касается различных характеристик структуры собственности, то положительно с ротацией директорского корпуса предположительно должны быть связаны: смена основных собственников компании (новые собственники, как правило, приводят с собой новую менеджерскую команду); присутствие среди собственников иностранных инвесторов (иностранные инвесторы, как можно ожидать, должны более оперативно реагировать на любые провалы в деятельности руководства предприятий); присутствие среди собственников государства (благодаря возможности отстранения генеральных директоров государственных компаний административным путем, а также благодаря естественному «взаимообмену» кадрами между такими компаниями и органами государственной власти); вхождение предприятий в холдинговые структуры в статусе дочерних (благодаря возможности отстранения генеральных директоров таких предприятий по решению руководства материнских компаний); процессы слияния и поглощения (причем как в том случае, когда предприятие само поглощает другие компании, так и в том случае, когда оно становится объектом поглощения со стороны других компаний). Неоднозначным представляется эффект присутствия среди акционеров крупных собственников: с одной стороны, это должно облегчать задачу отстранения генерального директора от власти; с другой, крупный собственник может быть заинтересован в сохранении «своей» менеджерской команды.
Наличие у предприятий симбиотических связей с государством может способствовать как ускорению, так и замедлению ротации директорского корпуса. С одной стороны, это создает благоприятные условия для перехода генеральных директоров таких предприятий на государственную службу. С другой, тесные контакты с государством могут способствовать их более глубокому «окапыванию». Еще одна важнейшая характеристика бизнес-климата – уровень коррупции. Казалось бы, чем коррумпированнее среда, в которой протекает деятельность предприятия, тем неустойчивее положение генерального директора и тем выше риск потери им своего поста. Однако низкая коррупция предполагает существование эффективных механизмов корпоративного управления, что повышает шансы на более быстрое отстранение от власти некомпетентных и недобросовестных руководителей.
Если говорить о показателях экономической деятельности (производительности, рентабельности, вложениях в основной капитал, НИОКР, экспортной активности и т. д.), то «нормой» можно считать существование у них отрицательной связи со сменяемостью генеральных директоров: чем они хуже, тем предположительно выше должна быть интенсивность обновления руководства предприятий. Наличие подобной отрицательной связи, как мы уже отмечали, свидетельствует о том, что механизмы корпоративного управления действуют в правильном направлении. Однако ее существование не гарантировано, и при определенных условиях она может меняться на положительную, когда, например, наиболее успешные и привлекательные предприятия оказываются легкой добычей для захвата. Еще один важный фактор – привлечение внешних источников финансирования. Чем больше долговое бремя, лежащее на предприятии, тем неустойчивее положение генеральных директоров и тем выше для них риск отстранения под давлением кредиторов (в первую очередь – банков).
Сильное влияние перечисленные факторы могут оказывать и на возможности передачи управления от собственников к наемным менеджерам.
Чем крупнее предприятие, тем выше, при прочих равных условиях, вероятность, что его будет возглавлять наемный менеджер. Во-первых, многие небольшие бизнесы изначально создаются как индивидуальные предприятия, так что функции владения и управления оказываются сосредоточены в одних руках. Во-вторых, удержание контроля над небольшими компаниями требует от собственников меньших затрат (скажем, плата за получение крупных пакетов акций таких компаний ниже) и оно бывает сопряжено с меньшими рисками. В-третьих, увеличение масштабов деятельности предприятия с определенного момента начинает требовать привлечения финансовых ресурсов на рынке, что предполагает постепенную деконцентрацию структуры собственности.
Вероятность обнаружить в кресле генерального директора наемного менеджера выше также для «старых» предприятий, у которых было больше времени, чтобы в ходе жизненного цикла успеть достичь фазы «зрелой корпорации» с отделением собственности от контроля. Кроме того, такие предприятия по размеру в среднем больше, чем «новые», созданные лишь недавно.
Чем более «публичной» по своему юридическому статусу является компания, тем больше шансов, что она будет управляться не собственником, а наемным менеджером. (Так, в российских условиях для ОАО эти шансы должны быть предположительно выше, чем для ЗАО или ООО[85].)
Влияние конкуренции на идентичность первых лиц компаний является неопределенным. Тем не менее скорее можно ожидать, что предприятия, действующие в условиях высокой конкуренции, будут чаще управляться собственниками (хотя бы потому, что предприятия, сталкивающиеся с острой конкуренцией, в среднем меньше по размерам).
Положительно на передачу управления наемным менеджерам должны влиять следующие характеристики структуры собственности: смена основного собственника; присутствие среди собственников иностранных инвесторов (иностранные инвесторы приносят с собой принятые за рубежом «стандартные» управленческие практики, предполагающие среди прочего отделение собственности от контроля); присутствие среди собственников государства (так, полностью государственные компании по определению могут управляться только наемными менеджерами); участие предприятий в холдинговых структурах в статусе дочерних (в таких случаях выше вероятность того, что на пост генерального директора по решению руководства «вышестоящей» материнской компании будет назначен наемный менеджер); процессы слияния и поглощения (после реорганизации руководителями предприятий относительно чаще, как можно предполагать, должны становиться наемные менеджеры); смена генерального директора. Напротив, совмещение функций владения и управления вероятнее в тех случаях, когда у предприятия имеются крупные собственники (тогда кто-то из них может счесть необходимым самому занять пост генерального директора).
Если предприятия, возглавляемые наемными менеджерами, в среднем крупнее, чем предприятия, возглавляемые собственниками, то можно ожидать, что первые будут иметь более тесные связи с государством, чем вторые: они чаще будут оказывать формальную и неформальную поддержку органам власти и чаще добиваться от них льгот и привилегий. Что касается уровня коррупции, то он, по-видимому, должен быть выше для предприятий с генеральными директорами-собственниками, поскольку деятельность предприятий с генеральными директорами – наемными менеджерами чаще регулируется более транспарентными механизмами корпоративного управления, снижающими вероятность коррупционных сделок. Кроме того, как отмечается в литературе, в коррумпированной среде собственники должны опасаться сообщать наемным менеджерам секретную информацию, связанную с нелегальными схемами, а в случае передачи им исполнительной власти вынуждены нести дополнительные издержки по налаживанию эффективного мониторинга за их деятельностью [Широкова, Шаталов, Кнатько, 2009].
Показатели экономической эффективности (рентабельность, производительность, инвестиции в основной капитал, НИОКР, экспортная активность и др.) могут быть связаны с передачей управления в руки наемных менеджеров как положительно, так и отрицательно. Все зависит от того, какие издержки в данных институциональных условиях выше – связанные с совмещением или с разделением функций владения и управления. В то же время естественно предполагать, что предприятия, прибегающие к внешнему финансированию, с большей вероятностью будут возглавляться наемными менеджерами.
Приведенные соображения, строящиеся исходя из общеэкономической логики, можно рассматривать в качестве наших гипотез, подлежащих эмпирической проверке в ходе дескриптивного и эконометрического анализа.
Анализу мобильности генеральных директоров (chief executive officers) посвящена необозримая исследовательская литература, фокусирующаяся на вопросе о влиянии на ротацию топ-менеджеров результатов экономической деятельности возглавляемых ими компаний. (См., например, недавний обзор: [Kaplan, Minton, 2012]; среди новейших работ можно выделить статью [Jenter, Kanaan, 2015].) Исследования по этой теме на материале российских данных также достаточно многочисленны: недавний обзор Н. Абе и И. Ивасаки включил два с половиной десятка работ [Abe, Iwasaki, 2010]. Интенсивность оборота российских генеральных директоров в 1990 – первой половине 2000-х годов оценивалась в этих работах на уровне 10–11 %, что было сопоставимо с аналогичными показателями по США или Японии [Муравьев, 2003; Iwasaki, 2007]. Среди основных детерминантов оборота были выявлены следующие: 1) в российских условиях ротацию высших менеджеров ускоряет присутствие в составе собственников внешних акционеров (в частности – иностранных инвесторов или государства); 2) она оказывается выше в тех случаях, когда происходит смена основных собственников предприятий; 3) более высокой мобильности способствует также концентрация собственности (наличие среди акционеров доминирующих собственников) [Abe, Iwasaki, 2010]. Однако по ключевому вопросу – о влиянии характеристик экономической деятельности на сменяемость генеральных директоров – результаты расходятся: одни исследования обнаруживают между ними значимую отрицательную связь (чем хуже результаты экономической деятельности, тем выше вероятность отстранения генерального директора, что интерпретируется как свидетельство достаточно эффективной работы российской системы корпоративного управления) [Muravyev, 2003; Капелюшников, Демина, 2005], другие не обнаруживают никакой видимой связи – ни отрицательной, ни положительной [Бикбов, 2001; Гольцман, 2000; Долгопятова, Кузнецов, 2004; Капелюшников, 2001; Rachinsky, 2002].
Обзор теоретической и эмпирической литературы по проблеме передачи управления от собственников к наемным менеджерам представлен в работе [Широкова, Шаталов, Кнатько, 2009]. Различные аспекты дихотомии «собственники vs наемные менеджеры» обсуждаются в работах [Bouzgarrou, Navatte, 2013; Mullins, Schoar, 2013; Lee et al., 2015]. На российских данных этой проблеме посвящены два исследования Т. Долгопятовой [Долгопятова, 2007; 2011]. В них, в зависимости от используемой эмпирической базы, даются очень разные оценки доли российских промышленных предприятий, возглавляемых наемными менеджерами: 29 % в первом и 52 % во втором. Автор приходит к выводу, что важнейшими факторами, способствующими приходу наемных менеджеров, являются деконцентрированная структура собственности и интеграционные процессы (участие предприятий в холдинговых структурах в статусе дочерних). Показывается также, что в российских условиях к лучшим экономическим результатам приводит сосредоточение функций владения и управления в одних руках (т. е. при прочих равных условиях отделение собственности от контроля является контрпродуктивным).
6.3. Данные и методология
Эмпирическую базу нашего исследования составили микроданные обследования «Российские фирмы в глобальной экономике» (Russian Firms in a Global Economy – RUFIGE), проведенного в 2014 г. Обследование было нацелено на оценку конкурентных преимуществ российских предприятий обрабатывающей промышленности на внутреннем и глобальном рынках в сравнительной перспективе. Проект финансировался НИУ ВШЭ.
В рамках RUFIGE было обследовано 2092 предприятия обрабатывающей промышленности России. Опрос проводился Международным институтом маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь» в период с мая по октябрь 2014 г. в 60 регионах (субъектах федерации) России методом личных интервью по стандартизованной анкете, состоящей из 111 вопросов (). Объектами обследования являлись предприятия обрабатывающей промышленности России с числом занятых свыше 10 человек. Случайная стратифицированная выборка фирм репрезентативна в разрезе секторов и размерных групп предприятий, но не репрезентативна в разрезе регионов.
Более 60 % вопросов анкеты RUFIGE идентичны или сопоставимы с вопросами анкеты аналогичного европейского опроса предприятий обрабатывающей промышленности в семи странах ЕС – Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Австрии и Великобритании (проект European Firms in a Global Economy – EFIGE, ). Помимо вопросов о конкурентоспособности анкета обследования включала целый ряд вопросов о структуре собственности, особенностях корпоративного управления, финансах, политике занятости, механизмах ценообразования, результатах экономической деятельности.
Распределение обследованных предприятий по отраслям и размерным группам показано в Приложении в табл. П6-10. В среднем на них было занято 370 человек. В 88,5 % случаев кресло генерального директора занимали мужчины, в 11,5 % случаев – женщины. Средний по выборке возраст руководителей – 50 лет. Из обследованных предприятий лишь абсолютное меньшинство (2,5 %) были представлены на бирже. Иными словами, выборка охватывала по преимуществу «типичные» предприятия обрабатывающей промышленности, оставляя за скобками российские «голубые фишки».
Используя эти данные, мы попытаемся ответить на вопросы, во-первых, о глубине «окапывания» руководителей российских предприятий и, во-вторых, о степени распространенности практики отделения собственности от контроля. На первой стадии анализа нас будет интересовать, какие факторы отражаются на частоте смены генеральных директоров и какие факторы коррелируют с их идентичностью (т. е. принадлежностью к группам собственников или наемных менеджеров). Затем мы попытаемся проанализировать, как смена генеральных директоров и их идентичность связаны с результатами экономической деятельности возглавляемых ими предприятий (performance).
Первый из ключевых для нас вопросов формулировался в анкете обследования следующим образом: «Менялся ли в 2011–2013 гг. генеральный директор/руководитель Вашего предприятия. Если да, то сколько раз это происходило?». Возможные варианты ответа:
«1. Один раз.
2. Несколько раз.
3. Не менялся ни разу за это время.»
Согласно полученным данным, за трехлетие 2011–2013 гг. генеральный директор поменялся на 16,5 % обследованных предприятий, причем в 4,2 % случаев смена происходила несколько раз. В дальнейшем анализе мы будем, как правило, объединять предприятия, где генеральный директор менялся один раз и где он менялся многократно, в общую группу – предприятий с обновленным руководством. Долю таких предприятий со сменившимся первым должностным лицом мы будем обозначать термином «коэффициент обновления».
Если предположить, что на предприятиях с неоднократными заменами среднее число ротаций равнялось 2,5, то это будет означать, что ежегодно смена руководства наблюдалась примерно на 8 % предприятий. Хотя эта величина несколько ниже показателей, которые были получены в более ранних исследованиях, относившихся к 1990 – началу 2000-х годов (см. выше), она является далеко не мизерной. Похоже, что генеральные директора российских промышленных предприятий по-прежнему не засиживаются долго на одном и том же месте.
Другой интересующий нас вопрос, касающийся идентичности директорского корпуса, формулировался так: «Генеральный директор/руководитель Вашего предприятия является его собственником или наемным менеджером?». Предлагались варианты ответа:
«1. Является одним из собственников предприятия, но не имеет контроля.
2. Является одним из собственников предприятия и контролирует его.
3. Является членом семьи, владеющей предприятием или контролирующей предприятие.
4. Наемный менеджер “со стороны”.
5. Наемный менеджер, ранее работавший на данном предприятии в другой должности.»
Мы объединяем варианты ответа 2–3 в опцию «генеральный директор – контролирующий собственник», а варианты 1, 4 и 5 – в опцию «генеральный директор – наемный менеджер»[86]. Исходя из значений этой дихотомической переменной мы определяем идентичность руководителей обследованных предприятий. Присутствие во главе предприятия наемного менеджера может рассматриваться в качестве важнейшего признака отделения собственности от контроля.
В среднем по выборке доля генеральных директоров-собственников немного превышала долю генеральных директоров – наемных менеджеров – 52 против 48 %. Отсюда следует, что большинство предприятий, действующих в российской обрабатывающей промышленности, все еще не прошли через процесс отделения собственности от контроля. (Даже среди крупнейших компаний с численностью занятого персонала 500 и более человек свыше трети возглавлялись непосредственно контролирующими собственниками!)
Не меньший интерес представляет вопрос о том, кто в настоящее время чаще приходит к руководству предприятиями после ухода прежнего генерального директора – наемные менеджеры или представители собственников? Как показывают наши данные, примерно в 70 % случаев это наемные менеджеры и примерно в 30 % случаев – кто-либо из крупных собственников. Это составляет разительный контраст с предприятиями, где генеральный директор не менялся: среди них почти в 60 % случаев у власти находились представители собственников и лишь примерно в 40 % случаев наемные менеджеры. Можно, таким образом, предполагать, что обновление высшего руководства предприятий должно способствовать постепенному вытеснению генеральных директоров-собственников генеральными директорами – наемными менеджерами, т. е. процессу отделения собственности от контроля.
База данных RUFIGE содержит богатую информацию о структурных характеристиках обследованных предприятий, а также о структуре собственности, параметрах бизнес-климата и показателях экономической деятельности. Это открывает возможности для эмпирического анализа, направленного на выявление вероятных связей между мобильностью и идентичностью генеральных директоров, с одной стороны, и различными аспектами экономической деятельности предприятий, с другой. Нас будет интересовать, насколько велика вариация в мобильности и идентичности директорского корпуса и от каких факторов она зависит.
Вместе с тем нельзя не отметить, что для наших целей данные RUFIGE имеют немало серьезных изъянов. Так, они почти не содержат информации о персональных характеристиках генеральных директоров – только пол и возраст. Но даже эта информация относится к вновь пришедшим, а не к прежним директорам, покинувшим свою должность. Отсутствуют также данные о стаже директорства нынешних руководителей предприятий, о характере увольнения (вынужденное или добровольное) их предшественников и т. д. Вследствие этого в своих расчетах мы не могли учесть персональные характеристики генеральных директоров. (См. серию работ по этой проблеме: [Солнцев, 2008, 2012; Лукьянов и др., 2009]). Серьезные ограничения на возможности нашего анализа накладывает и то, что данные RUFIGE не являются панельными.
6.4. У кого «окапывание» глубже?
Таблица П6-1 показывает, как вероятность смены генерального директора варьирует в зависимости различных характеристик обследованных предприятий.
Среди отраслей лидерами по интенсивности обновления руководства предприятий выступают пищевая промышленность, производство прочих неметаллических продуктов и транспортное машиностроение, тогда как аутсайдерами – текстильная и химическая промышленность. Среди первых генеральный директор поменялся за 2011–2013 гг. на каждом пятом, тогда как среди вторых – лишь на каждом десятом предприятии. Этот разрыв может быть связан, во-первых, с тем, что в этих отраслях действуют очень разные по размерам производственные единицы, и, во-вторых, с тем, что они могут сильно отличаться с точки зрения активности процесса реструктуризации. (Например, чем активнее в той или иной отрасли идут слияния и поглощения, тем чаще, при прочих равных условиях, будут меняться там руководители предприятий.)
Среди регионов наибольшей нестабильностью топ-менеджмента отличается Дальневосточный федеральный округ, наименьшей – Южный федеральный округ. Разрыв между лидером и аутсайдером по частоте смены генеральных директоров предприятий приближается к двукратному. Это опять-таки можно связать с неодинаковой интенсивностью реструктуризационных процессов в разных регионах.
Чем крупнее населенный пункт, в котором расположено предприятие, тем прочнее положение генерального директора. Так, в Москве коэффициент обновления немногим превышает 10 %, в то время как в селах и поселках городского типа приближается к 23 %. Возможно, этот разрыв объясняется тем, что наименее эффективные предприятия (убыточные, плохо приспособившиеся к рыночным условиям и т. д.), для которых вопрос о смене руководства является наиболее актуальным, сконцентрированы в сельской местности. Естественно также предполагать, что в крупных населенных пунктах процесс реструктуризации промышленных предприятий шел активнее, тогда как в малых потребность в ней остается высокой.
Практически монотонная обратная связь наблюдается между коэффициентом обновления и размером предприятий: чем больше численность персонала, занятого на предприятии, тем выше вероятность смены генерального директора. Скажем, на мелких предприятиях с численностью персонала менее 50 человек за 2011–2013 гг. смена произошла у 10,8 %, тогда как на крупных с численностью 500 и более человек – у 23 %. Поначалу этот результат может показаться контринтуитивным, поскольку, во-первых, малые предприятия представляют более легкую мишень для поглощений и, во-вторых, их (в среднем) отличает более низкая экономическая эффективность. Однако малые предприятия гораздо чаще строятся по принципу семейного бизнеса и принадлежат одному собственнику (или небольшой группе собственников), выполняющему одновременно функции генерального директора. В этих условиях смещение генерального директора оказывается возможно только в случае перехода всего бизнеса (или основной ее части) к другому собственнику. В то же время на крупных предприятиях, где имеет место отделение собственности от контроля, генеральными директорами чаще всего выступают наемные менеджеры, которые могут отстраняться от занимаемой должности по решению акционеров. Смена основного собственника в этом случае оказывается необязательной. Кроме того, акции крупных предприятий чаще обращаются на рынке. Это значительно облегчает задачу смены контролирующего собственника с последующей заменой генерального директора.
Как мы уже упоминали, в общем случае можно предполагать, что чем более «открытой» рынку (более публичной) является фирма по своему юридическому статусу, тем меньше вероятность «окапывания» ее руководства. Полученные оценки согласуются с этим предположением. Как видно из табл. П6-1, в открытых акционерных обществах генеральные директора меняются существенно чаще, чем в закрытых акционерных обществах или в обществах с ограниченной ответственностью.
На «старых» предприятиях, созданных в дореформенный период, смена генеральных директоров идет значительно активнее, чем на «новых», созданных после 1991 г.: 23 против 14 %. Можно указать на несколько факторов, способствующих этому разрыву. Во-первых, предприятия, созданные в пореформенный период, свободны от груза «советского» наследия: они изначально создавались для функционирования в рыночной среде и, при прочих равных условиях, как можно предположить, должны быть экономически более успешными. Во-вторых, во главе «старых» предприятий гораздо чаще находятся лица преклонного возраста, необходимость замены которых может вызываться естественными (возрастными) причинами. (Согласно нашим данным, на «старых» предприятиях средний возраст генеральных директоров действительно заметно выше, чем на «новых».) В-третьих, «старые» предприятия, как правило, больше по размерам и поэтому на них чаще собственность отделена от контроля, а отстранение от власти наемного менеджера, как мы уже указывали, является более легкой задачей, чем отстранение от нее основного собственника предприятия.
Как и можно было бы ожидать, чем конкурентнее среда, в которой протекает деятельность предприятий, тем менее устойчивым оказывается положение их руководителей. На предприятиях, испытывающих сильную конкуренцию со стороны других отечественных производителей, коэффициент обновления оказывается в полтора раза выше, чем на предприятиях, слабо ее ощущающих или не ощущающих ее вовсе (табл. П6-1).
Наличие у предприятия крупного собственника (с контрольным или блокирующим пакетом), похоже, оказывает достаточно слабое влияние на интенсивность ротации генеральных директоров. Так, у предприятий с контролирующим собственником и у предприятий без крупных собственников коэффициенты обновления почти не отличаются – 18,2 и 17,6 % соответственно. Еще удивительнее, что на предприятиях, где крупнейший собственник обладает блокирующим пакетом, этот показатель оказывается даже ниже, чем на предприятиях, где крупных собственников нет, – 14,4 %.
Смена основного собственника в большинстве случаев влечет за собой и смену генерального директора. Так, на предприятиях, где сменился основной собственник, в 52 % случаев вслед за этим появлялся и новый генеральный директор. На предприятиях, где основной собственник оставался прежним, аналогичный показатель в несколько раз ниже – 14 %.
Вполне ожидаемо, что на предприятиях, входящих в холдинговые структуры, смена генерального директора происходит намного чаще, чем на независимых предприятиях. Коэффициент обновления у предприятий, входивших в такие структуры со статусом дочерних, составлял 29 %, со статусом головных – 25 %, тогда как у независимых предприятий не достигал 15 %.
Участие в капитале иностранных собственников, похоже, активизирует процесс обновления высшего руководства предприятий. Можно предположить, что это связано с более эффективным мониторингом за деятельностью менеджмента. Присутствие в числе акционеров представителей государства также повышает частоту смены генеральных директоров (табл. П6-1). Однако и в том и в другом случае различия выглядят как не очень значительные.
Сильное влияние на оборот высшего управленческого персонала оказывают процессы слияний и поглощений. Так, на предприятиях, которые в период 2011–2013 гг. приобретали или присоединяли другие предприятия, коэффициент обновления составлял 24 %, тогда как на предприятиях без приобретений и присоединений – 16 %. Еще более резкий контраст прослеживается между предприятиями, которые в течение 2011–2013 гг. сами становились объектом приобретения со стороны других компаний, и предприятиями, с которыми этого не происходило: 49 (!) против 16 %. Как правило, слияния и поглощения сопровождаются радикальной реорганизацией, одним из важнейших элементов которой становится назначение нового генерального директора.
Более тесные связи с государством также, похоже, способствуют более частой смене руководства предприятий. Причем направленность этих связей двусторонняя: коэффициенты обновления оказываются выше как у предприятий, получающих финансовую поддержку от государства, так и у предприятий, оказывающих государству финансовую помощь (при осуществлении социальных проектов и т. п.). Возможно, так происходит потому, что между государством и такими предприятиями существует более активный «обмен кадрами»: директора получают возможность продолжать карьеру на государственной службе, а государственные чиновники имеют возможность переходить на предприятия в качестве их новых руководителей.
В менее коррумпированной среде частота смены генеральных директоров оказывается выше, чем в более коррумпированной. Иными словами, коррупция, похоже, выступает фактором, способствующим их более глубокому «окапыванию».
Определенная связь (хотя и не слишком отчетливая) прослеживается между сменой высшего руководства предприятий и показателями их экономической деятельности. Как правило, это связь положительная. Так, смена генеральных директоров чаще происходит на предприятиях-экспортерах; инвестирующих в основные фонды; занимающихся НИОКР. Это расходится с общепринятым представлением о том, что при наличии эффективных механизмов корпоративного управления эта связь должна быть отрицательной: чем хуже обстоят дела на предприятии, тем выше вероятность смены руководства.
Впрочем, в большинстве случаев отмеченные различия не настолько значительны, чтобы с уверенностью можно было говорить о выраженном влияния характеристик экономической деятельности предприятий на ротацию их руководителей. Важно тем не менее подчеркнуть, что если такое влияние все же существует, то фактором, способствующим более частой смене генеральных директоров, в российских условиях оказывается не более низкая, как можно было бы предполагать, а, напротив, более высокая эффективность. Объясняться подобная зависимость может как тем, что более успешные предприятия представляют собой более привлекательный объект для поглощений, так и тем, что добивающиеся лучших результатов директора с большей вероятностью перемещаются вверх по карьерной лестнице, переходя на более крупные и экономически более успешные предприятия (они могут получать привлекательные предложения извне, продвигаться вверх в рамках бизнес-групп и т. д.).
Наконец, как и можно было бы ожидать, коэффициенты сменяемости оказываются несколько выше на предприятиях, прибегающих к внешнему финансированию (табл. П6-1).
Конечно, результаты нашего описательного анализа могут рассматриваться только как предварительные. Не исключено, что при учете действия прочих факторов многие из описанных выше эффектов могут исчезнуть. Чтобы проверить их устойчивость, на следующем шаге мы попытались оценить модель пробит-регрессии для бинарной переменной сменяемости генеральных директоров (0 – директор не менялся, 1 – директор менялся), привлекая в качестве независимых переменных различные характеристики предприятий. Мы действовали, последовательно расширяя их круг (дескриптивная статистика по всем включенным в анализ переменным представлена в Приложении табл. П6-11). На первом этапе мы учитывали только структурные характеристики (размер, возраст и т. д.), на втором включали характеристики структуры собственности, на третьем контролировали характеристики бизнес-климата и, наконец, на четвертом добавляли показатели успешности экономической деятельности. В итоге мы получили четыре альтернативные спецификации, различающиеся числом учтенных переменных.
В набор структурных характеристик предприятий были включены отраслевая принадлежность (9 дамми-переменных), территориальная принадлежность (федеральные округа, 8 дамми-переменных), месторасположение (город/село), возраст (основано до 1992 г./основано не ранее 1992 г.), юридический статус (4 дамми-переменных – ОАО, ЗАО, ООО, прочее), логарифм численности занятых, уровень рыночной конкуренции со стороны отечественных производителей (низкий/высокий). Среди характеристик собственности учитывались такие переменные, как вхождение в холдинг в качестве дочернего предприятия (нет/да), факт поглощения других предприятий (нет/да), факт поглощения другими предприятиями (нет/да), смена основного собственника (нет/да), присутствие в числе собственников иностранных инвесторов (нет/да), присутствие в числе собственников государства (нет/да), наличие контролирующего собственника (нет/да), наличие блокирующего собственника (нет/ да). Бизнес-климат описывался тремя доступными нам характеристиками – оказание помощи государству при осуществлении социальных проектов; получение финансовой помощи от государства; уровень коррупции при получении государственных и муниципальных заказов в той сфере, к которой относится деятельность предприятия (низкий/высокий). Наконец, мы рассматривали следующие показатели экономической активности: наличие инвестиций в основной капитал в 2011–2013 гг. (нет/да); наличие расходов на НИОКР в 20112013 гг. (нет/да); производство продукции на экспорт до 2013 г. (нет/да); наличие внешнего финансирования в 2011–2013 гг. (нет/да). Серьезным ограничением этих данных является то, что они относятся к тому же периоду времени, что и данные о смене генеральных директоров, тогда как при полностью корректном подходе показатели экономической активности должны были бы относиться к периоду, предшествовавшему появлению на предприятиях новых руководителей. Можно сказать, что де факто мы исходим из достаточно сильного допущения о том, что экономическая эффективность – вещь инерционная, так что в момент времени t она остается примерно такой же, как в момент времени t – 1, поскольку новые директора не успевают мгновенно изменить положение дел на предприятии. (Иными словами, показатели экономической активности в момент t используются нами как прокси для аналогичных показателей в момент t – 1). Естественно, это делает наши оценки возможного влияния характеристик экономической деятельности предприятий на вероятность смены их генеральных директоров менее надежными.
Результаты расчета представлены в табл. П6-2. Мы видим, что в первой спецификации, включающей только структурные характеристики предприятий, значимым положительным эффектом на вероятность смены генерального директора обладают возраст (на «старых» предприятиях, созданных до 1992 г., вероятность смены генерального директора выше), месторасположение (в сельской местности генеральные директора меняются чаще), размер и степень конкурентности рыночной среды. Однако добавление характеристик структуры собственности делает эффект возраста незначимым. Из спецификации 2 следует также, что вероятность замены генерального директора значимо выше для предприятий со статусом дочерних и для предприятий, где сменился основной собственник. Наличие блокирующего собственника почему-то оказывается отрицательно связано с обновлением руководства предприятий, тогда как для наличия контролирующего собственника такая связь отсутствует. Неожиданно, но с точки зрения ротации генеральных директоров присутствие среди собственников и иностранных инвесторов, и государства выступает как нейтральный фактор. Добавление характеристик бизнес-климата (спецификация 3) практически ничего не меняет в полученных результатах, а сами эти переменные оказываются статистически незначимыми. Учет параметров экономической деятельности (спецификация 4) показывает, что значимо и положительно связаны с коэффициентом обновления только инвестиции в основной капитал.
Конечно, имеющиеся в нашем распоряжении показатели экономической эффективности достаточно грубы и не слишком информативны (напомним, это дихотомические переменные, строящиеся по принципу есть/нет). Доступные данные не позволяют также решать проблему эндогенности. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что в российских условиях генеральные директора чаще меняются на более успешных предприятиях. Но, по-видимому, как минимум мы вправе сделать вывод об отсутствии устойчивой отрицательной связи между показателями экономической деятельности и ротацией директорского корпуса. Похоже, в российской обрабатывающей промышленности механизмы корпоративного управления работают с большой пробуксовкой либо вообще настроены неверно.
6.5. От чего зависит идентичность руководителей предприятий?
В таблице П6-3 представлены данные о том, как идентичность генеральных директоров варьирует в зависимости от различных характеристик возглавляемых ими предприятий.
Отраслевая вариация в доле предприятий, возглавляемых наемными менеджерами, очень невелика. Минимального уровня она достигает в текстильной промышленности (41 %), максимального в – транспортном машиностроении (56 %) (табл. П6-3).
Доля наемных менеджеров в составе директорского корпуса в различных регионах страны колеблется в достаточно широких пределах – от 43 % в Приволжском ФО до 75 % в Северокавказском ФО. (Впрочем, здесь необходимо напомнить, что в региональном разрезе данные RUFIGE не являются репрезентативными; поэтому к представленным оценкам следует относиться с осторожностью.)
Чем крупнее населенный пункт, тем меньше доля предприятий, возглавляемых наемными менеджерами: если в Москве она составляет 36 %, то в селах и поселках городского типа достигает 54 %. Возможно, одна из главных причин состоит в том, что в сельской местности высока концентрация «старых» предприятий (созданных до 1992 г.), тогда как в Москве шире представлены «новые» (созданные начиная с 1992 г.).
Чем крупнее предприятие, тем выше вероятность, что во главе его находится не кто-либо из основных собственников, а наемный менеджер. Так, на мелких предприятиях с численностью занятого персонала менее 50 человек отделение собственности от контроля имеет место в 34 % случаев, тогда как на крупнейших предприятиях с численностью занятого персонала 500 и более человек – почти в 65 % случаев.
Присутствие наемных менеджеров в кресле генерального директора гораздо чаще встречается на «старых» предприятиях, чем на «новых»: 64 % против 42 %. Причина этого достаточно очевидна: «старые» предприятия крупнее и практически все они относятся к категории приватизированных, тогда как «новые» меньше по величине и многие из них создавались «с нуля» как принадлежащие одному владельцу или небольшой группе собственников. (Действительно, если среди «старых» предприятий к группе крупнейших относятся 40 %, то среди «новых» – только 12 %.)
Организация управления с помощью наемного менеджмента чаще наблюдается на предприятиях, по своему юридическому статусу более «открытых» рынку. Так, если говорить об ОАО, то две трети из них возглавляют наемные менеджеры. Аналогичные показатели для ЗАО и ООО значительно меньше – 40–50 %. (Мы не обсуждаем ситуацию с государственными предприятиями (которые, напомним, составляют большую часть группы с «другим» юридическим статусом), поскольку ими по определению могут управлять только наемные менеджеры.)
Чем конкурентнее рыночная среда, в которой протекает деятельность предприятия, тем вероятнее, что возглавлять его будет один из собственников (хотя наблюдаемые различия невелики). Иными словами, управление с помощью наемного менеджмента сильнее распространено на менее конкурентных рынках с олигополистической или монополистической структурой.
Наличие крупного собственника (с контрольным или блокирующим пакетом акций) негативно влияет на вероятность появления в кресле генерального директора наемного менеджера (табл. П6-3). Происходит так потому, что многие собственники со столь внушительными пакетами предпочитают руководить своими предприятиями сами.
Предприятия, прошедшие в предшествующие три года через смену главного собственника, чаще, чем предприятия, где основной собственник не менялся, имеют на посту генерального директора наемного менеджера. Однако природа этой зависимости не вполне ясна: возможно, на предприятиях, возглавляемых наемными менеджерами, по каким-либо причинам чаще происходит смена крупнейших собственников (например, потому что доля акций, принадлежащих крупнейшему собственнику, у них меньше и, следовательно, его смена оказывается более простой задачей); но, возможно, «новые» собственники более, чем «старые», склонны к тому, чтобы устраняться от непосредственного управления предприятиями и ставить в их главе наемных менеджеров.
Вполне естественно, что подавляющее большинство предприятий, входящих в состав холдинговых структур в статусе дочерних (около 80 %), возглавляют наемные менеджеры.
В то же время руководителями большей части головных и независимых предприятий (4050 %) выступают собственники.
Процессы слияния и поглощения повышают вероятность того, что кресло генерального директора будет занимать наемный менеджер. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда предприятие оказывается объектом приобретения со стороны других компаний. В подобных ситуациях на место руководителя почти в 80 % случаев приходит наемный менеджер.
Предприятия, среди собственников которых имеются иностранные акционеры, чаще обращаются к услугам наемных менеджеров, чем предприятия, в числе собственников которых иностранцев нет. Этот результат достаточно предсказуем, поскольку от иностранных инвесторов мы вправе ожидать повышенного спроса на «прозрачность» процедур корпоративного управления, а это среди прочего предполагает отделение собственности от контроля. Точно так же не удивительно, что присутствие государства в составе акционеров действует сходным образом, значительно повышая вероятность того, что в кресле генерального директора окажется наемный менеджер (табл. П6-3).
Предприятия, находящиеся под контролем собственников, реже вступают в тесные отношения с государством, чем предприятия, находящиеся под контролем наемных менеджеров: они реже получают поддержку от государства и сами реже оказывают ему финансовую помощь. Однако эти различия не очень значительны.
В менее коррумпированной среде вероятность того, что предприятием будет руководить наемный менеджер, оказывается выше. Возможно, что «склеивание» собственности и контроля является инструментом, позволяющим хотя бы частично нейтрализовывать издержки, связанные с высоким уровнем коррупции. Но возможно также, что руководители-собственники отличаются большей склонностью к риску, чем руководители – наемные менеджеры, и потому охотнее идут на коррупционные сделки.
Организация управления с помощью наемных менеджеров положительно (хотя и не всегда заметно) коррелирует с большинством показателей экономической деятельности предприятий – экспортной активностью; наличием вложений в основной капитал; ненулевыми расходами на НИОКР. Особенно сильный контраст наблюдается между предприятиями-экспортерами и предприятиями-неэкспортерами: среди первых 58 % имеют генерального директора – наемного менеджера, среди вторых – только 45 %. Что касается использования внешних источников финансирования, то здесь различий практически нет.
Подавляющее большинство выявленных эффектов остаются в силе, и, более того, становятся еще более выраженными, если смотреть не на всю выборку, а на подвыборку, состоящую из предприятий, где за последние три года произошла смена генерального директора (табл. П6-3). Размер, возраст, место расположения, юридический статус, наличие крупных собственников, смена основного владельца, участие в холдинговых структурах, присутствие среди акционеров иностранных собственников, присутствие среди акционеров государства, процессы слияния и поглощения, теснота контактов с государством, коррупция, характеристики экономической деятельности – качественно эффекты всех перечисленных переменных для подвыборки предприятий с обновившемся руководством оказываются такими же, а количественно даже еще более сильными, что и для всей выборки в целом. В известном смысле эти результаты можно рассматривать как более важные, поскольку они показывают, в каком направлении и под воздействием каких факторов меняется в настоящее время состав директорского корпуса российских промышленных предприятий.
Эконометрический анализ идентичности руководителей предприятий строился нами аналогично тому, как строился эконометрический анализ их ротации. Мы точно так же оценивали четыре спецификации модели пробит-регрессии с разными наборами объясняющих переменных. Результаты представлены в табл. П6-4.
Из структурных характеристик значимо и положительно на вероятность того, что генеральным директором предприятия окажется наемный менеджер, влияют размер, возраст, расположение в сельской местности и принадлежность к группе «прочих» по юридическому статусу (по большей части эта группа включает государственные унитарные предприятия), значимо и отрицательно – принадлежность к ЗАО по юридическому статусу. Таким образом, мы получаем подтверждение, что чем крупнее предприятие, чем оно старше и чем оно «публичнее», тем выше вероятность, что в кресле генерального директора будет находиться наемный менеджер. Конкурентность рыночной среды не отражается существенно на идентичности руководителей промышленных предприятий.
Из характеристик собственности самым сильным фактором, положительно влияющим на вероятность того, что во главе предприятия будет стоять наемный менеджер, является вхождение в холдинговые структуры в статусе дочернего. Сходный результат был получен в работе [Долгопятова, 2012], где он предположительно объяснялся меньшим риском оппортунистического поведения менеджеров в тех случаях, когда предприятия входят в бизнес-группы. По-видимому, все дело в подчиненности дочерних предприятий вышестоящим структурам в рамках соответствующих холдингов. Подобно тому, как кажется вполне естественным, что начальниками цехов завода практически всегда являются не его собственники, а наемные менеджеры, точно так же нас едва ли должно удивлять, что руководителями дочерних предприятий, как правило, оказываются не собственники, а нанятые ими менеджеры. (Конечно, эта аналогия не является полной.)
Другой важнейший фактор – это смена генерального директора в предыдущие три года. На предприятиях, где это происходило, руководство чаще всего переходило к наемным менеджерам.
Отрицательная значимая связь у переменной отделения собственности от контроля наблюдается с такой важной характеристикой, как наличие крупного (контролирующего или блокирующего) собственника. Иными словами, крупные собственники предпочитают управлять своими предприятиями сами. Мы получили также свидетельства того, что присутствие в составе собственников государства заметно повышает вероятность принадлежности генерального директора к группе наемных менеджеров. В то же время смена основных собственников, процессы слияния и поглощения, а также присутствие в составе собственников иностранных инвесторов выступают, как ни странно, в качестве нейтральных факторов.
Из характеристики бизнес-климата отрицательно на практике отделения собственности от контроля отражается коррупция, а из показателей экономической деятельности – вложения в НИОКР и внешнее финансирование. Последнее, возможно, связано с тем, что российские банки охотнее выдают кредиты предприятиям, которые возглавляют их собственники.
Однако когда от полной выборки мы переходим к подвыборке предприятий с обновившимся руководством, результаты оказываются во многом иными (табл. П6-5). Из структурных характеристик значимость сохраняют возраст и размер (логарифм численности персонала), тогда как юридический статус перестает быть значимым фактором. Наиболее сильное (положительное) воздействие и в этом случае оказывает вхождение предприятия в холдинговые структуры в статусе дочернего. Наличие крупного собственника (на сей раз – только контролирующего) делает менее вероятным, что новым генеральным директором предприятия станет наемный менеджер. Достаточно неожиданно, но смена основного собственника не повышает, а снижает вероятность того, что руководство предприятием перейдет к наемному менеджеру. По-видимому, в большинстве случаев новые собственники предприятий предпочитают сами занимать кресло генерального директора. Ни присутствие в числе собственников иностранных инвесторов, ни присутствие в их числе государства не отражаются на вероятности того, что при смене руководства новым генеральным директором станет наемный менеджер.
Как и для всей выборки, для подвыборки новых генеральных директоров характеристики бизнес-климата и показатели экономической эффективности оказываются слабо связаны с идентичностью руководителей предприятий. (Одно из исключений – переменная, отражающая факт предоставления финансовой помощи государству: на предприятиях, оказывающих такую помощь, наемные менеджеры приходят к власти сравнительно реже.) Кроме того, они с меньшей вероятностью оказываются руководителями предприятий, инвестирующих в основной капитал. Можно предположить (хотя явными свидетельствами мы не располагаем), что в российской промышленности сформировались специфические ниши, так что в одних достижению более высокой эффективности способствует разведение функций владения и управления, тогда как в других – их соединение[87].
6.6. Влияние ротации и идентичности топ-менеджеров на экономическую эффективность
До сих пор мы обсуждали вопрос о том, как сменяемость и идентичность директорского корпуса связаны с различными характеристиками деятельности предприятий. Однако не менее важным является вопрос об обратном влиянии – как ротация высших менеджеров и отделение собственности от контроля отражаются на экономической эффективности – повышают они ее, понижают или никак с ней не связаны? Теоретически здесь представимы самые разные варианты: с одной стороны, быстрая ротация может обеспечивать замену менее компетентных руководителей более компетентными; с другой, высокая текучесть среди высших управленческих кадров может вести к дезорганизации работы предприятий; при одних условиях экономический выигрыш может давать совмещение функций владения и управления, при других – их разделение. Прослеживаются ли такого рода эффекты в российском случае?
К сожалению, обследование RUFIGE содержит очень ограниченный набор показателей эффективности, исходя из которых можно было бы судить о связи ротации и идентичности генеральных директоров с результатами деятельности возглавляемых ими предприятий. В своих расчетах мы использовали два таких обобщающих показателя, это – коэффициент рентабельности (доля прибыли в выручке) и логарифм выручки в расчете на одного занятого. Они представляют собой непрерывные переменные, и для них мы оценивали регрессионные уравнения методом МНК.
Набор используемых нами контрольных переменных включал те же структурные характеристики, характеристики собственности, институциональной среды и экономической деятельности (в период 2011–2013 гг.), которые фигурировали в предыдущих разделах. В качестве объясняющих переменных выступали переменные, отражающие сменяемость руководителей предприятий и их идентичность (принадлежность к группам собственников либо наемных менеджеров). При этом мы предполагали, что однократные и многократные замены первого лица могут сигнализировать о разных ситуациях, складывающихся на тех или иных предприятиях: если однократные – это, как правило, часть «естественного» процесса обновления директорского корпуса, то многократные – это чаще всего отражение серьезных организационных, экономических и финансовых проблем. С учетом этого мы вводили две различные дамми-переменные для предприятий, где генеральный директор в 2011–2013 гг. менялся один раз и где он менялся несколько раз.
Результаты расчета представлены в табл. П6-6. Мы видим, что переменная, отражающая идентичность генеральных директоров, незначима в модели для коэффициента рентабельности и слабо значима в модели для логарифма выручки на одного занятого. Это согласуется с предположением, высказанным в конце предыдущего раздела, о существовании отдельных рыночных ниш для предприятий, где собственность и контроль отделены и где они совмещены: в одних нишах более высокой эффективности чаще добиваются генеральные директора-собственники, в других – генеральные директора – наемные менеджеры.
В то же время результаты для переменных, характеризующих процесс смены руководителей предприятий, различаются. В модели для коэффициента рентабельности значима переменная многократной смены генерального директора и она входит в уравнение с отрицательным знаком, тогда как в модели для логарифма выручки на одного занятого значима переменная однократной смены генерального директора и она входит в уравнение с положительным знаком. Иными словами, если однократная смена, как правило, способствует повышению эффективности, то многократно повторяющиеся замены ведут к ее снижению. Похоже, что высокая текучесть среди руководства предприятий, действительно, чаще всего приводит к нарушениям в их нормальной работе.
Впрочем, к этим результатам следует относиться с известной осторожностью, поскольку респонденты RUFIGE крайне неохотно отвечали на вопросы, относившиеся к показателям эффективности предприятий, где они заняты (так, в модели с коэффициентом рентабельности в качестве зависимой переменной мы смогли использовать лишь около 1300 наблюдений, в модели с логарифмом выручки на одного занятого – лишь около 800). Как следствие, из-за значительного числа «неответов» полученные нами оценки могут быть смещенными. Кроме того, простейший МНК, как известно, не позволяет эффективно решать проблему эндогенности.
Поэтому мы решили дополнить анализ наблюдавшихся в прошлом показателей экономической деятельности анализом ожидаемых в будущем индикаторов экономической эффективности. Анкета RUFIGE включала вопросы о том, насколько велик, по мнению респондентов, риск, что в ближайшие два-три года их предприятия подвергнутся рейдерским атакам, потерпят банкротство или станут ареной внутрикорпоративных конфликтов. Вероятности оценивались по шкале «весьма вероятно», «более или менее вероятно», «практически невероятно». Около 60 % опрошенных предприятий высказали опасения (сильные или умеренные) относительно возможных рейдерских атак, свыше 65 % – относительно возможного банкротства и около 45 % – относительно возможных внутрикорпоративных конфликтов.
Если предположить, что обновление генеральных директоров и их принадлежность к группе наемных менеджеров способствуют повышению экономической эффективности, то тогда предприятия, где произошла смена первых должностных лиц и где руководство принадлежит наемным менеджерам, должны сталкиваться с меньшими рисками рейдерства, банкротства и внутрикорпоративных конфликтов. Для проверки этой гипотезы мы оценили три модели мультиномиальной регрессии, где зависимыми переменными выступали соответствующие риски, а независимыми переменными – различные структурные характеристики, характеристики структуры собственности, бизнес-климата и экономической деятельности предприятий.
Как видно из таблиц П6-7-П6-9, смена генеральных директоров никак не отражается на ожидаемых вероятностях рейдерских захватов, банкротства и внутрикорпоративных конфликтов. В то же время принадлежность к группе наемных менеджеров снижает риск рейдерских атак, но при этом повышает риск внутрикорпоративных конфликтов. На вероятности банкротства идентичность первых лиц предприятия не отражается. В целом мы не находим подтверждения предположению о том, что ротация и идентичность генеральных директоров существенно влияют – положительно или отрицательно – на ожидаемые в будущем индикаторы экономической эффективности предприятий.
Из других интересных результатов можно отметить, что на риск рейдерских атак положительно влияют смена основного владельца и наличие крупных собственников (с контрольным или блокирующим пакетом); на риск банкротства – высокая конкуренция, оказание финансовой помощи государству, использование внешнего финансирования и точно так же – смена основного владельца и наличие крупных собственников (в то же время для инвестирующих и экспортирующих предприятий подобная опасность меньше); на риск внутрикорпоративных конфликтов – высокий уровень коррупции и опять-таки смена основного владельца и наличие крупных собственников (для инвестирующих и экспортирующих предприятий этот риск подобно риску банкротства, при прочих равных условиях, оказывается ниже).
6.7. Заключение
В настоящей главе, используя микроданные репрезентативного обследования RUFIGE, мы анализируем особенности формирования директорского корпуса предприятий российской обрабатывающей промышленности. Эти данные свидетельствуют, что среди руководителей промышленных предприятий поддерживается достаточно высокая текучесть и что подавляющее их большинство по-прежнему совмещают функции владения и управления.
Общетеоретические соображения позволяют сформулировать целый ряд гипотез относительно возможных связей между мобильностью и идентичностью генеральных директоров, с одной стороны, и различными аспектами деятельности возглавляемых ими предприятий, с другой. Большая часть из этих предположений согласуется с результатами дескриптивного анализа. Однако более строгий эконометрический анализ показывает, что некоторые из выявляемых таким образом связей являются лишь кажущимися.
Мы получили определенные свидетельства того, что, при прочих равных условиях, мобильность генеральных директоров выше на «старых» предприятиях, созданных в дореформенный период; расположенных в сельской местности; больших по численности занятых; сталкивающихся с высокой конкуренцией; недавно сменивших основного собственника; с разделением функций владения и управления; с распыленной структурой собственности; входящих в холдинговые структуры в статусе дочерних. В то же время вопреки ожиданиям мы не обнаружили, что на сменяемости генеральных директоров отражаются степень «публичности» возглавляемых ими предприятий, участие в процессах слияния и поглощения, присутствие в составе собственников иностранных инвесторов или государства, а также характеристики бизнес-климата (теснота контактов с государством и уровень коррупции). Наиболее парадоксальный из полученных нами результатов заключается в том, что в российских условиях вероятность смены руководства, похоже, выше для более активных предприятий – если судить об этом по таким признакам, как осуществление инвестиций в основной капитал и затраты на НИОКР.
Если говорить об отделении собственности от контроля, то, при прочих равных условиях, ее с большей вероятностью можно ожидать на «старых» предприятиях, созданных в дореформенный период; расположенных в сельской местности; крупных по численности занятых; со статусом ОАО; не имеющих крупного собственника (с контрольным или блокирующим пакетом); входящих в холдинговые структуры в статусе дочерних; с участием государства. В то же время высокая конкуренция, смена основного собственника, участие в процессах слияния и поглощения, присутствие в составе собственников иностранных инвесторов, а также характеристики бизнес-климата выступают как нейтральные факторы. Большинство из отмеченных закономерностей в равной мере прослеживаются как для всей выборки, так и для подвыборки предприятий с «новыми» генеральными директорами (где в предыдущие три года происходила их смена). Исключение составляют эффекты, связанные со сменой основного собственника и предоставлением помощи государству (при осуществлении социальных проектов и т. д.): и то и другое снижает вероятность того, что новым генеральным директором окажется наемный менеджер. Показатели экономической деятельности предприятий слабо связаны с идентичностью их руководителей. Это дает основания полагать, что в российской обрабатывающей промышленности сформировались разные рыночные ниши, так что в одних к лучшим экономическим результатам приводит совмещение функций владения и управления, в других – их разъединение.
Эконометрическое оценивание моделей для показателей рентабельности и удельной выручки позволяет сделать вывод, что однократная смена директоров скорее способствует повышению экономической эффективности, тогда как многократная – ее снижению. В сочетании с представленными выше результатами это заставляет подозревать, что в российских условиях реализуется худший из возможных сценариев, когда при достижении предприятиями высоких экономических показателей начинается «директорская чехарда», результатом которой становится падение эффективности. Конечно, учитывая ограничения наших данных, невозможно с уверенностью утверждать, что все так происходит на самом деле. Тем не менее сам факт, что полученные нами оценки указывают на реальную возможность подобного сценария, позволяет скептически оценивать работоспособность сложившейся в российской экономике системы корпоративного управления.
Попытка использовать вместо фактических ожидаемые показатели экономической эффективности мало что меняет в этих выводах. Мы не обнаружили значимой связи мобильности генеральных директоров с прогнозными показателями, а для идентичности руководителей предприятий были получены неоднозначные результаты. Из них следует, что принадлежность генеральных директоров к группе наемных менеджеров снижает риск рейдерских захватов, не отражается на риске банкротства и повышает риск внутрикорпоративных конфликтов.
Хотя большинство полученных нами оценок поддаются разумной экономической интерпретации, наш основной вывод не вписывается в «классическую» картину функционирования системы корпоративного управления, когда плохие показатели экономической деятельности повышают вероятность отставки некомпетентных или недобросовестных руководителей компаний. На данных RUFIGE мы не смогли получить подобного результата, что указывает, возможно, на то, что российская система корпоративного управления не ориентирована на достижение конвенциональных показателей эффективности. Конечно, с учетом особенностей используемых нами данных (непанельная природа, отсутствие возможности решить или хотя бы ослабить проблему эндогенности и т. д.) этот вывод может рассматриваться пока только как предположительный и нуждающийся в дополнительной проверке на других данных.
Приложение П6
Таблица П6-1. Интенсивность обновления руководства предприятий, %
Таблица П6-2. Пробит-регрессии для переменной смены директора
Примечание. Здесь и далее в таблицах Приложения: – коэффициент значим на 10-процентном уровне; – на 5-процентном уровне; – на 1-процентном уровне.
Таблица П6-3. Доля наемных менеджеров среди генеральных директоров, %
Таблица П6-4.
Пробит-регрессии для переменной директор – наемный менеджер
Таблица П6-5. Пробит-регрессии для переменной смены директора по подвыборке предприятий с «новыми» директорами (пришедшими к руководству в 2011–2013 гг.)
Таблица П6-6.
Регрессии МНК для показателей экономической эффективности
Таблица П6-7. Мультиномиальная регрессия для риска оказаться объектом рейдерских атак, предельные эффекты (референтная группа – «вероятность практически нулевая»)
Таблица П6-8. Мультиномиальная регрессия для риска банкротства, предельные эффекты, (референтная группа – «вероятность практически нулевая»)
Таблица П6-9. Мультиномиальная регрессия для риска внутрикорпоративных конфликтов, предельные эффекты, (референтная группа – «вероятность практически нулевая»)
Таблица П6-10. Распределение обследованных предприятий по отраслям и размерным группам
Таблица П6-11. Дескриптивная статистика по используемым переменным
Литература
Бикбов Р.Р. Конкуренция и смена менеджеров в России: Препринт BSP /01/046. М.: РЭШ, 2001.
Гольцман М. Эмпирический анализ смены менеджеров в российских фирмах. Препринт BSP/00/035. М.: РЭШ, 2000.
Долгопятова Т.Г. Наемные менеджеры в российских компаниях: эмпирические свидетельства на фоне кризиса // Финансы и бизнес. 2011. № 4. С. 149–165.
Долгопятова Т.Г. Эмпирический анализ корпоративного контроля в российских компаниях: когда крупные акционеры отходят от исполнительного управления // Российский журнал менеджмента. 2007. Т. 5. № 3. С. 27–52.
Долгопятова Т.Г., Кузнецов Б.В. Факторы адаптации промышленных предприятий // Модернизация экономики России: социальный контекст / под ред. Е.Г. Ясина. Т. 2. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
Капелюшников Р.И. Собственность и контроль в российской промышленности // Вопросы экономики. 2001. № 12. С. 103–124.
Капелюшников Р.И. Концентрация собственности в системе корпоративного управления: эволюция представлений // Российский журнал менеджмента. 2006. Т. 4. № 1. С. 3–28.
Капелюшников Р.И., Демина Н.В. Обновление высшего менеджмента российских промышленных предприятий: свидетельства «Российского экономического барометра» // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3. № 3. С. 27–42.
Лукьянов Г.А., Рощин С.Ю., Солнцев С.А., Травкин П.В., Успенский Н.С. Мониторинг рынка труда топ-менеджеров в России (2000–2007 гг.): Препринт WP15/2009/02. М.: ГУ ВШЭ, 2009.
Муравьев А. Обновление директорского корпуса на российских приватизированных предприятиях // Российский журнал менеджмента. 2003. Т. 1. № 1. С. 77–90.
Солнцев С.А. Мобильность топ-менеджеров: инсайдеры или аутсайдеры?: Препринт WP15/2008/01. М.: ГУ ВШЭ, 2008.
Солнцев С.А. Мобильность топ-менеджеров в России: что изменилось в кризис 2008 года?: Препринт WP15/2012/01. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2012.
Широкова Г.В., Шаталов А.И., Кнатько Д.М. Факторы передачи управления наемному менеджеру: опыт стран СНГ и Центральной и Восточной Европы // Российский журнал менеджмента. 2009. Т. 7. № 2. С. 31–50.
Berle, A., Means G. The Modem Corporation and Private Property. N.Y.: Macmillan, 1932.
Bouzgarrou H., Navatte P. Ownership Structure and Acquirers Performance: Family vs. Non-Family Firms // International Review of Financial Analysis. 2013. Vol. 27. № 1. P. 123–134.
Iwasaki I. Enterprise Reform and Corporate Governance in Russia: A Quantitative Survey // Journal of Economic Surveys. 2007. Vol. 21. № 5. P. 849–902.
Jensen M.C., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. № 2. P. 305–360.
Jenter D., Kanaan F. CEO Turnover and Relative Performance Evaluation // Journal of Finance. 2015. Vol. 70. № 5. P. 2155–2184.
Kaplan S.N., Minton B.A. How has CEO Turnover Changed? // International Review of Finance. 2012. Vol. 12. № 1. P. 57–87.
Lee J.M., Hwang B-H., Chen1 H. Founder CEOs More Overconfident Than Professional CEO? Evidence From S&P 150 °Companies. Unpublished Paper. 2015.
Mullins W., Schoar A. How Do CEOs See Their Role? Management Philosophy and Styles in Family and Non-Family Firms: NBER Working Paper № 19395. Cambridge, MA:. National Bureau of Economic Research, 2013.
Muravyev A. Turnover of Senior Managers in Russian Privatised Firms // Comparative Economic Studies. 2003. Vol. 52. № 2. P. 148–172.
RachinskyA. Self Enforced Mechanism of Corporate Governance: Evidence from Managerial Turnover in Russia: CEFIR Working Paper, December, 2002.
Shleifer A., Vishny R. A Survey of Corporate Governance // Journal of Finance. 1997. Vol. 52. № 2. P. 737–783.
Глава 7 Мобильность по заработной плате: до глобального кризиса и после
7.1. Введение
Данное измерение мобильности показывает, как изменяются индивидуальные заработные платы и каким образом работники перемещаются во времени по шкале распределения заработных плат. Такая мобильность приводит к тому, что рассчитанное за длительный промежуток времени неравенство оказывается ниже, чем в отдельные моменты времени. Заработки в отдельные неудачные и, наоборот, необычайно успешные годы сглаживаются, а низкие заработки в начале трудовой карьеры компенсируются более высокими заработками на ее пике. Анализ мобильности по заработной плате важен и для адекватной оценки политики на рынке труда и действующих институтов рынка труда. Он дает возможность отделить устойчивые различия, связанные со структурными особенностями спроса на труд, предложения труда и институтов, от информационного шума, вызванного краткосрочными колебаниями. Изучение мобильности по заработной плате составляет важный аспект исследования динамики доходов, неравенства и бедности.
Источники мобильности по заработной плате многообразны. Это может быть повышение (в результате накопления человеческого капитала) или понижение (в результате обесценения знаний и навыков) индивидуальной производительности работника, усиление его переговорных позиций, смена места работы или переход на новую должность в рамках того же предприятия, изменение финансового положения фирмы, шоки различного происхождения (как глобальные, так и отраслевые, региональные, локальные), вмешательство государства. Между мобильностью по заработной плате и другими формами трудовой мобильности существует тесная связь, поскольку в конечном счете любые перемещения на рынке труда направлены на получение выигрыша в заработной плате. В этом смысле мобильность по заработной плате может рассматриваться как итоговая форма трудовой мобильности.
Динамичный рынок труда характеризуется высокой мобильностью по заработной плате. Низкая мобильность может указывать на сегментированность рынка труда и на существование «ловушек» бедности, попав в которые работники имеют низкие шансы улучшить свое положение. Вместе с тем чрезмерно высокая мобильность также может являться негативной чертой рынка труда, если заработные платы крайне чувствительно реагируют на внешние шоки. В этом случае высокие показатели мобильности отражают избыточную волатильность заработков и неопределенность зарплатных траекторий. Это лишает работников возможности планировать свои доходы и крупные расходы (например, на приобретение жилья), связанные с получением долгосрочных кредитов. Нестабильность доходов может оказывать влияние на очень широкий круг решений, таких как получение образования и рождение детей.
К сожалению, мы очень мало знаем о масштабах мобильности по заработной плате в России. Лишь в одной работе проводилось систематическое исследование данного вопроса на основе данных РМЭЗ ВШЭ. Лукьянова (2009) анализировала этот вид мобильности в период с 2000 по 2005 гг., т. е. в период бурного экономического роста. Автор приходит к выводу о том, что в этот период заработные платы в России на всех участках шкалы распределения были более динамичны, чем в развитых странах. Мобильность имеет сильный выравнивающий эффект: уровень неравенства по суммарным доходам за длительный период на 10–20 % ниже текущих показателей неравенства. Негативные последствия нисходящей мобильности компенсировались за счет высоких темпов роста реальной заработной платы по всей шкале. В этот период реальные заработные платы в абсолютном выражении росли даже у тех, кто спускался вниз по шкале относительно других работников.
Со времени публикации этой работы произошли серьезные изменения в российской экономике. Глобальный экономический кризис 2008–2009 гг. прервал экономический рост. Российская экономика оказалась сильно затронута этим кризисом, а последующий восстановительный подъем был недолгим и сменился новой рецессией. Изменение макроэкономического фона дает возможность не только обновить расчеты по показателям мобильности, но и посмотреть, каким образом цикличность деловой активности влияет на мобильность по заработной плате в России. Эти расчеты дополняют известную картину «российской модели» рынка труда, которая строится на сочетании гибкости заработных плат и инерционности занятости (см.: [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2013; Гимпельсон, Капелюшников, 2015; Капелюшников, 2001]). Эта модель предполагает, что основным механизмом адаптации к негативным экономическим шокам является падение реальной (а нередко и номинальной) заработной платы при незначительном сокращении занятости. Наоборот, в период роста реальные заработные платы растут высокими темпами, а занятость практически не увеличивается. Действие этих механизмов хорошо описано на усредненных макроданных, но не исследовалось систематически на микроданных о заработных платах работников по всей шкале распределения. Данная глава ставит целью заполнить этот пробел. В ней рассматривается временной промежуток с 2003 по 2013 гг. и во многих расчетах выделяются три подпериода: 2003–2007 гг. (экономический рост), 2007–2009 гг. (кризис), 2009–2013 гг. (посткризисное восстановление), что дает возможность отследить поведение заработных плат на разных стадиях делового цикла.
В настоящей главе основное внимание уделяется динамике заработных плат на разных участках шкалы распределения и для различных категорий работников. Мы исследуем, главным образом, внутригрупповую динамику; изменение соотношений между группами, вызванное сдвигами в структуре занятости, рассматривается подробнее в главе 8 данной книги. Вместе с тем мы постараемся проследить связь мобильности по заработной плате с другими видами мобильности, в частности, со сменой статуса занятости и места работы.
Мобильность по заработной плате представляет собой зонтичную концепцию, которая охватывает множество аспектов [Jantti, Jenkins, 2015]. Выделяются четыре основные концепции мобильности: изменение индивидуальных доходов (абсолютная мобильность), изменение позиции индивида в распределении доходов (относительная мобильность), влияние мобильности на долгосрочный уровень неравенства и волатильность доходов[88] (income risk). В настоящей главе мы в той или иной степени рассмотрим первые три из перечисленных концепций. Вопросы волатильности доходов не рассматриваются, поскольку используемые данные (РМЭЗ ВШЭ) не подходят для анализа этого аспекта мобильности из-за высокого уровня выбытия респондентов [89].
Задача рассмотреть различные аспекты мобильности по заработной плате и определяет логику данной главы. В разделе 7.2 описываются используемые данные. В разделе 7.3 рассматривается абсолютная мобильность по заработной плате. В разделе 7.4 обсуждаются показатели относительной мобильности, основанные на матрицах перехода, и приводятся результаты расчетов этих показателей. В разделе 7.5 представлена методология расчета показателей мобильности, известных как индексы Шоррокса, и оценивается влияние мобильности на долгосрочный уровень неравенства. В Заключении подводятся основные итоги и намечаются направления дальнейших исследований
7.2. Описание данных
Для изучения мобильности по заработной плате необходимы так называемые лонгитюдные, или панельные, данные. Такие данные должны содержать полные сведения о всех годовых заработках для одной и той же репрезентативной группы работников за достаточно продолжительный промежуток времени. Поэтому зарубежные исследователи все чаще обращаются к административным источникам данных, таким как данные налоговых служб и фондов социального страхования (см., например: [Hofer, Weber, 2002; Raferzeder, Winter-Ebmer, 2007; Cardoso, Neuman, Ziderman, 2010]). Такие данные содержат большое количество наблюдений и имеют меньше искажений, связанных с ошибками измерения, хотя и включают, как правило, очень ограниченный набор индивидуальных переменных. К сожалению, российским исследователям административные базы недоступны. Единственным источником панельных данных о заработной плате является РМЭЗ ВШЭ, представляющий собой обследование домохозяйств. Данные РМЭЗ ВШЭ ранее уже использовались для анализа мобильности по заработной плате [Лукьянова, 2009] и неоднократно – для анализа мобильности по доходам [Jovanovic, 2001; Luttmer, 2000; Denisova, 2007; Gorodnichenko et al., 2008; Lukiyanova, Oshchepkov, 2012]. Данные РМЭЗ ВШЭ несовершенны: Лутмер [Luttmer, 2000] отмечает, что около половины вариаций доходов в этом обследовании связаны с ошибками измерения и краткосрочными шоками, и различить их между собой не представляется возможным. Поэтому данные РМЭЗ ВШЭ, скорее всего, дают завышенные оценки мобильности, и при межстрановых сравнениях следует использовать лишь те оценки по другим странам, которые также рассчитаны по данным обследований населения. Вместе с тем ошибки измерения могут быть не столь значительны: в фундаментальном обзоре исследований по мобильности по доходам и заработным платам авторы работы [Jantti, Jenkins, 2015] приходят к выводу о том, что во многих странах использование обследований населения и административных данных дает очень близкие оценки показателей мобильности.
Используемая в исследовании выборка ограничена работающими респондентами в возрасте от 24 лет до возраста выхода на пенсию (54 года для женщин и 59 лет для мужчин), по которым имеются данные о заработной плате. Выбор нижней границы в 24 года связан с желанием отсечь подрабатывающих учащихся и студентов, так как многие из них заняты на временных работах, нередко с режимом неполной занятости и не соответствующих их уровню образования и способностям. Следуя распространенной практике, для основной массы расчетов мы не учитываем перемещения из состояния занятости в состояние безработицы или неактивности. Между тем риск перейти в разряд незанятых и, соответственно, потерять заработки существенно выше для низкооплачиваемых работников. В связи с этим масштабы восходящей мобильности для представителей нижних децилей могут быть завышены. Кроме того, мы исключили получателей трудовых пенсий по старости, военных пенсий и других досрочных пенсий (пенсии по инвалидности и потере кормильца не учитываются), а также тех, у кого отсутствует информация по ключевым социально-демографическим переменным (пол, возраст, уровень образования).
В большинстве зарубежных работ, посвященных мобильности – хотя это не является обязательным правилом, – при расчетах используется сбалансированная панель, т. е. такая выборка, которая состоит из респондентов, опрошенных во всех без исключения раундах в течение рассматриваемого периода. Для изучения мобильности по данным РМЭЗ ВШЭ целесообразность использования сбалансированной выборки вызывает серьезные вопросы с точки зрения репрезентативности. Лишь 1629 человек (из числа отвечающих критериям отбора в выборку) имеют ненулевые значения среднемесячных заработков в каждом из раундов РМЭЗ ВШЭ в 2003–2007 гг., 2961 человек – в 2007–2009 гг. и 1943 человека – в 2009–2013 гг. Это составляет 15–20 % от общего числа респондентов для пятилетних периодов, и около 40 % – для кризисного трехлетнего периода. Для всего одиннадцатилетнего периода сбалансированная панель включает всего 582 респондента, т. е. примерно 3,4 % от общего числа респондентов, удовлетворяющих условиям отбора. Столь сильное истощение выборки связано с масштабным ремонтом выборки в 2006 и 2010 гг.
Чтобы извлечь максимум информации из имеющихся данных, в настоящей работе мы используем частично сбалансированные данные, совмещая отдельные годовые выборки. Эта процедура позволяет включить в расчеты максимальное число респондентов, указавших заработные платы в каждой паре совмещенных выборок. Таким образом, основным объектом изучения являются изменения заработной платы за один год. В отдельных таблицах, а также для проверки робастности результатов приводятся результаты расчетов по сбалансированным панелям, в том числе по скользящим сбалансированным панелям.
Ключевой переменной в нашей работе является сообщенная самим респондентом величина среднемесячной заработной платы по основному месту работы за последние 12 месяцев (или за фактическое число отработанных месяцев, если респондент работает на текущем месте работы менее одного года). Для тех респондентов, которые не смогли указать средние заработные платы, и тех, кому не задавался вопрос о средних заработках, мы берем заработные платы за последние 30 дней (около 10–15 % от выборки каждого года). Вторичная занятость сравнительно мало распространена в российской экономике, поэтому доходы от второй работы и дополнительных приработков не учитываются. Для приведения данных о заработной плате за разные годы к сопоставимому виду мы дефлируем их на годовые (октябрь к октябрю) индексы потребительских цен, используя общероссийский индекс цен. В качестве базисного периода взят 2003 год.
Крайние значения на хвостах распределения по заработной плате («аутлайеры») могут существенно искажать показатели неравенства и мобильности. Для устранения их искажающего влияния мы исключили респондентов, у которых месячные или часовые заработки более чем в 10 раз превышали значение 99-го квантиля распределения этих переменных для соответствующего года. Кроме того, были исключены все наблюдения, по которым заработная плата была меньше, чем две трети от размера минимальной заработной платы в октябре 2003 г., или 400 руб. (2/3 × 600 руб.) в ценах октября 2003 г. Это позволяет отсечь индивидов, имеющих случайные разовые заработки, и тех, кто заведомо работает неполное рабочее время[90].
Для того чтобы учесть различия в уровнях цен между регионами, мы рассчитали по данным Росстата отдельно для каждого года соотношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе и в целом по России. Затем мы поделили все дефлированные заработки на полученный индекс относительной стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе. Таким образом, все расчеты неравенства и мобильности сделаны по заработным платам, скорректированным на инфляцию и межрегиональные различия в покупательной способности денег.
В таблице П7-1 представлены основные характеристики выборки в целом, а также отдельно для самого нижнего и самого верхнего децилей распределения для 2003, 2007, 2009 и 2013 гг. В течение всего рассматриваемого периода в нижней части распределения доминируют женщины и сельские жители. Работники в самой верхней части распределения на 1–3 года моложе работников с самыми низкими заработными платами. Работа неполное рабочее время существенно увеличивает риски оказаться в рядах работающих бедных: доля таких работников в нижнем дециле в 5–6 раз выше, чем в верхнем дециле, и в 2–3 раза, чем в среднем по выборке.
На протяжении рассматриваемого периода некоторые структурные изменения все же имели место. За 2003–2013 гг. произошло сокращение доли сельских жителей в нижнем дециле, при этом ощутимое снижение наблюдалось после 2007 г. – наступивший кризис сильнее затронул промышленность и финансовый сектор. Наиболее интересные наблюдения касаются образования и занятости в государственном секторе. За рассматриваемый период на фоне общего роста доли работников с высшим образованием наблюдалось увеличение их представительства как в верхней, так и в нижней частях распределения. Эти тенденции могут свидетельствовать об усилении поляризации образовательных учреждений по качеству образования. Выпускники хороших учебных заведений быстро оказываются на самой вершине распределения, в то время как обладатели низкокачественных дипломов так и не могут подняться по зарплатной лестнице.
Для формирования переменной занятости в государственном секторе мы рассматриваем ответ респондентов на вопрос о том, есть ли государство среди собственников их предприятий. Таким образом, в составе государственного сектора, по нашему определению, оказываются все предприятия с государственным участием, в том числе те, что имеют смешанную собственность. Следует учитывать, что респонденты РМЭЗ ВШЭ не имеют точных данных о структуре собственности своих предприятий, поэтому доля занятых на предприятиях с участием государства значительно выше в РМЭЗ ВШЭ по сравнению с данными Росстата. Однако, несмотря на серьезные различия в уровнях, оба источника сходятся в направлении изменений – доля государственной собственности в 2000-е годы непрерывно снижалась. Во все годы работники государственного сектора составляли большинство в нижнем дециле распределения, их доля снижалась, однако это было связано с общим сокращением занятости в государственном секторе. В верхнем дециле мы наблюдаем ту же динамику, но только до конца 2000-х годов. В 2013 г. доля работников государственного сектора на самой вершине распределения внезапно становится выше, чем в 2007 и 2009 гг. Эти изменения могут быть прямым следствием майских президентских указов 2012 г. и принятых ранее решений о повышении окладов высших чиновников, военных, полицейских и т. д.
7.3. Абсолютная мобильность: изменение индивидуальных заработных плат
Экономисты чаще всего оперируют концепцией абсолютной мобильности, поскольку их интересы касаются, главным образом, изменений в покупательной способности заработной платы. Мы также начнем с изучения того, как менялись в рассматриваемый период реальные заработные платы на индивидуальном уровне.
Для предварительной оценки качества данных посмотрим на динамику средних заработков, чтобы убедиться, что данные РМЭЗ ВШЭ адекватно отражают те тенденции, которые известны из официальной статистики. Рисунок П7-1 Приложения иллюстрирует динамику средней заработной платы в 2003–2013 гг., рассчитанной по кросс-секционным данным. На протяжении рассматриваемого периода наблюдался постоянный рост заработной платы, за исключением кризисного 2009 г., когда реальная заработная плата упала на 6 %. Вместе с тем рост до и после кризиса имел разное качество. После 2009 г. экономика так и не смогла восстановить докризисные темпы роста, и реальные заработные платы росли со средним темпом 3–4% в год. Это заметно медленнее, чем в 2003–2008 гг., когда они увеличивались на 10–14 % в год. Рассчитанные по РМЭЗ ВШЭ темпы роста средних заработных плат, с учетом различий в охвате работников и используемых концепциях заработной платы, примерно соответствуют оценкам Росстата.
Не все работники в равной мере выигрывали от экономического роста, равно как и не все несли потери в период кризиса. До кризиса 63–65 % работников имели положительный прирост реальной заработной платы по сравнению с предшествующим годом (рис. П7-2). Заметим, что речь идет о реальной заработной плате, поэтому приведенные данные не означают, что всем остальным работникам сокращали номинальную заработную плату. У большей части работников с отрицательным приростом реальных заработков сохранялся размер номинальной заработной платы, но из-за инфляции ее реальная ценность сокращалась, либо темпы роста их номинальной заработной платы не успевали за темпами инфляции. В 2009 г. реальные заработки выросли у 46 % работников. Эти изменения примечательны по двум причинам. С одной стороны, даже в кризис около половины работников сохранили либо улучшили свое материальное положение(!). С другой стороны, по сравнению с докризисным периодом доля «успешных» работников сократилась на 17–19 п.п., т. е. для каждого шестого работника рост заработных плат сменился падением. Кризис имел долгосрочные последствия для роста: докризисные темпы роста заработных плат не восстановились. В 2010–2013 гг. доля работников, имевших положительный прирост реальной заработной платы, увеличилась до 56 %, что на 7–9 п.п. ниже уровня 2003–2007 гг. Возврата к докризисному качеству роста не произошло.
Еще интереснее выглядят результаты расчетов темпов роста заработной платы в зависимости от исходного положения на шкале распределения заработков. На рисунке П7-3 (верхняя панель) показано, как росли средние заработки в среднем по выборке и по разным квартилям распределения. На графике изображены результаты оценивания регрессии, в которой зависимой переменной являлась разность логарифмов заработной платы между двумя последовательными раундами, а независимыми переменными – годовые дамми-переменные (без включения каких-либо дополнительных объясняющих переменных). Уравнения оценивались для всей выборки и отдельно для каждого квартиля, квартили фиксировались по состоянию на первый год из каждой пары лет, для которой рассматривается прирост, – всего было оценено пять уравнений по числу кривых на графике. На вертикальной оси отложена сумма константы и коэффициента для соответствующего года. Эта сумма показывает средние темпы прироста заработной платы (в логарифмах).
Мы видим, что динамика усредненных изменений в заработных платах не в полной мере отражает картину событий, хотя во всех квартильных группах профили изменений в целом очень похожи и совпадают с траекторией изменения средних заработных плат. Ключевые различия касаются уровней. Низкооплачиваемые работники в среднем имели положительные приросты заработных плат во все годы, включая кризисные. При этом в годы бурного роста свыше 75 % из нижней четверти распределения имели положительный прирост реальных заработков, но и в кризис доля таковых не опускалась ниже 64 %. Наоборот, для представителей верхнего квартиля во все годы, включая годы бурного роста, средние приросты были отрицательными. В кризис увеличился как средний размер потерь, так и доля тех, кто потерял.
Безусловно, эти расчеты, скорее всего, чрезмерно оптимистичны, так как выборки ограничены теми, кто работал в течение двух последовательных лет и сообщил заработные платы в эти годы. Поэтому расчеты не учитывают различия в рисках потерять работу и покинуть выборку. И те, и другие распределены неслучайным образом. Низкооплачиваемые работники имеют более высокие риски ухода в безработицу и незанятость, и эти риски увеличиваются в кризис. Высокооплачиваемые работники имеют более высокие риски покинуть выборку и не участвовать в обследовании следующего года. Поэтому для низкооплачиваемых работников на графиках представлена верхняя граница прироста их заработков, а для высокооплачиваемых – нижняя граница. Но даже с учетом неслучайного отбора в занятость и неслучайного отсева из выборки приведенные на рисунках тенденции довольно достоверно иллюстрируют динамику изменений в заработках. Оказавшись в нижней четверти распределения, работники могут рассчитывать на прирост заработков в течение следующего года (при условии сохранения занятости). В то же время положение на вершине распределения менее устойчиво – значительная часть респондентов, оказавшихся в верхнем квартиле, в следующем году сталкивалась с сокращением реальных заработков.
В 2008–2009 гг. низкооплачиваемые работники столкнулись со снижением темпов роста реальной заработной платы (но для большинства из них рост оказался положительным). Следует напомнить, что в 2009 г. работники с низкими заработными платами, особенно занятые в государственном секторе, получили значительную поддержку в виде увеличения МРОТ[91] и выплат в рамках антикризисной программы[92], что могло сгладить последствия кризиса. В то же время три четверти высокооплачиваемых работников в 2008–2009 гг. испытали снижение заработных плат в реальном выражении. Безусловно, нельзя все негативные изменения связывать с кризисом, поскольку и до кризиса около половины работников из верхнего квартиля имели негативные приросты реальной заработной платы. Однако за годы кризиса доля тех, кто имел положительный прирост реальной заработной платы, сократилась в нижнем квартиле на 12 п.п., во втором квартиле – на 19 п.п., в третьем квартиле – на 24 п.п., и в четвертом квартиле – на 25 п.п. Таким образом, кризис существенно сильнее затронул верхнюю половину распределения – процент тех, у кого положительный рост сменился отрицательным, был вдвое больше в верхней половине распределения по сравнению с нижней четвертью.
Это наблюдение помогает нам лучше понять внутреннюю «механику» снижения реальной заработной платы в рамках российской модели рынка труда и связать ее с другими его характеристиками (см.: [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2013; Гимпельсон, Капелюшников, 2015; Капелюшников, 2001]). Описание российской модели рынка строится на анализе поведения средней заработной платы. Распределение заработных плат имеет логнормальное распределение, и показатель средней заработной платы находится под сильным влиянием значений из верхнего «хвоста» распределения. Это означает, что изменения заработных плат даже сравнительно небольшой группы высокооплачиваемых работников может привести к снижению средних значений. Наш анализ показывает, что издержки кризиса распределяются неравномерно. Низкооплачиваемые работники чаще несут издержки в виде безработицы[93], но значительно реже имеют прямые потери в заработках. Высокооплачиваемые работники чаще несут потери в заработках, и их потери более значительны по своей относительной величине. Различия в реакции на кризис связаны с различиями в структурах заработных плат низко– и высокооплачиваемых работников. В заработках низкооплачиваемых работников высока доля фиксированной части, т. е. тарифного заработка и постоянных компенсаций, и поэтому их заработные платы менее волатильны. Работодатель имеет ограниченные возможности для сокращения фиксированной части в случае кризиса. В основном, оно достигается за счет сокращения рабочего времени, перевода работников на режим неполной занятости и задержек выплаты заработной платы. Заработные платы высокооплачиваемых работников имеют другую структуру – в ней выше доля премий и бонусов, которые чувствительно реагируют на внешние шоки. Заработные платы этой группы работников более эластичны. Таким образом, адаптация к кризису для низкооплачиваемых работников идет через сокращение занятости и заработной платы, для высокооплачиваемых – через снижение заработной платы. При этом именно снижение заработных плат высокооплачиваемых работников лучше объясняет падение средней заработной платы в период кризисов.
Среди показателей абсолютной мобильности выделяются показатели, при расчете которых игнорируется знак изменений. Они рассчитываются по абсолютным значениям и характеризуют общую вариативность заработков. Рисунок П7-4 иллюстрирует динамику одного из таких показателей – среднего из абсолютных значений прироста логарифма заработной платы. Из графика видно, что абсолютная мобильность снижалась вплоть до 2009 г., а затем стабилизировалась. При этом, кризис не отметился в динамике этого показателя никаким особенным отклонением – ни вверх, ни вниз. В абсолютном выражении потери были меньше приобретений предшествующих лет и сопоставимы с изменениями последующих лет.
Чтобы понять, какие характеристики индивидов влияют на динамику заработной платы, мы оценили регрессию, в которой зависимой переменной является разность в логарифмах заработной платы между двумя последовательными годами. Таким образом, в зависимой переменной учитывается знак изменений. Регрессия оценивалась методом наименьших квадратов и с помощью хекмановской коррекции, что позволяет учесть неслучайность ухода в незанятость и неслучайность выбытия из выборки. Результаты оценивания представлены в табл. П7-2а и П7-2б. Таблица П7-2а представляет расчеты по данным за все годы, табл. П7-2б – за 2005–2013 гг., но в расширенной спецификации с добавлением переменных отраслевой принадлежности (по состоянию на начальный год из каждой пары лет, за который рассчитывается разница заработных плат). Дело в том, что в РМЭЗ ВШЭ только с 2005 г. задавались одинаковые вопросы об отрасли, в которой занят респондент.
Несмотря на то, что статистические тесты в обоих случаях указывают на целесообразность коррекции на неслучайность отбора, коэффициенты при переменных в уравнениях для приростов заработных плат практически не различаются. Годовые темпы роста заработной платы были выше у мужчин, особенно у тех из них, кто состоял в браке. Для женщин семейное положение не оказывало влияния на темпы прироста заработков. Медленный рост заработных плат женщин может быть связан не только с дискриминацией, но и с длительными перерывами в карьере, вызванными рождением детей. В течение таких перерывов происходит обесценивание накопленного ранее человеческого капитала, в то время как мужчины, не имеющие перерывов, продолжают его накапливать. Быстрее всего увеличивались заработки молодых работников, а медленнее всего – работников старше 45 лет. Быстрое увеличение заработков молодых работников вполне объяснимо с точки зрения экономической теории. Согласно одной из популярных теорий, по причине асимметрии информации молодые люди, выходящие на рынок труда, как правило, получают заработные платы на уровне ниже их предельной производительности. По мере работы происходит накопление информации о реальной производительности работника и растет его заработная плата, параллельно идет накопление практических навыков и специфических знаний, что также позитивно отражается на заработной плате. Молодые люди также имеют максимальный выигрыш от смены рабочих мест до тех пор, пока найдут место, обеспечивающее максимальное совпадение их личных способностей и навыков с требованиями работодателей. В более позднем возрасте рост заработной платы происходит за счет накопления общего и специфического капитала (однако накопление идет менее интенсивно, чем в молодые годы) и также за счет трудовой мобильности (однако вероятность появления привлекательных предложений снижается). В старших возрастах рост заработной платы может стать отрицательным, что может быть связано с сокращением рабочего времени, сокращением производительности труда из-за ухудшения здоровья и снижением стимулов к инвестициям в человеческий капитал.
Позитивное влияние на темпы роста заработков оказывали наличие высшего образования и проживание в городе. Смена места работы давала больше возможностей для получения прибавки в заработках, однако этот эффект исчезает при добавлении отраслевой принадлежности. Это может означать, что эффект от мобильности в значительной степени связан с сортировкой работников по отраслям с учетом ненаблюдаемых характеристик и с качеством мэтчинга. Отметим, что и в первой спецификации отдача от мобильности низкая по сравнению с работами, базирующимися на кросс-секционных данных. Дело в том, что при рассмотрении приростов устраняется влияние постоянных во времени индивидуальных эффектов, которые могут оказывать воздействие как на вероятность мобильности, так и на заработки (например, способности, личностные особенности, связи и т. п.). Недоучет этих факторов приводит к завышению отдачи от мобильности в исследованиях на кросс-секциях. Те, кто оставался с прежним работодателем, могли рассчитывать на прибавку: заработки росли быстрее по мере увеличения специфического стажа. Занятые неполное рабочее время (менее 35 часов в неделю) отставали по темпам роста заработной платы от занятых полное время. Регрессионные расчеты подтверждают сделанное выше наблюдение о том, что исходный ранг в распределении заработков оказывает существенное влияние на перспективы роста заработной платы. Приросты были тем выше, чем ниже в распределении находился индивид в исходном году. Особенно сильное влияние этот фактор имел для нижних процентилей распределения, но по мере движения вверх по шкале его действие ослабевало.
Результаты расчетов указывают на то, что заработки в среднем росли быстрее на тех предприятиях, где есть иностранные собственники, российские юридические и физические лица, а также, если сам респондент входил в число собственников. Отметим, что влияние формы собственности оказывается робастным к включению отраслевых переменных. Коэффициенты слегка снижаются, но сохраняют знак и значимость (в спецификации с хекма-новской коррекцией).
Отраслевые эффекты в табл. П7-2б рассчитаны по отношению к занятым в обрабатывающих отраслях. Коэффициенты при переменных, обозначающих отраслевую принадлежность, указывают на то, что в среднем за период с 2005 по 2013 гг. быстрее всего росли заработки в сфере финансов и деловых услуг (недвижимость, ИТ, юридические услуги). Далее с небольшим отрывом следует добывающая промышленность, затем – строительство, государственное управление, транспорт и связь. Во всех этих отраслях темпы роста заработной платы были значимо выше, чем на обрабатывающих производствах. Самые низкие темпы роста заработков наблюдались у занятых в сельском хозяйстве; образовании, науке и культуре; энергетике и ЖКХ, а также в здравоохранении. В то же время работники торговли и общественного питания имели практически те же темпы роста заработной платы, что и работники обрабатывающих отраслей.
Суммируя описание эконометрических результатов, можно выделить те группы работников, принадлежность к которым снижает перспективы роста заработной платы. Это – женщины; работники предпенсионного возраста; жители села; занятые неполное рабочее время; не имеющие высшего образования; занятые в отраслях сельского хозяйства или в бюджетном секторе. Сочетание нескольких признаков из перечисленного выше списка серьезно увеличивает риски стагнации или снижения реальных заработков. Позитивной характеристикой российского рынка труда является то, что нахождение в нижней части распределения не является застойным. Низкооплачиваемые работники имеют более высокие темпы роста заработной платы, чем высокооплачиваемые, что должно вести к обновлению пула «работающих бедных» и снижению неравенства в долгосрочной перспективе. [94]
Уравнение отбора при использовании хекмановской коррекции указывает на то, что вероятность остаться в совмещенной зарплатной выборке действительно зависит от уровня заработной платы. Чем выше заработная плата в текущем году, тем выше вероятность остаться в зарплатной выборке в следующем году. Этот результат означает, что риски ухода в незанятость и отсева выше для низкооплачиваемых работников (ранее мы говорили, что теоретически отсев может быть высоким и для верхних децилей, однако, судя по результатам, в РМЭЗ ВШЭ это не находит эмпирических подтверждений). Поэтому искажения в расчетах, в том числе и на рис. П7-3, для верхних децилей, скорее всего, меньше, чем для нижних децилей. Кроме того, это может означать, что низкооплачиваемые работники чаще сталкиваются с потерей работы, в то время как высокооплачиваемые – с потерей доходов. Мы вернемся к обсуждению неслучайности отбора в следующем разделе.
7.4. Относительная мобильность
Изначально в рамках неоклассической теории экономисты исходили из того, что индивидов должно беспокоить лишь то, как меняются их реальные доходы. Однако с середины 1960-х годов появляются теоретические работы, которые указывают на важность изменений в положении индивида относительно других людей. Дьюсенберри и Истерлин [Duesenberry, 1967; Easterlin, 1974] отмечают, что индивиды могут адаптировать свои предпочтения в зависимости от того, что имеют или хотят иметь другие люди. Хирш [Hirsch, 1995] предложил теорию, согласно которой, даже если индивид заинтересован только в увеличении покупательной способности своих доходов, его ранг в распределении доходов все равно имеет значение. Относительный ранг определяет возможность приобретать «статусные блага», т. е. те товары, ценность которых зависит от того, какое количество людей владеет такими благами. Социологи (см., например: [Runciman, 1966]), развивают концепцию относительной депривации, в соответствии с которой люди постоянно сравнивают свои доходы и условия жизни с доходами и условиями жизни своего окружения.
Относительная мобильность характеризует перемещение индивида между различными позициями в распределении доходов. Она отражает изменение дохода работника не в абсолютном денежном выражении, а относительно других работников, и не имеет прямой связи с рассмотренной выше концепцией абсолютной мобильности. С одной стороны, маленькие изменения заработной платы могут быть недостаточны для того, чтобы привести к изменению относительного положения индивида. «Необходимая» величина изменений может зависеть от исходной позиции индивида на шкале распределения и от общей растянутости шкалы. В средней и нижней части распределения, где «плотность» индивидов высока, для изменения относительной позиции может быть достаточно незначительного изменения заработной платы, а в верхней части распределения для этого может понадобиться существенный скачок заработной платы. С другой стороны, высокая абсолютная мобильность может сопровождаться низкой относительной мобильностью. В период экономического роста, когда «прилив поднимает все лодки» и растут заработные платы всех работников, относительная мобильность может быть низкой, если доходы всех работников меняются на одну и ту же величину или в одинаковой пропорции. Аналогично в кризис при синхронном снижении доходов всех работников может не происходить изменения положения индивида в шкале распределения.
Стандартным инструментом измерения относительной мобильности являются матрицы переходов[95]. Элементы такой матрицы показывают, какая доля респондентов, находившихся в определенном квантиле распределения в году t, останется в этом же квантиле распределения в году t + τ, а какая доля респондентов переместится за это время в другие квантили. В эмпирических исследованиях на базе матриц перехода рассчитывают различные суммарные индексы. Чаще всего используются индекс стабильности (immobility index, IMI), в расчете которого участвуют элементы главной диагонали, и средний шаг мобильности (average jump, AJ), который учитывает перемещения за пределами главной диагонали. Жестких правил для расчета индекса мобильности не существует. Мы будем пользоваться самой простой версией этого показателя, рассчитывая его как среднее из элементов главной диагонали матрицы переходов. Фактически эта величина есть средняя вероятность остаться в исходном дециле распределения.
Средний шаг мобильности равен среднему числу квантилей, через которые «перепрыгивает» индивид между моментами времени t и t + τ. Для матрицы размером 10 χ 10 средний шаг мобильности может быть рассчитан по следующей формуле:
(7–1)
где pij – вероятность того, что индивид, находившийся в i-ом дециле в период t, окажется в j-ом дециле в период t + τ.
В предыдущем разделе указывалось, что неслучайность отбора может оказывать сильное влияние на результаты. Чтобы увидеть, насколько существенно это влияние, можно сравнить между собой табл. П7-3а и П7-3б, построенные по данным за 2003 и 2007 гг.
Таблица П7-3а построена как обычная матрица переходов, которые используют при анализе относительной мобильности, т. е. в расчеты включены только те респонденты, которые участвовали в обеих волнах РМЭЗ ВШЭ и сообщили свои заработные платы. Таблица П7-3б включает всех респондентов, участвовавших в обследовании 2003 г. и удовлетворяющих тем условиям, которые мы наложили на выборку. Поэтому в таблицу добавляются два возможных состояния для 2003 г.: «не занят» и «занят, но не указана заработная плата», и те же два состояния для 2007 г. плюс «отсев». В последний столбец попадали те респонденты, которые участвовали в обследовании 2003 г., но не попали в нашу выборку 2007 г. либо по причине прекращения участия в обследовании, либо из-за того, что перестали соответствовать ограничениям, наложенным на выборку (например, достижение пенсионного возраста или получение права на досрочную пенсию). Сумма по строке равна 100 % в обеих таблицах.
Сравнение этих двух таблиц наталкивает на целый ряд выводов. Во-первых, за пять лет происходит довольно сильный отсев респондентов: из «зарплатной» выборки в зависимости от дециля уходит от 33 до 47 % респондентов[96]. При этом вероятность отсева зависит от позиции индивида в начальном году. Она заметно выше для верхних децилей, особенно для десятого дециля[97]. Поэтому анализ относительной мобильности строится на неявной предпосылке о том, что новые респонденты (которых не было в 2003 г., но которые есть в выборке 2007 г. и данные о заработных платах которых не используются в расчетах) имеют то же распределение по децилям, что и выбывшие респонденты. Рассчитанные показатели мобильности будут отражать реальную картину относительной мобильности лишь в той мере, в какой верно это предположение. Поэтому более достоверными являются оценки для сравнительно коротких периодов.
Во-вторых, вероятность выхода в состояние незанятости снижается по мере движения к верхним децилям: 11,7 % для первого дециля против 2,5 % для десятого дециля (т. е. более чем в 4 раза). Если незанятый индивид находит работу, то он(а) с большей вероятностью оказывается в нижней части распределения. Однако в этом случае различия не столь велики: 3,7 % для первого дециля против 2,0 % для десятого дециля. Впрочем, из числа незанятых в 2003 г. лишь четверть респондентов сообщили о наличии работы в 2007 г. Большинство либо остались в состоянии незанятости, либо покинули выборку. Более высокая вероятность ухода в незанятость для нижних децилей приводит к завышению оценок относительной мобильности для низкооплачиваемых работников. Эти методологические замечания следует учитывать при интерпретации показателей относительной мобильности.
В таблицах П7-3а, П7-4 и П7-5 отражены перемещения респондентов между децилями распределения заработков в 2003–2007 гг., 2007–2009 гг. и 2009–2013 гг. соответственно. Рассмотрим крайние пятилетние периоды (табл. П7-3а и П7-5). Для их построения использовались совмещенные выборки для начала и конца периодов, на которые не накладывалось требование сбалансированности панели по всем годам. В случае полного отсутствия мобильности все элементы таблицы, кроме находящихся на главной диагонали, были бы равны нулю. И, наоборот, при абсолютной мобильности все элементы имели бы одинаковые значения (10 %) – вероятность оказаться в любом дециле распределения в конечный период времени независимо от начальной позиции. Как видно из таблиц, заработные платы в России довольно подвижны, о чем свидетельствуют большие цифры за пределами основной диагонали. Примерно три четверти респондентов сменили свое положение в распределении заработных плат за пять лет. При этом в «пятилетку» быстрого роста мобильность была несколько выше, чем в посткризисную «пятилетку». Высокую интенсивность подтверждают и данные о среднем шаге мобильности. Перемещавшиеся по шкале распределения респонденты «перепрыгнули» в среднем через 1,7 дециля для 2003–2007 гг. (и 1,6 дециля для 2009–2013 гг.).
Результаты показывают, что вероятность изменения положения ниже по краям распределения, чем в его средних децилях, поскольку в средних децилях даже небольшие изменения заработной платы могут привести к переходу в соседний дециль. В то же время даже при существенном снижении относительной заработной платы работник из самого нижнего дециля так и останется в этом дециле. Точно так же рост относительной заработной платы представителя верхнего дециля не изменит его позиции в матрице переходов. Кроме того, расстояния между соседними позициями значительно выше именно на концах распределения, поэтому для перехода в следующий дециль работник должен иметь более значительное изменение заработной платы в абсолютном выражении.
Следует, однако, отметить, что значительная часть переходов ограничивалась перемещением в соседние децили (доля таких переходов составляет для обеих «пятилеток» около 36 % для всех децилей, кроме крайних). Но даже если мы будем учитывать лишь те переходы, которые привели к выходу за соседние децили, то все равно получим, что 42–44 % всех респондентов существенно изменили свое положение в распределении заработных плат за пять лет, т. е. большие перемещения тоже не являются редкими. Шансы на перемещение для самых бедных претерпели лишь незначительные изменения. В обеих «пятилетках» около 44 % из числа тех, кто был в нижнем дециле в начале периода, оставались бедными и в конце периода. Изменения касались только вероятности большого роста доходов для этих групп. В 2003–2007 гг. свыше 15 % из представителей нижнего дециля в конце периода имели доход выше медианного. В 2009–2013 гг. таковых было около 11 %. Одновременно увеличилась доля тех представителей нижнего дециля, кто перешел в два соседних дециля, т. е. получил небольшие относительные прибавки к заработной плате. Аналогичным образом в последней «пятилетке» стабилизировалось положение наиболее высокооплачиваемой группы работников, что выразилось в снижении рисков перехода в нижнюю часть распределения и увеличении доли тех, кто перемещается максимум на два дециля.
Перемещения не прекращались и в кризисный период, о чем свидетельствует табл. П7-4. Результаты расчетов несопоставимы с табл. П7-3а и П7-5, потому что здесь рассматривается трехлетний период. Около 70 % либо сохранили свои децильные позиции, либо переместились в соседний дециль. Однако следует отметить, что кризис радикально сократил шансы бедных на радикальный рост доходов и одновременно увеличил риски высокооплачиваемых на большие потери доходов. За трехлетний период 7 % представителей верхнего дециля оказались в нижней половине распределения (эта доля выше, чем для пятилетних периодов).
В таблице П7-6 мы приводим расчеты для итоговых показателей мобильности для годовых интервалов (сами мобильности не приводятся). Данные этой таблицы говорят о том, что в кризис мобильность снижалась: увеличивается доля тех, кто остается в «своем» дециле, и одновременно сокращается средний шаг мобильности. Различия между периодом до и после кризиса не столь однозначны: вероятность мобильности увеличивается, но шаг мобильности снижается. Но в целом масштабы относительной мобильности остаются весьма сходными.
Обращают на себя внимание и различия в реакции нижних и верхних децилей на кризис. Для представителей десятого дециля вероятность переместиться в нижние децили была выше всего в 2004–2007 гг., с началом кризисных явлений она снижается. Получается, что высокооплачиваемым работникам сложнее сохранить свои относительные позиции в период быстрого роста, когда рыночные условия предоставляют новые возможности для большого числа конкурентов. В то же время им проще сохранить свои позиции в кризис и в период медленного роста, когда заработки падают у всех и относительно равномерным темпом, а новых возможностей становится меньше. Для представителей первого дециля вероятность улучшить свое относительное положение была выше всего в 2004–2007 гг., в кризис она резко снизилась, но потом возвратилась на прежний уровень. Низкооплачиваемые работники оказываются в выигрыше с точки зрения перспектив относительной мобильности даже в условиях невысоких темпов роста.
Как мы видим, матрицы переходов могут быть достаточно громоздкими и их сложно сравнивать между собой для разных периодов и групп населения. Кроме того, при переходе к децильным группам теряется значительная часть информации. Поэтому в эмпирических исследованиях нередко используются другие показатели мобильности, которые основываются на той же логике, что и матрицы переходов. Одним из таких показателей можно считать изменение ранга индивида в распределении заработных плат и абсолютное значение этой величины. Достоинством этих показателей является то, что они не только удобны для дескриптивного и графического анализа, но также могут использоваться в качестве зависимых переменных в регрессионных уравнениях. Для анализа мобильности по заработной плате подобные показатели использовались, в частности, в работах Диккенса по Великобритании [Dickens, 2000] и Раферзедера и Уинтера-Эбмера по Австрии [Raferzeder, Winter-Ebmer, 2007].
Диккенс [Dickens, 2000] предложил использовать изменение рангов в качестве показателя мобильности:
(7–2)
где pcit – процентильный ранг i-го индивида в году t. Индекс Диккенса изменяется от нуля до единицы. Он равняется нулю в случае полного отсутствия мобильности, единице – при абсолютной отрицательной корреляции рангов в обоих периодах и 2/3 – если ранги заработков в обоих периодах не зависят друг от друга.
В таблице П7-7 приведены результаты расчетов по выборке в целом и для различных групп населения. Эти расчеты подтверждают, что мобильность оставалась достаточно стабильной в течение всего периода наблюдения, во второй половине периода она была всего на 0,01 меньше, чем в 2004–2007 гг. Значение индекса колебалось вокруг 0,23-0,24. Это заметно ниже порогового значения (2/3), свидетельствующего о полной независимости заработков в двух периодах. Однако полная независимость заработков – это слишком абстрактная база для сравнения, в том смысле, что в действительности подобная ситуация никогда не наблюдается. Более реалистичным представляется сравнение с результатами, полученными Диккенсом [Dickens, 2000]. По его расчетам, в Великобритании пик мобильности по заработной плате пришелся на начало 1980-х годов, когда индекс Диккенса достиг значения 0,20, а к началу 1990-х годов этот показатель снизился до 0,12. Таким образом, даже пиковый уровень мобильности в Великобритании не «дотягивает» до того диапазона значений, который мы наблюдали в России в 2003–2013 гг. Это подтверждает, что уровень мобильности по относительным заработкам в России оставался чрезвычайно высоким[98].
Сравнивая между собой динамику мобильности мужчин и женщин, можно сделать вывод, что мужчины вносят более весомый вклад в мобильность по заработной плате, тогда как относительные позиции женщин более стабильны. Во все годы, кроме 2012–2013 гг., величина индекса Диккенса у мужчин на 6-12 % выше, чем у женщин. Более низкая мобильность среди женщин обусловлена как чисто гендерным фактором, так и их непропорционально высокой занятостью в государственном секторе, где заработки более стабильны. Поэтому неожиданное усиление относительной мобильности женщин произошло в 2012–2013 гг. Это, скорее всего, связано с выполнением майских президентских указов, вызвавших резкое повышение относительных заработных плат в государственном секторе, три четверти работников которого составляют женщины.
Относительная мобильность по заработной плате максимальна для молодых работников и снижается с возрастом. Самые низкие показатели мобильности наблюдались среди работников старше 45 лет. Этот вывод согласуется с результатами эмпирических исследований мобильности по заработной плате в западных странах. Например, Тред [Trede, 1998], анализируя данные по Западной Германии, приходит к выводу о том, что мобильность по заработной плате наиболее высока для молодых работников в первые годы после выхода на рынок труда, затем она постоянно сокращается примерно до 35 лет, а после 35 лет остается на стабильном уровне.
В отношении образовательных групп четкой зависимости не наблюдается. При этом уровень относительной мобильности более стабилен среди лиц, не имеющих высшего образования. Он в меньшей степени реагирует на колебания, связанные с деловым циклом. Относительная мобильность лиц, имеющих высшее образование, более волатильна. Она сильнее проседает в кризис и усиливается в период экономического роста вслед за ростом спроса на квалификацию. Кроме того, группы с высоким уровнем образования могли выиграть от увеличения финансирования бюджетного сектора.
Цикличность спроса влияет и на уровень мобильности сельских жителей. В период роста относительные доходы жителей села достаточно стабильны, но в кризис волатильность доходов усиливается. У городских жителей относительная мобильность увеличивается в период роста и снижается в кризис. В отраслевом разрезе выделяются отрасли со стабильно высокой и низкой мобильностью. Стабильно низкий уровень мобильности наблюдается в добывающей промышленности и в отраслях бюджетного сектора. На другом полюсе находятся строительство и торговля, работники которых характеризуются высоким уровнем относительной мобильности. В остальных отраслях значения индекса Диккенса близки к средним по выборке.
Смена места работы – наиболее мощный канал относительной мобильности в условиях российского рынка труда. На протяжении рассматриваемого периода относительная мобильность у сменивших место работы была в 1,5–1,9 раза выше, чем у тех, кто работу не менял. Ни по одной из социально-демографических характеристик мы не наблюдаем таких различий. В литературе по трудовой мобильности показано, что высокая отдача от мобильности может складываться по нескольким причинам. Во-первых, из-за неслучайного отбора в мобильность, если вероятность смены работы выше для работников с более высокой производительностью. Во-вторых, из-за улучшения качества мэтчинга, связанного с тем, что новая работа в большей степени соответствует знаниям и навыкам работника, что приводит к увеличению производительности труда. В-третьих, учитывая значительные рентные доходы некоторых отраслей российской экономики, часть выгоды от смены места работы может не иметь прямой связи с характеристиками работника или улучшением качества мэтчинга, а отражать получение доступа к рентным доходам.
7.5. Влияние мобильности на неравенство
Благодаря мобильности неравенство по доходам за длительный период оказывается ниже, чем за отдельные годы внутри периода. Эта эмпирическая закономерность наблюдается во всех странах, хотя теоретически взаимосвязь между мобильностью и неравенством не является однозначной. Теоретически можно представить общество, в котором заработные платы всех высокооплачиваемых работников стабильно растут быстрее, чем у всех низкооплачиваемых, что поддерживает иерархию заработков. Однако в реальной жизни выравнивающие факторы доминируют, хотя выравнивающий эффект также имеет свой предел, поскольку сглаживаются, в основном, краткосрочные колебания заработков и колебания, относящиеся к жизненному циклу. Расчеты по странам ОЭСР показывают, что благодаря мобильности заработки за всю трудовую жизнь распределены примерно на четверть более равномерно, чем заработки за отдельные годы [OECD, 2015]. Несмотря на сильный выравнивающий эффект, три четверти неравенства можно отнести к «постоянному» неравенству. Постоянное неравенство объясняется структурными различиями, связанными со структурой спроса на труд и предложения труда, а также с институтами и политиками.
Впрочем, даже ограниченный выравнивающий эффект может оказывать мощное мотивирующее влияние на общество. Взаимосвязь мобильности, неравенства и отношения к неравенству составляет суть «туннельного эффекта» [Hirschman, Rothschild, 1973]. А. Хиршман сравнивает ожидания индивидов относительно будущего роста с чувствами водителей, застрявших в пробке в автомобильном туннеле. Начало движения вперед по соседней полосе внушает оптимизм даже тем индивидам, которые продолжают оставаться на месте. Наблюдая оживление у «соседей», индивиды ожидают, что и их собственное положение также скоро улучшится. Однако если положение сохранится, то оптимизм водителей на тех полосах, что остаются неподвижными, может смениться гневом и яростью. Это образное сравнение указывает на то, что неравенство является приемлемым с социальной точки зрения, если мобильность (рост заработных плат) носит инклюзивный характер и ведет к их более равномерному распределению в долгосрочном периоде. Изучение влияния мобильности на неравенство позволяет совместить концепции абсолютной и относительной мобильности.
Наиболее часто с этой целью в эмпирических исследованиях используется индекс Шоррокса [Shorrocks, 1978], который рассчитывается по сбалансированной панели. Он представляет собой отношение индекса неравенства в суммарных (за несколько периодов) заработках (Ix+y) к взвешенной сумме индексов неравенства в каждом из периодов (Ix и Iy). В качестве весов используются средние уровни заработных плат в каждом из периодов (μx и μy). Для двух периодов времени формула для расчета индекса выглядит следующим образом:
(7–3)
Аналогичным образом рассчитывается индекс Шоррокса и для нескольких периодов. Данный индекс не может быть больше единицы, поскольку неравенство в годовых доходах выше, чем неравенство в суммарных доходах за продолжительный период времени. Индекс принимает значение единица в случае полного отсутствия мобильности по доходам. Чем выше мобильность, тем ближе значение индекса к нулю. Поэтому в качестве индекса мобильности более удобным является показатель MI =(1 – RI)· 100 %, поскольку он увеличивается с ростом мобильности и, потому, проще с точки зрения интерпретации. Данный индекс показывает, на сколько процентов неравенство по суммарным заработкам за несколько лет ниже, чем средневзвешенное из показателей неравенства за отдельные годы этого периода.
Следует признать, что индекс Шоррокса не является идеальным инструментом для измерения мобильности. С одной стороны, в силу истощения выборки мы вынуждены использовать данные всего за несколько лет, что занижает истинный уровень долгосрочной мобильности. С другой стороны, индекс Шоррокса может рассматриваться и как показатель, завышающий уровень мобильности [OECD, 1997]. Суммирование заработков за несколько лет исходит из неявной предпосылки о том, что респонденты обладают всей полнотой информации и имеют возможность эффективно сглаживать потребление за длительный промежуток времени, занимая на кредитном рынке в плохие годы и делая сбережения в успешные годы. Эта предпосылка означает, что человек придает значение лишь средней величине заработной платы за некоторый длительный период, а стабильность заработков сама по себе не имеет никакой дополнительной ценности. Возможность сглаживать потребление, ко всему прочему, предполагает абсолютную эффективность кредитных рынков, на которых можно было бы занимать и давать деньги в долг по одной и той же ставке. Со всеми этими предпосылками вряд ли можно согласиться. Поэтому в реальном мире неполной информации и несовершенных кредитных рынков индекс Шоррокса завышает уровень мобильности. Индекс Шоррокса не позволяет развести собственно мобильность и волатильность заработков, т. е. предсказуемую и непредсказуемую мобильность. Предсказуемая мобильность может быть связана с ожиданиями роста заработной платы по мере накопления опыта работы или с продвижением по карьерной лестнице, переездом в более богатый регион, т. е. теми факторами, которые в значительной степени находятся под контролем человека. Непредсказуемая мобильность отражает разного рода шоки. В периоды макроэкономической нестабильности может сложиться ситуация, когда изменения заработной платы и позиции человека в распределении заработных плат связаны исключительно со случайными факторами. Вполне возможно, что значительная часть общества согласится смириться с более высоким уровнем неравенства при низкой неопределенности относительно будущих заработков. Несмотря на указанные недостатки, индекс Шоррокса очень часто используется в исследованиях мобильности по заработной плате и доходам (см., например: [OECD, 1997; Buchinsky, Hunt, 1999]).
В качестве индексов неравенства для построения индекса Шоррокса мы использовали четыре показателя неравенства – коэффициент Джини и еще два индекса неравенства – стандартное отклонение в логарифмах (далее SDL – standard deviation of logs) и среднее отклонение в логарифмах (далее MLD – mean log deviation). SDL рассчитывается по следующей формуле:
(7–4)
Расчет MLD также не представляет сложности:
(7–5)
где yi – заработная плата i-го респондента; ln – логарифм средней заработной платы; – среднее из логарифмов заработной платы; N – количество респондентов.
В исследованиях неравенства и мобильности важно использовать разные индексы. Причина состоит в том, что каждый индекс по-своему реагирует на изменения в неравенстве на различных участках шкалы распределения. Так, индекс MLD проявляет большую чувствительность к различиям в доходах в нижней части распределения, т. е. среди работников с низкими заработками. Коэффициент Джини лучше схватывает изменения в средней части шкалы. Индекс SDL сильнее всего реагирует на различия в верхней части распределения.
На рисунке П7-5 представлена динамика показателей неравенства для кросс-секционных данных и панелей, которые сбалансированы внутри выделенных нами периодов (20032007, 2007–2009, 2009–2013). Сравнивая между собой показатели неравенства по сбалансированным панелям и перекрестным выборкам, мы видим, что среди постоянных участников обследования неравенство, как правило, ниже. В среднем за весь период эта разница составляла от 3 до 12 % в зависимости от показателя неравенства, а по отдельным раундам варьировалась от 0 до 13 %. Однако во времени показатели неравенства для обеих выборок менялись сходным образом: они были на высоком уровне в начале периода, но снижались в последующие годы. Это в целом совпадает с теми тенденциями, которые фиксирует Росстат. Различия состоят лишь в том, что по сбалансированным панелям снижение неравенства проходило более гладко, за исключением интервала кризисных лет. В целом за период неравенство наиболее интенсивно снижалось в период экономического роста. Накануне кризиса, в 2008 г., наблюдалось краткосрочное повышение неравенства с последующим возвращением на прежнюю траекторию. Это краткосрочное повышение неравенства было связано с тем, что некоторые группы работников уже почувствовали на себе раннее влияние кризиса, тогда как для большинства негативные последствия стали заметны в 2009 г. В 2009–2013 гг. снижение неравенства продолжилось, но существенно замедлилось.
Далее на основе формулы (7–3) нами были рассчитаны индексы мобильности для годовых интервалов (табл. П7-8). Для этого совмещались выборки за два последовательных года и анализировалось неравенство среди индивидов, участвовавших в обоих раундах. Рассчитанные индексы мобильности показывают, на сколько процентов неравенство по суммарным доходам за два последовательных года ниже, чем средневзвешенное из показателей неравенства за отдельные годы. Наиболее активные движения происходили на нижнем конце шкалы распределения, а в центральной и верхней части распределения различия в заработках были более устойчивыми. Например, коэффициент Джини сократился с 0,40 в 2003 г. до 0,37 для пары 2003 и 2004 гг., т. е. на 4,2 %, а коэффициент MLD за ту же пару лет сократился на 9,8 %. Наиболее интенсивная мобильность наблюдалась с 2004 по 2007 гг. и в 2009–2010 гг., т. е. в периоды быстрого роста реальных заработков. В то же время кризис (2007–2009 гг.) и медленный посткризисный рост сопровождались снижением влияния мобильности на долгосрочный уровень неравенства.
Впрочем, расчеты по выборкам, сбалансированным по подпериодам (см. табл. П7-9), не дают подтверждения этому выводу. Неравенство сократилось примерно на одну и ту же величину как за «пятилетку» бурного роста (2003–2007 гг.), так и за посткризисную «пятилетку» (2009–2013 гг.). Коэффициент Джини сократился на 8,2 и 8,3 % соответственно; коэффициент MLD – на 17,4 и 17,6 %; коэффициент SDL – в обоих периодах на 9,4 %. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении между собой трехлетних периодов: 20032005 гг., 2007–2009 гг. и 200-2011 гг. Сокращение по коэффициенту Джини составляло 6,0–6,1 %, по MLD – 13,3-13,8 %, по SDL – 7,1–7,5 %. В качестве «финального» теста мы рассчитали индексы Шоррокса по скользящим трех– и пятилетним панелям. Наиболее интересны расчеты с трехлетним «окном». Мы видим, что эти расчеты в большей степени совпадают с выводами по годовым интервалам. При использовании пятилетнего окна происходит сильное сокращение размера выборки, что не позволяет видеть краткосрочные колебания, в том числе связанные с кризисом. В кризис и посткризисный период все-таки имелось некоторое сокращение влияния мобильности на неравенство. Сокращение коэффициента Джини – неравенство в средней части распределения – по итогам трех лет упало с 6,3–6,4 до 5,9–6,1 %. Снижение значений MLD (характеризует неравенство в нижней части распределения) началось еще до кризиса и продолжилось в посткризисный период. Эти процессы были связаны с «подтягиванием» нижнего хвоста распределения в результате повышения минимальной заработной платы, увеличения заработных плат бюджетников и поддерживались экономическим ростом. В верхней части распределения выравнивающий эффект (SDL) мобильности усилился в кризис, но затем ослабел в посткризисный период.
7.6. Заключение
В данной главе мы проанализировали три аспекта мобильности по заработной плате: изменение индивидуальных доходов (абсолютную мобильность), перемещение по шкале распределения (относительную мобильность) и влияние мобильности на неравенство. Рассмотрение разных аспектов и разных показателей мобильности дает возможность представить сложную картину изменений в заработных платах российских работников. Изучаемый период – с 2003 г. по 2013 г. – включал как годы бурного экономического роста, так и глобальный кризис 2008–2009 гг. и посткризисный период замедления темпов роста.
Мы показываем, что разные аспекты мобильности неоднозначно сочетаются между собой. Наиболее изменчивым параметром оказывается абсолютная мобильность, которая характеризует динамику покупательной способности заработной платы. Темпы роста реальной заработной платы на всех участках шкалы распределения повторяли макроэкономические тренды. Потери, которые работники понесли в кризисные годы, были компенсированы ростом заработных плат в последующие два года. При этом с началом кризиса год от года прибавки-потери становятся все меньше. Это означает, что заработные платы растут медленнее, но становятся более предсказуемыми.
Анализ абсолютной мобильности позволяет дополнить картину российской модели рынка труда. Низко– и высокооплачиваемые работники несут принципиально разные издержки в кризис. Низкооплачиваемые работники значительно чаще сталкиваются с риском потерять работу, но значительно реже – со снижением реальной заработной платы, у большинства из них реальная заработная плата продолжала расти даже в кризисные годы, но более медленными темпами. Наоборот, среди работников, относящихся к верхней части распределения, доля тех, у кого рост реальной заработной платы сменился ее падением, в кризис увеличилась на треть. Адаптация к кризису для низкооплачиваемых работников идет через сокращение занятости и заработной платы, для высокооплачиваемых – через снижение заработной платы. При этом именно снижение заработных плат высокооплачиваемых работников обуславливает падение средней заработной платы в период кризисов.
В отношении двух других аспектов мобильности в рассматриваемый период наблюдалось значительно больше постоянства. Относительная мобильность очень вяло реагировала на динамику делового цикла. Кризис привел к небольшому снижению вероятности перемещения по шкале распределения, причем для низкооплачиваемых работников (сохранивших работу) шансы подняться в более высокие децили даже несколько повысились. Мы связываем это с антикризисными мерами по поддержке доходов, принятыми российскими правительством в 2008–2009 гг. После кризиса произошел возврат показателей относительной мобильности практически к прежним уровням. То же самое можно сказать о влиянии мобильности на долгосрочный уровень неравенства. Мобильность оказывает существенное выравнивающее влияние на распределение заработков, особенно, для представителей крайних позиций. Так, в нижней части распределения сокращение неравенства за пятилетний период (по показателю MLD) составляет около 18 %. В то же время в центральной части распределения выравнивающий эффект, рассчитанный с помощью коэффициента Джини по суммарным доходам за пять лет, снижается примерно на 8 %. Экономический рост усиливал выравнивающее влияние мобильности. В кризис и посткризисные годы, наоборот, оно несколько ослабло, но незначительно.
По сравнению с развитыми странами Россия остается страной с высоким уровнем мобильности по заработной плате – это касается показателей как абсолютной, так и относительной мобильности. Причин более высокого уровня мобильности в России может быть несколько. Не проводя строгого анализа, для которого понадобились бы сопоставимые данные, назовем некоторые из них. Во-первых, наши данные охватывают респондентов, работающих неполное рабочее время, чьи заработки могут быть более волатильны. Во-вторых, более высокая инфляция имеет тенденцию усиливать мобильность по доходам и заработкам [Dickens, 2000]. В-третьих, механизмы зарплатообразования в России более гибкие, чем в странах ОЭСР, что, при прочих равных, должно вести к усилению мобильности [Gottschalk, 1997]. В России ниже доля постоянной компоненты (гарантированного оклада) в заработках и выше доля переменной составляющей (различных премий, бонусов и проч.). Кроме того, в России выше текучесть кадров, вызванная, не в последнюю очередь, сильной дифференциацией заработков даже внутри узких профессий, о чем свидетельствует высокое влияние смены места работы на динамику заработной платы. Наконец, высокие показатели мобильности могут быть связаны с ошибками измерения. Расчеты по РМЭЗ ВШЭ могут давать завышенные оценки мобильности из-за невысокого качества зарплатных данных и большого отсева из выборки. Однако, несмотря на серьезность этой проблемы, ее влияние не стоит преувеличивать: уровень мобильности в России крайне высок и для показателей с годовым интервалом, для которых проблема истощения выборки не играет существенной роли.
Вместе с тем следует отметить, что национальные особенности институтов рынка труда (строгость трудового законодательства, уровень минимальной заработной платы, роль профсоюзов и т. п.) влияют на масштабы абсолютной мобильности, но вряд ли могут быть причиной различий в уровне относительной мобильности по заработной плате. К такому выводу приходит ряд исследований, посвященных изучению мобильности в странах – членах ОЭСР, в том числе в странах с таким разным институциональным устройством рынка труда, как Португалия, США, Великобритания, Германия и Скандинавские страны [Burkhauser et al., 1997; OECD, 1997; Cardoso, 2006; Bayaz-Ozturk et al., 2012].
Приложение П7
Таблица П7-1. Описание выборки
Примечания. Д1 – первый дециль, Д10 – десятый дециль. Для каждого года выборка ограничена респондентами, сообщившими свои заработные платы в текущем и следующем году (для 2013 г. – в текущем и предшествующем году). Остальные ограничения – см. в тексте. Средняя заработная плата – в ценах 2003 г. с корректировкой на межрегиональные различия в уровне цен по стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Таблица П7-2а. Детерминанты абсолютной мобильности (2003–2013 гг.)
Примечания. Зависимая переменная – прирост логарифма заработной платы за один год. Процентильный ранг рассчитан по совмещенным выборкам. Стандартные ошибки скорректированы на кластеризацию на индивидуальном уровне и гетероскедастичность. – р < 0,01; – р < 0,05; – р < 0,1.
Таблица П7-2б.
Детерминанты абсолютной мобильности (2005–2013 гг.)
Примечание, см. примечание к табл. П7-2а.
Таблица П7-3б. Относительная мобильность (2003–2007 гг.)
Примечание, рассчитано по совмещенным выборкам (N = 2133).
Таблица П7–3б. Относительная мобильность (2003–2007 гг.)
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам (N = 5638).
Таблица П7–4. Относительная мобильность (2007–2009 гг.)
Примечание, рассчитано по совмещенным выборкам (N = 3273).
Таблица П7-5. Относительная мобильность (2009–2013 гг.)
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам (N = 2519).
Таблица П7–6. Относительная мобильность: годовые интервалы
Примечание, рассчитано по совмещенным выборкам.
Таблица П7-7. Относительная мобильность: индекс Диккенса, годовые интервалы
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам.
Таблица П7-8. Индекс Шоррокса, годовые интервалы
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам.
Таблица П7-9. Индекс Шоррокса: суммарные заработки, сбалансированные панели
Индекс Шоррокса: суммарные заработки, скользящие сбалансированные панели
Таблица П7-10. Индекc Шоррокса: суммарные заработки, скользящие сбаланcированные панели
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам.
Рис. П7-1. Динамика средней заработной платы
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам.
Рис. П7–2. Рост заработной платы
А. Средние приросты заработной платы
Б. Доля работников с положительным приростом заработной платы
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам.
Рис. П7–3. Приросты заработной платы по квартилям распределения
Примечание: рассчитано по совмещенным выборкам.
Рис. П7-4. Динамика абсолютных значений приростов заработной платы (в логарифмах)
Рис. П7–5. Неравенство заработных плат
Литература
Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда: испытание кризисом // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2. С. 249–254.
Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реконструкции. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2001.
Лукьянова А.Л. Дифференциация заработной платы и феномен работающих бедных в России // Изучение проблем бедности в России. Избранные материалы победителей конкурса научных работ: сборник статей по результатам конкурса Всемирного банка. М.: Алекс, 2005.
Лукьянова А.Л. Чьи заработки растут быстрее: мобильность по относительным заработным платам в России (2000–2005 гг.) // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 2. С. 217–242.
Bayaz-Ozturk G., Burkhauser R., Couch R. Consolidating the Evidence on Income Mobility in the Western States of Germany and the U.S. from 1984–2006: NBER Working Paper, № 18618. 2012.
Bowlus A., Robin J. An International Comparison Of Lifetime Inequality: How Continental Europe Resembles North America // Journal of the European Economic Association. 2012. Vol. 10. № 6. Р. 1236–1262.
Buchinsky M., Hunt J. Wage Mobility in the United States // Review of Economics and Statistics. 1999. Vol. 81. № 3. Р. 351–368.
Burkhauser R., Holtz-Eakin D., Rhody S. Labor Earnings Mobility and Inequality in the United States and Germany during the Growth of the 1980s // International Economic Review. 1997. Vol. 38. Р. 775–794.
Cardoso A. Wage Mobility: Do Institutions Make a Difference? // Labour Economics. 2006. Vol. 13. Р. 387–404.
Cardoso A., Neuman S., Ziderman A. Wage Mobility in Israel: The Effect of Sectoral Concentration // Journal of Labor Research. 2010. Vol. 31. Р. 146–161.
Denisova I. Entry to And Exit from Poverty in Russia: Evidence from Longitudinal Data: CEFIR/NES Working Paper 98. Moscow, 2007.
Dickens R. Caught in a Trap? Wage Mobility in Great Britain: 1975–1994 // Economica. 2000. Vol. 67. Р. 477–498.
Duesenberry J. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.
Easterlin R. Does Economic Growth Improve the Human Lot? // M. Reder (ed.) Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. New York, 1974.
Gorodnichenko Y., Sabirianova Peter K., Stolyarov D. A Bumpy Ride Along the Kuznets Curve: Consumption and Income Inequality Dynamics in Russia. 2008. Mimeo.
GottschalkP. Inequality, Income Growth and Mobility: The Basic Facts // Journal of Economic Perspectives. 1997. Vol. 11. Р. 21–40.
Hirsch F. Social Limits to Growth. London: Routledge, 1995.
Hirschman A., Rothschild M. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development // Quarterly Journal of Economics. 1973. Vol. 87. № 4. Р. 544–566.
HoferH., Weber A. Wage Mobility in Austria: 1986–1996 // Labour Economics. 2002. Vol. 9. Р. 563–572.
Jantti M., Jenkins S. Income Mobility. Ch. 10 // A. Atkinson, F. Bourguignon (eds.) Handbook of Income Distribution. 2015. Vol. 2. Р. 807–935.
Jovanovic B. Russian Roulette – Expenditure Inequality and Instability in Russia, 1994–1998. William Davidson Institute Working Paper 358. Ann Arbor, MI, 2000.
Lukiyanova A., Oshchepkov A. Income Mobility in Russia (2000–2005) // Economic Systems. 2012. Vol. 36. Р. 46–64.
Luttmer E. Inequality and Poverty Dynamics in Transition Economies: Disentangling Real Events from Noisy Data. Washington, DC: World Bank, 2000. Mimeo.
OECD. Earnings Mobility: Taking a Longer Run View. Ch. 2 // Employment Outlook – 1997. Paris: OECD, 1997.
OECD. The Quality of Working Lives: Earnings Mobility, Labour Market Risk and Longterm Inequality. Ch. 4 // Employment Outlook – 2015. Paris: OECD, 2015.
Runciman W. Relative Deprivation And Social Justice. London: Routledge and Kegan Paul, 1966.
Raferzeder T., Winter-Ebmer R. Who Is on the Rise in Austria: Wage Mobility and Mobility Risk // Journal of Economic Inequality. 2007. Vol. 5. Р. 39–51.
Shorrocks A. Income Inequality and Income Mobility // Journal of Economic Theory. 1978. Vol. 19. Р. 376–393.
Trede M. The Age Profile of Mobility Measures: An Application to Earnings in West Germany // Journal of Applied Econometrics. 1998. Vol. 13. Р. 397–409.
Глава 8 «Новички» и «старожилы»: что говорят показатели специального стажа
8.1. Введение
Среди характеристик трудовой мобильности особое место занимает показатель специального стажа, который отражает длительность трудовых отношений работника с одним и тем же работодателем, на одной и той же фирме. Распределение работников по группам с различным специальным стажем – «стажевая» структура – позволяет судить о том, каково соотношение между «новичками» и «старожилами» в составе занятых[99]. В отличие от многих других индикаторов трудовой мобильности, которые представляют собой показатели потоков и измеряют интенсивность тех или иных процессов в течение определенного периода времени, специальный стаж является показателем запасов и отражает результаты этих процессов по состоянию на определенный момент времени. В этом смысле его удобно рассматривать как меру стабильности трудовых отношений (хотя понятно, что поскольку термины «мобильность» и «стабильность» – антонимы, они могут использоваться как взаимозаменяемые).
Специальный стаж – это относительно легко измеримый и интерпретируемый показатель, что облегчает и его включение в теоретические конструкции, и проведение межстрановых и межгрупповых сопоставлений. Альтернативные показатели мобильности – данные статистики предприятий по наймам и выбытиям – во многих странах не собираются централизованно, а если и собираются, то относятся лишь к отдельным сегментам рабочей силы. В любом случае показатели потоков не заменяют показатели запасов. И если первые больше говорят об интенсивности мобильности, то параметры стажевой структуры (например, доля работников с продолжительным специальным стажем) характеризуют также стабильность.
На динамику стажевой структуры могут влиять разные факторы: распространение новых технологий, возникновение новых форм организации бизнеса (ведущих, например, к увеличению или уменьшению размеров фирм), изменения в структуре рабочей силы, институциональные сдвиги и т. д. Все, что влияет на интенсивность наймов и увольнений, рано или поздно отражается и на распределении рабочей силы по специальному стажу. Стажевая структура подвержена также выраженным циклическим колебаниям: если доля «новичков» (работников с коротким стажем) имеет тенденцию меняться проциклически, то доля «старожилов» (с длинным стажем) – контрциклически. В периоды кризисов интенсивность наймов снижается, а при увольнениях, интенсивность которых в периоды кризисов возрастает, большинство фирм склонно придерживаться правила старшинства – «последним нанят, первым уволен» (last in, first out – LIFO). Многие из этих факторов в современной экономике могут действовать одновременно, и установление точных причин, вызвавших те или иные подвижки в стажевой структуре, как правило, является непростой задачей.
Стабильность рабочих мест выступает ключевым признаком их защищенности. Глобализация, информационно-компьютерные технологии, а также структурные сдвиги в пользу сферы услуг могут подрывать стабильность трудовых отношений. Вследствие этого рабочие места становятся все менее защищенными: практика пожизненного найма уходит в прошлое, долгосрочные трудовые контракты вытесняются краткосрочными, работники вынуждены действовать во все более волатильной среде, их уверенность в завтрашнем дне резко снижается. Во многих странах профсоюзы, а также правительства стали считать одной из важнейшей задач борьбу с растущей незащищенностью рабочих мест, в частности – с их растущей нестабильностью.
Однако такой односторонний взгляд неявно предполагает, что в стабильности трудовых отношений заинтересованы работники, в то время как работодателям выгодна их нестабильность. Конечно, это сильное упрощение. Во многих случаях как раз работники предпочитают избегать длительных отношений с нанявшими их фирмами, тогда как фирмы стремятся удерживать у себя принятых работников как можно дольше. С теоретической точки зрения естественно предполагать, что как те, так и другие заинтересованы в оптимальной продолжительности специального стажа и что для разных групп фирм и разных групп работников эта оптимальная величина может варьироваться в широких пределах. Неоднозначным является и вопрос о ее эволюции во времени.
Переходные экономики, к которым относится и Россия, могут иметь значительную специфику. Она проявляется и в ускоренных структурных сдвигах, обеспечивающих конвергенцию с более развитыми странами, и в институциональных изменениях, разрушающих унаследованные от социализма нормы, гарантирующие стабильность трудовых отношений любой ценой. Еще одним «переходным» фактором является то, что внутрифирменный человеческий капитал может обесцениваться даже у тех, кто находится в середине распределения по специальному стажу, приводя к разрыву трудовых отношений. Эта точка разрыва может сдвигаться во времени по мере того, как специфический человеческий капитал, сформированный в дореформенный период, замещается специфическим человеческим капиталом, приспособленным к реалиям рынка [Lehmann, Wadsworth, 2000].
В настоящей главе мы анализируем процессы, связанные с мобильностью и стабильностью на российском рынке труда, через призму показателей специального стажа. В разделе 8.2 мы показываем, как показатели стажа интерпретируются в разных теоретических парадигмах, рассматриваем факторы их динамики и обсуждаем специфику переходных экономик. В разделе 8.3 описываются используемые нами эмпирические данные и особенности измерения специального стажа; здесь же прослеживаются общие тренды в динамике специального стажа для России и показывается, как российский опыт выглядит в свете межстрановых сопоставлений. В разделе 8.4 анализируется вариация в показателях специального стажа между группами работников, отличающимися по своим социально-демографическим характеристикам. Раздел 8.5 посвящен анализу влияния специального стажа на заработную плату и поиску ответа на вопрос о том, выгодно ли быть «старожилом». В заключении сформулированы основные выводы работы.
8.2. Общие представления
В данном разделе мы обсудим три общих вопроса: во-первых, об экономической природе специального стажа; во-вторых, о факторах, которые могут вызывать его изменения во времени; в-третьих, о специфической ситуации, сформировавшейся в переходных экономиках, включая российскую.
Теоретические аспекты: что стоит за показателями специального стажа? В современной экономической теории продолжительность специального стажа интерпретируется как прокси нескольких непосредственно не наблюдаемых и, следовательно, не поддающихся прямому измерению феноменов. В теории человеческого капитала она выступает как показатель объема накопленного работниками специфического человеческого капитала [Becker, 1964], в теории мэтчинга – как индикатор качества соединения работников и рабочих мест [Jovanovic, 1979], в теории агентских отношений – как отражение существующих между фирмами и работникам имплицитных контрактов об отложенном вознаграждении [Lazear, 1979; 1981], в теории торга – как свидетельство разной переговорной силы, имеющейся у «новичков» и «старожилов» [Buhai et al., 2008].
Две универсальные эмпирические закономерности прослеживаются в экономиках любого типа. Первая – это снижение показателей выбытия по мере увеличения специального стажа: чем дольше работник остается на одном и том же месте, тем ниже вероятность, что он его покинет (анализ этой зависимости на российских данных см. в главе 7). Вторая – это рост заработной платы по мере увеличения специального стажа: чем больше срок пребывания работника на данной фирме, тем выше, при прочих равных условиях, его оплата (отсюда – положительный наклон профилей заработков в зависимости от специального стажа). Разные теоретические подходы дают разные объяснения этим эмпирическим закономерностям.
Согласно теории человеческого капитала, работники с более длительным специальным стажем обладают более значительными инвестициями в специфический человеческий капитал – не только за счет формальной подготовки на рабочих местах (on-the-job-training), но также за счет накопления опыта и перенимания навыков у коллег по работе. Увольнение означает утрату этих инвестиций, которые, как показывает теория человеческого капитала, должны, исходя из обоюдной заинтересованности, финансироваться совместно работниками и фирмами. Отсюда – резкое ослабление стимулов к разрыву отношений как по инициативе первых (добровольные увольнения), так и по инициативе вторых (вынужденные увольнения).
Из теории мэтчинга следует, что при высоком качестве соединения работников с рабочими местами специальный стаж будет иметь тенденцию к увеличению. Чем эффективнее мэтчинг, тем слабее стимулы как у работников, так и у фирм к «расставанию», поскольку первым оказывается труднее отыскать на рынке более подходящее рабочее место, а вторым – более подходящего работника.
2 Отметим, что специальный стаж, по всей видимости, является далеко не идеальной мерой для специфического внутрифирменного человеческого капитала. Во-первых, в ней специфический капитал смешивается с общим капиталом, а во-вторых, интенсивность накопления специфического капитала непропорционально связана с длительностью работы.
Теория агентских отношений исходит из предположения, что работники склонны к недобросовестному исполнению своих обязанностей (отлыниванию), а надежный контроль за их поведением невозможен из-за высоких издержек по организации мониторинга. Для решения этой проблемы многие фирмы прибегают к имплицитным контрактам с отложенным вознаграждением, которые служат действенным средством дисциплинирования персонала. В рамках такого контракта фирмы откладывают часть вознаграждения на будущее, недоплачивая работникам в начальный период и переплачивая в более поздний. Такая система оплаты должна создавать у работников заинтересованность, во-первых, в том, чтобы, не поддаваться искушению отлынивания (если они будут уличены в недобросовестности, то лишатся отложенного вознаграждения), а во-вторых, в том, чтобы как можно дольше удерживаться на одном и том же месте (ради получения отложенного вознаграждения). В подобных условиях увольнения (как добровольные, так и вынужденные) будут в основном затрагивать работников с коротким и почти не касаться работников с продолжительным специальным стажем.
Наконец, в том же направлении могут действовать и институциональные механизмы. Как правило, трудовое законодательство и профсоюзы гораздо больше озабочены защитой «старожилов», давно работающих на предприятиях, чем «новичков», лишь недавно принятых на работу (вспомним уже упоминавшийся принцип «последним нанят, первым уволен»). Результатом такой асимметрии в социальной защищенности становится высокая текучесть среди тех, у кого специальный стаж невелик, и низкая – среди тех, у кого он значителен. Конечно, перечисленные механизмы не обязательно исключают друг друга и могут действовать одновременно, ведя к постепенному затуханию интенсивности выбытия по мере увеличения специального стажа.
Сразу несколько влиятельных теорий предсказывают, что чем дольше человек работает на одном и том же месте, тем выше, при прочих равных, должна быть его заработная плата. В теории человеческого капитала эта закономерность объясняется более высокой производительностью работников, располагающих большими объемами специфического человеческого капитала (т. е. приобретенными ими за время пребывания на фирме знаниями и навыками, имеющими ценность именно для нее). В теории мэтчинга более длинный специальный стаж указывает на лучшее соответствие (match) между характеристиками работника и требованиями рабочего места, и именно это, а не накопленный человеческий капитал, делает работников более производительными. При этом она допускает повышение качества мэтчинга с течением времени по мере того, как обе стороны – работник и работодатель – узнают друг друга лучше. Как следствие, если в теории человеческого капитала больший специальный стаж выступает причиной более высокой производительности, то в теории мэтчинга – ее следствием. Однако в обоих случаях выигрыш в заработной плате работников с более продолжительным специальным стажем оказывается связан с их превосходством в производительности.
Иной подход представлен в теории агентских отношений. В рамках имплицитных контрактов с отложенным вознаграждением на начальных этапах пребывания в фирме работники получают оплату ниже, а на более поздних – выше своего предельного продукта. Это создает положительную связь между заработной платой и стажем, в то время как уровень производительности труда работника может не меняться во времени, оставаясь одним и тем же на протяжении всего срока службы. Теория торга также не предполагает обязательной положительной связи между оплатой работников и их производительностью. Неодинаковая социальная защищенность опытных и неопытных работников (см. выше) ведет к неравенству их переговорных позиций. «Старожилы», обладая большей переговорной силой, чем «новички», имеют возможность «выторговывать» у работодателей более высокую оплату, что означает преимущество в заработной плате работников с длинным специальным стажем, опять же необязательно порождаемое различиями в производительности.
Несмотря на различия в объяснении того, как специальный стаж связан с заработной платой, все теоретические подходы предсказывают существование определенной «премии» за его накопление. Многочисленные эмпирические исследования, выполненные по развитым странам, подтверждают это общее теоретическое ожидание – заработная плата, действительно, растет с длительностью трудовых отношений. В то же время эти исследования показывают, что разделить предсказания различных теорий и сказать, какая из них более, а какая менее релевантна, чрезвычайно трудно.
Факторы динамики. Можно выделить два подхода к анализу факторов, определяющих динамику показателей специального стажа.
Первый исходит из того самоочевидного факта, что специальный стаж естественным образом связан с процессами найма и выбытия. Акт найма обозначает начало периода пребывания работника в данной фирме, акт увольнения – его окончание. Можно поэтому сказать, что стажевая структура рабочей силы аккумулирует в себе результаты решений о наймах и увольнениях, имевших место в прошлые периоды. Эта связь может быть продемонстрирована формально [Neumark, Polsky, Hansen, 1999].
Легко видеть, что численность работников со специальным стажем к в период времени t равна числу работников, нанятых в период t – к и не покинувших своих рабочих мест во все последующие периоды от t – к до t. В результате распределение занятых по величине специального стажа оказывается производным, во-первых, от общих коэффициентов найма и, во-вторых, от коэффициентов увольнения, специфических для различных стажевых групп, в тот или иной период времени. Так, в период времени t доля работников со специальным стажем от нуля до единицы (в зависимости от доступности данных его продолжительность может измеряться в днях, неделях, месяцах, кварталах, годах) будет представлять собой произведение коэффициента найма H в период t и доли вновь нанятых работников, которые не покинули свои рабочие места сразу в течение того же периода:
(8–1)
где s0t – коэффициент увольнения в период t для группы работников со специальным стажем менее единицы. Соответственно для следующей группы со специальным стажем от единицы до двух имеем
(8–2)
где Ht-1 – коэффициент найма в период t – 1; s0t-1 – коэффициент увольнения для группы работников со специальным стажем менее единицы в период t – 1; s1t – коэффициент увольнения для группы работников со специальным стажем от единицы до двух в период t; – соотношение между численностью занятых в периоды t-1 и t (необходимость введения этого множителя связана с тем, что коэффициент найма Ht-1 рассчитывается по отношению к численности занятых в период t – 1, а не в период t).
Аналогично для группы со специальным стажем от двух до трех получаем
(8–3)
И так далее для всех последующих групп. Отсюда следует, что средняя продолжительность специального стажа будет тем меньше, чем выше были наблюдавшиеся в прошлые периоды коэффициенты найма и выбытия, и, наоборот, она будет тем больше, чем они были ниже. Такой же отрицательной зависимостью с процессами найма и выбытия связана и доля «старожилов», долго остающихся на одном и том же месте. Напротив, доля «новичков» с коротким стажем по мере активизации найма и выбытия будет увеличиваться.
Здесь стоит сделать небольшое отступление, касающееся связи между показателями мобильности в формате потоков и в формате запасов. Если предположить, что в нашем распоряжении имеются данные по очень коротким временным интервалам, то тогда коэффициент выбытия для группы со специальным стажем менее единицы мог бы быть приравнен к нулю. Очевидно, что увольнения почти никогда не происходят в первый же день, первую неделю или даже первый месяц после приема на работу. В таком случае показатели запаса (доля группы со специальным стажем менее единицы) и потока (коэффициент найма) совпадут:
(8–4)
Поскольку же прирост занятости по определению представляет собой разность между числом наймов и числом увольнений, то, воспользовавшись данными об общей динамике численности занятых, легко получить оценку общего коэффициента выбытия:
(8–5)
Из-за того, что в большинстве стран статистические службы не собирают прямой информации об обороте рабочей силы, стандартной практикой среди исследователей стало реконструирование показателей потоков (коэффициентов найма и выбытия) исходя из показателей запасов (доли работников со стажем менее единицы) в соответствии с уравнением (8–5). Именно на таких «реконструированных» оценках строятся практически все имеющиеся межстрановые сопоставления по данной проблеме. Однако, как отмечалось выше, примерное равенство показателей запасов и потоков будет наблюдаться только для очень коротких временных интервалов (дня, недели, месяца). На практике же исследователям чаще всего приходится иметь дело с данными, где единицей наблюдения является год. Но на протяжении календарного года многие из вновь нанятых работников успевают уже уволиться. Так, для США коэффициент увольнений по группе «новичков» со специальным стажем не более одного года оценивается в 30–35 % [Hyatt, Spletzer, 2016]. Примерно такая же низкая готовность к закреплению на полученном рабочем месте характерна для «новичков» на рынке труда России. Поэтому показатели потоков, реконструируемые из показателей запасов, могут вести к очень значительной недооценке действительных масштабов движения рабочей силы, причем для разных стран величина этой недооценки может быть различной.
Отправной точкой для второго (более традиционного) подхода к анализу динамики показателей специального стажа служит их вариация по группам работников с различающимися социально-демографическими характеристиками. С учетом этой вариации естественно ожидать, что стажевая структура занятости будет меняться вслед за изменениями в ее социально-демографической структуре: средние показатели специального стажа будут увеличиваться, когда возрастает представительство групп, отличающихся большей стабильностью трудовых отношений (например, пожилых), и уменьшаться, когда возрастает представительство групп, отличающихся меньшей стабильностью трудовых отношений (например, молодежи). Прослеживая эти структурные изменения, мы получаем возможность оценить, каков вклад различных факторов в динамику показателей специального стажа.
Представление о том, каковы основные движущие силы, определяющие эволюцию специального стажа в современных экономиках, дает опыт США. Долговременная траектория изменения показателей специального стажа в США была очень неустойчивой [Copeland, 2015; Hyatt, Spletzer, 2016]. В начале 1950-х годов его медианная величина составляла 3,4 года, в середине 1960-х годов она вышла на исторический пик в 4,6 года, вернулась на исходную низкую отметку к началу 1980-х годов, а затем оставалась практически неизменной вплоть до конца 1990-х годов, колеблясь вокруг уровня 3,5 года. Но за последние полтора десятка лет (1998–2014 гг.) она резко увеличилась до 4,6 года, практически вернувшись к историческому максимуму. Доля работников с коротким стажем (один год и менее) упала в США с 30 % в середине 1980-х годов до примерно 20 % в настоящее время, тогда как доля работников с продолжительным стажем (более пяти лет) увеличилась с 44 до 51 %. Подобные изменения в стажевой структуре занятости явно расходятся с господствующими алармистскими представлениями о неизбежном росте нестабильности рабочих мест в современных экономиках.
Изменения в возрастной структуре занятости, связанные со старением, объясняют примерно половину всех изменений в стажевой структуре [Hyatt, Spletzer, 2016]. Вторым по значимости фактором было резкое уменьшение доли работников, занятых на «молодых», недавно созданных фирмах. В противоположном направлении действовали сдвиги в отраслевой структуре занятости: из промышленности, где стабильность трудовых отношений выше, рабочая сила перетекала в сферу услуг, где она ниже. Влияние таких переменных, как гендер, образование, этническая и профессиональная принадлежность работников, было близким к нулю. Изменения в распределении работников по фирмам разного размера также почти не отразились на стажевой структуре занятости.
Сравнение относительного вклада процессов найма и выбытия в динамику показателей специального стажа показывает, что она практически полностью определялась резким падением коэффициентов найма, в то время как коэффициенты увольнения, специфические для различных стажевых групп, хотя тоже упали, но далеко не так сильно [Hyatt, Spletzer, 2016]. При наступлении экономических кризисов интенсивность найма снижалась и затем не восстанавливалась после их окончания. Казалось бы, возросшая стабильность трудовых отношений может свидетельствовать об улучшении качества мэтчинга работников и рабочих мест. Но в таком случае либо должна была бы возрасти заработная плата «новичков» с нулевым специальным стажем, либо должен был бы ускориться рост заработной платы в первые годы пребывания работников на нанявших их фирмах. Ни того, ни другого в экономике США не наблюдалось.
Таким образом, рост стабильности рабочих мест в США происходил под воздействием не столько позитивных, сколько негативных факторов: старения населения и падения «предпринимательского духа», выразившегося в снижении показателей наймов и выбытия, а также затухания активности при создании новых фирм.
Переходная специфика. Ситуация, сформировавшаяся в постсоциалистических странах, во многом не вписывается в стандартную картину, известную из опыта стабильных экономик. Связано это с мощнейшим институциональным шоком, которым сопровождался переход от плановой системы к рыночной. Рынок труда начал функционировать по совершенно иным законам, причем произошло это практически мгновенно. Шок такой силы не мог не отразиться на стажевой структуре занятости, а также на экономической ценности специального стажа.
Известно, что плановая экономика была ориентирована на обеспечение как можно более длительной (в идеале – пожизненной) привязки работников к рабочим местам – велась жесткая борьба с «летунами», объем социальных льгот и гарантий, предоставлявшихся каждым предприятием, впрямую зависел от того, как долго человек на нем поработал, и т. д. [Российский работник… 2011]. Все это способствовало и поддержанию высоких показателей специального стажа. Хотя предприятия не могли самостоятельно устанавливать заработную плату, ее дифференциация в зависимости от продолжительности специального стажа («выслуги лет») была одним из важнейших элементов действовавшей при социализме системы оплаты труда. Как следствие, в плановых экономиках, как и в рыночных, между заработной платой и продолжительностью специального стажа существовала устойчивая положительная связь, хотя в ее основе лежали не всегда одни и те же механизмы.
Статус-кво был подорван шоками переходного периода. Они привели, во-первых, к резкому сдвигу стажевой структуры занятости влево, в пользу групп с наименьшей продолжительностью пребывания на одном и том же месте работы и, во-вторых, к девальвации многих знаний и навыков, которые были получены при прежней системе и имели ценность только в ее рамках.
Важнейшим фактором стало формирование нового частного сектора, состоящего из «созданных с нуля» предприятий, на которых специальный стаж работников по определению мог быть только самым минимальным. Но и на предприятиях традиционного сектора (государственных и приватизированных) доля «новичков» резко возросла. Во-первых, потому, что им приходилось компенсировать отток кадров в новый частный сектор. Во-вторых, потому, что в условиях переходного кризиса они оказались погружены в крайне волатильную экономическую среду. Многие шоки затрагивали отдельные предприятия в разное время и с разной силой, что порождало на них огромную дифференциацию в условиях занятости и оплате труда, причем эта дифференциация отличалась крайней неустойчивостью во времени. Отсюда – масштабная межфирменная реаллокация рабочей силы, нередко вращавшейся по кругу между одними и теми же предприятиями в зависимости от изменений в их экономическом положении [Обзор занятости в России, 2002]. Вызванная этим активизация наймов и увольнений неизбежно вела к снижению показателей специального стажа.
Этот процесс мог быть приостановлен или даже обращен вспять при двух условиях: во-первых, при достижении относительного равновесия между занятостью в новом частном и традиционном секторах и, во-вторых, при стабилизации общей экономической ситуации. В российской экономике эти условия были обеспечены примерно в середине 2000-х годов; начиная лишь с этого момента понижательная фаза в динамике специального стажа могла смениться повышательной.
В условиях переходной экономики была нарушена и связь между заработной платой и специальным стажем. Значительная часть знаний и навыков, полученных работниками непосредственно на рабочих местах, подверглась частичному или полному обесценению, оказавшись в новых, рыночных, условиях фактически бесполезной. Обесценение затронуло как общий (измеряемый продолжительностью общего стажа), так и специфический (измеряемый продолжительностью специального стажа) человеческий капитал, создаваемый по ходу трудовой деятельности работников [Российский работник… 2011]. Как отмечают Г. Кертес и Я. Колло, при плановой системе «значительная часть того, что рабочие и менеджеры узнавали на опыте, сводилось к тому, как справляться с дефицитом ресурсов, как управлять в условиях несогласованности плановых заданий, как проводить сделки на рынке продавца, – навыки, которые утратили ценность, когда экономика стала открытой и когда заработали силы рынка» [Kertes, Kollo, 2002, p. 236].
Хотя обесценение старого опыта, знаний и навыков – это естественный процесс [De Grip, van Loo, 2002], в стабильных экономиках он обычно идет достаточно постепенно, тогда как при переходе к рыночным отношениям это произошло практически одномоментно. В таком случае оказывается, что за длинным специальным стажем работников, который тянется еще из плановой экономики, не стоит «полезного» в условиях рыночной экономики опыта, и потому работники с таким стажем не должны иметь преимущества в производительности труда и заработной плате. При этом естественно ожидать, что «старый» человеческий капитал стал бесполезен или даже вреден прежде всего в нарождающемся частном секторе, функционирующем в новых рыночных условиях, тогда как в государственном секторе он вполне мог продолжить приносить своим обладателям пользу.
Однако параллельно стал разворачиваться процесс накопления уже «рыночного» опыта – опыта, который был адекватен изменившимся условиям и поэтому мог представлять экономическую ценность. Отсюда следует, что работники с более длительным стажем, полученным уже в новых рыночных условиях, должны были иметь преимущество перед недавно нанятыми работниками с коротким стажем.
Внутренняя неоднородность специфического человеческого капитала, характерная для переходных экономик, вызывалась несколькими причинами. Во-первых, тем, что у старших когорт специальный стаж оказывался частично «нерыночным» и частично «рыночным». Во-вторых, тем, что все большее место на рынке труда начали занимать молодые когорты, у которых он являлся полностью «рыночным». В-третьих, тем, что «нерыночный» опыт старших когорт мог мешать приобретению ими «рыночного» опыта (из-за этого его накопление могло идти у них менее успешно, чем у молодых когорт, не обремененных грузом прошлого). Неоднородность специфического человеческого капитала (неизбежную в условиях переходных экономик) важно принимать во внимание, поскольку вследствие этого отдача от него на более ранних и более поздних этапах транзита, а также от его «нерыночных» и «рыночных» форм могла заметно отличаться.
Что касается «рыночной» составляющей специального стажа, то естественно ожидать, что по отношению к ней должны были действовать хорошо известные из теории стандартные механизмы. Этого нельзя сказать о его «нерыночной» составляющей. В новой экономической среде «старые» внутрифирменные подготовка и опыт во многих случаях переставали давать значимый выигрыш в производительности из-за обесценения связанных с ними знаний и навыков (см. выше). В условиях, когда появился огромный массив новых рабочих мест и резко изменилась структура спроса на рабочую силу, множество «старых» мэтчингов, унаследованных от прежней эпохи, также подверглись моральному «износу» и стали неэффективными. При практически повсеместной потере соответствия между старым человеческим капиталом работников и новыми требованиями рынка скорее короткий, чем длинный специальный стаж, стал служить индикатором лучшего соответствия. В возникшей высоковолатильной экономической среде имплицитные контракты с отложенным вознаграждением утратили смысл, поскольку предприятия сами очень плохо представляли свое собственное будущее. Наиболее уязвимыми перед шоками переходного периода оказались «старожилы» с меньшими адаптивными способностями и с большей склонностью к избеганию риска, что должно было лишать их преимуществ в торге с работодателями по сравнению с «новичками»[100].
Неудивительно, что в подобных условиях «премия» за специальный стаж в постсоциалистических странах могла снизиться до нуля или даже стать отрицательной, особенно на ранних этапах транзита. «Нормализации» профилей заработков в зависимости от специального стажа естественно было ожидать на более поздних этапах – по мере ухода с рынка труда старших поколений работников, вступивших на него при прежней системе, а также по мере приобретения общей экономической средой большей стабильности и предсказуемости [Российский работник… 2011].
Результаты эмпирических исследований, выполненные по постсоциалистическим странам, в общем, согласуются с этими теоретическими ожиданиями. Все известные нам работы показывают относительно низкий (и даже иногда отрицательный) уровень отдачи от специального стажа в первые годы переходного периода и ее постепенный рост в последующие годы [Bird et al., 1994; Orlowski, Riphahn, 2009]. В российском случае результаты были качественно похожи: в 1990-е годы отдача от специального стажа не обнаруживалась вовсе, либо оказывалась отрицательной [Нестерова, Сабирьянова, 1998; Lehmann, Wadsworth, 2000; Мальцева, 2009; Российский работник. 2011]. Первые признаки появления положительной отдачи стали прослеживаться лишь с конца 2000-х годов. Например, Р. Капелюшников [Российский работник. 2011] на данных РМЭЗ ВШЭ обнаруживает статистически значимую положительную отдачу в целом по выборке в 2009 г., а для мужчин – еще раньше в 2008 г.
Наш анализ продолжает эту линию исследований, учитывая специфику переходного периода, а также используя более поздние данные и более продвинутые эконометрические методы анализа.
8.3. Данные, общие тренды и межстрановые сопоставления
Данные. Для России существуют три источника, позволяющие оценивать показатели специального стажа: Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ ВШЭ), Обследование населения по проблемам занятости Росстата (ОНПЗ) и Обследование профессий по заработной плате Росстата (ОЗПП). (Подробное описание этих баз данных дано во Введении к книге.) Данные РМЭЗ доступны с 1994 г., ОНПЗ – с 2009 г., ОЗПП – тоже с 2009 г.
Анкета РМЭЗ не включает прямого вопроса о специальном стаже, но содержит информацию о дате начала работы у текущего работодателя. Соответствующий вопрос формулируется следующим образом: «Скажите, пожалуйста, с какого года и месяца вы работаете на этом предприятии, на этой работе? Если вы увольнялись и снова возвращались на это же предприятие, на эту работу, то назовите дату последнего возвращения». Отсюда можно рассчитать длительность специального стажа как разницу между календарной датой обследования и датой начала трудовой деятельности на текущем месте работы.
В ОНПЗ вопрос о специальном стаже имеет стандартную для обследований рабочей силы формулировку: «Как давно вы работаете на основной работе (в данной организации), о которой мы говорим?». Те, кто работает менее 1 года, должен выбрать из трех предлагаемых вариантов ответа: 1) менее 1 месяца; 2) от 1 месяца до 6 месяцев; 3) от 6 месяцев до 1 года. Тем, кто работает 1 год и больше, предлагается указать целое число лет стажа.
Дополнительным источником информации о специальном стаже, но уже в рамках статистики предприятий служат ОЗПП. По своей сути, они не являются обследованием, а представляют собой выборку наблюдений из отчетности предприятий. Среди прочей информации попавшие в выборку предприятия предоставляют данные о распределении занятых на них работников по специальному стажу (измеряемому в годах, целые числа).
Каждый из этих источников имеет достоинства и недостатки.
Данные ОЗПП, являясь, по сути, данными статистики предприятий, содержат меньше неточностей, чем данные обследований населения. Однако они покрывают только крупные и средние предприятия (КиСП), занятость на которых составляет не более половины от общей численности занятых в российской экономике, вообще не охватывают три крупных сектора (государственное управление, финансовые услуги и сельское хозяйство) и проводятся один раз в два года. Микроданные ОЗПП не находятся в открытом доступе, публикуются лишь отдельные агрегированные показатели.
ОНПЗ является наиболее масштабным из всех обследований. Его данные покрывают всю занятость, включая неформальную, они репрезентативны для отдельных регионов и для страны в целом. Из всех обследований частота поведения ОНПЗ – ежемесячная – является самой высокой, что позволяет отслеживать краткосрочные колебания в индикаторах рынка труда. Их важнейший пробел – отсутствие информации о заработной плате респондентов. Микроданные ОНПЗ открыты для публичного доступа, но только начиная с 2010 г. Серьезное ограничение и ОНПЗ, и ОЗПП для анализа показателей специального стажа связано с тем, что они охватывают очень ограниченный период времени (не ранее второй половины 2000-х годов).
На этом фоне серьезными сравнительными преимуществами обладает РМЭЗ ВШЭ. Во-первых, его микроданные находятся в открытом доступе, что позволяет анализировать показатели специального стажа в связке с характеристиками работников и рабочих мест. Во-вторых, панельный характер РМЭЗ ВШЭ позволяет отслеживать динамику специального стажа у одних и тех же индивидов во времени и благодаря этому использовать более сложные и продвинутые методы анализа. В-третьих, в отличие от ОНПЗ и ОЗПП эти обследования охватывают почти двадцатилетний период, начиная с первой половины 1990-х годов. Отдельные волны РМЭЗ ВШЭ использовались во многих предшествующих работах о мобильности и стабильности занятости в России [Lehmann, Wadsworth, 2000; Sabirianova, 2002; Мальцева, 2005, 2009; Мальцева, Рощин, 2006]. Ограничениями РМЭЗ являются относительно небольшой размер выборки (поэтому анализ в разрезе отдельных подгрупп занятых часто наталкивается на недостаток наблюдений), нерепрезентативность для отдельных регионов, а также то, что обследования проводятся только один раз в год.
Общие тренды. Что же говорят нам различные источники данных о показателях специального стажа и их динамике во времени в России?
Показатели специального стажа на данных РМЭЗ можно измерять несколькими альтернативными способами [Ощепков, 2016]. В частности, они могут рассчитываться либо на репрезентативной, либо на полной выборке[101]. Но поскольку, как показывают наши оценки, использование полной выборки вместо репрезентативной слабо влияет на получаемые результаты, мы ограничились наиболее простым вариантом расчета, базирующемся на полной выборке[102].
Динамика продолжительности специального стажа (средняя и медиана), а также динамика доли занятых со стажем менее одного года за два десятилетия 1994–2014 гг. представлены на рис. П8-1 и П8-2 Приложения. Мы видим, что средний стаж снижался до начала кризиса 2008–2009 гг., упав с 8,5 года в 1994 г. до 7,3 года в 2007 г. (траектория изменения медианной величины была сходной). Хотя затем начался обратный процесс (прирост примерно на 0,5 п.п.), в 2014 г. он оставался все еще значительно ниже, чем в исходном 1994 г.
Что касается доли «новичков» с коротким стажем, то с 17–18 % в 1990-е годы она выросла до 22–23 % в 2000-е годы. В 2000–2007 гг. экономика быстро росла, генерируя новые рабочие места и стимулируя реаллокацию между уже существующими рабочими местами, что тянуло долю «новичков» среди всех занятых вверх. Максимального значения этот показатель достиг в 2002–2003 гг., превысив отметку 23 %. Перелом тренда также оказывается связан с кризисом 2008–2009 гг., когда доля работников с коротким стажем начала снижаться, причем наиболее заметное падение (более чем на 2 п.п.) отмечалось в кризисном 2008 г. Как уже упоминалось, в кризис с наибольшей вероятностью теряют работу «новички», лишь недавно принятые на работу. Кроме того, в «плохие времена» резко снижается интенсивность найма. В 2012 г. доля работников с коротким стажем немного «подросла» (на 1 п.п.), что, по-видимому, было связано с послекризисным восстановлением экономики, но затем в 2012–2014 гг. тенденция к ее сокращению возобновилась на фоне экономической стагнации, переходящей в новый кризис. К настоящему времени она практически вернулась на исходную отметку (18 %), на которой находилась в начале рассматриваемого периода.
Рисунок П8-3 Приложения дает представление о том, как менялась «стажевая» структура занятости (по данным РМЭЗ ВШЭ). Из него видно, что на российском рынке труда, как и на любом другом, высокая мобильность одних групп работников сочетается со стабильностью занятости других. Несмотря на уже упоминавшийся рост в 2000-е годы представительства «новичков» с коротким стажем (менее года), группа «старожилов» с длинным стажем (10 лет и более) всегда оставалась самой многочисленной. Заметен также постепенный рост занятости в промежуточных группах, особенно в группе от 5 до 10 лет, наблюдавшийся несколько последних лет. Результаты для посткризисного периода 20102014 гг. позволяют говорить о новой тенденции – росте доли «старожилов» со стажем более 10 лет на фоне сокращения доли «новичков» со стажем менее одного года. (Наличие этих тенденций мы проверяем позднее с помощью регрессионного анализа, позволяющего контролировать изменения в структуре занятости.)
Согласно ОНПЗ, в 2009–2014 гг. средняя величина специального стажа колебалась вокруг отметки 8,5 года, а доля работников со стажем менее одного года составляла лишь 10–12 % (рис. П8-1-П8-2). Таким образом, эти данные свидетельствуют о гораздо более высокой стабильности занятости на российском рынке труда, чем данные РМЭ ВШЭ.
Согласно ОЗПП, в 2009–2013 гг. средний специальный стаж работников КиСП составлял около 10 лет, а доля занятых с коротким стажем менее года колебалась в диапазоне 1113 % (рис. П8-1-П8-2)[103]. Вторая из этих оценок практически совпадает с оценками, получаемыми на данных ОНПЗ, но заметно ниже оценок на данных РМЭЗ ВШЭ [104].
На рисунке П8-4 представлена стажевая структура занятости в 2013 г. по данным РМЭЗ, ОНПЗ и ОЗПП. Относительно высокая доля «новичков» в данных РМЭЗ ВШЭ сочетается с относительно малой долей «старожилов», тогда как на данных ОНПЗ и ОЗПП наблюдается обратное соотношение. Несмотря на это, данные ОНПЗ в целом подтверждают тенденцию к сокращению в последние годы доли «новичков», которую фиксируют данные РМЭЗ ВШЭ. (Эта тенденция не просматривается в данных ОЗПП, что связано, по-видимому, с негативной динамикой занятости в секторе крупных и средних предприятий.)
Международные сопоставления. На рисунках П8-5 и П8-6 приведены показатели среднего стажа, а также доли занятых со стажем менее одного года в странах-членах ОЭСР в 2014 г. Согласно этим оценкам, средняя продолжительность специального стажа колебалась в данной группе стран от 7 до 13 лет. Максимальные значения отмечались в странах Южной Европы (Греции, Португалии, Италии), за ними следовали страны континентальной Европы (Франция, Бельгия, Германия), еще ниже располагались Великобритания и Скандинавские страны. Оценки для постсоциалистических стран варьировались в очень широком диапазоне. На одном полюсе находились Словения и Хорватия, где средний стаж «зашкаливал» за 12 лет (что было, по-видимому, следствием унаследованной от прежней системы практики широкого участия работников во владении предприятиями), на другом – страны Балтии, где он едва превышал 7 лет.
В среднем в странах, охватываемых статистикой ОЭСР, доля работников с коротким стажем равнялась 17 % при достаточно большом разбросе значений. Лидерами по доле «новичков» традиционно выступали страны Южной Америки (Чили – 28 %, Колумбия – 36 %, Мексика – 21 %), за которыми следовали Скандинавские страны (Дания, Швеция, Финляндия, хотя Норвегия находилась ниже среднего показателя для ОЭСР). Почти не уступали им англосаксонские страны (Австралия, Великобритания, Канада) – 16–19 %. Аутсайдером являлась Словения – 9,1 % (еще ниже оценка для Румынии – 5,1 %). Большинство постсоциалистических стран имели более низкую долю «новичков» с коротким стажем, чем развитые страны; ближе всего к среднему показателю для всех рассматриваемых стран подходили страны Балтии (около 15 %).
Эти рисунки мы дополнили нашими оценками по России. И данные РМЭЗ ВШЭ, и данные ОНПЗ свидетельствуют, что по международным меркам средняя величина специального стажа в России является низкой или даже очень низкой (на уровне стран Балтии). Однако для доли «новичков» эти источники рисуют противоречивую картину. Так, если оперировать данными ОНПЗ, то на фоне стран – членов ОЭСР она оказывается относительно низкой – примерно на уровне Греции и близко к показателям для других постсоциалистических стран (Чехии, Словении или Словакии). Если же брать за основу данные РМЭЗ ВШЭ, то ситуация меняется. В этом случае в России доля работников с коротким стажем оказывается выше, чем в среднем по ОЭСР, примерно соответствуя показателям для Скандинавских стран, таких как Швеция или Дания.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что на данный момент на основе существующих данных невозможно сказать, какая из этих альтернативных картин ближе к реальности. Косвенные свидетельства также мало помогают прояснить ситуацию. В пользу вывода о высокой стабильности занятости говорят отсутствие массовых увольнений на российском рынке труда, поддержание высокой численности занятых в бюджетном секторе, сильный страх безработицы и готовность мириться с низкой оплатой труда [Gimpelson, Oshchepkov, 2012]. В то же время в пользу вывода о низкой стабильности занятости свидетельствуют перманентное сокращение численности занятых в корпоративном секторе, значительный рост удельного веса сектора услуг и экспансия неформальной занятости [В тени регулирования… 2014][105].
Однако, учитывая методологические преимущества микроданных РМЭЗ ВШЭ, о чем говорилось выше, для целей эмпирического анализа мы используем именно их.
8.4. У кого стабильность занятости выше: эмпирический анализ
В данном разделе мы обсуждаем стабильность занятости у различных групп работников на российском рынке труда, используя четыре показателя специального стажа: его среднюю продолжительность, долю занятых с коротким стажем (менее 1 года), долю занятых со стажем 10 лет и более, а также долю занятых со стажем 20 лет и более. Далее мы проводим многомерный регрессионный анализ того, какие характеристики работников и рабочих мест и как связаны с длительностью трудовых отношений. Мы также исследуем вопрос о том, в какой мере изменения в длительности трудовых отношений, имевшие место в последние два десятилетия, были вызваны сдвигами в структуре занятости, и какие из этих сдвигов играли здесь главную роль.
Дескриптивный анализ. Средние значения интересующих нас показателей стажа в различных подгруппах занятых представлены в табл. П8-1. Ключевой социально-демографической характеристикой, связанной с длительностью специального стажа, несомненно, является возраст работника. Возраст – это необходимое, хотя и недостаточное условие длительного специального стажа. Так, работник в 30 лет по определению не может обладать 20-летним стажем, а работник в 60 лет вполне может. Однако положительная связь специального стажа с возрастом вызывается и более содержательными причинами, о которых, в частности, шла речь в разделе 8.2.
С одной стороны, работники младших возрастов находятся в поиске «оптимального соответствия» между их индивидуальными предпочтениями и характеристиками и требованиями и характеристиками рабочего места. Этот поиск часто идет методом проб и ошибок. Индивид как бы «примеряет на себе» разные места работы и «возвращает в магазин» те, что ему не подходят (отсюда термин «job shopping»). С возрастом и ростом числа таких «примерок» вероятность нахождения оптимального соответствия растет, и поэтому у более старших работников стабильность рабочего места в среднем выше [Jovanovic, 1979]. С другой стороны, люди старших возрастов (и с более длинным специальным стажем) могут занимать принципиально иные рабочие места. В этом случае различия в стаже будут отражать различия в типах рабочих мест (например, промышленность и бюджетный сектор против сектора услуг), занимаемых разными возрастными когортами.
Общетеоретические представления хорошо согласуются с данными (табл. П8-1). Если в группе занятых в возрасте 15–24 лет средний специальный стаж составляет всего 2,4 года, то в группе 25–39 – уже более 7 лет, в группе 40–59 – 12 лет, а среди тех, кому за 60 лет, он превышает 15 лет. Все другие показатели стажа, представленные в табл. П8-1, также согласуются с этим ранжированием: с возрастом доля «старожилов» растет. Еще нагляднее положительную зависимость между специальным стажем и возрастом иллюстрирует рис. П8-7. Такая связь наблюдалась как в самом начале анализируемого периода – в 1994 г., так и в самом конце – в 2014 г. Отметим при этом, что на всем протяжении возрастной шкалы линия для 2014 г. проходит ниже линии для 1994 г., что означает снижение длительности трудовых отношений у работников всех возрастов. Это указывает на то, что помимо старения населения существовали и другие факторы, которые влияли на стабильность занятости, причем их влияние было понижающим и обратным влиянию старения. (Более подробно мы обсудим этот вопрос в следующем подразделе по результатам регрессионного анализа.)
Рисунок П8-8 представляет долю «новичков» с коротким стажем по четырем выбранным возрастным группам в динамике. Относительное положение групп по этому показателю было достаточно стабильным во времени: максимальная доля работников с коротким стажем всегда наблюдалась в самой молодой из них (15–29 лет), тогда как минимальная – в самой пожилой (60+). В период быстрого экономического роста 2000–2007 гг. во всех группах доля работников с коротким стажем была выше, чем до этого и после. (Доля «новичков» в группе 60+ отличалась большими погодовыми колебаниями в связи с ее относительно небольшой численностью.) Сильнее всего этот показатель сократился среди молодежи: с 42 % в 2004 г. он упал до 31 % в 2014 г. Помимо кризисных явлений в экономике дополнительную роль здесь, возможно, сыграли резкие повышения минимальной заработной платы, имевшие место в течение этого периода, что могло отрицательно повлиять на привлекательность молодых работников для работодателей [Muravyev, Oshchepkov, 2016]. Еще один возможный фактор – это увеличение среди молодежи представительства выпускников вузов, поскольку обладатели высшего образования отличаются в среднем более высокой стабильностью занятости.
Другой эмпирический факт состоит в том, что в России стабильность трудовых отношений у мужчин заметно ниже, чем у женщин. В среднем за рассматриваемый период длительность специального стажа среди женщин составляла примерно 8,4 года, тогда как у мужчин – чуть менее 7 лет. Эта гендерная асимметрия прослеживается и по другим показателям – долям «новичков» и «старожилов». Например, доля занятых с коротким стажем среди женщин составляла 18 %, а среди мужчин – 23 %. В среднем за рассматриваемый период разница достигала примерно 5,5 п.п., а в отдельные годы превышала 7,5 п.п.
Теория не дает однозначного предсказания, у какой из гендерных групп средний специальный стаж должен быть больше (например, в США стабильность занятости у мужчин выше, чем у женщин). Традиционная гендерная роль мужчин состоит в финансовом обеспечении семьи, а смена места работы является важным способом увеличения трудовых доходов. Дополнительным фактором является большая склонность к риску и, следовательно, готовность к смене работы у мужчин в сравнении с женщинами [Dohmen et al., 2011]. В то же время у многих женщин наблюдается «прерывный» трудовой стаж, связанный с появлением детей. И хотя во время отпуска по уходу за ребенком (в России – до трех лет) женщина сохраняет право на рабочее место и числится в штате предприятия, благодаря чему формального перерыва в специальном стаже не возникает, во многих случаях после выхода из отпуска по уходу за ребенком она (вынужденно или добровольно) меняет место работы или уходит в незанятость. В российском случае асимметрия в пользу женщин, скорее всего, связана с тем, что они составляют большую часть занятых в бюджетном секторе, где стабильность выше. Наоборот, мужчины шире представлены в секторах, которые либо были больше подвержены реструктуризации (как промышленность), либо нестабильной конъюнктуре (как строительство).
Как можно заметить из табл. П8-1, стабильность занятости растет с уровнем образования. Среди наиболее образованных групп работников – имеющих высшее или среднее профессиональное образование – средний специальный стаж составляет примерно 8,3 года, тогда как во всех других группах он не достигает 7 лет. Эта разница заметна также в разрезе других показателей специального стажа, приведенных в табл. П8-1. В определенной мере образование и специальный стаж связаны через возраст: для получения образования, как и для накопления внутрифирменного стажа, нужно время. Однако два основных содержательных объяснения связаны, по-видимому, с тем, что более образованные работники быстрее находят «оптимальное» соответствие и с большей вероятностью попадают на рабочие места, требующие накопления специфического человеческого капитала, что «задерживает» их на полученном месте работы. Тем не менее нельзя сказать, что зависимость между уровнем образования и стабильностью рабочего места является абсолютно монотонной. Из общего ряда выбиваются работники, закончившие ПТУ на базе полного среднего образования. Более тщательный анализ связи между специальным стажем и образованием требует, по-видимому, учета влияния третьих факторов (см. подраздел с результатами регрессионного анализа).
Различия в стабильности занятости между основными профессионально-квалификационными группами также, в общем, согласуются с предсказаниями экономической теории. Самый низкий средний стаж (а также самая низкая доля «новичков» и самая высокая доля «старожилов») ожидаемо наблюдается среди неквалифицированных рабочих, где он составляет примерно 5 лет. С небольшим отрывом от них идет группа торговых работников со средним стажем примерно 5,2 года. На следующей «ступеньке» располагаются специалисты среднего уровня квалификации, служащие, занимающиеся обработкой информации, и квалифицированные рабочие, у которых он приближается к 7,5 года. Далее идет группа руководителей, квалифицированных работников сельского хозяйства и полуквалифицированных рабочих, использующих «инструментальный труд» (машинисты и аппаратчики), которые трудятся в среднем в одном месте около 8,5 года. Наиболее высокий средний стаж наблюдается в группе специалистов высшего уровня квалификации – примерно 10,5 года. Среди них же наблюдается самая высокая доля «старожилов» со специальным стажем от 10 лет до 20 лет и со стажем 20 лет и более, а также одна из самых низких долей «новичков» со стажем менее одного года. Трудовая деятельность этой группы (куда входят, например, врачи, инженеры и преподаватели вузов) требует большого объема специальных знаний и навыков, другими словами – высокого уровня специфического человеческого капитала.
Каковы различия в стабильности занятости по отраслям экономики? Как показывает табл. П8-1, наиболее высокий средний стаж и максимальная доля «старожилов» со стажем более 20 лет наблюдаются в сельском хозяйстве и в общественном секторе экономики (куда мы включаем образование, науку, культуру, здравоохранение, органы управления, армию и МВД). Средний стаж в обоих случаях приближается к 10 годам, но в сельском хозяйстве доля работников с длительным стажем 20 лет и выше составляла 19 % (это максимум среди всех отраслей), а в общественном секторе только 15 %.
Высокие показатели среднего стажа в общественном секторе можно объяснить специфической структурой занятости, смещенной в пользу профессий, требующих накопления специфического человеческого капитала (прежде всего, это специалисты высшего уровня квалификации), а также в пользу женщин и более пожилых работников. Кроме того, более стабильной занятость в этом секторе делают более строгое выполнение трудового законодательства и более слабая связь увольнений с показателями производительности труда по сравнению с частным сектором. В случае сельского хозяйства причины могут быть несколько иными, связанными, прежде всего, с локализацией большей части этой отрасли в сельской местности, в отдаленных и относительно небольших населенных пунктах. Из-за «узости» рынка труда в этих населенных пунктах смена места работы чаще всего предполагает необходимость переезда, что резко повышает издержки и препятствует трудовой мобильности. Кроме того, в сельском хозяйстве отмечается самая высокая концентрация работников пожилого возраста.
Следом за сельским хозяйством и общественным сектором идет промышленность со средним стажем примерно 9 лет и долей «старожилов» со стажем более 20 лет, равной 14 %. На следующей «ступени» располагаются транспорт и связь, а также ЖКХ со средним показателем стажа около 7,5 года. Далее – финансы (6,5 года) и строительство (5 лет), а замыкает список торговля со средним стажем 4,5 года и минимальной долей «старожилов» со стажем более 20 лет – 2 %.
Если рассмотреть ситуацию в отраслях в динамике (рис. П8-9), то можно увидеть, что в анализируемый период сокращение доли работников с коротким стажем менее одного года происходило во всех них без исключения[106]. «Лидерами» в данном отношении на протяжении всего периода оставались строительство и торговля, однако именно в них произошло и самое сильное сокращение. Так, в строительстве доля «новичков» снизилась с более чем 35 % в 2005 г. до менее 23 % в 2014 г. Это не удивительно, так как строительство – одна из отраслей, наиболее чувствительных к изменениям общеэкономической конъюнктуры. В итоге разрыв между строительством и торговлей и другими отраслями заметно сократился. Интересная динамика наблюдалась в финансовых услугах. Доля «новичков» здесь также сильно отреагировала на мировой финансовый кризис – падение с 24 % в 2007 г. до 11,5 % в 2010 г., однако затем она быстро восстановилась до предкризисного уровня.
Как можно было бы ожидать, стабильность занятости в государственном секторе заметно выше, чем в частном. (Это естественным образом согласуется с высокими показателями специального стажа в общественном секторе, обсуждавшимися выше.) Например, если в первом средняя продолжительность специального стажа составляла около 10 лет, а доля «старожилов» со стажем 20 и более лет равнялась 16 %, то во втором – 5,5 года и 6 % соответственно. Положение дел в организациях смешанной формы собственности (государственная плюс частная) было практически таким же, как в организациях, полностью принадлежащих государству. По-видимому, государственная составляющая «тянула» показатели среднего стажа на этих предприятиях вверх. Работники организаций с присутствием иностранного капитала по уровню стабильности занятости занимали промежуточное положение между работниками государственных и частных отечественных организаций со средним стажем примерно 7 лет и долей «старожилов» со стажем более 20 лет около 10 %.
Можно привести целый ряд причин, объясняющих, почему стабильность занятости в частном секторе должна быть ниже, чем в государственном. Во-первых, колебания в спросе на продукцию, производимую частным сектором, обычно гораздо сильнее, чем в спросе на «продукцию» (общественные и государственные услуги), производимую в государственном секторе. Во-вторых, степень чувствительности и активность приспособления через наймы и увольнения рабочей силы к этим колебаниям в частном секторе выше, чем в государственном, так как частный сектор благодаря этому может «выживать» и получать прибыль, а функционирование государственного сектора зависит лишь от объемов бюджетного финансирования. В-третьих, можно ожидать, что трудовое законодательство (включая законодательство о защите занятости), ограничивающее оборот рабочей силы, лучше исполняется в государственном секторе, чем в частном. Наконец, по своим характеристикам работники государственного и частного секторов сильно отличаются [Шарунина, 2013]. Известным фактом является, например, относительно более высокие доли женщин и работников с высшим образованием в государственном секторе по сравнению с частным, а эти группы, как обсуждалось выше, отличаются большей стабильностью занятости.
Рисунок П8-10 свидетельствует о том, что характерные различия между государственным и частным секторами наблюдались не только в средних значениях, но и в динамике показателей специального стажа. Если в частном секторе в период быстрого роста экономики 2000–2007 гг. доля «новичков» находилась на стабильно высоком уровне, а затем с началом кризиса в 2008 г. начала достаточно резкое снижение, то в государственном секторе ее снижение началось раньше – уже с середины 2000-х годов, причем здесь никакой реакции на кризис 2008–2009 гг. не наблюдалось. Тем не менее начиная с 2010 г. в обоих секторах обнаруживается тенденция к дальнейшему сокращению доли занятых с коротким стажем до одного года. (Отметим, что более «рваная» динамика в секторе с иностранной собственностью объясняется его относительно небольшими размерами.)
Достаточно четкая связь наблюдается между стабильностью занятости и размером предприятий: чем они крупнее, тем выше показатели специального стажа. Если на микропредприятиях (менее 10 человек) средний стаж составлял примерно 5,5 года, а доля «старожилов» со стажем 20 лет и более равнялась всего лишь 6 %, то на самых крупных (1000 и более человек) средний стаж достигал почти 12 лет, а доля занятых с длинным стажем -23 % (см. соответствующие строки табл. П8-1). Все промежуточные размерные категории отлично вписываются в эту закономерность. Такую четкую связь можно объяснить тем, что размер предприятия обычно положительно связан с его возрастом и, таким образом, с существованием самой возможности долго проработать на одном и том же месте. Кроме того, более крупные предприятия обеспечивают более длинную карьерную лестницу, перспективы продвижения и само продвижение по которой могут удерживать работников. Необходимо также учитывать различия в степени исполнения трудового законодательства, ограничивающего оборот рабочей силы, а также различия в отраслевой и секторальной структуре занятости между малыми и крупными предприятиями. (Например, среди малых предприятий выше, чем среди крупных, доля частных предприятий из сектора услуг.)
Рисунок П8-11 показывает различия между предприятиями разного размера в динамике. Описанная выше «иерархия» оказывается устойчивой почти на всем рассматриваемом периоде. Отметим также, что общерыночная тенденция к сокращению доли «новичков» с коротким стажем (см. рис. П8-2) гораздо более четко просматривается для малых предприятий, чем для средних и крупных (более 100 человек), где она почти незаметна.
Регрессионный анализ. Представленный выше простой дескриптивный анализ не позволяет учитывать влияние третьих факторов. Например, более низкая стабильность занятости в частном секторе в сравнении с государственным может быть вызвана тем, что в первом выше доля мужчин, ниже средний возраст работников и выше доля предприятий сферы услуг. Кроме того, очевидно, что динамика показателей специального стажа во времени находится под влиянием изменений в структуре занятости. За рассматриваемый 20-летний период она претерпела весьма сильные изменения (см. табл. П8-2). Среди факторов, которые должны были способствовать увеличению длительности трудовых отношений, можно отметить старение и рост образованности населения. Перечень факторов, которые должны были действовать в противоположном направлении, шире – тут и изменение отраслевой структуры занятости в пользу сектора услуг, и расширение частного сектора, и рост доли занятых на мелких предприятиях. Возникает вопрос, какой была бы динамика показателей стажа при контроле этих изменений в структуре занятости? Как бы менялась длительность трудовых отношений (и менялась ли она вообще), если бы структура занятости оставалась прежней?
Эти и другие вопросы мы анализируем с помощью регрессионного анализа. Следуя простому подходу, предложенному Г. Фарбером [Farber, 2008; 2010] при анализе специального стажа на рынке труда США, мы оцениваем с помощью МНК уравнение вида
ln(Tenureit) = α+β⋅Χit+γ⋅Υt+εit , (8–6)
где i относится к работникам; t обозначает год обследования; Tenure – величина специального стажа (измеряемая с учетом месяца начала работы на предприятии); X– набор социально-демографических характеристик работников и рабочих мест; β – соответствующие коэффициенты; Y – эффект года, представленный через набор годовых дамми-переменных (базой является 1994 г.); ε – случайная ошибка.
В данном уравнении коэффициенты β будут представлять собой оценки (частных) корреляций между специальным стажем и различными характеристиками работников и рабочих мест, построенные с учетом влияния других факторов. Используя панельный характер данных РМЭЗ ВШЭ, мы можем также учесть влияние всех ненаблюдаемых и постоянных во времени индивидуальных характеристик. (Таких как, например, склонность к риску или разного рода предпочтения по поводу рабочего места и вида деятельности.) В то же время оценки γ годовых эффектов позволяют построить динамику среднего специального стажа с учетом изменений в структуре занятости.
Дополнительно, также следуя методологии Г. Фарбера, мы оцениваем линейно-вероятностную модель (ЛВР) аналогичного вида, где в качестве зависимой переменной выступает дамми-переменная T1 (T1 = 1, если специальный стаж работника меньше одного года; T1 = 0, если специальный стаж работника равен или больше одного года):
Τ1it =α+β⋅Χit +γ⋅Υt +εit. (8–7)
Набор социально-демографических характеристик работников и рабочих мест (Х) в обоих уравнениях включает в себя возраст, пол, семейный статус, уровень образования, профессионально-квалификационную принадлежность, форму собственности и размер предприятия, отработанное время, а также тип населенного пункта и регион проживания (на уровне первичной ячейки отбора – PSU). (Мы не включаем отрасли, так как отраслевые индикаторы в РМЭЗ ВШЭ есть только с 2004 г.)
Результаты оценивания уравнений (8–6) и (8–7) приведены в табл. П8-3 и П8-4 соответственно. Оценки обоих уравнений мы приводим как без учета, так и с учетом индивидуальных фиксированных эффектов. Как и следовало ожидать, знаки коэффициентов при тех же самых переменных в обоих уравнениях в большинстве случаев оказываются зеркально противоположными. Учет фиксированных эффектов меняет величину коэффициентов, но почти никогда не влияет на направление воздействия или статистическую значимость.
Полученные результаты, как правило, качественно повторяют выводы простого дескриптивного анализа, представленные выше. Так, специальный стаж растет с возрастом, тогда как вероятность иметь короткий стаж с возрастом сокращается. Среди мужчин стаж в
среднем ниже, чем среди женщин, но доля «новичков» выше. Связь с образованием может показаться не такой очевидной: средний стаж сначала растет с уровнем образования, но в группе работников с высшим образованием он оказывается не выше, чем у работников с неполным средним образованием или ниже. Дополнительные расчеты показывают, что такой неожиданный результат возникает из-за контроля профессиональной принадлежности работников. Как хорошо известно, эта переменная сильно связана с имеющимся уровнем образования, поэтому при включении ее в регрессию она «оттягивает» на себя часть эффекта образования. Без контроля профессий знак при переменной высшего образования оказывается положительным и значимым на однопроцентном уровне. Результаты оценивания уравнения (8–7) показывают, что вероятность иметь короткий стаж максимальна в группе наименее образованных работников, однако опять же четкого ранжирования не наблюдается: вероятность примерно одинакова для всех уровней образования выше базового.
По сравнению с базовой группой – специалистами высшего уровня квалификации – почти все другие профессиональные группы имеют более низкий средний специальный стаж. Исключение составляет группа руководителей – специфический человеческий капитал в их деятельности, по всей видимости, играет не меньшую роль, чем в работе специалистов, что при контроле прочих характеристик делает эти группы близкими с точки зрения длительности пребывания на одном и том же месте. Другим исключением является группа квалифицированных рабочих сельского хозяйства, что согласуется с данными табл. П8-1: среди всех отраслей максимальный средний стаж отмечается в сельском хозяйстве. Напротив, минимальный показатель среднего стажа из всех профессиональных групп имеют неквалифицированные рабочие, что также согласуется с наблюдениями на «сырых» данных. Оценки для уравнения (8–7) являются схожими. Результаты по формам собственности, размеру предприятия и типу населенного пункта также полностью согласуются с результатами дескриптивного анализа, выполненного на основе табл. П8-1, поэтому мы не обсуждаем их дополнительно. Наконец, средний стаж выше у работников с большей продолжительностью рабочего времени. В общем, можно заключить, что регрессионный анализ, за некоторыми исключениями, полностью подтверждает качественные различия по показателям специального стажа между различными группами работников, наблюдаемые на «сырых» данных РМЭЗ ВШЭ.
Динамика среднего стажа и динамика доли занятых со стажем менее одного года без учета изменений в структуре занятости и с их учетом представлены на рис. П8-12. Соответствующие показатели за каждый год рассчитывались в относительном выражении, базой выступает 1994 г. Наблюдаемая (безусловная) динамика этих показателей воспроизводит уже хорошо известную нам тенденцию: до кризиса 2008–2009 гг. средний специальный стаж сокращался, а доля занятых с коротким стажем росла, тогда как в последующие годы средний стаж рос, а доля занятых с коротким стажем сокращалась. Как можно видеть из рис. П8-12, условная динамика показателей специального стажа (при контроле изменений в структуре занятости) в общем совпадает с безусловной. Однако если бы структура занятости не менялась, то количественные изменения в показателях специального стажа были бы во многом иными. Во-первых, сокращение среднего стажа и рост доли «новичков» были бы в первоначальный период не такими заметными. Например, сокращение среднего стажа составило бы лишь около 10 % против фактически наблюдавшихся 35 %. Во-вторых, уже в 2007–2008 гг. показатели среднего стажа сравнялись бы с уровнем базового 1994 г., а к 2014 г. заметно бы его превысили (в случае доли работников с коротким стажем они стали бы ниже исходного уровня).
Чтобы получить более четкое представление о влиянии изменений в структуре занятости на динамику продолжительности среднего специального стажа, мы оценили, какой бы она была, если бы те или иные компоненты занятости не менялись во времени. Для этого мы произвели симуляцию, включая в уравнение (8–6) тот или иной регрессор плюс годовые дамми. Полученные результаты представлены в табл. П8-5 в столбце 1[107] . Фактическое сокращение среднего стажа с 1994 по 2014 гг. составило 0,1 лог-пункта, но если бы структура занятости вообще не менялась, то он не сократился бы, а вырос на 0,11 лог-пункта. Вычитание этой величины из фактической величины изменения среднего стажа дает представление о том, как сдвиги в структуре занятости повлияли на динамику среднего специального стажа. Соответствующие разности представлены в столбце 2. Так, имевшие место изменения в структуре занятости привели к сокращению средней продолжительности специального стажа на 0,21 лог-пункта.
Если мы рассмотрим отдельные элементы структуры занятости, то можно заметить, что наиболее сильное понижательное влияние среди них оказали форма собственности (-0,260) и размер предприятий (-0,157), т. е. приватизация старых государственных предприятий и создание новых частных с параллельным сокращением занятости на крупных предприятиях в пользу более мелких. Отрицательно повлияло на средний стаж также сокращение доли работников, состоящих в браке (-0,041).
Однако не все изменения в структуре занятости оказывали понижательное влияние. Среди положительно влиявших факторов особо следует выделить старение населения: если бы возрастная структура занятости не менялась, то сокращение среднего стажа к 2014 г. составило бы 0,158 лог-пункта против фактически наблюдаемых 0,1. Иными словами, из-за изменения возрастной структуры его продолжительность увеличилась на 0,058 лог-пункта. Другим положительно влиявшим фактором был рост образованности работников (+0,036).
8.5. Отдача от специального стажа
Показатели специального стажа имеет смысл анализировать и обсуждать с учетом того, как они связаны с оплатой труда. С одной стороны, если заработная плата растет вместе со стажем, это мотивирует работников дольше оставаться на том же самом рабочем месте. Естественно поэтому ожидать, что высокая «премия» за специальный стаж будет, при прочих равных, сопровождаться более низкой межфирменной мобильностью. С другой стороны, если «премия» мала или вовсе отсутствует, это будет мотивировать работников чаще менять работу, что предполагает высокую межфирменную мобильность. Таким образом, отдача от специального стажа оказывается одним из важнейших факторов в механизме мобильности на рынке труда.
Методология оценивания отдачи от специального стажа. Сформировавшаяся на данный момент в литературе эконометрическая методология оценивания отдачи от специального стажа хотя и является весьма продвинутой, но тем не менее не позволяет полностью разграничить влияние всех факторов и получить состоятельные оценки отдачи от специфического человеческого капитала. Как отмечает Н. Уильямс, «на данный момент еще не предложено способа оценивания, который бы давал несмещенные оценки влияния специального и общего трудового стажа» [Williams, 2009, p. 275].
Традиционным инструментом для оценивания отдачи от специального стажа является минцеровское уравнение заработной платы. Его базовая спецификация выглядит следующим образом [Mincer, 1974]:
ln(Wageij ) = β0 + β1⋅Educi+β2⋅Expi+β3⋅Expi 2+β4⋅Tenureij +β5⋅Tenureij2 +εij (8–8)
где i относится к г-му работнику; j относится к j-й работе; ln Wage – логарифм почасовой заработной платы; Educ – уровень образования; Exp и Exp2 – общий трудовой стаж работника и его квадрат; Tenure и Tenure2 – специфический трудовой стаж работника на текущем рабочем месте и его квадрат; ε – ошибка.
Оценивание уравнения (8–8) с помощью МНК обычно показывает, что коэффициент β4 является статистически значимым, положительным и достаточно большим по величине, а коэффициент β5 – отрицательным. Если принять, что специальный стаж отражает запас накопленного специфического человеческого капитала, то такой результат полностью согласуется с предсказанием теории человеческого капитала: накопление специфического человеческого капитала замедляется с течением времени и, с какого-то момента, его выбытие начинает превышать его прирост. При этом высокая положительная оценка β4 может интерпретироваться как свидетельство высокой отдачи от инвестиций в специфический «внутрифирменный» человеческий капитал [Mincer, Jovanovic, 1981].
Однако такой прямолинейный подход может сталкиваться с проблемой эндогенности, вызванной наличием пропущенной переменной. А именно, могут существовать факторы, неучтенные в уравнении (8–8), но влияющие как на заработные платы, так и на длительность специального стажа. В этом случае оценки коэффициентов β 4 и β5 будут содержать в себе влияние этих факторов, а потому окажутся смещенными.
Для лучшего понимания проблемы эндогенности в уравнении (8–8) в целом ряде работ (например: [Topel, 1991; Altonji, Williams, 2005]) эксплицитно предполагается, что ошибка ε состоит из нескольких компонент:
εij =μi + ϕij + uij , (8–9)
где μi отражает ненаблюдаемые индивидуальные характеристики работников и прежде всего – их способности; φij отражает качество мэтчинга (соответствия) между характеристиками работника и рабочего места; uij – полностью случайная компонента, которая, среди прочего, отражает ошибки измерения заработной платы и индивидуальных характеристик работников[108].
Естественно предполагать, что длительность специального стажа будет коррелировать как с индивидуальной неоднородностью работников, так и с неоднородностью мэтчинга. Так, она будет положительно коррелировать с μ, поскольку для работников с худшими способностями характерны более частые увольнения – как добровольные, так и вынужденные. Что касается корреляции с φ, то ее знак может быть любым. С одной стороны, работники будут реже уходить с рабочих мест, характеристики которых лучше соответствуют их индивидуальным характеристикам. Кроме того, если фирмам достается часть ренты от удачного мэтчинга, то они тоже будут избегать увольнять работников, хорошо «состыковавшихся» с предоставленными им рабочими местами. Отсюда – возможная положительная связь специального стажа с компонентой φ. С другой стороны, если работники склонны переходить с рабочих мест, которые им подходят хуже, на рабочие места, которые им подходят лучше, то эта связь будет отрицательной. Считается, что первый эффект, как правило, перевешивает второй, так что и с компонентой φ специальный стаж тоже коррелирует положительно. Так как обе компоненты, μ и φ, положительно влияют на заработные платы, то МНК-оценки уравнения (8–8) будут завышать отдачу от специального стажа.
Однако смещение оценки отдачи от специального стажа в уравнении (8–8) может происходить не только из-за того, что сам специальный стаж коррелирован с ошибками, но также из-за того, что с ошибками коррелирован общий трудовой стаж. Общий трудовой стаж, скорее всего, должен быть положительно связан с компонентой φ, так как лучший мэтчинг часто достигается методом проб и ошибок. При этом с компонентой μ общий стаж может быть связан как отрицательно, так и положительно. Отрицательная связь может существовать из-за того, что более способные индивиды дольше учатся, а положительная – из-за того, что более способные индивиды испытывают менее продолжительные состояния незанятости. Эти корреляции с ошибками приводят к смещению оценки отдачи от общего стажа, но также создают и смещение коэффициентов при специфическом стаже, поскольку он связан с общим стажем.
В эмпирической литературе сложились два основных метода оценивания отдачи от специального стажа с учетом проблемы эндогенности, которые теоретически способны давать оценки, менее смещенные, чем оценки МНК. Оба предполагают наличие панельных данных, т. е. данных по одним и тем же работникам в разные моменты времени. Первый метод (IV1) был изначально предложен в работе [Altonji, Shakotko, 1987]. Он использует в качестве инструмента для переменной специального стажа разность между его фактической величиной на тот или иной момент времени и его средней величиной для данного работника на данном рабочем месте:
(8-10)
где – средний срок пребывания работника i на фирме j за период наблюдения. Переменная DT выступает как валидный инструмент, поскольку она ортогональна по отношению к компонентам ошибки μ и φ, которые являются фиксированными на протяжении всего срока, пока работник i остается на рабочем месте j. Аналогично, для инструментирования показателя Tenure2 в качестве инструментальной переменной используется разность между Tenure2 и и так далее для более высоких степеней.
Однако этот метод никак не учитывает эндогенность общего трудового стажа, которая «переносится» на специфический стаж, и потому, как отмечают сами авторы, такой подход может давать смещенные оценки. Результатом может быть переоценка отдачи от общего стажа (трудового опыта) и недооценка – от специального. В связи с этим одной из возможных модернизаций данного подхода (IV2) является дополнительное инструментирование показателей общего стажа с помощью аналогичного инструмента
Альтернативный подход был предложен в работе [Topel, 1991], где для решения проблемы эндогенности использовалась следующая двухшаговая процедура (2SFD). На первом шаге оценивается уравнение для прироста заработной платы тех работников, которые сохраняли свое рабочее место:
ΔlnWijt=β1⋅ΔExpijt +β2⋅ΔTenureijt + εijt , (8-11),
где Δ lnW – прирост заработной платы; ΔExp – прирост общего трудового стажа; Δ.Tenure – прирост специального стажа. Так как ΔExp=ΔTenure=1, то оценка константы из этого уравнения даст оценку совместного влияния общего и специального стажа (B = β, +β2) на заработную плату. При этом взятие первых разностей помогает избавиться от компонент ошибки μ и φ, которые предполагаются постоянными во времени, так что оценка B может считаться состоятельной.
Второй шаг процедуры имеет целью отделить влияние специального стажа от влияния общего. Для этого сначала рассчитывается величина общего трудового стажа работника на момент его прихода в данную фирму (Exp0ijt = Expijt – Tenureijt). Вставив ее в уравнение (8–8) и сделав необходимые преобразования, получаем:
lnWijt −B⋅Tenureijt =β1⋅Exp0ijt +γ⋅Xijt +ζijt, (8-12)
где В оценивается из уравнения (8–6), а β1 представляет собой отдачу от общего стажа на момент появления работника в фирме. Отсюда нетрудно получить оценку отдачи от специального стажа: β2 = B — β1.
Несмотря на то, что уравнение (8-11) дает состоятельные оценки β1 +β2, уравнение (8-12) может давать смещенную оценку β1, так как длительность общего трудового стажа на момент прихода работника на фирму (Exp0), скорее всего, будет отрицательно коррелировать с ненаблюдаемыми индивидуальными способностями (μ), поскольку в пожилом возрасте более производительные работники реже склонны начинать все с нуля на новом месте работы. Это будет смещать оценку отдачи для общего стажа вниз, а для специального – вверх[109]. Кроме того, можно ожидать, что люди с большим опытом могут найти себе работу, более соответствующую их способностям и предпочтениям, и поэтому Exp0 будет положительно коррелировать с компонентой φ. Это означает, что оценка β1 будет смещена вверх, а оценка β2 – вниз. В связи с этим есть основания критически относиться к получаемым таким образом оценкам.
Таким образом, ни метод Алтонжи – Шакотко, ни метод Топеля не позволяют полностью решить проблему эндогенности. Вопрос о том, какой из них предпочтительнее, остается открытым, и большинство более поздних исследований используют одновременно оба (дополнительно к оценкам МНК), что позволяет очертить примерные границы, в пределах которых вероятнее всего и лежит «истинная» отдача от специального стажа.
Оценки кумулятивной «премии» за специальный стаж, полученные с применением этих методов, для разных стран и разных периодов представлены в табл. 8–1. Как правило, самые высокие результаты, которые часто мало отличаются от оценок с использованием МНК, дает метод Топеля. Оценки по методу Алтонжи – Шакотко с инструментированием специального стажа намного ниже; еще ниже оказываются оценки с инструментированием по этому методу показателей как специального, так и общего стажа. Так, согласно расчетам Топеля, в США за 20 лет пребывания работника на одном и том же месте заработная плата возрастает примерно на треть, тогда как, согласно расчетам Алтонжи – Шакотко, – только на 5 %. Интересно отметить, что практически во всех странах восходящая фаза профилей заработной платы в зависимости от специального стажа оказывается, как правило, весьма протяженной – заработная плата продолжает расти даже у «старожилов», «оттрубивших» на одном и том же месте работы по два десятка лет.
Таблица 8–1. Кумулятивная отдача от специального стажа в некоторых развитых странах, %
(мужчины, занятые в частном секторе экономики)
* Процент прироста реальной часовой заработной платы при различной продолжительности специального стажа по сравнению с заработной платой вновь принятых работников с нулевым специальным стажем.
Источник. [Deelen, 2012].
Однако если в западных странах применение методов Алтонжи – Шакотко и Топеля при оценивании отдачи от специального стажа стало уже стандартной практикой, то при анализе для постсоциалистических стран они почти не применялись, а большинство исследователей ограничивались результатами, полученными простым МНК. На данный момент нам известна только одна работа с использованием методов Алтонжи – Шакотко и Топеля для оценивания отдачи от специального стажа в стране с социалистическим прошлым [Or-lowski, Riphahn, 2009]. В этой работе оценки делались для Восточной Германии в сравнении с Западной Германией на данных GSOEP в период 2002–2006 гг. Анализ показал, что при применении МНК отдача в Восточной Германии оказывается практически такой же, как в Западной Германии, а при применении методов Алтонжи – Шакотко и Топеля она перестает быть значимой для обеих частей страны. Таким образом, примерно за 20 лет, прошедших после объединения Германии, отдачи от специального стажа в ее обеих частях сравнялись. Это предполагает, что с течением времени по мере накопления «нового» рыночного специального стажа отдача от него в постсоциалистических странах должна расти, приближаясь к показателям для западных стран. Однако, безусловно, подобный вывод вряд ли можно безоговорочно распространять на все постсоциалистические страны, так как опыт Восточной Германии достаточно уникален.
В нашей работе мы также применяем как метод Алтонжи – Шакотко, так и метод Топеля с учетом ряда технических моментов, подробно разобранных в обзорной статье [Altonji, Williams, 2005]. Кроме того, мы принимаем во внимание специфику переходного периода.
Учет специфики переходного периода. Чтобы учесть неоднородность накопленного специфического человеческого капитала, состоящего как из обесцененного «старого», так и «полезного» «нового», мы применяем несколько альтернативных способов. Первый – включение в уравнение (8–8) (и другие соответствующие уравнения) дамми-переменной для работников, текущая занятость которых началась в условиях рыночной экономики, т. е. после января 1992 г. С одной стороны, эта переменная отрицательно связана с переменной специального стажа. С другой, так как наличие «старого» стажа должно «тянуть» заработную плату вниз, эта переменная должна положительно влиять на заработную плату. В результате ее включение в уравнение должно увеличивать отдачу от специального стажа.
Второй способ – включение переменной, которая представляет собой долю специального стажа работника, который был получен в рыночной экономике. У всех работников, текущая занятость которых началась в рыночных условиях, эта доля будет равна единице. А, например, у работников, занятость которых началась в 1988 г., эта доля по состоянию на 2000 г. будет равна (2000 – 1992) / (2000 – 1988) = 0,67. Этот способ, в отличие от первого, позволяет дифференцировать работников, имеющих «старый» стаж, по его длительности. Тем не менее оба способа имплицитно предполагают, что отдача от «нового» стажа равна отдаче от «старого», что является сильным допущением. Естественно ожидать, что от «нового» стажа отдача выше, чем от «старого», так как он является более подходящим в новых условиях. В связи с этим третий способ предполагает разделение специального стажа на «новый» и «старый» и включение их величин в одно уравнение, что позволяет сравнить отдачи и протестировать их равенство. Наконец, четвертый способ – это оценивание уравнения (8–8) только для работников с «новым» стажем, что является возможной альтернативой третьему способу.
Кроме того, как отмечалось в разделе 8.2, степень обесценения «нерыночного» специфического человеческого капитала в частном и государственном секторах могла быть разной. Для тех, кто оставался в государственном секторе (образовании, здравоохранении, государственном управлении), «старые» знания и навыки, накопленные при прежней системе, могли сохранять ценность (во всяком случае – частично). У тех, кто стал работать в частном секторе, обесценение «нерыночного» капитала могло быть гораздо сильнее. (Отметим, что хотя за рассматриваемый период доля занятых в государственном секторе респондентов РМЭЗ ВШЭ резко снизилась – с 95 % в 1994 г. до 42 % в 2014 г., она все равно остается огромной (табл. П8-2).) Поэтому в отличие от сложившейся исследовательской традиции, согласно которой отдачу от специального стажа принято оценивать только для работников частного сектора, мы оцениваем ее также для работников государственного сектора[110].
Результаты оценивания. На первом шаге, следуя за всеми предшествующими работами по России, мы оценили уравнение (8–8) простым МНК отдельно для каждого года за период 1994–2014 гг. Согласно сложившейся в эмпирической литературе традиции [Topel, 1991; Altonji, Williams, 2005; Williams, 2009] мы оценивали его только для мужчин, занятых в частном секторе, дополнительно контролируя их семейный статус, количество отработанных часов, потенциальную продолжительность общего трудового стажа и регион проживания[111]. Однако для сравнения мы приводим аналогичные оценки также и для мужчин, занятых в государственном секторе, исходя из предположения о том, что в нем «старый» стаж может иметь большую ценность, чем в частном секторе[112]. Это отличает наш подход от предыдущих исследований на российских данных, где различие между секторами занятости не проводилось.
Результаты представлены в табл. 8–2. Во-первых, мы видим, что отсутствие значимости или даже отрицательные коэффициенты перед переменной специального стажа в предшествующих работах были во многом связаны с тем, что в них частный и государственный сектора не разделялись. Оказывается, что при их разделении для частного сектора значимая отдача появляется в начале 2000-х годов, а для государственного она вообще оказывается значимой практически все годы. Это согласуется с нашей гипотезой о том, что в государственном секторе «старый» специфический человеческий капитал во многом сохранял свою полезность в отличие от частного. Во-вторых, почти во все годы размер отдачи в государственном секторе был выше, чем в частном. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что в государственном секторе во многих случаях существует эксплицитная привязка оплаты труда к «выслуге лет» в виде специальных надбавок к заработной плате.
На следующем шаге мы оценили то же самое уравнение на пуле данных за весь рассматриваемый период (опять-таки с учетом сектора занятости). Оценки коэффициентов при показателях специального стажа, а также получаемые на их основе накопленные премии за 5, 10, 15 и 20 лет непрерывной работы на одном и том же месте представлены в табл. 8–3.
Таблица 8–2. Годовые оценки отдачи от специального стажа, МНК, мужчины, частный сектор и государственный сектор, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы (лог), регион проживания (уровень psu). Регрессии оцениваются с учетом выборочных весов, поставляемых вместе с данными РМЭЗ ВШЭ. Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности.
Таблица 8–3. Кумулятивные премии за специальный стаж в частном и государственном секторах, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что премия за первый год специального стажа в частном секторе составляет примерно 4,7 %. Это полностью совпадает с премией за первый год работы в государственном секторе. Однако за исключением этой начальной точки профили накопленной премии за стаж заметно различаются по секторам. Во-первых, профиль в государственном секторе лежит выше, чем профиль в частном. Так, например, в государственном секторе 10 лет работы на одном и том же месте дает работнику преимущество в заработной плате размером в 25 % от заработной платы тех, кто был нанят менее года назад, тогда как в частном секторе это преимущество составляет 20 %. Этот межсекторальный разрыв растет вместе с величиной стажа. Например, 20 лет работы на одном и том же месте в государственном секторе дает премию размером уже 27 %, а в частном – только 15,6 %. Во-вторых, в частном секторе премия достигает своего пика через 911 лет после прихода на предприятие, затем начинает снижаться и к 20 годам опускается до уровня, меньшего, чем при пятилетнем стаже. В государственном же секторе премия достигает своего пика только после 15 лет специального стажа и при этом не снижается при дальнейшем его увеличении, удерживаясь на стабильном уровне. Эти различия между секторами хорошо согласуются с предположением о том, что человеческий капитал, накопленный в плановой экономике, оказался по большей части бесполезным в появившемся частном/рыночном секторе экономики, однако во многом сохранил свою ценность в государственном секторе[113].
Затем мы проанализировали, как меняется отдача от специального стажа при учете неоднородности человеческого капитала, накопленного на рабочих местах. Включение в оцениваемое уравнение дамми-переменной, указывающей на отсутствие «старого» стажа (способ 1), оказывает заметное влияние на профиль кумулятивной премии в частном секторе (табл. 8–4). Хотя его форма почти не меняется, он сдвигается сильно вверх: например, стаж работы на одном и том же месте в течение 15 лет начинает давать уже премию в 21 против 18,5 % в базовой спецификации. При этом сдвигается вправо и точка, в которой премия достигает своего пика, – до 12 лет. В то же время влияние этой корректировки на профиль кумулятивной премии в государственном секторе практически незаметно. Отметим также, что сама дамми-переменная положительна и значима для частного сектора, но незначима для государственного. Другими словами, если в частном секторе наличие «старого» стажа «тянет» заработную плату вниз, то в государственном секторе такого эффекта «старого» стажа не наблюдается. Все это опять же согласуется с предположением, что в государственном секторе, в отличие от частного, «старый» человеческий капитал во многом сохранил свою ценность. Похожие результаты дает и учет неоднородности человеческого капитала через включение в уравнение доли «нового» стажа в общей продолжительности специального стажа работника (способ 2).
Разделение «старого» и «нового» специального стажа (способ 3) подтверждает гипотезу о том, что это два разных по своему содержанию типа трудового опыта, генерирующие разные профили кумулятивной премии. В частном секторе профиль для «нового» стажа лежит заметно выше, чем для «старого» (см. табл. 8–5). Премия за первый год «нового» стажа составляет 8,7 % и уже на третий год достигает уровня, характерного для пика «усредненного» профиля (когда «старый» и «новый» стажи не разделяются). Пик премии приходится примерно на шестой-седьмой годы, когда она достигает 25 %; затем в течение примерно 10 лет премия находится на стабильном уровне, но начинает вновь подрастать после шестнадцатого года. В свою очередь, профиль премии для «старого» стажа полностью находится в области отрицательных значений. Это указывает на то, что обладание «старым» стажем не «премирует», а, наоборот, «штрафует». Однако так как коэффициенты при показателях «старого» стажа незначимы, то все же более корректно сказать, что «старый» стаж никак не связан с заработной платой работника. (Незначимость коэффициентов при «старом» стаже, скорее всего, объясняется относительно небольшой вариацией в его длительности[114].)
Таблица 8–4. Кумулятивные премии за специальный стаж, мужчины, занятые в частном и государственном секторах, при различных способах учета неоднородности человеческого капитала, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Кумулятивные премии за «старый» и «новый» специальный стажи, мужчины, занятые в частном и государственном секторах, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Таблица 8–5. Кумулятивные премии за «старый» и «новый» специальный стажи, мужчины, занятые в частном и государственном секторах, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Результаты, полученные для государственного сектора, качественно похожи. Профиль премий для «нового» стажа лежит заметно выше, чем для «старого», причем ее значения находятся в области отрицательных значений. Тем не менее можно отметить, что в отличие от частного сектора, в государственном секторе «старый» стаж все же приносит некоторую положительную премию, если его продолжительность превышает 12 лет. Премия за 20-летний стаж достигает уже восьмипроцентного уровня. Однако так как коэффициенты при показателях «старого» стажа незначимы, то к этим выводам следует относиться с большой осторожностью.
Оценивание уравнения (8–8) для работников, имеющих только «новый» стаж (способ 4), дает результаты, похожие на результаты для «нового» стажа при использовании способа 3 (см. табл. 8–6).
Таблица 8–6. Кумулятивные премии за «новый» специальный стаж, мужчины, занятые в частном и государственном секторах, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Далее мы переходим к оценкам уравнения (8–8), полученным с помощью методов Топеля и Алтонжи – Шакотко. В данном случае, как это принято в литературе, мы ограничились подвыборкой занятых только в частном секторе. Сначала мы применяем эти методы, не разделяя специальный стаж на «новый» и «старый», т. е. исходя из предположения, что он является однородным. Кумулятивные премии за специальный стаж, полученные этими методами, представлены в сравнении с оценками МНК в табл. 8–7.
Таблица 8–7. Кумулятивные премии за специальный стаж для мужчин, занятых в частном секторе, оценки по методу Топеля (2SFD) и Алтонжи – Шакотко (IV1 и IV2) в сравнении с оценками МНК, на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Оба метода борьбы с эндогенностью дают профиль премий, который лежит заметно ниже, чем профиль премий по МНК. По Топелю, отдача на первый год стажа составляет примерно 2,5 %, что почти в 2 раза меньше, чем по МНК. При этом пик премии приходится на пятый год работы на одном и том же месте, когда она достигает лишь 6 %, тогда как пик премии по МНК наблюдается на десятый-одиннадцатый годы, когда она превышает 20 %. По Топелю, премия полностью исчезает примерно на одиннадцатый год стажа и затем превращается в «штраф», который к двадцатому году достигает -15 %. Профиль премий по методу Алтонжи – Шакотко как с инструментированием, так и без инструментирования общего трудового стажа лежит еще ниже профиля по Топелю. Но так как оба метода инструментирования дают незначимые коэффициенты при переменных стажа, мы оставляем эти результаты без обсуждения. Таким образом, полученные оценки указывают на то, что МНК завышает отдачи от специфического человеческого капитала в частном секторе в России. Такой результат, а также незначимость отдачи от стажа при ее инструментировании по методу Алтонжи – Шакотко качественно совпадают с результатами, полученными в работе [Orlowski, Riphahn, 2009] для Восточной Германии.
Как меняются эти результаты, если мы учтем неоднородность специального стажа? Применение способов 1 и 2 качественно ничего не меняет: оба метода инструментирования все также дают незначимые оценки отдач. Так как в случае способа 3 – при выделении «старого» и «нового» стажа в одном уравнении – использование методов Топеля и Алтонжи – Шакотко оказывается технически затруднено (из-за недостатка вариации в «старом» стаже), мы ограничились их применением на подвыборке работников, имеющих только «новый» стаж (способ 4). Результаты представлены в табл. 8–8 в сравнении с оценками МНК.
Таблица 8–8. Кумулятивные премии за «новый» специальный стаж для мужчин, занятых в частном секторе, оценки по методу Топеля (2SFD) и Алтонжи – Шакотко (IV1 и IV2) в сравнении с оценками МНК, на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что все оценки оказываются значимыми. Естественно предположить, что незначимость результатов, полученных при использовании обоих методов борьбы с эндогенностью на общей выборке, связана с тем, что специальный стаж не был разделен на «новый» и «старый». Оценки, полученные с использованием методов Топеля и Алтонжи – Шакотко, опять дают гораздо более низкие профили накопленных премий, чем оценки МНК. Например, если МНК предполагает, что работник с двадцатилетним «новым» специальным стажем будет иметь 34-процентную премию по сравнению с работником, нанятым менее года назад, то, согласно методам Топеля и Алтонжи – Шакотко, его премия не превысит 2 %. Это указывает на то, что МНК-оценки отдачи от «нового» специального стажа (в частном секторе) могут быть сильно смещены вверх[115].
Результаты для специального стажа интересно сравнить с результатами для общего стажа (табл. П8-10). Во-первых, согласно МНК-оценкам, пик кумулятивной отдачи от общего стажа наблюдается на пятнадцатом году трудовой деятельности работника (что примерно соответствует возрастному интервалу 30–35 лет), когда она достигает 22 %; затем начинается ее снижение. В большинстве развитых стран отдача от общего опыта значительно выше и пика она достигает значительно позже – как правило, в предпенсионном возрасте [Российский работник… 2011]. Несмотря на это, как показывает сравнение соответствующих оценок, на российском рынке труда общий опыт ценится все же выше, чем специфический (внутрифирменный). Во-вторых, при использовании методов Топеля и Алтонжи – Шакотко кумулятивная отдача от общего стажа всегда остается положительной и достаточно значительной. Более того, при применении метода Алтонжи – Шакотко она не только не снижается по сравнению с МНК-оценками (как это происходит в случае специального стажа), а, наоборот, возрастает, достигая 30 %. В-третьих, при инструментировании самого общего стажа (метод IV2) пик отдачи от него сдвигается вверх до отметки 20 лет, что примерно соответствует возрастному интервалу 35–40 лет. Однако при этом коэффициенты при показателях общего стажа становятся незначимыми, что ограничивает нашу возможность делать какие-либо содержательные выводы.
Резюмируя описанные выше эконометрические результаты, можно сказать следующее. При использовании МНК мы получаем ощутимую зарплатную премию на специальный стаж. Например, в частном секторе заработная плата работников, проработавших непрерывно 10 лет у того же самого работодателя, оказывается на 20 % выше, чем у тех, кто был нанят менее года назад. В государственном секторе эта премия еще больше. Наблюдаемую премию во многом обеспечивает «новый» стаж, который начался в рыночных условиях, тогда как «старый» стаж, который восходит ко времени плановой экономики, «тянет» заработную плату вниз. Однако такой подход с использованием МНК дает завышенную оценку отдачи от специфического человеческого капитала, смешивая ее с другими эффектами – влиянием ненаблюдаемых качества мэтчинга и способностей работников. Учет последних ведет к оценкам, свидетельствующим о низком уровне или даже полном отсутствии отдачи от специфического капитала. Это согласуется с небольшими по международным меркам масштабами формального обучения и подготовки на рабочих местах, которые осуществляют российские предприятия [Российский работник… 2011].
8.6. Заключение
Данная глава анализирует трудовую мобильность и стабильность на российском рынке труда в период с 1994 по 2014 гг., используя для этого данные о специальном стаже работников. Эта метрика отражает длительность трудовых отношений с одним и тем же работодателем и тем самым позволяет судить о том, сколько наймов происходит в течение года, насколько они устойчивы и каково соотношение между «новичками» и «старожилами» в составе занятых. Чем ниже величина среднего стажа и чем выше доля «новичков» (работников с коротким специальным стажем), тем выше мобильность рабочей силы, и, наоборот, чем больше средний стаж и выше доля «старожилов» (работников с длительным специальным стажем), тем выше стабильность занятости. Важным показателем при этом является размер зарплатной «премии» за специальный стаж. Если эта «премия» высока, то работники, при прочих равных, менее склонны менять работодателя, а если эта «премия» мала или вовсе отсутствует, то это мотивирует работников чаще менять работу.
Несмотря на то, что разные источники данных дают достаточно разные оценки средней продолжительности специального стажа и соотношения «новичков» и «старожилов», наш общий вывод состоит все же в том, что на российском рынке труда наблюдается высокий уровень трудовой мобильности. Российская рабочая сила отличается от многих развитых стран сравнительно невысоким средним специальным стажем и значительной долей «новичков».
Другой вывод, тем не менее, состоит в том, что на российском рынке труда (впрочем, как и на рынке труда любой другой страны) высокая мобильность одних групп работников всегда сочеталась и сочетается со стабильностью занятости других. Несмотря на относительно высокую долю «новичков», доля «старожилов» (со стажем 10 лет и более) всегда оставалась в структуре российской рабочей силы самой многочисленной. Это предполагает, что мобильность и стабильность сосуществуют, а длительные трудовые отношения, несмотря на шоки переходного периода, никуда не исчезли. Не менее важно, что средний стаж и стажевая структура занятости сильно различаются по секторам и отраслям экономики.
Выполненный анализ указывает также на определенный тренд в интенсивности трудовой мобильности в рассматриваемый период. По всей видимости, ее уровень рос с начала 1990-х, достиг своего пика в первой половине 2000-х годов, затем начал постепенно сокращаться и к 2014 г. фактически скатился обратно на уровень 1994 г. Более высокая трудовая мобильность на старте переходного периода была, по-видимому, связана с резко активизировавшимися процессами реаллокации занятости – между секторами, отраслями, отдельными предприятиями. Наши расчеты показывают, что если бы не значительные изменения в структуре рабочих мест (прежде всего, рост частного сектора и сокращение занятости на крупных предприятиях в пользу более мелких), то средний специальный стаж в 2014 г. был бы заметно выше, а доля «новичков» была бы заметно ниже того, что наблюдалось в 1994 г.
Наконец, мы получаем целый ряд новых результатов относительно «премии» за специальный стаж. Предшествующие работы по России показывали, что на ранних этапах переходного периода специальный стаж приносил нулевую или даже отрицательную отдачу, но примерно с конца 2000-х годов у него стала обнаруживаться положительная зарплатная премия. Доминирующее в литературе теоретическое объяснение такой динамики находится в русле теории человеческого капитала: в новых условиях «старый», «нерыночный» специфический человеческий капитал, накопленный в условиях плановой экономики, потерял свою ценность, а запас «нового», «рыночного» человеческого капитала еще не достиг уровня, способного генерировать положительную премию. Но как только запас «нового» внутрифирменного опыта стал достаточно внушительным, специальный стаж начал приносить положительную отдачу. Наши результаты свидетельствуют о том, что эти представления нуждаются в серьезной корректировке.
Во-первых, мы показываем, что принципиальное значение имеет разделение на частный и государственный сектора. Хотя человеческий капитал, накопленный в плановой экономике, оказался действительно по большей части бесполезным в появившемся частном/ рыночном секторе, он во многом сохранил свою ценность в государственном секторе, принципы работы которого во многом не изменились. В соответствии с этим мы обнаруживаем, что в государственном секторе премия за специальный стаж была положительной и значимой практически на всем периоде наблюдений. В частном же секторе отдача от специального стажа была действительно незначима в 1990-е годы, но стала значимой и положительной уже с начала 2000-х годов – несколько раньше, чем указывали другие работы.
Во-вторых, мы эксплицитно и несколькими альтернативными способами вводим в эконометрический анализ разделение на «старый», «нерыночный», и «новый», «рыночный», специальный стаж. Мы находим, что наличие у работника «старого» специального стажа – периода занятости на данном предприятии до начала рыночных реформ – связано с примерно шестипроцентным «штрафом» в оплате труда, при этом такой «штраф» присутствует только в частном секторе. Кроме того, оценивание «премии» отдельно для «нерыночного» и «рыночного» опыта показывает, что профили заработной платы для «нового» специального стажа лежат заметно выше, чем для «старого», причем если у первого они находятся полностью в области положительных, то у второго – преимущественно в области отрицательных значений.
В-третьих, мы получаем результаты, свидетельствующие о том, что положительная связь между заработной платой и специальным стажем на российском рынке труда по большей части не имеет отношения к накоплению специфического человеческого капитала. Оценивание минцеровского уравнения на пуле данных за период 1994–2014 гг. с помощью МНК показывает, что у «старожилов», проработавших на одном и том же месте 15–20 лет, заработная плата (при прочих равных условиях) на 20–25 % выше, чем у «новичков», только что принятых на работу. Однако применение стандартных для западной литературы методов борьбы с эндогенностью – Топеля и Алтонжи – Шакотко – приводит к тому, что эта премия в лучшем случае составит 2–4% (для «нового» стажа), а то и вовсе является незначимой или отрицательной. Из полученных нами оценок следует, что в российских условиях период роста заработной платы по мере накопления специфического человеческого капитала значительно короче, а отдача от инвестиций в него значительно меньше, чем в большинстве других стран. Это едва ли удивительно, если вспомнить, как мало и неохотно российские предприятия инвестируют во внутрифирменное обучение работников.
В связи с этим можно предположить, что наблюдаемая премия за «новый» специальный стаж связана с лучшим мэтчингом «старожилов» по сравнению с «новичками», а постепенное повышение качества мэтчинга могло стать тем фактором, который вызвал появление положительной отдачи от специального стажа в 2000-е годы. Появление такой премии, в свою очередь, могло отрицательно повлиять на интенсивность межфирменной трудовой мобильности, о чем свидетельствуют увеличение средней продолжительности специального стажа и уменьшение доли «новичков» с коротким стажем.
Впрочем, нельзя исключить, что со временем ослабление межфирменной мобильности, которое наблюдается все последние годы, заставит участников рынка труда внести определенные коррективы в свое поведение. В изменившихся условиях и работникам, и предприятиям может стать выгоднее инвестировать в специфический человеческий капитал, так что и отдача от него, возможно, начнет возрастать. Проверка этого предположения – задача будущих исследований.
Приложение П8
Рис. П8-1. Динамика средней продолжительности специального стажа по альтернативным источникам данных, 1995–2014 гг., лет
Источники: расчеты авторов по данным РМЭЗ ВШЭ, ОНПЗ и ОЗПП.
Рис. П8-2. Динамика доли занятых, имеющих специальный стаж менее одного года, по альтернативным источникам данных, 1994–2014 гг., %
Источники: расчеты авторов по данным РМЭЗ ВШЭ, ОНПЗ и ОЗПП.
Рис. П8–3. Динамика структуры занятости по числу лет специального стажа, 1994–2014 гг., расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ, %
Рис. П8-4. Распределение занятых по группам с разной продолжительностью специального стажа на данных РМЭЗ ВШЭ, ОНПЗ и ОЗПП, 2013 г., %
Рис. П8–5. Средний специальный стаж, Россия и страны – члены ОЭСР, 2014 г., лет
Источники, данные статистики ОЭСР (stats.oecd.org). Данные по России – расчеты авторов.
Рис. П8-6. Доля занятых со специальным стажем менее одного года в России и странах – членах ОЭСР, 2014 г., %
Источники, данные статистики ОЭСР (stats.oecd.org). Данные по России – расчеты авторов.
Рис. П8–7. Средний специальный стаж у работников разных возрастов в 1994 г. и 2014 г., расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ, лет
Рис. П8-8. Доля занятых со стажем до одного года по возрастным группам, 1994–2014 гг., расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ
Рис. П8–9. Доля занятых со стажем до одного года по отраслям экономики, 2004–2014 гг., расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ
Рис. П8-10. Доля занятых со стажем до одного года в фирмах и организациях разной формы собственности, 1994–2014 гг., расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ
Рис. П8-11. Доля занятых со стажем до одного года по размеру предприятия, 2004–2014 гг., расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ
Примечания. «Наблюдаемые» кривые отражают динамику, прослеживаемую на исходных данных, без контроля каких-либо изменений в структуре занятости. «Скорректированные» кривые отражают динамику с учетом изменений в структуре занятости. Все расчеты выполнены на основе уравнения (8–1) – для среднего стажа и уравнения (8–2) – для доли занятых с коротким стажем на данных РМЭЗ ВШЭ.
Рис. П8-12. Динамика среднего уровня специального стажа и доли занятых с коротким стажем в 1995–2014 гг. относительно 1994 г.
Таблица П8-1. Показатели специального стажа среди различных групп занятых, расчеты на данных РМЭЗ ВШЭ в среднем за 1994–2014 гг.
Таблица П8-2.
Структура выборки РМЭЗ ВШЭ в 1994 и 2014 гг., %
Таблица П8-3. Связь между длительностью специального стажа и различными характеристиками работников и рабочих мест (оценки на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.)
Примечания.*** p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1. Контролировались: годовые и региональные дамми (на уровне psu). Стандартные ошибки коэффициентов рассчитаны методом, робастным к гетероске-дастичности, и с учетом кластеризации ошибок внутри индивидов.
Таблица П8-4. Связь между вероятностью иметь короткий стаж и различными характеристиками работников и рабочих мест (оценки на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.)
Примечания. ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1. Контролировались: годовые и региональные дамми (на уровне psu). Стандартные ошибки коэффициентов рассчитаны методом, робастным к гетероске-дастичности, и с учетом кластеризации ошибок внутри индивидов.
Таблица П8–5. Влияние структуры занятости и отдельных ее элементов на изменение средней величины специального стажа в 1994–2014 гг. (общее изменение среднего стажа = –0,100)
Примечания. Все значения представлены в лог-пунктах. Столбец 1 показывает, как бы изменился средний стаж с 1994 г. по 2014 г., если бы общая структура занятости или один из ее компонентов не менялись. Столбец 2 показывает разницу между общим изменением среднего стажа и величиной, представленной в столбце 1. Эти величины характеризуют вклад каждого фактора в общее изменение специального стажа. Эти вклады необязательно должны давать в сумме общее изменение среднего стажа.
Таблица П8-6. Результаты оценивания МНК уравнения (8–3) для мужчин, данные РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Региональные дамми (на уровне psu) контролируются. Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Таблица П8-7. Кумулятивные премии за специальный стаж у женщин в частном и государственном секторах, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне;– значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Таблица П8-8.
Кумулятивные премии за специальный стаж в частном и государственном секторах у женщин при разных способах учета неоднородности человеческого капитала, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; * – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
–
Таблица П8-9. Кумулятивные премии за «старый» и «новый» специальный стаж в частном и государственном секторах у женщин, оценки МНК на данных РМЭЗ ВШЭ, 1994–2014 гг.
Примечания. *** – значимость на однопроцентном уровне; ** – значимость на пятипроцентном уровне; – значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Таблица П8-10. Кумулятивная премия за общий трудовой стаж у мужчин, занятых в частном секторе, оценки по методу Топеля (2SFD) и Алтонжи – Шакотко (IV1 и IV2) в сравнении с оценками МНК, 1994–2014 гг.
Примечания. ***– значимость на однопроцентном уровне; **– значимость на пятипроцентном уровне; *– значимость на десятипроцентном уровне. Контролируются: потенциальный трудовой стаж (1–4 степени), уровень образования, семейный статус, часы работы, регион проживания (уровень psu). Стандартные ошибки оцениваются с учетом гетероскедастичности и кластеризации, кластером выступает индивид.
Литература
В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014.
Мальцева И.О. Гендерные различия в профессиональной мобильности и сегрегация на российском рынке труда: Working Paper № 05/11. М.: EERC, 2005.
Мальцева И.О. Трудовая мобильность и стабильность: насколько высока отдача от специфического человеческого капитала в России? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 2. С. 243–278.
Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в человеческий капитал в переходный период в России: Российская программа экономических исследований. Научный доклад № 99/04. М.: EERC, 1998.
Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991–2000 гг.) / под ред. Т. Малевой. М.: Теис, 2002.
Ощепков А. Проблемы измерения специального стажа на данных РМЭЗ ВШЭ: Препринт серии «Проблемы рынка труда» WP3/2016/04. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2016.
Российский работник: образование, профессия, квалификация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.
Шарунина А. Является ли российский «бюджетник» «неудачником»? Анализ межсекторных различий в оплате труда // Экономический журнал ВШЭ. 2013. Т. 17. № 1. С. 75–107.
Altonji J., Shakotko R. Do Wages Rise with Job Seniority? // Review of Economic Studies. 1987. Vol. 54. № 3. P. 437–459.
Altonji J.G., Williams N. Do Wages Rise with Job Seniority? A Reassessment // Industrial and Labour Relations Review. 2005. Vol. 58. № 3. P. 370–397.
Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
Bird E.J., Schwarze J., Wagner G.G. Wage Effects of the Move Toward Free Markets in East Germany // Industrial and Labor Relations Review. 1994. Vol. 47. № 3. P. 390–400.
Bratsberg B., Terrel D. Experience, Tenure, and Wage Growth of Young Black and White Men // Journal of Human Resources. 1998. Vol. 33№ 3. P. 658–682.
Buhai S., Portela M., Teulings C., Van Vuuren A. Returns to Tenure or Seniority?: IZA Working Paper № 3302. Bonn: IZA, 2008.
Copeland C. Employee Tenure Trends, 1983–2014 // Employee Benefit Research Institute Notes. 2015. Vol. 36. № 2. P. 2–9.
De Grip A., van Loo J., Mayhew K. (ed.) The Economics of Skills Obsolescence // Research in Labor Economics. Vol. 21. Amsterdam: Emerald Group Publishing Limited, 2002.
Deelen A. Wage-Tenure Profiles and Mobility: CPB Discussion Paper № 198. The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2012.
Dohmen T., Falk A., Huffman D., Sunde U., Schupp J. Individual Risk Attitudes: Measurement, Determinants, and Behavioral Consequences // Journal of the European Economic Association. 2011. Vol. 9. № 3. P. 522–550.
Dustmann Chr., Meghir C. Wages, Experience and Seniority // Review of Economic Studies. 2005. Vol. 72. № 1. P. 77–108.
Farber H. Employment Insecurity: The Decline in Worker-firm Attachment in the United States: Working Paper № 530. Princeton: Princeton University, 2008.
Farber H. Job Loss and the Decline in Job Security in the United States // Abraham K.G., Spletzer J.R., Harper M. (eds.) Labor in the New Economy. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
Gimpelson V., Oshchepkov A. Does More Unemployment Cause More Fear of Unemployment? // IZA Journal of Labor & Development. 2012. Vol. 1. № 6.
HyattH.R., Spletzer J.R. The Shifting Job Tenure Distribution: IZA Discussion Paper № 9776. Bonn: IZA, 2016.
Jovanovic B. Job Matching and the Theory of Turnover // Journal of Political Economy. 1979. Vol. 87. № 5. P. 972–990.
Kertesi G., Kollo J. Economic Transformation and the Revaluation of Human Capital – Hungary, 1986–1999 // Research in Labor Economics. 2001. Vol. 21. P. 235–273.
Lazear E.P. Agency, Earnings Profiles, Productivity, and Hours Restrictions // American Economic Review. 1981. Vol. 71. № 4. P. 606–620.
Lazear E.P. Why Is There Mandatory Retirement? // Journal of Political Economy. 1979. Vol. 87. № 6. P. 1261–1284.
Lefranc A. Labor Market Dynamics and Wage Losses of Displaced Workers in France and the United States: William Davidson Institute Working Paper № 614. 2003.
Lehmann H., Wadsworth J. Tenures That Shook the World: Worker Turnover in Russia, Poland, and Britain // Journal of Comparative Economics. 2000. Vol. 28. № 4. P 639–664.
Lemeieux T. The «Mincer Equation» Thirty Years After Schooling, Experience, and Earnings // Grossbard S. (ed.) Jacob Mincer a Pioneer of Modern Labor Economics. Springer, 2006. P. 127–145.
Mincer J. Schooling, Experience and Earnings. N.Y.: Columbia University Press, 1974.
Mincer J., Jovanovic B. Labor Mobility and Wages // Studies in Labor Markets / ed. by Sh. Rosen. Chicago: University of Chicago Press, 1981. P. 21–63.
Munasinghe L., Reif T., Henriques A. Gender Gap in Wage Returns to Job Tenure and Experience // Labour Economics. 2008. Vol. 15. №. 6. P. 1296–1316.
Muravyev A., Oshchepkov A. The Effect of Doubling the Minimum Wage on Employment: Evidence from Russia // IZA Journal of Labor & Development. 2016. Vol. 5. № 6.
NeumarkD., Polsky D., Hansen D. Has Job Stability Declined Yet? New Evidence for the 1990’s // Journal of Labor Economics. 1999. Vol. 17. № 4. S. 29–64.
OrlowskiR., Riphahn R.T. The East German Wage Structure after Transition // Economics of Transition. 2009. Vol. 17. № 4. P. 629–659.
Sabirianova K. The Great Human Capital Reallocation: A Study of Occupational Mobility in Transitional Russia // Journal of Comparative Economics. 2002. Vol. 30. № 1. P. 191–217.
Topel R.H. Specific Capital, Mobility, and Wages: Wages Rise with Job Seniority // Journal of Political Economy. 1991. Vol. 99(1). P. 145–176.
Williams N. Seniority, Experience and Wages in the UK // Labour Economics. 2009. Vol. 16(3). P. 272283.
Zwick Th. The Employment Consequences of Seniority Wages: ZEW Discussion Paper № 08-039. Mannheim: ZEW, 2008.
Глава 9 «Люди сосланы делами, люди едут за деньгами…»[116]
9.1. Введение
Обсуждение проблем трудовой мобильности будет неполным без разговора о миграции. Мигранты, как постоянные, так и временные, создают значительные потоки на российском рынке труда. В России, стоящей перед лицом демографического спада, постоянная миграция частично компенсирует потери от естественной убыли населения, а временная восполняет недостающие трудовые ресурсы в секторах, не востребованных со стороны местных жителей. Оценка и прогнозирование количества и качества миграционных потоков оказываются критически важными для анализа процессов, происходящих на российском рынке труда.
Общественный и исследовательский интерес к миграционным процессам в принимающей стране, в том числе и в России, связан с тем воздействием, которое мигранты оказывают на отправляющую и принимающую страны. Распространено мнение о негативном влиянии мигрантов на зарплату и занятость коренных жителей. Однако размеры таких эффектов, обнаруженные исследователями, оказались достаточно скромными [Kerr, Kerr, 2011; Longhi et al., 2008]. Приток мигрантов оказывает разностороннее влияние на экономику принимающей страны. Помимо рынка труда меняется рынок жилья, расширяется спрос на местные товары и услуги, может активизироваться международная торговля с отправляющими мигрантов странами [Simon, 1999], меняется географическая мобильность местных жителей [Mocetti, Porello, 2010; Borjas, 2006]. Все эти явления еще не получили должной научной оценки в России.
Глава начинается с определения основных понятий и обзора источников данных о миграции и мигрантах. Доступные макроданные используются в работе для описания общих тенденций трудовой миграции и состава иностранных работников с точки зрения стран происхождения, каналов миграции, социально-демографических характеристик и видов деятельности. Далее на примере Таджикистана в 2007 и 2009 гг. более детально рассматриваются характеристики мигранта и его домохозяйства, поведение и положение мигранта на российском рынке труда. Во-первых, анализируются заработки таджикских мигрантов относительно заработков российских работников. Во-вторых, выявляются факторы, влияющие на выбор мигрантами места работы в России.
9.2. Основные определения
Анализ трудовой мобильности на российском рынке труда в силу особенностей природы статистической информации проводится, как правило, для постоянного населения страны. Но на мобильность и на предложение труда в России влияет многотысячный приток мигрантов из-за рубежа. В российских средствах массовой информации и в общественном сознании миграция, как правило, отождествляется именно с временными трудовыми мигрантами, или гастарбайтерами. Но это неверно. Международных мигрантов в зависимости от полученных ими правовых статусов, отражающих цели миграции и продолжительность пребывания в стране приема, разделяют на две категории. К первой категории (постоянные мигранты или иммигранты) относятся мигранты, которые прибыли в страну с целью постоянного (длительного) проживания. Во вторую категорию (временные мигранты) попадают мигранты, которые прибыли в страну приема на время – для работы, обучения, лечения и пр., – по окончании которого должны покинуть ее.
Критерии определения постоянных мигрантов или иммигрантов в России неоднократно менялись за последнюю четверть века. В настоящее время к ним относят российских граждан, прибывших на постоянное место жительства из-за рубежа, иностранцев, получивших вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также всех лиц, прибывших из-за рубежа и зарегистрированных по месту пребывания на срок от 9 месяцев и более. Именно постоянные, а не временные мигранты пополняют численность постоянного населения страны. Благодаря постоянной миграции за период с 1992 г. по 2015 г. население России увеличилось на 8,9 млн человек. Без столь значительного миграционного прироста численность трудоспособного контингента страны в начале 2015 г. была бы на 6 млн человек меньше. В целом российский рынок труда быстро и безболезненно поглотил иммигрантов, подавляющее большинство которых (99 %) переселились из бывших союзных республик [Lazareva, 2015]. Этому способствовала их культурная близость населению России, сравнительно высокий уровень образования и высокий спрос на рабочую силу. Но заметная часть массового иммиграционного притока в 1990-х годах была обусловлена скорее политическими, а не экономическими факторами. Значение последних стало возрастать с 2000-х годов по мере нарастания различий по уровню жизни между Россией и бывшими союзными республиками.
Однако в центре внимания данной главы находится не постоянная, а временная трудовая миграция. Трудовым мигрантом по определению, принятому Генеральной Ассамблеей ООН, считается «лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является»[117]. В отличие от постоянной, трудовая миграция обусловлена исключительно экономическими факторами. По количеству принимаемых трудовых мигрантов Россия находится среди мировых лидеров. Так, в 2014 г. иностранцам было оформлено более 3,7 млн разрешительных документов на работу. Для сравнения укажем, что в США в 2013 г. было выдано 2,1 млн виз для работы по найму [Foreman, Monger, 2014].
9.3. Осторожно: статистика
Трудовые мигранты, за исключением тех, кого регистрируют по месту пребывания на 9 месяцев и более, не включаются в число постоянных жителей страны. До недавнего времени период трудовой деятельности большинства иностранных работников ограничивался одним годом. Исключение составляли те из них, кому трудовой контракт продлевался еще на полгода, и немногочисленная категория высококвалифицированных специалистов, которым разрешение на работу выдается на срок до трех лет. С 2015 г. у иностранцев – обладателей патентов на осуществление трудовой деятельности появилась возможность продлевать срок работы до двух лет.
Российская государственная статистика внешней трудовой миграции основана на учете разрешительных документов на работу, включая разрешения на работу и патенты, на уведомлениях работодателей о найме иностранных работников, а также на сведениях о регистрации по месту пребывания с целью «работа». Фактически она начала складываться после принятия в 2002 г. Федерального закона «О Правовом положении иностранных граждан». С тех пор статистика, как и само миграционное законодательство, находится в состоянии непрерывного реформирования. По этой причине следует аккуратно интерпретировать ряды динамики трудовой миграции и вместе с тем помнить о нескольких миллионах незаконных трудовых мигрантов, не попадающих в статистическую отчетность.
В отличие от большинства стран – членов ОЭСР, в России национальные выборочные обследования не являются значимым источником информации о трудовой миграции. В обследованиях населения по проблемам занятости (ОНПЗ), в отличие от большинства зарубежных аналогов (Labour Force Survey), задачи по изучению положения международных мигрантов не ставятся, что выражается в отсутствии нескольких стандартных «миграционных» вопросов в анкете. И хотя в выборку «случайно» попадает несколько тысяч иностранцев, данные по ним не разрабатываются. В сентябре 2014 г. было проведено федеральное статистическое наблюдение за использованием труда мигрантов домохозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Но его методология и результаты критически оцениваются экспертами и малоприменимы к изучению международной трудовой миграции.
В этих условиях повышается роль нерегулярных обследований, которые проводят различные научные институты с целью сбора недостающей информации о социально-экономических характеристиках мигрантов, об условиях, в которых они живут и работают в России и после возвращения на родину. Хотя принципы формирования выборки вызывают критику, в ряде обследований было опрошено несколько тысяч мигрантов. Среди них отметим опрос Центра этнополитических и региональных исследований в 2011 г., российский раунд межстранового опроса мигрантов из Таджикистана в России, проведенный в 2014 г. при поддержке Всемирного Банка. Недостаток информации из российских источников в определенной степени компенсируют обследования, проведенные в странах, являющихся основными миграционными партнерами России, в том числе в Таджикистане, Армении, Молдове, Киргизии. Результаты некоторых из упомянутых обследований использовались при подготовке данной главы.
9.4. Недавняя история
После распада СССР трудовая миграция в России, согласно статистическим оценкам, была немногочисленной. В период 1995–2000 гг. их ежегодная численность колебалась в интервале от 210 до 285 тыс. человек [Труд и занятость в России, 2001]. На легальном рынке труда в этот период преобладали граждане Украины (треть мигрантов) и стран дальнего зарубежья (более половины всех мигрантов), в основном из Китая и Турции. Но в первые постсоветские годы было сложно провести четкую границу между временной трудовой и постоянной миграцией, между законной и незаконной занятостью выходцев из бывших союзных республик из-за прозрачности границ, большого числа лиц с паспортами СССР и без российского гражданства, отсутствия законов, определяющих правовое положение иностранцев в новой исторической эпохе[118].
Возросшая значимость внешней трудовой миграции четко обозначилась с началом нового столетия. Необходимость массового притока иностранных работников была вызвана повышенным спросом на рабочую силу, особенно в таких отраслях, как строительство и транспорт, сфера услуг. Улучшение экономического положения на фоне других стран СНГ (за исключением Казахстана) давало гражданам последних дополнительный стимул отправиться за более высокими заработками в Россию. Так, в 2007 г. средняя зарплата в Таджикистане составляла 9 % от средней зарплаты по России, в Киргизии – примерно 20 %, в Молдове – около 30 % [119].
Появление новых миграционных законов и институтов позволило точнее определить правовой статус трудовых мигрантов и упорядочить процедуры его приобретения в масштабе всей страны. Принятый в 2002 г. Закон «О правовом положении иностранных граждан» унифицировал процедуры регистрации и выдачи разрешений на работу, что положительно повлияло на динамику численности трудовых мигрантов. Она увеличилась с 283 тыс. в 2001 г. до 570 тыс. человек в 2006 г. [Чудиновских, 2008].
Однако новые процедуры получения разрешений на работу в условиях высокого спроса на рабочую силу оказались сложными и продолжительными для мигрантов из стран СНГ и их работодателей. Этим объясняется тот факт, что значительная часть гастарбайтеров из бывших союзных республик работала нелегально, т. е. без оформления разрешительных документов[120]. Достаточные условия для распространения незаконной занятости мигрантов из стран СНГ создавал установленный с этими странами безвизовый режим пересечения границы со сроком возможного непрерывного пребывания на территории России до 90 дней, который легко можно было продлить, выехав из страны и практически сразу въехав в нее вновь[121]. В итоге из-за ухода части трудовых мигрантов из бывших союзных республик в «тень», граждане из стран дальнего зарубежья составляли более половины от численности всех оформленных иностранных работников.
С целью сокращения нелегальной миграции в 2006 г. были приняты поправки к Закону «О правовом положении иностранных граждан», которые упрощали процедуры регистрации по месту временного жительства и получения разрешения на работу для мигрантов из стран СНГ. Одновременно вводилась практика квотирования на выдачу гражданам из этих стран разрешений на работу[122]. Но первая квота на 2007 г. была огромной – 6 млн человек. Ее размер, по мнению авторов поправок, должен был покрывать всю трудовую миграцию – законную и незаконную. Благодаря этому многие мигранты узаконили свой статус, а их общая численность возросла с 570 тыс. в 2006 г. до 2,4 млн человек в 2008 г. При этом, по оценкам экспертов, доля легальных мигрантов увеличилась в общей численности иностранных работников с 5-10 % в 2000 г. до 35–40 % в 2007 г. [Зайончковская, Тюрюканова, 2009, с. 98]. Результатом изменений в законодательстве стало новое распределение мигрантов по странам происхождения. В 2008 г. на страны СНГ приходилось почти три четверти всех выданных разрешений на работу, а на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию – более половины всех трудовых мигрантов.
Временные трудовые мигранты заняли в основном «плохие» рабочие места (низкооплачиваемые, с тяжелыми условиями труда), малопривлекательные для российского населения [Кузьминов и др., 2013]. С 2007 г. деятельность иностранцев в отдельных сферах стала ограничиваться. Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ иностранцам полностью запрещалось торговать алкогольными напитками и фармацевтической продукцией, а также торговать вне магазинов[123]. В результате доля мигрантов, занятых в «оптовой и розничной торговле, ремонте бытовой техники», уменьшилась с 30 % в 2006 г. до 19 % в 2008 г., а доля занятых в других отраслях возросла на соответствующую величину, в том числе в строительстве с 38 до 42 %.
В последующие годы численность и состав трудовых мигрантов неоднократно менялись в результате колебаний экономической конъюнктуры и принятия новых нормативно-правовых актов. Так, во время экономического кризиса 2008–2009 гг., по оценкам экспертов, общий поток трудовых мигрантов сократился примерно на 15–20 %, а его легальная составляющая – на 30 % [Зайончковская, Тюрюканова, 2010, с.17]. В свою очередь, квота на выдачу разрешений на работу «рухнула» с 6 млн в 2007 г. до 3,4 млн в 2008 г., а с 2011 г. по 2014 г. она составляла порядка 1,7 млн человек. Начиная с 2009 г. размер квоты примерно соответствовал количеству поданных работодателями заявок на привлечение иностранных работников в течение ограниченного периода времени (с ноября по май) в региональные органы власти. С установлением квоты увязывалось решение задачи по определению потребностей работодателей в иностранной рабочей силе, в том числе по конкретным специальностям и квалификации. Но значительная часть предпринимателей, прежде всего, предприятия и организации малого бизнеса, физические лица, из-за установленных правил фактически были лишены возможности участвовать в процессе формирования квоты. Многие из них были вынуждены брать иностранных работников из числа граждан стран СНГ, легально въехавших в Российскую Федерацию без разрешений на работу, т. е. незаконно.
Для преодоления недостатков системы квотирования открывались новые «внеквотные» каналы трудовой миграции, в том числе для квалифицированных специалистов (с 2009 г.), для работы у физических лиц по патентам (с 2010 г.), для высококвалифицированных специалистов (с 2010 г.). Среди важных изменений в регуляторах трудовой миграции следует назвать отмену получения разрешительных документов для лиц, имеющих разрешение на временное проживание (с 2013 г.), а также упрощение порядка получения разрешений на работу для иностранных студентов (с 2013 г.). Эти законодательные меры в условиях быстрого восстановления экономики способствовали увеличению притока трудовых мигрантов после экономического кризиса 2008–2009 гг. Данные ФМС РФ[124] свидетельствуют, что максимальное количество разрешительных документов для работы в России было выдано иностранцам в 2014 г.: 3,4 млн, из них 1,3 млн – разрешения на работу, 2,1 млн – патенты. Более 95 % этих документов получили граждане стран СНГ с безвизовым режимом пересечения российской границы. Но эти цифры не включают граждан стран – участниц таможенного союза: Белоруссии и Казахстана. Поскольку им не требовалось получать разрешительные документы на работу, они не попадали в российскую статистику внешней трудовой миграции. С учетом работников из этих двух стран, а также иностранных граждан, постоянно проживавших в России с разрешением на временное проживание или видом на жительство, общее число легальных трудовых мигрантов в 2014 г. превышало 4 млн человек, а их общая численность составляла более 7 млн человек. Из них свыше 3 млн составляли незаконные мигранты.
В 2014 г. в России разразился новый экономический кризис, усиленный введенными антироссийскими санкциями в связи с событиями на Украине. Миграционную ситуацию осложнили прямые последствия военно-политического кризиса в этой стране – массовый приток лиц, ищущих убежище. В то же время, в конце 2014 – начале 2015 гг., значительные изменения произошли в миграционном законодательстве России. Все эти изменения отразились на численности и составе иностранных работников, на состоянии всех каналов, по которым прибывали трудовые мигранты: с разрешениями на работу и с патентами (см. табл. 9–1), без разрешительных документов в рамках единого рынка труда стран, образовавших в 2015 г. Евразийский экономический союз (ЕАЗС).
Таблица 9–1. Количество оформленных разрешительных документов на работу иностранным гражданам в России в 2010–2015 гг., тыс. человек
9.5. Тенденции последних двух лет
В 2014 г. в России действовало три вида разрешений на работу для иностранцев: (1) обычные разрешения, (2) разрешения для квалифицированных специалистов, (3) разрешения для высококвалифицированных специалистов.
Обычные разрешения на работу долгое время формировали основной канал трудовой миграции в Россию. Они выдаются на срок до одного года с возможностью продления на полгода. Количество выданных разрешений квотируется. В общей сложности за период с 2010 г. по 2014 г. было выдано около 6 млн таких разрешений (табл. 9–1). Большую их часть получили граждане Узбекистана (около 42 %), Таджикистана (15 %) и Украины (11 %). На страны дальнего зарубежья пришлось менее 15 % выданных разрешений. Но с 1 января 2015 г. все иностранные работники, прибывшие в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, должны приобретать патент[125]. С этого момента разрешения на работу выдаются иностранным гражданам, въехавшим в Россию по визе[126]. В 2015 г. им было выдано более 140 тыс. таких разрешений, или на 25 % меньше, чем в 2014 г. Половину из них получили граждане двух стран: Китая (около 52 тыс.) и Турции (21 тыс.).
Разрешения на работу квалифицированным специалистам выдаются представителям отдельных профессий, список которых ежегодно утверждается Министерством труда Российской Федерации. Первый такой список появился в 2009 г. и содержал только 17 профессий. К 2014 г. список расширился до 62 позиций, которые, в основном, занимали руководители организаций, инженерно-технические специалисты, работники культуры и искусства. Количество ежегодно выдаваемых разрешений квалифицированным специалистам не квотировалось и устойчиво увеличивалось, и в 2014 г. достигло максимума в 148 тыс. Контингент «квалифицированных специалистов» формировался преимущественно за счет граждан стран СНГ, для которых эти разрешения с 2015 г. также были заменены патентами. Начиная с этого года разрешения на работу квалифицированным специалистам выдаются только гражданам из стран с визовым режимом пересечения российской границы. В общей сложности в 2015 г. была выдана 21 тысяча таких разрешений, из них более половины получили граждане Китая и Турции.
Как уже отмечалось, в 2010 г. был открыт еще один канал трудовой миграции для привлечения в страну высококвалифицированных специалистов. Главным критерием определения высококвалифицированного специалиста является размер его заработной платы. Она должна составлять не менее 2 млн руб., а для преподавателей и научных работников – не менее 1 млн руб. в год[127]. В отличие от других программ, высококвалифицированные специалисты могут получить вид на жительство на срок до трех лет. В общей сложности с 2010 г. по 2014 г. было оформлено около 90 тыс. таких разрешений на работу. Свыше 90 % из них было выдано гражданам из стран дальнего зарубежья. В 2014–2015 гг. численность высококвалифицированных специалистов из стран ЕС, США и Канады сокращалась. Тем не менее количество выданных разрешений на работу этой категории трудовых мигрантов увеличивалось благодаря Китаю. В конце 2015 г. в России находилось около 36 тыс. высококвалифицированных специалистов, из них свыше 8 тыс. – граждане Китая, 7,5 тыс. – граждане стран, входящих в ЕС, 3,6 тыс. – граждане стран СНГ, 3 тыс. – граждане Турции.
С 2010 г. иностранные работники из стран с безвизовым режимом пересечения границы получили возможность работать у физических лиц по патенту, который приобретался для «выполнения работ или оказания услуг для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». В отличие от разрешений на работу количество патентов не квотировалось. Первоначальная стоимость патентов равнялась 1 тыс. руб. в месяц, к концу 2014 г. она увеличилась до 1,2 тыс. руб. Изначально миграция по патентам дополняла трудовую миграцию по обычным разрешениям на работу. Первая обслуживала домохозяйства, вторая – предприятия и индивидуальных предпринимателей. Но, как уже отмечалось, с начала 2015 г. патенты формировали главный канал поступления иностранной рабочей силы из стран с безвизовым режимом пересечения российской границы, т. е. из стран СНГ за исключением Туркмении. В настоящее время патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев. В дальнейшем он может продлеваться, но не более чем на год. Его стоимость регулируется региональными органами власти. Самые дорогие патенты в конце 2015 г. были в Москве (4200 руб.).
В общей сложности за 2010–2014 гг. было выдано 12,7 млн патентов, из них 48 % приобрели граждане Узбекистана и 21 % – граждане Таджикистана. Количество полученных патентов в 2015 г. (1,7 млн) было меньше, чем в 2014 г. (2,1 млн). Частично это связано с тем, что граждане Армении (с января 2015 г.) и Кыргызстана (со второй половины 2015 г.) после присоединения их стран к ЕАЗС получили возможность трудоустройства в России без разрешительных документов. Доля граждан этих стран в общем числе патентов в предыдущие годы не превышала 15 %.
Согласно данным ФМС МВД РФ, в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом количество всех выданных разрешительных документов на работу гражданам Узбекистана уменьшилось на 37 %, Таджикистана – на 32 %, Украины – на 50 %, Азербайджана – на 54 %, Молдовы – на 56 %. В среднем поток законных трудовых мигрантов из всех перечисленных выше стран, имеющих с Россией безвизовый режим пересечения границы, но не входящих в Евразийский экономический союз, уменьшился примерно на 40 %: с 2,8 до 1,7 млн человек.
Еще один канал открыт только для граждан стран – участниц Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия[128], Казахстан, Армения, Кыргызстан), в границах которого создается единый рынок труда. Гражданам этих стран разрешительных документов для работы на территории России не требуется. Но по этой причине существует проблема статистического учета данной группы иностранных работников. Косвенные данные, основанные на результатах миграционного учета (регистрации по месту пребывания), показывают, что в общей сложности в 2015 г. было поставлено на учет по месту пребывания с целью работы примерно 930 тыс. граждан из стран ЕАЭС[129].
В 2014–2015 гг., по оценкам ФМС РФ, число незаконных мигрантов уменьшилось с 3,6 млн до 2,7 млн человек. В результате «впервые за долгие годы численность законно работающих превысила число работающих без разрешительных документов» [Ромодановский, Мукомель, 2015]. В определенной степени этому помимо экономического кризиса способствовало ужесточение ответственности за нарушения миграционного законодательства, проведенное в 2013–2014 гг. Почти 2 млн иностранных граждан, преимущественно Узбекистана и Таджикистана, к середине 2016 г. запрещен въезд на территорию России на срок от 3 до 10 лет[130].
9.6. Сферы деятельности и демографические характеристики трудовых мигрантов
Как уже отмечалось, иностранные работники в основном заняли «плохие» рабочие места (низкооплачиваемые, с тяжелыми условиями труда), малопривлекательные для российского населения. В табл. П9-1 Приложения приведено распределение трудовых мигрантов, получивших разрешение на работу по профессиональным группам в 2014 г. Как видно, почти половина трудовых мигрантов из стран СНГ являлись рабочими в строительстве или неквалифицированными рабочими всех отраслей. Но с учетом тех, кто работал по патентам у физических лиц, и специфики их труда доля занятых соответствующими видами деятельности повышается до 80 %. Обобщенно эту ситуацию эксперты характеризуют как утечку «мускулов», а не «мозгов» [Денежные переводы… 2006, с. 36]. Многие мигранты из стран СНГ, которые были заняты дома в государственном управлении, здравоохранении и образовании, поменяли сферу своей деятельности на рабочие места, не соответствующие уровню их образования и квалификации. Смена мигрантами профессии и места работы на территории России приводит к усилению концентрации иностранных работников в определенных видах экономической деятельности (торговле, строительстве, ЖКХ, транспорте) [Варшавская, Денисенко, 2014, с. 73]. Отметим, что среди постоянных жителей России доля занятых в строительстве и на работах, не требующих квалификации, примерно равнялась 15 %. В то же время почти 60 % всех трудовых мигрантов из стран ЕС представляли руководители, ученые и инженеры. Среди постоянного населения России в соответствующие профессиональные группы попадало 30 % работников.
Образовательная и демографическая структуры трудовых мигрантов отражают спрос на иностранную рабочую силу на российском рынке труда. Так, среди иностранных работников отмечается явное мужское преобладание. В 2014 г. на 100 мужчин, получивших разрешения на работу, приходилось 18 женщин. Среди обладателей патентов на 100 мужчин приходились 23 женщины. Трудовые мигранты молоды: почти 40 % из них находятся в возрасте от 18 до 29 лет. Среди постоянных жителей России на эту возрастную группу приходится 17 % от их общей численности. [131]
Многочисленные мигранты новых, постсоветских, поколений из государств Центральной Азии, по результатам различных обследований и переписей населения 2002 и 2010 гг., отличаются более низкими уровнями образования, знания русского языка, профессионально-квалификационной подготовки по сравнению со старшими поколениями. Обследование, проведенное в ноябре 2011 г. Центром этнополитических и региональных обследований среди почти 9 тыс. мигрантов, показало, что более 20 % из самой многочисленной группы мигрантов – граждан государств Центральной Азии – не владеют русским языком. Почти 65 % из них имеют среднее общее и неполное среднее образование. Изменения в миграционном законодательстве в 2010 г., направленные на привлечение высококвалифицированных специалистов, в силу малочисленности последних не оказали заметного влияния на общую профессионально-квалификационную структуру потока в Россию иностранной рабочей силы.
Многомиллионная трудовая миграция не могла не отразиться на состоянии российского рынка труда и экономики, на положении самих мигрантов и членов их семей, а также на экономике стран, посылающих мигрантов. Из перечисленных трех сюжетов наиболее изученным является последний, поскольку денежные переводы мигрантов из России хорошо измеряются и в значительной степени определяют экономическую ситуацию в Таджикистане, Армении, Молдове, Киргизии, Узбекистане. Но до сих пор остаются без четкого ответа вопросы о влиянии трудовой миграции на заработную плату россиян, на их занятость и уровень благосостоянии. Также требует дальнейшего изучения положение трудовых мигрантов, как во время пребывания в России, так и на родине после возвращения с заработков.
В условиях дефицита необходимых данных исследователи пытаются ответить на интересующие их вопросы, опираясь на административные источники данных, или на результаты отдельных негосударственных обследований. Так, Коммандер и Денисова [Commander, Denisova, 2012], используя данные заявок на миграционные квоты, показали, что, за исключением некоторых фирм (как правило, это высокопроизводительные, крупные и/или иностранные компании), иностранные работники зарабатывают меньше местных. Также используя данные квотных заявок, Вакуленко и Леухин (2015) исследовали влияние характеристик регионов, фирм и личных характеристик мигрантов на спрос на их труд. В дальнейшем авторы использовали эти данные для анализа разрыва заработных плат между мигрантами и российскими работниками [Вакуленко, Леухин, 2016]. Ими был найден существенный разрыв в заработках за счет отдачи на наблюдаемые характеристики. Очевидным недостатком использования административных источников является недоучет незарегистрированных мигрантов, а также возможные ошибки.
В следующих разделах на примере трудовых мигрантов из Таджикистана мы рассмотрим два малоизученных аспекта положения трудовых мигрантов в России. Первый из них связан с соотношением заработков трудовых мигрантов и российских работников. Насколько велик разрыв в заработках? Можно ли говорить о дискриминации мигрантов на российском рынке труда? Второй относится к факторам, влияющим на выбор мигрантами регионов, в которых они будут работать в России. Эмпирической базой исследования послужил опрос домохозяйств Таджикистана за 2007 и 2009 гг.
9.7. Трудовые мигранты в России: случай Таджикистана
Одним из возможных источников информации о трудовой миграции являются опросы домохозяйств в отправляющих странах. В случае, когда участие в миграции широко распространено среди домохозяйств в отправляющей стране, репрезентативный опрос способен охватить достаточно большое количество домохозяйств и индивидов с миграционным опытом. Содержащаяся в подобных опросах информация о различных сторонах жизни домохозяйства и его членов позволяет изучать широкий спектр вопросов, связанных с характеристиками мигрантов и их домохозяйств, а также с влиянием миграции на отправляющие семьи. Достоинство опросных данных – учет как легальных, так и нелегальных мигрантов, а также как вернувшихся, так и находящихся за рубежом. Дополнительным преимуществом является возможность наблюдать домохозяйства в динамике (панельная структура данных). При этом невозможно учесть миграцию домохозяйства в целом. Кроме того, при долгом отсутствии индивид может выпадать из состава домохозяйства, поэтому такие данные подходят именно для анализа временных форм миграции.
В данном разделе главы мы приводим результаты, основанные на анализе опроса домохозяйств в одной из ключевых для России отправляющих стран – Таджикистане. Как отмечалось выше, Таджикистан занимает второе место среди стран, отправляющих в Россию трудовых мигрантов. Источником информации о мигрантах из Таджикистана в России являются данные обследования уровня жизни[132] (Tajik Living Standards Survey – TLSS), которое проводилось Государственным комитетом статистики Республики Таджикистан при участии Всемирного Банка (World Bank) и ЮНИСЕФ (UNICEF) в октябре – ноябре 2007[133]и 2009[134] гг. Это большой репрезентативный опрос домохозяйств, содержащий блоки вопросов об условиях жизни, здоровье, образовании, участии в рынке труда и других сторонах жизни членов домохозяйства, в том числе и о внешней миграции[135].
Случай Таджикистана интересен, поскольку является ярким примером влияния миграции на экономику слаборазвитой страны-донора. На протяжении последней четверти века в Таджикистане наблюдался самый низкий уровень ВВП на душу населения на постсоветском пространстве, а уровень бедности[136] достигал 32 % в 2014 г.[137] Ответом на тяжелое экономическое положение в стране стало широкое распространение трудовой миграции как стратегии выживания домохозяйств. В результате активного участия жителей Таджикистана в трудовой миграции и слабости собственной экономики страна оказалась крайне зависима от денежных переводов мигрантов. В пиковые 2008 и 2013 годы их объем составлял почти 50 % от ВВП. По этому отношению страна занимает первое место в мире.
Согласно данным опросов, в 2007 г. в миграцию были вовлечены 22 %[138] домохозяйств и 11 % мужчин трудоспособного возраста, а в 2009 г. уже 35 % и 18 % соответственно. Из домохозяйств, имевших мигрантов в 2009 г., 44 % не сообщали о мигрантах в опросе 2007 г. Мигрантов из таких домохозяйств мы считаем «новыми»[139], а мигрантов из домохозяйств с опытом миграции в 2007 г. – «повторными».
В Таджикистане мигрантами, как правило, становились представители крупных сельских домохозяйств, в которых доля членов семьи трудоспособного возраста выше, чем в среднем по стране. «Новые мигранты» 2009 г. чаще происходят из менее крупных городских домохозяйств, имеющих, однако, похожий демографический состав.
В 2007 г. более чем 90 % работников из Таджикистана составляли мужчины, средний возраст которых равнялся 30 годам, 75 % из них имели уровень образования «общее среднее и ниже». Около 80 % мигрантов заявили, что владеют русским языком. Повторные мигранты в 2009 г. имели сходный половозрастной состав и несколько более низкий уровень образования, при этом лучше знали русский язык.
Для трудовой миграции из Таджикистана были характерны следующие черты. Во-первых, поток мигрантов имел четкий географический вектор: более 96 % всех мигрантов в 2007 г. и 98 % в 2009 г. направлялись в Россию. Причем более 50 % в 2007 г. и более 60 % в 2009 г. – в Москву[140], остальные распределялись между другими крупными промышленными центрами. Во-вторых, поездки, как правило, имели краткосрочный характер (средняя длительность поездки у вернувшихся мигрантов 12 месяцев в 2007 г. и 7 месяцев в 2009 г.). В-третьих, в большой степени миграция имела полулегальный характер: в 2009 г. только 63 % мигрантов имели регистрацию, а разрешение на работу в 2007 г. имели только 55 % мигрантов.
В своем большинстве мигранты из Таджикистана были заняты в качестве рабочих в строительстве (56 % в 2007 г., 40 % в 2009 г.), торговле (около 10 %) и неквалифицированных рабочих в различных отраслях (23 % в 2007 г. и 40 % в 2009 г.). Насколько успешно мигранты трудоустраивались? В 2009 г. 86 % (вернувшихся) мигрантов ответили, что нашли занятость во время последней поездки, тогда как в 2007 г. – 100 %. При этом в 2009 г. 28 % мигрантов нашли работу до выезда из Таджикистана, тогда как в 2007 г. это сделали 38 %. В 2009 г. 85,5 % всей выборки и 90 % в 2007 г. сообщали информацию о доходах. Средний заработок таджикских мигрантов в России составлял чуть более 300 долл. США в месяц. Более 80 % мигрантов (по данным 2007 г.) высылали переводы своему домохозяйству, при этом средний перевод составлял около 60 % дохода мигранта за границей (табл. 9–2).
Таблица 9–2. Характеристики последней поездки мигрантов
Примечания. В таблице приводятся взвешенные средние значения. * – выборка: только мигранты, находящиеся за границей; **– выборка: только мигранты, находящиеся дома.
В процессе миграции определяющую роль играют связи, что видно по ответам на вопросы о последней поездке. Около 55 % мигрантов говорят о связях с друзьями, родственниками и знакомыми как об основной причине выбора страны миграции. Связи играют определяющую роль в процессе поиска работы: более 50 % мигрантов получили информацию о работе от друзей и родственников за границей и еще 31 % от родственников, друзей в Таджикистане [Чернина, 2016].
9.8. Сколько зарабатывают мигранты?
Экономическая литература много внимания уделяет анализу соотношения зарплат местных работников и мигрантов. Интерес к этой теме имеет несколько причин. Во-первых, объяснение различий в заработках помогает определить отношение рынка труда к мигрантам (наличие дискриминации) и поэтому полезно для выработки миграционной политики. Во-вторых, важно понять, как мигранты соотносятся с местными работниками по своим навыкам. Как следует из обзора Борхаса [Borjas, 1999], мигранты оказывают положительное влияние на заработки работников в принимающей стране, к которым они комплементарны, и негативное, если они являются субститутами. В-третьих, проследив динамику необъясненной части различий на индивидуальном уровне, можно определить темп экономической ассимиляции мигрантов.
Каковы заработки мигрантов по сравнению с заработками россиян? Первый шаг для ответа на этот вопрос предполагает сравнение распределения зарплат мигрантов и российских работников. Однако простое сравнение размера заработков ничего не может сказать об источниках возникновения различий. Таких источника два: различия в производительных характеристиках работников (наблюдаемые и ненаблюдаемые) и особенности организации рынка труда. Декомпозиционные методы дают возможность частично выявить причины возникновения разницы в средних значениях, а именно отделить разницу в заработках за счет различий в наблюдаемых характеристиках от разницы в заработках за счет отдач от этих характеристик.
Остановимся немного подробнее на том, в чем экономическая теория видит причины возникновения различий в заработках между сходными по наблюдаемым характеристикам работниками (будем называть такие различия разрывом в заработках). Такой разрыв может существовать по двум основным причинам: из-за дискриминации мигрантов на рынке труда принимающей страны и из-за различий в ненаблюдаемых характеристиках между мигрантами и местным населением.
В литературе описано несколько возможных механизмов дискриминации на рынке труда, связанной с определенными наблюдаемыми характеристиками (например, пол, возраст, расовая принадлежность и др.). Первый механизм предполагает, что «вкус к дискриминации» является составляющей предпочтений работодателя [Becker, 1957]. Второй механизм – «статистическая дискриминация» – возникает из-за неполной информированности работодателя о производительных характеристиках работника, вынужденного назначать зарплату на уровне средней производительности труда работников данной группы [Phelps, 1972; Arrow, 1971]. Наконец, для дискриминируемой группы может быть закрыт вход в определенные (более доходные) сегменты рынка труда. Эмпирически такая форма дискриминации проявляется как разделение рынка труда на «мигрантские» и «немигрантские» сегменты [Tomaskovic-Devey, 1993]. Концентрация мигрантов в определенных узких сегментах ведет к избыточному предложению труда и, соответственно, снижению заработных плат.
Другим источником разрыва могут быть различия в ненаблюдаемых и неучтенных характеристиках. Примером ненаблюдаемых характеристик могут быть способности, склонность к риску, наличие связей и т. д. Ненаблюдаемые характеристики в том случае, если они скоррелированы с наблюдаемыми, смещают оценки отдачи от последних. Это может приводить к появлению разрыва в наших оценках, тогда как истинные различия в заработках вызваны разницей в ненаблюдаемых характеристиках. Например, неучет способностей ведет к завышенной оценке отдачи от образования в том случае, если более способные имеют более высокий уровень образования. Если связь способностей с образованием у местных работников и мигрантов отличается[141], то оценки разрыва в заработках за счет отдачи от образования будут смещены. Важной неучтенной характеристикой в нашем случае является резервная зарплата. Для временных мигрантов резервная зарплата низка (она определяется возможной зарплатой на родине), что создает основы для ценовой дискриминации со стороны работодателя.
Важным понятием, обсуждаемым в связи с различиями в заработках мигрантов и местных, является понятие специфического (для страны) человеческого капитала. Идея состоит в том, что накопленный человеческий капитал включает знания и навыки, ценные (специфичные) только для той страны, в которой они были получены. В итоге при переезде этот человеческий капитал частично обесценивается. Таким образом, мигранты, не обладая человеческим капиталом, специфичным для принимающей страны, изначально проигрывают местному населению. Однако они могут инвестировать в специфический для рынка труда принимающей страны человеческий капитал.
Существует значительная эмпирическая литература, исследующая различия в зарплатах мигрантов и местного населения в разных странах, в разные периоды времени и с использованием разных типов данных. В большинстве работ речь идет о постоянных мигрантах. Начиная с работы Б. Чисвика [Chiswick, 1978] в литературе обсуждается вопрос о сходимости заработков мигрантов и местных работников со временем. В случае временных мигрантов К. Дастманн [Dustmann, 1993] не находит такой сходимости, что можно объяснить более низкими, чем у постоянных мигрантов, стимулами инвестирования в специфический для принимающей страны человеческий капитал.
Анализ различий в зарплатах мигрантов и местных работников. Доход[142] мигрантов и россиян[143] отличается как в среднем, так и по всему распределению (рис. 9–1). Распределение заработков мигрантов за два года практически не меняется (среднее растет с 9,4 до 10 тыс. руб. в ценах 2009 г., или на 6 %), а распределение доходов россиян более заметно сдвигается вправо (среднее выросло с 13,6 до 15 тыс. руб., т. е. на 9,3 %). Описанное изменение может являться следствием реформ, повысивших уровень зарплат низкодоходной части распределения (например, повышение МРОТа или оплаты труда бюджетников в 2007 г.). Кроме того, можно предполагать влияние кризиса 2008 г., который изменил распределение доходов для граждан России и не повлиял значительно на распределение доходов для мигрантов.
Рис. 9–1. Плотность распределения логарифма заработков местного населения России (мужчины трудоспособного возраста) и мигрантов из Таджикистана
Дальнейший анализ поможет выявить, чем объясняются различия в заработках мигрантов и местных работников. Используемый метод декомпозиции позволяет разложить разницу в средних доходах на разницу за счет наблюдаемых характеристик и разницу за счет отдач от них. _
Опишем коротко методологию анализа. Пусть – средняя зарплата мигранта в экономике, а – средняя зарплата местного работника. Обозначим Δ0 различие в этих величинах:
(9–1)
Допустим, что зарплата работника i из группы g зависит от его наблюдаемых характеристик X и ненаблюдаемых характеристик ε таким образом, что
(9–2)
где X – вектор характеристик индивида; β – вектор отдач на них; ε – случайная ошибка. Тогда разница в средних зарплатах выражается как
(9–3)
Это выражение может быть разложено на три компоненты следующим образом [Daymont, Andrisani, 1984]:
(9–4)
Эта декомпозиция содержит в себе три члена:
Δ0 = ΔX + ΔS + ΔSX. (9–5)
Они имеют следующую интерпретацию.
ΔX показывает разницу в средних заработках за счет межгрупповых различий в наделенности характеристиками; другими словами, ΔX показывает различие в зарплатах между двумя мигрантами, один из который имеет средние для своей группы характеристики, а другой – средние характеристики местных работников;
Δ S показывает различие в зарплатах за счет различий в отдачах от характеристик, это так называемая необъясненная часть декомпозиции или разрыв в заработных платах в нашей терминологии; сравниваются зарплаты идентичных по характеристикам мигранта и местного работника.
Третий член разложения, ΔSX, учитывает тот факт, что существенные различия в характеристиках и отдачах от них, как правило, существуют одновременно. Это может наблюдаться в случае переменных, уровень которых выбирается индивидами. Существенные различия в выборе и отдаче от него между двумя группами будут являться отражением существенных различий в выгодах и издержках от альтернатив для представителей групп. Таким образом, компонент ΔSX будет отражать степень таких различий.
Мы выбираем трехчастное разложение вместо классического двухчастного разложения Оаксаки – Блайндера [Oaxaca, 1973; Blinder, 1973], поскольку мы ожидаем, что для мигрантов и местных работников существуют значительные различия в отборе в профессию и регион. Эти различия важно учесть в результатах разложения. Кроме того, наша цель – смоделировать ситуацию для мигранта, как «если бы он был местным работником». С одной стороны, это предполагает анализ различий между предсказанной зарплатой мигранта и его возможной зарплатой, если бы он получал такие же отдачи от своих характеристик, как местный работник. С другой стороны – если бы он имел характеристики, сходные с местными работниками, но те же отдачи.
Итак, для получения разложения (9–4) необходимо оценить коэффициенты отдач от наблюдаемых характеристик – β^. Для этого для двух групп оцениваются регрессионные уравнения заработной платы, которые должны включать одинаковый набор объясняющих переменных:
(9–6)
где – Ln (Wage) – логарифм месячной заработной платы; agegroup – пятилетняя возрастная группа; educ – уровень образования; prof – принадлежность к профессиональной группе по классификатору профессий ISCO-88; citysize – категория населенного пункта (Москва, Петербург, региональный центр, другой город); FD – федеральный округ. Набор объясняющих переменных ограничен имеющимися данными. Так, для мигрантов отсутствует показатель стажа, традиционно включаемый в число регрессоров.
Детальный результат разложения представлен в табл. П9-2. На рис. 9–2 показаны три основные компоненты декомпозиции. Различия в зарплатах даны в процентах от предсказанной зарплаты мигранта. Так, необъясненная часть разрыва оказалась равна 76 % в 2007 г. и 73 % в 2009 г. (разница статистически незначима). Необъясненная часть означает разницу между заработком одинаковых по характеристикам местного работника и мигранта. Анализ детальной декомпозиции (см. табл. П9-2) помогает понять основные источники существования разрыва. Необъясненная часть разрыва, главным образом, формируется за счет разницы в константе α. Это некоторая безусловная разница в зарплатах, которая существует для «базового набора характеристик». Кроме того, в 2009 г. на разрыв влияла разница в отдаче от Центрального федерального округа (уменьшала его).
Рис. 9–2. Декомпозиция различий в заработках между мигрантами из Таджикистана и местными работниками [144]
Объясненная часть разрыва выросла с 1 % в 2007 г. до 8,5 % в 2009 г., однако это изменение статистически незначимо. Детальная декомпозиция показывает, что это изменение произошло за счет изменения распределения по профессиональным группам. Как можно увидеть, наблюдаемые характеристики не оказывают существенного влияния на различия в заработках. Если даже мигранты «улучшат» свой набор характеристик до уровней местного населения, они не получат существенного выигрыша. Такая ситуация создает основы для негативного отбора в миграцию (по крайней мере по наблюдаемым характеристикам), а также снижает стимулы к инвестициям в специфический человеческий капитал.
Размер третьего элемента разложения составляет около 14 % в оба периода. Как и предполагалось, различия в распределении между городами разного размера сопровождаются существенными различиями в отдачах. Это вносит основной вклад в третий элемент разложения и может служить подтверждением предположения о том, что между процессом принятия решения о месте жительства у мигрантов и местных работников существуют существенные различия. Предположительно причиной могут быть более высокие издержки переезда для местного работника. Как результат – существенные наблюдаемые различия в структуре размещения и отдачи от него для местных и мигрантов. Подробнее процесс принятия решения о размещении будет рассмотрен в следующем разделе.
Проверка устойчивости результатов. Наши расчеты не учитывают множества факторов, влияющих на разрыв в доходах мигрантов и местных жителей. Часть из них принципиально не наблюдаема, другие, в принципе, наблюдаемы, но отсутствуют в наших данных. В работе [Локшин, Чернина, 2013] приведен ряд проверок базового результата. Здесь мы только укажем, к каким факторам оказывается чувствительна приведенная в данной главе оценка.
Результаты говорят о том, что наибольшее влияние на полученные оценки оказывают два фактора: количество отработанных часов, учет которых мог бы значительно (до 8 п.п.) увеличить разрыв, и выбор более узкой группы для сопоставления (например, занятые в неформальном секторе), что дает значительно более низкие значения разрыва. Учет таких факторов, как качество образования, знание русского языка, легальный статус мигранта, не меняют полученных оценок.
Тем не менее существует ряд факторов, смещение по которым мы проверить не можем. Так, мигранты работают в менее благоприятных условиях, на непрестижных, тяжелых и опасных работах, за что, согласно теории компенсирующих различий, должны получать премию. Недоучет условий труда приводит к недооценке различий в оплате труда. С другой стороны, мигранты могут получать от работодателя жилье и питание, что также не учтено в наших расчетах.
В противоположном направлении действует недоучет ненаблюдаемых характеристик мигрантов. Различия в уровне (и даже качестве) образования не полностью объясняют различия в человеческом капитале. Мигранты не обладают специфическим для принимающей страны человеческим капиталом, и в действительности востребованный работодателем человеческий капитал мигрантов может быть ниже, чем у местных жителей.
Ключевым вопросом при интерпретации полученных результатов является происхождение необъясняемой части различий в заработках. Как было описано выше, теоретически существует два основных его источника: различия в ненаблюдаемых характеристиках и дискриминация. Наши результаты не дают ответа на вопрос об источниках, однако можно привести некоторые косвенные аргументы за ведущую роль дискриминации на рынке труда (как ценовой, так и неценовой). Во-первых, это сама возможность работодателя дискриминировать. Миграционный статус – легко верифицируемая характеристика; в России, в отличие от некоторых других стран, отсутствует законодательное ограничение на величину заработков иностранцев[145]; мигранты существенно отличаются от местных работников по своей резервной заработной плате: от работы в России они получают выигрыш примерно в 5 раз [Локшин, Чернина, 2013] по сравнению с заработками, которые они могли получить на родине. Таким образом, существует множество предпосылок для дискриминации, однако сложно привести аргументы за какой-то определенный ее вид. Во-вторых, мы не находим, что размер разрыва существенно зависит от наблюдаемых компонент человеческого капитала: уровня и качества образования, опыта миграции, а также легального статуса и способа поиска работы. Можно предположить, что ненаблюдаемые компоненты человеческого капитала также не вносят определяющего вклада в размер разрыва.
9.9. Путь в Россию
Давно замечено, что расселение мигрантов отличается от расселения местного населения. Обычно мигранты концентрируются в определенных населенных пунктах и регионах [Chiswick, Miller, 2004]. Это справедливо и для трудовых мигрантов из Таджикистана. По данным обследования, более 55 % из них работали в Москве, а около 80 % – в пяти регионах. Понимание причин географической концентрации мигрантов важно для оценки влияния трудовой миграции на рынок труда в целом и на локальные рынки труда в частности. Кроме того, успех мигрантов в принимающей стране во многом зависит от их размещения [As-lund, 2005; Damm, 2009].
В экономической литературе в качестве важнейших факторов, влияющих на решение мигрантов о том, куда ехать, выделяются (1) экономические условия в принимающем регионе, в частности состояние рынка труда, и (2) наличие в нем соотечественников [Bartel, 1989]. Многие исследования показывают, что относительная важность этих двух групп факторов при принятии решения зависит от различных характеристик мигранта: образования, возраста, пола, семейного положения, прошлой профессии, страны выхода, типа визы, легального статуса [Scott et al., 2005; Pena, 2009]. В целом, при выборе направления условия на рынке труда более значимы для образованных и квалифицированных легальных мигрантов, тогда как наличие соотечественников – для низкоквалифицированных.
В зарубежной литературе, как правило, выбор направления рассматривается для легальной долгосрочной миграции (иммиграции). Для миграции из Таджикистана в Россию мы имеем дело с повторяющимися краткосрочными поездками. В этом случае появляется дополнительный фактор – собственный миграционный опыт мигранта и его домохозяйства, который должен влиять на выбор направлений последующих поездок.
Как может меняться важность наличия соотечественников с опытом? Обсудим возможные сценарии. Связи с соотечественниками должны быть особенно важны в первую поездку. Ранее прибывшие мигранты помогают новым в поиске жилья, работы, оформлении документов, в целом создают среду для общения. Со временем мигрант изучает местные законы, правила поведения, язык, осваивает востребованные профессии, заводит новые связи, в том числе с местными жителями – приобретает специфический человеческий и социальный капитал. Наличие специфического капитала «привязывает» мигранта к данному месту. То есть с опытом растет самостоятельность мигранта, например, при поиске работы. Тогда зависимость от соотечественников по определенным аспектам должна снижаться. С другой стороны, при отсутствии сложившейся широкой сети мигрантов в первую поездку (например, работа на определенном проекте в сельской местности или небольшом городе, куда мигрант попал через личные контакты) мигрант может испытывать сложности с «закреплением» в населенном пункте, и мы увидим, что следующий выбор будет сделан в пользу направления с большим присутствием соотечественников.
Роль условий на рынке труда в регионах принимающей страны при принятии решения о миграции также может как вырасти, так и снизиться. С одной стороны, с опытом для мигранта снижается уровень неопределенности условий в принимающем регионе. В момент принятия решения мигрант мог и не представлять истинной ситуации в принимающих регионах и ориентироваться на выбор соотечественников. Но по мере накопления собственного опыта трудовых поездок и, соответственно, информации о возможностях в принимающей стране повторные решения будут больше учитывать экономические условия. С другой стороны, будучи «привязанным» к определенному региону специфическим социальным капиталом, мигрант, вероятно, не изменит решение при изменении относительной экономической ситуации в регионах. Тогда мы увидим, что характеристики рынка труда региона менее важны при повторных поездках.
Предположим, что, принимая решение о миграции, индивид сравнивает предполагаемые выгоды и издержки от альтернативных направлений и выбирает одно, приносящее наивысший чистый выигрыш. Его интересуют выгоды за вычетом издержек. Выгоды – это ожидаемый доход мигранта. Издержки миграции (фиксированные и переменные) включают несколько составляющих: цену билета, издержки на получение разрешения на работу, стоимость жилья, издержки поиска работы, сбора информации и другие. Сравним процесс выбора направления для первой и повторной поездок. Вероятность найти работу в известном ему городе может быть (или казаться) выше, а издержки – ниже за счет уже имеющейся у мигранта информации и более развитых связей. Если мигрант принимает решение, уже находясь в принимающей стране (допустим, у него закончился контракт и он решает, искать ли ему работу в том же городе или в другом), то из издержек, связанных с городом, где он уже находится, исключаются транспортные издержки и издержки на сбор новой информации.
Процесс принятия решения, описанный выше, может быть формально выражен путем моделирования вероятности миграции по направлению через сопоставление полезностей альтернатив. Делая предположение о линейной зависимости полезности направления от объясняющих факторов, получаем уравнение (9–7):
Uijt = βZjt + γXijt + αXit +eijt , (9–7)
где Zjt – характеристики направления j (экономические характеристики, концентрация мигрантов); Xit – личные характеристики мигранта (возраст, образование, пол, опыт миграции и т. д.); Xijt – характеристики, общие для мигранта в i и в j (например, опыт миграции данного индивида по данному направлению); eijt – случайная ошибка.
Предполагая, что eijt независимо и одинаково распределенная случайная величина, имеющая распределение Вейбулла, вероятность выбора направления можно записать как уравнение
(9–8)
Данная модель носит название условной логистической регрессии (conditional logistic regression). Эмпирическая модель описывается уравнением (9–9):
(9–9)
где Migrateijt – индикатор миграции индивида i по направлению j в период t; Prevchoiceijt – индикатор того, что член домохозяйства индивида i был в поездке в городе j в 2007 г. или ранее; ln Populjt – логарифм численности населения региона j в период t; Quotajt – отношение размера миграционной квоты к численности населения региона j в период t; UnemplJt – доля безработных в регионе j в период t; Stajiksj – количество граждан – таджиков по национальности в переписи 2010 г. на 1000 человек в регионе j; FDjk – индикатор федерального округа от k = 1… X.
Используемые нами переменные должны аппроксимировать вероятность найти работу, зарплату и издержки миграции. Уровень безработицы, численность населения и квоты, еще существовавшие в анализируемый период, связаны с вероятностью найти работу. Стоит заметить, что для эмпирического анализа важны не абсолютные значения, а относительные между регионами. Как обсуждалось ранее, мигрантские сети влияют на все параметры нашей модели: они могут обеспечивать доступ к рабочим местам, в том числе более высокооплачиваемым, а также снижать издержки миграции. В нашем эмпирическом анализе численность этнических таджиков, попавших в перепись населения России (будем называть эту переменную «доля таджиков в постоянном населении»), и прошлый миграционный опыт[146] контролируют наличие связей у мигранта.
Полученные результаты оценки параметров модели представлены в табл. 9–3. В столбцах (1) и (3) показаны результаты для выборки целиком[147] без включения контроля на предшествующий выбор. Эффект безработицы оказывается статистически значимым. При включении контроля на предшествующий выбор направления (столбцы (2) и (4)) эффект сохраняется, хотя численно становится ниже. Направления прошлых поездок оказывают значимый эффект на текущий выбор.
Значение относительных шансов для переменной прошлого опыта (столбец 2) означает, что относительные шансы поехать в город, где мигрант был ранее, в 13 раз выше, чем поехать в город, где мигрант не был ранее[148]. Таким же образом интерпретируются относительные шансы для уровня безработицы, который мы измеряем в процентах. Рост уровня безработицы на 1 п.п. приводит к снижению относительных шансов выбора города на 25–30 %.
Таблица 9–3. Анализ выбора региона миграции методом условной логистической регрессии (conditional logit) мигрантами из Таджикистана в России, 2008–2009 гг.
Примечание: *** – p < 0,01; ** – p < 0,05; * – p < 0,1.
Столбцы с (5) по (8) табл. 9–3 показывают, насколько различны полученные результаты для новых и повторных мигрантов. Эффект безработицы для повторных мигрантов близок результатам, полученным по полной выборке: безработица оказывает значимый эффект; при контроле на прошлый опыт значение становится ниже, но статистическая значимость сохраняется. То же самое происходит с индикаторами федеральных округов. Это значит, что, хотя изначально направления миграции были выбраны не случайно (переменные значимы без контроля на прошлый выбор), география распределения мигрантов следует своей истории[149]. Для новых мигрантов безработица оказывается незначима в отдельной регрессии (столбец 8), однако при включении пересечения уровня безработицы с индикатором «нового» мигранта безработица значима для новых мигрантов, а значение статистически не отличается от повторных. При этом размер населенного пункта для «новых» мигрантов оказывает значительно более сильный эффект. Такой результат является отражением более высокой концентрации новых мигрантов в Москве.
Размер миграционной квоты, которую можно интерпретировать и как институциональное ограничение, но и как меру различий в спросе на труд мигрантов между регионами, оказывается значимым фактором во всех регрессиях. Доля таджиков в постоянном населении значима только на полной выборке.
Проверка устойчивости результата. Влияние количества лет участия в трудовой миграции. В дополнение к базовому результату, приведенному в табл. 9–4, мы проводим ряд проверок и дополнительных расчетов. Во-первых, для подвыборки мигрантов, находившихся дома в момент опроса, нам известно, сколько времени индивид провел в России. Взяв эту переменную в качестве меры опыта на рынке труда принимающей страны, мы смотрим, как меняется влияние характеристик регионов на выбор мигрантов в зависимости от опыта. Мы оцениваем следующее уравнение:
(9-10)
По сравнению с уравнением (9–9) мы добавляем пересечение переменной количества лет участия в миграции (MigExpit) с безработицей (Zjt). Набор контрольных переменных тот же, что и в уравнении (9–9). Коэффициент δ говорит о том, как эффект характеристики Zjt меняется в зависимости от значения переменной опыта MigExpit.
Оценивая уравнение (9-10), мы получаем статистически значимый коэффициент δ как на общей выборке, так и на выборке опытных мигрантов. Знак коэффициента отрицательный в случае размера населения и положительный в случае безработицы. Это говорит о том, что мигранты, имеющие более длительную историю поездок в Россию, постепенно снижают чувствительность к характеристикам регионов.
Исключение из выборки Москвы. Поскольку наблюдается высокая концентрация мигрантов в Москве, ее присутствие в выборке в значительной степени определяет полученные результаты. В табл. 9–4 представлены результаты с исключением Москвы из выборки. Кроме проверки основного результата, это позволяет включить дополнительные факторы: изменение уровня безработицы и среднемесячную заработную плату, которые были сильно скоррелированы с размером населения на полной выборке. В случае исключения столицы из анализа эффекты безработицы и численности населения становятся незначимыми для повторных мигрантов. Еще одним отличием является значимость доли таджиков в постоянном населении региона, но не миграционной квоты. Видимо, в отсутствие развитой «индустрии миграции», которая существует в Москве, связь со своими соотечественниками становится более важным фактором. Наконец, можно увидеть, что зависимость от прошлого выбора для повторных мигрантов оказывается определяющей. Новые мигранты реагируют на изменение безработицы, рост которой снижает вероятность выбора региона. Кроме того, оказались слабо значимыми численность населения и среднемесячная заработная плата.
Как показывают результаты проведенного анализа, в среднем мигранты ехали в многонаселенные регионы с низкой безработицей, с многочисленной таджикской диаспорой и значительным спросом на труд иностранных работников. Но поведение «новых» мигрантов отличалось от поведения «повторных» мигрантов.
Таблица 9–4. Анализ выбора региона миграции методом условной логистической регрессии (conditional logit) мигрантами из Таджикистана в России, 2008–2009 гг. (без Москвы)
Примечание: *** – p < 0,01; ** – p < 0,05; * – p < 0,1.
Для повторных мигрантов прошлый выбор места работы значительно влияет на будущий выбор. Однако мы не можем определить, является ли это результатом собственно опыта (сформировавшихся на определенном направлении связей, знаний местных условий и т. д.) либо результатом действия неизменных во времени характеристик привлекательного региона (изначального наличия в нем связей, благоприятных экономических условий). За пределами Москвы прошлый выбор становится определяющим: кроме прошлого опыта на выбор влияют только спрос на труд мигрантов. Уровень безработицы оказывается значимым фактором выбора даже с учетом прошлых направлений, хотя влияние безработицы и убывает с увеличением количества лет миграции. Однако без учета Москвы статистически значимого влияния уровня безработицы не наблюдается. Подводя итог, можно сказать, что для повторных мигрантов однозначно установлено влияние на выбор спроса на труд иностранных работников и наличия соотечественников (вне Москвы), тогда как влияние ситуации на рынке труда сложно отделить от влияния Москвы как основного центра притяжения мигрантов.
Для новых мигрантов ситуация несколько иная: их поток больше сконцентрирован в Москве и других крупных городах, что можно видеть по влиянию численности населения в регионе. Влияние остальных факторов то же, что и для повторных мигрантов. Если посмотреть на ситуацию без учета Москвы, то оказывается, что новые мигранты в отличие от опытных реагируют на экономические стимулы: рост безработицы и уровень заработной платы. При этом мы не находим значимого влияния доли таджиков в постоянном населении региона на их выбор.
9.10. Заключение
Международная миграция стала неотъемлемым фактором развития российского рынка труда. Как показано в исследовании, совсем недавно, в 2014 г., в России работало более 7 млн иностранных граждан. Свыше 6 млн работников из числа постоянных жителей страны составляли те, кто приехал в страну жить после распада СССР. Таким образом, на рынке труда участвовало более 14 млн постоянных и временных трудовых мигрантов. Отметим, что общее число занятых (без учета временных иностранных работников), по данным Росстата, в 2014 г. составляло 71,5 млн человек. Роль временных трудовых мигрантов особенно значима в тех отраслях экономики, в которых они составляют заметную часть работников. Речь идет в первую очередь о строительстве, ЖКХ, сфере обслуживания, где мигранты преимущественно выполняют работу, не требующую высокой квалификации.
Присутствие большого числа мигрантов из других стран ставит перед обществом множество вопросов, в том числе о последствиях миграции для России, для самих мигрантов и для стран, откуда они прибыли. В силу того, что миграция затрагивает обширные сферы общественной жизни, ответы на эти вопросы ищут представители самых разных научных направлений, в том числе экономисты, демографы, социологи. Экономистам в этом поиске принадлежит особая роль, поскольку экономические факторы являются первостепенными в объяснении причин миграции, а экономические последствия выходят на первый план при оценке эффективности миграционных процессов.
К сожалению, возможности экономических исследований международной миграции в России сильно ограничены недостатком информации. Из-за отсутствия репрезентативных в национальном масштабе выборочных обследований, в выборку которых включены как временные, так и постоянные мигранты, многие вопросы, волнующие не только ученых и политиков, но и широкую общественность, по-прежнему остаются без ответа. Как миграция влияет на заработки местных жителей? Как она влияет на прибыли работодателей? Каков вклад миграции в развитие отдельных отраслей, регионов и экономики в целом? В поисках ответов на эти и другие вопросы можно обратиться к зарубежным источникам, точнее, результатам обследований мигрантов и их домохозяйств, которые проводились при поддержке международных организаций в странах происхождения наиболее многочисленных групп иностранных работников – в Таджикистане, Молдове, Армении, Киргизии. Именно такой путь был выбран авторами данного исследования для того, чтобы ответить на два вопроса: как соотносятся заработки мигрантов с заработками россиян и какие факторы определяют выбор мигрантами места приложения труда на территории России. В качестве кейса был взят Таджикистан, в котором в 2007 и 2009 гг. при поддержке Всемирного банка были проведены массовые обследования миграционного поведения населения.
Соотношение заработков мигрантов и местных работников является важнейшей характеристикой положения мигранта на рынке труда принимающей страны. Согласно полученным авторами оценкам, различия между средними заработками мигрантов из Таджикистана и заработками российского гражданина с аналогичными личностными характеристиками (пол, возраст, образование, профессия) составляют примерно 75 % от заработка мигранта. При оценке различий в заработках авторы, очевидно, не могли учесть все личностные характеристики мигрантов. Но косвенные факторы говорят о заметном вкладе ценовой и неценовой дискриминации в установленные различия. Несмотря на такое соотношение в заработках, в выигрыше оказывались все три стороны миграционного процесса. Таджикский работник заметно увеличил свой доход (в 5 раз) по сравнению с тем, который он мог получить на родине. Значительная часть этого дохода была переведена в Таджикистан, благодаря чему повысился уровень благосостояния домохозяйств мигрантов и страны в целом. Но с точки зрения принимающей стороны, России, разница в заработках свидетельствует о выигрыше, который в результате использования труда иностранных работников получают работодатели, к которым в том числе относятся и физические лица, и государственные учреждения.
Анализ выбора мигрантами места приложения труда позволил выявить инерционность в поведении тех мигрантов, которые приезжают в Россию не в первый раз. Новые мигранты в большей степени реагируют на изменения в экономической конъюнктуре. Эти результаты следует учитывать при разработке мер миграционной политики и кампаний, направленных на привлечение иностранных работников для реализации разного рода проектов. Фактор инерционности поведения в условиях изменения экономической ситуации может снизить эффективность потоков, в том числе по причине того, что не все мигранты смогут найти работу у своих прежних работодателей. В условиях действующих ограничений для иностранных работников на перемещения между регионами России некоторые из них будут вынуждены вернуться на родину. В то же время новые проекты могут вызвать приток мигрантов без опыта работы за рубежом, которые из-за невысокой квалификации нуждаются в профессиональном обучении или переподготовке.
В настоящее время в России наблюдается заметное сокращение численности населения в рабочих возрастах. По оценкам демографов, она уменьшится с 2015 по 2025 гг. на 6 млн человек. Одновременно, как свидетельствуют данные, в условиях экономического спада ежегодный поток трудовых мигрантов из-за рубежа уменьшился. Какой миграция в Россию будет в ближайшие десять-пятнадцать лет? Ответ на этот вопрос требует отдельного исследования. Но в том, что миграция продолжится, сомнений нет. Во-первых, как уже отмечалось, высокий спрос на труд мигрантов формируется под воздействием неблагоприятных изменений в возрастном составе населения страны. Во-вторых, продолжится демографическое давление на Россию со стороны стран, переживающих быстрый рост населения. И речь здесь идет не только о странах СНГ. В-третьих, сохранится разрыв в доходах между Россией и большей частью развивающегося мира. Ответы на поставленные миграционные вопросы предполагают развитие источников информации и научных исследований. Без этого миграция по-прежнему будет окружена мифами и легендами, миграционная тематика будет выступать ареной для манипуляции общественным мнением самых разных политических сил, а решения в области миграционной политики будут недостаточно обоснованными и эффективными.
Приложение П9
Таблица П9-1. Распределение иностранных работников, имевших действовавшее разрешение на работу в 2014 г., по профессиональным группам и странам происхождения, %
Источник: [Труд в России, 2015].
Таблица П9-2.
Декомпозиция различий в логарифмах заработных плат мигрантов из Таджикистана и российских работников
Литература
Вакуленко Е.С., Леухин Р.С. Дискриминируются ли иностранные работники на российском рынке труда? // Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 1. С. 121–142.
Вакуленко Е.С., Леухин Р.С. Исследование спроса на труд иностранных мигрантов в российских регионах по поданным заявкам на квоты // Прикладная эконометрика. 2015. Т. 37. № 1. С. 67–86.
Варшавская Е.Я., Денисенко М.Б. Мобильность иностранных работников на российском рынке труда // Социологические исследования. 2014. № 4. С. 63–73.
Денежные переводы и их влияние на уровень жизни в Хатлонской области республики Таджикистан. Душанбе: МОМ-НИЦ «ШАРК», 2006.
Зайончковская Ж.А., Тюрюканова Е.В. Иммиграция: путь к спасению или троянский конь // Отчет по человеческому развитию. Российская Федерация 2008. М., 2009.
КузьминовЯ.И. и др. Миграционная политика // Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года / под науч. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. Кн. 1. М.: Изд. дом «Дело», 2013. С. 262–277.
Локшин М.М., Чернина Е.М. Мигранты на российском рынке труда: портрет и заработная плата // Экономический журнал ВШЭ. 2013. Т. 17. №. 1. С. 44–80.
Миграция и демографический кризис в России / под ред. Ж.А. Зайончковской, Е.В. Тюрюканова. М.: ИНП РАН, 2010.
МОМ – Международная организация по миграции: IOM. Тенденции в области миграции в странах Восточной Европы и Центральной Азии. М., 2002.
Мукомель В. Миграционная политика в России. М., 2005.
Ромодановский К.О., Мукомель В.И. Регулирование миграционных процессов: проблемы перехода от реактивной к системной политике // Общественные науки и современность. 2015. № 5. C. 5-18.
Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии. М., 2007. Труд и занятость в России: стат. сб. М.: Госкомстат, 2001.
Чернина Е.М. Выбор направления миграции: роль прошлого опыта // Экономический журнал ВШЭ. 2016. Т. 20. № 1. C. 100–128.
Чудиновских О. С. Системы сбора данных о внешней трудовой миграции в современной России // Вопросы статистики. 2008. № 6. С. 6–12.
Arrow K. The Theory of Discrimination: Princeton University Working Papers 403. 1971.
Aslund O. Now and Forever? Initial and Subsequent Location Choices of Immigrants // Regional Science and Urban Economics. 2005. Vol. 35. № 2. P. 141–165.
Bartel A.P. Where Do the New US Immigrants Live? // Journal of Labor Economics. 989. P. 371–391.
Becker G.S. The Economics of Discrimination. Chicago: The University of Chicago Press, 1957.
Blinder A.S. Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates // Journal of Human Resources. 1973. P. 436–455.
Borjas G.J. Native Internal Migration and the Labor Market Impact of Immigration // Journal of Human Resources. 2006. Vol. 41. № 2. P. 221–258.
Borjas G.J. The Economic Analysis of Immigration // Handbook of Labor Economics. 1999. Vol. 3. P. 1697–1760.
Chiswick B.R. The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-born Men // The Journal of Political Economy. 1978. P. 897–921.
Chiswick B.R., Miller P.W. Where Immigrants Settle in the United States // Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2004. Vol. 6. № 2. P. 185–197.
Damm A.P. Ethnic Enclaves and Immigrant Labor Market Outcomes: Quasi-Experimental Evidence // Journal of Labor Economics. 2009. Vol. 27. № 2. P. 281–314.
Daymont T.N., Andrisani P.J. Job Preferences, College Major, and the Gender Gap in Earnings // Journal of Human Resources. 1984. P. 408–428.
Dustmann C. Earnings Adjustment of Temporary Migrants // Journal of Population Economics. 1993. № 6(2). P. 153–68.
Foreman K., Monger R. Nonimmigrant Admissions to the United States: 2013. Annual Flows Report, July 2014. Office of Immigration Statistics. U.S. Department of Homeland Security.
Jaeger D.A. Green Cards and the Location Choices of Immigrants in the United States, 1971–2000 // Research in Labor Economics. 2007. Vol. 27. P. 131–183.
Jaeger D.A. Local Labor Markets, Admission Categories, and Immigrant Location Choice: Manuscript. College of William and Mary. 2000. ()
Kaushal N., Kaestner R. Geographic Dispersion and Internal Migration of Immigrants // Frontiers of Economics and Globalization. 2010. Vol. 8. P. 137–173.
Kerr S.P., Kerr W.R. Economic Impacts of Immigration: A Survey. National Bureau of Economic Research, 2011. № w16736.
Lazareva O. Russian Migrants to Russia: Assimilation and Local Labor Market Effects // IZA Journal of Migration. 2015. Vol. 4. № 1. P. 1.
Longhi S., Nijkamp P., Poot J. Meta-analysis of Empirical Evidence on the Labour Market Impacts of Immigration. 2008. ()
Mocetti S., Porello C. How Does Immigration Affect Native Internal Mobility? New Evidence from Italy // Regional Science and Urban Economics. 2010. Vol. 40. № 6. P. 427–439.
Oaxaca R. Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets // International Economic Review. 1973. 14. P. 693–709.
Pena A.A. Locational Choices of the Legal and Illegal: The Case of Mexican Agricultural Workers in the US 1 // International Migration Review. 2009. Vol. 43. № 4. P. 850–880.
Phelps E.S. The Statistical Theory of Racism and Sexism // American Economic Review. 1972. № 62(4). P. 659–661.
Scott D.M., Coomes P.A., Izyumov A.I. The Location Choice of Employment-based Immigrants among US Metro Areas // Journal of Regional Science. 2005. Vol. 45. № 1. P. 113–145.
Simon J. The Economic Consequences of Immigration Ann Arbor. The University of Michigan Press, 1999.
Tomaskovic-Devey D. The Gender and Race Composition of Jobs and the Male/Female, White/Black Pay Gaps // Social Forces. 1993. № 73. P. 45–77.
Глава 10 Мобильность социального самочувствия россиян в 2000–2014 гг.
10.1. Введение
Предшествующие главы данной книги были посвящены различным аспектам мобильности индивидов на российском рынке труда, таким как перемещения между состояниями занятости и незанятости, между рабочими местами, профессиями и отраслями и т. п.
Субъективная мобильность, т. е. изменение представлений о своем благополучии и месте в обществе, представляет собой еще один важный угол зрения. Несмотря на то, что одни и те же факты могут по-разному отражаться в восприятии конкретных людей, именно субъективные представления в конечном счете определяют то, как они себя ведут и какие решения принимают. Согласно одной из наиболее знаменитых формулировок этой причинно-следственной связи, принадлежащей социологам Уильяму и Дороти С. Томас, «если ситуация воспринимается как реальная, то она реальна по своим последствиям»1 [Thomas &
Thomas, 1928]. Показатели стабильности или изменчивости тех или иных самооценок людей сами по себе предоставляют важную информацию об экономических, политических и социальных процессах, которые сложно отследить напрямую при помощи лишь объективных данных [Veenhoven, 2001]. В этом заключается их особая значимость.
При изучении показателей социального самочувствия, как правило, анализируются средние значения, характерные для различных категорий и групп населения. Однако в таком случае мы фиксируем лишь некий наблюдаемый «уровень воды», ничего не зная о том, из каких подводных течений он складывается. К примеру, если средние самооценки населения страны устойчивы во времени, означает ли это, что индивидуальное восприятие также не изменяется? Их стабильность может являться результатом суммирования полярных самооценок, носителями которых в разные периоды времени могут выступать абсолютно разные группы.
Интерес к изучению мобильности индивидуального самовосприятия приводит нас к рассмотрению траекторий социального самочувствия. Под последними здесь будут пониматься совокупности самооценок одних и тех же людей в разные моменты времени.
Для России исследования подобного типа ранее не проводились. При этом понимание особенностей самовосприятия населения в нашей стране имеет особую значимость. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на протяжении большей части 2000-х годов средние самооценки населения в целом оставались на достаточно низком уровне, несмотря на развитие экономики и различные социальные преобразования [Российская идентичность в социологическом измерении, 2007; Андреенкова, 2010]. Притом, даже самые благополучные слои населения демонстрировали более низкую удовлетворенность жизнью, чем жители западных стран в схожих обстоятельствах [Андреенкова, 2010]. Определенное улучшение средних самооценок наметилось лишь в 2010–2014 гг. [Тихонова, 2015а].
Вопрос о том, какие индивидуальные траектории лежат в основании этого низкого среднего уровня, остается неисследованным. Для какой категории населения в период 2000–2014 гг. был характерен наибольший подъем самооценок, для какой – спад? Каков социально-демографический портрет представителей различных траекторий самовосприятия? В какой степени наступление различных личных жизненных событий (к примеру, вступление в брак, появление ребенка, потеря работы) влияет на форму и направление траекторий социального самочувствия?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, в настоящей главе используются панельные данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2000–2014 гг. Под социальным самочувствием мы понимаем самооценки респондентов по таким параметрам, как удовлетворенность жизнью и субъективный социальный статус. Удовлетворенность жизнью является обобщенным показателем, охватывающим все сферы жизни индивида [Veenhoven, 2008], а самооценки социального положения концентрируются на более узком аспекте его положения в обществе.
Согласно полученным результатам, наблюдаемый средний уровень самооценок россиян в 2000–2014 гг. является результатом «перемешивания» нескольких различных типов траекторий. Некоторые из них можно описать как стабильные, но примерно для половины населения оказывается характерна значительная мобильность социального самочувствия (его улучшение или ухудшение). Принадлежность к тому или иному типу объясняется сочетаниями нескольких различных индивидуальных характеристик, при этом те, кто обладает высокой (или растущей) самооценкой, в гораздо меньшей степени подвержены влиянию шоков дохода или наступления негативных жизненных событий.
Логика и структура настоящей главы выстроены следующим образом. В разделе 10.2 кратко изложены основные результаты предшествующих зарубежных исследований траекторий социального самочувствия. Раздел 10.3 представляет методологию анализа и эмпирическую базу исследования, в частности, описывает методику классификации индивидуальных траекторий. В разделе 10.4 представлена динамика средних показателей самооценки российского населения за период 2000–2014 гг. В разделе 10.5 обсуждается устойчивость индивидуальных самооценок. Раздел 10.6 дает типологию индивидуальных траекторий социального самочувствия, а также социально-демографический портрет представителей каждой из них. В разделе 10.7 мы обратимся к вопросу о влиянии жизненных событий на форму и направление выявленных траекторий. В заключении подводятся итоги.
10.2. Зачем и как изучают индивидуальные траектории?
В определенном смысле практически все социальные науки изучают, как складывается жизненный путь конкретного человека, что отличает одну жизненную траекторию от другой и какие факторы оказываются в этом процессе определяющими. Однако исследование индивидуальных траекторий самовосприятия представляет собой относительно новое направление. Социальное самочувствие представляет собой наиболее обобщенную характеристику оценки индивидом своей жизни. Данный термин можно определить как «ценностно-эмоциональное… отношение [людей] к своему социальному положению и уровню удовлетворения своих потребностей, интересов, совокупность оценок, которые люди дают себе, своим повседневным взаимодействиям друг с другом, с социальными институтами, территориальными сообществами и обществом в целом» [Лапин, 2007]. Оно формируется под влиянием сопоставления своего положения с собственным уровнем притязаний или положением других людей. Опираясь на данное общее определение, можно отнести к числу индикаторов социального самочувствия не только удовлетворенность жизнью в целом (т. е. субъективное благополучие), но и самооценки положения индивида в обществе. Тем самым, в зависимости от конкретного исследовательского подхода, в рамках изучения социального самочувствия могут «высвечиваться» разные его составляющие.
Исходя из существующей исследовательской литературы можно сформулировать общее определение индивидуальных траекторий социального самочувствия как совокупности наблюдений о самовосприятии одних и тех же людей во времени. На протяжении долгого времени исследователи концентрировали свое внимание исключительно на среднем уровне самооценок различных групп населения, оставляя за скобками особенности эволюции индивидуального восприятия. Тем не менее именно понимание тенденций изменения субъективных оценок на индивидуальном уровне способно пролить свет на динамику социального самочувствия групп населения и общества в целом [Lucas et al., 2003; Gadermann, Zumbo, 2007]. Форма и направление индивидуальных траекторий самовосприятия выступают гораздо более наглядным индикатором мобильности или стабильности самооценок, чем динамика средних значений или разброс вокруг них [Nagin, 2005].
При изучении индивидуальных траекторий социального самочувствия исследователи чаще всего обращаются к анализу изменения оценок субъективного благополучия, под которым понимают общую удовлетворенность жизнью[150]. В 1990-е годы между исследователями развернулась дискуссия о составляющих самооценки благополучия (см., к примеру: [Veenhoven, 1994; Stones, 1995]). Были выявлены два ее ключевых элемента – неизменный, связанный со свойствами личности каждого конкретного человека, и вариативный, отражающий особенности восприятия текущей жизненной ситуации. Последний представлял собой колебания вокруг средней оценки удовлетворенности жизнью, характерной для данного индивида.
Одним из наиболее популярных направлений в этих исследованиях стало изучение эффектов различных жизненных событий. Полученные результаты показывают, что наиболее важные жизненные события («major life events») оказывают значительное воздействие на индивидуальные траектории субъективного благополучия, хотя исходный «скачок» самооценки и ее дальнейшее изменение варьируются в зависимости от конкретного события [Luhmann et al., 2012]. Эффект негативных событий на динамику субъективного благополучия, как правило, оказывается продолжительнее эффекта позитивных событий[151]. К примеру, резкий рост удовлетворенности жизнью непосредственно после вступления в брак (эффект «медового месяца») достаточно быстро сменяется падением, а полное возвращение к исходному уровню наступает уже через два года [Lucas et al., 2003]. В противоположность этому выравнивание самооценок после сильных отрицательных «шоков» (безработицы, развода, вдовства, потери дееспособности) наступает гораздо медленнее или не наступает вовсе. Один из наиболее ярких примеров подобной реакции связан с потерей рабочего места. Прошлый уровень удовлетворенности жизнью не восстанавливается даже после нахождения новой работы [Luhmann et al., 2012].
Переход из состояния незанятости в занятость, напротив, сопровождается, как правило, весьма небольшими позитивными последствиями с точки зрения субъективного благополучия [Ibid]. Исследователи склонны объяснять этот факт двумя различными комплементарными процессами. Во-первых, нахождение рабочего места и непосредственный выход на работу разделены во времени. Тем самым первоначальная эйфория от удачного завершения поиска работы происходит до непосредственного перехода в занятость. Помимо этого реальная удовлетворенность новым местом работы может оказаться меньше, чем ожидаемая индивидом. Во-вторых, значительное сокращение свободного времени в связи с необходимостью осуществления трудовой деятельности может также уменьшать положительный эффект нахождения новой работы.
Выход на пенсию представляет собой еще один вариант возможной смены статуса на рынке труда. Зачастую он представляет собой «нейтральное» с точки зрения субъективного благополучия событие, сопряженное для индивида как с выгодами (больше свободного времени для себя и общения с друзьями и семьей, отсутствие привычного регламентированного ритма трудовой жизни), так и с издержками (меньший доход, сократившееся число социальных связей). Исследования показывают, что субъективное благополучие может несколько снизиться сразу после выхода на пенсию, отражая чересчур завышенные ожидания, связанные с преимуществами пенсионного статуса. Однако в дальнейшем уровень самооценки все же выравнивается.
Важно отметить несколько проблем методологического характера, связанных с анализом индивидуальных траекторий самооценок. Наступление основных жизненных событий нельзя смоделировать в условиях естественного эксперимента. Тем самым любые исследования индивидуальных траекторий самооценок сопряжены с большими ограничениями по внутренней валидности: невозможно быть полностью уверенным в том, что наблюдаемое изменение в самооценках действительно было вызвано именно наступлением жизненного события [Luhmann et al., 2012]. Помимо этого, наступление или ненаступление событий в жизни человека во многом может определяться индивидуальными ненаблюдаемыми характеристиками людей (например, ценностями) [Headey, 2006], что приводит к проблеме эндогенности.
Кроме того, существует и проблема обратного влияния: низкая самооценка субъективного благополучия может быть значимым фактором последующего наступления таких негативных жизненных событий, как развод или потеря работы [Luhmann et al., 2010]. Важная особенность жизненных событий состоит также в том, что они в большинстве своем не являются сугубо одномоментными, индивид очень часто может заранее «предвидеть» их грядущее наступление. Наиболее очевидные примеры такого рода – свадьба, рождение ребенка и развод, к которым начинают готовиться за несколько месяцев. Таким образом, не только само событие, но и знание о его грядущем наступлении могут влиять на индивидуальную траекторию самооценки [Luhmann et al., 2012].
Еще один важный аспект изучения социального самочувствия состоит в том, что агент, осуществляющий оценку, не является в полной мере «объективным» и нейтральным. На процесс самовосприятия оказывают влияние как социальный и культурный контекст существования индивида [Kahneman et al.,1999], так и уровень его притязаний, а также наличие референтной группы индивидов, обладающих желаемыми характеристиками, по отношению к которым происходит оценивание [Campbell, Converse, Rodgers, 1976][152].
Одним из способов частичного решения проблемы ошибок измерения, характерной для субъективных оценок, является наблюдение одних и тех же индивидов на протяжении определенного периода времени, т. е. использование панельных данных [Easterlin, 1974]. Помимо этого также применяются специальные методы эконометрического анализа, одним из которых является регрессия с индивидуальными фиксированными эффектами.
10.3. Методология анализа и эмпирическая база исследования
Целью исследования, представленного в настоящей главе, является изучение индивидуальных траекторий социального самочувствия российского населения в 2000–2014 гг. Для этого сначала мы рассматриваем самооценки россиян в 2000–2014 гг. и степень их устойчивости во времени; затем строим типологию траекторий социального самочувствия и, наконец, обсуждаем, как различные события в жизни людей влияют на изменение этих траекторий.
Эмпирическую базу настоящего исследования составляют данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2000–2014 гг.
В качестве индикаторов самооценки социального положения используются несколько вопросов регулярной анкеты РМЭЗ НИУ ВШЭ [Зудина, 2016]. Их точные формулировки выглядят следующим образом:
1. «Представьте себе, пожалуйста, лестницу из девяти ступеней, где на нижней, первой, ступени, стоят нищие, а на высшей, девятой – богатые. На какой из девяти ступеней находитесь сегодня вы лично?»;
2. «И еще одна лестница из девяти ступеней, где на нижней ступени находятся люди, которых совсем не уважают, а на высшей – те, кого очень уважают. На какой из девяти ступеней находитесь сегодня вы лично?».
Использование двух данных показателей соответствует веберовскому пониманию социальной стратификации. М. Вебер подчеркивал многопараметрический характер социального неравенства и выделял несколько основных автономных сфер его формирования, в том числе благосостояние и уважение [Weber, 1966]. Можно предположить, что наступление основных жизненных событий будет влиять на восприятие каждой из этих составляющих. Как следует из формулировок вопросов, респондентам предлагалась девятибалльная шкала с одинаковым «шагом» между ступенями в один балл.
В качестве интегральной меры субъективного благополучия был использован вопрос регулярной анкеты РМЭЗ НИУ ВШЭ об удовлетворенности жизнью: «Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?». Ее степень измеряется с помощью пятибалльной порядковой шкалы (от полностью удовлетворены до совсем не удовлетворены).
С учетом результатов предшествующих исследований было выдвинуто предположение о том, что значения данных индикаторов социального самочувствия будут увеличиваться при наступлении «позитивных» жизненных событий (вступление в брак, появление ребенка[153], нахождение работы) и снижаться при наступлении «негативных» (развод, потеря работы). Мы можем установить факт наступления жизненных событий лишь на основе сопоставления объективных условий жизни индивида в двух последовательных периодах наблюдения. Точный момент наступления события нам неизвестен – он может произойти в любое время между двумя наблюдениями. Это может приводить к значительным смещениям в оценке влияния события на динамику социального самочувствия из-за ненаблюдаемых различий в моменте наступления события, т. е. в фиксируемой нами значимости и силе воздействия этого события. Напомним, что «шок» самооценки после наступления важного жизненного события постепенно ослабевает.
Мы начинаем наш эмпирический анализ с обсуждения динамики средних самооценок социального самочувствия (удовлетворенности жизнью и субъективного социального статуса), а затем ищем ответ на вопрос о том, насколько устойчивы или, наоборот, подвижны индивидуальные самооценки. Влияет ли прошлогодняя самооценка на формирование текущих представлений о себе или нет? Если да, то каков ее вклад? Мы анализируем матрицы переходов, описывающие вероятность изменения самооценки респондента между двумя последовательными годами.
Однако выяснение степени мобильности представлений респондентов о себе в пространстве двух лет не дает понимания того, как выглядят траектории их социального самочувствия в более длительной перспективе. Поэтому мы используем специальную технику моделирования траекторий (Group-Based Trajectory Modeling). С ее помощью мы выявляем типологию наиболее распространенных траекторий изменения показателей социального самочувствия[154]. Остановимся на описании этого подхода подробнее.
Как отмечают исследователи, традиционный эконометрический анализ панельных данных (модели латентных изменений и иерархические модели) плохо подходит для изучения индивидуальных траекторий изменения какого-либо показателя. Это происходит из-за того, что в фокусе оказываются только индивидуальные отклонения от среднего значения показателя по всей выборке. При этом существующие методы выделяют траектории для групп населения, которые уже различаются на основе наблюдаемого признака (к примеру, по полу – мужчин и женщин) [Nagin, 2005]. Тем самым исследователь имплицитно предполагает, что траектории показателя отличаются только из-за различий людей в одном этом наблюдаемом признаке (половой принадлежности). В действительности причины отличий в траекториях могут быть намного сложнее и объясняться как ненаблюдаемыми различиями в психотипе или локусе контроля респондентов, так и сочетанием сразу нескольких социально-демографических характеристик (например, пола, дохода и типа поселения).
В противоположность этому, методика моделирования групповых различий в индивидуальных траекториях на основе формальной статистической модели позволяет с самого начала выделить внутри выборочной совокупности отличные друг от друга группы респондентов со сходными траекториями изменения показателя [Ibid]. Эта методика относится к группе так называемых моделей латентных классов (latent class models'), в рамках которых происходит классификация респондентов на основе значений некой ненаблюдаемой напрямую характеристики, определяющей их сходство [Nagin, Jones, 2012]. При этом базовая предпосылка модели состоит в том, что в совокупности может существовать несколько различных подгрупп населения, каждая – со своим собственным средним значением показателя и характерной траекторией его изменения [Nagin, 2005]. Для оценки параметров модели используется метод максимального правдоподобия.
Само понятие траектории предполагает, что основной интерес представляет распределение значений ключевой переменной в зависимости от времени наблюдения, которое можно обозначить как P (Yi | Timei). Случайный вектор Yi представляет собой последовательность значений наблюдаемой переменной для индивида i во времени, а вектор Timei – время наблюдения в момент регистрации каждого из значений наблюдаемой переменной [Nagin, Jones, 2012]. Тем самым для каждого индивида i распределение значений зависимой переменной может быть записано следующим образом:
(10-1)
где πj – индикатор принадлежности к группе j с определенной траекторией; β – вектор с неизвестными параметрами, обозначающий условное распределение Yi с учетом членства в группе j, который, в частности, определяет вид траектории интересующей переменной [Ibid].
В рамках данного метода исследователь задает количество и вид траекторий показателя (линейный, квадратический, кубический), которые могут существовать в генеральной совокупности. Далее алгоритм осуществляет поиск данных траекторий. Процедура повторяется несколько раз с разным количеством траекторий. Итоговое число траекторий определяется путем сравнения полученных результатов. При этом выделенные траектории должны максимально различаться между собой по своему виду[155].
Далее для конкретного индивида вычисляется вероятность его принадлежности к каждому из выявленных в совокупности типов траекторий. После этого окончательная групповая принадлежность индивида определяется путем отнесения его к той траектории, следование которой для него является наиболее вероятным. Как подчеркивают авторы метода [Ibid], отнесение респондента к какой-либо групповой траектории не требует того, чтобы он принимал участие в каждой из волн обследования. Выделяемые в рамках метода группы индивидов представляют собой так называемые латентные страты, так как принадлежащие к ним индивиды демонстрируют приблизительно сходные индивидуальные траектории изменения показателя во времени.
В настоящей работе вероятность P (Yi | Timei) была специфицирована при помощи цензурированного нормального распределения. Оно используется при анализе шкал, приближенных к непрерывным и ограниченных наличием заданного минимума и (или) максимума. Данный вид анализа проводился на подвыборках мужчин и женщин отдельно по каждому из показателей социального самочувствия, в результате чего было выделено пять траекторий их изменения.
К достоинствам описываемого метода относится и то, что моделирование групповых траекторий позволяет изолировать эффект неизменных индивидуальных характеристик, а также оценить влияние изменяющихся характеристик на саму траекторию [Nagin, Jones, 2012]. Поэтому в нашем исследовании мы рассматриваем влияние наступления различных жизненных событий на групповые траектории социального самочувствия. В настоящей главе будет прослежено влияние наступления жизненных событий, связанных с изменением статуса на рынке труда (потерей и нахождением занятости), а также появлением ребенка, вступлением в брак или его расторжением.
10.4. Динамика средних значений показателей социального самочувствия в 2000–2014 гг.
В таблице П10-1 Приложения приведены средние значения показателей социального самочувствия за 2000–2014 гг. Согласно полученным результатам, средний уровень самооценок по каждому выбранному индикатору был достаточно устойчивым. Cамооценка материального положения на протяжении рассматриваемого периода составляла в среднем 3,7–4 балла по девятибалльной шкале, что соответствует достаточно низкому воспринимаемому уровню. Экономический рост, наблюдавшийся в первой половине рассматриваемого периода, сопровождался слабо выраженным увеличением средних самооценок по данному индикатору. Примечательно также и то, что экономический кризис 2008–2009 гг. не прервал общего повышательного тренда. Средние самооценки населения в этот период, напротив, оказываются больше любых предшествующих значений.
Средние самооценки уровня уважения, испытываемого к себе со стороны других, заметно отличаются от восприятия собственного материального благосостояния. На протяжении рассматриваемого периода они составляли 5,9–6,5 баллов, что заметно выше аналогичных оценок для материального положения. Пик средних оценок самоуважения приходится на 2013 г., когда они достигают 6,5 балла. При этом усредненный уровень самооценок уважения россиян в кризисный период также был выше, чем в любой другой предшествующий кризису год. Средние значения по данному показателю всегда значительно превышали усредненные значения по любым другим показателям субъективного социального статуса [Зудина, 2016]. Представления об уважении к себе – один из столпов самоидентификации, от которого индивиды, судя по всему, отказываются в самую последнюю очередь. Каким бы бедным индивид себя не ощущал, он будет считать, что его уважают.
Динамика усредненных самооценок удовлетворенности жизнью представляет несколько иную картину. В 2000 г. среднее значение показателя удовлетворенности жизнью составляло всего 2,4 балла по пятибалльной шкале[156]. Оно росло вплоть до кризисных 2008–2009 гг., когда наступила стабилизация на уровне 3,2 балла. Их увеличение в период 2000–2008 гг. было намного более выраженным, чем в случае с субъективным социальным статусом. В посткризисный период максимальное значение средней удовлетворенности жизнью составляло 3,3 балла, таким образом, ее рост практически остановился.
Подводя итоги, можно заметить, что самооценки социального статуса, в среднем, демонстрировали скорее устойчивость, в то время как самооценки удовлетворенности жизнью – рост. Это согласуется с имеющимися результатами о том, что самооценка удовлетворенности жизнью, как правило, оказывается более позитивной, чем восприятие собственного материального положения [Тихонова, 2015б], так как те, кто оценивает свое материальное положение как плохое, далеко не всегда оказываются представителями наиболее обездоленной части населения страны [Тихонова, 2015а]. Тем не менее все индикаторы социального самочувствия, помимо самооценки уважения, удерживались на относительно низком уровне. Другая особенность представленных средних оценок социального самочувствия состоит в том, что они никак не отреагировали на кризисную ситуацию 2008–2009 гг. По всем трем показателям они в этот момент, напротив, достигали едва ли не самых высоких значений за весь период наблюдения. Таким образом, и здесь прослеживается отсутствие прямой выраженной связи между объективной ситуацией, с одной стороны, и восприятием своего положения в обществе и удовлетворенности жизнью, с другой. Возможно, частично это объясняется тем, что экономические последствия кризиса оказались для большей части россиян не столь тяжелыми и долговременными, как это предполагалось вначале, т. е. худшие ожидания не подтвердились [Двадцать лет реформ глазами россиян, 2011]. Однако обращает на себя внимание и тот факт, что в посткризисный период темпы позитивной динамики в социальном самочувствии по показателям удовлетворенности жизнью и восприятию материального положения заметно уменьшились.
Средние оценки социального самочувствия демонстрируют самую общую картину динамики самовосприятия населения. Однако они не могут показать, насколько мобильны или стабильны индивидуальные субъективные представления россиян. Ответ на этот вопрос могут дать только панельные данные, позволяющие отследить изменения самооценок одних и тех же людей во времени.
10.5. Устойчивость индивидуальных траекторий социального самочувствия
Матрицы перехода, построенные на данных несбалансированной панели респондентов РМЭЗ НИУ ВШЭ старше 15 лет за 2000–2014 гг., характеризуют мобильность уровня самооценки по двум измерениям.
В таблице 10-1 представлены средние безусловные вероятности различных уровней самооценки (от 1 до 9) материального положения в году t + 1 в зависимости от прошлой самооценки в году t. По диагонали курсивом выделены вероятности сохранения текущего значения каждого из возможных уровней самооценки в следующем периоде.
Таблица 10-1. Средние вероятности самооценки материального положения (по шкале от 1 до 9) в следующем году в зависимости от самооценки в текущем году, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Вероятность остаться на прежнем уровне самооценки материального положения в следующем году не превышает 39 %, что означает, что представления респондентов достаточно подвижны. По мере продвижения индивидуальной самооценки благосостояния от первой ступени к четвертой вероятность ее увеличения на один балл в следующем году составляет 25–31 %. После четвертой ступени наступает перелом. В тех случаях, когда текущая самооценка материального благосостояния индивида составляет пять-восемь баллов, вероятность ее дальнейшего увеличения на один балл резко снижается, варьируясь от 1 до 12 %.
При этом наименьшая вероятность дальнейшего роста характерна для тех, кто в текущем году оценивает свое материальное благосостояние на восемь баллов из девяти возможных (самооценке практически некуда больше расти). Вероятность увеличения самооценки сразу на два балла в следующем году превышает или равняется вероятности уменьшения самооценки на один балл для тех, кто в текущем году ставит себя на вторую и третью ступени. Таким образом, представляется, что в анализируемый период восходящая мобильность самооценок материального благополучия концентрировалась среди наиболее депривированных категорий населения. Это согласуется с имеющимися данными о сокращении неравенства в нижней части распределения доходов, которое наблюдалось в 2000-е годы [Лукьянова, 2007].
Особенности индивидуальной динамики самооценки уважения представляют картину, резко отличающуюся от динамики самооценки материального положения (табл. 10-2).
Таблица 10-2. Средние вероятности самооценки уважения (по шкале от 1 до 9) в следующем году в зависимости от самооценки в текущем году, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Наибольшую устойчивость представлений о собственном уровне уважения демонстрируют те индивиды, которые воспринимают себя в качестве наиболее уважаемых со стороны других. Вероятность сохранить прежнюю самооценку в следующем году у респондентов, располагающих себя на пятой-девятой ступенях, равняется 25–35 %. Самооценки тех индивидов, которые ощущают себя менее уважаемыми, более подвижны. Вероятность остаться на той же ступени шкалы уважения для них не превышает 22 %.
В отличие от индивидуальной динамики субъективного благосостояния, для восприятия уважения увеличение показателя самооценки на один балл является далеко не самым распространенным вариантом изменения в будущем году. Для тех, кто описывает свое положение как наименее уважаемое (первая и вторая ступени), оказывается характерна высокая вероятность «скачкообразного» изменения самооценки сразу на несколько баллов (от двух до четырех). Для таких респондентов вероятность поставить себя на «средний» уровень шкалы в следующем периоде (пятая ступень) составляет около 20 %. Таким образом, пятая ступень по шкале уважения, судя по всему, воспринимается в качестве нижнего порога социальной приемлемости, который необходимо достигнуть.
Обратимся теперь к рассмотрению особенностей индивидуальной динамики индикатора удовлетворенности жизнью в 2000–2014 гг. (табл. 10-3).
Таблица 10-3. Средние вероятности самооценки удовлетворенности жизнью в следующем году в зависимости от самооценки в текущем году, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Можно заметить, что наиболее устойчивые самооценки характерны для тех респондентов, которые в текущем году демонстрировали умеренную степень удовлетворенности своей жизнью (вариант «скорее удовлетворены»). Для таких респондентов вероятность совпадения своего текущего и будущего уровня удовлетворенности составляет около 58 %. Остальные варианты субъективной оценки своей жизни также достаточно устойчивы, хотя вероятность остаться при своем текущем мнении ниже (33–38 %). Наименее стабильными оказываются самооценки тех, кто в наименьшей степени ею удовлетворен. Для большинства уровней удовлетворенности жизнью наиболее вероятным оказывается переход на «соседний», более высокий, уровень самооценки. Скачкообразные изменения самооценки сразу на несколько уровней для восприятия удовлетворенности жизнью оказываются скорее нехарактерными.
Таким образом, индивидуальные самооценки российского населения в 2000–2014 гг. в целом оказываются довольно изменчивыми, при этом наиболее мобильными оказываются оценки тех, кто помещает себя на нижних ступенях субъективных шкал. Тем не менее прошлое восприятие также играет немаловажную роль. Большинство представленных выше изменений предполагает рост или снижение самооценки не более чем на два балла по сравнению с предыдущей самооценкой, а вероятность сохранить прошлогодние представления о себе в некоторых случаях составляет чуть более 30 %[157].
Рассмотрев особенности мобильности социального самочувствия респондентов между двумя последовательными годами, перейдем к анализу траекторий их самооценок в более длительной перспективе.
10.6. Типы индивидуальных траекторий социального самочувствия
На рисунке 10-1 представлена типология индивидуальных траекторий восприятия материального положения. Пунктир вокруг траекторий на графиках отображает границы доверительных интервалов для средних оценок показателя.
Примечание. Типология траекторий изменения восприятия материального положения была построена на основе данных о самооценках 17074 мужчин и 21122 женщин.
Рис. 10-1. Типология индивидуальных траекторий восприятия материального положения, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
В подписях к каждому графику указаны доли групп респондентов, демонстрирующих траекторию определенного типа, в общей совокупности. Период наблюдения принимает значения от 1 до 15, отображая относительное время присутствия индивида в выборке, т. е. количество последовательных лет, которое он наблюдался в обследовании.
Можно выделить немногочисленную категорию мужчин (траектория типа 1), чьи представления о собственном материальном положении на протяжении всего периода стабильно остаются крайне низкими (первая-вторая ступени). Их доля составляет 5 %. Помимо этого, среди мужчин выделяются еще несколько типов «стабильных» траекторий восприятия материального положения. Так, почти 25 % из них неизменно располагают себя на третьей ступени шкалы материального благосостояния (траектория типа 2), еще 35 % относят себя к четвертой ступени на протяжении всего периода (траектория типа 3). Траектория самовосприятия последней группы демонстрирует слабо выраженную тенденцию к ухудшению. Помимо этого почти 17 % мужчин характеризуются динамичным ростом оптимизма в оценке собственного материального положения (с трех до пяти баллов по девятибалльной шкале) (траектория типа 4). Наконец, 18 % мужчин можно отнести к категории преуспевающих (траектория типа 5). Они относят себя к пятой и шестой ступеням шкалы благосостояния и, тем самым, оценивают свое материальное положение выше всех остальных, а также демонстрируют устойчивое улучшение в восприятии собственного материального положения.
В таблице П10-2 Приложения представлены социально-демографические профили выделенных траекторий. Принадлежность респондента к той или иной групповой траектории, по всей видимости, является результатом сочетания нескольких отличительных черт. Так, наиболее благополучные мужчины с траекторией восприятия типа 5 чаще, чем представители других, обладают высшим образованием или статусом студента, имеют хорошее здоровье[158] и принадлежат к пятому квинтилю распределения среднегодовых душевых доходов. Мужчины, демонстрирующие траекторию типа 4 (динамично улучшающаяся низкая самооценка материального положения), как правило, состоят в браке и проживают в поселках городского типа или селах, обладают хорошим здоровьем и являются материально обеспеченными. Ухудшающиеся «средние» самооценки материального положения (траектория типа 3) характерны в большей степени для одиноких мужчин старше 50 лет, проживающих в городах-столицах (Москва и Санкт-Петербург). Устойчиво низкие самооценки материального положения (траектория типа 2) оказались в большей степени присущи проживающим в столицах пенсионерам, а самые пессимистические самооценки материального положения (траектория типа 1) – мужчинам-пенсионерам с плохим здоровьем, не состоящим в браке и проживающим в поселках городского типа или селах. Среди представителей последней группы менее всего высокодоходных респондентов с высшим образованием. Ожидаемо, что чем ниже пролегает траектория самовосприятия, тем меньше доля представителей данной траектории, имеющих высокие среднегодовые душевые доходы[159].
Траектории восприятия материального положения среди женщин гораздо более изменчивы. Мы можем наблюдать самые разные варианты мобильности самооценок, два из которых предполагают рост представлений о собственном материальном положении во времени. Так, восприятие почти каждой пятой женщины предполагает значительное улучшение самооценки с двух до четырех баллов по девятибалльной шкале. Помимо этого, траектория восприятия 38 % женщин описывается устойчивым улучшением представлений о собственном материальном положении, которое позволяет им перейти с четвертой ступени на пятую. Выделяется также и категория наиболее благополучных женщин – они ставят себя выше всех остальных по шкале материального положения и демонстрируют рост самооценки, совершая в результате переход с пятой на шестую ступень. Их доля составляет 12 %. Траектория восприятия материального положения 22 % женщин описывается плавно снижающейся самооценкой и переходом с четвертой на третью ступень по соответствующей шкале. Существует и категория женщин с устойчивым крайне низким восприятием собственного материального положения (первая-вторая ступень). Их самооценка практически не меняется на протяжении всего периода наблюдений, доля женщин с такой траекторией восприятия составляет 9 %.
Анализ отличительных характеристик этих групп выявляет примерный социально-демографический портрет принадлежащих к ним женщин (табл. П10-2). Наиболее благополучные женщины (траектория типа 5), как правило, обладают высшим образованием или приобретают его, имеют хорошее здоровье, состоят в браке и принадлежат к самому высокому квинтилю распределения среднегодовых душевых доходов. Женщины, демонстрирующие траекторию типа 4 (улучшающееся «среднее» восприятие материального положения), старше 50 лет, являются материально обеспеченными, обладают хорошим здоровьем, проживают в городах-столицах и не состоят в браке. Ухудшающиеся «средние» самооценки материального положения (траектория типа 3) являются характерными для не состоящих в браке женщин старше 50 лет, обладающих хорошим здоровьем. Женщины, относящиеся к траектории типа 2 (динамично улучшающаяся низкая самооценка материального положения), также старше 50 лет и не состоят в браке, однако проживают в городах-столицах и имеют статус пенсионера. Устойчиво плохое восприятие собственного материального положения (траектория типа 1) оказалось характерно для женщин, которые находятся в возрасте старше 50 лет и обладают статусом пенсионера, не состоят в браке, имеют плохое здоровье и проживают в ПГТ и селах. Как и в случае с аналогичной траекторией у мужчин, среди женщин, относящихся к данному типу, доля тех, кто имеет высшее образование или относится к пятому квинтилю по распределению среднегодовых душевых доходов, – самая низкая.
На рисунке 10-2 представлены типологии индивидуальных траекторий самооценки уважения.
Примечание. Типология траекторий изменения восприятия материального положения была построена на основе данных о самооценках 16962 мужчин и 20971 женщин.
Рис. 10-2. Типология индивидуальных траекторий восприятия уважения, испытываемого по отношению к себе со стороны других, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Как было продемонстрировано выше, в анализируемый период средние значения самооценки уважения российского населения находились на достаточно высоком уровне. Однако, как показывает настоящий анализ, этот средний уровень является результатом «перемешивания» очень разных траекторий восприятия уважения, испытываемого по отношению к себе со стороны других. К примеру, траектория подавляющего большинства мужчин (41 %) характеризуется устойчивым ростом самооценки, позволяющим им занять достаточно высокую седьмую ступень.
В то же время восприятие мужчин, располагающих себя на низких (третья-четвертая ступень, 5 %) или средних ступенях (пятая ступень, 29 %), оставалось практически неизменным. Выделяется и категория мужчин, демонстрирующих значительное ухудшение самооценки уважения на протяжении всего рассматриваемого периода, которое привело к их перемещению с восьмой ступени шкалы уважения на пятую. Их доля составляет 12 %. Траектории самооценки уважения мужчин, которые ставили себя на высокие позиции по шкале уважения, характеризуются дальнейшим улучшением восприятия на протяжении рассматриваемого периода (доля таких респондентов составляет 14 %).
Социально-демографический портрет представителей групповых траекторий самооценок уважения, в целом, повторяет основные контуры характеристик траекторий восприятия материального положения (табл. П10-2). Мужчины, относящиеся к наиболее благополучной группе (тип траектории 5), чаще других имеют высшее образование и хорошее здоровье, состоят в браке, проживают в Москве или Санкт-Петербурге и принадлежат к пятому квинтилю распределения среднегодовых душевых доходов. Представители траектории типа 4 (растущая «средняя» самооценка) находятся в возрасте старше 50 лет, отличаются хорошим здоровьем, проживают в городах-столицах и являются материально обеспеченными. Траектория типа 3 (динамично ухудшающаяся высокая самооценка уважения) оказывается характерна для мужчин, проживающих в ПГТ и селах, имеющих хорошее здоровье и состоящих в браке. Среди данной категории респондентов доля тех, кто принадлежит к самому высокому квинтилю распределения среднегодовых душевых доходов, невелика. Устойчивые «средние» самооценки уровня уважения, испытываемые по отношению к себе со стороны других (траектория типа 2), демонстрируют мужчины с хорошим здоровьем, имеющие статус студента. Устойчиво низкая траектория восприятия уважения (тип 1) описывает представления мужчин-пенсионеров с плохим здоровьем, не состоящих в браке и не имеющих высшего образования или высоких доходов.
Траектории восприятия уважения среди женщин в целом похожи на те, что были выделены для мужчин. Можно отметить две категории женщин, практически неизменных в своих оценках, – это те, кто в начале периода ставил себя на низкие (третья-четвертая ступень) и средние (пятая ступень) ступени по шкале уважения. Около 24 % женщин относятся к группе, которая испытала значительное улучшение восприятия уважения (средние значения для них выросли с 5,5 до 7,5 балла). Еще 25 % женщин, напротив, заметно ухудшили свою самооценку по сравнению с началом наблюдения, когда располагали себя на одних из самых высоких ступеней шкалы уважения. Немногочисленная доля женщин (7 %) относится к категории тех, чья самооценка уважения на протяжении всего периода, оставаясь высокой, демонстрировала тенденцию к дальнейшему росту.
Траектории типа 5 в большей степени склонны следовать состоятельные женщины старше 50 лет с высшим образованием, имеющие статус пенсионеров и состоящие в браке (табл. П10-2). Траектория, предполагающая ухудшение высокой самооценки (тип 4), описывает особенности представлений женщин, имеющих высшее образование или статус студента и проживающих в городах-столицах. Улучшающиеся «средние» самооценки уровня уважения (траектория типа 3) оказались характерны для обеспеченных замужних женщин с высшим образованием, обладающих хорошим здоровьем. Траектория типа 2 (устойчивый «средний» уровень восприятия уважения) в большей степени присуща не состоящим в браке женщинам старше 50 лет с хорошим здоровьем. Траекторию, предполагающую устойчиво низкие самооценки уважения (тип 1), демонстрируют незамужние женщины старше 50 лет без высшего образования, имеющие статус пенсионера и плохое здоровье, а также проживающие в поселках городского типа или селах. Среди представителей данной категории также в наименьшей степени распространены высокие среднегодовые душевые доходы.
Рассмотрение типологии индивидуальных траекторий удовлетворенности жизнью позволяет уточнить картину особенностей социального самочувствия россиян в 2000–2014 гг. (рис. 10-3). Можно сразу заметить, что для мужчин и женщин они очень похожи.
Выделяются категории респондентов, которые устойчиво демонстрируют наибольшую неудовлетворенность своей жизнью. Доля таких респондентов оказалась мала, как среди мужчин (6 %), так и среди женщин (7 %). Еще около 20–25 % респондентов стабильно заявляли о средней степени удовлетворенности жизнью в течение анализируемого периода, а 78 % отмечали устойчиво высокое значение данного показателя. Для подавляющего большинства респондентов обоих полов в период 2000–2014 гг. было характерно улучшение представлений о собственной жизни. Траектории восприятия удовлетворенности жизнью 19 % мужчин и 14 % женщин предполагали кардинальную смену знака оценки удовлетворенности своей жизнью с негативного на позитивный[160].
Мужчины и женщины, демонстрирующие траекторию оценок удовлетворенности жизнью типа 5 (улучшающаяся высокая самооценка), как правило, имеют высокий душевой доход, состоят в браке, имеют хорошее здоровье, высшее образование или статус студента. Устойчивые «средние» оценки удовлетворенности жизнью (траектория типа 4) оказываются характерны для женщин старше 50 лет с хорошим здоровьем и женатых мужчин с хорошим здоровьем. Траектория типа 3 (динамичное улучшение «средней» самооценки) наблюдалась у материально обеспеченных мужчин и женщин старше 50 лет с хорошим здоровьем, проживающих в городах-столицах и не состоящих в браке. Динамично растущая оценка удовлетворенности жизнью (траектория типа 2) была распространена среди женатых мужчин, проживающих в селах и ПГТ, и женщин старше 50 лет, имеющих статус пенсионера, также проживающих в населенных пунктах типа ПГТ или села. Устойчивые низкие оценки удовлетворенности жизнью (траектория типа 1) были присущи одиноким мужчинам – жителям ПГТ или сел с плохим здоровьем и незамужним женщинам старше 50 лет, имеющим статус пенсионера и живущим в ПГТ или селах.
Примечание. Типология траекторий изменения восприятия материального положения была построена на основе данных о самооценках 16402 мужчин и 20083 женщин.
Рис. 10-3. Типология индивидуальных траекторий удовлетворенности жизнью, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Исходя из этих результатов можно заключить, что наблюдавшийся в России в 20002014 гг. низкий средний уровень самооценок являлся результатом «складывания» нескольких различных траекторий восприятия, часть из которых предполагала значительное улучшение субъективных представлений индивидов. При этом выделенные траектории действительно представляли собой отличные варианты изменения социального самочувствия во времени – их доверительные интервалы не пересекаются между собой. Анализ социально-демографического профиля выделенных типов траекторий показывает, что те из них, что предполагают высокую самооценку или ее динамичное улучшение, связаны с наличием таких факторов социального статуса, как высокий доход, хорошее здоровье, высшее образование, проживание в столице и наличие супруга.
Как представители различных групп отреагировали на наступление экономического кризиса 2008–2009 гг.? Динамика средних не продемонстрировала какого-либо значимого ухудшения самовосприятия в кризисный период (см. выше). Однако шок доходов вполне может отразиться на индивидуальных траекториях социального самочувствия. При этом негативные последствия для респондентов с низкими самооценками теоретически могли быть выражены в большей степени, чем для субъективно благополучных респондентов. Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим распределение значений безусловного разрыва самооценок между 2008 и 2009 гг. в зависимости от типа траектории социального самочувствия (рис. П10-1-П10-3 Приложения). Анализируя графики распределения разрывов самооценки материального положения, можно заметить, что профили пяти траекторий в целом повторяют друг друга, однако в восприятии мужчин и женщин наблюдаются выраженные различия.
Так, в 2009 г. восприятие собственного материального положения у большинства мужчин ухудшилось на один балл вне зависимости от конкретной траектории восприятия материального положения (рис. П10-1 а)). При этом в наибольшей степени (49 %) подобная реакция оказалась характерна для мужчин, отличающихся устойчиво плохим восприятием собственного материального положения (траектория типа 1). Среди мужчин – представителей других траекторий многие также часто испытывали ухудшение самооценки на один балл, однако их доли не превышали 34 %. Доля мужчин, демонстрирующих ухудшение материального положения сразу на два балла по сравнению с докризисным периодом, также достаточно велика и варьируется от 15 до 22 % в зависимости от типа траектории. В наибольшей степени данный вариант динамики самооценки материального положения оказался характерен для представителей траектории типа 2, т. е. мужчин с устойчиво низкой самооценкой по данному параметру. В то же время почти каждый пятый мужчина вообще не отметил каких-либо изменений в собственном материальном положении в 2009 г. по сравнению с 2008 г. независимо от типа траектории восприятия. Наиболее стабильными представлениями в анализируемые два года отличались представители траектории с ухудшающимся «средним» уровнем восприятия материального положения (тип 3) и улучшающимся высоким уровнем восприятия (тип 5). Ожидаемо, что доли тех, кто отметил улучшение самооценки на один-два балла в 2009 г. по сравнению с 2008 г., были заметно меньше доли тех, кто отметил ухудшение на один-два балла.
Динамика представлений женщин о материальном положении между 2008 и 2009 гг. демонстрирует абсолютно другую картину (рис. П10-1 б)). Большинство женщин вообще не испытали каких-либо изменений в воспринимаемом уровне материального положения вне зависимости от типа траектории. При этом наибольшей стабильностью отличались представления тех женщин, кто принадлежал к траектории с устойчивым плохим восприятием материального положения (тип 1, около 45 %). Примечательно, что доля женщин, которые отметили ухудшение материального положения на один балл (20–22 % в зависимости от типа траектории), примерно соответствует доле тех, кто отметил улучшение материального положения на один балл. Аналогичные результаты наблюдаются и при сравнении долей тех, кто отметил ухудшение и улучшение материального положения на два балла.
В отличие от субъективного материального положения динамика представлений об уровне уважения, испытываемого по отношению к себе, у мужчин и женщин похожа (рис. П10-2 (а-б)). Так, большинство мужчин и женщин, вне зависимости от типа траектории, не изменили свою самооценку в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Наибольшую стабильность самооценок уважения в анализируемые два года демонстрировали мужчины и женщины, чья траектория восприятия уважения характеризуется растущей высокой самооценкой (траектория типа 5 как среди мужчин, так и среди женщин). Среди них соответствующая доля «устойчивых» представлений составляла 42–45 %. При этом доля мужчин и женщин, опустившихся на одну ступень в 2009 г., примерно соответствует доле тех, кто поставил себя на одну ступень выше по сравнению с 2008 г. (15–20 %).
Динамика восприятия удовлетворенности жизнью в 2008–2009 гг. среди мужчин и женщин в целом повторяет основные особенности восприятия уровня уважения (рис. П10-3 (а-б)). Подавляющее большинство мужчин и женщин в каждой из выделенных групп вообще не изменили свою оценку удовлетворенности жизнью в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Среди мужчин и женщин наиболее устойчивые оценки удовлетворенности были характерны для тех, кто принадлежал к траектории типа 3 (динамично улучшающаяся «средняя» самооценка). Соответствующая доля составляла 50–52 %. Наиболее стабильные оценки удовлетворенности жизнью также концентрировались среди женщин, которые обладали растущей высокой самооценкой (траектория типа 5). Таким образом, можно предположить, что высокая самооценка или ее активный рост в предшествующий период создавали некий психологический запас прочности, который позволял самооценкам оставаться на докризисных отметках.
Подводя итоги представленному анализу, можно отметить, что наиболее заметное влияние экономического кризиса на социальное самочувствие наблюдалось при рассмотрении динамики показателя субъективного материального положения для мужчин. Подавляющее большинство из них отметило снижение соответствующей самооценки на один-два балла в 2009 г., в то время как восприятие материального положения среди женщин оказалось гораздо менее чувствительным к кризисным явлениям. Самооценки уважения и удовлетворенности жизнью слабее реагировали на кризисный шок 2009 г., чем восприятие материального положения. При этом значительных различий в реакции представителей разных траекторий выявить не удалось. Профили распределения разрывов самооценок повторяют друг друга. Однако если траектория социального самочувствия сопряжена с высокой самооценкой или ее ростом, то негативные последствия кризиса оказываются зачастую выражены слабее.
10.7. Эффект наступления важных жизненных событий
Помимо выделения групповых траекторий как таковых мы можем также оценить влияние наступления отдельных жизненных событий на траекторию изменения показателей самооценки. Как отмечалось выше, эффект наступления позитивных жизненных событий, как правило, сглаживается быстрее, чем шок от негативных. Таким образом, последствия этих событий для самовосприятия оказываются ассиметричными. В этом отношении интересно рассмотреть как влияние вступления в брак, так и расторжения брака, а также проанализировать эффект потери работы и нахождения занятости.
Эффект вступления в брак. В рамках проведенного анализа рассматривалось влияние вступления в брак (гражданский или официальный) на траектории субъективных показателей материального положения, уважения и удовлетворенности жизнью. Для сравнения эффектов от наступления жизненного события для представителей разных траекторий предполагалось, что оно наступает у всех в один и тот же момент времени в середине периода наблюдения[161]. Соответствующие графики представлены в Приложении (рис. П10-4-П10-8).
Для мужчин вступление в брак в наибольшей степени сказывается на виде траекторий самооценки уважения и удовлетворенности жизнью (рис. П10-4). На графиках заметны резкие скачкообразные всплески соответствующих показателей, которые затем так и не сглаживаются, однако и не меняют общего направления траекторий, наблюдавшегося до наступления события. Эффект брака на траекторию восприятия материального положения мужчин выражен гораздо слабее. При этом позитивная динамика самооценок, связанная с изменением семейного статуса, характерна только для тех мужчин, которые ставят себя на низкие и средние ступени по субъективным шкалам. Наиболее успешные, по собственным самоощущениям, мужчины вообще не отмечают каких-либо изменений в социальном самочувствии после вступления в брак.
Данные выводы во многом справедливы и для женщин. Женщины, ставящие себя на высокие ступени социальной лестницы и удовлетворенные своей жизнью, после вступления в брак практически не демонстрируют заметного улучшения самооценки. Вероятно, особую роль здесь играют ненаблюдаемые индивидуальные характеристики, которые определяют высокие самооценки мужчин и женщин до вступления в брак. Знаковым событием брак становится для тех женщин, кто по своим ощущениям занимает нижние ступени социальной иерархии. При этом, в отличие от мужчин, вступление в брак для женщины в большей степени влияет на самооценку материального положения и удовлетворенности жизнью в целом, чем на самооценку уважения, испытываемого по отношению к себе со стороны других. Траектории последней практически никак не отражают смену семейного статуса для женщины. Можно предположить, что для женщин с низкой самооценкой вступление в брак во многом ассоциируется с появлением экономической поддержки и относительной финансовой стабильностью. Для мужчин же вступление в брак, возможно, маркирует успешное прохождение жизненного этапа, связанного с ответственностью и зрелостью (реакцией на которое, в частности, является воспринимаемое ими возросшее уважение со стороны других).
Важно отметить, что представленные выше результаты для индивидов с низкой самооценкой, согласно которым самовосприятие после наступления жизненных событий не возвращается к прежнему уровню с течением времени, противоречат проведенным до этого исследованиям. По всей видимости, для индивидов, которые ставят себя на низкие ступени социальной иерархии и не удовлетворены своей жизнью, изменение жизненных обстоятельств оказывается более важным и значимым, чем для тех, кто по собственным оценкам принадлежит к категории благополучных. Можно предположить, что обстоятельства, которые могут привести к позитивной динамике самовосприятия у индивидов с низкой самооценкой (карьерный и профессиональный рост, увеличение дохода), вероятно, редки [Luhmann et al., 2010], а потому они придают большее значение изменениям в своей личной жизни.
Эффект расторжения брака. Аналогично представленным выше результатам, расторжение брака для мужчины в наибольшей степени сказывается на траектории восприятия уважения и удовлетворенности жизнью (рис. П10-5). Сразу после наступления события заметно отчетливое падение самооценок. Их прежний уровень практически не восстанавливается, однако общее направление траекторий субъективных показателей не изменяется. Как и в случае с эффектом заключения брака, прекращение семейных отношений сказывается в первую очередь на траектории самооценок тех мужчин, которые занимают невысокие позиции по анализируемым субъективным шкалам. Другой вариант значительного изменения в профиле траектории характерен для тех мужчин, которые демонстрировали динамичное снижение самооценок и до наступления развода. В таком случае эффект расторжения брака может стать неким дополнительным катализатором продолжающегося ухудшения социального самочувствия.
Наиболее чувствительными к расторжению брака также оказываются траектории восприятия тех женщин, кто по своим ощущениям находится в уязвимом положении – низко оценивают свой социальный статус и не удовлетворены жизнью. Чем выше расположена траектория социального самочувствия женщины, тем меньшее влияние оказывает развод на вид траектории. К примеру, траектория самооценки уважения изменяется в связи с расставанием с партнером только у тех женщин, которые оценивали уровень уважения по отношению к себе очень низко, даже находясь в замужнем статусе. В гораздо большей степени эффект развода затрагивает траектории представлений женщин о собственном материальном положении и удовлетворенности жизнью. Это согласуется с представленными выше результатами, согласно которым вступление в брак в большей степени повышает самооценку материального благосостояния и оценку собственной жизни в целом.
Появление ребенка. На рисунке П10-6 представлены последствия появления ребенка для траекторий социального самочувствия мужчин и женщин. Появление в домохозяйстве ребенка оказывает более выраженное влияние на траектории самооценок мужчин, чем на траектории женщин. Возможно, это связано с большей вовлеченностью женщины в процесс подготовки к появлению нового члена семьи, который сглаживает скачки самовосприятия в непосредственный момент изменения состава домохозяйства. При этом для мужчин появление ребенка в значительной степени проявляется в улучшении самооценки удовлетворенности жизнью, в то время как восприятие материального положения и уважения остается практически неизменным. Наиболее значительное положительное изменение траектории удовлетворенности жизнью оказывается характерно для тех мужчин, чья траектория и до появления ребенка характеризовалась динамичным подъемом самооценки.
Анализ траекторий самооценки материального положения и уважения после появления ребенка показывает, что позитивный эффект от появления ребенка в большей степени испытывают те, кто находится, по собственным ощущениям, на низких ступенях социальной иерархии. При этом на траекториях самовосприятия женщин это сказывается в меньшей степени.
Потеря и нахождение занятости. Анализируя последствия смены статуса на рынке труда, мы рассматриваем переходы между занятостью и незанятостью в целом, не дифференцируя последнюю на безработицу и экономическую неактивность.
Для мужчин переход в занятость из состояния незанятости сопряжен с выраженным всплеском самооценки материального положения и уважения, а также удовлетворенности жизнью, который приводит к смене самих траекторий (рис. П10-7). Как и в рассмотренных выше случаях, первоначальный позитивный шок не сменяется выравниванием самооценки, вместо этого траектория переходит на новый, расположенный выше, уровень. Общее направление траекторий при этом не меняется. Примечательно, что позитивный эффект от нахождения работы оказывается в большей степени выражен для мужчин, чем для женщин.
Чем выше пролегает траектория социального самочувствия, т. е. чем лучше ощущает себя индивид в ситуации незанятости, тем слабее сказывается на его самооценках нахождение работы. Соответственно, сильнее всего переход в занятость отражается на траекториях тех индивидов, которые ощущают себя наиболее депривированными в ситуации незанятости. Значительных изменений к лучшему с точки зрения самовосприятия факт нахождения работы для них не несет, однако приводит к некоторому улучшению социального самочувствия.
Потеря работы представляет собой перемещение индивида на рынке труда из состояния занятости в незанятость. Общие закономерности изменения траекторий социального самочувствия согласуются с приведенными выше (рис. П10-8). Потеря работы представляется более значимым негативным внешним шоком для траекторий самооценок мужчин, чем женщин. Ухудшение самооценок прослеживается по всем показателям социального самочувствия – субъективного материального положения, уважения и удовлетворенности жизнью. Чем выше пролегает траектория самооценки респондента по каждому из индикаторов социального самочувствия, тем меньше сказывается потеря занятости на профиле траектории. При этом потеря занятости также не приводит к радикальной смене направления траектории, которое наблюдалось до потери работы.
10.8. Заключение
Настоящая глава обсуждает мобильность и стабильность социального самочувствия россиян в период с 2000 по 2014 гг. Несмотря на различные сложности, связанные с измерением и анализом самооценок, они являются незаменимыми показателями для исследователей и лиц, принимающих решения в области социальной политики. Именно то, как люди себя чувствуют, определяет то, как они себя ведут. Использование субъективных индикаторов может помочь в понимании того, была ли та или иная социальная реформа успешна или нет, указать на потребности и нужды населения, оценить масштаб общественной поддержки тех или иных социальных мер [Veenhoven, 2001].
Различные социологические исследования, проведенные в 2000-е годы, демонстрировали, что в среднем самовосприятие россиян оставалось на достаточно низком уровне, несмотря на наблюдавшийся на протяжении большей части периода экономический рост и активные социальные реформы. При этом до настоящего момента мы не имели возможности заглянуть внутрь этого «среднего» уровня и понять, какие траектории восприятия приводят к общему низкому уровню социального самочувствия.
Представленные выше результаты показывают, что социальное самочувствие людей отнюдь не является «законсервированным». Доля респондентов, ежегодно меняющих свои представления о себе, достаточно велика. Примечательно, что в анализируемый период восходящая мобильность самооценок по показателям удовлетворенности жизнью и субъективному социальному статусу была характерна для тех, кто ощущал себя наиболее депривированным – располагал себя на низких ступенях субъективных шкал. Можно предположить, что именно такие люди в большей степени почувствовали на себе позитивный эффект от преобразований в экономике и социальной сфере в 2000–2014 гг. Наибольшей устойчивостью отличались самооценки тех, кого можно назвать «середнячками» – умеренно оценивающих свой уровень удовлетворенности жизнью и социальное положение. При этом, чем выше прошлая самооценка, тем меньше оказывалась вероятность ее дальнейшего роста.
Наблюдаемый низкий средний уровень самооценок является результатом «перемешивания» нескольких очень различных траекторий. Некоторые из них можно описать как стабильные (т. е. самооценка респондента остается на одном и том же уровне в течение всего периода наблюдений), в то время как другие предполагают значительную мобильность самооценок – их рост или падение. Такие «мобильные» траектории оказываются присущи примерно половине респондентов. Принадлежность к той или иной групповой траектории объясняется сочетанием нескольких отличительных черт, и, вполне ожидаемо, что «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Траектории восприятия, связанные с высокой самооценкой и/или ее динамичным улучшением, предполагают наличие таких характеристик, как высокий доход, хорошее здоровье, высшее образование, проживание в столице и наличие супруга. В свою очередь, траектории, сопряженные с наличием низкой самооценки и/или ее ухудшением, присущи респондентам с невысоким доходом и отсутствием высшего образования, плохим здоровьем, отсутствием партнера и проживанием в ПГТ и селах.
Экономический кризис 2008–2009 гг. довольно умеренно отразился на самовосприятии россиян. Какой-либо выраженный эффект удалось обнаружить только для мужчин при рассмотрении показателя субъективного материального положения. Однако если тип траектории социального самочувствия сопряжен с высокой самооценкой или ее ростом, то какие-либо негативные последствия кризиса вообще не отмечались. Вероятно, самооценка представителей подобных траекторий обладала определенным запасом психологической прочности, который позволил ей удержаться на докризисных значениях.
Еще одна важная тема, возникающая в связи с обсуждением мобильности и стабильности социального самочувствия, – это эффект наступления жизненно важных событий. Как те или иные события в жизни влияют на форму и направление траектории самовосприятия? Насколько продолжительно их влияние и обратимо ли оно вообще? Результаты настоящего исследования частично согласуются с выводами зарубежных авторов. Набор жизненных событий, приводящих к улучшению социального самочувствия, вполне ожидаем. Среди них нахождение работы, вступление в брак, появление детей. Потеря работы и развод, в свою очередь, приводят к заметному ухудшению социального самочувствия. Неожиданным результатом оказалось то, что в российском случае наступление жизненно важных событий имеет наиболее выраженное воздействие на траектории социального самочувствия тех, кто ощущает себя наименее благополучными. Траектория их восприятия после наступления жизненных событий меняется, а уровень социального самочувствия более не возвращается к прежним значениям. В противоположность этому самые благополучные по самоощущениям респонденты вообще не отмечают каких-либо изменений в социальном самочувствии после наступления жизненно важных событий. Тем самым для индивидов, которые ставят себя на низкие ступени социальной иерархии и не удовлетворены своей жизнью, изменение жизненных обстоятельств (улучшение или ухудшение) имеет гораздо большее значение, чем для тех, кто ставит себя на высокие ступени субъективных шкал.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в российском обществе существуют определенные категории населения, чье социальное самочувствие вполне благоприятно. Это люди с высоким образованием и доходом, хорошим здоровьем, проживающие в городах столичного статуса. Особенности их самовосприятия, предполагающие высокую самооценку или ее динамичный рост, позволяют им справляться с негативными жизненными событиями, включая кратковременный шок доходов, который был связан с кризисом 2008–2009 гг. Однако от трети до половины населения составляет другая категория – люди, чьи самооценки низки или стабильно снижаются. Причины их негативного самовосприятия – низкий уровень образования и низкий доход, плохое здоровье, инфраструктурные проблемы, характерные для небольших населенных пунктов. Именно они чувствительнее всего реагировали на успехи экономической и социальной политики первой половины 2000-х годов, однако они же и острее других переживали последствия экономического кризиса и различных жизненных неурядиц. Можно поэтому сказать, что наше исследование вновь высвечивает основные болевые точки в социальной структуре российского общества.
Приложение П10
Таблица П10-1.
Средние самооценки социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Характеристики групповых траекторий социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг., %
А) Мужчины
Б) Женщины
Рис. П10-1. Динамика самооценки материального положения в 2008–2009 гг., в зависимости от типа траектории, РМЭЗ НИУ ВШЭ
А) Мужчины
Б) Женщины
Рис. П10-2. Динамика самооценки уважения в 2008–2009 гг. в зависимости от типа траектории, РМЭЗ НИУ ВШЭ
А) Мужчины
Б) Женщины
Рис. П10-3. Динамика самооценки удовлетворенности жизнью в 2008–2009 гг. в зависимости от типа траектории, РМЭЗ НИУ ВШЭ
Примечание. Точки обозначают линию траекторий социального самочувствия у респондентов, которые состояли в браке все время.
Рис. П10-4. Вступление в брак и траектории социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Примечание. Точки обозначают линию траекторий социального самочувствия у респондентов, которые состояли в браке все время.
Рис. П10-5. Расторжение брака и траектории социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Примечание. Точки обозначают линию траекторий социального самочувствия у респондентов, которые имели ребенка все время.
Рис. П10-6. Появление в домохозяйстве ребенка и траектории социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Примечание. Точки обозначают линию траекторий социального самочувствия у респондентов, которые были заняты все время.
Рис. П10-7. Переход из незанятости в занятость и траектории социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Примечание. Точки обозначают линию траекторий социального самочувствия у респондентов, которые были заняты все время.
Рис. П10-8. Переход из занятости в незанятость и траектории социального самочувствия, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2014 гг.
Литература
Андреенкова Н.В. Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью и определяющих ее факторов // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 5. С. 189–215.
Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров): Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН, 2011.
Зудина А.А. Динамика субъективного социального статуса при потере работы: анализ профессиональных различий // Мир России: Социология, этнология. 2016. Т. 25. № 4. С. 154–184.
Лапин Н.И. Базовые ценности, социальное самочувствие и доверие институтам власти // IX Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. М.: ГУ ВШЭ, 2007.
Лукьянова А.Л. Динамика и структура неравенства по заработной плате (1998–2005 гг.): Препринт WP3/2007/06. М.: ГУ ВШЭ, 2007
Российская идентичность в социологическом измерении: Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН, 2007.
Тихонова Н.Е. Удовлетворенность россиян жизнью: динамика и факторы // Общественные науки и современность. 2015а. № 3. С. 19–33.
Тихонова Н.Е. Явные и неявные последствия экономических кризисов для россиян // Социологические исследования. 2015б. № 12. С. 16–27.
Уровень и образ жизни населения России в 1989–2009 годах: доклад к XII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 5–7 апр. 2011 г. / Г.В. Анд-рущак, А.Я. Бурдяк, В.Е. Гимпельсон и др.; рук. авт. колл. Е. Г. Ясин. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011.
Campbell A., Converse P., Rodgers W. The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations and Satisfactions. New York: Russell Sage Foundation, 1976.
Easterlin R.A. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence // P.A. David, M.W. Reder (eds.) Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. New York; London, 1974.
Gadermann A.M, Zumbo B.D. Investigating the Intra-individual Variability and Trajectories of Subjective Well-being // Social Indicators Research. 2007. Vol. 81. P. 1–33.
Hall J., Ring J. The Relationship between Subjective and Objective Indicators of Individual Well-being: A Linear Modelling Approach / Materials of UK/USA SSRC Conference on Subjective Measures of Quality of Life. 1975.
Headey B. Subjective Well-being: Revisions to Dynamic Equilibrium Theory Using National Panel Data and Panel Regression Methods // Social Indicators Research. 2006. Vol. 79. P. 369–403.
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. 1979. Vol. 47. № 2. P. 263–291.
Kahneman D., Diener E., Schwarz N. (eds.) Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology. New York: Russell Sage Foundation, 1999.
Lucas R.E., Clark A.E., Georgellis Y., Diener E. Reexamining Adaptation and the Set Point Model of Happiness: Reactions to Changes in Marital Status // Journal of Personality and Social Psychology. 2003. Vol. 84. № 3. P. 527–539.
Luhmann M., Eid M., Lucas R.E., Diener E. Not Everything Happens to Anybody. Subjective Wellbeing As a Predictor of Life Events / Conference Materials of 11th Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology. Las Vegas, 2010.
Luhmann M., Hofmann W., EidM., Lucas R.E. Subjective Well-Being and Adaptation to Life Events: A Meta-Analysis // Journal of Personality and Social Psychology. 2012. Vol. 102. № 3. P. 592–615.
Merton R.K. The Thomas Theorem and the Matthew Effect // Social Forces. 1995. Vol. 74. № 2. P. 379–424. Nagin D. Group-Based Modeling of Development. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press, 2005.
Nagin D., Jones B. A Stata Plugin for Estimating Group-Based Trajectory Models: Indiana University Working Paper. 2012. (-03-29_nagin_trajectory_stata-plugin-info.pdf)
Stones M.J., Hadjistavropoulos T., Tuuko H., Kozma A. Happiness Has Traitlike and Statelike Properties: A Reply to Veenhoven // Social Indicators Research. 1995. Vol. 36. P. 129–144.
Thomas W.I., Thomas D.S. The Child in America: Behavior Problems and Programs. Knopf, 1928.
Veenhoven R. Is Happiness a Trait? Tests of the Theory that a Better Society Does Not Make People Any Happier? // Social Indicators Research. 1994. Vol. 32. P. 101–160.
Veenhoven R. Why Social Policy Needs Subjective Indicators?: WZB Discussion Paper, № FS Ш 01-404. 2001.
Veenhoven R. Sociological Theories of Subjective Well-being / M. Eid, R. Larsen (eds.) The Science of Subjective Well-being: A Tribute to Ed Diener. New York: Guilford Publications, 2008. P. 44–61.
Weber M. Class, Status and Party // Class, Status and Power / ed. by R. Bendix, S. Lipset. New York: Free Press, 1966.
Глава 11 Динамика рабочих мест и рабочей силы в сравнительной перспективе
11.1. Введение
Предыдущие разделы книги были посвящены различным аспектам мобильности на российском рынке труда. Данная глава ставит своей основной задачей найти ответ на вопрос, как тенденции в области создания и ликвидации рабочих мест, характерные для России, вписываются в международный контекст. Для достижения поставленной цели мы, используя результаты теоретических и эмпирических исследований по наиболее важным аспектам движения рабочих мест и рабочей силы, имеющихся в зарубежной литературе по рынку труда, попытаемся выявить межстрановые особенности этого процесса. Подчинены ли реаллокационные процессы на рынке труда исключительно общим закономерностям и, следовательно, они проходят приблизительно одинаково в отдельных странах, в том числе и в России, либо, когда мы говорим о динамике и направлениях движения потоков рабочих мест и рабочей силы, можно наблюдать значительные межстрановые различия? Если эти различия существуют, то какие факторы лежат в их основе? И здесь, прежде всего, встает вопрос о роли институтов, от особенностей функционирования которых во многом зависят темпы и направления оборота рабочих мест и рабочей силы. Мы анализируем характерные черты процесса создания и ликвидации рабочих мест на рынке труда в странах с различным уровнем экономического развития: развитых и, что особенно важно для нас – в странах, осуществивших, как и Россия, переход от командной к рыночной экономике. В отдельных случаях мы затрагиваем особенности этого процесса на рынке труда развивающихся стран.
Проблемам мобильности в отдельных странах, а также межстрановым сравнительным исследованиям посвящен значительный пласт академических работ, количество которых в последние два десятилетия существенно возросло. Растущий интерес исследователей к этой проблеме связан, прежде всего, с тем, что реаллокация рабочих мест и рабочей силы стала рассматриваться в качестве одного из важнейших драйверов роста производительности труда. Многие авторы в своих работах убедительно показали, что процесс создания и ликвидации фирм, перераспределение ресурсов от «умирающих» к растущим компаниям способствуют увеличению производительности труда и росту производства [Griliches, Regev, 1995; Bartelsman, Haltiwanger, Scarpetta, 2009; OECD, 2009; Bassanini et al., 2010]. Фирмы, «исчезающие» с рынка, в большинстве случаев ликвидируют большое число устаревших рабочих мест, в то время как вновь создаваемые предприятия обычно открывают более производительные рабочие места [Haltiwanger, 1997; Disney, Haskel, Heden, 2003; Baldwin, Gu, 2006]. В свою очередь, сдерживание оборота рабочих мест и рабочей силы, например, с помощью жестких законов о труде, может оказать негативное воздействие на динамику производительности труда [Foster, Haltiwanger, Krizan, 2006; Brown, Earle, 2008]. Таким образом, положительные последствия от процессов реаллокации на рынке труда достигаются только при условии эффективно работающих институтов.
Изучение процесса создания и ликвидации рабочих мест, перемещения работников между различными отраслями и типами предприятий позволяет лучше понять внутренние механизмы функционирования рынка труда, оценить его адаптационные возможности при возникновении различных шоков и, соответственно, предоставить более обоснованные рекомендации по проведению политики в этой сфере.
Глава построена следующим образом. Вначале мы рассматриваем методологию и особенности статистических баз, используемых для межстрановых сравнительных исследований, а затем подробно анализируем масштабы и особенности оборота рабочих мест и рабочей силы в странах с развитой рыночной и переходной экономикой. Далее предметом нашего анализа является влияние, которое структура экономики, с точки зрения размера предприятия и отраслевой принадлежности, оказывает на процессы мобильности на рынке труда, и как структурные особенности могут объяснить различия в скорости реаллокационных процессов в отдельных странах. Особое внимание будет уделено влиянию институтов рынка труда, и, прежде всего, трудового законодательства, системы пособий по безработице, регулирования товарных рынков, на процессы создания и ликвидации рабочих мест. Мы также постараемся ответить на вопрос, как циклическое движение экономики может корректировать динамику и масштабы оборота на рынке труда. В заключении приводятся основные выводы.
11.2. Методология и особенности статистических баз межстрановых исследований движения рабочих мест/рабочей силы
Первые работы по изучению движения рабочих мест и рабочей силы были сделаны на статистических данных отдельных стран. Главным затруднением для межстрановых сравнительных исследований были различия в методах сбора информации национальными статистическими ведомствами. Проведение сравнительных исследований стало возможным, только когда, во-первых, была разработана методология расчета потоков на рынке труда; и, во-вторых, появились унифицированные базы статистических данных.
Основы методологии анализа процессов реаллокации на рынке труда были заложены в работах С. Дэвиса и Дж. Халтивангера [Davis, Haltiwanger, 1992; 1998; 1999], а также [Davis, Haltiwanger, Schuh, 1996]. Подход этих авторов к измерению движения рабочих мест стал общепризнанным. В настоящее время он повсеместно используется исследователями разных стран, а также многими национальными статистическими ведомствами[162].
Выработка единой методологии проведения национальных обследований рынка труда в странах ОЭСР, а также унификация отчетности компаний в значительной степени стали результатом работы Евростата. Еще одним важнейшим источником информации для межстрановых исследований мобильности на основе отчетности предприятий стала база данных AMADEUS, которая была создана при посредничестве голландского бюро ван Дийка (Bureau van Dijk). Эта база содержит информацию по 14 млн компаний из 43 европейских стран, среди которых 27 стран Европейского союза и 16 стран Восточной и Южной Европы с переходной экономикой. На основе этой базы данных была составлена «Карта потоков рабочих мест Европы» («The European Map of Job Flows» [EMJF, 2011]). Именно эту базу данных мы используем в качестве основного источника информации о масштабах и динамике реаллокационных процессов на рынках труда развитых стран и стран с переходной экономикой. Высоко оценивая значимость данной статистической базы для межстрановых исследований потоков на рынке труда, следует подчеркнуть, что в ней все же недостаточно представлены малые предприятия, а также неформальный сектор, что отражается не только на общих показателях оборота рабочих мест, но и не позволяет оценить реальный прирост занятости в отдельных странах. Это в первую очередь касается стран с переходной экономикой, которые располагают значительным неформальным сектором.
К процессу унификации баз данных в целях изучения процессов реаллокации на рынке труда подключились отдельные коллективы исследователей. Наиболее известной является база данных по обороту рабочих мест за 1997–2004 гг., составленная по единой методологии на основе национальных регистров предприятий и налоговой статистики Дж. Халтивангером и его коллегами [Haltiwanger et al., 2006; Bartelsman, 2008]. Эта база данных содержит информацию по шестнадцати странам, в том числе четырем странам с переходной экономикой и одной стране БРИК – Бразилии. Для большинства стран имеющаяся информация охватывает отдельные отрасли экономики, для некоторых стран (Великобритании, Бразилии) – только промышленность. Подробное описание методов сбора статистической информации и особенности унификации данных содержатся в работе [Bartelsman, Haltiwanger, Scarpetta, 2009]. Эта база данных активно используется многими исследовательскими коллективами, в том числе экспертами ОЭСР.
По мере появления межстрановых баз данных количество работ, анализирующих межстрановые особенности оборота рабочих мест, значительно возросло, также расширился географический охват исследований. Если Фаггио и Конингс [Faggio, Konings, 2003] анализировали потоки на рынке труда девяти европейских стран, то авторы работы [Gomez-Salvador, Messina, Vakkanti, 2004] рассматривали уже 14 экономик Западной Европы. В работе [Haltiwanger, Scarpetta, Schweiger, 2010] проведено сравнительное исследование по 16 европейским странам и США. В проекте 2011 г. «Карта потоков рабочих мест Европы» [EMJF, 2011] анализируются потоки на рынке труда 43 стран как развитых экономик, так и переходных, включая Россию. Следует подчеркнуть, что использование авторами все более сопоставимых микроданных (по мере их появления) зачастую приводит если не к полному пересмотру, то значительному уточнению полученных ранее результатов.
При межстрановых исследованиях наибольшие сложности возникают при расчете оборота рабочих мест. Поэтому в сравнительных целях очень часто пользуются более доступными данными, а именно долей фирм, в которых произошло изменение занятости, включая вновь созданные и ликвидированные, либо анализируют данные об обороте рабочей силы. Правомочность использования последнего показателя связана с тем, что динамика оборота рабочих мест и рабочей силы находятся в тесной зависимости [OECD Employment Outlook, 2009]. Это проявляется, в частности, в том, что ранжирование стран по динамике рабочих мест и рабочей силы оказывается очень близким. Коэффициент корреляции между этими двумя показателями составляет 0,98, т. е. при увеличении оборота рабочих мест на один процентный пункт настолько же увеличивается и показатель оборота рабочей силы, причем это происходит без ускорения ее холостого оборота (worker churning) [Bassaninian, Marianna, 2009].
В то же время значительный сдвиг в деле унификации национальных данных по показателям оборота рабочих мест не означает решения всех проблем, связанных с источниками информации. Так, показатели оборота рабочей силы и рабочих мест, полученные на основе данных о предприятиях в национальных регистрах, и результаты обследований предприятий, в принципе, не могут быть полностью сопоставимыми. Из-за различного охвата предприятий показатель оборота рабочих мест, рассчитываемый на базе отчетности предприятий, обычно превышает показатель на основе данных обследований, так как в первом случае мелкий и мельчайший бизнес, который априори является более нестабильным по сравнению с крупными компаниями, представлен более полно. Также неизбежны различия в показателях оборота, если использовать данные не компании (как производственной единицы, в состав которой может входить несколько предприятий), а отдельных предприятий.
11.3. Масштабы оборота рабочих мест и рабочей силы
Важнейшим измерителем мобильности на рынке труда, квинтэссенцией процессов, происходящих в сфере труда, является создание и ликвидация рабочих мест. Сам по себе этот показатель заметно различается как по отдельным странам, так и группам стран, что может свидетельствовать о национальных особенностях функционирования рынка труда. По данным Дж. Халтивангера и С. Скарпетты, в странах ОЭСР в среднем оборот рабочих мест составлял в 2000-е годы 25 % [Haltiwanger, Scarpetta, 2010]. Однако «лидерство» по динамике этого показателя принадлежит развивающимся странам, в первую очередь странам Южной Америки, а также переходным экономикам. В этих группах стран показатель оборота рабочих мест приближается к 30 %. Сопоставимые данные оборота рабочих мест были получены в ОЭСР, где среднегодовая величина этого показателя за 1997–2004 гг. для стран, входящих в организацию, была определена равной 22 % [Bassanini, Marianna, 2009, р. 13].
Сравнить интенсивность движения рабочих мест между экономически развитыми странами и странами, осуществившими переход к рынку, позволяют данные, полученные в ходе реализации «Карты потоков рабочих мест Европы» [EMJF, 2011]). В таблице П11-1 Приложения приведена динамика оборота рабочих мест на действующих предприятиях в 17 западноевропейских странах и 13 странах с переходной экономикой, включая две страны бывшего СССР (Россию и Украину). Как видно из представленных данных, страны Центральной и Восточной Европы, экономика которых испытывает потребность в масштабной реструктуризации, демонстрируют более интенсивное движение рабочих мест, чем страны с развитой рыночной экономикой. В последней группе стран в среднем стабильную численность занятых имели 58 % всех компаний, в то время как подобный показатель в переходных экономиках составил только 37 %.
Обе группы стран не являются гомогенными – внутри каждой из них можно проследить значительную дифференциацию по уровню мобильности. Несмотря на наличие некоторых исключений, можно утверждать, что в западноевропейском регионе наиболее высокая доля фирм, занятость на которых стабильна, фиксируется в странах, имеющих хорошо структурированные институты социальных отношений, а именно, высокую долю членов профсоюзов и широкий охват коллективными договорами, активное участие работодателей в предпринимательских объединениях, повсеместное использование коллективного договора как инструмента регулирования отношений между работниками и работодателями. В таких странах как Германия, Швейцария, Швеция, Ирландия и Греция имели стабильную занятость в среднем за период от 72 до 91 % всех компаний. На другом конце спектра находится Великобритания, страна с либеральной экономической моделью и слабым профсоюзным движением, где «стабильными» являлись только 29 % всех фирм.
В группе постсоциалистических стран также наблюдаются серьезные различия в динамике оборота рабочих мест. В Чешской Республике и Словакии доля компаний со стабильной занятостью сохраняется на очень высоком уровне, даже превышающем соответствующий показатель для стран с развитой рыночной экономикой (74 и 72 % соответственно). Однако в подавляющем большинстве стран Восточной и Южной Европы, напротив, наблюдались чрезвычайно интенсивные процессы перераспределения рабочих мест. Помимо Латвии и Украины в последнюю группу входит и Россия с показателем доли фирм, в которых фиксировалось изменение занятости, равным 86 %.
Для понимания процессов, происходящих на рынке труда, важным является не только суммарный показатель реаллокации, но и направленность этих изменений. Какой процесс является доминирующим: создание рабочих мест, либо их ликвидация? Как видно из табл. П11-1, как в развитых странах, так и в странах с переходной экономикой доля компаний с возрастающим числом рабочих мест превышала долю тех фирм, где они сократились абсолютно. Для развитых стран эти показатели составили соответственно 21 и 16 %, для стран с переходной экономикой – 32 и 26 %. Лишь в четырех из тринадцати восточноевропейских постсоциалистических странах удельный вес фирм, где произошло падение числа рабочих мест, превышал долю компаний, в которых зафиксирован противоположный результат. В последней группе находится Чешская Республика и Словакия с чрезвычайно низким показателем общего оборота рабочих мест. В эту же группу входит Россия, которую отличает высокая интенсивность оборота рабочих мест и небольшое, но все же превышение (на 0,5 п.п.) показателя компаний с сокращающейся занятостью над теми, где наблюдался рост занятости[163]. Особое место в этой группе занимает Украина, в которой за период с 1999 г. по 2006 г. лишь 28 % всех компаний могли «похвастаться» созданием дополнительных рабочих мест, в то время как 45 % предприятий теряли занятость. В группу восточноевропейских стран, которым удалось добиться значительного превышения создания рабочих мест над их ликвидацией, входят Венгрия (47 и 29 % соответственно), Латвия (53 и 26 %) и Хорватия (35 и 21 %).
Выше мы рассматривали динамику рабочих мест на действующих предприятиях. Однако общая динамика оборота рабочих мест зависит не только от того, как ведут себя компании, уже работающие на рынке, но и от интенсивности процесса создания и ликвидации предприятий. Данные, приводимые в последних трех столбцах табл. П11-1, говорят о том, что страны с переходной экономикой по сравнению с развитыми странами значительно более активны в процессе создания (но, к сожалению, и ликвидации) новых компаний. Для формулирования экономической политики чрезвычайно важно найти ответ на вопрос, какой процесс превалирует – образование новых компаний или, напротив, их уход с рынка.
В развитых странах темпы создания и ликвидации фирм примерно совпадают, что, конечно, не исключает внутригрупповую дифференциацию по отдельным странам. В десяти из семнадцати развитых стран Западной и Южной Европы, попавших в выборку, открывалось больше компаний, чем их ликвидировалось, а пионерами по созданию новых предприятий выступали Дания и Ирландия (по 7 %). Последняя привлекает повышенный интерес исследователей своей способностью генерировать новые рабочие места. Больше всего фирм уходило с рынка в Норвегии (12 %) и Великобритании (8 %). В отличие от европейских развитых стран в переходных экономиках с рынка уходило почти в два раза больше фирм, чем возникало новых (5 и 10 % соответственно).
По темпам создания новых компаний страны с переходной экономикой можно разделить на три основные группы: страны, где происходит интенсивное открытие новых предприятий (Румыния, Эстония, Литва); страны, где этот процесс шел чрезвычайно медленно (Россия, Хорватия, Венгрия), и, наконец, страны третьей группы, которые занимают промежуточное положение между двумя «крайними» группами (в их число входят Чехия и Латвия). Подчеркнем, что, по данным «Карты потоков рабочих мест Европы», Россия с показателем 0,5 находится на последнем месте по показателю создания новых компаний среди всех стран как с переходной, так и развитой экономикой [EMJF, 2011].
Выше мы рассматривали процессы реаллокации рабочих мест с точки зрения компаний. Как ведут себя показатели создания и ликвидации рабочих мест, выраженные в процентах от средней занятости? Данные табл. П11-2 говорят о том, что страны Восточной и Южной Европы с переходной экономикой опережают западноевропейские государства по валовому показателю оборота рабочих мест, рассчитанному для всех компаний, т. е. действующих и вновь созданных или ушедших с рынка (среднегодовые индикаторы за 1999–2006 гг. достигали соответственно 23 и 20 %). При не столь резко выраженном разрыве в величине общего показателя реаллокации между двумя группами стран существуют значительные различия в динамике ее отдельных составляющих, т. е. динамике создания и ликвидации рабочих мест. Если в странах с развитой рыночной экономикой создание новых рабочих мест превалировало над их ликвидаций (соответствующие показатели составили в среднем по этой группе стран 11 и 9 %), то в переходных экономиках ликвидация рабочих мест на треть превышала показатель их создания (10 и 13 % соответственно). Подобная тенденция прослеживается в большинстве переходных экономик, за исключением двух прибалтийских республик (Эстонии и Латвии), а также Румынии и Хорватии.
В западноевропейском регионе, напротив, лишь в четырех из семнадцати стран (Австрии, Нидерландах, Ирландии и Германии, причем в последней следует учитывать влияние объединения страны) ликвидировалось больше рабочих мест, чем создавалось. Однако разрыв между двумя показателями даже при максимальных значениях не превышал двух процентных пунктов.
Процесс движения рабочих мест представляет собой два параллельно идущих потока: с одной стороны, идет постоянный процесс создания и ликвидации рабочих мест на уже действующих производственных единицах, а с другой, происходит создание новых фирм и уход с рынка тех компаний, которые не выдержали конкуренции. Какой из двух факторов – оборот рабочих мест на действующих предприятиях или создание новых и ликвидация уже действующих компаний – более важен в процессе реаллокации рабочих мест? Согласно данным, представленным в табл. П11-3, в среднем по странам с развитой рыночной и переходной экономикой вклад создания и ликвидации фирм составляет 27 % от общего оборота рабочих мест, причем особенно значим вклад компаний при ликвидации рабочих мест, где этот показатель достигает 36 %.
К близким результатам пришли эксперты ОЭСР, которые рассматривали мобильность на рынке труда в странах организации. В странах ОЭСР третья часть всех ликвидированных и около 30 % созданных рабочих мест связана с процессом создания новых и ликвидации уже действующих компаний [OECD Employment Outlook, 2009]. Данный вывод также согласуется с результатами исследования Дж. Халтивангера и С. Скарпетты, по расчетам которых в группе из шестнадцати стран, в которую вошли развитые страны, включая США, четыре страны с переходной экономикой, за период с 1997 г. по 2004 г. за счет процесса создания и ликвидации фирм происходило в среднем 30–40 % оборота рабочих мест [Haltiwanger, Scarpetta, Schweiger, 2010, р. 6].
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс создания и ликвидации фирм является одним из важнейших драйверов, определяющих динамику оборота рабочих мест. Высокая доля валового оборота рабочих мест за счет создания компаний говорит о важности обеспечения благоприятных условий для функционирования бизнеса, что особенно актуально для стран, относительно недавно приступивших к рыночным преобразованиям. Создание условий для открытия предприятий способно серьезно ускорить реаллокацию рабочих мест, поэтому все меры, упрощающие регистрацию новых компаний, могут иметь для экономики серьезный оздоравливающий эффект. Однако важно не только создать условия для регистрации компаний, но и обеспечить условия для их расширения и развития. Экономическая литература накопила достаточно свидетельств того, что наибольшее количество вновь создаваемых рабочих мест происходит не в момент открытия предприятия, а на третий-четвертый год его функционирования [Bartelsman et al., 2009]. Все это означает, что снятие барьеров на пути развития предпринимательства, а в более широком плане – устранение институциональных преград, препятствующих конкуренции, способно стимулировать интенсивность реалокационных процессов на рынке труда и тем самым способствовать повышению темпов роста производительности.
Один из важнейших аспектов проблемы мобильности на рынке труда касается взаимозависимости между скоростью оборота рабочих мест и динамикой занятости. Приводит ли интенсивная реаллокация рабочих мест к повышению занятости или между этими двумя процессами нет прямой связи?
Первое, что важно отметить: во всех странах оборот рабочей силы и рабочих мест во много раз превышает показатель изменения занятости. В то же время, как говорят данные, представленные в двух последних столбцах табл. П11-2, низкие темпы оборота рабочих мест в большинстве случаев сопровождаются отрицательным ростом занятости. Подобная тенденция характерна как для целого ряда малых стран Западной Европы (Австрии, Нидерландов, Ирландии и Швейцарии), так и переходных экономик (Чешской Республики, Венгрии, Словении и Польши).
Однако интенсивная реаллокация рабочих мест сама по себе еще не гарантирует устойчивого расширения занятости. Среди стран с высоким оборотом рабочих мест можно увидеть как страны с достаточно высокими темпами роста занятости, так и те, где занятость показывает отрицательную динамику. Причем это касается как развитых, так и переходных экономик. В первую подгруппу помимо Великобритании, Италии, Дании и Бельгии входят Эстония и Румыния. Вторая подгруппа представлена почти исключительно бывшими социалистическими странами: Болгарией, Литвой, Словакией, Украиной. В этой же подгруппе мы видим и Россию.
При контролировании основных страновых характеристик анализ зависимости динамики занятости и темпов оборота в тридцати странах, представленных в выборке AMADEUS, не выявляет какой-либо однозначной зависимости. Однако при разбивке всех стран на две группы – страны с развитой рыночной и страны с переходной экономикой – можно проследить четкую корреляцию, однако с противоположным знаком. Для западноевропейских стран высокие темпы оборота, действительно, приводят к росту занятости. Для европейских стран, осуществивших переход от командной к рыночной экономике, зависимость носит отрицательный характер. Подобные последствия связаны с тем, что в этой группе стран высокие темпы ликвидации рабочих мест не компенсируются в достаточной степени созданием новых.
Оборот рабочей силы также является важнейшим показателем, характеризующим особенности реаллокационных процессов на рынке труда, но в этом случае мобильность анализируется с точки зрения работника. Оборот рабочей силы, представляющий собой сумму найма и увольнений, существенно различается по отдельным группам стран. Как свидетельствует табл. П11-4, наиболее высокие показатели оборота рабочей силы фиксируются в англосаксонских странах и прежде всего в США, где ежегодный показатель в среднем за 2000–2007 гг. достигал 50 %. В США каждый год почти четверть всех работников покидают своего работодателя и почти столько же устраиваются на новое место работы. Высокие показатели реаллокации среди работников также характерны для двух Скандинавских стран – Дании (52 %) и Финляндии (46 %). Наименее мобильной является рабочая сила южных стран Европы, в особенности Италии и Греции, где показатель оборота не превышает 27–29 %. Пятерку стран с переходной экономикой, представленную в табл. П11-4, отличают невысокие темпы оборота рабочей силы (единственным исключением является Польша).
Сравнение данных из табл. П11-2 и П11-4 позволяет сделать вывод о значительном превышении показателя оборота рабочей силы над темпами мобильности рабочих мест, т. е. наблюдается неоднократная смена работников на одном рабочем месте. Рассчитанный ОЭСР среднегодовой показатель оборота рабочей силы в двадцати двух странах этой организации, включая четыре переходные экономики, составил в 2000–2005 гг. 33 % от среднегодовой занятости по сравнению с показателем оборота рабочих мест, равного 22 % [Bassamni, Marianna, 2009, р. 19].
Подытоживая, следует сказать, что интенсивные процессы создания и ликвидации рабочих мест, наряду с оборотом работников, характерны как для развитых, так и переходных экономик, однако последние выделяются более высокими темпами реаллокации на рынке труда. Бывшие социалистические страны также более активны в создании новых компаний, однако с рынка по-прежнему уходит значительно больше компаний, чем создается новых. Все это не позволяет добиться устойчивого повышения занятости.
11.4. Факторы межстрановой вариации реаллокационных процессов
Межстрановые различия в показателях оборота рабочих мест могут определять самые разные факторы. Прежде всего, следует назвать характеристики компаний – это размер и отраслевая принадлежность. Одновременно немаловажную роль играют сложившиеся в той или иной стране институты рынка труда.
Отраслевая структура экономики и оборот рабочих мест. Структуру экономики можно рассматривать в качестве важного фактора, объясняющего межстрановую дифференциацию в темпах мобильности на рынке труда. По расчетам Дж. Халтивангера и его коллег, особенности отраслевой структуры могут объяснить до 5 % различий в темпах оборота рабочих мест между отдельными странами [Haltiwanger, Scarpetta, Schweizer, 2010].
Каждая страна имеет свою отраслевую структуру экономики, что в конечном итоге отражается на динамике мобильности на рынке труда. В табл. П11-5 приведены данные оборота рабочих мест по основным секторам экономики в развитых странах и переходных экономиках в среднем за 1999–2006 гг. Особенностью данной выборки является включение в анализ всех типов компаний: действующих, вновь созданных, а также ликвидированных. Интенсивность создания и ликвидации рабочих мест связаны обратной зависимостью с капиталоемкостью конкретной отрасли – чем менее капиталоемкой является то или иное производство, тем больший оборот оно демонстрирует (исключением является добывающая промышленность).
3 При этом следует обратить внимание на то, что даже эти цифры являются заниженными из-за особенностей расчета показателей оборота рабочей силы. В показателе найма рабочей силы учитываются работники со стажем менее года, независимо от того, сколько раз они меняли рабочее место в течение этого периода времени.
Для обеих групп стран характерна более интенсивная реаллокация рабочих мест в сфере услуг и добывающих отраслях по сравнению с обрабатывающим производством. В среднем по тридцати странам в сфере услуг ежегодно создавалась и ликвидировалась почти четвертая часть всех рабочих мест. Лидерами по обороту рабочих мест являлись риэлтерские услуги, гостиничное хозяйство, строительство и торговля (отметим, что в данном случае в выборку сферы услуг попали только отрасли, предоставляющие рыночные услуги) [EMJF, 2011, table 14]. Высокие темпы создания и ликвидации рабочих мест в сфере услуг (на всех типах предприятий) сопровождались ростом занятости, чего нельзя сказать про добывающие отрасли, численность работающих в которых повсеместно сокращалась. Важно отметить, что эти тенденции прослеживаются как для развитых, так и переходных экономик.
Среди основных видов экономической деятельности отрасли обрабатывающей промышленности занимают последнее место по динамике оборота – этот показатель не превышает 18 %. К тому же эта отрасль демонстрирует снижающуюся занятость. Подобная ситуация стала итогом активно идущих процессов реструктуризации промышленного производства как в странах с переходной экономикой, так и развитых европейских странах. В последней группе стран свою роль сыграл процесс перевода обрабатывающих производств в регионы с более низкими издержками на рабочую силу.
Особенностью мобильности рабочих мест на предприятиях обрабатывающей промышленности западноевропейских стран является то, что сокращение занятости происходило преимущественно за счет ликвидации фирм (которую не смогло компенсировать создание новых компаний), тогда как число рабочих мест на действующих предприятиях показывало положительную динамику. Ротация предприятий также стала важным фактором сокращения занятости в обрабатывающей промышленности постсоциалистических стран Европы, правда, в этом случае сокращение численности работающих наблюдалось, в том числе, и на действующих предприятиях. Отмечая различия между двумя группами стран в динамике оборота рабочих мест в отраслевом разрезе, можно сказать, что хотя добывающие и обрабатывающие производства, а также отрасли сферы услуг в переходных экономиках демонстрируют более высокие темпы реаллокации, экономическая перестройка в этой группе стран все еще не привела к устойчивым темпам занятости. Если в западных странах при сокращении занятости в промышленных отраслях в сфере услуг наблюдался рост числа рабочих мест, то в бывших социалистических странах Восточной и Южной Европы в анализируемый период сокращение занятости было повсеместным, что отражало трудности адаптации к рыночной экономике.
Отраслевая структура также является одним из важнейших факторов, определяющих динамику мобильности рабочей силы. Использование более доступных и легче поддающихся корректировке по единой методологии данных обследований рабочей силы позволяет включать в анализ оборота рабочей силы большее количество стран. Так же как и показатели оборота рабочих мест, показатели найма и увольнений в двадцати двух странах ОЭСР (помимо развитых стран ОЭСР в выборку вошли пять стран с переходной экономикой) значительно различаются по отдельным отраслям: наиболее высокий зафиксирован в общественном питании, наиболее низкий – в электроэнергетике. Отраслевые особенности мобильности рабочей силы в целом повторяют ситуацию с оборотом рабочих мест. Однако значение отраслевой структуры в межстрановых различиях в общих показателях мобильности рабочей силы выше, чем при реаллокации рабочих мест. Распределение занятости по отдельным отраслям способно объяснить от 37 % межстрановых различий в показателе найма до 51 % в показателях увольнений [Bassanini, Marianna, 2009, р. 20].
Размер предприятия и динамика оборота рабочих мест. Хотя отраслевая структура экономики является важным фактором, определяющим масштабы мобильности на рынке труда, гораздо большее влияние на динамику и межстрановые различия в реаллокации рабочих мест оказывает размер компании. Этот фактор способен объяснить до 47 % различий в показателе оборота рабочих мест между отдельными странами [Haltiwanger, Scarpetta, 2010]. Таблица П11-6 демонстрирует поведение компаний по созданию/ликвидации рабочих мест в зависимости от своего размера. В целом подтверждается наличие обратной зависимости между размером предприятия и скоростью оборота рабочих мест, а также приростом занятости. Как в экономически развитых странах, так и в переходных экономиках процесс создания новых и ликвидация действующих предприятий особенно активно идет на микропредприятиях, а также в секторе малого бизнеса. Мельчайший бизнес, значительная часть которого состоит из семейных предприятий, является лидером по темпам оборота и создания новых рабочих мест. Показатель ежегодного оборота рабочих мест в мельчайших предприятиях за 1999–2006 гг. по тридцати европейским странам зафиксирован на уровне 26 %, при этом ежегодный рост занятости был равен 1,7 %. В то же время соответствующий показатель для крупных компаний составил 21 %, несколько выше он был в компаниях, классифицируемых как средние (22 %). Однако секторы и крупного, и среднего предпринимательства показали отрицательные темпы изменения занятости.
Различия между фирмами разного размера в показателях мобильности наиболее значительны в странах с переходной экономикой, где разрыв между микрофирмами и крупным бизнесом составляет в валовом обороте рабочих мест (включая действующие компании, а также пришедшие и ушедшие с рынка) 15 п.п., а в показателе прироста занятости – 10 п.п. Для стран Западной Европы подобные показатели значительно ниже – 3 и менее 1 п.п. Однако следует подчеркнуть, что в странах с переходной экономикой роль малого бизнеса в создании дополнительных рабочих мест обеспечивается, прежде всего, высокими темпами их ротации (созданием и ликвидацией), в то время как в развитых европейских странах роль малого предпринимательства по созданию новых рабочих мест происходит в основном за счет уже действующих малых предприятий.
Вывод о значительной ротации рабочих мест на предприятиях малого бизнеса подтверждается многими авторами, которые проводили свои исследования на разных выборках и с разным набором стран. В работе [Haltiwanger, Jarmin, Miranda, 2010] делается вывод о том, что наибольшие темпы создания новых рабочих мест характерны для компаний с числом занятых менее 20 человек, а наименьшие – для компаний, где численность работников превышает 100 человек. Хотя данная зависимость действует для всех стран, в США она выражена более отчетливо, тогда как в западноевропейских странах с рыночной экономикой эта взаимосвязь является более сглаженной.
Все же роль малого бизнеса в расширении занятости не следует преувеличивать, так как по абсолютным масштабам большинство новых рабочих мест создается в секторе крупных компаний. Государственная поддержка малого бизнеса способна содействовать созданию дополнительных рабочих мест. Однако для того чтобы этот процесс способствовал повышению производительности труда, необходимо создание новых компаний не только в сфере услуг и торговле, но и высокотехнологичных отраслях экономики.
11.5. Влияние институциональной среды на реаллокационные процессы на рынке труда
Несмотря на важность основных характеристик компаний, межстрановые различия в потоках рабочих мест не могут быть объяснены исключительно технологическими и структурными факторами. В странах с развитой рыночной экономикой отрасль и численность занятых, взятые вместе, «отвечают» только за половину всей вариации в показателях валового оборота рабочих мест. Правда, этот показатель несколько выше в менее развитых регионах – он составляет 52 % для стран Латинской Америки и 56 % для стран с переходной экономикой [Haltiwanger, Scarpetta, 2010]. Оставшуюся часть устойчивых межстрановых вариаций в потоках рабочих мест связывают с институциональными особенностями отдельных стран. Состояние институтов способно резко замедлить интенсивность реаллокационных процессов или даже исказить траекторию их движения. Таким образом, решая задачи повышения эффективности экономики страны, необходимо не упускать из виду институциональные реформы.
Среди институциональных факторов, оказывающих влияние на мобильность рабочих мест и рабочей силы, в первую очередь следует назвать законодательство о защите занятости, систему страхования безработицы, особенности конкурентной политики. От особенностей функционирования этих институтов зависят издержки входа на рынок и, следовательно, инвестиционная активность. Список институтов, которые могут влиять на интенсивность реаллокационных процессов на рынке труда, можно было бы продолжить, включив в него, в частности, активные государственные программы, направленные на поддержание занятости, систему установления заработной платы и ряд других. Однако отсутствие сравнимых страновых данных по этим институтам пока не позволяет использовать их в качестве предмета анализа.
Законы о труде и интенсивность реаллокации на рынке труда. Среди институтов рынка труда, влияющих на процессы реаллокации, особое место занимают законы о труде. Механизм влияния трудового права на основные параметры рынка труда рассматривается в контексте многих теоретических направлений. Например, в работах [Nickell, 1978; Bentolila, Bertola, 1990; Bertola, 1990] описывается поведение фирм в условиях, когда законодательство предопределяет значительные расходы на увольнение. В условиях высоких затрат на сокращение работников фирмы, действуя рационально, уменьшают масштабы «сброса» рабочей силы в периоды спада производства, но одновременно нанимают меньше работников на стадии благоприятной экономической конъюнктуры. Подобная тактика ведет к замедлению темпов реаллокации рабочей силы. Хотя общее влияние на уровень занятости может быть как положительным, так и отрицательным, жесткие законы о труде сдерживают темпы достижения равновесного уровня занятости. В рамках теории поиска работы (search and matching models) содержится вывод о негативном воздействии жесткого трудового законодательства на динамику оборота рабочих мест [Mortensen, Pissarides, 1999].
Теоретические представления о влиянии трудового законодательства на потоки рабочей силы и рабочих мест не всегда получали достоверное эмпирическое подтверждение: страны с одинаковой степенью жесткости законов о труде могли иметь разные показатели оборота рабочей силы. Часть авторов связывали эти расхождения с недостатками измерения самих институтов [Bartelsman, Haltiwanger, Scarpetta, 2009]. Во-первых, с методологической точки зрения все еще достаточно сложно корректно оценить отдельные составляющие законодательства о защите занятости и сравнить отдельные компоненты этого законодательства между странами. Во-вторых, отсутствие четкой зависимости между трудовым законодательством и процессами мобильности может быть объяснено тем, что влияние одного института бывает трудно отделить от воздействия других институциональных факторов. Более того, влияние этих факторов может даже в определенной степени исказить оценку последствий одного из институтов. С другой стороны, то что страны, имея схожее по жесткости трудовое законодательство, демонстрируют разные показатели оборота, может быть объяснено особенностями инфорсмента этих законов.
Из-за сложностей подбора унифицированной статистики первые эмпирические работы, рассматривавшие влияние законодательства о труде на масштабы мобильности, были сделаны для стран, осуществивших масштабные реформы на рынке труда: Испании, Франции, Италии и Германии. Сравнение динамики оборота рабочих мест/рабочей силы до и после проведения институциональных преобразований в целом потверждало наличие отрицательной зависимости между жесткостью законов о труде и динамикой потоков на рынке труда.
Активизация межстрановых исследований о влиянии институтов на создание и ликвидацию рабочих мест, наблюдаемую с начала 2000-х годов, напрямую связана с появлением унифицированных баз данных, собранных в отдельных странах по единой или, по крайней мере, близкой методологии. Второй причиной, сделавшей возможным сравнительные исследования, стало использование продвинутых эконометрических методов, и прежде всего метода разности в разностях (difference-in-difference approach), который позволяет более точно определить вектор и интенсивность воздействия отдельных факторов. Известно, что влияние, в частности, законодательства об увольнениях ощущается гораздо сильнее в компаниях, которые приспосабливаются к изменению спроса на свою продукцию через увольнение/найм работников по сравнению с теми фирмами, которые в подобной ситуации чаще используют внутреннее перемещение сотрудников. Метод разности в разностях помогает нивелировать влияние подобного фактора [Bassanini, Garnero, 2012].
Законодательство о труде в значительной степени определяет масштабы и динамику реаллокационных процессов на рынке труда. Сами по себе различия в степени жесткости законодательства о защите занятости могут объяснить от 20 до 30 % различий в показателях оборота рабочих мест между странами ОЭСР [Bassanini, Garnero, Marianna, Martin, 2010]. При контролировании отраслевой структуры экономики интенсивность оборота рабочих мест выше в странах с либеральным трудовым законодательством – Великобритании и США. В этих странах оборот рабочих мест составляет 25 % от общей численности занятых. В то же время в странах с регулируемой рыночной экономикой (Германии, Швеции) этот показатель не превышает 15 % [Bassanini, Marianna, 2009].
Одно из наиболее масштабных сравнительных исследований по влиянию различных уровней жесткости законодательства о защите занятости на динамику оборота работников с постоянным контрактом было проведено ОЭСР [OECD Employment Outlook, 2010]. Созданная в рамках этого исследования статистическая база включала данные по отдельным отраслям экономики двадцати четырех стран, входящих в эту организацию, за период с 2000 г. по 2007 г. Контролировалась доля занятых, имеющих трудовой договор с ограниченным сроком действия, а также демографические характеристики работающих. Было выявлено, что по странам ОЭСР в среднем увеличение жесткости трудового законодательства на один процентный пункт (по шестибалльной шкале) приводит к замедлению оборота рабочей силы на 5,2–6,7 п.п. Причем замедляются как темпы увольнений (на 3–3,6 п.п.), так и найма (соответственно на 2,2–3 п.п.). Либерализация регулирования труда постоянных работников обычно ведет к ускорению общего оборота рабочей силы, при этом наблюдается как рост темпов найма, так и увольнений. Подобное происходит несмотря на то, что одновременно сокращается доля занятых с временным контрактом (темпы оборота которых обычно бывают выше, чем у постоянных работников).
Среди отдельных составляющих законодательства, регулирующего найм и увольнение, наиболее значимое влияние на масштабы оборота рабочей силы оказывают размер выходного пособия и сроки уведомления об увольнении (так как именно от этих норм зависит кадровая политика работодателей), в несколько меньшей степени такой компонент трудового законодательства, как «особенности процедуры найма и увольнения» (он включает длительность испытательного срока, детализацию понятия незаконного увольнения и размер финансовых издержек, которые несет работодатель в случае признания увольнения незаконным) [Bassanini et al., 2010]. Вывод о «неодинаковости» влияния отдельных компонентов законов о труде на мобильность следует учитывать при реформировании юридических норм.
Одним из важных результатов исследований о влиянии институтов на реаллокационные процессы является выявление различной реакции отдельных отраслей экономики на законодательство о защите занятости, которое, естественно, носит общенациональный характер. Водораздел обычно проходит в зависимости от того, за счет какого рынка труда – внутреннего или внешнего – фирмы конкретной отрасли адаптируются к экономическим шокам. Если компании в результате технологических изменений или изменений в спросе на продукцию обычно прибегают к увольнениям, то в этих случаях высокие расходы на «расставание» с сотрудниками скорее всего приведут к замедлению темпов оборота рабочей силы. Подобные отрасли получили название отраслей, «чувствительных к мерам государственной политики» (policy-binding industries). В отраслях, в которых приспособление к изменениям спроса осуществляется преимущественно за счет внутренних перемещений работников, значение трудового законодательства для скорости движения рабочей силы не столь значительно. Влияние трудового законодательства на процессы реаллокации также не может быть одинаковым для отдельных демографических групп и работников разного уровня квалификации. Жесткие нормы найма и увольнения, защищая рабочие места для постоянно работающих, ухудшают возможности трудоустройства для аутсайдеров рынка труда, среди которых высока доля молодежи и женщин.
Вектор влияния институционального устройства, в первую очередь законодательства об увольнениях, на оборот рабочих мест и рабочей силы подтверждается не только при использовании балльной оценки жесткости трудового законодательства, разработанной ОЭСР, но и базы данных «Экономические свободы в мире» (Economic Freedom of the World), публикуемой канадским институтом Фрейзера (Fraser Institute). Особенностями этой базы являются длинные временные ряды и широкий охват стран. Она кроме стран – членов ОЭСР включает переходные экономики и многие развивающие государства. Исходя из базы данных института Фрейзера, наиболее жестким законодательством в отношении найма и увольнения отличаются страны с переходной экономикой (совокупный индекс равен 5,70), затем страны с развитой рыночной экономикой (соответственно 5,43), а замыкают список латиноамериканские страны с показателем 4,68 [Haltiwanger et al., 2006]. Следует подчеркнуть, что оценка жесткости законодательства о труде в базе данных «Экономические свободы в мире» и базы данных ОЭСР очень близки – корреляция между схожими индикаторами достигает 0,85.
Использование статистических данных института Фрейзера позволяет рассмотреть влияние на мобильность трудового законодательства с учетом особенностей его инфорсмента. Та или иная степень инфорсмента законов о труде способна серьезно скорректировать экономический эффект законодательства. Речь идет не только о незаконном предпринимательстве, когда вновь создаваемые предприятия не регистрируются в государственных органах и тем самым продолжают действовать в «тени», но и той части фирм, прежде всего мелких и мельчайших, которые могут иметь официальную регистрацию, однако игнорируют выполнение многих законодательных норм, надеясь на то, что у государственных контролирующих органов не дойдут руки до их проверки. Рассчитываемый экспертами Института Фрейзера индикатор законности и порядка (Law and Order indicator) демонстрирует степень «законопослушности» фирм в разных регионах мира. Исходя из этого индикатора наиболее полно закон соблюдается фирмами развитых стран ОЭСР, затем следуют страны с переходной экономикой, а в конце списка оказываются страны латиноамериканского региона. Анализ влияния законодательства о труде, скорректированного на степень его инфорсмента (по базе данных Института Фрейзера), показал, что законы об увольнении, требующие значительных расходов работодателей на «расставание» с сотрудниками, приводят к снижению темпов реаллокации рабочей силы, при этом в наибольшей степени это негативно отражается на темпах организации новых предприятий. Все это замедляет темпы перетока работников и рабочих мест в наиболее эффективные сферы хозяйствования [Haltiwanger et al., 2006].
Тенденция к либерализации рынка труда, которая наблюдалась в целом ряде европейских стран на протяжении последних двадцати лет, коснулась преимущественно применения срочных контрактов. Результатом снятия ограничений с трудовых договоров с ограниченным сроком действия и деятельности агентств по лизингу персонала стало усиление темпов оборота рабочей силы, так как при условии сохранения жесткости трудовых контрактов для постоянных работников происходит замена постоянных работников на временных, показатели найма и увольнения которых в целом выше [Boeri, Garibaldi, 2007]. Особенно активно процесс «замены» постоянных работников на временных проходил в странах, осуществивших «двухъярусную» реформу рынку труда, когда, с одной стороны, значительно либерализовали применение контрактов с ограниченным сроком действия, а с другой, оставили без изменения или даже ужесточили нормы трудового права, регулирующие занятость постоянных работников. Именно такой характер носила реформа рынка труда в Испании [Dolado, Stucchi, 2008]. Подобный перекос в реформировании рынка труда привел к замедлению темпов роста производительности труда, а также более медленному внедрению инноваций [Bassanini, Nunziata, Venn, 2009]. Это происходит в силу того, что работники, нанимаемые на определенный срок, чаще являются менее квалифицированными, к тому же они получают меньшее обучение на рабочем месте [Bentolila, Dolado, Jimen, 2008; Dolado, Stucchi, 2008]. Асимметрия реформы привела к еще одному негативному последствию, которое отдельные авторы стали определять как «излишний оборот» (excessive turnover), подчеркивая тем самым, что временные работники стали занимать неоправданно большую долю рынка труда [Centeno, Machado, Novo, 2009]. Чрезмерный оборот работников с временными контрактами происходит из-за того, что предприниматели часто увольняют таких работников сразу после истечения срока контракта только для того, чтобы не переводить их на постоянные рабочие места. Потеря работы работником с временным контрактом может привести к потере специфического человеческого капитала, что в конечном итоге тормозит темпы роста производительности труда. В экономической литературе есть свидетельства того, что длительный период безработицы после увольнения временных работников либо смены ими отрасли ведет к значительным потерям в заработной плате, в первую очередь в результате недоиспользования человеческого капитала, прежде всего специфического [Schmieder, von Wachter, Bender, 2012].
Таким образом, многочисленные страновые и межстрановые исследования убедительно показали связь между степенью жесткости трудового законодательства и масштабами реаллокационных процессов на рынке труда.
Система страхования по безработице и перемещение работников на рынке труда. Система страхования по безработице является еще одним институтом рынка труда, оказывающим влияние на масштаб реаллокационных процессов. Теоретически его влияние может быть разнонаправленным – как стимулировать оборот рабочей силы, так и оказывать сдерживающее воздействие. Стимулирование оборота происходит в силу того, что работники, зная, что они получат пособие в размере, которое обеспечит им в течение определенного периода времени приемлемый уровень жизни, не «держатся» за свои рабочие места, если они не соответствуют их качественным характеристикам, а могут активно искать новое приложение своему опыту и способностям. Замедление динамики оборота рабочей силы происходит преимущественно в условиях излишне «щедрых» пособий по безработице. Завышенный уровень пособий по отношению к получаемой ранее заработной плате может стать причиной менее активного поиска нового рабочего места, тем самым увеличивая продолжительность пребывания в рядах безработных и общий уровень безработицы. В свою очередь, более медленный переход из безработицы в занятость замедляет оборот рабочей силы [OECD Employment Outlook, 2006]. К тому же щедрые пособия увеличивают резервируемую заработную плату, тем самым снижая возможности создания дополнительных рабочих мест в краткосрочном плане [Mortensen, Pissarides, 1999]. Высокий уровень пособий по безработице по отношению к заработной плате может изменить политику работодателей в отношении найма новых работников – они становятся более избирательными [Pries, Rogerson, 2005]. Работодатели не могут позволить себе найм сотрудника и его оценку уже после приема на работу. Таким образом, динамика найма пойдет вниз, а вместе с этим показателем масштабы оборота рабочей силы.
Эмпирические работы, рассматривавшие влияние системы страхования по безработице на реаллокационные процессы на рынке труда, в основном подтверждают положительное воздействие этого института на темпы оборота рабочей силы. Наиболее масштабным является сравнительное исследование, проведенное экспертами ОЭСР для 23 стран, входящих в эту организацию [OECD Employment Outlook, 2010]. Использование метода разности в разностях, который «отсекает» влияние других факторов, позволило сделать вывод о том, что увеличение пособия по безработице на 10 п.п. увеличивает интенсивность оборота рабочей силы в среднем примерно на 1 п.п. Этот результат остается неизмененным при различном наборе стран, а также при рассмотрении разной отраслевой структуры. Особенно значимое влияние повышение размера пособий оказывает на уровень увольнений.
В исследовании [Gomez-Salvador, Messina, Vallanti, 2004] рассмотрено соотношение между длительностью выплат пособий по безработице и оборотом рабочих мест. Авторами была зафиксирована обратная зависимость между продолжительностью выплат и темпами создания рабочих мест, в то же время влияние на ликвидацию рабочих мест проследить не удалось. В работе [Boeri, Macis, 2010] влияние системы страхования по безработице на мобильность рассматривалось на примере стран, которые ввели этот институт сравнительно недавно – т. е. стран с переходной экономикой и развивающихся, в том числе Чехии, Словакии, Литвы и Латвии. В качестве контрольной группы выступали страны, в которых подобная система действует в течение длительного периода времени (это, прежде всего, Западная Европа). Как было выявлено авторами, введение системы пособий в случае потери работы дает толчок значительному перераспределению рабочих мест между отраслями экономики, хотя влияние этого фактора постепенно затихает [OECD, 2009]. Работники, зная, что в случае смены работы им обеспечен на определенное время приемлемый уровень жизни, перестают «держаться» за старую работу и более активно ищут новое рабочее место.
Воздействие системы страхования по безработице на различные демографические группы также неодинаково. Самым значимым образом система пособий влияет на безработных младших возрастных групп. По мере увеличения возраста безработного это воздействие ослабевает, а для старших возрастных групп (55 и старше) оно и вовсе становится отрицательным. В случае увеличения пособия на 10 п.п. валовый оборот рабочей силы молодежи сокращается на 1,5 п.п. и становится негативным для работников старше 55 лет, т. е. более щедрая система пособий приводит к уменьшению оборота среди старших возрастов [OECD Employment Outlook, 2010].
Таким образом, можно заключить, что эффективно настроенная система пособий по безработице в сочетании с либеральными законами о труде, может стать важным компонентом пакета мер, направленных на ускорение движения рабочей силы.
Регулирование товарных рынков и потоки на рынке труда. Помимо трудового законодательства и системы страхования по безработице на потоки на рынке труда может оказывать влияние политика по регулированию товарных рынков, в первую очередь антимонопольное законодательство (Anti-competitive product market regulation). Поскольку создание и ликвидация компаний «отвечает» за треть всего оборота рабочих мест в странах ОЭСР в целом [OECD, 2009], то устранение финансовых и административных барьеров для открытия нового бизнеса, а также особенности практики признания предприятия банкротом способны серьезно видоизменить реаллокационные процессы на рынке труда.
Устранение административных препятствий для открытия нового бизнеса также может приводить к изменению структуры между более производительными и менее производительными компаниями в пользу первых, так как создаваемые фирмы обычно обладают большей производительностью по сравнению со «старожилами», что способствует вытеснению последних с рынка [Aghion, Howitt, 1998]. И наконец, вероятность того, что фирмы будут быстрее расширять свою деятельность, выше для компаний-«новичков» [Bahk, Gort, 1993].
Заслугой ОЭСР стала разработка индекса, оценивающего степень жесткости антимонопольного законодательства в целом для экономики (economy-wide indicator of anti-competitive product market regulation), а также для ряда отраслей: энергетики, розничной торговли, связи, транспорта и бизнес-услуг. Построение подобных индексов позволило оценить влияние антимонопольной политики на масштабы мобильности на рынке труда за период с 1996 г. по 2007 г. по 13 странам, входящим в эту организацию. Выбранный отрезок времени определялся не только наличием сопоставимых данных, но и тем, что на него пришелся этап значительной либерализации антимонопольной политики. В ходе исследования было подтверждено наличие отрицательной зависимости между индексом зарегулированности и потоками на рынке труда. В тех отраслях экономики, где наблюдалось снижение индекса на 1 п.п., оборот рабочих мест вырос в среднем на 0,6 п.п. [OECD Employment Outlook, 2010, p. 199].
Схожие результаты о влиянии законов, регулирующих товарные рынки, на оборот рабочих мест были получены при использовании базы данных «Экономические свободы в мире» (Economic Freedom of the World), публикуемой канадским институтом Фрейзера [Haltiwanger et al., 2008]. Рассчитанный на основе этих данных синтетический показатель регулирования товарных рынков включал в себя контроль за ценами, административные ограничения, время, затрачиваемое на бюрократические процедуры по открытию нового бизнеса, расходы, необходимые для открытия новой компании. Этот индикатор был призван оценить, до какой степени ограничения, налагаемые законодательством, и бюрократические процедуры ограничивают конкуренцию. Наименее комфортные условия для открытия собственного дела зафиксированы в странах Латинской Америки (4,21 балла по десятибалльной шкале), затем следуют страны с переходной экономикой (3,32) и замыкают список развитые страны ОЭСР (3,07). Данное исследование также подтвердило наличие отрицательной взаимосвязи между степенью жесткости антимонопольного законодательства и мобильностью на рынке труда.
Движение рабочих мест и экономический цикл. Различное институциональное устройство рынка труда отдельных стран во многом обусловливает различия в динамике и направленности реаллокационных процессов в отдельных странах. Но как было выяснено, особенности институтов могут в определенной степени корректировать реакцию оборота рабочих мест и рабочей силы на движение экономического цикла.
Исследования взаимосвязи мобильности и экономического цикла, первоначально проводившиеся в англосаксонских странах, продемонстрировали ускорение темпов ликвидации рабочих мест в периоды спада деловой активности (что рассматривалось как вполне ожидаемое). В то же время (и это противоречило интуитивным предположениям) темпы роста создания рабочих мест даже в кризис снижались незначительно. Таким образом, в кризис оборот рабочих мест вел себя контрциклически [Davis et al., 1996]. Но когда подобный анализ был сделан на данных западноевропейских стран, то полученные результаты эмпирических исследований принесли прямо противоположный результат, т. е. динамика оборота рабочих мест показала проциклическую динамику [Garibaldi, 1998]. Различные авторы предложили свое объяснение подобных результатов.
Некоторые исследователи вообще подвергают сомнению вывод о различной реакции оборота рабочих мест на циклическое движение экономики в странах с разной экономической моделью, приводя в качестве аргумента использование разными авторами мало сопоставимых между собой баз данных. Так, например, Т. Боери писал о том, что большинство исследований для США основывались на отчетности предприятий, в то время как соответствующие работы по странам континентальной Европы использовали чаще всего более укрупненные объекты исследования, а именно отчетность компаний. К тому же работы по США рассматривали преимущественно сектор обрабатывающей промышленности, тогда как направленность процесса создания и ликвидации рабочих мест в сфере услуг в этой стране напоминала ту, которая наблюдается в Европе, т. е. проциклическую динамику показателя оборота [Boeri, 1996]. Различия в реакции оборота рабочих мест в обрабатывающей промышленности и сфере услуг также объяснялись особенностями адаптации фирм разного размера к экономическим шокам [Foote, 1998].
Однако большинство исследователей связывают различия в циклическом движении мобильности на рынке труда с влиянием института трудового законодательства. В странах с координируемой экономикой, где более высокие расходы на увольнение, а процесс расставания с работником затягивается на длительный срок, фирмы реже прибегают к увольнениям даже в период ухудшения конъюнктуры, что, в свою очередь, сглаживает кривую увольнений по мере движения экономического цикла. В свою очередь, в странах с либеральной экономической моделью, где компании имеют больше свободы в определении необходимой численности сотрудников, «чувствительность» показателя оборота рабочих мест к динамике цикла является более ярко выраженной [Messina, Vallanti, 2007].
Что касается реакции оборота рабочих мест в отдельных отраслях на движение экономического цикла, то помимо законодательного фактора немаловажную роль играет отраслевая динамика занятости. Влияние спада на динамику оборота является более сглаженным в отраслях, занятость в которых растет темпами, превышающими средние по стране, в то же время это влияние более значимо в отраслях, переживающих период упадка. Подобный вывод, в частности, содержится в работе С. Бентолила и Г. Бертолы, которые писали о том, что ускорение темпов экономического роста способно сгладить отрицательное воздействие законодательства о защите занятости на темпы реаллокации рабочих мест [Bentolila, Bertola, 1990].
Суммируя, можно сказать, что из-за различной степени жесткости законов о труде циклическая реаллокация рабочих мест в странах с либеральной экономикой является более выраженной, а периоды кризиса сопровождаются активно идущим процессом ликвидации рабочих мест. В то же время в странах с координируемой экономикой реакция оборота рабочих мест на ослабление экономической активности является более сглаженной. Выявление зависимости процессов реаллокации и цикла имеет большое значение для экономической политики, так как может помочь принять адекватные меры, направленные на оздоровление экономики.
11.6. Заключение
Постоянно протекающий процесс создания и ликвидации рабочих мест, перемещение работников между отраслями, компаниями и статусом занятости характерен для всех экономик: развитых, развивающихся, переходных. Однако интенсивность этого процесса значительно варьируется как между отдельными странами, так и группами стран. Как в этот процесс вписывается Россия?
Восточноевропейские страны, сравнительно недавно начавшие рыночные реформы, в их число входит и Россия, характеризуются более высокими по сравнению с развитыми странами темпами реаллокации рабочих мест, что отражает потребность в радикальном структурном переустройстве. При этом российская экономика демонстрирует даже более высокие темпы оборота рабочих мест по сравнению с другими странами, осуществляющими радикальные экономические преобразования. В то же время высокие темпы оборота на российском рынке труда пока еще не приводят к устойчивой динамике создания новых рабочих мест. Вообще, интенсивная мобильность на рынке труда в нашей стране достигается высокими темпами создания и ликвидации рабочих мест на уже действующих предприятиях, тогда как по показателю создания новых компаний мы находимся в самом конце «списка». Последнее может свидетельствовать о том, что существующая в нашей стране институциональная структура рынка труда пока не способствует активизации предпринимательской активности.
Во всех группах стран, и в этом смысле Россия не исключение, значения показателей движения рабочих мест крайне чувствительны к структурным характеристикам экономики. Межотраслевая дифференциация в динамике потоков на рынке труда отражают специфику отдельных отраслей и различия во внешних условиях функционирования между различными видами экономической деятельности. Более интенсивные реаллокационные процессы характерны для сферы услуг и добывающих отраслей по сравнению с обрабатывающими производствами. При этом межотраслевые различия достаточно устойчивы во времени. Высокие темпы создания и ликвидации рабочих мест в сфере услуг независимо от уровня экономического развития страны сопровождаются ростом занятости, чего нельзя сказать про добывающие производства, численность работающих в которых практически повсеместно сокращалась. Отраслевая структура также является одним из важнейших факторов, определяющих не только динамику оборота рабочих мест, но и мобильность рабочей силы. Показатели найма и увольнений значительно различаются по отдельным отраслям, но при этом они в целом повторяют ранжирование отраслей по обороту рабочих мест. Однако значение отраслевой структуры в дифференциации в показателях мобильности рабочей силы между отдельными странами выше, чем при обороте рабочих мест.
Более значимое влияние на динамику и межстрановые особенности реаллокационных процессов на рынке труда оказывает размер предприятия. В целом можно говорить о наличии обратной зависимости между размером предприятия и скоростью оборота рабочих мест. В любых экономиках, в том числе и в России, процесс создания новых рабочих мест и ликвидация старых особенно активно идет в секторе малого бизнеса. При этом различия между фирмами разного размера по масштабам мобильности наиболее существенны в странах с переходной экономикой. В последней группе стран роль малого бизнеса в создании дополнительных рабочих мест обеспечивается, прежде всего, высокими темпами ротации предприятий (их созданием и ликвидацией), в то время как в развитых европейских странах организация новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства происходит преимущественно на уже действующих производственных единицах.
Несмотря на наличие многих общих черт в процессах реаллокации на рынке труда, как отдельные страны, так и группы стран имеют свои особенности, причины которых следует искать в функционировании национальных институтов, и прежде всего таких, как трудовое законодательство, система пособий по безработице, антимонопольная политика. Именно эти институты определяют до половины различий в темпах реаллокации рабочих мест между отдельными странами. Состояние институтов способно резко замедлить интенсивность оборота на рынке труда или скорректировать траекторию его движения. Наибольшее влияние на масштабы и динамику мобильности оказывает законодательство о труде. Жесткое трудовое законодательство, требующее значительных расходов работодателей на увольнение сотрудников, приводит к снижению интенсивности оборота рабочих мест, замедляет темпы перетока работников и рабочих мест в наиболее эффективные сферы хозяйствования. Именно поэтому интенсивность оборота рабочих мест выше в странах с либеральным трудовым законодательством по сравнению со странами с регулируемой рыночной экономикой, которые отличает достаточно высокая степень зарегулированности рынка труда. Для стран с переходной экономикой имеющаяся неопределенность в вопросе влияния законов о труде на процессы на рынке труда, которую отмечают отдельные исследователи, зачастую связана с недооценкой фактора инфорсмента. Хроническое «невыполнение» этих законов несколько смягчает суровость трудового законодательства.
Степень жесткости законодательства о защите занятости может даже видоизменить реакцию потоков на рынке труда от циклического движения экономики. В странах с либеральной экономической моделью «чувствительность» показателя мобильности к динамике цикла является более выраженной, в то время как в регулируемых экономиках наблюдается более сглаженное движение оборота рабочих мест.
Таким образом, можно утверждать, что решая задачи повышения эффективности экономики, которое происходит, в том числе, благодаря постоянно идущему обороту рабочей силы и рабочих мест, необходимо не упускать из виду институциональные преобразования. Более высокая гибкость рынка труда способна ускорить оборот рабочих мест и рабочей силы и тем самым дать дополнительный толчок росту производительности общественного труда.
Приложение П11
Таблица П11-1. Характеристики фирм в зависимости от создания/ликвидации рабочих мест, страны с развитой рыночной и переходной экономикой в среднем за 1999–2006 гг., %
Источник. EMJF, 2011, table 7.
Таблица П11-2. Коэффициенты оборота рабочих мест, страны с развитой рыночной и переходной экономикой, среднегодовой показатель за 1999–2006 гг., %
Источник. EMJF, 2011, table 12.
Таблица П11-3. Вклад создания/ликвидации фирм в оборот рабочих мест, страны с развитой рыночной и переходной экономикой, в среднем за 1999–2006 гг., %
Источник. EMJF, 2011, table 13.
Таблица П11-4. Оборот рабочей силы, страны с развитой рыночной и переходной экономикой, в среднем за 2000–2007 гг., %
Источник. OECD Employment Outlook, 2010.
Таблица П11-5. Оборот рабочих мест по секторам экономики, страны с развитой рыночной и переходной экономикой, в среднем за 1999–2006 гг., %
Источник. EMJF, 2011, table 14.
Таблица П11-6. Оборот рабочих мест по размеру предприятий, страны с развитой рыночной и переходной экономикой, в среднем за 1999–2006 гг., %
Источник. EMJF, 2011, table 16.
Литература
Aghion P., HowittP. Endogenous Growth Theory. Cambridge, Mass: MIT Press, 1998.
BahkB., GortM. Decomposing Learning by Doing in New Plants // Journal of Political Economy. 1993. Vol. 101. № 4.
Baldwin J.R., Gu W. Plant Turnover and Productivity Growth in Canadian Manufacturing // Industrial and Corporate Change. 2006. Vol. 15. № 3. Р. 417–465.
Bartelsman E. EU KLEMS DMD Indicators: Sources and Methods // O’Mahony M. et al. EUKLEMS – Linked Data: Sources and Methods. University of Birmingham, 2008. Mimeo. (/ linked/euklems_linkeddata_sourcesandmethods_220708.pdf)
Bartelsman E., Haltiwanger J., Scarpetta S. Measuring and Analyzing Cross-country Differences in Firm Dynamics // Producer Dynamics: New Evidence from Micro Data. University of Chicago Press, 2009.
Bassanini A., Marianna P. Looking Inside the Perpetual-Motion Machine: Job and Worker Flows in OECD Countries: OECD Social, Employment and Migration WP № 95. Paris: OECD, 2009.
Bassanini A., Nunziata L., Venn D. Job Protection Legislation and Productivity Growth in OECD Countries // Economic Policy. 2009. Vol. 58. Р. 349–402.
Bassanini A., Garnero A., Marianna P., Martin S. Institutional Determinants of Worker Flows: A Crosscountry/Cross-industry Approach: OECD Social, Employment and Migration WP. Paris: OECD, 2010.
Bassanini A., Garnero A. Dismissal Protection and Worker Flows in OECD Countries: Evidence from Cross-Country/Cross-Industry Data: IZA Discussion Paper № 6535. April, 2012.
Bentolila S., Bertola G. Firing Costs and Labour Demand: How Bad Is Eurosclerosis? // Review of Economic Studies. 1990. Blackwell Publishing. Vol. 57. № 3. Р. 381–402.
Bentolila S., Dolado J., Jimeno J. Two-Tier Employment Protection Reforms: The Spanish Experience // CESifo DICE Report. 2008. Vol. 6. № 4. P. 49–56.
Bertola G. Job Security, Employment, and Wages // European Economic Review. 1990. Vol. 54. № 4. Р. 851–879.
Bertola G., Rogerson R. Institutions and Labor Reallocation // European Economic Review. 1997. Vol. 41. Р. 1147–1171.
Boeri T. Is Job Turnover Countercyclical? // Journal of Labour Economics. 1996. Vol. 14. Р. 603–625.
Boeri T., Garibaldi P. Two Tier Reforms of Employment Protection: A Honeymoon Effect? // Economic Journal. 2007. Vol. 117. № 521. P. 357–385.
Brown J.D., Earle J.S. Understanding the Contributions of Reallocation to Productivity Growth: Lessons from a Comparative Firm-Level Analysis: Upjohn Institute Staff WP № 08-141. 2008.
Burgess S., Lane J., Stevens D. Job Flows, Worker Flows, and Churning // Journal of Labor Economics. 2000. 18 (3). Р. 473–502.
Centeno M., Machado C., Novo A. Excess Turnover and Employment Growth: Firm and Match Heterogeneity: IZA DP № 4586. Bonn, 2009.
Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation // The Quarterly Journal of Economics. 1992. 107 (3). Р. 819–863.
Davis S., Haltiwanger J. Measuring Gross Worker and Job Flows // Labor Statistics Measurement Issues. NBER Chapters. NBER, 1998. Р. 77–122.
Davis S.J., Faberman R.J., Haltiwanger J. The Flow Approach to Labor Markets: New Data Sources and Micro-Macro Links // Journal of Economic Perspectives. 2006. Vol. 20. № 3. Р. 3–26.
Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Flows // O. Ashenfelter, D. Card (eds.) Handbook of Labor Economics. 1999. Vol. 3. Ch. 41. Р. 2711–2805.
Davis S., Haltiwanger J., Schuh S. Small Business and Job Creation: Dissecting the Myth and Reassessing the Facts // Small Business Economics. 1996. 8 (4). Р. 297–315.
Disney R., Haskel J., Heden Y. Restructuring and Productivity Growth in UK Manufacturing // Economic Journal. 2003. Vol. 113. Р. 666–694.
Dolado J.J., Stucchi R. Do Temporary Contracts Affect TFP?: Evidence from Spanish Manufacturing Firms: IZA Discussion Paper № 3832. Bonn, 2008.
Faggio G., Konings J. Job Creation, Job Destruction and Employment Growth in Transition Countries in the 90s // Economic Systems. 2003. 27 (2). Р. 129–154.
Foster L., Haltiwanger J., Krizan C.J. Market Selection, Reallocation, and Restructuring in the US Retail Trade Sector in the 1990s // Review of Economics and Statistics. 2006. Vol. 88. № 4. Р. 748–758.
Foote C. Trend Employment Growth and the Bunching of Job Creation and Destruction // The Quarterly Journal of Economics. 1998. 113 (3). Р. 809–834.
Garibaldi P. Job Flow Dynamics and Firing Restrictions // European Economic Review. 1998. Vol. 42. № 2. Р. 245–275.
Grey A. Job Gains and Job Losses: Recent Literature and Trends: OECD Jobs Study Working Papers № 1. 1995.
Griliches Z., Regev H. Firm Productivity in Israeli Industry: 1979–1988 // Journal of Econometrics. 1995. Vol. 65. Р. 175–203.
Gomez-Salvador R., Messina J., Vallanti G. Gross Job Flows and Institutions in Europe // Labour Economics. 2004. Vol. 11. Р. 469–485.
Haltiwanger J. Measuring and Analyzing Aggregate Fluctuations: The Importance of Building from Micro-economic Evidence // Saint Louis Federal Reserve Bank Economic Review. 1997. January/February. Р. 35–85.
Haltiwanger J., Vodopivec M. Gross Worker and Job Flows in a Transition Economy: An Analysis of Estonia // Labour Economics. 2002. 9 (5). Р. 601–630.
Haltiwanger J., Scarpetta S., Schweiger H. Assessing Job Flows across Countries: The Role of Industry, Firm Size and Regulations: IZA Discussion Paper № 2450. Bonn, 2006.
Haltiwanger J., Scarpetta S., Schweiger H. Assessing Job Flows across Countries: The Role of Industry, Firm Size and Regulations: NBER WP № 13920. 2008.
Haltiwanger J, Scarpetta S., Schweiger H. Cross Country Differences in Job Reallocation: The Role of Industry, Firm Size and Regulations: EBRR WP № 116. 2010.
Haltiwanger J., Jarmin R., Miranda J. Who Creates Jobs? Large vs. Young: NBER WP № 163000. 2010.
Heckman J., Pages C. The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin American Labor Markets: NBER WP № 7773. 2000.
Kugler А. The Effects of Employment Protection in Europe and the USA // Els Opuscles del CREI. 2007. № 18. Р. 1–48.
Messina J., Vallanti G. Job Flow Dynamics and Firing Restrictions: Evidence from Europe // The Economic Journal. 2007. Vol. 117. № 521. Р. F279-F301.
Mortensen D., Pissarides C. Job Reallocation, Employment Fluctuations and Unemployment // J.B. Taylor, M. Woodford (eds.) Handbook of Macroeconomics. 1999. Vol. 1. Ch. 18. Р. 1171–1228.
Nickell S. Fixed Costs, Employment and Labour Demand Over the Cycle // Economica. 1978. Vol. 1. Р. 329–345.
OECD. Employment Outlook. Paris: OECD Publishing, 2006.
OECD. Employment Outlook. Paris: OECD Publishing, 2009.
OECD. Employment Outlook. Ch. 3. Institutional and Policy Determinants of Labour Market Flows. Paris: OECD, 2010.
Pries M., Rogerson R. Hiring Policies, Labor Market Institutions, and Labor Market Flows // Journal of Political Economy. 2005. Vol. 113. № 4. Р. 811–839.
Schmiede J., von Wachter T., Bender S. The Effects of Extended Unemployment Insurance over the Business Cycle // Quarterly Journal of Economics. 2012. Vol. 127. № 2.
Sutton J. Gibrat’s Legacy // Journal of Economic Literature. 1997. 35 (1). Р. 40–59.
The European Map of Job Flows // Munich Personal RePEc Archive. 2011.
Заключение
Мобильность работников в разных ее формах составляет суть функционирования рынка труда. Не удивительно, что показатели мобильности относятся к его ключевым характеристикам. Участники рынка находятся в постоянном движении: в подстройке друг к другу и к меняющимся внешним обстоятельствам. Феномен трудовой мобильности крайне разнообразен по формам проявления. Его изучение имеет огромное значение для понимания того, как ведут себя участники рынка труда, с какими ограничениями они сталкиваются, как быстро реагируют на происходящие изменения, насколько серьезны вызовы, возникающие в связи с этим для политики государства, и как именно ей следует на них реагировать.
На наш взгляд, применительно к России этот круг проблем остается явно недоисследованным, и в нашей монографии мы попытались восполнить хотя бы некоторые из существующих пробелов. Осознание важности этой темы и ограниченности наших знаний по ней стало главной причиной, побудившей нас взяться за ее анализ.
Разумеется, в пределах одной работы, какой бы объемной она ни была, невозможно охватить весь спектр вопросов, связанных с трудовой мобильностью. Так, за рамками анализа остались такие важнейшие сюжеты, как профессиональная мобильность, межрегиональная территориальная мобильность, межпоколенческая мобильность и другие. Да и по тем вопросам, что представлены в книге, возможности продвижения далеко не исчерпаны. Мы надеемся, что сможем обратиться к ним в своих дальнейших исследованиях. В то же время многие главы книги посвящены
принципиально новым темам, которые раньше полностью или почти полностью выпадали из поля зрения российских исследователей, будь то особенности процесса движения рабочих мест, вклад сдвигов в структуре занятости в рост производительности труда, изменения в соотношении «хороших» и «плохих» рабочих мест, перемещения работников на внутрифирменных рынках труда или динамика индивидуальных оценок субъективного благополучия.
В наших предыдущих исследованиях было показано, что в России сложилась достаточно специфическая модель рынка труда, во многом непохожая на то, что мы знаем из учебников и можем наблюдать в развитых странах. Неудивительно поэтому, что процессы мобильности также протекают весьма своеобразно, принимая неожиданные формы.
Наш подход заключался в том, чтобы анализировать мобильность и ее последствия на двух уровнях. Во-первых, это макроструктурные изменения как результат реаллокации занятости между секторами и предприятиями. Это позволяет понять, способствует ли перераспределение рабочей силы повышению эффективности экономики, переходят ли работники с рабочих мест, где их производственный потенциал используется недостаточно, на рабочие места, где им находится лучшее применение. Как показывает наш анализ, в большинстве случаев (хотя и не всегда) ответ на этот вопрос является положительным. Отсюда следует, что активизация мобильности на рынке труда выступает важнейшим условием – но не гарантией – повышения темпов экономического роста. Однако при определенных условиях ее вклад может быть и негативным.
Во-вторых, это анализ трудовой мобильности на микроуровне, который фокусируется на ее индивидуальных траекториях и конечных результатах – заработках работников и их субъективном благополучии.
Анализ, представленный в разных главах книги, рисует достаточно неоднозначную картину. Про российский рынок труда нельзя однозначно сказать, что он является сверхмобильным или, наоборот, иммобильным. Мобильность и стабильность успешно сосуществуют – как и на любом рынке труда! В то время как одни группы находятся в постоянном движении, меняя отрасли, предприятия, профессии, заработную плату, другие стараются максимально сохранять достигнутый статус-кво. Представители обеих групп могут находиться рядом и трудиться бок о бок. На самом деле ситуация еще сложнее – мобильность по одной оси может сопровождаться стабильностью по другой.
Так, показатели создания рабочих мест на российском рынке труда остаются низкими по международным меркам, но при этом работники весьма активно и быстро перемещаются между уже имеющимися позициями. Представленные в книге данные свидетельствуют также, что пик трудовой мобильности пришелся, по-видимому, на период быстрого экономического роста 2000-х годов. После кризиса 2008–2009 гг. ее интенсивность ослабла и с тех пор находилась на более или менее неизменном уровне. Это затухание трудовой мобильности, о котором говорят практически все доступные показатели, допускает как пессимистическую, так и оптимистическую интерпретацию. В первом случае речь может идти о замедлении структурных сдвигов в экономике, а также об умножении и ужесточении барьеров (прежде всего – институциональных) на пути реаллокации занятости, во втором – о более качественном мэтчинге между работниками и рабочими местами, что должно было снизить стимулы к мобильности. Однако, несмотря на некоторое снижение показателей трудовой мобильности в последние годы, в межстрановой перспективе они все равно остаются достаточно высокими.
Важный результат состоит также в том, что даже те российские работники, которые не участвуют в перемещениях на рынке труда, испытывают очень высокую зарплатную мобильность: в течение года у большинства из них заработная плата резко меняется, причем изменения могут происходить как в сторону повышения, так и в сторону понижения; доля работников со стабильной заработной платой была и остается небольшой. Это дополняет картину высокой «пластичности» российского рынка труда.
Фиксируемые нами показатели трудовой мобильности позволяют предполагать, что российская рабочая сила способна достаточно быстро подстраиваться к шокам разной природы, какими бы радикальными они ни были. Ее высокая адаптивность облегчает структурные сдвиги в экономике, однако импульсы к ним не могут исходить от самого рынка труда. Именно их отсутствие, о чем свидетельствует стагнирующее состояние экономики, способно со временем подорвать его мобильность, сделать его более «застойным» и менее подвижным.
Главы книги не предлагают прямолинейных рекомендаций для экономической и социальной политики. Но это не значит, что составившие ее исследования представляют только академический интерес. Так, перемещения работников, обсуждаемые в ряде глав монографии, и их направленность тесно связаны с интенсивностью создания и ликвидации рабочих мест в различных секторах экономики. Динамика производительности, оборот рабочих мест, структурные сдвиги, степень и темп деформализации, потоки в занятость, безработицу и неактивность, траектории заработной платы и социального самочувствия – все эти процессы зависят не только от темпов экономического роста, но и от широкого набора институциональных условий. «Дружественная» институциональная среда способствует развитию, а агрессивная его подавляет. Отсюда можно вывести и очевидные следствия для политики, подробное обсуждение которых мы оставляем для будущих исследований.
Сведения об авторах
Вишневская Нина Тимофеевна – канд. экон. наук, зам. директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
Воскобойников Илья Борисович – PhD по экономике, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ.
Гимпельсон Владимир Ефимович – канд. экон. наук, директор Центра трудовых исследований, ординарный профессор НИУ ВШЭ.
Денисенко Михаил Борисович – канд. экон. наук, зам. директора Института демографии НИУ ВШЭ.
Жихарева Ольга Борисовна – зам. начальника Управления статистики труда Росстата.
Зудина Анна Алексеевна – канд. социол. наук, младший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
Капелюшников Ростислав Исаакович – член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, зам. директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Лукьянова Анна Львовна – канд. экон. наук, старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
Ощепков Алексей Юрьевич – канд. экон. наук, старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
Чернина Евгения Марковна – младший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
Шарунина Анна Вячеславовна – младший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
Mobility and Stability in the Russian Labour Market / Eds. V. Gimpelson and R. Kapeliushnikov; National Research University Higher School of Economics. – Moscow: HSE Publishing House, 2017. – 529, [7] p. – 500 copies. – ISBN 978-5-7598-1532-7 (hardcover). – ISBN 978-5-7598-1622-5 (e-book).
The book contributes to the series of the monographs prepared by the Centre for Labour Market Studies of the NRU HSE (Non-Standard Employment, 2005; Wages in Russia: Evolution and Differentiation, 2007; Russian Worker: Education, Occupation and Skills, 2011; In Shadow of Regulation: Informality in the Russian Labour Market, 2014).
This monograph provides a complex picture of labour mobility on the Russian labour market in the period of 2000–2014. It discusses such issues like job creation and destruction, labour turnover and reallocation, employment restructuring and its impact on labour productivity and job quality, external labour mobility and promotions within firms, mobility of managers in industrial firms, and migration, among other issues. The analysis is based on large sets of microdata and applies a wide range of modern econometric techniques. It shows how mobile the Russian labour market is, what are peculiarities and implications of this mobility.
The book can be useful for economists and sociologists, experts on industrial relations and social policy. It can be used as an additional reading in university courses on labour economics and industrial relations.
Примечания
1
Темницкий А.Л. Патерналистские основы российской цивилизации в сфере труда // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 2(10).
(обратно)2
Наверное, в плановой экономике такое устройство занятости является близким к идеалу, а при необходимости изменений использовались административные или мобилизационные меры. Любая мобильность сверх той, что нужна была для выполнения планов, считалась вредной.
(обратно)3
Труд и занятость в России 2013. М.: Росстат, 2013. С. 308–309.
(обратно)4
См.: -of-state-level-labor-turnover-survey-data.htm
(обратно)5
См.: /
(обратно)6
См.: /
statistics/publications/catalog/doc_n40097038766
(обратно)7
См.: /3-plat.htm
(обратно)8
Этого принципа мы придерживались и в наших предыдущих монографиях.
(обратно)9
Данный раздел главы подготовлен на основе статьи [Гимпельсон, Капелюшников, Рыжикова, 2012].
(обратно)10
Среднее арифметическое обеспечивает симметричность обеих мер относительно нуля.
(обратно)11
Здесь мы рассматриваем промышленность как сумму трех видов деятельности (C + D + E, где C – Добыча полезных ископаемых; D – Обрабатывающие производства; E – Обеспечение электрической энергией, газом и паром).
(обратно)12
Как следствие, с учетом сектора малого предпринимательства все показатели могут быть выше.
(обратно)13
Так, в 2004 г. весь сектор КСП насчитывал около 40,7 млн замещенных рабочих мест, а в 2014 г. – 35,2 млн.
(обратно)14
См.:
(обратно)15
См.: /#
(обратно)16
Исключением можно считать только 2008 г., когда смертность среди предприятий была сверхвысокой -21 %.
(обратно)17
Принятое нами деление на частный и государственный секторы расходится с официальной классификацией, используемой Росстатом. Если, согласно ОКФС, смешанные предприятия рассматриваются как частные, то мы считаем более правильным относить их к группе предприятий, находящихся под контролем государства.
(обратно)18
Мы здесь не обсуждаем общественные и религиозные организации, так как их доля в общей занятости крайне мала.
(обратно)19
Как мы уже отмечали, проблема ошибочной идентификации создания новых/ликвидации старых предприятий частично воспроизводится от года к году.
(обратно)20
Отметим, что в настоящее время государственный сектор (в нашем определении) аккумулирует свыше 60 % (!) всех рабочих мест, имеющихся в сегменте крупных и средних предприятий. Причем такое соотношение между государственным и частным секторами оставалось практически неизменным на протяжении всего рассматриваемого нами периода.
(обратно)21
Это сельское хозяйство (ОКВЭД-1), финансовое посредничество (ОКВЭД-10) и государственное управление (ОКВЭД-12).
(обратно)22
Далее мы используем термин «сегмент», чтобы избежать содержательного пересечения с «сектором» как отраслью или набором отраслей. При этом мы не имеем в виду сегментированность экономики в смысле, в каком она рассматривается с дуалистической точки зрения [Lewis, 1954; Harris, Todaro, 1970].
(обратно)23
Мы понимаем, что обратное влияние динамики производительности труда на структурные сдвиги также нельзя исключать, и оно представляет значительный интерес, но этот аспект проблемы остается за рамками данного исследования.
(обратно)24
См. обзор в работах: [Jorgenson, Timmer, 2011; World Bank, 2008] для стран с переходной экономикой и [Timmer et al., 2015] – для развивающихся. Эффекты реаллокации ресурсов в отраслях российской промышленности в 1990–2002 гг. обсуждаются в статье [Бессонов, 2004].
(обратно)25
Денисон не называет таких самозанятых неформальными работниками, поскольку сам термин в современном смысле появился в литературе лишь в 1970-е годы применительно к развивающимся странам. Для обозначения этого явления в развитых странах он стал использоваться еще позже.
(обратно)26
Де Фрис с соавторами [Vries et al., 2012] рассматривают влияние неформального сектора на рост производительности в Индии, используя метод декомпозиции, предложенный Денисоном [Denison, 1962].
(обратно)27
Изменения, интерпретируемые как технологические, могут быть также связаны с временным нарушением равновесия из-за запоздалой реакции на произошедшие ранее технологические изменения, с изменением условий внешней торговли, низкой мобильностью труда и капитала, а также всевозможными барьерами для свободной конкуренции [Reinsdorf, 2015].
(обратно)28
Используется аббревиатура, предложенная в работе [Dumagan, 2013].
(обратно)29
См. подробнее: [De Avillez, 2012].
(обратно)30
Generalized exactly additive decomposition. Дж. Думаган, предложивший эту аббревиатуру, поясняет, что метод – «обобщенный» (generalized), поскольку пригоден не только для измерения выпуска в постоянных ценах, но и для оценки его динамики с использованием цепных индексов (chain value measure). Метод абсолютно аддитивный (exactly additive), поскольку при использовании показателей выпуска обоих типов вклады темпов прироста производительности отдельных отраслей равны вкладу темпов прироста агрегированной производительности [Dumagan, 2013].
(обратно)31
Подробнее вывод этого соотношения см. в работе [Воскобойников, Гимпельсон, 2015].
(обратно)32
В качестве иллюстрации низких темпов роста производительности в секторе услуг Баумоль приводит пример струнного квартета, производительность которого неизменна столетиями. Коллектив музыкантов затрачивает сегодня на исполнение определенного произведения Моцарта ровно столько времени, сколько и два столетия назад, но производительность труда в промышленности за эти годы возросла многократно.
(обратно)33
Подробнее см. в работе [Воскобойников, Гимпельсон, 2015].
(обратно)34
См. обзор в статье [Timmer, Vries, 2009]. Другие примеры последних работ: [World Bank, 2008; McMillan, Rodrik, 2011; Vries et al., 2012; Timmer et al., 2015].
(обратно)35
Проблемы предельной производительности, недостаточной отраслевой детализации, неоднородности факторов производства, межотраслевого обмена технологиями, а также причинно-следственной связи между выпуском и производительностью рассматриваются в работе [Timmer, Szirmai, 2000].
(обратно)36
Как показано в работе [Brown, Earle, 2008], выполненной на микроданных для промышленности шести стран с переходной экономикой, включая российскую, такая реаллокация в отдельные периоды может быть значительной. В то же время доступные микроданные не позволяют выходить за границы обрабатывающих отраслей и анализировать экономику в целом с учетом перетока работников в сферу услуг и неформальный сектор.
(обратно)37
См.: [System of National Accounts, 1993: 1.17; System of National Accounts, 2008: 15.21]. Об использовании цепных индексов в российской статистической методологии см., например: [Росстат, 2014. Раздел 3].
(обратно)38
См. также обзоры в работах: [Balk, 2014; Reinsdorf, 2015].
(обратно)39
В явном виде это показано в работе [Dumagan, 2013] (см. соотношения (4.1) и (4.2)).
(обратно)40
Именно этот эффект проявился в статистике США в связи с бурным ростом ИКТ-отраслей, что послужило основанием для отказа от расчета выпуска в постоянных ценах и перехода к цепным индексам (см. подробнее: [Landefeld, Parker, 1997; Dumagan, 2013]).
(обратно)41
См. подробнее: [Воскобойников, Гимпельсон, 2015].
(обратно)42
При обсуждении результатов ниже именно эти скорректированные значения в (3–9) упоминаются как прямой эффект, эффект относительных цен и эффект реаллокации соответственно.
(обратно)43
См., например, альтернативные варианты в работах: [Vries et al., 2012; Diewert, 2015; Roncolato, Kucera, 2014; Reinsdorf, 2015].
(обратно)44
Для решения стоящих перед нами задач полные отраслевые данные из СНС имеют определенное преимущество перед микроданными по фирмам, поскольку последние не позволяют выделять неформальный сегмент.
(обратно)45
См., например, обзор литературы в статье [Bartelsman et al., 2013].
(обратно)46
Данные за период 1995–2009 гг. доступны на сайте . Подробная методология представлена в работе [Voskoboynikov, 2012]. Отраслевые данные для российской экономики за указанный период можно также найти в базе данных WIOD () и в статистическом онлайн-приложении к статье [Vries et al., 2012], однако все они построены на основе Russia KLEMS.
(обратно)47
Подробно соответствующие определения рассматриваются в книге [Гимпельсон, Капелюшников, 2014]. См. также: [Lehmann, 2015].
(обратно)48
В институциональном секторе домашних хозяйств, включающем некорпорированные микропредприятия и самозанятых.
(обратно)49
Методология расчета общего объема производства с учетом скрытой и неформальной деятельности в российской экономике опубликована в сборнике [Росстат, 1998], а также, с обобщением международного опыта, в руководстве [OECD, 2002].
(обратно)50
См.: [Росстат, 2014, табл. 2.3.44] и аналогичные таблицы в сборниках за более ранние годы. Росстат также публикует показатели доли добавленной стоимости, досчитанной на основе корректировки на экономические операции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, за период с 2002 г. (см.: [Росстат, 2010, табл. 2.3.46–52] и аналогичные показатели в сборниках «Национальные счета России» за последующие годы). Мы предпочитаем именно отношение ВДС домашних хозяйств к ВДС в целом по соответствующему виду деятельности по следующим причинам. Показатель «Доля ВДС на операции неформального сектора» в этих таблицах точно совпадает с используемым нами отношением до 2009 г. включительно. Далее этот показатель начинает снижаться значительно быстрее, чем доля ВДС домашних хозяйств, что отражает, по-видимому, изменения в официальной методологии подсчета доли неформального сегмента. На это обстоятельство нам указал Р.И. Капелюшников.
(обратно)51
По данным баланса затрат труда, доля отработанных часов вне организаций в общем количестве часов варьировалась в 2005 г. в интервале от 3 % по виду деятельности «Электрооборудование, производство электронного и оптического оборудования» до 38 % в виде деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева».
(обратно)52
Показатели для ряда секторов за 2002 и 2003 гг. очень быстро меняются. Так, в обрабатывающей промышленности доля досчитываемой добавленной стоимости в 2003 г. по сравнению с 2002 г. упала с 5 до 2,2 %, т. е. более чем в два раза! Природа таких скачков требует дополнительного анализа. Кроме того, подробные данные баланса затрат труда об отработанных часах как для экономики в целом, так и для ее корпоративного сектора доступны только с 2005 г.
(обратно)53
Суть проблемы в том, что внутри таких крупных вертикально интегрированных холдингов, как «Газпром», ценообразование в операциях между входящими в их состав компаниями может быть нерыночным и преследовать цели минимизации налогообложения. В результате часть добавленной стоимости добывающей промышленности может быть приписана («передана»), например, оптовой торговле или трубопроводному транспорту, что приводит к значительным искажениям в показателях номинальной ВДС отраслей, участвующих в такого рода трансфертах (см. подробнее: [World Bank, 2005; Kuboniwa et al., 2005; Гурвич, 2004]).
(обратно)54
Подробнее о расчете долей затрат труда в добавленной стоимости см. в работе [Voskoboynikov, 2012].
(обратно)55
Далее с использованием метода GEAD-3f будет показано, что вклад РДК в реаллокацию связан в значительной степени с ростом относительных цен на продукцию сектора, а вклад перетока рабочей силы существенно меньше (табл. 3–7).
(обратно)56
Этот год примерно соответствует середине рассматриваемого периода 1995–2012 гг. для максимального элиминирования эффекта фиксированных весов за все годы.
(обратно)57
Действительно, официальный дефлятор валовой добавленной стоимости для вида деятельности «11. Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях» в 2012 г. был в 2,7 раза больше по сравнению с уровнем 2005 г., а для вида деятельности «А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – в 2,1 раза [Росстат, 2013, табл. 2.5.14-2.5.15].
(обратно)58
См.: [Vries et al., 2012], а также табл. 3-4-3-6 данной работы.
(обратно)59
См.: [Сабирьянова, 1998; Foley, 1995]. В. Гимпельсон, Р. Капелюшников и Ф. Слонимчик анализировали потоки за нулевые годы, но в их фокусе было движение через разные сегменты неформального сектора [В тени регулирования, 2014; Slonimczyk, Gimpelson, 2015].
(обратно)60
Подробно о природе и структуре данных см.:
(обратно)61
Об определениях неформальности см.: [В тени регулирования, 2014, гл. 1].
(обратно)62
Очевидно, что параметры потоков чувствительны к принятым нами определениям для основных состояний на рынке труда. Если наиболее мобильные (или нестабильные в своем статусе) работники преимущественно приписываются к одному из состояний, то интенсивность потоков, связывающих именно это состояние, может искусственно возрасти. В нашем случае это касается работников, которые занимались случайной или нерегулярной оплачиваемой работой в течение последних 30 дней (см. определение занятых в разделе 4.3). Часть из них может иметь слабую связь с рынком труда, проявляющуюся в крайней нерегулярности работы и в малом числе часов, которые ей посвящаются. Если такое состояние постоянно во времени, то ошибочная их атрибуция к тому или иному статусу не будет влиять на абсолютную величину потоков, а на вероятности переходов – лишь через величину знаменателя. Если такие работники активно перемещаются между занятостью и неактивностью, то создают значительный холостой оборот, еще более «надувая» соответствующие интенсивности мобильности. Чтобы проверить масштаб потенциального искажения, вызываемого используемыми определениями, мы построили альтернативные определения занятости и неактивности. В этом случае мы отнесли к занятым лишь тех случайных работников, кто был занят такой работой более 10 часов в месяц. Эта группа составляет треть всех случайных работников, а оставшиеся две трети в этом случае считаются экономически неактивными. Подобное изменение в классификации по статусу занятости еще более поднимает показатели интенсивности потоков между занятостью и неактивностью, но практически не затрагивает другие потоки. Но значительная часть случайно занятых (в базовом определении) не является мобильным контингентом и составляет стабильную (с точки зрения классификации) компоненту рабочей силы. Расчеты, основанные на уточненном таким образом определении занятых и неактивных, лишь подтверждают выводы, полученные с помощью базового определения.
(обратно)63
Доля уволенных по сокращению даже в кризисы не превышала 2,5 % от среднесписочной численности персонала [Труд и занятость в России, Росстат, разные годы]. Коэффициент замещения средней заработной платы средним пособием по безработице в рассматриваемый период не превышал 20 %, а начиная с 2005 г. – 15 %. О динамике неформальности см.: [В тени регулирования, 2014].
(обратно)64
Обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) – регулярное обследование, проводимое Федеральной службой государственной статистики путем опроса домашних хозяйств. Является основным источником данных для расчета показателей занятости и безработицы (по определениям МОТ).
(обратно)65
Подробнее об особенности выделения данной группы см: [В тени регулирования, 2014].
(обратно)66
Мы отдаем отчет в том, что неслучайный отбор на рынке труда может объясняться как действием ненаблюдаемых характеристик, так и неслучайным выбором статуса в первый год попадания в панель. Однако эконометрическое решение этой проблемы связано с наложением целого ряда сильных ограничивающих предположений, во многом снижающих прикладную ценность полученных в итоге результатов [Slonimczyk, Gimpelson, 2015].
(обратно)67
В качестве аналогии представим бассейн с двумя трубами: входящей и исходящей. При постоянном оттоке уровень воды в нем будет определяться исключительно притоком.
(обратно)68
В экономической литературе понятие «внутреннего рынка труда» используется в двух разных смысловых значениях. Одно – более раннее и более узкое – апеллирует к теории сегментированных рынков труда и делает упор на определенные институционализированные практики найма и продвижения внутри фирм [Doeringer, Piore, 1971], второе – более позднее и более широкое – относится к любым внутрифирменным перемещениям рабочей силы, которые анализируются через призму стандартной экономической теории и с помощью современного эконометрического аппарата [Lazear, Oyer, 2003]. В данной работе мы придерживаемся второй трактовки.
(обратно)69
Чрезвычайно низкие показатели внешней мобильности объясняются, по-видимому, особенностями шведского рынка труда. Однако использование данных по всем работникам (т. е. как белых, так и синих воротничков) повышает показатель доли внешне мобильных работников до 12,5 % [Lazear, Oyer, 2003].
(обратно)70
В предшествующих волнах некоторые из интересующих нас вопросов респондентам не задавались.
(обратно)71
Исключение самозанятых объясняется тем, что у них по определению не может быть внутреннего рынка труда.
(обратно)72
Данные РМЭЗ ВШЭ могут недооценивать масштабы внешней мобильности, так как респонденты, сменившие место работы и переехавшие при этом в другой регион, выпадают из выборки. Но едва ли эта недооценка является значительной, учитывая ограниченные масштабы межрегиональной миграции.
(обратно)73
Официальные данные Росстата о движении рабочей силы также свидетельствуют о заметном снижении внешней мобильности в посткризисный период.
(обратно)74
Правда, в этом случае будущая мобильность генерируется не прошлым опытом, а устойчивым вкусом к более рискованному поведению.
(обратно)75
В принципе, возможна и иная интерпретация – наиболее востребованные все время пребывают в движении от хорошего к лучшему, но данные говорят в пользу первой.
(обратно)76
Напомним, что речь идет об отсутствии занятости в корпоративном секторе (на предприятиях и в организациях).
(обратно)77
Из этой закономерности выпадают только квалифицированные работники сельского хозяйства (ОКЗ-6), но эта группа настолько малочисленна (количество наблюдений недостаточно), что мы оставляем полученные для нее оценки без комментариев.
(обратно)78
Отметим, что стажевые интервалы в табл. П5-4 и П5-5 не совпадают: вторые сдвинуты относительно первых на один год. Группа с прошлогодним стажем менее одного года соответствует группе с текущим стажем 1–2 года, группа с прошлогодним стажем 1–3 года соответствует группе с текущим стажем 2–4 года и т. д.
(обратно)79
Мы не обсуждаем представленные в табл. П5-5 данные о внутренней мобильности, поскольку более точные и легче интерпретируемые оценки приведены в табл. П5-4.
(обратно)80
Другой аспект самоотбора, потенциально вызывающего смещение оценок, связан с неслучайным отбором в мобильность. Влияние наблюдаемых характеристик схватывается контрольными переменными. Что же касается влияния ненаблюдаемых характеристик, то оно не очевидно, так как может иметь взаимопогашающие причины. Например, добровольная мобильность может стимулироваться ненаблюдаемой склонностью индивидов к риску, а недобровольная, наоборот, несклонностью. Кроме того, деление мобильности на добровольную (самоотбор в мобильность) и недобровольную (отбор работодателем) само по себе является сильно размытым. По этим причинам вопрос о коррекции на неслучайный отбор в мобильность мы не считаем в данном случае ключевым.
(обратно)81
Здесь и далее мы используем данные РМЭЗ ВШЭ за 2005–2013 гг.
(обратно)82
Многое здесь зависит от того, являются ли увольнения работников с прежнего места работы вынужденными или добровольными. В случаях, когда работники оказываются уволенными по инициативе фирм, мобильность выступает как причина, а заработная плата на новом месте работы – как следствие. Напротив, при увольнениях по инициативе самих работников более привлекательная заработная плата на новом месте работы служит триггером мобильности. (На самом деле ситуация сложнее, поскольку и в этом случае мобильность все равно оказывается необходимым предварительным условием для получения доступа к более высокой заработной плате.) Однако нас в данной работе интересует не столько вопрос о возможных причинно-следственных связях (ответ на него заслуживает специальной работы), сколько о том, сопровождается ли мобильность приростом заработной платы, независимо от того, что выступает в роли причины, а что в роли следствия.
(обратно)83
Под рыночной ставкой мы понимаем альтернативную заработную плату, доступную работнику с данными характеристиками на внешнем рынке труда в текущих условиях. С учетом особенностей российского зарплатообразования [Гимпельсон, Капелюшников, 2015] рыночная ставка может лежать в достаточно широком интервале. Но это означает, что при данном уровне оплаты труда всегда велика вероятность существования вакансий с более высокой ставкой, стимулирующей текучесть.
(обратно)84
В главе использованы данные опроса предприятий проекта «Факторы глобальной конкурентоспособности российских предприятий», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г.
(обратно)85
В опросе RUFIGE использовалась «старая», ныне уже не действующая классификация юридических форм предприятий. Поэтому в данном случае мы также ссылаемся на нее.
(обратно)86
Мы экспериментировали также с альтернативной группировкой, объединяя первые три варианта ответа в группу «генеральные директора – собственники», а два последних в группу «генеральные директора – наемные менеджеры без собственности».
(обратно)87
Как отмечалось выше, мы экспериментировали с альтернативным делением обследованных предприятий на группы с генеральными директорами-собственниками и генеральными директорами – наемными менеджерами. Эконометрический анализ на основе этого альтернативного определения приводит к практически идентичным результатам.
(обратно)88
В работах, посвященных волатильности доходов, заработная плата в текущем году рассматривается как сумма «постоянной» (permanent) и «переменной» (transitory) компонент. Постоянная компонента – это та часть заработной платы, которая остается одинаковой или предсказуемой на протяжении всех лет рассматриваемого периода. Переменная компонента представляет собой отклонения от постоянного уровня. Волатильность заработков характеризует негативные последствия мобильности.
(обратно)89
В последние годы появились исследования, в которых проблема истощения выборки в обследованиях населения решается путем симуляций [Bowlus, Robin, 2012; OECD, 2015]. Это технически сложная процедура, базирующаяся на множественных предпосылках, которая заслуживает отдельного исследования. В настоящей работе все расчеты сделаны на фактических данных.
(обратно)90
Мы не стали напрямую учитывать продолжительность рабочего времени, так как в кризис могло наблюдаться его сокращение.
(обратно)91
С 1 января 2009 г. МРОТ был увеличен с 2300 до 4330 руб.
(обратно)92
Антикризисная программа, реализованная в 2009 г., предполагала дополнительную поддержку работников, находящихся под риском увольнения, в форме участия в «общественных работах» для работников, переведенных на режим неполной занятости. Общественные работы могли включать уборку мусора, благоустройство территории и т. п., однако в большинстве случаев работники просто получали дополнительные выплаты в размере 1 МРОТ.
(обратно)93
Ниже см. подробнее о сравнительных рисках ухода в незанятость.
(обратно)94
В спецификацию были добавлены переменные, характеризующие форму собственности работодателя (по мнению респондента). Все переменные принимают значение единица, если в числе собственников есть выделенная категория юридических или физических лиц, и ноль в противном случае.
(обратно)95
См. подробнее об измерении относительной мобильности в работе [Jantti, Jenkins, 2015].
(обратно)96
Отметим, что подобный процент отсева в РМЭЗ ВШЭ не является исключительным для обследований населения. Диккенс [Dickens, 2000] приводит сопоставимые значения для британских обследований – около 30 % отсева за пятилетний период.
(обратно)97
В предыдущем разделе мы получили, что вероятность остаться в выборке на следующий год повышается по мере роста заработной платы. Отметим, что в расчетах учитывался уход из «зарплатной» выборки по любым причинам (отсев, уход в незанятость, отказ сообщить заработную плату). Распределение респондентов по причинам ухода из выборки может различаться по децилям и по годам.
(обратно)98
См. сравнение с другими странами в статье [Лукьянова, 2009].
(обратно)99
Имеются в виду «новички» и «старожилы» в своих компаниях, а не на рынке труда в целом. В нашем случае это деление не связано жестко с возрастом.
(обратно)100
Во многом иной характер могла приобрести и связь специального стажа с ненаблюдаемыми индивидуальными характеристиками работников. В стабильных экономиках эта связь является положительной: фирмы заинтересованы в том, чтобы как можно дольше удерживать у себя работников с лучшими способностями. Однако в нестабильных переходных экономиках более производительные индивиды с лучшим адаптивным потенциалом первыми реагировали на новые благоприятные возможности, открывавшиеся на рынке труда (например, переходя в новый частный сектор). Поэтому корреляция специального стажа с ненаблюдаемыми способностями работников могла поменять знак, став из положительной отрицательной.
(обратно)101
Как известно из официальных рекомендаций РМЭЗ ВШЭ, для анализа за какой-либо отдельный год следует использовать репрезентативную выборку, тогда как полной выборкой следует оперировать при анализе тех же самых индивидов во времени.
(обратно)102
Одна из проблем при работе с данными РМЭЗ – это отсутствие у некоторых респондентов информации о дате начала работы у текущего работодателя. Если неизвестен год начала работы, то таких респондентов приходится исключать из анализа. Если известен год, но неизвестен месяц, то, следуя общей рекомендации из работы А. Ощепкова, мы вменяем таким индивидам в качестве месяца начала работы июнь соответствующего года. Отметим также, что при измерении специального стажа на данных РМЭЗ может возникнуть соблазн измерять его в целых годах и вообще никак не использовать ответы на вопрос о месяце начала работы, независимо от того, известен он или нет. Однако это упрощение существенно занижает долю «новичков» со специальным стажем менее одного года [Ощепков, 2016].
(обратно)103
Данные ОЗПП о доле работников с коротким стажем до одного года (показатель запасов) интересно сопоставить с данными отчетности предприятий о найме и выбытии рабочей силы (показатели потоков), которые также относятся только к сектору крупных и средних предприятий. Согласно официальной статистике, в период 2009–2013 гг. коэффициент найма в этом секторе колебался в пределах 25–30 %. Сравнив этот показатель с показателем доли работников с коротким стажем по ОЗПП (11–13 %), можно сделать вывод, что из каждых двух новых работников, нанятых в течение года, к его концу на предприятиях оставался только один. Это свидетельствует о крайне низкой степени закрепляемости «новичков» на предоставленных им рабочих местах.
(обратно)104
Расхождения между данными РМЭЗ ВШЭ, с одной стороны, и ОНПЗ и ОЗПП, с другой, отмечались ранее в работе [Российский работник… 2011].
(обратно)105
Как уже отмечалось, оценки доли «новичков» с коротким стажем по данным ОНПЗ и ОЗПП практически совпадают. Это странно, так как данные ОНПЗ – в отличие от ОЗПП – покрывают не только сектор крупных и средних предприятий, но также сектор малого предпринимательства и неформальный сектор с крайне неустойчивой занятостью. Вследствие этого следовало бы ожидать, что оценки по ОНПЗ будут намного ниже оценок по ОЗПП. Отсутствие между ними заметной разницы заставляет с большой осторожностью отнестись к ОНПЗ как источнику данных о специальном стаже.
(обратно)106
Информация об отраслях занятости доступна в РМЭЗ только начиная с 2004 г.
(обратно)107
Результаты для доли занятых с коротким стажем качественно похожи, поэтому мы не обсуждаем их в целях экономии места.
(обратно)108
Отметим, что ошибки измерения, в принципе, могут иметь неслучайный характер. В российском случае есть основания считать, что ошибки измерения специального стажа коррелируют с рядом социально-демографических характеристик работников, а также с получаемой заработной платой [Ощепков, 2016].
(обратно)109
Для учета этого возможного смещения Топель предложил следующую модификацию (2SFD-IV): инструментировать Exp0 в уравнении (8-12) с помощью общего трудового стажа Exp, исходя из предпосылки, что Exp не связано с μ. Однако такая предпосылка вызывает большие сомнения (см. выше).
(обратно)110
Разделение респондентов на занятых в частном и государственном секторах мы проводили с помощью двух вопросов. Первый: «Являются ли владельцами или совладельцами вашего предприятия, организации иностранные фирмы или иностранные частные лица?» (код вопроса J24 в анкете РМЭЗ ВШЭ). Второй: «Являются ли владельцами или совладельцами вашего предприятия, организации или какие-либо российские частные лица, коллектив предприятия или российские частные фирмы?» (код вопроса J25). При ответе «нет» на оба вопроса респондент относился к государственному сектору, в противном случае – к частному.
(обратно)111
В уравнение (8–8) мы включали с первой по четвертую степени специального и общего стажа. Более поздние исследования, проведенные после [Mincer, 1972], показали, что на американских данных полином четвертой степени стажа лучше отражает связь между заработной платой и стажем, чем полином второй степени [Lemieux, 2006]. Согласно нашим оценкам, то же самое справедливо и для российского случая. Другие исследования, в которых бы анализировался этот аспект на примере какой-либо страны с переходной экономикой, включая Россию, нам неизвестны. В качестве прокси для общего трудового стажа мы использовали показатель потенциального стажа, который вычислялся: возраст – 7 лет – число лет формального обучения.
(обратно)112
Аналогичные расчеты производились и для женщин (также с учетом сектора занятости). См. таблицы П8-7-П8-9 Приложения.
(обратно)113
Мы не обсуждаем оценки для других переменных помимо специального стажа, поскольку они согласуются с теоретическими ожиданиями, а также с результатами предшествующих исследований, оценивавших уравнение заработной платы на данных РМЭЗ ВШЭ (полностью эти оценки приведены в Приложении в табл. П8-6).
(обратно)114
Так, у «старого» стажа оказывается мало наблюдений с короткими сроками, а, например, наблюдения со стажем от нуля до трех лет вообще отсутствуют полностью, поскольку первая волна РМЭЗ ВШЭ датируется 1994 г. Но с точки зрения накопления опыта именно самые первые годы являются наиболее продуктивными. Поэтому не исключено, что представленные оценки для «старого» стажа могут быть заниженными.
(обратно)115
Для полноты картины все представленные выше модели мы оценили также для женщин. В целом полученные для них результаты качественно похожи на результаты, полученные для мужчин. Во-первых, значимая отдача от специального стажа в частном секторе начала появляться гораздо позже, чем в государственном секторе (табл. П8-7). Во-вторых, за исключением начальной точки (премия за первый год работы) профиль кумулятивной премии в государственном секторе лежит заметно выше, чем в частном. В-третьих, если в частном секторе отсутствие «старого» стажа является преимуществом, которое дает положительную прибавку к заработной плате, то в государственном секторе отсутствие «старого» стажа является недостатком, связанным со «штрафом» (табл. П8-8). Мы не обнаруживаем такого «штрафа» в случае мужчин, и это отличие может быть связано с тем, что женщины в большей мере, чем мужчины, представлены на тех рабочих местах, где ценится наличие «старого», «советского» опыта работы (например, это воспитатели в детских садах или учителя в школах). В-четвертых, полученные результаты подтверждают тезис о том, что «старый» и «новый» являются разными по своему наполнению и потому генерируют разные профили кумулятивной премии. Как и в случае мужчин, у женщин профиль премии для «старого» стажа лежит заметно ниже профиля для «нового». При этом в частном секторе профиль для «старого» стажа находится в отрицательной области (табл. П8-9). Наконец, применение методов Топеля и Алтонжи – Шакотко дает качественно схожие результаты. Как с учетом, так и без учета неоднородности специального стажа профили кумулятивных премий, получаемые этими методами, лежат ниже, чем профиль МНК. Это указывает на то, что, как и в случае мужчин, оценки МНК завышают отдачу от специального стажа.
(обратно)116
Слова из знаменитой песни «За туманом», написанной в 1964 г. бардом Юрием Кукиным.
(обратно)117
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 г.
(обратно)118
До принятия в 2002 г. Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан» основными регуляторами занятости иностранцев в России были Закон о правовом положении иностранных граждан в СССР (принятый в 1981 г. в редакции с поправками 1995 и 1996 гг.) и Указ Президента РФ от 16.12.1993 г. № 2146 «О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы».
(обратно)119
Рассчитано по данным Статкомитета СНГ.
(обратно)120
В. Рязанцев [Рязанцев, 2007, с. 158] считал, что ежегодное число нелегальных трудовых мигрантов на начало 2000-х годов составляло 3,3–5 млн человек. По расчетам В. Мукомеля [Мукомель, 2005, с. 197], в 20032005 гг. ежегодно трудилось около 4,6 млн нелегальных трудовых мигрантов.
(обратно)121
Это правило было изменено в 2014 г.
(обратно)122
Согласно первой редакции Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан» (от 25.06.2006 г.) Правительством РФ ежегодно устанавливалась квота для иностранных работников из визовых стран («квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», статья 18, п. 1).
(обратно)123
Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 г. № 683 «Об установлении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской Федерации».
(обратно)124
В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156 Федеральная миграционная служба (ФМС) России была упразднена. Соответствующие функции, полномочия и задачи переданы МВД России, где образовано Главное управление по вопросам миграции (ФМС МВД РФ).
(обратно)125
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ.
(обратно)126
Исключение составляют обучающиеся в России иностранные студенты. В случае трудоустройства за пределами своего учебного заведения им следует получать разрешение на работу.
(обратно)127
Кроме того, критерий «не менее 1 млн руб. в год» распространяется на специалистов, привлеченных к трудовой деятельности в особых экономических зонах, в Республике Крым; критерий «не менее 700 тыс. руб. в год» – на иностранных граждан, привлеченных для работы в технико-внедренческой экономической зоне. Требования по заработной плате отсутствуют для иностранных граждан, участвующих в реализации проекта «Сколково».
(обратно)128
Количество граждан Белоруссии (включая трудовых мигрантов) в России трудно оценить, поскольку граждане Белоруссии в России (как и граждане России в Белоруссии) на законных основаниях (Договор о создании Союзного государства) придерживаются практики не регистрироваться в миграционных органах, поскольку в отличие от мигрантов из других стран они обязаны встать на миграционный учет в течение 90 дней после въезда.
(обратно)129
Согласно поправкам к «Закону о правовом положении иностранных граждан», принятым в 2014 г., при трудоустройстве мигранты должны предъявить миграционную карту, в которой в качестве цели приезда в Россию указана «работа».
(обратно)130
В своем интервью агентству «Интерфакс» начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова сказала: «Два миллиона нарушителей миграционного режима никогда не вернутся в Россию». Интервью. Interfax. 1 июля 2016 г.
(обратно)131
Повышенная доля профессиональных групп «специалисты среднего уровня квалификации.» и «работники сферы индивидуальных услуг.» среди граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана обусловлена, в том числе, стремлением некоторых работодателей обойти квотные ограничения при найме работников невысокой квалификации путем получения для них разрешений на работу как для квалифицированных специалистов.
(обратно)132
В 2007 г. было опрошено 4500 домохозяйств и 32000 индивидов. В 2009 г. опрос охватил 1503 домохозяйства из выборки 2007 г.
(обратно)133
(обратно)134
(обратно)135
На вопросы анкеты отвечают сами мигранты, если они вернулись из поездки, а об отсутствующих рассказывает глава домохозяйства.
(обратно)136
Доля населения, чьи доходы ниже национальной границы бедности.
(обратно)137
World Development Indicators (= &period=#)
(обратно)138
Доля домохозяйств, имевших хотя бы одного мигранта за последние 2 года.
(обратно)139
Обратим внимание, что для части мигрантов в 2009 г. рассматриваемая поездка была второй по счету, а первая пришлась на 2008 г.
(обратно)140
Мигранты в 2009 г. распределялись между 34 городами в 29 регионах России (в 2007 г. в выборку попало 17 городов). Новые мигранты едут в 16 городов и 11 регионов, а повторные мигранты – в 24 города и 18 регионов.
(обратно)141
Это может происходить, например, из-за различий в доступности образования в двух странах.
(обратно)142
Доходы дефлированы к 2009 г., но не учитывают стоимость жизни в регионе.
(обратно)143
Источником информации о российских работниках были 16-я и 18-я волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ.
(обратно)144
Сельская местность исключена.
(обратно)145
Например, в США для некоторых групп работников существуют ограничения на заработную плату не ниже 95 % от средней заработной платы в данном населенном пункте и профессии.
(обратно)146
t>
В качестве миграционного опыта на данном направлении нами используется опыт не индивида, а домохозяйства в целом. Это связано с техническими причинами. Стоит заметить, что случаи, когда мигранты из одного домохозяйства находятся в разных городах России, являются единичными.
(обратно)147
По техническим причинам не для всей выборки возможно достоверно восстановить миграционный опыт до 2008 г.
(обратно)148
Численная интерпретация результатов проводится с помощью понятия относительных шансов (odds ratio) события. Значения, представленные в таблице, являются экспонентой оцененных коэффициентов регрессии. Они равны изменению относительных шансов события при изменении независимой переменной на единицу при прочих равных условиях:
(обратно)149
Либо в оба периода выбор определяют одни и те же ненаблюдаемые характеристики.
(обратно)150
Мы не обнаружили исследований индивидуальных траекторий самовосприятия, которые бы рассматривали какие-либо другие самооценки помимо субъективного благополучия.
(обратно)151
Во многом данные результаты согласуются с выводом теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски об асимметричности реакции на увеличение и уменьшение благосостояния (потери и выигрыши) [Kahneman, Tversky, 1979].
(обратно)152
Возможны случаи завышения индивидуальной самооценки теми людьми, которые находятся в крайне неблагоприятных объективных жизненных обстоятельствах [Hall, Ring, 1975], и занижения самооценки более успешными людьми [Hammermesh, 2001].
(обратно)153
Здесь и далее используется термин «появление ребенка», а не «рождение ребенка», так как данное понятие включает также ситуацию усыновления или вхождения в домохозяйство детей, которые являются кровными или усыновленными родственниками его новых членов (падчерицы, пасынки).
(обратно)154
Для расчетов использовалась команда Traj в пакете STATA, см.: [Nagin, Jones, 2012].
(обратно)155
Формальным статистическим критерием для определения оптимального количества траекторий является минимальное значение байесовского информационного критерия.
(обратно)156
Напомним, что значение «2» относится к варианту ответа «скорее не удовлетворены» на вопрос о степени удовлетворенности собственной жизнью.
(обратно)157
Этот факт был подтвержден при оценивании МНК-регрессий на объединенных данных, в рамках которого лагированная самооценка респондента выступала в качестве ключевой объяснительной переменной его текущего самовосприятия. Во всех моделях коэффициенты при показателях предшествующей самооценки оказались значимы на однопроцентном уровне, и ни одна из других контрольных переменных не вносила такого же большого вклада в формирование текущей самооценки.
(обратно)158
Согласно самооценке.
(обратно)159
Данная закономерность воспроизводится при анализе всех показателей социального самочувствия, как среди мужчин, так и среди женщин.
(обратно)160
Напомним, что значения «1» и «2» описывают различную степени неудовлетворенности, а «4» и «5» – удовлетворенности своей жизнью.
(обратно)161
Используемый метод позволяет смоделировать последствия наступления жизненных событий в любой момент наблюдения, однако для наглядности была выбрана середина периода. Тестирование методики с выбором других периодов наблюдения в качестве момента наступления жизненных событий подтвердила устойчивость получаемых результатов.
(обратно)162
Подробнее о методологии расчета движения рабочей силы и рабочих мест см. в главе 1.
(обратно)163
Следует обратить внимание на особенности базы данных AMADEUS, в которую попали преимущественно предприятия корпоративного сектора. По данным национальной статистики, в России в первой половине прошедшего десятилетия в отличие от 1990-х годов наблюдался рост занятости, но при этом он происходил в основном на предприятиях некорпоративного сектора.
(обратно)

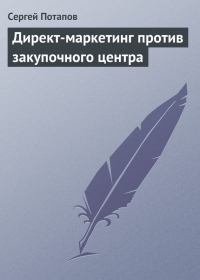

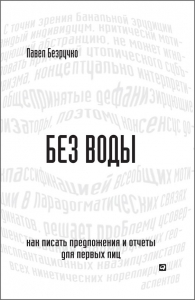
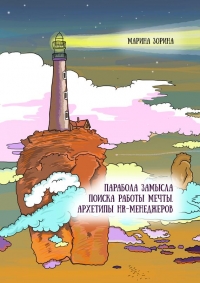
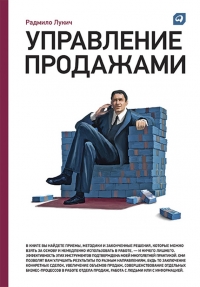





Комментарии к книге «Мобильность и стабильность на российском рынке труда», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев