Эдит Холл Счастье по Аристотелю. Как античная философия может изменить вашу жизнь
Переводчик Наталья Колпакова
Редактор Юлия Быстрова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректор М. Миловидова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
Иллюстрация на обложке Wellcome Library, London
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Памяти Аристотеля Стагирита,
сына Никомаха и Фестиды
Линия времени (все даты до н. э.)
384 – В Стагире у Никомаха и Фетиды рождается сын Аристотель.
около 372 – Отец Аристотеля умирает, опекуном становится Проксен из Атарнея.
около 367 – Аристотель переселяется в Афины и поступает в Академию Платона.
348 – Филипп II Македонский разрушает Стагиру, но затем по просьбе Аристотеля восстанавливает ее.
347 – Аристотель покидает Афины после смерти Платона и принимает приглашение Гермия, правителя Ассоса.
345–344 – Аристотель занимается зоологическими исследованиями на Лесбосе.
343 – Филипп II приглашает Аристотеля в Македонию – наставником к своему сыну Александру.
338–336 – Аристотель, возможно, живет в Эпире и Иллирии.
336 – После гибели Филиппа II воспитанник Аристотеля становится царем Александром III (Великим). Аристотель возвращается в Афины и основывает Ликей.
323 – Александр III Македонский умирает в Вавилоне.
322 – Аристотелю предъявляют обвинение в безбожии, он уезжает из Афин в Халкиду, где и заканчивается его жизнь.
Введение
Слова «счастье», «счастливый» встречаются нам на каждом шагу. Можно вытащить счастливый билет, сэкономить в баре на коктейлях в «счастливые часы», поднять настроение с помощью «таблеток счастья» или отправить смайлик «я счастлив». Мы любим быть счастливыми. Песня «Happy» Фаррелла Уильямса занимала первое место в хит-парадах и рейтингах продаж в 2014 г. в США и еще 23 странах. В ней пелось о том, что счастье – это краткий миг восторга, когда ты взмываешь ввысь, словно воздушный шар, наполненный горячим воздухом.
И вот здесь начинаются противоречия. Почти все мы уверены, что хотим обрести счастье – то есть устойчивое психологическое состояние удовлетворения (вопреки тому, о чем поет Уильямс). Говоря детям, что «желаете им счастья», вы подразумеваете нечто постоянное. При этом в обиходе «счастье» гораздо чаще обозначает некое банальное минутное удовольствие – удачу, коктейль, смайл в электронной переписке. Для кого-то, как для Люси из комикса Peanuts, счастье – это «теплый щенок», которого можно обнять. Счастливый день рождения – это праздник на несколько часов в честь очередного прожитого года.
Бывает ли так, чтобы счастье длилось всю жизнь? Мнения философов на этот счет расходятся. Одни рассматривают счастье как нечто объективное, поддающееся оценке и даже количественному измерению сторонним наблюдателем или историком. Оно включает хорошее здоровье, долгую жизнь, любящую семью, отсутствие финансовых проблем и тревог. С этой точки зрения королева Виктория, которая скончалась, когда ей было за 80, произвела на свет девятерых детей (причем все они достигли зрелости) и вызывала восхищение у всего мира, прожила явно счастливую жизнь. А вот Марию-Антуанетту счастливой не назовешь: двое из четверых ее детей умерли во младенчестве, сама же она пала жертвой народного гнева и была казнена в 37 лет.
Объективно оцениваемому «благополучию» посвящено большинство книг о счастье, а также социологические исследования, проводимые государственными структурами с целью сравнить уровень счастья граждан страны с аналогичными показателями жителей других стран. С 2013 г. ООН отмечает 20 марта Международный день счастья, достижение которого неизбежно связывают с избавлением людей от бедности, преодолением неравенства и защитой нашей планеты.
По другую сторону баррикад находятся философы, полагающие счастье явлением субъективным. На их взгляд, счастье связано не с благополучием, а с удовлетворенностью, душевным покоем. В этом случае оценить со стороны, счастлив кто-то или нет, не получится, и даже самый внешне жизнерадостный человек может страдать от скрытой тоски. Такое субъективное счастье можно только описать, но не измерить. Мы не знаем, кто дольше чувствовал себя счастливой, Мария-Антуанетта или королева Виктория. Может быть, Мария-Антуанетта успела получить истинное удовольствие от жизни, а Виктория, рано овдовевшая и ушедшая в многолетнее затворничество, наслаждений не испытывала.
Аристотель первым из философов занялся изучением этой субъективной модели. Он разработал сложную программу обретения личного счастья, которая не теряет актуальности по сей день. В его учении есть все необходимое, чтобы не уподобиться герою повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886), на пороге смерти осознавшему, что растратил почти всю жизнь на завоевание положения в обществе, ставил личную выгоду превыше сострадания и общественных ценностей и терпел ненавистную жену. На смертном одре он проникается негодованием к своим близким, которые не хотят говорить с ним о скорой неминуемой кончине. Этическое учение Аристотеля охватывает все, что связывают с субъективным счастьем современные философы и психологи, – самореализацию, обретение «смысла существования», «поток» творческого участия в жизни, «положительные эмоции»[1].
Данная книга представляет собой современное прочтение этики Аристотеля, с честью выдержавшей испытание временем. В каждой главе его философские уроки применяются к тем или иным актуальным для нас повседневным проблемам: это и принятие решений, и написание резюме, и прохождение собеседования, и анализ собственного характера (с помощью созданной Аристотелем таблицы пороков и добродетелей), и сопротивление соблазнам, и выбор друзей и близких.
Учение Аристотеля поможет нам стать счастливее на любом этапе жизни. Его фундаментальные идеи основная масса философов, мистиков, психологов и социологов (за редким исключением) просто излагает заново. Но Аристотель сформулировал их первым – лучше, четче и обстоятельнее, чем любые последователи. Хотя каждая из составляющих его рецепта счастья соответствует своему отрезку жизненного пути, все они связаны между собой.
Как утверждал Аристотель, стремиться к субъективному человеческому счастью – наш единственный и основной долг. Кроме того, это великий дар. Независимо от обстоятельств большинство из нас имеет достаточно власти над собой, чтобы решить стать счастливее. Однако понимание счастья как внутреннего, индивидуального ощущения мы так до конца и не раскрыли. Что же такое счастье? В современной философии выделяются три различные концепции.
Первая, связанная с психологией и психиатрией, трактует счастье как противоположность депрессии, внутреннее психоэмоциональное состояние, которое складывается из непрерывной последовательности настроений. Оно подразумевает положительное, жизнеутверждающее мироощущение. Теоретически такое счастье может испытывать человек, не имеющий особых стремлений, лежащий день-деньской на диване перед телевизором, но при этом вполне довольный жизнью. Возможно, это вопрос темперамента, в том числе наследственного (оптимизм действительно, судя по всему, семейная черта). Согласно некоторым восточным философским учениям, «счастливое» эмоциональное состояние можно культивировать с помощью специальных техник вроде трансцендентальной медитации. Западные философы усматривают в таких случаях связь с высоким от природы уровнем гормона серотонина, без которого, по мнению многих медиков и психиатров, хорошее настроение невозможно и дефицит которого наблюдается у человека в состоянии депрессии. Жизнерадостность – завидное качество, однако мало кому из нас она достается при рождении. Современные антидепрессанты, которые помогают пережить временный стресс, реакцию на некие жизненные невзгоды или поддерживают человека при затяжной, «эндогенной» депрессии, в основном поднимают именно уровень серотонина. Но считать ли жизнерадостность счастьем? Можно ли назвать жизнь, проведенную перед телевизором, счастливой? Аристотель, для которого счастье было немыслимо без реализации заложенного в человеке потенциала, ответил бы отрицательно. Джон Кеннеди обобщил понятие счастья по Аристотелю в одном предложении: «Полная реализация своих способностей в стремлении к совершенству, насколько позволяют жизненные обстоятельства».
Вторая современная философская модель субъективного счастья – это «гедонизм», определяющий счастье как совокупность моментов жизни, в которые мы наслаждаемся собой, испытываем удовольствие, пребываем в восторге и экстазе. Гедонизм (от древнегреческого hedone – «удовольствие») берет начало в Античности. Индийская философская школа под названием «чарвака», основанная в VI в. до н. э., внушала, что райское наслаждение означает «вкушать изысканные яства, окружать себя молодыми прелестницами, облачаться в изящную одежду, умащать себя благовониями и сандаловой пастой, украшать цветочными гирляндами. Только глупец изнуряет себя постом и лишениями»[2]. Столетие спустя один из учеников Сократа, Аристипп из Кирены в Северной Африке, разработал этическое учение, которое назвал «гедонистическим эгоизмом». В приписываемом ему тексте «О роскоши древних», повествующем о похождениях философов в поисках удовольствия, Аристипп доказывал, что человек должен стремиться в кратчайшие сроки получить как можно больше физических и чувственных наслаждений, не заботясь о последствиях.
Гедонизм вновь вошел в моду, когда утилитаристы во главе с Иеремией Бентамом (1748–1832) выдвинули в качестве единственно правильной основы нравственных решений и поступков принцип наибольшего счастья для возможно большего числа людей. Бентам считал, что именно этим принципом следует руководствоваться при издании законов. В своем манифесте 1789 г. «Введение в основания нравственности и законодательства» он вывел алгоритм «гедонистического расчета», позволяющий вычислить коэффициент совокупного удовольствия, доставляемого тем или иным действием. Этот алгоритм часто называют «гедонистическим исчислением». Бентам учитывал следующие переменные. Насколько сильно испытываемое удовольствие? Долго ли оно длится? Неизбежное ли оно следствие прогнозируемого действия или всего лишь вероятное? Скоро ли оно наступит? Будет ли оно продуктивным и приведет ли к дальнейшим наслаждениям? Гарантирует ли оно отсутствие неприятных последствий? Сколько человек его испытают?
Бентама интересовали не типы удовольствия, а совокупный результат их воздействия на человека. Количество, а не качество. Если актер Эррол Флинн не кривил душой, утверждая перед смертью, что «получал море удовольствия и наслаждался каждой минутой», то, по оценке расчетливого гедониста, он прожил действительно счастливую жизнь.
Но что подразумевал Эррол Флинн под «удовольствием» и «наслаждением»? Как подметил ученик Бентама Джон Стюарт Милль, математически рассчитанный гедонизм не делает различий между счастьем человека и счастьем свиньи, которое сводится к непрерывной физической неге. Преодолевая этот недостаток, Милль ввел понятие разных уровней и типов удовольствия. Телесные удовольствия, общие у человека с животными, такие как наслаждение едой или сексом, – это удовольствия «низшего» порядка. Духовное удовольствие, которое дарят нам интеллектуальные беседы, искусство, добронравие, «выше» и ценнее. Это направление гедонизма часто называют разумным или качественным.
В XXI в. мало кто из философов поддерживает гедонистический подход к достижению субъективного счастья. Ощутимый удар по этой теории нанес в 1974 г. профессор Гарвардского университета, опубликовав книгу «Анархия, государство и утопия», в которой описал вымышленный аппарат, способный на протяжении всей жизни обеспечивать человеку приятные переживания. Для пользователя этот искусственный опыт не будет отличаться от подлинных ощущений. Захочет ли кто-то подключиться к такому аппарату? Нет. Мы хотим настоящего. А значит, приятные ощущения не могут служить исключительным критерием всеобъемлющего субъективного счастья.
Нозик писал свою книгу накануне прихода эпохи массовой персональной компьютеризации и появления представлений о виртуальной реальности. Его мысленный эксперимент захватил воображение публики и вызвал ассоциации с аппаратом «Оргазматрон» из фильма Вуди Аллена «Спящий» (Sleeper, 1973). Может, когда-нибудь люди в большинстве своем будут готовы променять неопределенность реальных ощущений на гарантию бесконечного искусственного восторга, но пока этот день не настал. Мы хотим счастья и вроде бы все же не сводим его к одним лишь приятным ощущениям. Оно предполагает некую стабильную, осмысленную, конструктивную деятельность. Именно такое счастье интересовало древнегреческого философа Аристотеля. Он рассматривал его как психологическое состояние, самореализацию, удовлетворенность собой, взаимодействием с окружающими и общим ходом жизни. Оно предполагает активность и целеустремленность человека на пути к счастью. Это и есть – в противовес концепции позитивного мироощущения или гедонизму – третий подход современной философии к личному счастью. В основе его лежат анализ и работа над собственными устремлениями, поведением, реакцией на окружающий мир. И истоки этого подхода – в трудах Аристотеля.
Философ считал, что, воспитывая в себе добродетель, совершенствуя достоинства и держа в узде пороки, человек осознает причинно-следственную связь между счастливым состоянием духа и выработанной привычкой к правильным действиям. Возьмите за правило встречать каждого ребенка с улыбкой, и со временем она будет возникать при его приближении сама собой и при этом будет искренней. Некоторые философы сомневаются, действительно ли добродетельная жизнь предпочтительнее порочной, но в последнее время «этика добродетели» реабилитируется в философских кругах и признается благом. В отличие от Аристотеля, который рассматривал все добродетели в совокупности, современные мыслители разбивают их на категории. Джеймс Уоллес в «Добродетелях и пороках» (1978)[3] выделяет три группы: добродетели самодисциплины, такие как мужество и терпение; добродетели совести – честность и справедливость; а также добродетели благодеяния, подразумевающие помощь другим, такие как доброта и сострадание. Первые две добродетели могут благоприятствовать успеху как личных устремлений человека, так и всего общества. Добродетели благодеяния определены менее четко, но все же способны повысить симпатии к вам с вашей собственной стороны и со стороны окружающих. Таким образом, добродетель обладает внешними преимуществами: счастье окружающих повышает вероятность вашего собственного счастья, а значит, в ваших интересах быть добродетельным. Однако Аристотель (наряду с Сократом, стоиками и викторианским философом Томасам Хиллом Грином) видел в ней и внутренние преимущества. Добродетели, ориентированные на других, ощутимо способствуют вашему собственному счастью[4].
В «Никомаховой этике» Аристотель рассуждает о природе счастья. Если оно не посылается богами, говорит он (Аристотель считал, что боги не вмешиваются в дела людей), то «является плодом добродетели и своего рода усвоения знаний или упражнения»[5]. Составляющие счастья можно описать и проанализировать – как предмет любой другой области знания, скажем астрономии или биологии. Однако наука о счастье отличается наличием четкой прикладной задачи – достижения счастья – и потому больше напоминает практические дисциплины вроде медицины или политологии.
Более того, счастье может стать массовым, «ведь благодаря своего рода обучению и усердию оно может принадлежать всем, кто не увечен для добродетели». Аристотель знает, что добродетельность может пострадать при определенных обстоятельствах или под воздействием неких жизненных событий. Но для большинства людей счастье действительно достижимо, если задаться такой целью. Почти каждому из нас по силам решить воспитывать в себе счастливый образ мыслей. Это не прерогатива горстки избранных с философской степенью.
И все же слово «почти» здесь не случайно. Аристотель не вручит нам волшебную палочку, которая решит любые проблемы. Способность к достижению счастья при всей своей универсальности действительно не одинакова у разных людей. Аристотель признает существование определенных преимуществ, которые у человека либо имеются, либо нет. Если вам «повезло» родиться в самых низких социально-экономических слоях общества, если у вас нет детей, родных, любимых, если у вас чрезвычайно отталкивающая внешность, эти не зависящие от вас обстоятельства, по выражению Аристотеля, «омрачают» радость. Тогда счастья достичь сложнее. Но это не значит, что оно недостижимо вовсе. Чтобы упражнять душу в компании с Аристотелем, совсем не обязательно обладать материальными благами, физической силой или красотой, поскольку образ жизни, за который он ратует, подразумевает стремление к нравственному и психологическому совершенству, а не материальные приобретения и не внешнее великолепие. Есть и гораздо более суровые препятствия, среди которых – наличие неисправимо дурных детей или друзей. И еще один барьер – его Аристотель приберегает напоследок и подает как самую большую беду, с которой может столкнуться человек, – это смерть хороших друзей и/или, еще страшнее, ребенка.
Тем не менее даже не особенно одаренные от природы или понесшие тяжелые потери люди имеют шанс прожить хорошую жизнь при условии, что она будет добродетельной. «Эта философия, приверженцем которой может стать любой, отличается от большинства других видов философии», – объясняет Аристотель, поскольку имеет прикладную цель в реальной повседневной жизни. Этика, добавляет он, «в отличие от других направлений философии, имеет практическую цель. Поскольку мы исследуем природу добродетельности не ради знания как такового, а для того, чтобы стать добродетельными, и без этого результата наше исследование будет тщетным». Собственно, единственный способ быть хорошим, добродетельным человеком – делать добро. Раз за разом поступать с людьми честно и справедливо. Без принуждения взять на себя детей в выходные, чтобы разгрузить второго родителя. Оплачивать услуги приходящий домработницы без вычетов, если сами отменяете очередную уборку. Аристотель полагает, что в представлении многих достаточно просто рассуждать о добродетели: вместо действий они «прибегают к рассуждению и думают, что, занимаясь философией, станут таким образом добропорядочными». Он сравнивает таких людей с «недужными, которые внимательно слушают врачей, но ничего из их предписаний не выполняют».
Мыслить по-аристотелевски – значит в стремлении сделать свою жизнь как можно лучше исходить из особенностей человеческой природы. Соответственно, в анализе своих дел и решений мы будем отталкиваться от естественных, а не сверхъестественных понятий, таких как бог или боги. Именно в этом заключалось единственное важнейшее различие между Аристотелем и его учителем Платоном, считавшим, что человек должен искать ответы на экзистенциальные задачи в незримом мире бестелесных идей-форм, за пределами окружающего нас материального мира. Аристотель же сосредоточил внимание на осязаемых явлениях реальности – «здесь и сейчас». Как писал в стихотворении «Осенний журнал» поэт и знаток классических языков и литературы Луис Макнис:
Лучше пусть Аристотель – тот не брезговал изучать размножение мух, Наблюдал за развитием живой и зримой вселенной, Подчеркивал смысл и цель, развенчивал бестелесность идеи Лошади, чтобы снять ее с полки и галопом пустить во весь дух.Центральную роль в своем учении Аристотель отводил человеческому опыту, за что перед ним преклонялись Томас Мор, Фрэнсис Бэкон, Чарльз Дарвин, Карл Маркс и Джеймс Джойс. Немало значимых трудов современных философов, в том числе выдающихся женщин, рожденных в XX в., – Ханны Арендт, Филиппы Фут, Марты Нуссбаум, Сары Броуди и Шарлотты Уитт – написаны под влиянием Аристотеля или посвящены ему.
Философ подчеркивает, что счастье обретается не за счет истового следования правилам, а за счет погружения в гущу жизни, в каждую ситуацию со всеми ее деталями и сложностями. Общие принципы, несомненно, имеются – как в медицине или мореплавании врач или капитан владеют фундаментальными основами своей науки, но каждый пациент и каждый выход в море – это особый случай со своими конкретными проблемами, которые требуют индивидуального решения.
В собственной жизни вы как морально ответственный человек «должны учесть, какое решение в каждом случае будет сообразно обстоятельствам». В какие-то выходные вам придется сидеть с детьми, а в какие-то – второму родителю. Дело даже не в уникальности ситуаций, а в том, что индивидуален каждый из нас, поэтому добродетельность и добропорядочность в повседневной жизни у разных людей принимает разные формы. Здесь Аристотель проводит аналогию с гимнастами: кому-то из них требуется усиленное питание, кому-то урезанное – и ссылается на Милона Кротонского как на пример атлета, нуждающегося в больших порциях еды. Каждому из нас необходимо разобраться в себе и решить, какая нравственная подпитка нам необходима. Научиться предлагать помощь, забывать обиды, просить прощения или, может быть, делать что-то совершенно иное?
Я не считаю себя исключительно прекрасным и легким человеком. У меня есть довольно неприятные черты характера, с которыми тяжело справиться. Прочитав у Аристотеля про пороки и добродетели и поговорив откровенно с близкими людьми, я определила свои самые главные недостатки – нетерпеливость, безрассудство, излишняя резкость, эмоциональная несдержанность и мстительность. Но аристотелевская идея о важности нахождения баланса между крайностями – та самая, которую мы называем «золотой серединой», – предполагает, что мои негативные свойства в умеренной степени приемлемы. Без нетерпеливости человек вряд ли доведет начатое до конца; без риска – будет жить пресно и ограниченно. Человек, боящийся сказать правду, скрывающий и горе, и радость, может быть психологически и эмоционально угнетен и даже ущербен. Тот, кто не испытывает ни малейшего желания поквитаться с обидчиками, либо обманывает себя, либо обладает крайне низкой самооценкой.
Зла в мире достаточно. Все мы знаем, что существуют люди, которые патологически часто (или просто регулярно) нарушают закон и вредят другим. Однако в большинстве своем мы убеждены, что значительная доля человечества при достаточном обеспечении базовыми ресурсами, исключающем необходимость проявлять эгоизм ради выживания, склоняется к альтруизму и социальному взаимодействию. Помощь другим приносит им моральное удовлетворение. Поддерживать связи с окружающими, объединяться в семьи и сообщества, судя по всему, естественное для человека желание и состояние. К таким сообществам и принадлежат эталоны аристотелевского образа мысли – рациональные, делающие нравственный выбор, руководствующиеся стремлением к здоровым удовольствиям как критерием правильности и культивирующие счастье для себя и для других.
Находят современных приверженцев и другие античные философские учения, в частности стоицизм Марка Аврелия, Сенеки и Эпиктета. Но стоицизм не пропагандирует радость жизни, как аристотелевская этика. Это довольно пессимистичная и мрачная концепция. Она требует подавления эмоций и плотских желаний. Она учит смирению, умению терпеть невзгоды, а не деятельному участию в увлекательной, полной тонкостей и нюансов практике повседневного бытия и решении жизненных задач. В ней почти нет места надежде, самостоятельному выбору и естественному неприятию тягот и лишений. Она осуждает удовольствие как таковое. Как тут не вспомнить Цицерона, который спрашивал: «Что? Разве может стоик вдохновить? Он скорее задушит любой порыв энтузиазма даже у того, кто был изначально преисполнен рвения».
Аристотель писал для неравнодушных к происходящему в обществе. Эпикурейцы призывали отказаться от всякого стремления к власти, славе и богатству и жить как можно безмятежнее. Скептики, хотя и разделяли убеждение Аристотеля в необходимости подвергать сомнению все догмы, считали истинное знание недостижимым, а выработку общих принципов для конструктивной жизни в условиях совместного общинного существования невозможной. Циники соглашались с Аристотелем, что человек в развитии превзошел животных и что цель жизни – это счастье, достигаемое благодаря разуму. Однако путь к счастью они предлагали неординарный: по их мнению, к счастью нужно приходить через аскетизм, отказ от семейной жизни и уюта, материальных благ и стремления к таким социальным наградам, как слава, власть и богатство. Самый знаменитый из циников, Диоген (старший современник Аристотеля, хорошо известный в платоновской Академии), жил на улице и ходил полуголым. У него не было ни жены, ни дома, он отвергал любое участие в социальной жизни. Многие из нас хотят жить проще, но мало кто готов отказаться от семьи и общества и стать бродягой-отшельником.
Хотя сам Аристотель не был религиозным в общепринятом понимании, он остается представителем культуры, которая включала в себя верования, не имеющие приверженцев в современном мире и существовавшие за сотни лет до появления христианства и ислама. Это значит, что его учение лишено какой бы то ни было связи с современными политическими или идеологическими течениями. Наоборот, веками он с одинаковым успехом вдохновлял философов христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания, а в более поздние времена – индуистов, буддистов и последователей Конфуция. Аристотеля невозможно полностью отнести к какой-либо современной интеллектуальной или культурной традиции. Общение с мыслителем из далекого прошлого обнадеживает, кроме всего прочего, возможностью убедиться, насколько незначительно, несмотря на весь технический прогресс, изменилась человеческая натура. Мы чувствуем себя частью человечества, ощущаем поддержку, над которой не властны ни время, ни смерть. Некоторые философы, в частности Юм и Кант, сомневались, правомерно ли опираться в вопросах этики на человеческую природу, учитывая великое разнообразие культурных различий, а также разницу темпераментов даже внутри одного сообщества. Но Аристотель описывает на редкость знакомый и неизменный комплекс этических проблем. Говоря «мы», он зачастую имеет в виду все человечество в совокупности, прошлое, настоящее и будущее. В одном из самых выразительных эпизодов «Метафизики» он критикует мифологические, ненаучные версии происхождения Вселенной, выдвигаемые более древними греческими поэтами, в частности Гесиодом. Гесиод, его последователи и все, кто писал о Божественном, по словам Аристотеля, «размышляли только о том, что казалось им правдоподобным, а о нас не позаботились. Принимая богов за начала и все выводя из богов, они утверждают, что смертными стали все, кто не вкусил нектара и амброзии»[6]. Вместо того чтобы подумать о «нас», о человечестве, древние космологи думали о «них», о небожителях, для которых «мы» – существа второго сорта.
Читая у Аристотеля о людях скупых и прижимистых или, скажем, о вспыльчивых, мы видим легко узнаваемые человеческие типажи, хорошо знакомые нам из повседневной жизни. Кроме того, он сам представляет отличную ролевую модель почти для любого жизненного этапа. Он не только преуспел в личной и семейной жизни и в дружбе, но и сумел, уцелев в политических бурях, осуществить свои личные планы – после полувекового ожидания и подготовки основать независимое учебное заведение и увековечить основную часть своих идей на папирусе.
Аристотель родился в 384 г. до н. э. в Стагире, небольшом независимом греческом полисе, примостившемся на холмах скалистого полуострова в северной части Эгейского моря. Его отец Никомах был врачом – выдающимся и искусным, судя по тому, что его приставили в качестве личного лекаря к тогдашнему македонскому царю Аминте III. Однако детство у Аристотеля закончилось рано. Отец с матерью умерли, когда будущему философу было около 13 лет, и этот удар ему пришлось переносить в непростые времена, на фоне зреющих военно-политических конфликтов. Аристотелю удалось не оступиться, сохранить принципы и достоинство в условиях всеобщего падения нравов. Он превратил проблему в возможность и посвятил значительную часть жизни работе над своими идеями и наблюдениями. А тогда, в 13, юного Аристотеля взял в семью и занялся его образованием муж сестры будущего философа, некто Проксен.
В 17 лет Аристотель перебрался в Афины и влился в ряды учеников Академии Платона. 20 лет спустя, когда Платон умер, Аристотель принял приглашение Гермия, правителя двух городов на северо-западе Малой Азии – Атарнеи и Ассоса. Позже он скрепил эту дружбу женитьбой на дочери Гермия, Пифиаде. В возрасте 40 лет Аристотель отправился на остров Лесбос, где занялся изучением дикой фауны и стал родоначальником зоологии как науки. Однако в 343 г. до н. э. ему пришлось круто изменить свою судьбу, когда царь Филипп II позвал его в Македонию – учителем к своему сыну Александру, будущему великому правителю Александру Македонскому. Филипп построил для занятий Аристотеля школу у святилища нимф, для которого был необходим источник пресной воды, в зеленой долине у Миезы, в 30 милях к югу от македонской столицы Пеллы. По мере того как Филипп расширял границы своей империи, международная обстановка накалилась до предела, поэтому в 338–336 гг. до н. э., когда Филипп был убит и Александр стал царем, Аристотель, судя по всему, отсиживался в Эпире и Иллирии (Западные Балканы).
И только потом, когда ему было уже под 50, воспользовался представившейся возможностью. Вопреки событиям кинокартины Роберта Россена «Александр Великий» (1956) с Ричардом Бертоном, Аристотель не стал сопровождать Александра в завоевательном походе на Восток. Он был уже немолод. Всю свою жизнь, с подросткового возраста, Аристотель служил другим – Платону как руководителю Академии и своим богатым царствующим покровителям Гермию и Филиппу. Теперь пришло время писать собственную жизненную историю. Он переехал в Афины и основал там Ликей – первое в мире учебное заведение, в котором велась научная деятельность. И хотя Аристотель писал свои труды и занимался философией с отрочества, большинство исследователей считает, что все дошедшие до нас сочинения (помимо как минимум 130 несохранившихся) он создал в «золотые» 12 лет руководства Ликеем. К трагически утраченным относится, в частности, второй том «Поэтики». (Тяжесть этой потери для мировой культуры проиллюстрировал Умберто Эко в своем средневековом детективе «Имя розы», который был экранизирован с участием Шона Коннери в 1986 г. В кульминационный момент истории последний существующий в мире экземпляр сочинения Аристотеля о комедии погибает в пламени пожара, устроенного монахом, который считал любое веселье и смех греховными. Не исключено, что эта метафора отражает истинную причину, по которой ценнейший труд оказался недоступен современному читателю: за переписку сочинений о комическом лицедействе средневековые христианские монахи брались гораздо реже, чем за труды, посвященные логике или нравственной философии.)
Хотя аристотелевскую манеру изложения часто называют сухой, безжизненной и труднодоступной, в дошедших до нас трудах можно найти множество удивительно живых моментов. Философ обладает мягким, ненавязчивым чувством юмора и подмечает причуды человеческой натуры с ироничной усмешкой. Так, например, на дружеском пиру с другими философами он повстречал человека, который в комическом ключе цитировал Эмпедокла, одного из малоизвестных греческих мыслителей, высказывавшего свои взгляды в форме пространных гекзаметрических поэм. Аристотель был знаком со многими поэтами и считал, что они относятся к своим творениям излишне трепетно, «не чая в них души, как родители не чают души в детях». Он любил забавные истории о безобидном чудачестве. Например, о византийце, который научился мастерски предсказывать погоду, наблюдая в каком направлении – на север или на юг – устремляются его домашние ежи. Или о пьянице из Сиракуз, который высиживал яйца от своих кур, в процессе подкрепляя силы бесконечными возлияниями.
Аристотель заботился и о телесном. Он был глубоко убежден, что секс, еда, вино, если делить их с любимыми и близкими и не злоупотреблять, играют важнейшую роль в достижении счастья. Его увлекало разнообразие вкусовых ощущений, кулинария. Философ знал, кто и что выращивает к столу в домашнем саду. Он любил растирания и теплые ванны в гимнасии. Судя по тому, сколько Аристотель знал о музыке и о практике обучения игре на музыкальных инструментах, эти занятия занимали не последнее место в его жизни. Обычная сдержанность резко исчезает, когда он заговаривает о своевольных, но безответственных спартанках, с одной из которых у него, судя по всему, были непростые отношения. Он был и отцом, и дядей, поэтому упоминает подарки, которые дарятся детям, – мяч, личную склянку для масла.
Тем не менее трактаты, созданные на основе его собственных исследований и заметок для лекций, которые Аристотель читал ученикам, зачастую довольно трудны для восприятия даже в современных и облегченных переводах. Однако он много рассуждал о разнице в обращении философа или ученого к массовой и к научной аудитории, будучи убежден в важности обоих подходов. Аристотель был далек от того, чтобы смотреть на «популяризаторские» труды свысока, он и сам их написал немало. Мы знаем, что ученый готовил и читал массовой аудитории лекции, в древности известные как «экзотерические», то есть «ориентированные вовне», «на публику». Эти тексты почти наверняка создавались в форме доступного, легко читаемого диалога, столь любимой Платоном. Себя Аристотель изображает в этих диалогах одним из участников, подобно тому как Сократ предстает собеседником в философских диалогах Платона и Ксенофонта. Цицерон, как никто разбиравшийся в литературных стилях, называл публичные лекции Аристотеля написанными «в популярном ключе» (populariter) и, скорее всего, имел в виду именно их, говоря, что беседа у Аристотеля «течет, словно золотая река». К числу самых известных его экзотерических трудов относится «Протрептик» («Побуждение к философии»), представлявший собой основы философского учения для «обычного человека». Философ по имени Крат обнаружил это сочинение случайно, когда «дожидался в сапожной мастерской», и прочитал в один присест. Текст, проникнутый пламенной любовью Аристотеля к философии, повествует о главном отличии между человеком и животными – чистой силе человеческого разума. Кроме того, эта сила больше всего приближает их к тому, что Аристотель называл «богом»: хотя греки были политеистами, у философов имелось понятие единой высшей Божественной силы, которая движет Вселенной. В немногочисленных дошедших до нас фрагментах «Протрептика» содержатся высказывания о том, как увлекательна философия: «Приятно просто сесть и предаться философским размышлениям».
Между тем любого желающего возродить философию Аристотеля (особенно если за это возьмется женщина) поджидает довольно щекотливая проблема – предубеждение, с которым преуспевающий глава семьи и хозяин дома относился к женщинам и рабам. В первой книге «Политика» он, как известно, защищает рабство – по крайней мере применительно к порабощению греками не-греков, и недвусмысленно заявляет, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях. В этой книге я не заостряю внимание на моментах (на самом деле довольно нечастых), где Аристотель демонстрирует ошибочное убеждение, будто женщины или рабы не-греки от природы не обладают таким интеллектуальным потенциалом, как греческие мужчины[7]. Зато я не раз буду возвращаться к последовательно доказываемому Аристотелем утверждению, что любые взгляды всегда должны быть открыты для пересмотра.
В «Никомаховой этике», например, он пишет, что, хотя упорство – это добродетель, иногда излишне настаивать на своем – вредно. Изменить мнение, получив неопровержимые доказательства его ошибочности (что некоторые осудят как непостоянство), более чем похвально. Аристотель рассматривает данный этический вопрос на примере персонажа трагедии – в данном случае Неоптолема из «Филоктета» Софокла. Сперва Неоптолем поддается на уговоры Одиссея обмануть хромого Филоктета, но, увидев воочию его мучения и узнав подробности постигшей его беды, он отказывается участвовать в обмане, то есть меняет свое мнение. Думаю, будь у нас возможность, мы смогли бы переубедить его насчет умственных способностей у женщин.
Считая, что традиционные представления (endoxa) необходимо уважать и при необходимости систематически пересматривать, Аристотель не считает взгляды, унаследованные от предков, заведомо правильными. Первобытные люди, полагает он, находились примерно на том же уровне развития, что и самые обычные его современники, а значит, «было бы безрассудством оставаться при их постановлениях». Своды письменных законов Аристотель также призывает периодически обновлять и совершенствовать, поскольку «в государственном устроении невозможно изложить письменно все со всей точностью».
Философскую школу Аристотеля называют перипатетической (от греч. peripateo – «я прогуливаюсь»). По примеру своего учителя Платона, который перенял эту привычку у Сократа, Аристотель любил рассуждать на ходу. Так поступали и многие известные философы после него – в том числе Ницше, утверждавший, что ценит лишь те идеи, что пришли к нему во время прогулки. Однако древних греков весьма озадачил бы романтический образ бродящего в одиночестве мудреца, впервые выведенный в «Прогулках одинокого мечтателя» Руссо в 1778 г. Философы предпочитали прохаживаться сообща, питая мысль энергией своих шагов и подстраивая течение беседы под ритм ходьбы. Судя по величине вклада в сокровищницу человеческих знаний и по количеству написанных авторитетных трудов, Аристотель должен был к 62 годам прошагать со своими учениками не одну тысячу миль по скалистым греческим берегам.
Для древнегреческого мыслителя познание было тесно связно с идеей путешествия. Эта связь берет начало в глубине веков, задолго до Аристотеля: еще Одиссей у Гомера за время странствий «многих людей, города посетил и обычаи видел». В классический период уже существовала метафора «выгуливания» идеи или замысла: в комедии, впервые поставленной в Афинах примерно за 20 лет до рождения Аристотеля, трагику Еврипиду не советуют «выгуливать» тенденциозную гипотезу, которую он ничем не сможет подкрепить. А в медицинском сочинении, приписываемом Гиппократу, мыслительный процесс уподобляется моциону, призванному упражнять разум: «Для человека мысль – это прогулка души».
К этой же метафоре обращался и Аристотель, начиная собственное исследование природы человеческого сознания в трактате «О душе». Там он утверждает необходимость рассмотреть мнения о душе, высказанные предшественниками, чтобы «двигаться вперед, нащупывая необходимый нам путь через препоны». «Путь» в оригинальном тексте Аристотеля имеет корень (poros), означающий мост, брод, перевал между ущельями или курс сквозь узкие проливы, пустыню, лесную чащу. Углубляясь в тайны устройства природы в «Физике», он точно так же указывает нам направление, приглашая следовать «естественным путем» (hodos): от более понятного и явного для нас к менее понятному.
Философские задачи именуются апориями, что в дословном переводе означает «безвыходное положение». Между тем «перипатетической» философскую школу Аристотеля стали называть не только в связи с прогулками. Во-первых, вся его система рассуждений и познания опирается на увлеченный интерес к осязаемым подробностям окружающего нас материального мира. Аристотель был не только философом-мыслителем, но и естествоиспытателем-эмпириком, его сочинения воспевают материальную природу Вселенной, которую мы воспринимаем органами чувств и осознаем как реальную. Читая его труды по биологии, представляешь, как автор ежеминутно останавливается во время прогулок, чтобы подобрать раковину, указать на интересное растение или, прервав ненадолго философскую беседу, слушает пение соловьев. Во-вторых, Аристотель, в отличие от Платона, был не просто далек от презрения к человеческому телу, а, напротив, считал человека исключительно одаренным созданием, у которого сознание неотделимо от органического бытия, моторика кисти и пальцев представляет собой инженерное чудо, а инстинктивное физическое наслаждение служит ориентиром на пути к добродетели и счастью. Читая Аристотеля, мы чувствуем уверенность руки, записавшей мысли, которые рождены неутомимым умом, составляющим единое целое с тренированным телом.
Однако у термина «перипатетический» есть еще одна ассоциация. В греческом переводе Евангелия от Матфея, когда фарисеи спрашивают Иисуса, почему его ученики не живут по заветам старцев и не соблюдают строгие иудейские обычаи, понятие «жить» передано словом peripateo, то есть в греческом языке у этого глагола имеется метафорическое значение «жить согласно определенным этическим принципам». Хотя аристотелевские перипатетики не затрагивали религию, они вместе с учителем проложили философский путь к счастью.
Прогуливаться мне нравилось всегда, и сейчас самые ценные мысли посещают меня на глинистых тропинках Кембриджшира. От религии я – дочь англиканского священника – отказалась в 13 лет. Самым большим препятствием для моей и без того стремительно слабеющей веры стала утверждаемая церковью необходимость признавать сверхъестественное и поклоняться невидимым и неслышимым для меня сущностям. А я просто перестала чувствовать связь с Невидимым другом, которого прежде называла Господом. Однако переход к атеистическому образу мысли не обошелся без потерь. Прежде, в более раннем детстве, я не сомневалась, что попаду в рай, если буду вести себя хорошо. Теперь же я ощущала себя примерно как Антониус Блок из «Седьмой печати» (1957) Ингмара Бергмана, религиозный скептик в отчаянном поиске смысла бытия во времена чумы XIV в.: «Нельзя жить перед лицом смерти, сознавая, что все на свете – ничто». Наверное, не случайно совпадение, что Бергман тоже вырос в семье протестантского священника. Я больше не верила, что где-то там, в космосе, некто следит за каждым моим шагом и вознаграждает за благие поступки или наказывает за дурные. Но я не знала, кем Его заменить. Мне по-прежнему хотелось быть хорошей, приносить пользу и в идеале оставить планету будущим поколениям в лучшем состоянии.
В подростковом возрасте я некоторое время экспериментировала с астрологией, буддизмом, трансцендентальной медитацией, потом совсем уж мимолетно – с психотропными препаратами и спиритизмом. Я прочла классическую книгу Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить»[8] (1948) и много другой популярной психологической литературы, но никак не могла найти действенную, интересную, оптимистичную в основе своей нравственную систему. Нашла я ее только в студенчестве, когда познакомилась с трудами Аристотеля. Он объясняет физическое устройство мира с научной точки зрения, а нравственное устройство – через нормы, выработанные человеком, а не полученные свыше в результате сверхъестественного вмешательства.
Аристотель первым подчеркнул бы, что философская или научная работа не может быть чисто умозрительной. Наши идеи, самопознание, познание окружающего мира неразрывно связаны с пережитым. Аристотель сменил за свой век восемь мест проживания (см. карту в начале книги), и в апреле 2016 г. я посетила их все, чтобы приобщиться к его опыту. Я прошла по его стопам, пытаясь прочувствовать его мир, нащупать тропинки, которыми он шагал, вынашивая свои философские идеи как отклик на испытания, возникающие на жизненном пути[9].
Один из величайших древних комментаторов Аристотеля, Фемистий, утверждал, что тот «принес народу больше пользы», чем остальные мыслители. И это утверждение по-прежнему верно. Философ Роберт Андерсон писал в 1986 г.: «Ни один древний мыслитель не ставит так прямо вопросы, волнующие и тревожащие современного человека. Да и среди современных мыслителей нет тех, кто способен предложить живущим в наше неспокойное время столько же, сколько он»[10]. Практический подход Аристотеля к философии может изменить нашу жизнь к лучшему.
Глава 1 Счастье
В начале «Евдемовой этики» Аристотель приводит изречение, высеченное на древнем камне священного острова Делос и провозглашающее наивысшими благами на свете «справедливость, здоровье и милое сердцу добыть»[11]. Аристотель категорически с этим не согласен. С его точки зрения, конечная цель человеческой жизни – обрести счастье, то есть стремиться к раскрытию своего потенциала и работать над собой, чтобы достичь вершин личного совершенства. Вы сами себе нравственный судья, однако действуете в мире, где все взаимосвязано и отношения с другими людьми играют важную роль.
Учителем Аристотеля был Платон, который, в свою очередь, учился у Сократа, утверждавшего, что «неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ею жить». Аристотель считал такой подход слишком суровым. Ведь многие – возможно, большинство – руководствуются в жизни интуицией и не особенно рефлексируют, однако это не мешает им быть счастливыми. Аристотель сместил бы акцент на практическую деятельность и устремленность в будущее под девизом: «Непродуманная жизнь вряд ли будет по-настоящему счастливой».
Аристотелевская этика возлагает ответственность за собственное счастье на самого человека. Как сказал Авраам Линкольн, «большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми». Этика Аристотеля не приемлет действий «по инерции», она назначает вас капитаном и ставит к штурвалу. Прочие этические учения меньше ориентированы на персональную нравственную ответственность перед собой и другими людьми.
Идея такой ответственности сближает аристотелевскую этику с этическим эгоизмом – учением философа Нового времени Бернарда Мандевиля (1670–1733), но это единственная точка их соприкосновения. Согласно концепции Мандевиля, человек должен осознанно стремиться к максимизации личной выгоды. Предположим, вы решили устроить чаепитие в кафе для десятка соседей. Вам известно, что двое из них веганы. Но веганские сэндвичи обойдутся в три раза дороже, чем сэндвичи с ветчиной, и, если вы закажете две порции веганских сэндвичей, придется урезать порции для остальных. Эгоист не станет учитывать чужие интересы, поэтому меню для веганов продумает исходя из собственных предпочтений. Если сам он не веган, то, разумеется, не захочет уменьшать причитающуюся ему порцию сэндвичей с ветчиной ради тех, кто придерживается иной системы питания. Если же хозяин сам веган, то его нисколько не смутит, что восьми мясоедам придется довольствоваться урезанными порциями, – он позаботится, чтобы веганы с ним самим во главе ни в чем не знали отказа.
Утилитаристы, наоборот, считают, что цель человечества – обеспечить максимальное счастье как можно большему числу людей, тем самым сосредоточиваясь на результатах действий: с точки зрения утилитариста, благо для восьми мясоедов стоит того, чтобы пожертвовать недовольством двух веганов. Проблемы в утилитаризме начинаются, когда увеличивается доля неудовлетворенного меньшинства: если недовольных веганов будет четверо против шестерых ублаженных мясоедов, атмосфера на чаепитии окажется совсем не праздничной.
Последователи Иммануила Канта во главу угла ставят долг и обязательства, предполагая, что соотношение вегетарианских и мясных сэндвичей на чаепитии должно определяться неким универсальным, раз и навсегда прописанным законом. Приверженцы культурного релятивизма, напротив, убеждены, что единого нравственного закона быть не может. Каждый из нас, доказывают они, принадлежит к той или иной социальной группе или группам, живущим по своим законам и обычаям. На свете есть культуры, вообще не употребляющие продукты из свинины, и множество сообществ, которым чуждо не только понятие вегетарианства, но и чаепития.
Аристотель же будет исходить из того, что решение по поводу сэндвичей не принимается в вакууме. Он даст себе время обдумать задачу и разработать план. Он ознакомится с возможностями обслуживания в данном кафе, четко обозначая свои намерения: если для установления добрососедской атмосферы и дружеских отношений, а также обеспечения личного и коллективного счастья необходимо окружить заботой и накормить всех гостей, необходимо сделать для этого все возможное. Обидеть даже малую часть приглашенных в этом случае крайне нежелательно. Аристотель поговорит с участниками процесса – и с приглашенными, и с обслуживающим персоналом. Вспомнит прежние застолья, где ему довелось быть либо организатором, либо гостем, проанализирует прецеденты и, скорее всего, найдет выход, обратившись к истории чаепитий – например, вместо «сэндвичей раздора» закажет устраивающие всех пирожные без ингредиентов животного происхождения. Немаловажно, чтобы пирожные нравились и ему самому, поскольку его философия уважения к себе и другим не предполагает неоправданного самоотречения.
Этическое учение Аристотеля – разностороннее, гибкое, практичное – вполне применимо к повседневному существованию. Намеченные психологом Соней Любомирски в книге «Психология счастья. Новый подход»[12] (2007) шаги к увеличению отдачи от жизни удивительно схожи с рекомендациями Аристотеля, на которого автор ссылается с одобрением. Ее лейтмотивы – работа с ситуацией, которая существует в данный момент, заблаговременный анализ, сосредоточенность, гибкость, практический здравый смысл, личная независимость и в то же время умение и желание советоваться с другими. Отправная точка в аристотелевской концепции счастья замечательно проста и демократична: каждый может решить быть счастливым. Через какое-то время повторяющиеся добродетельные поступки перерастают в привычку, человек чувствует удовлетворение собой, и вот это состояние души – eudaimonia – и означает для Аристотеля счастье.
Аристотелевское стремление к eudaimonia импонирует агностикам и атеистам, однако на самом деле оно сопоставимо с любой религией, которая возлагает нравственную ответственность за поступки на самого человека и не внушает ему, что нас наставляет, вознаграждает и наказывает некая сверхъестественная сущность. Но, поскольку Аристотель не верил в Божественное вмешательство или хотя бы интерес богов к делам людей, его программа достижения счастья была самодостаточной. Последователь Аристотеля не станет искать правила проведения чаепитий в священных текстах. Но и небесной кары за безнадежно испорченное чаепитие он тоже не ожидает. Мы сами принимаем решение опираться на знания, опыт и предварительное планирование, чтобы управлять собственной жизнью и судьбой. А поскольку такой властью обычно наделяются Божественные сущности, в каком-то смысле человек, обретая ее, становится «богоподобным».
Между тем понятие eudaimonia не так просто объяснить. Приставка eu означает «хорошо/хороший», а корень daimonia несет в себе целый ряд смыслов – Божественная сущность, Божественная сила, дух-хранитель, судьба или жребий. В итоге словом eudaimonia стали называть благополучие, достаток, который подразумевает удовлетворенность жизнью. Однако по сравнению с удовлетворенностью жизнью eudaimonia невозможна без активной позиции человека. Ею «занимаются», ее питают добрыми поступками. По сути, для Аристотеля счастье – это деятельность (praxis). По его словам, будь ощущение счастье особенностью эмоционального склада, которая у одних имеется от рождения, а у других – нет, счастливым можно было бы стать, даже проспав весь отведенный тебе на этом свете срок.
В аристотелевском определении счастья материальное благополучие тоже не принципиально. Веком ранее другой мыслитель с севера Греции, Демокрит, перед которым Аристотель преклонялся, говорил о «счастье души», утверждая, что оно никоим образом не происходит от обладания стадами или золотом. Так и Аристотель понимает eudaimonia как «счастье души», которое мыслящий человек осознает. То есть жить означает иметь активный разум. Аристотель был убежден, что большинство людей основное удовольствие получают от познания нового и удовлетворения интереса к происходящему вокруг. По сути, он считал непосредственной целью жизни постижение мира – не просто академическое знание, а понимание процессов и устройства всего того, что составляет жизненный опыт.
Если вы видите цель человеческой жизни в максимизации счастья, можете причислять себя к начинающим последователям Аристотеля. И коль скоро счастье составляет цель жизни, для его достижения необходимо тщательно обдумать, как жить хорошо. Это требует осознанной привычки, к которой, по мнению Аристотеля, другие животные не способны. Обманчиво простое наречие «хорошо» может означать и «правильно, со знанием дела» в практическом смысле, и «праведно» (хорошо по отношению к другим), и «удачливо» или «счастливо» (в благоприятных условиях, наслаждаясь достигнутым).
4 июля 1776 г. новоиспеченный конгресс Соединенных Штатов одобрил текст Декларации независимости, составленной Томасом Джефферсоном. Первый пункт этого документа гласит: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Как все мы прекрасно знаем, образцом для подражания отцам-основателям США служила Римская республика, однако, судя по обороту «стремление к счастью», Джефферсон был хорошо знаком и с философией Аристотеля. Четыре года спустя схожая формулировка появилась в конституции Массачусетса (1780): правительственная власть учреждается для общего блага, «для защиты, безопасности, благосостояния и счастья народа».
Аристотель полагал, что образование и воспитание, которое мы дадим будущим гражданам, играет решающую роль в реализации их личного и общественного потенциала. В связи с этим Законоположение о Северо-Западной территории от 1787 г. выглядит как нельзя более аристотелевским в той части, где утверждается, что школы необходимы для «добропорядочного управления и счастья человечества». Любой, кто живет в соответствии с принципами, изложенными на заре американской независимости, оказывается (иногда сам того не подозревая) последователем Аристотеля и приверженцем идеи всеобщего счастья.
В своем самом знаменитом высказывании (настолько знаменитом, что без него – немного искаженного – не обошелся даже обмен мнениями между Дональдом Трампом и папой Франциском в феврале 2016 г.). Аристотель называет человека «политическим животным» (zoon politikon). Аристотель имел в виду, что человека отличает от других животных естественное стремление собираться в крупные оседлые общины – полисы или города-государства. Аристотель всегда выводит определение через серию различий и в «Никомаховой этике» задается принципиальным вопросом: «Каковы отличительные черты человека?» Люди, точно так же как животные и растения, участвуют в базовой жизнедеятельности, получают питательные элементы и растут. Таким образом, ни жизнь, ни питание, ни рост отличительными признаками человека не являются. У животных, как и у человека, имеются органы чувств, с помощью которых они воспринимают окружающий мир и остальных существ. Значит, чувства тоже отличительной характеристикой человека выступать не могут. Зато никто другой, кроме человека, не ведет «деятельную жизнь существа, обладающего суждением». Человек не только действует, но и способен обдумывать свои действия заранее, в процессе и после. Это и есть человеческий raison d’être – смысл существования. И если вы, как представитель человеческого рода, не реализуете свою способность действовать разумно, вы не реализуете заложенный в вас потенциал.
Поступать осмысленно, чтобы жить хорошо в аристотелевском понимании, означает культивировать добродетель и избегать пороков. Добрый человек обязательно будет счастлив. Неслучайно сказка со счастливым концом «Эта замечательная жизнь» (1946) Фрэнка Капры до сих пор остается самым популярным рождественским фильмом – его идея созвучна с общими для большинства людей ценностями взаимопомощи и милосердия. Герой фильма, Джордж Бейли (в исполнении Джеймса Стюарта) – предприниматель-филантроп, загнанный в угол алчным банкиром, решает уйти из жизни в сочельник. Однако прибывший с небес ангел-хранитель Кларенс разворачивает перед Джорджем ретроспективу его бескорыстной и самоотверженной помощи другим. Мы видим, на что он готов ради своих родных; видим, как он дает беднякам займы на покупку домов. Кларенс отговаривает Джорджа от самоубийства, показывая, как развивались бы события, исчезни он с лица земли: родным приходится туго, бедняки ютятся в трущобах. Джордж осознает, что его «замечательная жизнь» – это тесное переплетение судеб его и тех, кому он помог, он связан с другими людьми. Аристотелевский характер этого фильма проявляется и в том, что жизнь в нем представлена как непрерывная последовательность разумных поступков, и насколько она будет замечательной, зависит только от наших решений. Каким бы сиропным ни был этот фильм, он задевает эмоциональную струну.
Фильм 1996 г. «Обещание» (La Promesse) бельгийских режиссеров Жан-Пьера и Люка Дарденнов, напротив, лишен всякой сентиментальности. Мы видим, как юноша, вступающий во взрослую жизнь, в которой ему предстоит самому нести полную ответственность за свои поступки, узнает, как могут быть вознаграждены добрые дела. Игорю всего 15, пока он просто помощник в автомастерской, однако ему удается справиться со сложнейшей нравственной дилеммой и обрести независимость от своего беспринципного отца. Когда тот требует, чтобы Игорь помог ему скрыть наступившую в результате несчастного случая смерть нелегального мигранта, Игорь проходит сложный этап нравственного взросления и достигает душевного спокойствия, помогая обездоленной семье погибшего вопреки угрозам отца, чувству вины, социальной уязвимости и страху перед законом.
Именно здесь, в выраженной взаимосвязи счастья с добродетельными поступками, кроется одно из основополагающих различий между аристотелевским рецептом счастья и другими философскими концепциями, такими как эгоизм, утилитаризм и кантианство. Показывая в «Политике», насколько сложно достичь счастья без добропорядочности, Аристотель рисует предельно карикатурный портрет человека, одолеваемого пороками и потому несчастного:
Ведь никто не назовет счастливым того, кто не обладает, хотя бы в незначительной степени, мужеством, воздержанностью, справедливостью, рассудительностью, кто боится пролетающей мухи, кто не останавливается ни перед какими, даже самыми крайними, средствами, лишь бы утолить голод и жажду, кто из-за полушки готов пожертвовать самыми близкими друзьями, кто до такой степени нерассудителен и склонен к заблуждению, что уподобляется ребенку или сумасшедшему.Такую же параллель, но уже не от противного, провел в 1789 г. Джордж Вашингтон в своей инаугурационной речи в Нью-Йорке, сказав о «неразрывной связи между добродетелью и счастьем».
Идти к счастью по пути хорошей жизни[13] – значит следовать принципам «этики добродетели», или, проще говоря, поступать правильно. Точно так же за громкими словами, которыми обозначают аристотелевские добродетели – например, справедливость, – скрывается простая необходимость поступать по совести. Этика добродетели всегда импонировала гуманистам, агностикам, атеистам и скептикам именно потому, что она предлагает тем, кто хочет жить самодостаточной, конструктивной, честной жизнью, осмысленный способ сделать это. В основе способа – возможность опираться в решениях, нравственных дилеммах, вопросах жизни и смерти на собственные суждения и способность позаботиться о себе, своих друзьях и близких. Однако в связи с отсутствием простого и понятного перевода с греческого разумная и эффективная аристотелевская программа достижения счастья посредством осознанных правильных поступков не получила должной популярности среди широкой публики. Если бы люди понимали, что личное счастье зависит от их собственного поведения, счастье, писал Аристотель, «было бы более распространено, так как большее число людей смогло бы быть ему причастно». В идеале, продолжает он, «все человечество придет к тому, чтобы разделить утверждаемые взгляды», а если нет, то людям стоит хотя бы частично подключиться к программе действий, предполагаемых этикой добродетели, «ведь каждому из нас есть что в нее вложить».
Аристотель первым в мире начал писать книги, в которых искал ответы на вопрос «Как мне поступить?». До него никто, даже Платон, не рассматривал эту проблему в отрыве от высоких материй вроде религии или политики. Крупных работ в этой области у Аристотеля две – это «Никомахова этика», посвященная, судя по всему, его сыну Никомаху, и «Евдемова этика», названная в честь его друга Евдема, который мог редактировать изначальную рукопись. Сам Аристотель эти заглавия вряд ли знал и употреблял, хотя в «Политике» он ссылается на предшествующие сочинения о «характере», называя их Ethika (от древнегреч. ethos – «характер»). «Евдемова этика», вероятно, написана раньше «Никомаховой», а затем частично переработана под влиянием последней. Оба великих труда построены примерно одинаково. Вначале разбор основополагающего понятия eudaimonia, затем переход к природе добродетели в общем (arete) и отдельных добродетелей (aretai), которые человеку необходимо культивировать в себе, если ему хочется жить хорошо, процветать и быть счастливым. Помимо этого, в «Этиках» рассматриваются дружба и удовольствие, а также, вкратце, соотношение человеческого и божественного. Существует еще третье сочинение, менее пространное, разъясняющее идеи Аристотеля, но, возможно, принадлежащее кому-то из его последователей. Называется оно, вопреки своей вторичности и краткости, «Большая этика» (Magna Moralia).
В «Этиках» Аристотеля почти нет единых правил на все случаи жизни и общих наставлений. Никаких жестких формул и моральных кодексов. Намерение всегда одно – улучшить жизнь, развернуть ее к благополучию, однако этический контекст для каждого решения будет свой и потребует индивидуального анализа и реакции. Предположим, двое ваших подчиненных прикарманивают деньги из кассы, но одна делает это, чтобы прокормить детей, и в конце месяца возвращает взятое, а у другого – наркотическая зависимость. Аристотель не отрицал важность общих принципов, однако, если не принимать во внимание конкретные обстоятельства, на одних общих принципах зачастую можно уехать не туда. Поэтому некоторые последователи Аристотеля называют себя этическими партикуляристами – «учитывающими частности», – отрицая существование единых нравственных законов. Любая ситуация и дилемма требуют подробного анализа всех деталей, потому что в этических вопросах дьявол нередко кроется в мелочах.
Аристотель знает, что некоторые люди не способны или не готовы к такому гибкому и при этом принципиальному подходу. Он разъясняет, что зрелость моральная не тождественна зрелости биологической, поскольку кто-то и в юности достигает необыкновенных духовных высот, а кто-то и к старости не успевает повзрослеть. Однако при этом Аристотель отмечает, что чрезмерное подавление чувств тоже не способствует хорошей жизни – очень современная, «фрейдистская» концепция. Не уделяя внимания своим эмоциональным реакциям и естественным склонностям, человек точно так же уменьшает вероятность достичь благой цели, как и отказываясь развивать способности к нравственному суждению. В «Никомаховой этике» Аристотель предполагает, что разум и эмоции – это не диаметральная противоположность, «они нераздельны, как выпуклость и вогнутость окружности».
Обращает он внимание и на то, что многие подменяют конструктивные блага, о которых он в действительности ведет речь, удовольствиями, богатством, славой. Уязвимость этих жизненных целей в том, что они сильно зависят от прихотей судьбы, тогда как более социально конструктивным целям ее превратности не страшны. Если ваша цель – богатство, а вы все никак не разбогатеете или вдруг разоритесь по воле случая, то счастье, которое называется eudaimonia, так и останется для вас недостижимым.
Тем не менее осознанно нравственный образ жизни дается не всем. Аристотель делит людей, добивающихся той или иной цели, на три категории. Первых интересуют лишь те блага, которые приносят физическое наслаждение: таких людей он уподобляет скотине, с прискорбием сообщая, что и среди выдающихся членов общества немало найдется тех, кто печется лишь о телесном удовольствии. В пример он приводит мифического ассирийского царя Сарданапала, чьим девизом было «Ешь, пей, забавляйся, все остальное не стоит и щелчка». Аристотель не отрицал важности физического наслаждения как ориентира в том, что есть благо, для всех животных. Однако для человеческого существа оно полезно постольку, поскольку может служить проводником к счастью, само по себе счастьем не являясь. Вторую категорию составляют деятельные люди, занятые на общественном или политическом поприще. Их цель – слава, почет, признание. Беда в том, что первостепенно для них именно признание, а не добродетельность. Им важны почести, а не причины их воздаяния. А вот третью категорию составляют люди, которые видят своей целью познавать мир и насыщать разум. Отсутствие движения к этой цели гораздо сложнее объяснить чем-то неподвластным нам, например волей случая. Она не требует признания окружающих. Она зависит только от вас и неразрывно связана с самодостаточностью.
Самодостаточность, или умение полагаться на себя (autarkeia), – ключевой элемент аристотелевской концепции добродетельной и, следовательно, счастливой жизни. Термин этот часто встречается в экономическом контексте: автаркическим или самодостаточным называют финансово независимого человека, не нуждающегося в денежной помощи. Финансовая независимость влечет за собой независимость моральную, поскольку избавляет от необходимости кому-то угождать или подчиняться. Для Аристотеля эта составляющая важнее. Правильная жизнь требует способности действовать как независимая морально ответственная личность, не связанная в своих целенаправленных решениях долгом перед другими людьми. Адекватный доход может играть важную роль для свободы добродетельной жизни и стремления к счастью. Однако в этом случае человек, желающий быть счастливым, сам отвечает за то, чтобы найти в своем характере необходимые ресурсы. В завершающей части «Никомаховой этики» Аристотель пишет, что самодостаточность, прежде всего, связана с созерцательной деятельностью, поскольку не требует участия других. Но даже здесь Аристотель уточняет, что и мудрецу, пусть он и способен философствовать в одиночку, «лучше иметь сподвижников». Если вы намереваетесь достичь счастья посредством справедливого обращения, нужно, чтобы было с кем справедливо обращаться.
Эта уступка резко отличает аристотелевскую идею от других древних философских учений, проповедовавших изоляцию, отшельничество, уход от взаимоотношений и мирских забот. У Аристотеля самодостаточного человека дружба только обогащает. Он открыто полемизирует с теми философами, которые доказывают, что живущий правильно в друзьях не нуждается. Если существуют некие безусловные ценности вроде дружбы, присущие «внешней» жизни, зачем же счастливому человеку себе в них отказывать? Да, он сможет обойтись без них, если к тому вынудят обстоятельства, но зачем делать это намеренно?
Таким образом, к счастью можно идти сообща, вместе с друзьями. А вот и еще одна хорошая новость: чтобы достичь личного совершенства, не обязательно обладать «природной склонностью» к правильной и добродетельной жизни. В Книге третьей «Никомаховой этики» Аристотель последовательно опровергает доводы тех, кто утверждает, будто человек рождается добродетельным или порочным. Взять на себя ответственность за собственное счастье и решить жить правильно можно на любом этапе нравственного развития. Более того, в Книге девятой «Никомаховой этики» он подчеркивает, что желающие жить правильно и обращаться с другими справедливо непременно должны полюбить себя. Тех, кто вырос в строгой религиозной семье, постоянно слыша о греховности и необходимости каяться перед Господом, этот аристотелевский призыв зачастую очень воодушевляет.
Задолго до того, как благодаря фрейдовскому психоанализу люди стали относиться к примитивным, бессознательным стремлениям как к естественным, а не предосудительным, и до того, как психиатр из штата Огайо Хью Миссилдайн в книге «Ребенок из прошлого внутри вас» (Your Inner Child of the Past, 1963) призвал нас всех этого внутреннего ребенка принять, Аристотель доказывал, что счастье несовместимо с самоуничижением. Тот, кто не уважает себя и не верит в собственную основополагающую порядочность, не способен проникнуться добрыми чувствами даже к самому себе, не говоря уже о других. Насквозь порочный или преступный тип ненавидит не только окружающих, но и себя, и Аристотель добирается до глубинных причин этого неприятия. В отличие от большинства религий и других этических концепций, аристотелевская этика на удивление снисходительна к безнравственным людям, поскольку Аристотелю они кажутся глубоко несчастными. Безнравственного человека всегда раздирают противоречия. Он поступает так, как ему приятнее, но на каком-то уровне сознает, что погоня за удовольствием ради удовольствия к счастью не приводит. Точно в таком же раздоре с собой находятся те, кто понимает, как поступить правильно, однако не делают этого из «лени или трусости».
При дворе македонского царя, безжалостного Филиппа II, Аристотель успел насмотреться на мучения его жен, наложниц и приспешников, вечно интригующих друг против друга и грызущихся за место поближе к трону. Он видел преступников, которые, отняв немало чужих жизней, в конце концов сводили счеты со своей. Наблюдал, как «порочные ищут, с кем вместе провести время, поскольку наедине с собою они вспоминают много отвратительного в прошлом и в будущем ожидают того же, но с другими людьми они забываются». Подлецы, не выносящие собственного общества, «не делят с самими собою ни радости, ни горя, потому что в их душе разлад». Их словно разрывает на части. Наслаждение результатом исполненной прихоти мимолетно, а «вскоре после человек все-таки страдает от того, что получил удовольствие, и хотел бы, чтобы этого удовольствия у него не было». Лев Толстой, хорошо знавший древнегреческую литературу и философию, рассуждает совсем по-аристотелевски, когда пишет в «Анне Карениной» (1877), что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Аристотель утверждал, что «благо просто, дурное же многолико; и тот, кто благ, всегда подобен сам себе и не переменяет нрава, плохой же человек и неблагоразумный сам на себя не похож с утра до вечера». Никто и никогда не анализировал лучше него многообразие психологических терзаний, на которые обрекает себя порочный человек из-за собственной непоследовательности.
Аристотель родился в зажиточной и, судя по всему, любящей семье, в свободном самоуправляемом полисе, в прекраснейшем краю между морем и лесистыми горами. Я думаю, что идеей счастья как последовательной деятельности на благо общества Аристотель во многом обязан своим детским впечатлениям. Преданным сыном родного города он оставался и в зрелом возрасте. В 348 г. до н. э. Филипп Македонский завоевал Стагиру, разрушил часть зданий и поработил всех уцелевших жителей, но затем, вняв мольбам Аристотеля, согласился восстановить разрушенное и вернуть жителям свободу. В центре города сохранились остатки крытой мраморной колоннады с длинной скамьей, где собирались обсуждать государственные дела свободные жители самоуправляемой Стагиры – в том числе и отец Аристотеля.
Я соглашусь с философом, что ребенок не может быть счастливым в полном смысле слова, поскольку еще не набрал достаточного жизненного опыта и слишком падок на немедленное вознаграждение, поэтому не способен мыслить с прицелом на будущее. По этой же причине я сочувствую подросткам – к финансовой и эмоциональной нестабильности у них добавляется больший простор для случайных несчастий, чем у человека зрелого или пожилого. Единственный совет – быть верным себе и сохранять постоянство, чтобы психика не была «подобна хамелеону или шаткой постройке», как образно выражается Аристотель.
Самая серьезная угроза для счастья – обычные невзгоды. В «Евдемовой этике» Аристотель не одну страницу посвящает взаимоотношениям нашего внутреннего «я» как носителя нравственной ответственности (способного определять наши поступки и выстраивать судьбу) и банального невезения, которое никак от нас не зависит. Излюбленный пример, на который Аристотель ссылается, описывая человека, подвергшегося череде неудач, – Приам. Правитель благословенной цветущей Трои, отец 50 детей, он теряет при вторжении греков оба своих царства и всех сыновей, а сам умирает бесславной смертью на алтаре собственного города. Такой участи он совершенно не заслужил. Я же в качестве примера привожу Сонали Дераниягала, преподавательницу экономики из Лондонского университета, лишившуюся обоих детей, родителей и мужа, когда в 2004 г. на Шри-Ланку обрушилось цунами. Ее непреходящее горе не поддается описанию. Она неверующая и говорит, что лишь благодаря дисциплинированному и целенаправленному сосредоточенному воспоминанию (абсолютно аристотелевский прием) сумела как-то выжить и ценой невероятных психологических усилий в конце концов восстановить хотя бы часть себя прежней. Весь этот трагический опыт она излагает в блестяще написанных мемуарах, изданных в 2013 г. под названием «Волна» (Wave). Это очень поучительно. Незначительное везение, как говорит Аристотель, «не оказывает на жизнь решающего влияния ‹…› а важные и многочисленные неблагоприятные случаи стесняют и омрачают блаженство, ибо и приносят страдание, и препятствуют многим деятельностям».
Тем не менее Сонали Дераниягала продолжает жить, встречается с друзьями, вернулась к работе и даже иногда смеется. Аристотель подтвердил бы, что это действительно возможно – пройти через невыносимое несчастье и все равно стремиться к прекрасной жизни: «Однако и при таких обстоятельствах нравственная красота продолжает сиять, коль скоро человек терпеливо переносит многочисленные и великие несчастья – и не от черствости, а по присущему ему благородству и величию души». В этом смысле аристотелевский императив – идти к счастью во что бы то ни стало – учение глубоко оптимистичное.
Старинную греческую поговорку, которая гласит, что счастливым человек может называться лишь после смерти, часто повторял Солон – афинский политический деятель и один из «семи мудрецов» Древней Греции. Как-то раз ему довелось побывать у баснословно богатого лидийского царя Креза, и тот потребовал, чтобы Солон признал его счастливейшим человеком на свете. Однако Солон, к негодованию Креза, назвал счастливейшим простого афинянина по имени Телл, который прожил долгую жизнь, дождался появления внуков и не имел несчастья их хоронить, сам же погиб геройски, сражаясь за любимую родину. Солон подразумевал, что беда может случиться с человеком когда угодно, поэтому оценивать, насколько счастливо ему жилось, имеет смысл только после кончины. Слова его оказались пророческими: Крез вскоре потерял сына, жена его совершила самоубийство, а царство было завоевано персами. Аристотель отзывается о принципе Солона с одобрением, поскольку он требует задумываться о будущем и о том, как справиться с возможными препятствиями и невзгодами.
Совет Солона «взирать на кончину» не теряет актуальности. Неважно, кто вы – подросток, только начинающий планировать дальнейшую жизнь; специалист, переживающий кризис среднего возраста, или пенсионер, намеревающийся прожить оставшиеся годы с полной отдачей. Никому из нас не хочется на смертном одре терзаться чувством вины или тоской о мечте, которую мы попросту не решились осуществить. В 2012 г. Бронни Уэр, медсестра паллиативного отделения, через которое прошло множество людей на последних неделях жизни, опубликовала щемящий рассказ о самых распространенных сожалениях, которыми с ней делились[14]. Они поразительным образом перекликаются с описаниями жизненных ловушек, против которых Аристотель предостерегает тех, кто соберется сам ковать свое счастье. Люди говорят: «Жаль, что я не мог позволить себе быть счастливее», тем самым признавая, что они так или иначе упустили имевшуюся у них возможность стать самодостаточными и сознательно стремиться к счастью. Они сокрушаются, что недостаточно усердно работали над дружбой (одна из важнейших составляющих счастья у Аристотеля). Но самый частый повод для сожаления: «У меня не хватило мужества быть собой, а не повиноваться чужим ожиданиям».
Глава 2 Потенциал
Что же такое «быть собой»? Аристотель понимает это как реализацию потенциала, из чего следует, что «обрести себя» никогда не поздно. В английском языке слово realize означает не только «реализовать», но и «осознать», и аристотелевская идея охватывает оба значения.
В расцвете лет философу пришлось пережить немало трудностей и разочарований – почти полвека у него не было возможности полностью посвятить себя сочинениям и преподаванию философии, то есть реализации своего уникального потенциала. Однако он понимал, что обладает прочным интеллектуальным фундаментом, который был ему обеспечен с рождения до середины жизни. Будучи врачом, отец Аристотеля Никомах знакомил сына с самыми передовыми научными идеями и методами, известными грекам в то время. В древности медицина была занятием семейным, поэтому Аристотелю наверняка предстояло пойти по стопам отца, и, хотя этого не случилось, он на всю жизнь сохранил убеждение, что медицина в чем-то сродни философии. О задатках Никомах вполне мог беседовать с сыном, когда отправлялся с ним собирать лекарственные растения на лесистых склонах, которые тянутся от Стагиры в глубь континента, к Халкидикам. Возможно, тема всплывала, когда Никомах, по обыкновению всех родителей, спрашивал: «Кем ты собираешься стать, когда вырастешь?»
Аристотелю было чьи традиции продолжать. Никомах принадлежал к довольно древнему роду врачей, основателем которого называли Махаона, одного из легендарных целителей у греков, воевавших под Троей. Сам Махаон был ни много ни мало сыном бога врачевания Асклепия, в свою очередь получившего особые лекарственные травы от кентавра Хирона, тоже врача. Кроме того, отец Аристотеля написал шесть книг о медицине и одну о натурфилософии, подавая тем самым пример своему любознательному сыну.
Невероятная одаренность Аристотеля, которую, скорее всего, заботливые взрослые заметили еще в раннем его детстве, развивалась и расцветала беспрепятственно. В благоприятной обстановке все способствовало тому, чтобы он раскрыл заложенный в нем потенциал самого выдающегося философа и ученого своей эпохи и даже, как считают некоторые, всех времен. А ведь тогда, как и сейчас, слишком многие зарывали свой талант в землю. Быть счастливым означает прежде всего иметь возможность заниматься любимым делом – тем, что получается у нас хорошо.
Из ключевых концепций, которые мы встречаем как в научных, так и в философских трудах Аристотеля, больше всего вдохновляет идея потенциала. По Аристотелю, любой объект во вселенной имеет цель существования. Даже неодушевленный предмет, например стол, для чего-то предназначен: за ним сидят, на него кладут другие предметы. У живых существ потенциал другой – это dynamis, способность достигать зрелости. Семя или желудь обладает потенциалом вырасти во взрослый злак или дерево; оплодотворенное куриное яйцо имеет dynamis стать впоследствии петухом или курицей. Применительно к животным (включая и человека) аристотелевская концепция dynamis невероятным образом предвосхищает современные представления о генетическом кодировании и ДНК, и ее научная состоятельность признана современными биологами и генетиками: рога у животного возникают как реализация заложенного в форме и материи потенциала для взаимодействия. У них имеется определенное предназначение или цель, telos, – они служат животному для защиты.
Идея потенциала относится у Аристотеля к одной из самых знаменитых его доктрин – четырем первоосновам или причинам всего существующего. Так, например, существование статуи обусловлено: (1) материей (камнем, из которого статуя изготовлена), (2) производящей причиной (скульптор, изваявший статую), (3) формой (конкретный облик и замысел, воплощенный скульптором) и (4) конечной причиной – смыслом и предназначением (стоять в святилище и отмечать место для подношений). У человека потенциал тесно связан именно с четвертой причиной, целью и смыслом нашего существования. Материальную причину (1) у человека воплощает органическая материя – кровь, плоть, кости, то, из чего мы состоим. Производящая причина (2) – это родители, которые произвели нас на свет. Форма (3) – это ДНК с заложенным в ней генетическим набором, определяющим нашу внешность и конституцию. И лишь четвертая, конечная причина – смысл и цель – поддается нашему контролю и влиянию. Если все мы будем стремиться к максимальной реализации своего потенциала в аристотелевском смысле, может быть, нам удастся разрешить проблемы, стоящие сейчас перед человечеством.
Потенциал Аристотель обозначает словом dynamis – у нас от него происходят «динамика», «динамичный». Альфред Нобель, поначалу назвавший изобретенную им взрывчатую смесь «взрывчатый порошок Нобеля», поискал среди греческих корней и переименовал ее в динамит. Поэтому теперь, к сожалению, созвучные слова больше ассоциируются у нас с мгновенным разрушением, а не с планомерным конструктивным саморазвитием. В древнегреческой поэзии dynamis знаменовало силу или способность, врачи и ученые описывали с его помощью движение и изменения, но лишь с подачи Аристотеля его стали применять к человеку и жизненному опыту.
Свое понимание dynamis Аристотель объясняет в Книге девятой «Метафизики». У любого существа есть способность (потенциал) дышать, расти, ходить. Такой потенциал растения, животные и люди реализуют бессознательно. Но есть и другой вид dynamis – особый и высший, который Аристотель называет «разумной способностью», то есть сопряженной с разумом, основанной на нем. Такой потенциал есть только у человека, и без осмысленного подхода его реализовать не удастся. Если человек стал хорошим врачом, значит, у него имелись задатки к изучению медицины. Получив необходимую подготовку, врач обретает потенциальную способность лечить больных. Но он может отказаться лечить конкретного пациента или выбрать метод лечения, который навредит. И лишь разумная деятельность (осмысление), намеренно используемая для решения задачи – вылечить больного, – даст врачу возможность реализовать свой потенциал целителя. Врач должен решить, задаться целью вернуть больному здоровье, а затем осмыслить, какое лечение лучше всего подойдет для достижения этой цели. В мастерстве врача важны все четыре составляющие – способность (потенциал), подготовка, намерение и осмысление. То же самое требуется для правильной и счастливой жизни.
Даже неодушевленному предмету часто требуется для исполнения своего предназначения некая совокупность факторов и различная сопряженная с ними деятельность. Аристотель приводит в качестве примера строительство храма. Чтобы храм достиг соответствующего telos как завершенное здание со всем запланированным убранством, необходимо заложить фундамент, изготовить и подогнать друг к другу каменные блоки, выдолбить каннелюры на колоннах, вырезать фриз. Однако ни одно из этих действий само по себе не обеспечит появления построенного храма. Гораздо важнее привести их в совокупность, сооружая храм на фундаменте, из блоков, с каннелированными колоннами и затейливым фризом. Полной реализации храм достигнет лишь по завершении каждого из этих отдельных процессов.
Точно так же и с человеком. Его необходимо зачать, родить, кормить, защищать, дать крышу над головой, лелеять, стимулировать и учить. Чтобы он раскрыл свой потенциал, необходимо распознать, в чем заключаются его задатки и что делает его счастливым (для Аристотеля это одно и то же), а затем эти задатки развить в ходе обучения у специалистов. Хелен Келлер, раскрывшая свой незаурядный потенциал как борец за права людей с ограниченными возможностями, считала, что нашла источник подлинного счастья: «Оно состоит не в потакании своим прихотям, а в приверженности достойной цели». Но если бы родители Хелен, врачи и особенно ее наставница и компаньонка Энн Салливан не прикладывали столько усилий, чтобы ей помочь, глухота и слепота помешали бы распознать в ней ум, энергию и страсть и дать им развиться. С другой стороны, при отсутствии способностей ни натаскивание, ни стремление, ни уговоры успеха не принесут. А значит, самое главное – выяснить, в чем же заключается индивидуальный потенциал каждого. К сожалению, потенциал, требующий разумной реализации, очень легко может остаться нераскрытым.
В трактате «О происхождении животных» Аристотель предпринимает попытку объяснить, как «материал», из которого создается животное, обретает положенную форму. Он ошибочно полагает, что этой материей служит менструальная кровь внутри материнского организма, а потенциальную форму ей сообщает семя мужской особи. Кроме того, у Аристотеля нет четкого представления о количественно равной роли наследственной информации, передаваемой по мужской и женской линиям. Но это не так важно. Главное, Аристотель осознавал, что все живое находится в процессе постоянного изменения и развития. Он видел, что некоторые перемены, хоть и неотвратимые, растягиваются на месяцы и годы. Он признавал отсроченное воздействие формы или «кода», который, как он догадывался, будущий организм получает при зачатии. У человеческого существа (мужчины в данном случае) от зачатия до полного физического расцвета проходит, на взгляд Аристотеля, не менее 30 лет, тогда как в интеллектуальной области человек полностью раскрывает свой потенциал, лишь когда наберет достаточный опыт и усвоит множество разных уроков, то есть (здесь Аристотель необычайно точен) к 49 годам.
Двуединую идею потенциала (dynamis) и раскрытия этого потенциала (данный аспект именуется energeia) Аристотель развивает в целом ряде работ из области этики, физики и метафизики, психологии и познания. Dynamis в нашем случае означает совокупность качеств, талантов и способностей, имеющихся у нас от природы. Если вы уже зрелый человек, то лишь вы сами можете определить, в чем они состоят, основываясь на своих желаниях и опыте, а также, возможно, посоветовавшись с друзьями или специалистами. Крайне важно обозначить и признать даже самые дерзкие мечты или амбиции, которые другим кажутся безумными. Мало кто перед смертью сожалеет о попытках достичь своей мечты, зато об отказе хотя бы попытаться жалеют многие.
Долг каждого из нас – помочь молодым определить свои способности и раскрыть потенциал. Родители и те, кто работает преподавателями или воспитателями, занимаются этим на постоянной основе. Какие-то способности проявятся и реализуются сами собой или вопреки всему, а другим нужны подходящие условия. Человеку необходима обстановка, «соответствующая его потенциалу», то есть та, которая обеспечит ему поддержку и благоприятное воздействие со стороны. Если ребенка не кормить, не ласкать и не показывать ему буквы, он будет голодным, недолюбленным и неграмотным. Теперь мы знаем, что «рациональная» часть человеческого мозга, лобная кора, полностью развивается только годам к 25, а значит, молодежь нуждается в поддержке еще какое-то время после достижения совершеннолетия и нередко не один год после получения образования. Иными словами, человека можно растить и воспитывать так, чтобы он получил возможность воплотить в жизнь все свои задатки, но всегда есть опасность, что они останутся нераскрытыми.
Принимая аристотелевское понятие dynamis как развитие интеллектуального потенциала (который больше всего интересовал и самого мыслителя), нужно помнить, что реализация его зависит от наличия благоприятных обстоятельств. Более того, потенциал этот индивидуален и у разных людей будет отличаться количественно и качественно. Как представители единого человеческого рода мы наделены общим потенциалом, однако у разных категорий людей Аристотель наблюдал различия в его проявлениях и степени выраженности. Так, например, маленькие дети еще не умеют взвешенно рассуждать, однако задатки для этого у них имеются. Аристотель совершенно определенно утверждал, что каждый человек обладает индивидуальным потенциалом: в «Истории животных» мы видим, как он пытается вычислить, сколько передает конкретному зародышу конкретный отец, тем самым обеспечивая уникальность будущему человеку. Чем Аристотель больше похож на своего отца Никомаха, нежели на других мужчин родной Стагиры? Какая часть его потенциала определяется «видовым» кодом, позволяющим зародышу вырасти в человека, в Homo sapiens?
Удалось ли вам выявить и раскрыть свой потенциал? Была ли у вас заветная мечта, талант, природная склонность, не получавшая поддержки? Может быть, вы хотели стать художником, политиком или шеф-поваром? Аристотелю возможность заняться желанным делом представилась только в 50, так что у вас почти наверняка еще есть время! Однако в любом возрасте важно мыслить «на перспективу». Счастье в аристотелевском понимании означает решить, чем мы хотим заниматься и почему, а затем претворять намеченный план в жизнь.
Свой самый важный труд, посвященный вопросам нравственности, «Никомахову этику», Аристотель начинает с утверждения, что любая деятельность имеет положительную цель, которую он называет «благо». «У врачевания – это здоровье, у судостроения – судно, у хозяйствования – богатство». Каждый волен решать для себя, какого блага он хочет добиться, а затем прикладывать усилия к тому, чтобы приобрести необходимые навыки, обеспечить необходимые условия и заручиться необходимым сотрудничеством. Самое лаконичное и емкое обоснование необходимости найти себе цель в жизни Аристотель дает в «Евдемовой этике»:
Мы знаем, что всякий, кто может жить по своему выбору, полагает счастье жизни в том, чтобы достичь намеченной цели [skopos], будь то честь, слава, богатство или образованность. Не подчинять свою жизнь цели [telos] есть признак большого безрассудства.Жизнь без плана и цели действительно не «стоит того, чтобы ею жить».
В «Никомаховой этике» Аристотель приводит достаточно образное сравнение: рассуждая о том, что делает благо благом, он обращается за аналогией к изобразительному искусству. Для начала он предлагает наметить контуры предмета обсуждения, сделать набросок, а затем уже прорисовывать подробно. Ведь если общие черты заданы верно, развить и доработать начатое будет под силу любому. Некоторые подробности удается проработать лишь с течением времени. Эту метафору можно распространить и на обдумывание жизненных целей: для начала нам достаточно наметить их лишь в самых общих чертах, а подробности, как в живописи, будем прописывать в процессе.
Что касается меня лично, то я мечтала выйти замуж за любящего человека и растить с ним детей. Но, кроме этого, мне хотелось, удовлетворяя свое интеллектуальное любопытство (я всегда знала, что мне нельзя держать мозг на голодном пайке), оставить мир более совершенным, чем он был до моего прихода. Осуществление первой части плана (семья и дети) началось только лет в 35 – в основном потому, что до тех пор я не умела распознавать единомышленников, ориентированных на те же цели, и встречалась со смазливыми паразитами и моральными амебами. Немало времени ушло и на то, чтобы понять, как хотя бы подступиться ко второй части обозначенного плана (заняться чем-то интересным и конструктивным). Но здесь мне ближе к 30 годам повезло встретить мудрую наставницу в лице преподавателя курса английской литературы Марго Хайнеманн, которая в абсолютно официальной беседе оказала мне величайшую услугу. Она оценила мой потенциал, сообщив, что своими достоинствами я могу считать лишь коммуникабельность, аккуратное вождение, аналитический склад ума и диплом специалиста по классической филологии. Мне оставалось разобраться, как обратить эти достоинства на пользу человечества. В результате в 31 – довольно поздно для ученого – я наконец обрела научную степень, свою первую должность в университете и относительно связный набор неисполненных мечтаний. Я решила, неся своих греков и римлян в массы, работать, насколько это будет в моих силах, на благо всеобщего просвещения и социального прогресса.
Помочь кому-то распознать свой талант и обеспечить правильные условия для его развития – значит сделать величайший подарок. В мире множество детей, потенциал которых останется нераскрытым – из-за бедности, необразованности, необходимости работать с малых лет. При этом даже в благополучных странах, где школьное образование обязательно, есть немало детей, которые тоже никогда свой потенциал не реализуют. Либо потому, что с ними носятся и сызмала пытаются вырастить гениев (помните лобную кору, которая развивается полностью только к 25 годам?), либо, наоборот, потому что никто не пытается им помочь. У каждого ребенка есть способности, и обычно дети любят заниматься именно тем, что им хорошо удается. Удовольствие служит сигналом, и на выявленный талант вполне можно ориентироваться при выборе будущей профессии или рода деятельности. Предлагать детям разные занятия и наблюдать за тем, какие их них вызовут прилив энтузиазма, не так уж сложно. И тем не менее поразительно, как мало родителей готовы помочь детям распознать природные склонности.
В моем собственном кругу образованных друзей и коллег чересчур много родителей навязывают детям собственное видение идеальной карьеры. Один, например, без всяких на то оснований прочил трехлетнему сыну будущее концертного пианиста мирового уровня (десять лет спустя подросток наотрез отказался даже приближаться к инструменту). Самому мальчику, насколько я могла судить, нравилась кулинария, походы и ориентирование. Другая приятельница, игнорируя страсть дочери к инженерии, толкала ее в гуманитарные науки и в школе, и в университете. В результате дочь озлобилась, отчаялась, но в конце концов нашла отдушину, подавшись в водопроводчицы.
Самый важный принцип, из которого нужно исходить, составляя план, – удовольствие, которое приносит то или иное занятие. Аристотель считает удовольствие великолепным инструментом любого научного, социального и психологического анализа, поскольку, на его взгляд, удовольствие дано природой всем чувствующим животным как ориентир в поисках того, что им необходимо для благополучия. Разные животные находят удовольствие в разном: если осел с наслаждением жует сено, то собаке приятнее охотиться на дичь или мелких зверьков. Человеческий род в этом смысле примечателен огромным разнообразием пристрастий. «Один любит арбуз, другой – свиной хрящик». Вы, скажем, обожаете рыбу, а ваш муж – колбасу. Однако это необъятное разнообразие не сводится к одним только пищевым предпочтениям.
Аристотель доказывает, что стремиться нужно именно к тем занятиям, которые доставляют нам удовольствие:
Можно предположить, что все стремятся к удовольствию потому же, почему все тянутся к жизни, ведь жизнь – это своего рода деятельность, и каждый действует в таких областях и такими способами, какие ему особенно любы; например, музыкант действует слухом в напевах, любознательный – мыслью в предметах умозрения, и среди остальных так ведет себя каждый. Удовольствие же придает совершенство деятельностям, а значит, и самой жизни, к которой все стремятся. Поэтому понятно, что тянутся и к удовольствию, для каждого оно делает жизнь полной, а это и достойно избрания.Аристотель замечал, что мастерства в своем деле в большинстве случаев добиваются люди, получающие удовольствие от своего дела. Блестящими геометрами становятся лишь те, для кого геометрия – наслаждение, то же самое относится и к архитектуре, и к другим искусствам.
Некоторые таланты требуют более усердного развития, чем другие. Невозможно родиться с полноценным знанием геометрии, музыки, архитектуры. Так, в «Риторике» Аристотель сообщает, что актерская игра – это в основном природный дар, не слишком зависящий, в отличие от многих других профессий, от дополнительного обучения. Тогда как талант оживлять речь или сочинение цитатами из предшественников, пословицами, афоризмами может быть как природным, так и приобретенным, выработанным за счет усердного чтения (либо сочетать в себе то и другое). Последнее, наверное, относится к большинству современных профессий. Чтобы преуспеть в юриспруденции, вам придется долго и упорно учиться даже при наличии прирожденных аналитических способностей и отлично подвешенного языка. Чтобы стать докой, непревзойденным мастером (Аристотель называет их мудрецами, sophos) своего дела, непременно требуются и талант, и усердие в освоении – причем это касается даже самых скромных занятий. Аристотель приводит в пример кифариста – а ведь в IV в. до н. э. музыканты не пользовались таким почетом и уважением, как сейчас. Тем не менее Аристотель и кифаристу не отказывает в праве целенаправленно совершенствоваться в своем умении.
Секрет в том, чтобы разобраться, какое дело вам по душе и есть ли у вас к нему талант, а затем заниматься им упорно. Кажется, легче сказать, чем сделать. Но по крайней мере человек, в отличие от клена или антилопы, имеет возможность выбирать сознательно. Аристотель ссылается на скульпторов Поликлета и Фидия, создавших знаменитую статую Афины для Парфенона в афинском Акрополе. Они стали выдающимися мастерами в своем деле благодаря природному дару и неустанной практике. Однако Аристотель допускает существование разносторонне талантливых людей, способных проявить себя в самых разных сферах. (Увы, есть и те немногие, кто либо совсем никакими талантами не обладает, либо не может найти свое истинное призвание. Эту вероятность Аристотель иллюстрирует примером из комической поэмы «Маргит», в которой о некоем бедолаге сказано: «Боги не дали ему землекопа и пахаря мудрость / Да и другой никакой». Но я сомневаюсь, что человек, который взялся читать данную книгу, не блещет ни умом, ни способностями.)
Какие-то занятия предъявляют к человеку суровые требования, в каких-то областях высока конкуренция, иногда нам приходится просто зарабатывать деньги на малопривлекательной работе, потому что нужно обеспечивать семью. Однако по-прежнему не теряет бесспорной ценности принцип, согласно которому основное свое занятие и, соответственно, образование или подготовку, которая для него требуется, нужно выбирать из того, к чему лежит душа. Если вы застряли на ненавистной работе, требующей большой самоотдачи, а дома дети, которых нужно кормить, вы сделаете только лучше, если не откладывая в долгий ящик рассмотрите возможные альтернативы. Большинство детей предпочтет, чтобы мама или папа работали кассирами в соседнем магазине, зато почаще и подольше бывали дома, чем приносили неплохие деньги, но сутками пропадали на работе. Один мой знакомый, блестящий физик, отказался от научной карьеры, поскольку она предполагала переезд на другой континент и разлуку с ребенком. Вместо этого он устроился на работу мерчандайзером и свои гипотезы обдумывает, расставляя товар на полках. Семья счастлива, а в научных изданиях он все равно публикуется – как независимый исследователь. Отказаться от постылого занятия советует и сам Аристотель: «Так, если кому-то неудовольствие и страдание доставляет писать или считать, то, раз эти деятельности причиняют страдания, один не станет писать, а другой – считать».
В аристотелевском учении есть нечто утопическое. Именно поэтому Томас Мор писал об Аристотеле, что «любит его превыше многих», и героя собственной «Утопии» (1516), дерзновенного путешественника Рафаила Гитлодея, снабдил, отправляя на поиски истины, несколькими аристотелевскими сочинениями. Какое-то время назад Аристотеля стали причислять к утопистам, поскольку в своих трудах по этике и политике он считает, что главная цель человеческой жизни – создать условия для процветания, реализации потенциала и достижения счастья. Кроме того, он представлял будущее как мир, где черную работу возьмут на себя машины, а у человека освободятся силы и время, чтобы всецело посвятить себя созерцанию. Однако сейчас, несмотря на компьютеры, ядерную и паровую энергию, двигатели внутреннего сгорания, машины и автоматику, человек по-прежнему слабо использует свой интеллект. Миллиарды людей не имеют возможности учиться, то есть развивать свой ум. Хотя перед человечеством стоят как никогда острые экологические и политические проблемы, которые нужно решать, мы далеки от того, чтобы задействовать полностью имеющиеся в нашем распоряжении совокупные интеллектуальные ресурсы.
В отличие от своего учителя Платона, который скептически относился к наличию глубокого интеллекта у бедняков и трудящихся, Аристотель часто подчеркивает, что главными специалистами в той или иной области обычно оказываются обладатели простого житейского ума с достаточным опытом, при этом положение в обществе у них может быть вполне скромное. В «Никомаховой этике» он признает, что человек, имеющий большую практику в каком-то деле, может оказаться компетентнее, чем люди, изучавшие это дело в теории. В частности, он пишет о том, что в Древней Греции существовали консультанты по питанию, которые сами на рынке ни разу не были и готовкой не занимались. «Так, если, зная, что постное мясо хорошо переваривается и полезно для здоровья, не знать, какое мясо бывает постным, здоровья не добиться». Повар с большей вероятностью, чем диетолог-теоретик, сможет отличить свинину от курицы. В «Истории животных» Аристотель рассказывает об «опытных рыбаках», которые часто видят или вылавливают загадочных животных – «черных, похожих на палочки, или красных, похожих на щиты» – которых, ему как зоологу хотелось бы описать и классифицировать. Но, увы, он этой возможности лишен, поскольку попадаются такие существа редко.
Уверенный в общем здравомыслии человечества, Аристотель сумел образным языком изложить прототип современной теории «умной толпы», то есть группы, которая вопреки общепринятому представлению о толпе не ведет себя как оголтелый невежественный сброд, а обращается к коллективному разуму и поступает максимально эффективно. Концепция, представленная Говардом Рейнгольдом в книге «Умная толпа: новая социальная революция» (2003), была выведена им в результате наблюдений за современными объединениями, которые способные передавать или получать информацию, реализуя потенциал коллективного разума. Не что иное, как предвестие этой концепции, Аристотель формулирует в Книге третьей своей «Политики»:
Ведь может оказаться, что большинство, из которого каждый сам по себе и не является дельным, объединившись, окажется лучше тех, не порознь, но в своей совокупности, подобно тому как обеды в складчину бывают лучше обедов, устроенных на средства одного человека. Ведь так как большинство включает в себя много людей, то, возможно, в каждом из них, взятом в отдельности, и заключается известная доля добродетели и рассудительности; а когда эти люди объединяются, то из многих получается как бы один человек, у которого много и рук, много и ног, много и восприятий, так же обстоит и с характером, и с пониманием. Вот почему большинство лучше судит о музыкальных и поэтических произведениях: одни судят об одной стороне, другие – о другой, а все вместе судят о целом.То есть, проще говоря, наш коллективный разум – это нечто большее, чем сумма составляющих.
Некоторые из самых вдохновляющих суждений Аристотеля о потенциале мы находим в «Метафизике», начинающейся со знаменитого афоризма «Все люди от природы стремятся к знанию». Вслед за этим Аристотель определяет философию – побуждение задаваться вопросами об устройстве мира и Вселенной – как занятие сугубо человеческое и невероятно восхитительное. Восхищает в нем отчасти то, что это не производительный труд, то есть философия не приносит материальных благ. К этому выводу Аристотель приходит, глядя на первых философов: «Ибо и теперь, и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной». Древние, подытоживает Аристотель, объясняли это все через мифы (он имеет в виду Гесиода с его «Теогонией») и в определенном смысле философствовали. Они удивлялись чудесам Вселенной, осознавали свое невежество и пытались найти ответы на волнующие вопросы.
Аристотель знает, что философия и наука появились примерно за 200 лет до его рождения и что поначалу размышления над удивительными загадками природы были просто развлечением. Зародиться они могли только при условии, что человек обеспечен пищей и у него остается время для праздных раздумий, то есть когда удовлетворены его базовые потребности. Задаваться вопросом «почему?» – вполне естественная человеческая склонность, утверждает Аристотель, однако она требует лишнего времени – помимо того, которое уходит на удовлетворение физических нужд, обусловленных необходимостью выживания.
Размышление о чудесах мироздания Аристотель называет theoria – теория. Если есть в его трудах изречение, которое послужило бы ему достойной эпитафией, вот оно: «У нас есть dynamis theoretike (способность строить гипотезы об устройстве мира)». Однако в наши дни аристотелевскую идею интеллектуального человеческого потенциала почти не рассматривают. Об огромных упущенных ресурсах в виде совокупных талантов и способностей не только не жалеют, этой потери попросту не замечают. Зато революционную аристотелевскую концепцию потенциала давно монополизировала католическая этика применительно к очень узкому вопросу – допустимости абортов.
Католические философы доказывают, что аборт нельзя делать ни в коем случае, поскольку у зародыша уже присутствуют в потенциальной форме все качества, которыми будет обладать человек. Термин «потенциал» был навеки вписан в лексикон противников абортов в 1973 г., когда Верховный суд США узаконил прерывание беременности при определенных обстоятельствах в своем судьбоносном решении по делу «Роу против Уэйда». В нем объявлялась «важным и законным интересом государства защита потенциала человеческой жизни начиная с 24-й недели беременности». С подачи этого решения Верховного суда аристотелевскую идею потенциала то и дело затрагивали в своих спорах в связи с этическим статусом нерожденного ребенка специалисты по биоэтике, философы и теологи. Как правило, на нее ссылаются противники абортов, однако присутствует она и в арсенале их оппонентов, в основном феминистского толка, отстаивающих право женщины самой решать, производить ли ребенка на свет. Здесь полемика о потенциале перерастает в борьбу прав – еще не рожденного человека и уже взрослой беременной женщины.
Разумеется, о потенциале можно говорить не только в контексте эмбриологии. Потенциал – понятие в том числе и политическое, поскольку мы оперируем им в рассуждениях о будущем как отдельных лиц, так и общества. Потенциал позволяет представить перспективу, попытаться воплотить воображаемое в реальность (Аристотель назвал бы это реализацией) или предотвратить нежелательное развитие событий – загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, исчезновение редких видов животных. Потенциал имеется и у тех, кто уже достиг зрелости, причем за плечами у них гораздо более долгий путь к реализации этого потенциала, чем у эмбриона в первом триместре.
Сам Аристотель как в детстве, так и во взрослом возрасте получал постоянную поддержку на пути к реализации своего потенциала. Он не терял связи с богатым македонским двором, при котором по приглашению царей служили самые передовые изобретатели, ученые, корабелы и художники ойкумены. В афинской Академии он учился у лучшего философа своего времени. На четвертом десятке он два года прожил на острове Лесбос, исследуя морскую фауну его необыкновенной лагуны и общаясь со своим другом – естествоиспытателем Теофрастом, который как коренной житель хорошо знал особенности острова. Позже Аристотель поддерживал связь с войсками Александра Македонского, продвигающимися все дальше на Восток, и, вероятно, регулярно получал описания природных и социальных явлений от своего внучатого племянника Каллисфена, который вместе с царем преодолел Геллеспонт. Кроме того, Аристотель имел возможность сравнить разные виды политических режимов на собственном опыте, поскольку ему довелось пожить и при демократии, и при монархии, а также при тирании Гермия и при олигархии на Лесбосе. Благодаря завоеваниям Александра он смог увидеть, каким получается крупнейшее в мире государство, сосредоточенное в одних руках.
Книга восьмая «Политики» начинается с утверждения, превратившегося в афоризм: «Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб». Аристотель подразумевает, что образование на всех уровнях, от воспитания маленьких детей до обучения молодежи, имеет настолько важное значение для благополучия общества при любой форме правления, что заниматься им должно государство, не полагаясь на волю и прихоти родителей. Поскольку цель города-государства – обеспечить благополучие граждан, «то ясно, для всех нужно одинаковое воспитание и забота об этом воспитании должна быть общим, а не частным делом». Аристотель не считает, что обществу пойдет на пользу, если каждый из родителей будет заботиться об образовании своих детей в частном порядке. Гораздо лучше, если все граждане получат одинаковое образование в областях, которые он называет «имеющими общий интерес».
Это не значит, что Аристотель предлагает при обучении «стричь всех под одну гребенку». Он не раз наблюдал, как спортивные тренеры адаптируют программу под индивидуальные особенности своих атлетов. Еще одну аналогию он приводит из медицины: «По общему правилу, при жáре нужны покой и голодание, но определенному больному, может статься, они не помогут». В некоторых случаях даже не медик, а, скажем, близкий родственник благодаря кропотливому сбору эмпирических данных о больном способен предложить более действенный метод лечения. Все мы, рассуждает Аристотель, знаем людей, которые «слывут самыми лучшими врачами для самих себя, хотя ничем не способны поддержать здоровье другого». Даже в рамках системы общего образования отдельным ученикам понадобится индивидуальная программа: «Кулачный боец не всех, наверное, обучает одному и тому же приему борьбы». Аристотель убежден в необходимости тщательно разработанной системы государственного руководства образованием. Однако современные родители, не удовлетворенные государственной школой и вынужденные отдавать детей в частные учебные заведения, могут утешаться тем, что даже Аристотель высказывался на эту тему с оговоркой: «Тем не менее, когда общество не берет дело в свои руки, привести своих детей и друзей к благополучию или хотя бы задаться такой целью – это личный долг каждого из нас».
Но какой должны быть эта идеальная система образования, организованная государством, чтобы обучать всех граждан предметам, представляющим «общий интерес»? Единственное известное ему государство, где программа действительно разрабатывалась государством, – военизированную Спарту Аристотель не жаловал, поскольку там всех свободнорожденных детей, и богатых, и бедных, учили одинаково. (В «Политике» он называет эту особенность в числе невесть откуда взявшихся демократических черт крайней спартанской олигархии.) Там слишком мало простора для подгонки под индивидуальные особенности, которую рекомендовал Аристотель.
Другая крайность, которую Аристотель приводит в пример, – это мифические гиганты циклопы, один из которых, Полифем, присутствует в «Одиссее» Гомера. Полифем – дикарь, который живет отшельником и даже самый примитивный союз (брачный) не удосужился образовать. Однако Аристотель как социолог замечает, что на том же острове живут и другие циклопы. У этих есть и жены, и дети, но они не объединяют свои семьи в общину, которая могла бы централизовать воспитание и обучение. У циклопов нет ни общих законов, ни законодательного собрания. Каждый мужчина-циклоп – единоличный правитель в собственной горной пещере, сам «право творит над детьми и супругой» и не считается с остальными.
Каковы же в нашем обществе представляющие «общий интерес» вопросы, в которых необходимо просвещать нашу молодежь? Вне всякого сомнения, это злободневные социополитические и экологические проблемы. Аристотель настаивал бы, что в этих областях нужно учить разбираться всех, чтобы все члены общества понимали проблему и могли участвовать в плодотворном диалоге с согражданами. Тем самым общее образование максимизирует для обладателей подходящих способностей (dynamis) вероятность найти решение проблемы, стоящей перед всеми. По-настоящему талантливые люди могут появиться в любом сообществе в любое время. Умственные способности на самом деле распределяются бессистемно, и, упуская возможность распознать и реализовать человеческий умственный потенциал, мы сами надеваем на себя кандалы еще на старте состязания со временем. В 2015 г. для меня стало пугающим откровением, насколько в действительности велики объемы упускаемого интеллектуального потенциала. В составленном для правительства докладе приводились удручающие цифры – 37 % работающих взрослых британцев считают свой труд бессмысленным и не приносящим никакой ощутимой пользы миру.
Разумеется, ответственным жителям «мировой деревни» неплохо было бы взять на себя инициативу и доказывать необходимость образования, которое будет освещать предметы общего для их сограждан интереса. Аристотель согласился бы с доктором Мартином Лютером Кингом, который 7 января 1968 г. – за несколько недель до гибели – читал проповедь в баптистской церкви Эбенезер в Атланте на тему «Какие обещания вы дали себе на Новый год?» Там были среди прочего и такие слова:
Я сказал своим детям: «Я буду трудиться и делать все от меня зависящее, чтобы вы получили хорошее образование. Не забывайте ни на минуту, что миллионы чад Божьих не имеют возможности учиться, и никогда не ставьте себя выше них. Потому что вы никогда не станете тем, кем должны, пока они не станут теми, кем должны стать»[15].Нам, людям XXI в., не удастся полностью реализовать аристотелевский dynamis, пока мы не начнем работать над тем, чтобы и все остальные жители планеты получали образование и поддержку, позволяющие раскрыть свой потенциал. Потому что до тех пор, пока этой возможностью не будет обладать все человечество, мы никогда не станем теми, кем нам предназначено стать.
Глава 3 Решения
В результатах многочисленных исследований, проводимых в последнее время психологами и нейробиологами в области принятия решений, поражает само количество моментов выбора (по некоторым подсчетам доходящее до нескольких тысяч) по сравнению с его относительной значимостью. И действительно, жителям благополучных стран постоянно приходится решать, что съесть, что надеть, что купить, что посмотреть по телевизору. Эти решения не требуют глубоких раздумий, поскольку результат малозначим. Но бывают решения, которые серьезно влияют на нашу собственную, а иногда и чужую дальнейшую жизнь и потому заслуживают, чтобы их обдумывали долго и тщательно.
Когда узаконить отношения с избранником или избранницей, вступать ли в брак, заводить ли детей и когда, где жить, изменять ли супругу или развестись, кому завещать нажитое… Наши решения нередко затрагивают тех, за кого мы отвечаем. Ребенку необходимо дать имя, установить поведенческие границы, позаботиться о присмотре, определиться со школой.
Есть профессии, которые заведомо предполагают непрерывное принятие решений: врачи, судьи, политики и даже биржевые брокеры вынуждены изо дня в день делать выбор, имеющий судьбоносное значение, поэтому в ходе профессиональной подготовки их вооружают в том числе умением делать соответствующий их сфере деятельности выбор. Однако основную массу обычных людей никто и нигде навыкам принятия решений не учит.
О том, насколько сильна наша жажда совершенствоваться в этом умении с посторонней помощью, свидетельствует мировой успех бестселлера «Думай медленно… Решай быстро»[16] (2011) психолога и нобелевского лауреата Даниела Канемана. Он разделяет быстрые интуитивные решения, которые мы принимаем постоянно (в его классификации это «Система 1»), и более медленный процесс логического рассуждения («Система 2»), но подчеркивает, что эти две системы работают в тесной связке. Более 23 столетий назад Аристотель давал рекомендации примерно в том же ключе, что и Канеман, хотя его больше интересовали способности прихотей судьбы разрушать даже самые тщательно продуманные планы (кому, как не ему, лишившемуся в ранней юности обоих родителей, было знать, каково это). Кроме того, Аристотель рассматривает еще одно важное обстоятельство, которое упускает из виду Канеман, – ценность обращения к прецедентам.
Одно из самых важных решений в своей жизни Аристотель принял еще в отрочестве. После смерти родителей его взял к себе Проксен, муж сестры, и вместе с самим подопечным они пришли к выводу, что идеальным учебным заведением для этого исключительно одаренного юноши будет лучший университет в мире – Академия Платона в Афинах. Таким образом самый блестящий ученик Платона получил возможность углубиться во все области знания, предлагаемые ему Академией, а также в естественные науки, которые самого Платона не особенно интересовали. Достигнув зрелости, Аристотель первым из философов наметил практический путь к принятию оптимальных решений, причем описал его живым доступным языком, не злоупотребляя сложной терминологией. Его способ предполагает взвесить грамотно и вдумчиво все имеющиеся альтернативы, которые могут вести, а могут и не вести к достижению желаемой цели; попытаться спрогнозировать исход в каждом случае, а затем выбрать что-то одно и действовать в соответствии с принятым решением.
По-гречески весь процесс грамотного рассуждения и принятия решений называется euboulia – глагол «рассуждать», bouleuesthai, родственен латинскому volitio (воля, стремление), который, в свою очередь, имеет тот же корень, что и слова «велеть». Euboulia подразумевает не только умение взвешивать все за и против для себя, но и способность распознавать аргументированные, рациональные решения у других, а следовательно, консультироваться с правильно выбранными советчиками. Понимание рассудительности у греков было тесно связано с их передовыми представлениями о руководящей власти: если даже простым людям в большинстве своем необходимо правильно руководить, они должны уметь «грамотно рассуждать». Однокоренным словом с euboulia является и название демократического совета в Афинах, на который собирались 500 граждан из всех сословий, чтобы посовещаться и обсудить политические и законодательные вопросы, по которым затем предстояло голосовать на народном собрании. Именно этот совещательный орган представлял себе Джордж Вашингтон, когда в завершающих строках своей инаугурационной речи 30 апреля 1789 г. вкратце перечислил аристотелевские принципы управления. Господь «даровал американскому народу возможность для обсуждения в обстановке полного спокойствия», «для реализации его стремления к счастью» посредством «взвешенных консультаций и мудрых мер, от которых и должен зависеть успех нашего правительства».
Аристотель считал, что взвешенное рассуждение необходимо как в вопросах государственной важности (например, сколько бюджетных средств выделять на оборону), так и в мелких повседневных (как справиться с бунтующим подростком).
Из сочинений Аристотеля – прежде всего из этик, «Никомаховой» и «Эвдемовой», – можно вывести что-то вроде «формулы» оптимального взвешенного рассуждения, набор инструкций или правил, применимых к принятию решений любого калибра. Мне много раз доводилось излагать аристотелевские «правила» школьникам-подросткам, и они всегда принимали эту нравственную философию. Навык взвешенного рассуждения вырабатывается не сразу, он начинается с робких попыток включить обычный здравый смысл, но затем, если регулярно упражняться в нем в повседневных ситуациях, расцветает в «практическую мудрость» или «рассудительность» (phronesis), как ее именует Аристотель. Образцом рассудительности среди исторических персонажей он называет Перикла – полулегендарного афинского государственного деятеля середины V в. до н. э., который руководил Афинами несколько десятилетий, поскольку его переизбирали на должность стратега вновь и вновь. Перикл отличался невероятным постоянством в способности принимать верные решения, которые вели к процветанию Афин и давали возможность создавать великие произведения искусства, такие как здание Акрополя или трагедии Софокла и Еврипида. Незаметно, чтобы рост Перикла как политического деятеля замедлялся по мере того, как он совершенствовался в практической мудрости. Его взлет оборвала смерть от чумы – классический пример удара судьбы, от которого, как Аристотель знал не хуже британского философа Бернарда Уильямса, писавшего о таких превратностях в 1981 г. в своей книге «Моральная удача» (Moral Luck), взвешенное рассуждение не защитит никак.
Аристотель уделял ударам судьбы больше внимания, чем основная масса современных специалистов. Превратности судьбы сражают в первую очередь своей непредсказуемостью – это значит, что жизнь несправедлива и жребий слеп. И негодяи, и не способные к взвешенному рассуждению часто преуспевают там, где хороших людей, ответственно подходящих к выбору, выбивает из колеи. Ритор Исократ, пользовавшийся большой известностью в афинских интеллектуальных кругах, когда Аристотель только приехал в Афины, выражал типичные для греков взгляды на борьбу рока и намерения, утверждая, что истинное мужество проверяется на совещаниях в народном собрании, а не на войне, поскольку «на поле боя правит случай, тогда как принятые здесь решения – это демонстрация мощи нашего разума». Аристотель с таким разделением согласился бы (хотя как приверженец более сложных методов анализа доказывал бы, что успех на поле боя зависит не только от удачи, но и от мастерства). Однако ему пришлись бы по душе слова философствующего персидского вельможи Артабана у Геродота, уверяющего, что обдумывать выбор и принимать благоразумное решение стоит всегда. Даже если тщательно продуманный план провалится, последующий «разбор полетов» покажет, что виной тому – злополучная случайность, а не отсутствие усердия.
В Книге восьмой «Евдемовой этики» Аристотель отмечает, что некоторые люди принадлежат к числу «удачливых счастливцев». Определенная категория занятий, в которых успех зависит исключительно от удачи (скажем, игра в кости), позволяет преуспеть даже человеку недалекому. Существуют и другие области, где мастерство хоть и требуется, но слишком многое определяет случай (в пример Аристотель приводит военное дело и мореплавание).
Как объяснить феномен удачливости? Аристотель, первым из философов за всю мировую историю подвергший это явление скрупулезному анализу, утверждает, что, по мнению большинства людей, удачливость – свойство врожденное, как цвет глаз. Другие, хоть и не считают везение прирожденным, думают, что удачливый человек, даже сколь угодно ущербный в нравственном или интеллектуальном отношении, пользуется особой благосклонностью небес. Он как «плохо построенный корабль», который «очень хорошо совершает плавание, но не потому, что он таков, а потому, что у него хороший кормчий. Для удачливого счастливца хороший кормчий служит в этом случае добрым духом».
Аристотеля эти народные объяснения не устраивают, он выдвигает гипотезу, что некоторые просто умеют лучше других «ловить удачу», то есть обладают природной способностью извлечь выгоду из благоприятного стечения обстоятельств. Выиграв крупную сумму в лотерею, некоторые пускаются во все тяжкие, теряют друзей, которые теперь им «не ровня», рушат семью и в конце концов оказываются беднее, чем были до выигрыша. Подарок судьбы оборачивается злосчастьем. Другие вкладывают выигранные деньги в образование детей, помогают верным друзьям и родным с покупкой жилья и даже учреждают благотворительные фонды. Благодаря рассудительности и рациональному подходу они обращают случайное везение в обстоятельства, способствующие не случайному, а спланированному в жизнь счастью – eudaimonia.
Возможно, удачу и вправду не стоит сбрасывать со счетов. Аристотель рисует нам необычайно полный образ человека, от природы наделенного определенными качествами – жаждой жизненных благ или тягой к самосовершенствованию и (пусть даже «автоматически», а не сознательно) энергией и стремлением добиваться этих целей. Сегодня мы называем таких людей обладателями активной жизненной позиции, амбициозными, оптимистичными. Они одарены этими склонностями с рождения и под их влиянием, не отдавая себе в том отчета, выбирают путь, где им с наибольшей вероятностью будет сопутствовать удача. Им совсем не обязательно вырабатывать интеллектуальные навыки вроде рассудительности. Аристотель проводит параллель с «музыкальными людьми, которые петь не учились, но голосом и слухом наделены от природы». Этих людей никто не учил достигать счастья или успеха, поэтому преподавать этику они не станут, однако интуитивно действуют в точности как осознающие свои действия специалисты по этике. Представьте себе певца, который, не получив консерваторского образования, тем не менее пленяет всех своим исполнением. Соответственно, приобретение навыков рассудительности и этики добродетели можно считать компенсацией несправедливости, заключающейся в том, что некоторые наделены выраженной интуитивной склонностью к потенциально благоприятным для них занятиям с самого появления на свет.
Однако никто не мешает набираться практической мудрости постепенно – рассудительность совершенствуется и приходит с опытом. Чтобы поднатореть в этом умении, не говоря уже о том, чтобы стать в нем мастером, нужно упражняться регулярно и анализировать результаты. Это не математика, говорит Аристотель, которая строится на отвлеченных началах, а не на практическом опыте. Чем скорее ребенок начнет рассуждать логически и взвешенно, тем лучше. Обучение нравственной рассудительности способствует тому, что мир становится совершеннее для всех нас.
Обучение молодежи нужно начинать незамедлительно, поскольку, как предупреждает Аристотель, судить взвешенно – занятие головоломное. Бывают обстоятельства, в которых легко отличить плохое от хорошего – порядочный человек интуитивно чувствует, как справедливо распределить финансы, еду, возможности в той или иной группе. Но понимать, что для этого нужно сделать, иногда сложнее, «чем знание того, что полезно для здоровья». Этика – предмет гораздо более гибкий и сложный, чем психология. Истинный сын врача, Аристотель добавляет, что даже в медицине понимать, как, когда и что именно использовать для исцеления, – дело намного более хитрое, чем просто «знать про мед, вино, чемерицу, прижигание и разрезание».
Но сперва нужно разобраться, что такое рассудительность. Аристотель вкладывает в это понятие вполне определенный смысл, не связанный с результатами действия: врач не рассуждает о намерении, оно самоочевидно – вылечить больного. Рассуждение означает выбор наилучшего средства достижения цели: врач продумывает курс лечения, который поставит больного на ноги. Соответственно, мы знаем, что наша цель – счастье, и продумываем средства его достижения, порядок действий, которые с наибольшей вероятностью приведут к благополучию нас самих, наших близких и наших сограждан.
Взвешенное рассуждение в аристотелевском понимании – это особый род деятельности. Есть множество вещей, о которых мы рассуждать в аристотелевском смысле не будем, – законы природы или непреложные и очевидные факты. Всестороннее рассмотрение необходимо, чтобы определиться, причем отнюдь не с тем, что нам неподконтрольно (погода, скажем, или вероятность случайной ценной находки). Мы обдумываем лишь то, что в нашей власти и зависит от нашей деятельности, с целью что-то предпринять – именно поэтому взвешенное рассуждение играет такую важную роль в политике и этике, которые предполагают действие.
Помимо прочего, аристотелевское рассуждение направлено в будущее, оно не касается ни происходившего с нами вчера, ни даже наших вчерашних поступков. О вчерашнем выборе нам остается лишь сожалеть, как врач сожалеет о назначенном лечении, если оно оказалось неправильным. Аристотель приводит в качестве примера самое грандиозное событие, которое только смог вообразить: «Никто не выбирает получить разграбленную Трою» – то есть убить тысячи людей и стереть с лица земли целую цивилизацию. Ни человеку, ни даже божеству не под силу отменить уже случившуюся осаду Трои и «воротить сделанное». «Что было – то не может не быть». Здесь Аристотель согласен с поэтом по имени Агафон: «Лишь одного и Богу не дано: / Не бывшим сделать то, что осуществлено».
Вывод, который отсюда следует, – самим отвечать за себя и свою жизнь, не ожидая, что счастье свалится на вас с неба (как женщин с незапамятных времен учили ждать «прекрасного принца», который безо всяких усилий с их стороны явится по мановению волшебной палочки и наполнит их жизнь смыслом). В качестве иллюстрации Аристотель ссылается на людей, которые «хотят иногда того, что заведомо невозможно, – например, царствовать над всеми и быть бессмертными». Рассуждение он называет «целенаправленным выбором», который «непременно зависит от нас», то есть власть над миром или превращение в божество к такому выбору не относится. Своим греческим читателям Аристотель, вероятно думая о продвижении армии Александра Македонского все дальше на Восток через территорию нынешнего Афганистана, говорит, что «мы не принимаем решений о событиях в Индии», поскольку они от нас не зависят и так же неосуществимы, как «превращение круга в квадрат».
Некоторые, признает Аристотель, слишком слабохарактерны, чтобы нести полную ответственность за то, что от них зависит. Такие люди вряд ли научатся взвешенному выбору и воплощению намеченного в жизнь. Но суть от этого не меняется: чтобы достичь счастья, придется отвечать – и за свои действия, и за бездействие. «Если от человека зависит, делать или не делать что-либо, то он – причина этих вещей, а те, каким он причина, зависят от него», – пишет Аристотель, утверждая, что все мы вольны выбирать, хорошо поступить или плохо. «Ясно, что, действуя по собственному выбору, человек действует добровольно. Очевидно тем самым, что и добродетель, и порок должны принадлежать к числу добровольных действий».
Это основы нашей нравственности. Аристотель приходит к выводу, что «мы судим о человеке, каков он, на основании его выбора. Тут подразумевается “ради чего он действует”, а не “что он выполняет”». Эту идею Аристотель иллюстрирует на примере глубоко поразившей его истории трагического героя Пелия – царя, убитого собственными дочерями. Волшебница Медея убедила Пелиад, что кипящее варево в ее котле сможет вернуть молодость их одряхлевшему отцу, и даже в подтверждение своих слов омолодила таким способом барана на глазах царевен. Пелиады посовещались и решили, из лучших дочерних побуждений, опираясь на полученный эмпирический опыт, разрубить Пелия на куски и сварить в котле. Царь не ожил. Однако, совещаясь, Пелиады могли бы задуматься о том, какие цели преследует Медея (она хотела заполучить трон Пелия для своего мужа), и, взвесив все, наверняка не поддались бы на уговоры.
Аристотель рекомендует основывать свои цели – пусть нелегкие, но достижимые и соизмеримые с вашими возможностями и ресурсами – на благих намерениях. Систематически продумывайте точный порядок действий, который приведет вас к этим целям. Сравните разные пути достижения и выберите один (такой выбор Аристотель обозначает термином prohairesis, что в переводе ближе к «предпочтению»). Затем целенаправленно и настойчиво осуществляйте намеченное. Таков путь к аристотелевскому представлению об истинном, глубоком, удовлетворяющем и устойчивом счастье. Поскольку оно выковано собственноручно, его не отнимет у вас даже злой рок вроде эпидемии чумы в Афинах. Даже в этом случае все, чего вы достигнете до начала чумы, будет признано вашей заслугой, и вы скончаетесь более счастливым, чем если бы жили бесцельно и бездумно.
Аристотель видит тесную связь между взвешенным рассуждением и причинно-следственными отношениями: если мы продумали, как достичь цели, мы стремимся к ее достижению более настойчиво. Насколько он замечает, люди, почти не склонные взвешивать и обдумывать, импульсивны, легковозбудимы и не имеют четких жизненных целей. Кроме них есть довольно обширная категория людей, которые продумывают все достаточно грамотно, однако им не хватает дисциплины, чтобы довести начатое до конца и пройти намеченный путь целиком.
На их месте, конечно, бывал каждый. Сколько людей 1 января принимают взвешенное решение сесть на диету, пить меньше спиртного, ходить в спортзал – но не могут продержаться даже до конца февраля? Временами любой из нас оказывается аристотелевским «невоздержанным, который не способен придерживаться того, что решил». То есть, по крайней мере в данном случае, применительно к здоровому образу жизни, мы уподобляемся «государству, которое принимает добропорядочные законы, но не следит за их исполнением».
Непосредственному обдумыванию и взвешиванию предшествует еще один этап: необходимо разобраться, действительно ли у вас есть выбор. Как выразился философ и педагог Джон Дьюи (во многом пребывавший под влиянием Аристотеля): «Правильная формулировка задачи – это уже половина решения». Иногда у человека нет никакого простора для маневра – если он, допустим, оказался заложником. Бывают обстоятельства, когда выбор вроде бы есть, однако в действительности верность принципам нас этого выбора лишает. Здесь Аристотель приводит пример, заставляющий задуматься о порядках и нравах при македонском дворе, насаждаемых деспотичными правителями: когда тиран захватил ваших родных и грозится убить их, если вы не выполните по его велению нечто вам противное, выбора у вас нет. В данном случае Аристотель ставит жизнь близких выше любых принципов. Меня это обнадеживает, учитывая, что однажды мне пришлось попасть на прием в больнице без очереди – в обычных обстоятельствах я такого себе никогда не позволяла, но тогда у меня на руках была серьезно заболевшая полуторагодовалая дочь. Я перечеркнула свои принципы – уважение к занявшим очередь прежде меня – ради ребенка и стыдилась своего поступка, но Аристотель открыто заявляет, что к постыдным действиям, предпринятым для спасения жизни детей, не стоит подходить с «нормальной» меркой. Потерю ребенка он причисляет к обстоятельствам, «которых никто не мог бы вынести».
Когда на одной чаше весов находится человеческая жизнь, а на другой – имущество, здравомыслящим людям случается действовать наперекор общепринятым нормам. Допустим, ваш корабль попал в шторм и все находящиеся на борту рискуют погибнуть – станете вы вопреки обычной логике обращения с вещами выкидывать их за борт, чтобы спастись? «Так поступают все разумные люди», – утверждает Аристотель в Книге третьей «Никомаховой этики». Ему вряд ли понравилось бы поведение пассажиров самолета компании British Airways, загоревшегося 8 сентября 2015 г. на взлетной полосе Лас-Вегаса. Когда прозвучала команда срочно покинуть салон, многие кинулись доставать вещи с полок для ручной клади, теряя время и задерживая эвакуацию.
Обсуждая разумный взвешенный выбор, Аристотель с учениками опирались на богатую и давнюю традицию древнегреческой философской литературы. Она строилась на убеждении, что в силу вероятности вмешательства неподвластных нам случайностей, то есть рока, мы не можем гарантировать, что примем в нужный момент правильное решение. Зато мы гарантированно можем подготовить почву для него с таким расчетом, чтобы максимизировать шансы на успех и счастье. В Афинах по рукам ходил трактат «О рассудительности», написанный Симоном-башмачником, «философом-ремесленником», другом Сократа и Перикла (его мастерская с сапожными гвоздями и черепком от горшка с надписью «Симон» была найдена во время раскопок на афинской торговой площади). Авторству самого Аристотеля принадлежало сочинение Peri Symboulias («О рассудительности, или Как давать и принимать советы»), в котором он, очевидно, подробнее излагает свою точку зрения на принятие решений, известную по дошедшим до нас трудам. В западной литературе тему выбора открывает «Илиада», где Ахилл говорит о выборе между двумя различными судьбами – жизнью короткой, но славной, или долголетием и мирной смертью от старости у себя дома (Песнь девятая, 410–429).
Каковы же эти «правила» взвешенного рассуждения, которые Аристотель излагает в тексте и как самоочевидную мудрость? Допустим, вы пытаетесь решить, уйти ли от своего спутника жизни. Может быть, до вас дошли слухи, что он вам изменяет. Первое правило, которому, как считают древние греки, должен следовать здравомыслящий человек при рассуждении, – «не решать сгоряча». Импульсивности во взвешенном выборе не место. После ссоры нам кажется, что нужно расставаться, но пройдет неделя – и все представляется в ином свете. У греков была поговорка «На то, что было сделано ночью, день смотрит и смеется» (мы говорим «Утро вечера мудренее»). В давние времена, до появления электронной почты, написанные под горячую руку бумажные письма мы клали у входной двери, чтобы отправить поутру. И поутру они нередко оказывались в мусорной корзине, поскольку на свежую голову мы осознавали, что совсем не хотим ни разводиться, ни увольняться, ни переезжать в другую страну. Интернет сильно увеличил опасность наломать дров в запале, так что в таком состоянии от почты и социальных сетей лучше держаться подальше. Аристотель говорит, что длительность рассуждения сама по себе не имеет принципиального значения – кто-то принимает решение быстро, а кто-то, хоть и отводит больше времени на раздумья, оказывается блестящим стратегом.
Второе правило – проверять всю информацию. На неверных исходных данных правильного решения не построить. Отелло мог бы задать еще несколько вопросов о происхождении платка, прежде чем кидаться душить Дездемону. В Академии, где обучался Аристотель, умение отличить истинное знание от мнения или слухов было одной из основных тем. Если вы услышали, что ваш партнер вам изменяет, это еще не факт, это только слухи. Отличить их бывает порой очень нелегко: муж одной моей знакомой, тоже научного работника, в несокрушимой уверенности, что жена ему изменяет, нанял детектива, чтобы тот предоставил ему фото- или видеодоказательства измены. Однако слежка выявила только одно: супруга неразлучна лишь с допотопным компьютером Atari, на котором часами печатает материалы для лекций. Нанять детектива – это уже крайность, но есть и другие способы проверки, в том числе прямо спросить партнера, что он думает о соответствующих гнусных инсинуациях, и понаблюдать за его мимикой и дыханием.
На международном политическом уровне неумение проверять информацию может обернуться настоящей катастрофой. 6 июля 2016 г. был опубликован доклад сэра Джона Чилкота о политике Великобритании в Ираке в 2001–2009 гг., где говорилось, что «суровость угрозы, представляемой иракским оружием массового уничтожения» в заявлениях правительства Тони Блэра «была необоснованно преувеличена». Хуже того, как утверждал Чилкот, не вызывает сомнений, «что политика в Ираке строилась на основе неверных оценок и сведений, которые не подвергались проверке, хотя должны были». Непроверенная, искаженная информация повлекла за собой бесчисленные жертвы как с британской, так и с иракской стороны. Аристотель бы не удивился.
С проверкой сведений тесно связано и правило третье – советоваться со специалистами и прислушиваться к их рекомендациям. Афиняне изо всех сил старались привлекать к морским делам лучших мореплавателей, а чертежи великолепных храмов получать от лучших зодчих. Причем совсем не обязательно, чтобы мастера были местными. Главное – мастерство. Афиняне поддержали бы аплодисментами пример, приведенный президентом Бараком Обамой на выступлении в Ратгерском университете в мае 2016 г.: кому захочется лететь в самолете, за штурвалом которого сидит необученный пилот? Если сами вы не специалист в том или ином вопросе, найдите специалиста, с которым можно посоветоваться, говорит Аристотель, приводя в поддержку строки из Гесиода:
Тот наилучший над всеми, кто всякое дело способен Сам обсудить и заранее предвидеть, что выйдет из дела. Чести достоин и тот, кто хорошим советам внимает. Кто же не смыслит и сам ничего и чужого совета В толк не берет – человек пустой и негодный.Советчик должен быть беспристрастным (но не безразличным) – то есть ни выгоды, ни ущерба от вашего решения не иметь. Отелло даже мысли не следовало допускать, что Яго способен дать ему беспристрастный совет. Ваш подчиненный по определению не будет беспристрастным. Ваш лучший друг – тот, к кому большинство инстинктивно обращаются в моменты острых переживаний и сомнений, – это вариант еще хуже. У близкого друга или подруги обязательно имеется свой интерес – как раз потому, что вы слишком много для такого человека значите. Поэтому не надо действовать по наущению друзей, лучше обратитесь за советом к консультанту по семейным отношениям.
Четвертое правило: выяснить мнение или хотя бы посмотреть на ситуацию глазами всех, кого она коснулась. Ведь расставание затронет не только вас с партнером. Оно скажется на ваших родных, друзьях, коллегах, соседях и в первую очередь на детях, если они у вас есть. Вы состоите во множестве разных отношений, и цепная реакция на перемены может таить в себе очень неприятные сюрпризы.
Правило номер пять: изучить известные прецеденты как из собственной жизни, так и исторические. Когда речь идет о решениях рядовых, этот этап рассуждений скорее забава. Придумывая кому-то подарок на день рождения, нелишне вспомнить, что вы дарили в прошлом году. Составляя план рассадки для званого ужина, постараться не сажать рядом тех, кто друг друга на дух не выносит. Однако в вопросах более серьезных уроки прошлого действительно могут пригодиться. Что происходит с людьми, когда разрываются отношения? Что происходит с вами лично, когда вы переживаете душевные травмы? Как ведет себя ваш партнер в стрессовых ситуациях?
Правило номер шесть: оцените вероятность разных исходов и подготовьтесь к каждому из наиболее возможных. Из доклада Чилкота следует, что правительство Блэра, ввязываясь в войну в Ираке, это правило проигнорировало: «Несмотря на открытые предупреждения, последствия ввода войск были оценены неверно. Военные действия в Ираке после свержения Саддама Хусейна не были надлежащим образом подготовлены и спланированы». И хотя масштаб последствий у наших с вами решений чаще всего несколько иной, все равно они требуют не менее тщательного взвешивания вероятных исходов. Вы уверены на 99 %, что партнер поведет себя как порядочный человек, если вы его оставите? Не распустит руки, не оберет вас до нитки, не увезет детей? Если почти стопроцентной уверенности нет, необходимо сыграть на опережение, сходить к юристу, принять необходимые меры. Нужно спланировать свои действия на любой возможный случай. В стрессовой ситуации заранее подготовленная стратегия для того или иного варианта развития событий может оказаться бесценной.
Седьмое правило предписывает, кроме вероятных и предсказуемых последствий, учесть и возможный элемент везения или невезения. Примите в расчет все случайности, которые только сумеете вообразить. Какие непредвиденные события грозят нарушить планы? Что, если вы вдруг серьезно заболеете и не сможете заботиться о тех, кто от вас зависит? Несчастье нельзя полностью предотвратить, но осознавать его печальную вероятность при рассуждении благоразумный человек должен.
Но не будем о грустном. В большинстве древнегреческих текстов о взвешенном рассуждении есть рекомендация «не рассуждать на пьяную голову». Аристотель непременно бы эту рекомендацию поддержал, поскольку невоздержанные, разгоряченные выпивкой, часто фигурируют в его трудах как пример неспособных к нравственной этике. Это не значит, что Аристотель порицал винопитие как таковое, наоборот, он считал подобные удовольствия похвальными, если знать меру. Он определенно был знаком с сочинениями Геродота, и мне иногда очень интересно, что он думал об описанном у этого историка персидском способе принятия решений государственной важности. Персы голосовали после основательной общей попойки, но затем – и это самое главное, – протрезвев, голосовали повторно. Решение воплощали в жизнь лишь в том случае, если оно оказывалось одинаковым и на пьяную голову, и на трезвую – идеальная гармония разума и сердца, или архетипическое сочетание быстрого и медленного мышления по Канеману. Честно признаться, временами я изменяю аристотелевским принципам умеренности, и мы с мужем, принимая важные семейные решения, прибегаем к персидскому методу, который, судя по моему опыту, себя оправдывает. Однако мы всегда стараемся соблюсти остальные аристотелевские правила рассуждения, прежде чем делать окончательный выбор.
На этом все. Я убрала как анахронизм правило девятое, гласящее, что рабу не свойственна способность решать, и десятое, отказывающее в этой способности женщинам. Аристотель, увы, считает, что у женщин данное умение «лишено действенности» или требует руководящей мужской руки – в зависимости от того, как переводить эпитет akuron. Но скорее всего, Аристотеля можно было бы переубедить – даже в его времена. Среди древних греков всегда были те, кто безоговорочно признавал за отдельными женщинами исключительное умение взвешенно рассуждать. В трагедии Еврипида «Просительницы» афинский царь Тесей благодаря мудрому совету своей матери Эфры принимает единственно приемлемое в сложившихся обстоятельствах порядочное решение. В «Агамемноне» Эсхила об уме и красноречии царицы Аргоса Клитемнестры говорится: «Ведет речь, как умный муж».
У трудов Аристотеля, посвященных взвешенному рассуждению, оказалось большое будущее. Эразм Роттердамский включил рассуждение в круг тем своего популярного сборника Adagia (1500), а несколько десятилетий спустя личный советник английской королевы Фрэнсис Бэкон выпустил трактат «О советчиках» (1597). Аристотелевские идеи, касающиеся принятия решений, снова входят в моду в современных философских кругах. Политологи оперируют ими, оценивая достоинства и недостатки коллективного принятия решений при демократии, а также (на стыке с когнитивной психологией) действие субъективных принципов морально ответственного индивида. Авторы целого ряда блестящих современных философских исследований пытаются дать определение эталонного рассуждающего, но все они, как и психолог Канеман, вторят Аристотелю и сосредоточиваются на свойстве или процедуре, которые Аристотель уже подробно разобрал. Так, например, взвешенное принятие решений в последнее время определяется как оценка задач на основе полной и правильной информации (в том числе, возможно, обретенной в ходе консультации с незаинтересованными лицами). Иногда это означает опираться на прецеденты и опыт, чтобы соразмерить вероятность разных последствий. В другой модели основной акцент делается на уравновешенности интуитивных догадок и суждений принимающего решение.
И наконец, хотя обдумывание и применение на практике правил взвешенного рассуждения довольно трудоемко, оно окупается с лихвой, поскольку вы перестаете беспокоиться попусту. Если вы не можете ничего изменить, необходимость что-то обдумывать и решать просто отпадает сама собой. Если больной неизлечим, врачу нет смысла рассуждать, как его вылечить, – только как облегчить его состояние. Эту простую, казалось бы, истину довольно трудно усвоить, однако она чрезвычайно упрощает жизнь людям с гипертрофированным чувством ответственности. Беспокойство о том, что от вас не зависит, – напрасная трата времени.
Я и сама слишком сильно волновалась за своих студентов в день экзамена, хотя неделями, месяцами, годами делала все от меня зависящее, чтобы они пришли к этому дню мотивированные, подготовленные и вооруженные знаниями. Чем беспокоиться, гораздо полезнее было бы извлечь необходимые уроки и подумать, как лучше подать материал в следующем году. А еще я не один месяц страдала из-за пристрастия дорогого мне человека к спиртному и думала, как ему помочь. Мне понадобилось много времени, чтобы понять: от меня уже ничего не зависит, все исключительно в руках тех, за кого я переживаю.
Бессмысленно пытаться изменить то, что нам неподвластно, например затяжной дождь, который зарядил с самого утра в день вашей свадьбы. Но можно использовать взвешенное рассуждение, чтобы заранее продумать запасной план на случай дождя. Аристотель попросту подыскал бы красивую крытую площадку для фотосессии, снабдил гостей зонтами в тематике свадьбы и не забыл дополнительный баллончик лака для спасения прически невесты.
Глава 4 Коммуникация
Аристотель совершил прорыв, утверждая, что риторика, как и логика, – это нейтральное искусство, которое можно использовать как во благо, так и во зло. На самом деле риторикой должен владеть всякий, кто стремится к счастью: «Если позорно не быть в состоянии помочь себе своим телом, то не может не быть позорным бессилие помочь себе словом, так как пользование словом более свойственно человеческой природе, чем пользование телом»[17]. Человека, обученного риторике, Аристотель сравнивал с практикующим медиком, говоря, что искусный врач владеет всем арсеналом приемов и методов лечения, но не задается целью вылечить всех и каждого. Оратор должен в совершенстве владеть существующими приемами и уметь их применить, но это не значит, что ему удастся переубедить всех без исключения.
Аристотель знал это по собственному горькому опыту. На склоне лет его обвинил в безбожии иерофант Евримедонт, выступая на собрании верховного афинского суда Ареопага. Основное обвинение заключалось в том, что убеждения Аристотеля идут вразрез с религией афинян. Аристотель, судя по всему, тоже появился в суде, поскольку в древних источниках упоминается защитная речь, которую он составил и произнес сам, продемонстрировав владение искусством риторики, которое так красноречиво описывал в своих трудах. Однако предубежденность противников оказалась сильнее, и блестящая речь не принесла Аристотелю оправдания.
Тем не менее «Риторика» Аристотеля радикально изменила науку о словесном воздействии, поскольку основным предметом в ней стал механизм, функциональные составляющие аргументации, а не достижение власти над полисом за счет умных речей. Трактат начинается с утверждения, которое многим образованным людям того времени должно было показаться довольно опасным: риторика – это искусство, которому можно учить и которому способен научиться любой. Всем людям так или иначе «приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять». Большинство занимается этим постоянно, дома или на работе, никак не обдумывая процесс, осваивая приемы аргументации по наитию или перенимая от других. Но, поскольку это очевидно приобретаемый навык, не менее «очевидно, что его можно возвести в систему».
По мнению Аристотеля, риторику следует изучать не для того, чтобы продвинуться в политической карьере, а просто чтобы уметь аргументировать и применять это умение в любой социальной области, будь то политика или что-то иное. Его ученики занимались риторикой, чтобы яснее и четче выражать свои мысли в рамках какой бы то ни было научной дисциплины. Аристотель задает очень показательный вопрос: почему не заботится о том, чтобы увлечь слушателей, преподаватель геометрии? Действительно, почему? Риторика поможет преподавателю любой науки, даже самой точной и сухой, донести материал наиболее эффективно. Да и любому человеку поможет изъясняться доходчивее, если уж на то пошло.
Основные правила, изложенные Аристотелем в «Риторике», можно применять в любой ситуации – будь то на работе или при распределении домашних дел – и с их помощью добиваться своего. Современная манера ведения споров и прений за прошедшие столетия многое впитала из аристотелевской «Риторики». Дело не только в том, что этот труд изучали повсеместно, но и в том, что все остальные древние риторы, такие как Цицерон и Квинтилиан, чьи трактаты оказали не меньшее влияние на педагогов и составителей речей, тоже усваивали именно аристотелевские принципы.
Еще одна причина состоятельности этих принципов заключается в том, что теорию убеждения Аристотель разрабатывал как часть общего учения, без отрыва от остальных своих трудов. Эмоции и мышление играют основополагающую роль не только в этике добродетели, но и в рекомендациях по убеждению. Кроме того, в «Риторике» содержится ряд самых интересных его эмпирических наблюдений о познании через речь – то есть о том, как человек воспринимает информацию, передаваемую словами. Вся его теория строится на взаимоотношениях между говорящим и слушателями с учетом влияния, которое оказывают на эти взаимоотношения эмоции и язык.
К тому времени, как Аристотель начал работать над «Риторикой», греки изучали публичные выступления уже не один век, составляя руководства по секретам мастерства. Но репутация риторики была подмочена, ее считали хитрой уловкой, с помощью которой нечистоплотные политики, представляя черное белым, склоняют граждан принимать ничем не подкрепленные самоубийственные или безнравственные коллективные решения. В диалогах Платона заметна резкая разница между философами, ищущими истину, и риторами-софистами, которых интересует лишь навязывание своей точки зрения.
Аристотеля риторическими уловками не проведешь. Он на примерах показывает, как можно подать одни и те же факты и в положительном, и в отрицательном ключе (кто для одних террорист, для других – борец за независимость). Соответственно, Ореста, который, неся возмездие за смерть отца, убил свою мать Клитемнестру, можно называть либо «отмстителем отца», либо «матереубийцей», в зависимости от того, какие эмоции вы хотите вызывать у адресата – сочувствие к Оресту или неприязнь. Кроме того, Аристотель отмечает, что в его время «грабители» взяли привычку «возвеличивать себя», называясь «сборщиками податей». Он ссылается на поэта Симонида, которому заказали оду в честь победителя бегов на мулах. Сперва Симонид отказался, считая невозможным воспевать языком возвышенной поэзии животное настолько презренное. Но, когда заказчик посулил хорошие деньги, Симонид решил «возвеличить» мулов и написал: «Привет вам, дочери быстроногих кобылиц!» Из Симонида вышел бы отличный пиарщик.
Убеждение можно использовать и в похвальных целях. Ближе к 40 годам Аристотель поселился в высокогорном малоазиатском городе Атарнее, чтобы учить философии местного правителя Гермия. Получив, судя по всему, некий официальный чин вроде советника при дворе, Аристотель сумел убедить тирана перейти к более демократичному режиму правления. Но к тому времени Аристотель, 20 лет проживший в демократических Афинах, прекрасно знал, как падка ветреная, предвзятая или невежественная толпа на сладкие речи и ораторские приемы юристов и политиков.
Он критиковал пособия по риторике, составленные предшественниками (ни одно из них до нас не дошло), которых в сочинении речей больше интересовали чуждые нашей теме аспекты. Из этих наставлений можно было узнать, как отвлечь внимание аудитории от нежелательных свидетельств, как очернить или оговорить противника и соперника, как надавить на нужные «кнопки» – например, на жалость, приведя на заседание суда своих рыдающих детей. В основе такой риторики лежит не аргументация, а умение оратора играть на страсти слушателей к переживаниям и театральщине.
Аристотель понимал, что отказаться от изучения риторики – значит выплеснуть вместе с водой демагогии и ребенка красноречия. Он рассматривал риторику лишь как инструмент, позволяющий как можно убедительнее донести до слушателя относящиеся к делу факты и позволить адресату самому вынести рациональное суждение. Самый убедительный аргумент всегда тот, который опирается на доказательство, которое Аристотель называл энтимемой (enthymeme).
Наиболее эффективные энтимемы строятся на уже имеющихся у слушателя убеждениях и взглядах. На собеседовании при приеме на работу, например, они заключаются в том, что наниматель хочет выбрать самого квалифицированного кандидата и критерии профессионализма у обеих сторон одинаковые. Если это собеседование на должность водителя такси, энтимема предполагает водительские права без штрафов, отсутствие судимостей и подтвержденное рекомендациями отсутствие нареканий со стороны службы такси, где вы работали раньше. Все сводится к доказательствам, оцениваемым согласно общепринятому мнению (endoxa). Документальные свидетельства считаются самым неопровержимым доказательством в процессе убеждения.
«Риторику» Аристотеля обычно рассматривают вместе с «Поэтикой», однако на самом деле она гораздо теснее связана с шестью его сочинениями, посвященными логике, которые более поздние философы древности объединили в труде под названием «Органон» («Инструмент»). «Органон» сыграл ведущую роль в историческом развитии философии, естественных наук и математики. Аристотель не ограничивался описанием практического применения аргументации, он считал, что сами доводы, к которым мы прибегаем, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу, достаточно сложны и требуют отдельного анализа. Он понимал, что необходима научная дисциплина, которая будет изучать не «содержание» (как ботаника – растения или этика – человеческие поступки), а форму, которую принимают доводы, используемые нами в процессе рационального убеждения. Здесь Аристотель, как он и сам прекрасно сознавал, оказался первопроходцем: «Если в риторике мы могли опираться на множество древних сочинений, то, прежде чем утверждать что-то по поводу логики, пришлось провести долгое и кропотливое исследование».
Простейшие, но при этом самые важные составляющие аргументации – это обычные утверждения, или «посылки». Из двух утверждений можно вывести третье, представляющее собой заключение, то есть истину. Это почти то же самое, что энтимема в риторике, но в логике такое заключение называется силлогизмом (что в греческом означает «сложение доводов»).
Силлогизм строится так:
Аристотель первым из мыслителей увидел, что это можно записать в абстрактной форме: все философы (х) – люди (y). Аристотель (z) – философ (x). Следовательно, Аристотель (z) – человек (y).
Выведя формулу силлогизмов, Аристотель заметил, что основная делится на категории в зависимости от формы посылки и содержащихся в ней кванторов (логических операторов) – например, «все философы» или «некоторые философы». Квантор может быть и отрицательным – «никакие философы», и эту способность более сложных силлогизмов строиться на отрицании Аристотель тоже учитывал.
Если обе посылки истинные, то и заключение обязательно будет истинным. Если посылки верны, можно сделать правильный и обоснованный вывод.
Однако в формальной логике дьявол кроется в мелочах. Уже к семи годам большинство детей видят ошибочность вот такого, например, заключения:
Если любовь к бананам питают лишь некоторые люди, нельзя приписывать ее всем британцам. Такое заключение неверно, это ложный вывод, он не может быть сделан на основании только этих двух посылок, нужно больше данных.
Подвергать сомнению саму посылку дети учатся гораздо позже:
Первая посылка соответствует истине. И заключение тоже логически вытекает из посылок – если их принять. Но во второй посылке подвох. Умудренные опытом философы, политики и юристы прекрасно знают, что логический изъян или тенденциозное заявление проще всего спрятать во второй посылке. Самый уязвимый довод всегда скрывается в середине силлогизма, поскольку, приняв первую посылку, слушающий проникается доверием к говорящему и с большей готовностью воспринимает последующие утверждения как истинные. На некорректных заявлениях во второй посылке (зачастую обобщающего характера) строится основная масса расистских и прочих дискриминационных предубеждений: все ирландцы – лентяи, все рыжие вспыльчивы, женщина за рулем – это катастрофа.
Моя коллега Сьюзен, археолог, постоянно ссорилась со своим мужем-философом. Как Спок из «Звездного пути», он придирался ко всем ее выводам и обвинял в нелогичности, каждое заключение называя ложным. Но Сьюзен тогда еще не понимала, что и сам он прячет во второй посылке логические нестыковки – некорректные обобщения.
А потом Сью проштудировала с карандашом и осмыслила все посвященные логике сочинения Аристотеля, изложенные в доступной форме в философской энциклопедии, и больше на удочку незаметно внедренной ложной второй посылки не попадалась. До тех пор она усиленно доказывала, что является исключением из этого общего «правила», тогда как на самом деле ей надо было опровергнуть обобщение как таковое. Но в итоге, ознакомившись с принципами логического рассуждения, Сьюзен исправила силлогизм:
Супруги по-прежнему вместе, и семейная жизнь их стала счастливее. Обучать молодежь элементарной логике (особенно подвергать сомнению исходные посылки, а не только выводить логически верные заключения) – значит вооружить их бесценным умением. Благодаря ему они сумеют не только постоять за себя в семейных или родственных отношениях, но и раскусить ловкачей, которые попытаются спекулировать на их наивности, например двуличных политиков.
Вот пример ложной посылки, которую президент Джордж Буш ввернул, доказывая необходимость проведения образовательной реформы, резко увеличившей объем контрольных тестирований в классах с третьего по восьмой в рамках программы «Ни одного отстающего», начатой в 2001 г.:
Первая посылка выражала общепринятую истину. А вот вторая истине не соответствовала. Противники Буша как раз были очень заинтересованы в том, чтобы заставить школу нести ответственность за уровень успеваемости, и разработали несколько разных проектов реформы, не предполагающих, однако, увеличение объема тестирований. Соответственно, заключение, выводимое Бушем из неверной посылки, тоже оказывалось ложным: он нигде и никак не доказал, что увеличение объема тестирований – это единственный способ повысить грамотность и навыки счета. Таким приемом – искажением взглядов оппозиции во второй посылке – Буш, агитируя за свои предложения, пользовался часто.
Возьмем, например, ложный силлогизм, на котором президент Буш и Тони Блэр строили агитацию за вторжение в Ирак в 2003 г.:
Чтобы завуалировать откровенное передергивание фактов в первой посылке и апелляцию к собственным безупречным моральным качествам во второй, политики воздействовали на эмоции. Блэр характеризовал иракскую программу разработки оружия массового уничтожения как «активную, подробно прописанную и набирающую обороты», тогда как Буш утверждал, что войти в Ирак необходимо до того, как Саддам начнет «угрожать цивилизации». Это не первое в истории трагическое событие, обусловленное неумением избирателей распознать ущербность подобных силлогизмов.
Но чего же мы все-таки пытаемся добиться с помощью риторики? У этого процесса три составляющие – «оратор», то есть вы; «аудитория», то есть ваши адресаты; и «речь», то есть текст, который вы излагаете в письме, в выступлении, в лекции. Аристотель делит тексты на три основные категории. Первая – это речи, например судебные, описывающие то, что уже произошло, и потому написанные «в прошедшем времени»: так, противники Сократа утверждали в обвинительной речи, что он «придумал новых богов». Вторая категория – речи, в которых люди, объекты, явления обсуждаются или восхваляются в настоящем времени. Хороший пример таких речей – свадебный тост за молодоженов: «Пифиада разделяет любовь Аристотеля к зоологии, поэтому новоиспеченные супруги – прекрасная пара». В третью категорию входят речи, посвященные предстоящим событиям, когда оратор рассуждает о том, как следует поступить. Такие речи, направленные на то, чтобы склонить собеседника к определенному варианту действий, ведутся в будущем времени и в сослагательном наклонении. «Ваше царское величество, Филипп, если вы восстановите дорогой моему сердцу родной город Стагиру, я снова стану вашим другом». Этот тип речей тесно связан с аристотелевской идеей взвешенного рассуждения, и «рассудительные» речи интересуют Аристотеля гораздо больше остальных, поскольку именно у них есть потенциальная возможность влиять на ход событий, пусть даже в небольших масштабах. Они способны оказывать ощутимое воздействие на отношения, карьеру, политику. Навык «рассудительной», убеждающей речи повышает потенциал своего обладателя. И самое прекрасное, что этому навыку можно научиться.
«Риторика» Аристотеля состоит из трех невероятно захватывающих книг. Я же постаралась уместить выжимку самых важных его «правил» эффективной коммуникации на нескольких страницах. Как подсказывает мне собственный опыт научного работника, сильнее всего от владения навыками коммуникации будущее зависит при поиске работы. Даже на самые низкооплачиваемые временные преподавательские ставки в современном университете регулярно подается по 200 заявок. Попасть в «короткий список» – задача почти невозможная, но еще труднее – за 25 минут убедить комиссию, что вы лучше подходите на эту должность, чем остальные пять кандидатов. Резюме, которое составляет претендент на университетскую ставку, ничем, кроме содержания, не отличается от любого другого, поэтому дальнейшее касается любого отклика на вакансии. Представим, что мы консультируемся с Аристотелем, как написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию: три кита эффективной коммуникации, согласно древнегреческому мыслителю, – это ориентация на адресата, краткость и четкость.
Прежде чем приступать к составлению текста, выясните как можно больше о своем адресате – в данном случае о членах комиссии и всех остальных (начальнике отдела кадров, например), через чьи руки пройдет ваше резюме. Узнать, кто будет участвовать в принятии решения, обычно несложно – многие государственные учреждения обязаны оглашать состав комиссии, да и в остальных компаниях это, как правило, не тайна за семью печатями. Важно дать почувствовать адресату – то есть тем, кто будет производить первоначальный отсев, – что вы провели предварительное исследование, вы знаете, куда и к кому вы поступаете на работу, что вы уважаете потенциального работодателя, восхищаетесь им и примерно представляете, каково будет здесь работать. Для Аристотеля риторика – это в первую очередь эмоциональное взаимодействие: ваша речь должна вызвать у адресата чувство гордости за себя и желание встретиться с вами снова. Но добиваться этого подобострастием и грубой лестью нельзя. Благоразумие также подсказывает избегать любых высказываний в негативном ключе: если кандидат пишет, что его нынешнее место работы – змеиное логово, где постоянно приходится выяснять отношения с начальством, резюме отправляется прямиком в мусорную корзину. Даже если это утверждение полностью соответствует истине и в чем-то оправдано, выставлять себя человеком неуживчивым и склочным, находясь в поисках работы, довольно глупо.
Итак, изучить адресата принципиально важно – и откликаясь на вакансию, и получая приглашение на собеседование. Одному моему знакомому удалось получить должность, на которую претендовало несколько человек, поскольку он единственный из всех кандидатов озаботился тем, чтобы выяснить политические взгляды самых влиятельных членов комиссии и заодно обнаружить в одном из них страстного поклонника Вагнера. Кандидату на университетскую должность полезно просмотреть публикации каждого из собеседующих – тогда вы сможете направлять разговор в интересующее их русло. Кроме того, так вы узнаете, для каких курсов не хватает преподавателей, и, излагая программу собственных лекций, обозначите, какие пробелы сможете устранить, тем самым снижая нагрузку остального педагогического состава. Собственно, еще на этапе резюме следует показать одной-двумя фразами, что вы обдумываете, как и чем можете быть полезны данному коллективу.
Прозондировать почву и составить резюме, которое вызовет нужный эмоциональный отклик у целевой аудитории, – задача ответственная, требующая времени и сил. Еще одна ответственная задача – выбрать нужный тон. Мне доводилось читать гомерически смешные в своей высокопарности отклики на вакансию, начинающиеся с обращения «Досточтимые господа!», но видела я и оскорбительно панибратское «Приветствую преподов!». Между этими двумя крайностями есть достойная и непринужденная аристотелевская золотая середина («Уважаемые члены комиссии!»), но это не отменяет индивидуального подхода. Конечно, гораздо проще и быстрее разослать всем потенциальным работодателям один и тот же текст, но приглашений на собеседование в этом случае будет немного.
Второе основополагающее правило аристотелевской риторики – краткость. В деле убеждения работает принцип «лучше меньше да лучше». Выступления, которые ценятся за продолжительность, – это другая категория, не связанная с будущим, такие речи сочиняются с другой целью. Так, например, продолжительность приветствуется в выступлениях развлекательных (если вас наняли выступить с получасовой речью после банкета, а вы отстрелялись за десять минут, заказчики имеют все основания жаловаться). То же самое относится к траурной речи на похоронах. Она обращена в прошлое, поскольку описывает события из жизни усопшего, и, если она окажется слишком куцей, это оправданно сочтут неуважением. Но когда вы убеждаете кого-то совершить некое действие в будущем – пусть даже ближайшем, например принять вас на работу, – требуется лаконичность. Поскольку все необходимые подробности содержатся в резюме, возьму на себя смелость утверждать, что сопроводительное письмо не должно превышать одной, в крайнем случае двух страниц формата A4 12-м кеглем. Если получается больше, имеет смысл пересмотреть аргументацию.
Согласно Аристотелю, эффективное убеждение, обращенное в будущее, состоит всего из двух элементов. Все остальное уже лишнее и будет только отвлекать от сути или запутывать. Первый элемент – обозначение желаемого (например, быть принятым на эту работу). Второй – доказательство, что вы самый подходящий кандидат на данную должность. В более длинных убеждающих речах – таких, например, как выступление в парламенте с предложением нового законопроекта, – не лишним будет подытожить сказанное, еще раз кратко обозначив ключевые моменты. Аристотель обнаружил, что объем информации, который человек способен воспринять и удержать, имеет почти универсальный предел, равный примерно пяти минутам (устной звучащей речи или ее эквивалента в письменной форме). Если вы укладываетесь в пять минут, можно обойтись без резюмирующей части. А в одностраничном отклике на вакансию она просто неуместна.
В таком письме обозначить желаемое и свои основания для притязаний можно буквально в двух предложениях. «Откликаясь на вакансию номер F3400, опубликованную 16 апреля 2016 года в Daily Educator, я хотел бы занять должность преподавателя спектроморфологии на музыкальном факультете Колледжа Св. Вацлава. В данный момент у меня истекает срочный контракт в Университете Постлетуэйта, которым я был абсолютно доволен как местом работы, но теперь подыскиваю постоянное место в более крупном учебном заведении, имеющем международное признание». В оставшейся части письма приводятся краткие доказательства идеальности вашей кандидатуры, которые распадаются на крайне ограниченное число рубрик, поскольку часть их так или иначе относится к вашему прошлому и настоящему, а часть – к будущему. У вас имеются необходимая специализация и подготовка, прежние заслуги и достижения, опыт и настрой. Вы считаете, что отлично поладите и сработаетесь с нанимателем. Не забудьте в каждой из этих рубрик подкрепить свои слова убедительным свидетельством – и вот у вас уже почти готово сопроводительное письмо, которое оставит далеко позади по крайней мере 75 % соперников.
Третье принципиально важное качество для данного типа риторики – четкость. Если вашу мысль не поймут, она никого не убедит. Поразительно, сколько претендентов на должность преподавателя не указывают, когда, где и какой диплом или степень получали и чем занимаются сейчас, не говоря уже о том, какой вклад готовы внести в дальнейшую работу факультета. Когда предстоит прочитать порядка 200 откликов, письмо, в котором информацию такого рода приходится выискивать дольше минуты, закономерно отправляется в корзину.
Люди не идиоты. Недосказанность или неоднозначность комиссия непременно заметит – в таких случаях кажется, будто выступающий / пишущий темнит и что-то скрывает, поэтому адресат предсказуемо раздражается и настораживается. Аристотель рекомендует изъясняться конкретнее. Не пишите в сопроводительном письме: «Проработав немного, я надеюсь подать заявку на гранты для своего проекта по греческим богам». Пишите: «На исходе первого года пребывания в должности я намерен подать заявку на гранты для своего проекта по исследованию центров поклонения Аполлону на Кикладских островах». А затем будьте готовы четко и последовательно объяснить на собеседовании, в чем будет заключаться этот проект и как именно вы собираетесь обеспечивать финансирование.
Аристотель предостерегает и насчет отторжения, которое вызывают у адресата чрезмерная загадочность и неясность в высказываниях. В пример он приводит цитату из Гераклита (наверное, самого непостижимого из всех древнегреческих философов), которая построена так, что смысл сказанного ускользает: «Хотя эта причина существует испокон веков люди пребывают в сомнении». Непонятно, то ли причина существует испокон веков, то ли испокон веков люди пребывают в сомнении. Нужно либо расставить запятые, либо перестроить фразу, чтобы стало понятно, к какой ее части относится «испокон веков».
Допустим, прочитав ваш безупречный письменный отклик и правильно составленное резюме, вас пригласили на собеседование. Теперь на первый план выходит умение выступать устно, и для Аристотеля решающая роль здесь принадлежит четвертому «киту» риторики – подаче.
Близкий друг Аристотеля Теофраст написал о выступлениях целый трактат, и, судя по уцелевшим его фрагментам, оба мыслителя, испытывая живой интерес к этой теме, часто обсуждали манеру выступления афинских ораторов. Древние греки обозначали ее словом hypokrisis – так же, как манеру актерской игры. В английском языке слово hypocrisy обрело иной смысл и означает лицемерие, двуличие. Но на самом деле нет ничего зазорного в том, чтобы примерить на себя актерскую маску, готовясь к ораторскому выступлению. Одной моей знакомой – даме ослепительной и ухоженной – пришлось побывать ответчицей по обвинению в незаконном использовании телевизионного оборудования. Облачившись в старомодное платье и туфли на плоской подошве, скрутив волосы в кривой пучок, ответчица лепетала, что она всего лишь скромная преподавательница ботаники и просто не разобралась в законе о лицензировании телеоборудования. Она каялась и казнилась – и в результате отделалась минимальным штрафом из возможных.
Каким вы хотите предстать на собеседовании? Может, на самом деле вы безответственный лодырь и разгильдяй, который, получив должность, сядет на шею коллегам, но это не то впечатление, которое имеет смысл производить на потенциального работодателя. В начальной главе Книги второй «Риторики» Аристотель прозорливо замечает: чтобы убедить слушателя, говорящий должен «(1) показать себя человеком известного склада и (2) настроить известным образом судью». Что касается склада, «есть три причины, возбуждающие доверие к говорящему ‹…› – это разум, добродетель и благорасположение». Если вы живете по аристотелевским принципам, то, конечно, и сами уже стремитесь сделать эти качества постоянным свойством характера, так что продемонстрировать их на собеседовании не составит труда.
Но Аристотель рисует более объемный образ человека, вызывающего всеобщее одобрение. Такой человек не паразитирует на других, а зарабатывает на жизнь упорным трудом. Даже если в прошлом вам случалось добиваться успеха не самым нравственным способом, например заигрывая с начальством или жульничая на экзаменах, симпатию потенциальных коллег, которые наверняка сами стонут от непосильной нагрузки, лучше завоевывать рассказом о трудовых подвигах.
Продолжая анализировать качества, вызывающие всеобщее одобрение, Аристотель находит их у тех, «с кем приятно жить и проводить время, а таковы люди обходительные, не склонные изобличать ошибки других, не любящие спорить и ссориться». Дружелюбие, жизнерадостность, обходительность – все это бесценно. Крайне важно корректное чувство юмора: необходимо уметь адекватно воспринимать шутки и тактично шутить самому. «Любим мы и тех, кто умеет пошутить и перенести шутку», – пишет Аристотель. Даже если собеседующий опустится до того, чтобы пошутить в ваш адрес, собеседование – не самое подходящее место, чтобы отыгрываться, даже если вам удастся сделать это тонко и остроумно. Аристотель советует отвечать на агрессивные шутки серьезно и с достоинством. Сарказм и ирония меркнут перед убежденным и взвешенным суждением. Аристотель знает, что иронией нередко прикрывается презрение и что подобные иронические нападки можно при желании обернуть в свою пользу.
Неправда, что решение насчет кандидата принимается в первые две минуты собеседования. Опытный собеседующий знает, что примерно на 17-й минуте часть кандидатов «выходит из роли» – особенно чрезмерно уверенные в себе, когда расслабятся и начинают разговаривать свысока. Однако на реакцию собеседующего могут повлиять и другие внешние факторы. Аристотель отлично знал, как важно первое впечатление. В своих трудах, посвященных этике, он рассуждает об одежде и внешнем виде. Добродетельному человеку необходимо найти середину между отталкивающим кричащим щегольством и полным пренебрежением собственной внешностью. Чрезмерная неопрятность, как проницательно замечает Аристотель, тоже нарочита и демонстративна. Было время, когда многие мои коллеги изображали абсолютное равнодушие к тому, как выглядят, подразумевая, что их мысли заняты более высокими материями. Пренебрежение распространялось не только на одежду, но и на использование дезодоранта и крема для обуви, не говоря уже об услугах стоматолога, парикмахера и химчистки. К счастью, у молодежи таких тенденций не наблюдается. Оптимальный совет здесь и для мужчин, и для женщин одинаков: никто еще не проваливал собеседование из-за того, что явился в простом, но хорошо сидящем темном костюме с крахмальной белой сорочкой или в деловом платье и простых, но начищенных темных туфлях. Правильный покрой стоит своих денег. Можно даже взять костюм напрокат, если он вам не по карману.
Первое впечатление основывается не только на внешнем виде. Очень полезно посмотреть в глаза каждому из собеседующих и затем удерживать зрительный контакт с аудиторией, не обходя никого вниманием, особенно когда кто-то задает вопрос. В своем трактате «О выступлении» коллега Аристотеля Теофраст утверждал, что оратор, который отводит глаза, воспринимается слушателями так же плохо, как актер, играющий спиной к публике. Большое значение имеют ваши первые слова: вступительная часть любой речи, будь то письменной или устной, как подчеркивает Аристотель, – это непревзойденная возможность увлечь аудиторию (и не менее высокий шанс ее оттолкнуть). По свидетельству Аристотеля, самый знаменитый актер-трагик его времени Феодор требовал переписывать все классические пьесы, чтобы вступительную реплику произносил его персонаж, поскольку именно этот момент спектакля как нельзя лучше подходит для завязывания контакта со зрителем.
Среди рекомендаций Аристотеля, касающихся убеждающей речи, есть еще несколько полезных наблюдений. Да, начало вашего выступления – это момент наибольшей заинтересованности слушателей, однако потом они, скорее всего, начнут отвлекаться. Не теряйте сосредоточенности сами, но главное – удерживайте внимание аудитории, поскольку «внимание ослабевает во всех других частях скорее, чем в начале». Его правоту подтверждают многочисленные эксперименты, проводимые когнитивистами в образовательном контексте. Регулярные исследования способности сосредоточивать внимание на лекциях показывают, что почти у всех оно начинает рассеиваться в промежутке с пятой по 25-ю минуту выступления. Отсюда золотое правило – примерно на 17-й минуте менять манеру подачи или ввести принципиально новый вид информации, а в 50-минутной лекции еще раз проделать то же самое на 35-й минуте. Этот переход обязательно должен быть четко обозначен. Аристотель приводит в пример философа Продика, который, едва публика начинала «клевать носом», говорил: «А теперь я расскажу вам кое-что поразительное – такого вы еще никогда не слышали!» После чего он выдавал публике бесплатный избранный отрывок своей самой знаменитой философской лекции, которую обычно читал за немалую входную плату в 50 драхм.
Непревзойденную роль в убеждении, по мнению Аристотеля, играют аналогии. Правильно подобранная аналогия действует гораздо эффективнее, чем любой другой риторический прием, такой, например, как использование необычных слов: «Величайшее преимущество – овладеть искусством метафоры. Это то немногое, чему нельзя научиться у других, кроме того, это признак прирожденного таланта, поскольку хорошая метафора подразумевает интуитивное умение видеть сходство в несхожем». Аристотель употребляет термин «метафора», но я буду называть этот прием аналогией, поскольку философ не проводит функционального различия между сравнением («лучи солнца на заре подобны розовым перстам») и метафорой («розоперстая заря»). В обоих случаях адресат представляет себе рассветное солнце с веером лучей как простертую розовую ладонь. Аристотеля интересовала в первую очередь когнитивная роль подобных сравнений. Он совершенно правильно полагал, что они катализируют усвоение информации. Поскольку слушателю приходится искать сходство между двумя сравниваемыми объектами (солнечными лучами и пальцами), он активно включается в процесс познания облика небесных светил и человеческих конечностей.
Умение проводить оригинальные информативные параллели, не гоняя по кругу одни и те же избитые аналогии, Аристотель причисляет к тем немногим, которым нельзя научиться, можно лишь получить от природы. Самые искусные завоевывают славу непревзойденных виртуозов сравнения – таким был Уинстон Черчилль, мастерски рисовавший яркие образы, чтобы подогреть ненависть к врагу: «Побитый шакал Муссолини, который ради спасения собственной никчемной шкуры сделал Италию вассалом гитлеровской империи, теперь, отчаянно виляя хвостом, трусит рядом с немецким тигром и визгливо тявкает не только от неуемной жадности – это еще можно понять, – но еще и, как выясняется, в знак ликования по поводу своего выдающегося военного триумфа»[18]. Хлесткими и неожиданными сравнениями славилась писательница Дороти Паркер: «Капелька безвкусицы – это как доза жгучего перца»; «Голос его шелестел интимно, словно простыни». Человек, которому она завещала свое имение, доктор Мартин Лютер Кинг, прибегал к метафорическим образам в самых благих целях, которым только может служить риторика, – чтобы изменить жизнь человечества к лучшему. Его эпохальная речь «У меня есть мечта» изобилует метафорами и сравнениями, связанными в основном с величием американских просторов: «С этой верой мы сможем вырубить камень надежды из горы отчаяния». Часть образов порождаются аллюзиями: «Мы не успокоимся, пока чернокожий в Миссисипи не может голосовать, а чернокожий в Нью-Йорке считает, что ему не за что голосовать. Нет, нет у нас оснований для успокоения, и мы никогда не успокоимся, пока справедливость не начнет струиться, подобно водам, а праведность не уподобится мощному потоку». Хорошо знавшим Библию последователям Кинга не составляло труда уловить отсылку к ветхозаветной книге Амоса, в чьих пророчествах искали утешение чернокожие американцы: «Пусть, как вода, течет суд, и правда – как сильный поток!» Барак Обама знал, что делал, когда в 2007 г. привел цитату Кинга, объявляя о своем намерении баллотироваться в президенты США: «Наши берега уже принимали переселенцев. Мы тянули железные дороги на запад. Мы высадили человека на Луну. И мы слышали призыв Кинга, чтобы справедливость струилась подобно водам, а праведность уподобилась мощному потоку. Нам все это уже знакомо». Обама возложил на образ стихийного, неотвратимого наступления расовой справедливости двойную нагрузку. Этот образ не только сделал абстракцию материальной и осязаемой, но и побудил слушателей вызвать в памяти выступление Кинга у Мемориала Линкольна и связать перемены, которых намеревался добиться Обама в должности президента, с теми, которые принесла борьба за гражданские права в 1960-х.
Сам Аристотель, судя по всему, гордился своими блестящими аналогиями. Он знал, что наделен от природы талантом к «горизонтальному» или нестандартному мышлению, как мы его называем сегодня. Снова и снова ему удается разъяснить нечто сложное для понимания, приводя аналогию из совершенно иной области жизненного опыта. В своем «Протрептике», адресованном широкой публике, он сравнивает созерцательное познание Вселенной с наблюдением зрителей за актерской игрой в театре или за атлетами на состязаниях. Описывая образовательный потенциал трагедии, он говорит, что учиться на разыгранном актерами примере страданий – это примерно то же самое, что познавать жизнь по схематическому рисунку некой уродливой и примитивной жизненной формы. Он сравнивает гибкость закона с гибкой мерной рулеткой, которую видел у зодчих на острове Лесбос. Хороший учитель, приспосабливающий учебную программу к индивидуальным особенностям каждого ученика, подобен «наставнику кулачного боя», который обучает всех одному и тому же виду спорта, но подбирает каждому своему подопечному упражнения, развивающие именно его талант и преимущества. Человека, который отворачивается от сограждан и уходит в отшельничество, Аристотель уподобляет «изолированной пешке на игральной доске».
Самые наглядные аналогии в этических трудах Аристотеля построены на знаменитых мифических эпизодах из гомеровских поэм. Доказывая необходимость государственного вмешательства в разработку программ обучения детей, он напоминает, что дикари вроде циклопов, «творящие право» каждый в своей пещере, будут единолично решать, чему учить потомство. А рассуждая о том, как важно прогнозировать последствия своих поступков и сознавать, например, чем чревата для семейного очага супружеская измена, он рекомендует представить себя троянцем, смотрящим на Елену Прекрасную. Да, вы страстно желаете обладать ею, но, если вы от нее не откажетесь, она погубит ваш город.
И напоследок потенциально самое полезное для повышения убедительности публичных выступлений наблюдение Аристотеля: эффективная речь не так уж сильно отличается от эффективного письма. «В общем и целом все написанное вами должно легко читаться или, что по сути то же самое, легко произноситься». Да, во времена Аристотеля чтение про себя были, скорее, исключением, чем правилом. Большинство читали вслух – сегодня так читают только дети. Но это не умаляет ценности его рекомендации. Если фраза «не ложится на язык», она не сохранится и в сознании читателя. И здесь очень важно найти оптимальную длину. Слишком короткая фраза, по мнению Аристотеля, звучит резко – предложение из двух слов вполне работает, но только если этот прием встречается раз-другой за всю речь или текст. Слишком длинные предложения еще хуже, поскольку тогда адресат теряет нить. С таким же успехом можно просто промолчать. Поэтому, когда составите свой отклик на вакансию, обязательно прочтите его вслух, прежде чем отсылать. Не исключено, что кто-нибудь из комиссии решит процитировать или зачитать фрагмент из вашего текста остальным или (что гораздо хуже) вам самим.
Глава 5 Самопознание
Даже у тех, кто вполне доволен и работой, и личной жизнью, рано или поздно возникает ощущение, что они способны на большее. Человек, который переживает нелегкие времена – развод, например, – или враждует с кем-то, может испытывать угрызения совести и пытаться понять, насколько в действительности велика его доля вины. У многих нравственная ответственность повышается с появлением детей, поскольку родительство и эгоизм – понятия плохо совместимые. Бывает, что мы начинаем работать над собой, взяв за образец кого-то из знакомых, умеющих делать мир лучше. Аристотелевские категории порока и добродетели служат самопознанию, позволяя человеку обнаруживать в себе слабые и сильные стороны. Оценив самих себя, чтобы затем предпринять необходимые действия, умножить добродетели и минимизировать пороки, мы способствуем не только счастью окружающих, но и собственному.
Самые пространные рекомендации Аристотеля касаются хороших качеств, которые воспитывает в себе счастливый человек, – то есть добродетелей – и коррелирующих с ними изъянов. Взаимосвязь между счастьем и этими ценными качествами – ключевая составляющая всего аристотелевского этического учения. Как уже отмечалось выше, для Аристотеля самоочевидно, что человек, лишенный фундаментальных добродетелей, счастливым быть не может: «Ведь никто не назовет идеально счастливым того, кто не имеет ни капли мужества, самообладания, достоинства, здравого смысла, кто боится даже мухи, но ни перед чем не остановится, чтобы насытить свои аппетиты, и губит близких друзей за грош».
Аристотель считал, что для благополучия человеку необходимы справедливость, мужество и самообладание – те самые качества, в связи с которыми в философии его учение стали называть «этикой добродетели». Термины, которые он использовал для обозначения «хороших» (aretai) и «дурных» (kakiai) свойств, в древнегреческом – самые обычные повседневные слова, без какой бы то ни было этической нагрузки. У нас же, превращаясь в традиционном переводе в «добродетели» и «пороки», они обретают несколько отталкивающий оттенок: «добродетель» ассоциируется с чопорностью, а «порок» – с наркопритонами и проституцией, тогда как греческое kakiai ничего такого в себе не несет.
Собственно, и само название – «этика добродетели» – звучит довольно громко и высокопарно. Но ведь совсем не обязательно говорить себе, что вы «упражняетесь в справедливости», достаточно просто принять решение обращаться со всеми по совести, выполнять свои обязанности и помогать другим – и себе – реализовать потенциал. Не обязательно «воспитывать мужество», просто стремитесь осознать свои страхи и постепенно избавляться от них. Вместо того чтобы давать обет «самообладания», лучше отыскать «золотую середину» в виде оптимального отклика на сильные эмоции и страстные желания и ответного поведения в межличностном взаимодействии (именно в этом и заключается аристотелевское «самообладание»).
Рассуждения Аристотеля о добродетелях и их порочных противоположностях в «Евдемовой этике» и «Никомаховой этике» складываются в полноценное практическое руководство по вопросам нравственности. «Добродетели» или «пути к счастью» – это не столько черты характера, сколько привычки. Со временем, после многократного повторения, они отрабатываются до автоматизма, как навык езды на велосипеде, и поэтому (по крайней мере на сторонний взгляд) кажутся постоянным свойством (hexis) личности. Процесс этот длится всю жизнь, но многие добиваются значительных успехов к среднему возрасту, когда самые дикие страсти проще обуздать. Совершенствоваться в нравственном отношении способен – при желании – практически любой. Как утверждает Аристотель, мы не камни, которые по природе своей всегда падают вниз и которые нельзя «приучить» подниматься вверх, сколько ни подбрасывай. Он считает добродетель умением, которое можно освоить – как игру на арфе или зодчество. Если играете вы фальшиво, постройки ваши разваливаются, но вы ничего не предпринимаете, чтобы учиться и совершенствоваться, вас будут заслуженно считать неумехой. «Так обстоит дело и с добродетелями, – утверждает Аристотель, – ведь совершая поступки при взаимном обмене между людьми, одни из нас становятся людьми правосудными, а другие – неправосудными; совершая же поступки среди опасностей и приучаясь к страху или к отваге, одни становятся мужественными, а другие – трусливыми. То же относится и к влечению, и к гневу: одни становятся благоразумными и ровными, другие – распущенными и гневливыми».
Проще всего, наверное, разобрать это на примере смелости. У многих из нас есть фобии и страхи, которые мы преодолеваем посредством регулярного столкновения с пугающим явлением, то есть набираясь опыта. В детстве на меня кинулась собака, и с тех пор я много лет всеми правдами и неправдами старалась обходить их десятой дорогой. Аристотель посоветовал бы не мучить себя так. Мой страх, как и у человека из его примера, патологически боявшегося хорьков, проистекал из психологической травмы. Но травма – это болезнь, а значит, от нее можно излечиться. И только когда муж уговорил меня взять щенка и я (поначалу неохотно) стала возиться с Финли, спустя пару лет я уже могла почти спокойно общаться практически с любой собакой (хотя по-прежнему против того, чтобы подпускать их к маленьким детям). А вот пример более сложный: один мой знакомый своими руками рушил все отношения с женщинами, потому что месяцами копил недовольство и терпел, а потом вдруг взрывался и уходил совсем, или женщина бросала его первой, чувствуя фальшь. И только на четвертом десятке, приучив себя не притворяться перед матерью своих детей, он получил возможность обсуждать проблемы по мере поступления, а не месяцы спустя, когда уже сложно что-то исправить.
Человек от природы обладает не умениями, на которые опираются аристотелевские добродетели, подразумевающие сочетание разума, эмоций и социального взаимодействия, а потенциалом для их развития. Сочинения, составляющие «этику добродетели», можно рассматривать как запись бесед, которые Аристотель вел на прогулках с воспитанниками – и с Александром в Македонии, и позже с учениками своего собственного Ликея в Афинах – о том, как быть человеком добропорядочным и достойным. И хотя его нравственная философия годится для любого из нас, иногда рассуждения явно адресованы определенной категории учеников философа – как правило (и, видимо, неизбежно), мужчинам, знатным и готовящимся в перспективе занять высокий пост. Местами это выглядит комично, например когда Аристотель говорит о «почетных затратах», которые вменялись в обязанность богатому жителю определенных полисов: большинству из нас вряд ли придется «блистательно снаряжать хор или триеру или устраивать пир для всего города». Но смысл в том, что даже эта «золотая молодежь» не освобождена от необходимости стремиться воспитать в себе все добродетели. Преуспевший заслуживает у Аристотеля высочайшего одобрения – права называться «великодушным»[19], то есть обладателем великой души (megalopsychos). Мы отчетливо слышим голос Аристотеля, когда он рассказывает своим воспитанникам, румяным македонским юношам, как держит себя подобный человек: «В движениях неспешен, голос у него глубокий, а речь уверенная», поскольку крикливость и поспешность присущи натуре нервной и возбудимой.
Путь к счастью лежит через решение стать человеком великой души. Для этого не обязательно располагать средствами для снаряжения триеры, не обязательно двигаться плавно и разговаривать глубоким голосом. Величие души, душевное состояние по-настоящему счастливого человека, – это свойство того самого типа личности, к которому мы все, по сути, желаем принадлежать. Такой человек не играет с огнем, чтобы пощекотать себе нервы, но готов, если придется, отдать жизнь за то, что по-настоящему важно. Он предпочитает помогать другим, а не просить помощи. Он не заискивает перед богатыми и могущественными и всегда учтив с простыми людьми. Он «открыт в любви и ненависти», потому что истинные чувства скрывает лишь тот, кто боится осуждения. Он избегает сплетен, поскольку обычно это злословие. Он редко осуждает других, даже врагов (кроме как в подобающей обстановке, например на судебном заседании), но и дифирамбов от него не дождешься. Иными словами, величие души подразумевает скромную отвагу, самодостаточность, отсутствие подхалимства, учтивость, сдержанность и беспристрастность – воплотить подобную ролевую модель искренне и убежденно под силу каждому из нас. Она не становится менее воодушевляющей от того, что была создана более двадцати трех столетий назад.
Следующий шаг – провести самоанализ и примерить на себя все описанные у Аристотеля слабые и сильные качества. Их перечень дает пищу для размышления любому, кто умеет быть честным с самим собой. Как гласила надпись, высеченная на храме Аполлона: «Познай себя». Эту максиму любил цитировать и Сократ, учитель Платона. Если же вы не «знаете себя» или не готовы признать за собой, например, прижимистость или любовь к сплетням, дальше можете не читать. В рамках аристотелевской этики говорить себе горькую правду необходимо, это не осуждение, это осознание недостатков, над которыми можно работать. Смысл не в том, чтобы заклеймить себя и возненавидеть или впасть в самобичевание.
Аристотель считает практически любые свойства характера и эмоции приемлемыми (и даже необходимыми для душевного здоровья), при условии что они представлены в меру. Эту меру он называет «серединой», meson. Сам Аристотель никогда не говорил о ней как о «золотой», этот эпитет добавился, лишь когда его философский принцип здоровой «середины» в чертах характера и стремлениях стал ассоциироваться со строками из «Од» древнеримского поэта Горация (2.10): «Тот, кто золотой середине [aurea mediocritas] верен, / Мудро избежит и убогой кровли, / И того, в других что питает зависть, – / Дивных чертогов». Будем ли мы называть эту «середину между избытком и недостатком» золотой, на самом деле не имеет никакого значения.
Половое влечение (учитывая, что человек все-таки животное) – хорошее свойство, если знать меру. Как избыток, так и недостаток страстности сильно мешает счастью. Злость – неотъемлемая составляющая здоровой психики; у человека, который никогда не сердится, нет гарантии, что он поступает правильно, а значит, снижается вероятность достичь счастья. Однако чрезмерная злость уже недостаток, то есть порок. Так что главное – мера и уместность. Хотя еще одно изречение со стен дельфийского храма – «Ничего сверх меры» – не принадлежит Аристотелю, он первым из мыслителей разработал нравственное учение, позволяющее жить в соответствии с этим принципом.
Одно из самых скользких мест в этике – клубок вопросов, касающихся зависти, злости, мстительности. Все эти качества играют центральную роль в сюжете «Илиады» – любимой книги Александра Македонского. Он брал ее с собой во все походы и подолгу обсуждал со своим наставником Аристотелем. В этой эпической поэме занимающий ключевое положение в стане греков царь Агамемнон завидует Ахиллу как величайшему греческому воину. Агамемнон публично унижает Ахилла и отнимает у него любимую наложницу Брисеиду. Ахилл в ярости, и, когда троянец Гектор убивает в битве его лучшего друга Патрокла, гнев только усиливается. Чтобы унять этот гнев, Агамемнону приходится вернуть Ахиллу Брисеиду и дарами компенсировать унижение. Жажду мести Гектору Ахилл утоляет, убив того в поединке и надругавшись над телом, а заодно предает смерти 12 ни в чем не повинных троянских юношей, принося их в жертву на погребальном костре Патрокла. Это уже перебор.
Три перечисленные темные страсти – зависть, гнев и месть – Аристотель описывает очень точно. Самому ему завидовали и при жизни, и после смерти. Когда в 348 г. до н. э. скончался Платон, руководство Академией перешло отнюдь не к Аристотелю, который отдал ей 20 лет и был, бесспорно, лучшим философом своего поколения. Остальные академики меркли рядом с этим блестящим умом, поэтому предпочли видеть во главе Академии невзрачную посредственность по имени Спевсипп. Позже они завидовали восторгам и заботе, которой окружали Аристотеля (без всякого низкопоклонства с его стороны) правители Македонии и Ассоса в Малой Азии, где он преподавал в течение двух лет. Как впоследствии выразился один последователь Аристотеля, писавший историю философии, этот великий человек внушал огромную зависть одной только «дружбой с царями и абсолютным превосходством своих сочинений». Греки не стеснялись выражать эмоции, которые сегодня вызывают осуждение. В христианской морали не всем удается найти способы справиться с аристотелевскими пороками. Зависть, например, – это смертный грех, а получив незаслуженное оскорбление, истинный христианин должен «подставить другую щеку» вместо того, чтобы дать отпор обидчику. Но даже если зависть и не главное наше качество, совсем избежать ее не удастся.
Нет такого человека, который хотя бы раз не позавидовал кому-то, кто богаче, красивее, удачливее в любви. Если вы отчаянно стремитесь к чему-то и никак не можете добиться этого собственными силами – вылечиться, родить ребенка, завоевать признание и славу в своей профессиональной области, – может быть мучительно больно наблюдать, как это удается другим. Психоаналитик Мелани Кляйн считала зависть одной из главных движущих сил в нашей жизни, особенно в отношениях между братьями и сестрами или равными нам по социальному положению. Мы невольно завидуем тем, кому повезло больше, чем нам. И в каком-то смысле такая реакция полезна, поскольку побуждает нас устранять несправедливость. В профессиональной сфере это может вылиться в агитацию за гендерное равенство в оплате труда. Политическое выражение эта реакция может найти в борьбе с общественным строем, допускающим чрезмерный разрыв между богатыми и бедными.
Но зависть к прирожденным талантам – таким, например, как блестящий ум Аристотеля, – только мешает счастью. Она деформирует личность и может перерасти в навязчивую идею. Бывает, что завистник начинает преследовать и изводить объект своей зависти – в современном мире нередко путем кибератак или травли в интернете. В самом страшном случае, если завистнику удастся зарубить карьеру преследуемому, он лишит его гениальных творений все общество.
К чему приводит такая «токсичная» зависть, прекрасно показано в пьесе Питера Шеффера «Амадей» (1979), на основе которой в 1984 г. был снят завоевавший множество «Оскаров» одноименный фильм Милоша Формана. Заурядный композитор Сальери одержим завистью к своему более молодому сопернику Моцарту, с легкостью сочиняющему шедевры. Он всеми силами пытается помешать взлету гениального композитора, очерняя его перед императором, и замышляет присвоить непревзойденный моцартовский «Реквием». На смертном одре Сальери признается, что отравил Моцарта. Тем самым он не только помешал Моцарту дописать «Реквием», но и, оборвав жизнь гения в 35 лет, лишил мир десятков будущих шедевров.
Хотя убийственная зависть Сальери – вымысел (на самом деле он, судя по всему, близко дружил с Моцартом и даже заботился о его осиротевшем сыне), международный успех фильма свидетельствует, насколько близко и понятно разным культурам явление зависти как одержимости. Сам Шеффер взял идею пьесы из «Маленьких трагедий» Пушкина, написанных в 1832 г. У Пушкина Сальери заявляет о своей черной зависти с убийственной прямотой: «А ныне – сам скажу – я ныне / Завистник. Я завидую; глубоко, / Мучительно завидую». Он просто не в силах принять естественную несправедливость человеческого общества, в котором одни рождаются более способными или талантливыми, чем другие:
Где ж правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений – не в награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, молений послан – А озаряет голову безумца, Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!Аристотель рекомендует определить, чему именно вы завидуете – незаслуженно доставшейся кому-то доле социальных благ или природной одаренности. В первом случае зависть может побудить вас бороться за равенство и справедливость, во втором же случае стоит задуматься, чем чужие прирожденные таланты обогащают вашу собственную жизнь. Если бы главой Академии избрали Аристотеля, он вывел бы ее на высочайший уровень – а так он ушел и со временем основал в Афинах конкурирующее учебное заведение, свой Ликей. Сами академики, сегодня малоизвестные, получили бы возможность погреться в лучах аристотелевской славы и тем самым упрочить свою. Возможно, они, как философы, научились бы в конце концов извлекать пользу из общения с ним, а не таить обиды.
Не меньше, чем зависть, Аристотеля занимает гнев. «Середина» здесь – спокойствие, мягкость, доброта. Для чрезмерной незлобивости в греческом языке отдельного слова нет, уточняет Аристотель, предлагая обозначить это свойство неким условным термином «безгневность» – мы же можем называть его индифферентностью или вялостью. Отсутствие гнева – недостаток, поскольку «те, у кого не вызывает гнева то, что следует, считаются глупцами, как и те, кого гнев охватывает не так, как следует, не тогда и не на тех, на кого следует». Если вы не различаете оскорбление, не обижаетесь, никогда не сердитесь – ни за себя, ни за друзей и близких, – это признак сбоя в нравственных настройках. Вас сочтут лишенным самоуважения, неспособным ни за что постоять. Гнев, утверждает Аристотель, бывает праведным и оправданным.
Поводам для гнева несть числа, и уж конечно, в древнегреческой литературе найдутся сотни примеров – от гнева Медеи на супруга-изменника до гнева могучего воина Аякса, не получившего после гибели Ахилла его прославленное оружие. Но если вы подвержены частым неконтролируемым вспышкам гнева, вас заслуженно будут считать вспыльчивым. Вспыльчивый человек обращает свой гнев не на тех (родитель вымещает на детях недовольство работой, вместо того чтобы выяснить отношения с начальством), сердится не из-за того (муж одной моей соседки не разговаривал с ней две недели, когда во время семейного сбора на праздники она случайно заперла ключи от взятого напрокат автомобиля в салоне). Гневливый человек впадает в неоправданно сильную ярость, заводится с пол-оборота, обижается и держит зло даже после того, как перед ним извинятся и загладят вину. Самой трудной Аристотель считает последнюю категорию. Лучше всего, когда человек «не сдерживает гнева, а благодаря своей резкости открыто платит за обиду и затем успокаивается», тогда как людям желчным, злопамятным, угрюмым приходится тяжко, поскольку «гнев у них долго не стихает, ведь они сдерживают ярость». Если вы копите злость в себе, «то действуете под влиянием обиды», и, поскольку злость ваша скрыта, никто вас не утешает, «а чтобы самому переварить гнев, нужно время. Такие люди очень докучают и себе, и своим близким». Поэтому постарайтесь не скрывать свой гнев ни от себя, ни от виновника, выясните отношения и живите дальше. Многим это дается с трудом, и открыто говорить о своих чувствах они начинают лишь к среднему возрасту. Но Аристотель знает, как трудно бывает справиться с гневом, когда стремишься к прекрасной жизни: «Не просто определить, как, против кого, по какому поводу и какой срок следует испытывать гнев, а также до какого предела поступают правильно» и где начинаются ошибки.
В ходе самоанализа я пришла к выводу, что, хотя злость и зависть мне чужды, я по натуре мстительна. За последние несколько лет я научилась справляться с этим точно по цитате из Аристотеля, приведенной у Дороти Паркер: «Самая лучшая месть – это жить счастливо». Возвысьтесь над завистью и злобой и будьте счастливы! Не обращайте внимания на злопыхателей; если вы делаете все как нужно, критика обычно возникает не из лучших побуждений. Человек по-настоящему великой души достигает умиротворения, «он не злопамятен: величавому вообще не свойственно кому-то что-то припоминать, особенно когда речь идет о причиненном ему зле, скорее, ему свойственно не замечать этого». С другой стороны, Аристотель все-таки считает, что существуют допустимые обстоятельства не только для мстительных чувств вроде гнева, но и для мести как действия. Как и следовало ожидать от человека, который достаточно долго проникался политической атмосферой при дворе Филиппа Македонского, о мести Аристотель имеет самые глубокие, объективные – и полезные – представления. В Четвертой книге «Никомаховой этики» он доказывает даже, что мстительные чувства могут быть праведными и рациональными.
Аристотель не отрицает, что месть может приносить наслаждение. Он осознает, что месть – это зачастую способ защитить достоинство или восстановить репутацию. Одна моя близкая подруга постаралась, чтобы на корпоративной вечеринке ее новое платье и красавца кавалера заметили все и бывший муж, от которого она натерпелась при разводе, пожалел о потере. Она говорит, что это был один из лучших моментов ее жизни, ей стало легче двигаться дальше и искать счастья в новых отношениях. Однако Аристотель полагает, что жажда мести может быть праведной и тем самым вести к счастью лишь в том случае, если она способна исправить положение дел. Отомстив обидчику, мы защищаем себя от подобных действий с его стороны в дальнейшем.
Разумеется, здесь мы должны считаться с законом. В случае серьезных правонарушений (таких, как клевета, кража, оскорбление словесное или физическое, изнасилование, убийство) закономерное желание отомстить, которое возникает у жертвы и ее близких, удовлетворяется тем, что преступника карают по закону. Именно эта идея лежит в основе кампаний за права жертв преступлений и (в Штатах) за право родственников убитых требовать смертной казни для преступника. Но Аристотеля интересуют более мелкие проступки, которые, хоть и не дают повода для заявления в полицию, представляют собой очевидное зло.
В Книге второй «Риторики» Аристотель определяет праведный мстительный гнев как «соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому, что представляется наказанием за то, что представляется пренебрежением или к нам самим», или к нашим близким. Обидчиком, без всяких на то оснований оскорбляющим вас или ваших друзей, как правило, движет зависть (как провокаторами в интернете, травящими знаменитостей – богатых, красивых и преуспевающих). Оказавшись объектом такого публичного «пренебрежения», вы вправе желать публичного же возмездия.
Что подразумевает Аристотель под пренебрежением? «Видов пренебрежения три, – пишет он, – презрение, самодурство и оскорбление». Первое прекрасно знакомо всем, кто хотя бы раз сталкивался с любителями «потроллить» и обесценить предмет беседы клоунадой. У Аристотеля это «те, кто иронизирует, когда мы говорим серьезно». Великолепно иллюстрирует эту идею фильм Патриса Леконта «Насмешка» (Ridicule, 1996), в котором французские аристократы упражняются в остроумии в ответ на мольбы местных крестьян осушить болота, из-за которых чахнут и болеют крестьянские дети. Одна моя знакомая университетская преподавательница пожаловалась в отдел кадров на коллегу, который постоянно отпускал шовинистские шуточки о женщинах, которые не способны сами открыть дверь. Когда его заставили объясниться, он обвинил преподавательницу в том, что она «шуток не понимает». Презрение может проявляться и в том, что некто, «благотворя другим, не благотворит нам, потому что не удостаивать человека тем, чем удостаиваешь других, значит презирать его». К этой категории относится дискриминация, травля, преследование. Любой родитель, у которого ребенка травили в школе, сочтет злость на обидчиков в подобных обстоятельствах абсолютно оправданной, как и желание переломить ситуацию.
Второй вид пренебрежения, по аристотелевской классификации, – самодурство, то есть «препятствие желаниям другого», но не для того, чтобы получить что-то самому, а исключительно чтобы насолить своей жертве. В университетских кругах такое происходит сплошь и рядом. Некоторые из кожи вон лезут, вставляя палки в колеса кому-нибудь ненавистному, даже не являясь его соперником. Так, удобной почвой для безнаказанного самодурства выступает практика «слепого рецензирования», в рамках которой ученые пишут анонимные рецензии на чужие работы. Разгромная рецензия может подпортить кому-то карьеру, особенно если в результате статью не допустят к публикации. В таких рецензиях критика слишком часто оказывается совершенно необоснованной, тем более что система не требует от критикующего самодура подкреплять свое мнение.
В личной жизни самодурством страдают особы, напоминающие Джолин из одноименной песни Долли Партон. Текст этой песни написан от лица женщины, которая умоляет красавицу Джолин не уводить у нее возлюбленного «просто потому, что можешь». Одной моей знакомой досталась в соседки по арендуемому жилью шикарная дама, которая регулярно соблазняла чужих мужей – не потому, что они были ей нужны или она хотела их увести насовсем, а потому, что ненавидела свою мать и отыгрывалась на совершенно посторонних замужних женщинах.
Третья и последняя разновидность пренебрежения у Аристотеля – оскорбление, заключающееся в том, чтобы «делать и говорить вещи, которые порочат того, к кому обращены, но при этом не приносят оскорбляющему прямой выгоды и не восполняют урона, а совершаются лишь ради удовольствия как такового». Удовольствие в данном случае возникает от ощущения превосходства над теми, кого оскорбляющий задевает или унижает. Дискредитируя других, поливая их грязью, оскорбляющий самоутверждается. Аристотель демонстрирует поразительное знание психологии, объясняя, что потребность постоянно критиковать других обычно испытывает тот, кому не хватает уважения к самому себе.
Учитывая, что пренебрежение может выражаться в виде насмешки, обесценивающей чужое высказывание или идею, возникает вопрос, насколько в принципе совместим юмор со стремлением к самосовершенствованию. Люди в большинстве своем любят смеяться и смешить других. Юмор выручает в самых разных обстоятельствах, помогает переносить невзгоды, разряжает обстановку, помогает преодолеть политические разногласия. Может быть, человеку, воспитывающему в себе добродетель, стоит применять такое прекрасное средство везде и всюду, без ограничений? Все зависит от намерения. Те, кто пытается хохмить над всем подряд, пренебрегают ради веселья «границами приличий» и не постыдятся «причинить боль объекту насмешки». Другая крайность – люди без чувства юмора, органически неспособные кого-то развеселить «и потому по праву считающиеся ворчунами, бирюками и брюзгами». Золотая середина здесь – умение шутить так, чтобы никого не задеть и не оскорбить. Подобный непринужденный юмор, говорит Аристотель, не кажется нарочитым, он выглядит естественным порождением добродушия.
Универсальное правило одно: отпускайте только такие шутки, которые не задели бы вас самих, прозвучи они в ваш адрес или в вашем присутствии. Представьте себе молодую женщину из глубоко верующей христианской семьи – над ее феминистскими взглядами подтрунивают все родные, тогда как отцовские религиозные убеждения священны. Шутить над ними – себе дороже. В шутках очень важно помнить, какой монетой вам могут отплатить. Или, как говорила более добрая из двух водных фей в сказке Чарльза Кингсли «Дети вод»[20] (1863), «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».
В Книге второй «Евдемовой этики» Аристотель сводит разные черты характера в четкую и наглядную таблицу. Для каждой черты он указывает «добродетель», то есть допустимую, «серединную» меру данного качества, и два порока – либо избыток этого же свойства, либо недостаток. Может быть, он даже давал эту таблицу юному Александру и другим воспитанникам в Миезе (школе, которую Филипп построил для Аристотеля в прекрасной македонской долине) в качестве своеобразного психологического теста. Вы тоже можете воспользоваться ею для анализа – сами или с другом, которому доверяете и который сможет оценить вас честно, без подхалимажа и критиканства.
Наиболее эмоционально и ярко из всех добродетелей Аристотель описывает щедрость. Соответствующие ей пороки – это расточительность, с одной стороны, и скупость – с другой. И мне, и моим родным не составляет труда определить, куда кренюсь в этом отношении лично я. Меня часто называют «слишком щедрой», «щедрой в ущерб себе», то есть по аристотелевской классификации я человек расточительный, не умеющий рационально распоряжаться деньгами и жить по средствам. Транжирство ставит под угрозу не только вашу личную финансовую состоятельность и самодостаточность, но и способность позаботиться о тех, кто находится на вашем иждивении. Наверное, святой Франциск Ассизский поступил благородно, отдав бродяге свой единственный плащ, но сам он после этого простудился и заболел, рискуя больше никому и ничем не помочь.
Самый известный пример такой «самоубийственной щедрости» – главный персонаж одной из поздних пьес Шекспира «Тимон Афинский», в основу которой лег древнегреческий сюжет, наверняка знакомый Аристотелю. Щедрость богатого и знатного афинянина Тимона не знает границ: он вызволяет друзей из тюрьмы, выплачивая их долги, помогает бедняку посвататься к богатой возлюбленной, устраивает роскошные пиры полностью за свой счет. Это расточительство неизбежно приводит к разорению. Разочаровавшись в так называемых «друзьях», которые отказали ему в помощи, когда он сам оказался на мели, он превращается в человеконенавистника и удаляется от людей в пещеру. В пьесе очень четко показано, что беда не в щедрости как таковой – это свойство благородное, исполненное альтруизма, – а в том, что ею с легкостью пользуются фальшивые друзья, от которых не стоит ждать ответной поддержки в случае нужды.
Судя по тому, как метко и точно Аристотель пишет о скупости, он вполне мог писать портрет скряги с кого-то ему знакомого. Может быть, его отец Никомах, даром что принадлежал к зажиточному среднему сословию Стагиры, давал юному Аристотелю вчетверо меньше денег, чем перепадало его сверстникам? Или Филипп II, любитель заказывать прекрасные статуи и закатывать грандиозные пиры, удерживал жалованье придворным? Аристотель не скупится на красочные – и уничижительные – эпитеты для древнегреческих «собратьев» диккенсоновского Скруджа: pheidolos (скряга), glischros (скопидом – тот, кто никогда ничего не выпустит из рук), kimbix (крохобор). Но самая образная характеристика в этом перечне – kuminopristes, что в дословном переводе означает «тот, кто даже зернышко тмина режет пополам». Вспоминаются анекдотичные скряги, которые высушивают чайные пакетики, чтобы потом использовать еще раз. Кто был у Аристотеля реальным прототипом «тминореза», мы, наверное, никогда не узнаем, но взгляд с разных точек зрения на такую добродетель, как щедрость, не теряет актуальности и сейчас.
Обладателям большого богатства необходимо учитывать и политический аспект. Аристотель не видит в богатстве ничего особенного. Это просто средство, которое можно использовать, как и любые другие имеющиеся у нас средства, – причем использовать как во зло, так и во благо. Аристотель со всей определенностью утверждает, что использование богатства во благо подразумевает щедрость. Богачи, которые не пытаются помочь нуждающимся, никогда не придут к счастью, поскольку руководствуются пороком скупости, а не добродетелью щедрости. Щедрый человек старается «оделить того, кого следует», причем вовремя, и этот вопрос заботит его больше, чем накопление богатства. Аристотель уточняет, что богатство у добродетельного человека должно иметь гарантированно честное происхождение, но, поскольку щедрый человек не гонится за богатством как таковым, вряд ли он будет добывать его бесчестным или преступным путем. Щедрый человек обычно не просит одолжения у других, поскольку «делающему добро не свойственно с легкостью принимать благодеяния».
Щедрость, говорит Аристотель, определяется исходя из средств, которыми человек располагает. Мы оцениваем щедрость дара не по его фактической стоимости, а с учетом намерений и характера дающего. Щедрый человек хорошо представляет, сколько у него есть и какую долю имеющегося он может позволить себе отдать, чтобы не ущемить ни себя самого, ни своих иждивенцев. За несколько столетий до библейской притчи о лепте вдовицы, приведенной в Евангелиях от Марка и Луки, Аристотель дает свою философскую интерпретацию: «Ничто поэтому не мешает, чтобы более щедрым оказался тот, кто дает меньше, если он дает из меньшего состояния».
Принцип, согласно которому удовольствие может быть добродетельным, принимает интересную форму применительно к щедрости. Щедрому человеку, проявляющему щедрость по отношению к тем, кому следует и когда следует, «это доставляет удовольствие или по меньшей мере не приносит страданий». Если человек дает деньги из других побуждений (ради власти над облагодетельствованным или в рамках эмоционального шантажа), это, разумеется, уже не щедрость. Не считается щедрым и тот, кому расставаться с деньгами мучительно больно. Такой человек предпочтет никому ничего не давать, если решит, что его скупость останется незамеченной. Тем не менее Аристотель подчеркивает, что по-настоящему щедрый человек «грешит» неразумным расточительством в раздаче своих средств, «преступая меру в даянии и оставляя себе меньше, чем следует», поскольку «не принимать себя в расчет – свойство щедрого».
Размышляя о скупости, Аристотель задумывается и о ее причинах. «Более щедрыми, видимо, бывают те, кто не сами нажили состояние, а получили его по наследству: во-первых, они не испытывали нужды». Здесь я, пожалуй, не могу согласиться с Аристотелем. Я видела и успешных бизнесменов в первом поколении, которые ни пенса лишнего не оставят себе, отдавая все на благотворительность, и патологических скупердяев, с рождения обладавших внушительным трастовым фондом. Но ход рассуждений у Аристотеля интересный. Он считает, что переживший бедность становится более прижимистым (в отличие от ряда других древнегреческих философов, полагавших, что аскеза способствует духовному совершенству, Аристотель о бедности отзывался неодобрительно). Возможно, подобную аскетическую клику он и подразумевает, утверждая, что щедрому человеку нелегко оставаться богатым, поскольку он не склонен к приобретению и бережливости, «при том расточителен и ценит имущество не ради него самого, а ради даяния. Отсюда и жалобы на судьбу, что-де наиболее достойные богатства менее всего богаты. Вполне понятно, что происходит именно это: как и в других случаях, невозможно обладать имуществом, не прилагая стараний к тому, чтобы его иметь». Кроме того, по его мнению, те, кто заработал состояние собственным трудом, склонны к прижимистости, поскольку «все сильнее привязаны к своим творениям, как, например, родители к детям и поэты к стихам».
Аристотель уверен, что лучше грешить мотовством (излишней щедростью), поскольку этот порок «легко лечится возрастом или бедностью». Мота, который слишком много тратит на других, можно приучить отдавать деньги «сообразно состоянию». Чрезмерно щедрый человек «не испорченный и низкий, а просто глупый». Скупой же не способен облагодетельствовать никого, даже себя, поскольку перевоспитать его и приучить к щедрости невозможно. Он никогда не обретет прекрасной жизни и истинного счастья. Аристотель с сожалением отмечает, что большинство людей «скорее стяжатели, чем раздаватели», а кроме того, скупость имеет много разновидностей.
Одни становятся скупыми к старости или по причине немощи – это простительно. Другие бессовестны и беспринципны настолько, что готовы «брать откуда угодно и что угодно, как, например, те, чье ремесло недостойно свободных: содержатели публичных домов и все им подобные, а также ростовщики, дающие малую ссуду за большую лихву». Аристотель, наверное, одним из первых ополчился бы на подпольных ростовщиков и кредитные карты, которые побуждают людей жить не по средствам и копить долги, которые затем приходится выплачивать с грабительскими процентами.
Третьи пытаются нагрести себе златые горы – Аристотель приводит в пример «тиранов, разоряющих государства, и грабителей, опустошающих святилища». Филипп II, несомненно, успел разорить и награбить немало к тому времени, когда Аристотель прибыл в Македонию воспитывать Александра, однако македонский царь обычно старался поддерживать хотя бы видимость благочестия и не опускаться до святотатства. Тем не менее мы бы узнали много интересного, если бы прошлись по царской школе в Миезе, когда Аристотель рассказывал Александру, что такие правители не просто алчны, а нечестивы. Он отказывается ставить их в один ряд с мелкими преступниками – «игроком в кости, вором, разбойником», – которые тоже несомненно алчны. Им всем «присущи позорные способы наживы», и все они «терпят порицание ради наживы». Аристотель осуждает игрока в кости даже сильнее, чем разбойника, – тот по крайней мере крадет у чужих и незнакомых, тогда как игрок «обогащается за счет собственных друзей вместо того, чтобы им помогать». Друзья нужны не для того, чтобы на них наживаться. Если вы обираете их, даже в игре, все они очень скоро от вас отвернутся.
Свойством характера, труднее всего поддающимся исправлению, Аристотель считает честолюбие. Собственно, вероятность подвергнуться критике по поводу честолюбия существует всегда: уж очень это неоднозначная черта. В одном человеке одобряют амбициозность, в другом – ее отсутствие, «честолюбивого мы хвалим за то, что он действительно муж и любит прекрасное, а нечестолюбивого – за умеренность и благоразумие». В других случаях за чрезмерную амбициозность или ее нехватку, наоборот, ругают: «Мы ведь осуждаем честолюбивого за то, что он стремится к чести больше, чем должно, и к чести не из должного источника, нечестолюбивого – за то, что он не собирается принимать почести даже за прекрасные дела». Под честолюбием Аристотель подразумевает жажду славы и почестей, а не понимаемое в более широком смысле и одобряемое желание раскрыть свой потенциал ради саморазвития как такового. Желание реализовать потенциал, развить врожденный талант во всей полноте, добиться личных высот в игре на скрипке, в футболе, воспитании детей, садоводстве, в науке можно только приветствовать и поощрять. Лишь злопыхатель, которого гложет иррациональная зависть, будет возмущаться чужим стремлением к успеху.
Тонкость здесь в том, чтобы правильно оценивать свое желание почета и наград. В нашем обществе принято превозносить преуспевших, награждать, возводить на пьедесталы. У нас есть литературные премии и Нобелевская, «Оскар», спортивные состязания, рыцарский титул, обложка журнала Time – удостоившийся чего-то подобного имеет полное право ликовать и гордиться собой. Хуже, когда желание добиться совершенства вытесняется жаждой славы ради славы. Дойти до такого несложно. Слава кружит голову и вызывает зависимость – особенно в политике, где к ней прилагается власть. Древние греки хорошо это знали: в любимой пьесе Аристотеля «Царь Эдип» Софокл рисует образ правителя, который когда-то заботился о благе своего народа, но затем все затмило ощущение могущества и желание прослыть самым мудрым и умелым правителем в мире. Один из самых ярких примеров в современной культуре – Вилли Старк, отрицательный герой отмеченного Пулитцеровской премией романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать»[21] (1946), по которому было снято два прекрасных фильма – в 1949 и 2006 гг.
На пост губернатора одного из южных штатов США приходит Старк, самовлюбленный и продажный политик, упивающийся славой защитника «простых людей» и овациями своим пламенным провокационным речам. При этом начинал Вилли как скромный и честный юрист в земледельческом захолустье, но в первых же лучах внезапной славы его скромность растаяла, зато разгорелось желание красоваться на первых страницах газет. Похвальное честолюбие (возглавить сограждан и достойно представлять их интересы) оказалось вытеснено честолюбием пагубным (жаждой славы). В наше время желание стать знаменитостью – «звездой» – распространено даже больше, чем в Древней Греции. Сколько людей, совершенно никакими талантами не обладающих, жаждут – и даже ненадолго достигают – этой славы посредством реалити-шоу, социальных сетей, желтой прессы. Таких однодневок Аристотель, наверное, причислил бы к тем, кто «стремится к чести больше, чем должно, и к чести не из должного источника».
Однако не стоит забывать, что «скромность» можно обратить в плетку и бичевать ею неугодных, особенно женщин, которых во все времена осуждали за честолюбие сильнее, чем мужчин. Недавний пример – попытка Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2016 г. Но вопрос всегда один: не забыл ли честолюбивый человек о своих изначальных целях и не поглотила ли их жажда громкой славы?
Аристотель, безусловно, задает высокую нравственную планку, но при этом с пониманием относится к поискам себя и стремлению держаться «середины». В рассуждения о добродетелях и соответствующих им пороках он вплетает анализ особенно сложных нравственных ситуаций. Так, он довольно категорично утверждает, что человеку, с которым жестоко обращались в детстве, сложно перестроиться. Аристотель цитирует обвиняемого, представшего перед судом за избиение отца. В свою защиту обвиняемый говорит: «Ведь и он бил своего отца, и тот – своего», – и добавляет, указав на собственного ребенка: «И этот побьет меня, когда возмужает, – так уж у нас в роду». Для ребенка, с младенчества росшего в атмосфере насилия (даже если у Аристотеля взрослые сыновья бьют отцов, а не отцы лупят детей), может оказаться невозможным сдерживать себя, когда шаблон повторяется из поколения в поколение. Как прекрасно известно психиатрам, «наследственная» склонность к самоубийству бывает отчасти обусловлена прецедентами, закладывающими установку реагировать попыткой ухода из жизни даже на временные трудности.
Тем не менее, утверждает Аристотель, установку никогда не поздно изменить. Если некий эмоциональный отклик или новые сведения подскажут, что вы оценивали ситуацию неправильно, меняйте свое отношение или действия неважно на каком этапе жизни. Менять представления под воздействием новых данных или эмоциональной реакции наверняка доводилось любому из нас. У одного моего знакомого бизнесмена был протеже, о котором тот сильно заботился. Ему регулярно сообщали, что этот протеже издевается над секретаршей. Поскольку мой знакомый никогда не видел этого молодого человека с подобной стороны, а также потратил на него много времени и сил, несколько месяцев он просто отказывался верить этим обвинениям. И только когда ему переслали компрометирующие письма, с его глаз спала пелена, и бывший протеже вскоре вылетел с должности.
Аристотель знает, как нелегко бывает устоять перед соблазном или горячим желанием, побуждающим свернуть с добродетельного пути. Он не питает иллюзий насчет противостояния эмоциональным порывам и категорически не согласен с Сократом, полагающим, что полнота знаний не позволит человеку пуститься во все тяжкие или совершить проступок. Есть несколько причин, доказывает Аристотель, по которым даже самые ярые приверженцы этики добродетели могут оступиться, поэтому нужно быть снисходительнее к людям. Каждого из нас может обуять страсть, желание, безумие и прочие бурные эмоции, подрывающие самодисциплину и мешающие человеку трезво оценивать ситуацию. Истинный сын врача, Аристотель говорит, что «порывы ярости, любовные влечения и некоторые другие из таких страстей весьма заметно влияют на тело, а у некоторых вызывают даже помешательство». Следовательно, от потерявшего власть над собой не стоит ждать большей «трезвости ума», чем от спящего, душевнобольного или пьяного. Их слова, мысли и поступки не связаны между собой, поэтому «высказывания людей, ведущих невоздержную жизнь, нужно представлять себе подобными речам лицедеев».
Временную и случайную потерю самоконтроля Аристотель оправдывает невыносимым психологическим давлением, вызываемым болью, экстазом или общей обстановкой. В пьесе Феодекта о Филоктете герой, которого укус змеи лишает возможности продолжать путь, кричит от невыносимой боли, и, по мнению Аристотеля, в такой ситуации крик вполне простителен. Если человек вдруг выясняет, как царь Керкион, что его отец спал с его дочерью (то есть собственной внучкой) и та родила от него ребенка, было бы странно НЕ испытать взрыв эмоций. В качестве третьего примера оправданной потери самообладания Аристотель приводит тех, кто безуспешно пытается сдержать рвущийся наружу смех и в результате «разражается взрывом хохота, как случилось с Ксенофантом». Что так рассмешило Ксенофанта, мы, увы, не знаем, но каждому из нас наверняка приходилось бороться с неудержимым смехом в самой неподходящей ситуации. Я лично не смогла сохранить подобающее выражение лица на похоронах одного из родственников мужа, когда приглашенный священник принялся изрекать помпезные банальности.
Даже лучшие из нас не застрахованы от проступков и ошибок, но сожалениями и самобичеванием делу не поможешь. Нужно просто двигаться дальше и не прекращать попыток. Здесь Аристотель приводит пример совершенно для него нехарактерный, учитывая, как резко он осуждает супружескую измену в других своих сочинениях (невольно задаюсь вопросом, неужели он никогда не «желал чужую жену»). Страсть, говорит он, может толкнуть человека на измену, однако этот опрометчивый шаг, совершенный под влиянием аффекта, не превращает прежде верного человека в неисправимого гуляку. Я выработала собственное правило: давать оступившимся под воздействием порыва второй шанс, но не третий. Можно продолжать отношения с человеком, который ошибся, но все осознал и больше такого не повторит, а вот того, кто снова заставляет вас страдать по той же причине, уже ничто не исправит.
Этика добродетели настолько многогранна и глубока, что изучать ее действительно можно всю жизнь. Аристотель признает, что искать идеальный баланс в своих действиях бывает нелегко. Экстремальные реакции выдавать проще, чем взвешенные. В Книге второй «Никомаховой этики» Аристотель проводит аналогию с геометрией: «Трудное это дело – быть добропорядочным, ведь найти середину в каждом отдельном случае – дело трудное, как и середину круга не всякий определит». Придется продумывать, какой отклик будет приемлемым, «серединным» для той или иной ситуации, а затем тренироваться поступать соответственно – как школьник учится находить центр круга или длину гипотенузы. Развивая эту мысль, Аристотель иллюстрирует ее примером из другой области: «Точно так и гневаться для всякого доступно, так же, как и просто раздать и растратить деньги, а вот тратить на то, что нужно, столько, сколько нужно, когда, ради того и как следует, способен не всякий, и это не просто».
Аристотель дает еще несколько рекомендаций, помогающих определить добродетельную середину и, что еще важнее, придерживаться ее в тех или иных обстоятельствах. Во-первых, не стоит забывать, что даже добродетельное в привычном понимании качество, доведенное до крайности, может обратиться во вред. Если перехваливают за нечто заурядное, вспомните изречение на дельфийском храме: «Ничего сверх меры». Аристотель ссылается на миф о Ниобе, которая лишилась 14 своих детей, потому что чересчур их превозносила. Чрезмерной может быть и любовь к родителям, как свидетельствует приведенная Аристотелем в пример история человека по имени Сатир, который не вынес смерти отца и покончил с собой.
Во-вторых, нужно учитывать, что из двух пороков, соответствующих той или иной добродетели, один всегда хуже другого. Так, Аристотель полагает, что излишняя щедрость лучше скупости, хотя, конечно, самое лучшее – благоразумная щедрость. Самокритика лучше хвастовства, хотя самое лучшее – адекватно оценивать свои достижения и честно, без попыток выклянчить внимание, ими гордиться. Закрепить этот принцип в сознании читателя Аристотель пытается с помощью яркого примера из «Одиссеи», знакомого всем его ученикам: «А значит, делая середину целью, прежде всего нужно держаться подальше от того, что резче противостоит середине, как и Калипсо советует: “В сторону должен ты судно отвесть от волненья и дыма”». Здесь у Аристотеля некоторая неточность, поскольку слова эти (12.219) принадлежат Одиссею, который передает кормчему совет не Калипсо, а Цирцеи, другой волшебницы, делившей с ним ложе. Цирцея предупредила, что водоворот Харибды опаснее, чем обитающее на соседней скале чудовище Сцилла. Харибда затянет корабль в пучину и поглотит всех, тогда как Сцилла сумеет ухватить лишь нескольких (в итоге она пожирает шестерых), но остальные уцелеют. То есть Сцилла, как и чрезмерная щедрость или ложная скромность, – это меньшее из двух зол.
Третья рекомендация Аристотеля – проанализировать с точки зрения порочности и добродетели те ошибки и проступки, к которым больше всего склонны именно вы. Все мы разные: один мой коллега, например, никогда не будет издеваться над теми, кто слабее, но при этом склонен к беспричинной агрессии в адрес вышестоящих. Ориентирами при самоанализе нам послужат положительные и отрицательные эмоции: когда мы поступаем неправильно и не находим «середины», то обычно отклоняемся в сторону того порока, который доставляет нам наибольшее удовольствие. Скажем, изменить супругу куда приятнее, чем отказаться от секса вовсе (то есть впасть в противоположную крайность). Середина, meson, в данном случае – хранить верность партнеру в случае, если он любим, даже если желание несколько притупилось за годы совместной жизни. Возможно, это менее приятно, чем изменять, но в конечном итоге вы будете счастливее.
Подобные общечеловеческие вопросы Аристотель освещает предельно доступно и открыто. Когда испытываемое удовольствие подскажет, в какую сторону мы отклоняемся от середины, «надо увлечь самих себя в противоположную сторону, потому что, далеко уводя себя от проступка, мы придем к середине», как поступают, например, плотники, исправляя кривизну бревна. Кормчий, не зная точно, где искать середину, держит курс к меньшей из двух опасностей; плотник, устраняя кривизну, учитывает естественное направление изгиба древесины.
Четвертая рекомендация призвана помочь в нелегком процессе «увлекания себя в противоположную сторону». Этот прием я называю «отказ от Елены». В проникновенных строках «Илиады» (3.156–60) троянские старейшины восторгаются неземной красотой женщины, идущей к стенам города: «Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы / Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: / Истинно, вечным богиням она красотою подобна!» Как многие современные психотерапевты, Аристотель предлагает нам не обманывать себя по поводу своего вожделения. Отрицая желание прыгнуть в чужую постель или выпить пятый бокал вина, мы не облегчаем себе отказ. Старейшины между тем продолжают: «Но, и столько прекрасная, пусть возвратится в Элладу; / Пусть удалится от нас и от чад нам любезных погибель!» Старейшины знают, что именно из-за Елены, как бы прекрасна она ни была и как ни услаждала бы взор троянцев, разгорелась война и в дальнейшем ее красота может принести им горе. Поэтому правильное решение – наиболее способствующее долговременному счастью – вернуть Елену грекам и закончить войну.
Осознав, что доставляет вам наибольшее удовольствие, и проанализировав, насколько этот фактор мешает рациональному достижению счастья, вы облегчите себе поиски «середины», присущей добродетельному, а следовательно, счастливому человеку. Аристотель советует вспоминать эти гомеровские строки каждый раз, когда чувствуете, что поддаетесь соблазну, который не приведет ни к чему хорошему. Выявить собственных «Елен Прекрасных» – это большое достижение, поскольку, если вам удастся отказать им, ваша личная Троя не падет, объятая пламенем, а добьется процветания и могущества.
Глава 6 Намерения
«Мы хвалим и порицаем всех, взирая более на выбор, чем на дела», – пишет Аристотель. Иногда намерение значит гораздо больше, чем совершенное в итоге действие.
В нравственно неоднозначных ситуациях, если намерения у вас благие, иногда вполне допустимо использовать сомнительные методы. Насколько необходимо прибегать к запрещенным приемам ради благой цели, зависит от того, насколько безвыходная у вас ситуация. Так, загнанные в угол родители пойдут на все – обман, кражу, принуждение и насилие, чтобы спасти своего ребенка. Аристотель прекрасно это понимает: «потому что дурное совершается по принуждению». Принуждение может принимать самые разные формы – в том числе крайние, такие как угроза лишить жизни ваших близких.
Аристотель объясняет это на двух простых примерах. Первый заключается в том, что ударить человека – это злодеяние, если намерением ударившего было оскорбить, причинить боль жертве или получить удовольствие самому. Однако, если удар был нанесен в порядке самозащиты, винить ударившего не за что. Пример второй: взять что-то без ведома владельца – это кража, если она совершается с намерением оставить взятое себе и тем самым навредить владельцу. Но если, скажем, вы позаимствовали чью-то машину, чтобы срочно доставить в больницу человека с сердечным приступом, а машину затем вернете, это, в общем-то, не кража. Вами двигала необходимость во что бы то ни стало спасти человеку жизнь.
В аристотелевских этических задачах «повышенной сложности» фигурируют три нравственные дилеммы, при которых единственно верным руководством к действию зачастую оказывается лишь намерение. Во-первых, ошибочным шагом может стать и бездействие. Во-вторых, и теоретически, и практически честность – действительно лучшая политика. И в-третьих, жесткие принципы добродетельности поступков или принцип равенства необходимо смягчать более частным и гибким, учитывающим конкретные обстоятельства принципом справедливости. Для Аристотеля важнее всего самостоятельная, независимая личность, свободная в своем решении поступать «правосудно», даже если все вокруг ведут себя неподобающе. Возможно, эти идеи развились отчасти в противовес бесконечным распрям, которые философ наблюдал при пышном македонском дворе в Пелле в собственном детстве и позже, в 343–336 гг. до н. э., когда воспитывал Александра. Борьба за власть, убийства, вымогательство, принуждение, заговоры, обман, болезненные страхи… Но Аристотелю удалось остаться собой.
Пожалуй, самый сложный нравственный выбор – вмешаться или ничего не предпринимать. Вы беспокоитесь за соседского ребенка, которого, кажется, бьют. Как поступить – сообщить в службу опеки или промолчать, вдруг вы ошиблись? Ваш сослуживец растрачивает корпоративные средства. Известить руководство или держать рот на замке, чтобы не сочли стукачом? Дилемма играет ключевую роль в фильме Джонатана Каплана «Обвиняемые» (The Accused, 1998), где впервые в истории кинематографа освещается несправедливое обращение с жертвами сексуального насилия, которые пытаются искать правовой защиты. Четверо студентов колледжа насилуют в баре женщину из рабочего класса. Приятель одного из них, хоть и шокирован совершающимся у него на глазах, никак не вмешивается и не пытается остановить преступление. Однако все же звонит в службу спасения и уведомляет полицию. Его показания сыграют затем большую роль в расследовании.
Аристотель первым из философов, занимавшихся этикой, понял, что неправедным поступком может быть не только действие, но и бездействие. Самый яркий пример он приводит в Книге третьей «Никомаховой этики»: «И в чем мы властны совершать поступки, в том – и не совершать поступков, и в чем от нас зависит “нет”, в том – и “да”. Следовательно, если от нас зависит совершать поступок, когда он прекрасен, то от нас же – не совершать его, когда он постыден».
Сегодня цена этого выбора гораздо выше, чем во времена Аристотеля. Хотя у древних греков тоже имелось понятие непрошеного вмешательства, на людей, которые считали, что их дело сторона, смотрели косо. Если в наше время тихони вызывают, в отличие от возмутителей спокойствия, скорее одобрение, то древние греки считали отрешенность эгоизмом и безответственностью, уклонением от гражданских обязанностей. У нас сама лексика, описывающая инициативу или вмешательство с целью навести порядок и устранить несправедливость, зачастую имеет отрицательную окраску. Лидерство часто воспринимается как самореклама или карьеризм. В нашем языке почти нет глаголов, означающих вмешательство в положительном смысле, за редкими исключениями вроде «вступаться», зато предостаточно обозначений осуждаемого вмешательства – «вторгаться», «путаться», «лезть не в свое дело». Еще сложнее приходится женщинам, которых испокон веков приучали «не высовываться», поощряя скромность и незаметность в противовес участию в общественных или государственных делах.
В детстве всем нам приходилось выбирать – вмешаться или промолчать, становясь, по сути, пособниками, когда на наших глазах «непопулярным» детям устраивали травлю. В аналогичных ситуациях мы оказываемся и во взрослой жизни. Протестуете ли вы во всеуслышание, когда видите, как родители бьют детей или кричат на них? Молчите, когда мускулистый наглец проходит без очереди, оттеснив тщедушного пенсионера? Или когда молодой здоровый парень не уступает место в метро беременной женщине?
Вмешиваться нелегко, потому что стандартная защитная реакция на стороннее вмешательство: «Вам что, больше всех надо?» или «А вас кто назначил полицией нравов?» Вопрос в том, что вас больше беспокоит – мнение этих людей, плюющих на нормы морали и справедливости, или творящееся бесчинство. Аристотель был прав, приравнивая нравственное бездействие к соучастию и говоря, что на смертном одре мы будем сожалеть отнюдь не о сделанном.
К этому жизненно важному этическому принципу в наши дни апеллируют редко, разве что в медицинской этике, рассматривая вопрос, насколько допустимо воздержаться от лечения и «позволить» пациенту умереть. Здесь «бездействие» приветствуется, если способствует тому, чтобы сократить агонию неизлечимо больного и уменьшить его страдания. Однако в наше время подавляющая масса этических требований и, соответственно, претензий – особенно к общественным деятелям – предъявляется применительно к действию, то есть ошибкам или проступкам. Политиков критикуют за неправильные шаги и очень редко за то, чего они не сделали, чтобы улучшить положение народа. Мы недостаточно спрашиваем с политиков, генеральных директоров, ректоров, председателей фондов за бездействие, за не воплощенные в жизнь программы и, соответственно, за уклонение от должностных обязанностей. Как гласит предание, Александр Македонский, если ему как правителю не удавалось совершить за день ничего полезного и конструктивного, горестно заявлял, что «сегодня он не правил». Наверное, о дилемме бездействия он узнал от своего наставника Аристотеля.
Со времен Аристотеля философы иллюстрируют эту дилемму одиозными гипотетическим примерами – человек, умеющий плавать, не спас утопающего; богатые, хотя и не пытаются подавить мятеж бедноты силовыми методами, позволяют беднякам умереть от голода; один из родителей не жалуется на второго, подвергающего их ребенка жестокому обращению. К пагубному бездействию, согласно аристотелевским принципам, относится и нежелание брать на себя ответственность. Чтобы разобраться, что такое «виновное бездействие, выражающееся в непринятии ответственности», проще всего посмотреть, как трактует преступное бездействие закон – причем законодательство в этой области отличается от страны к стране.
Несмотря на то что в Британии намеренное сокрытие доходов и активов, облагаемых налогом, равно как и намеренное сокрытие сведений, касающихся террористической деятельности, считается преступлением, ответственность за бездействие в британском законе издавна закрепляется с большим трудом. Правовая картина отражает свойственную британскому менталитету установку на неприкосновенность частной жизни и гражданскую пассивность. Знаменитое «Мой дом – моя крепость» по-прежнему возведено в идеал и препятствует реформированию закона и полицейских процедур применительно к изнасилованию в браке, наказанию детей и «домашнему насилию» (отвратительное выражение, подразумевающее, что такое насилие чем-то качественно отличается от совершаемого чужими друг другу людьми на улице или в пабе). Но даже в Британии есть несколько типов юридических ситуаций, в которых бездействие будет расценено как преступное.
Родственные отношения накладывают на участников определенные обязательства по отношению к близким. Родителя могут привлечь к ответственности, если ребенок пострадал или погиб из-за отсутствия должной заботы. Известны случаи, когда виновными в «причинении смерти по неосторожности» признавали близких родственников, живших вместе с погибшим и оставивших его без требуемой медицинской помощи. Уголовная ответственность может наступать и в случае невыполнения условий договора: допустим, вас наняли работать спасателем у бассейна и кто-то утонул, пока вы отлучились на перекур. Велика вероятность угодить под суд за создание опасной ситуации и угрозы для жизни других людей: например, если вы покинули дом при пожаре, который случился по вашей вине – пусть и ненамеренной, – и не вызвали пожарных, хотя знали, что в доме еще есть люди.
Даже в таких, казалось бы, однозначных ситуациях граница между неосторожностью (даже преступной) и умышленным бездействием выглядит размытой, и Аристотель это прекрасно знал. Если сотрудники банка или хозяин сдаваемой квартиры не передают в полицию сведения, касающиеся финансовой деятельности или проживания возможных террористов, это намеренное сокрытие или им просто не до того? Как разобраться, намеренно мать морит голодом ребенка – с летальным исходом – или «просто» пренебрегает своими обязанностями, особенно если ее дееспособность как кормильца снижена вследствие пагубных пристрастий, низкого уровня интеллекта или психического заболевания? Аристотель совершенно точно призывал бы оценивать прежде всего степень намеренности. Однако подозреваю, что британское законодательство показалось бы ему удручающе неполным в вопросах, касающихся бездействия. Например, до сих пор совершенно неясно, должны ли нести ответственность за сокрытие сведений о (предполагаемом) жестоком обращении с ребенком другие взрослые (не родители этого ребенка), знавшие о происходящем.
Подобные крайности, к счастью, от большинства из нас далеки, но есть, например, десятки потерявших работу или по крайней мере шансы на повышение из-за своего неравнодушия – те, кто в интересах общественности предал огласке сведения, дискредитирующие людей или порядки у работодателя. Кардиолог Радж Матту в 2014 г. выиграл дело о несправедливом увольнении. В 2010 г. его уволили, перед этим отстранив от практики на восемь лет, за обнародование данных, подтверждающих, что сокращение финансирования в одной из ковентрийских больниц ведет к переполненности, которая создает смертельную угрозу для пациентов. На что только не шли чиновники из Государственной службы здравоохранения, чтобы заставить Матту замолчать. Нанимали частных детективов, которые искали на него компромат, потратили миллионы фунтов на суды – Раджа Матту лишили источника дохода, испортили карьеру, репутацию, здоровье и личную жизнь. Он принял на себя ответственность и отважился действовать, когда, словами Аристотеля, «бездействовать было нельзя». Смелый человек, достойный восхищения. Не каждый из нас нашел бы в себе мужество – а кроме того, у нас на содержании могут быть другие люди, что не позволяет рисковать работой ради принципов. В таких случаях приходится выбирать, какое из обязательств главнее.
А если ситуация не настолько экстремальна и большие потери вам не грозят? Аристотель твердо уверен, что для определенных добродетельных поступков необходимы связи, финансы или политическая власть. Соответственно, бездействие со стороны человека, у которого подобная «страховка» имеется, гораздо более предосудительно. Оценивая деятельность миллионеров, знаменитостей, политиков, аристократов и даже своего непосредственного начальства, не ограничивайтесь выяснением, становились ли они участниками каких-нибудь скандалов. Узнайте, какую благотворительную деятельность они ведут, за что и как борются – иными словами, как они используют свои огромные социальные преимущества и рычаги влияния. Многие знаменитые и благополучные ни разу не вступались ни за бедных, ни за притесняемых. Умение задуматься не только об участии, но и о безучастности позволяет составить более полное и объективное представление о человеке.
Необходимость прежде всего учитывать намерения Аристотель рассматривает и применительно к дилемме целей и средств. Довод, что существуют ситуации, в которых желаемого можно добиться лишь предосудительными средствами, уводит нас в одну из самых «серых» этических областей философии. Именно так оправдывают многие военные действия – в частности бомбардировку Хиросимы и Нагасаки: пожертвовать десятками тысяч, чтобы предотвратить гораздо более многочисленные жертвы в случае проведения масштабной наземной операции на японской территории. Проблема в том, что теперь уже не выяснить, как развивались бы события, если бы атомной бомбардировки не случилось. Начальник штаба при Трумэне адмирал флота Уильям Даниел Леги пришел к выводу, что «применение этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не принесло существенной пользы в нашей войне против Японии. Японцы уже были разгромлены и готовы капитулировать в результате эффективной морской блокады и успешных бомбардировок с применением обычного оружия»[22].
У этого события было еще одно трагическое следствие: применение ядерного оружия резко ускорило гонку вооружений в рамках холодной войны. Однако Аристотель оценивал бы решение о бомбардировке в первую очередь по намерениям, а не по результатам. Военная это мера или политическая? Многие из тех, кто критикует бомбардировку мирного населения двух японских городов, не имевших стратегического значения, рассуждают так: если президента Трумэна действительно могли убедить, будто данные действия позволят избежать гораздо более многочисленных жертв и разрушений, то его вашингтонскими советниками двигало, прежде всего, желание протестировать новые технологии (хотя и этих людей ужаснуло непредвиденное количество жертв лучевой болезни) и пригрозить Сталину и СССР. Возможно, Трумэну следовало бы с большим недоверием отнестись к намерениям своих советников.
Еще один незаурядный пример, требующий учесть намерения при оценке сомнительных средств достижения цели, мы находим в трогательном фильме Филиппа Клоделя «Я так давно тебя люблю» (Il y a longtemps que je t'aime, 2008). Жюльетта (Кристин Скотт Томас) отбывает 15-летний срок за убийство своего шестилетнего сына. Но постепенно выясняется, что это была эвтаназия: Жюльетта, работавшая врачом, сделала смертельный укол сыну, парализованному из-за неизлечимой болезни, которая в преддверии естественной смерти обернулась бы невыносимыми муками. Однако на суде Жюльетта о своих мотивах не рассказывала, видимо считая срок заслуженным независимо от альтруистичности побуждений. Тем не менее истинные мотивы раскрываются как раз вовремя, чтобы помочь ей уже после выхода из тюрьмы. Муж ее сестры, противившийся общению Жюльетты с племянницами, теперь нисколько не возражает против присутствия тети в их жизни.
Дилемма между средством и целью почти каждый день встает перед каждым из нас, когда мы решаем, говорить ли правду. Ложь вызывает стресс, который отражается даже на физическом состоянии – именно на этом основан принцип действия детектора лжи. Поэтому в разных культурах считается, что, хоть обман и допустим в ряде ситуаций, в общем и целом лгать – себе дороже. Он редко способствует счастью как обманщика, так и того, с кем обманщик контактирует. Это интуитивное представление находит теоретическую поддержку в аристотелевской этике. Рассуждения Аристотеля об истине и лжи довольно сложны. Он не считает, как Платон, что существует некая трансцендентная истина, не наделяет ее метафизическим статусом и не рассматривает как самоценное благо. Зато полагает одним из условий счастливой жизни выработку и последовательное применение принципов, касающихся честности и лицемерия.
У Аристотеля имеется понятие человека «прямого», «честного с самим собой» (authekastos – «такого, какой он есть»). Это человек цельный и последовательный, самодостаточный, он обращается со всеми одинаково и не впадает в зависимость от мнения окружающих. В этом он приближается к идеалу «величия души», к «открыто выражающим свои симпатии и антипатии», к тем, для кого «истина дороже чужого мнения». Когда человек знает, что ни за какое свое письмо, комментарий или пост в социальных сетях краснеть не придется, ему гораздо спокойнее спится по ночам. Рассказывать повсюду одну-единственную истинную версию событий гораздо проще, чем помнить, кому какой вымысел вы скормили. Благоразумнее будет никогда не говорить и не писать ничего такого, что вы не готовы предать огласке. Одна моя коллега, разоткровенничавшись в пабе с сослуживцем, принялась ругать руководство. Собеседник пригрозил пойти к начальнику и передать все услышанное ему, на что коллега сказала: «Вперед!» – поскольку уже высказала все начальнику в лицо в гораздо более крепких выражениях.
Человек, стремящийся соблюдать аристотелевские принципы счастливой жизни, не будет лгать в ситуации действительно критической (например, в суде – то есть в обстановке более официальной, чем общение с родными и близкими). В такой ситуации ложь будет подлостью, которая, в понимании Аристотеля, неотделима от несправедливости. Так, например, строитель лжет, чтобы выбить из нанимателя побольше денег: требует повременной оплаты, а не сдельной, обещая, что на работу уйдет месяц, тогда как на самом деле потребуется не меньше двух. Наниматель, в свою очередь, может солгать налоговому управлению, чтобы не платить налог с тех денег, которые причитаются строителю. В обоих случаях это даже не просто ложь, а нечто более пагубное – элемент несправедливости. Это составляющая процесса, который вредит не только его участникам, но и обществу в целом.
Правдивость как жизненный принцип, даже в ситуациях не настолько критических, интересует Аристотеля не меньше. Он пристально изучал тех, кто приукрашивает истину ради хвастовства (самореклама была заметной составляющей маскулинности у древних греков, а до какой степени допустимо преувеличивать собственные достижения и подвиги, много говорится в «Илиаде»). Хвастовство, даже основанное на лжи, может быть вполне безобидным, если это просто спектакль для случайных собеседников и шапочных знакомых за кружкой пива в пабе. Однако и хвастовство может иметь нешуточные последствия – вряд ли, например, кому-то захочется попасть на операционный стол к хирургу, который завышает свою квалификацию. Но Аристотеля занимают банальные на первый взгляд выдумки, с помощью которых набивает себе цену хвастун: «Кто приписывает себе больше, чем у него есть, безо всякой цели, похож на дурного человека (иначе он не радовался бы обману), но он кажется более пустым, нежели порочным».
Занижать свой гандикап в гольфе или завышать должность в компании – по аристотелевской классификации обман довольно невинный, это не преступление. Но есть определенная категория хвастунов, которую он резко осуждает. Это те, которые хвастаются и лгут с целью обогащения, то есть используют обман как средство для наживы. Это уже не просто неизлечимое зазнайство со склонностью к легкому преувеличению. Это осознанный выбор. Некоторые, как прекрасно знает Аристотель, идут на такой обман ради власти над другими людьми, обретаемой в ходе финансовых манипуляций («рады самому обману»), – сегодня мы бы назвали их патологическими лжецами. Для других единственным мотивом служит алчность или любовь к наживе. Они обманом проникают в квартиру к старушке под предлогом проверки счетчиков, а затем совершают преступление, воруя ее серебряные подсвечники.
Но считает ли Аристотель истину заведомым самоценным благом? Он не утверждает, что приверженцу принципов прекрасной жизни никогда и нигде не понадобится обманывать. Он мыслит практичнее: говорить правду выгоднее с точки зрения разумного эгоизма. Так, например, человек по природе своей правдивый и честный в повседневной обстановке, скорее всего, не подведет и не обманет в критической ситуации. «Кто правдолюб и правдив, даже когда это не важно, будет тем более правдив, когда это важно, ведь обмана он будет заведомо остерегаться как позора, если уж он остерегается его как такового». Приучив себя к честности, вы с гораздо большей вероятностью скажете правду и там, где она будет принципиально важна для вас лично и для других. Репутация человека честного и правдивого со временем принесет плоды: в решающей ситуации все будут знать, что вашему слову можно верить.
Тем не менее, поскольку при оценке любых действий нужно учитывать мотивы, бывают ситуации, в которых намеренный обман не только простителен, но и необходим. В итальянском фильме «Жизнь прекрасна» (La vita è bella, 1997, режиссер и исполнитель главной роли – Роберто Бениньи) еврей Гвидо, попав со своим маленьким сыном Джозуэ в концлагерь, с помощью целенаправленных выдумок повышает шансы мальчика на выживание. Гвидо говорит сыну, что все это игра, в которой нужно набрать очки за выполнение заданий – не просить еду, не плакать, не проситься к маме. Дополнительные очки начисляются за то, чтобы не попасться на глаза охране. Отцовские выдумки немного облегчают ребенку существование и в конце концов спасают ему жизнь.
Дети учатся обманывать (ради собственной выгоды, как они ее понимают) примерно между тремя и четырьмя годами, и главное здесь – объяснить им, что все зависит от ситуации. Вранье людям, которые желают тебе только добра, – это ничем хорошим не закончится. А вот тех, кто хочет обидеть, подчинить себе, ущемить в чем-то, обманывать можно. Мою самую крупную в жизни ложь Аристотель оправдал бы наверняка – я соврала, чтобы оградить своих детей от вакцинации по программе Управления по делам образования штата Иллинойс. Я проштудировала официальные требования, и к нашему приезду на семестр в США у детей имелись все положенные прививки. Подтвержденные соответствующими справками. Но, когда мы пришли записываться в школу, ответственная медсестра сообщила, что британские прививки недействительны, поскольку в Иллинойсе сроки ревакцинации немного отличаются от английских. Теперь нам предстояло либо сделать детям все прививки заново (то есть серьезно рискнуть их здоровьем), либо оставить их без школы на три месяца нашего пребывания в Иллинойсе. Когда все разумные доводы кончились, я выставила себя новообращенным приверженцем религиозного культа, запрещающего медицинское вмешательство. Убедительно изобразить свидетеля Иеговы у меня бы не получилось, поскольку я о них слишком мало знала, зато ни с того ни с сего вспомнился Ульрих Цвингли (вряд ли его последователи, радикальные швейцарские протестанты, действительно отстаивают какие-то особые взгляды на прививки, но тогда это было неважно). Муж, разгадав мои маневры, тоже объявил себя цвинглианином, подтверждая, что нам претит любое медицинское вмешательство, препятствующее исполнению воли Божьей. Где-то в Иллинойсе должен храниться документ с нашими подписями, фиксирующий эти полностью вымышленные религиозные убеждения. Медсестра была крайне недовольна, однако поделать ничего не могла, и детей в школу записали.
Это вопрос средств и целей. Разумеется, ни вкалывать моим детям лишнюю дозу вакцины, ни лишать их школы на три месяца в намерения вышеупомянутой медработницы не входило. Однако вместо того, чтобы включить здравый смысл, она проявила бюрократическую близорукость, помешавшую ей вчитаться в предоставленные мной британские справки. Она даже гипотетически не хотела рассматривать никакие варианты индивидуального подхода к правилу, разработанному без учета вероятности прибытия в школу в Иллинойсе детей из-за океана.
Непреклонность медсестры в следовании правилу, единому для всех образовательных учреждений штата Иллинойс, – это приверженность принципу равенства, но не справедливости (epieikeia). В наше время аристотелевское понятие эпикеи рассматривается лишь в узком кругу философов права, однако это важная составляющая правосудия. Сам Аристотель дает основное определение этому понятию при рассуждении о справедливости в «Никомаховой этике», описывая его как «право, однако право не в силу закона, а в качестве исправления законного правосудия», «поправку к закону в том, в чем из-за его всеобщности имеется упущение». Эпикея не заменяет правосудия, но дополняет его и усиливает. Закон, объясняет Аристотель, составлен для общего случая, «но о некоторых вещах невозможно сказать верно в общем виде». Всех хитросплетений нравственного выбора закон попросту не в состоянии предусмотреть. Закон строится на решениях, которые будут подходящими для большинства случаев, тем самым неизбежно допуская в меньшинстве случаев вероятность несправедливости. Гибкость эпикеи необходима закону, потому что жизнь сложна и многогранна и меры в ответ на правонарушение должны приниматься с учетом обстоятельств.
Аристотель признает, что правонарушения совершаются по самым разным причинам. Бывают злодеяния намеренные и полностью заслуживающие осуждения, однако иногда имеются важные обстоятельства, которые необходимо учесть. Иногда это намерения и мотивы. В фильме «Я так давно тебя люблю» Жюльетта, скрыв истинную причину убийства сына, лишила судью и присяжных возможности проявить эпикею при вынесении приговора. С психологической точки зрения она была «слишком строга к себе» и сознательно отказалась от эпикеи, считая, что должна понести наказание без скидки на исключительные обстоятельства своего поступка. В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматриваться бедность, старость, низкие умственные способности, недостаток образования, подверженность бурным эмоциям и страстям, состояние здоровья, учитывается также степень раскаяния и вероятность рецидива. Принцип эпикеи Аристотель объясняет, проводя одну из самых блестящих своих аналогий: придавать стандартному, заранее заданному закону гибкость – это все равно что измерять округлый камень гибкой рулеткой. Такой свинцовой рулеткой пользовались лесбосские каменщики, добиваясь на основе стандартных, заранее заданных единиц измерения более точных расчетов благодаря возможности «подстраивать» изгиб рулетки под изгибы камня. Так и хороший судья, применяя составленный для общего случая закон, учитывает специфику этических обстоятельств конкретного дела.
Об этом гибком подходе полезно вспомнить именно сейчас, когда почти повсеместно торжествует мнение, будто правила, законы, порядки и даже семейные традиции незыблемы и не знают исключений. В результате на смену подлинной беспристрастности и объективности приходит уравнительность, стремление «причесать всех под одну гребенку».
Во времена Аристотеля религия внушала, что кара неминуема. Правосудие у древних обозначалось термином dike и подразумевало закон, утверждаемый верховным богом Зевсом: в трагедии именно dike обязывает Ореста расправиться со своей матерью за убийство отца, не принимая в расчет никакие сопутствующие обстоятельства. Один из героев трагедий Софокла восклицает: «К какому богу попадешь ты в руки! / Не знает ни любви он, ни пристрастья, / Простой лишь Правде следуя одной». Самый наглядный пример современного насаждения жестких и потому спорных законов – тюремные сроки, не позволяющие судье рассмотреть смягчающие обстоятельства и назначить наказание в соответствии с принципом эпикеи. Что, в свою очередь, приводит иногда к «бунту» присяжных, которые отказываются выносить вердикт о виновности, зная, что с формальной точки зрения подсудимый совершил преступление.
Несколько лет назад в Англии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве, хотя подсудимый признал, что действительно расправился с жителем соседней улицы, лишившим жизни его дочь. Из-за нарушений в проведении следствия и утраты улик приговорить убийцу ребенка к пожизненному заключению оказалось невозможным, поэтому измученный горем отец решил «взять правосудие в свои руки». Жюри присяжных в данном случае выступает коллективным голосом разума, осознавая, какой простор для несправедливости создает применение единых мер без учета индивидуальных обстоятельств. Присяжные действуют согласно принципу эпикеи, проявляя благоразумную гибкость в вынесении вердикта, чтобы избежать несправедливости, создателями закона не предвиденной и не предполагавшейся (в данном случае – приговора несчастному отцу, пострадавшему от некомпетентности следствия). Эпикея – непременная и неотъемлемая составляющая абсолютной справедливости.
Аристотелевский термин epieikeia происходит от корня eikos, означающего «допустимое», «приемлемое». Наказание должно быть соразмерно вине, а не вина подгоняться под меру наказания, как подгонял Прокруст под свое ложе всех, кто на нем не помещался, либо вытягивая жертвам ноги, либо отрубая лишнее. Но во времена Аристотеля epieikeia уже начинала обретать у греков другое значение, связанное с глаголом «подчиняться, уступать». То есть в общем и целом эпикея подразумевала гибкость, уступку смягчающим обстоятельствам. Однако в истории права известно одно значимое дело, где к эпикее пришлось обратиться, потому что буква закона, наоборот, не позволяла наказать преступника по всей строгости.
В 1880 г. Фрэнсис Палмер завещал почти все свое состояние внуку Элмеру, до совершеннолетия которого деньги должны были находиться на попечении матери Элмера. В 16 лет, опасаясь, что дед изменит завещание, Элмер отравил Фрэнсиса. Но если за убийство его посадить могли, то помешать отравителю в должный срок получить причитающееся по завещанию законы штата Нью-Йорк были не в силах. Поэтому в 1889 г. мать Элмера опротестовала завещание в суде по гражданским делам, и, руководствуясь аристотелевским принципом эпикеи, присяжные большинством голосов приняли решение в ее пользу.
Самый веский довод против эпикеи – мы не можем быть полностью уверены в благоразумии и адекватности тех, кто ее применяет. Если одна из задач закона – способствовать всеобщему равенству, нужно очень внимательно смотреть, как и в чем мы «гнем» его согласно обстоятельствам. Точнее всего на этот счет высказался в XVII в. историк и заседатель в парламенте Джон Селден, назвавший эпикею «шальной» и «соразмерной совести судьи». Мы ведь не учреждаем, поясняет он свою мысль, в качестве меры длины размер ноги судьи, потому что ноги у всех судей разные: «у одного стопа длиннее, у другого короче, у третьего ни то ни се, вот так же и с совестью». Но Аристотель возразил бы, что человечеству нет никакого резона отказываться от блага истинной справедливости лишь потому, что кто-то недотягивает до высоких нравственных стандартов, заданных эпикеей. В завершение Аристотель подчеркивает, что эпикея, правосудие, как и способность к взвешенному суждению, – качества сугубо человеческие. Своенравным богам из древнегреческой мифологии она непонятна, чужда и даже, пожалуй, показалась бы нелепой.
Такой высокоточный инструмент несомненно пригодится любому участнику жюри присяжных, мировому судье, преподавателю, инспектору – тем, чей род деятельности предполагает принятие решений, связанных с вознаграждением за заслуги, наказанием за правонарушения или оценкой компетенции. Эпикея может оказаться полезной родителям, особенно если им приходится обеспечивать потребности нескольких детей. Например, нам кажется, что справедливость требует поровну разделить нажитое между двумя детьми, однако на самом деле, если один из них недееспособен и нуждается в пожизненном уходе, по-настоящему равная забота будет выражаться в том, чтобы учесть индивидуальные обстоятельства каждого. Относительно недавно философы феминистского толка развили на основе аристотелевского принципа эпикеи идею «материнского мышления» как на социополитическом, так и на бытовом уровне. О разных гражданах нужно заботиться по-разному, поэтому в обществе, где ресурсы распределяются строго поровну, полной справедливости не добиться. Каждому по потребностям.
Легких решений в жизни почти не бывает, но если, стремясь к справедливости и равенству, руководствоваться в том числе принципом эпикеи, мы сделаем огромный шаг по тому пути, который взялись торить сквозь нравственные дебри повседневной жизни.
Глава 7 Любовь
Счастье всегда зависит от личных взаимоотношений. Может, любовь и не единственное явление, от которого «вращается Земля», но точно одно из главных. Кого любить и как, рано или поздно приходится решать каждому из нас. И если в выборе родственников и членов семьи мы до совершеннолетия не вольны, то друзей в классе или во дворе даже дети выбирают сами. Роль близких друзей резко возрастает в младшем подростковом возрасте, когда мы учимся формировать привязанности за пределами семьи. Затем мы познаем восторг романтики и чувственности и находим свою первую любовь.
Но выстраивать близкие отношения – это лишь одна сторона медали. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью разорвать тесную дружбу или по крайней мере перевести ее в ненавязчивое приятельство. Мало кому удается к середине жизни избежать хотя бы одной ссоры с кем-то из близких – будь то родители, ребенок, брат или сестра. Давний друг внезапно оказывается способным на предательство или проявляет эксплуататорские замашки. Немалая доля официальных браков и незарегистрированных союзов заканчивается разводом или разъездом. Как же нам повысить свои шансы найти счастье в близких отношениях?
Хотя Аристотель признает силу плотского желания, его пространные и подробные рассуждения о любви (philia) и разных видах уз выглядят поразительно современными, поскольку он не выделяет физические отношения в отдельную категорию, качественно отличающуюся от других связей. Отношения, подразумевающие интимную близость, – это всего лишь разновидность philia, которые обычно очень расплывчато переводят как «дружеские». И к интимным (то есть браку и его аналогам), и к платоническим связям применяются одинаковые основополагающие принципы. Все отношения с близкими людьми требуют усилий, но и вознаграждение за эти усилия бесценно.
Аристотель считал любовь неотъемлемой составляющей человеческой жизни. Многие представляют в мечтах, как чувство настигает их внезапно, словно по волшебству, однако Аристотель знал, что это упорный труд. За отправную точку в своих рассуждениях о человеческом обществе он берет первостепенный, «первозданный» союз – брачный. Это предельно тесная форма «дружбы». Она формируется с тем, с кем вы связали себя брачными узами или сожительствуете. Аристотель описывает гетеросексуальную пару, образующую союз, который предполагает заботу друг о друге и разделение обязанностей. Кроме того, такой союз нужен для воспроизведения человеческого рода, поскольку «женский пол без мужского или мужской без женского не в состоянии совершить этого, следовательно, общение их установлено по необходимости»[23]. Однополые союзы Аристотель хотя и не рассматривает, но совершенно точно не осуждает. Он готов согласиться с Аристофаном из платоновского «Пира», описывающим три разновидности любовного влечения: между мужчиной и женщиной, двумя мужчинами и двумя женщинами. Аристотель считает неправильной не какую-то из этих разновидностей, а любую чрезмерную страсть по отношению к кому бы то ни было за пределами семьи, поскольку такая страсть расшатывает устои общества. Он приводит как положительный пример романтическую историю гомосексуальной пары – государственного деятеля Филолая и олимпийского чемпиона по бегу Диокла. После всех злоключений возлюбленные получили долгожданную возможность возлечь рядом – упокоившись в соседних могилах под Фивами.
Учитывая изложенное в предшествующих абзацах, Аристотель почти наверняка согласился бы с доводами в пользу гомосексуальных браков. Он уверен, что брачные союзы создаются не столько ради продолжения рода. У примитивных животных такие связи возникают лишь для размножения и длятся не дольше, чем требуется «для порождения потомства». У животных более высокоразвитых, более подобных человеку, партнерство принимает, соответственно, более сложные и осознанные формы – «видно, как они проявляют друг к другу больше помощи, привязанности и содействия». Но заметнее всего эта осознанность и многогранность у человека, где партнерство выходит далеко за рамки физической близости, как бы приятна она ни была, поскольку партнеры «содействуют друг другу не только ради существования, но и ради благополучного существования».
Хотя незыблемых правил в аристотелевской этике мало, насчет супружеской измены философ категоричен и считает ее неприемлемой. Дело в том, что измена подрывает доверие, на котором, в свою очередь, строится любая успешная дружба. Блуд – как и воровство или убийство – предосудителен сам по себе: «и “хорошо” или “не хорошо” невозможно в таких вещах; например, невозможно совершать блуд с кем, когда и как следует; вообще совершать какой бы то ни было из таких поступков – значит совершать проступок». У Аристотеля можно найти много косвенных рекомендаций, касающихся брака или долгосрочного союза, поскольку все, что он говорит о тесной дружбе, в равной степени можно применить и к супружеству. Супружество, с точки зрения Аристотеля, отличается (хоть и существенно) от других видов тесной дружбы лишь большей близостью и совместным вкладом в выращивание общего потомства. То же самое относится к родственным связям между родителями и детьми или братьями и сестрами: разница между подобными семейными узами и дружескими отношениями сугубо «количественная» и зависит от интенсивности взаимодействия.
Многое здесь проясняет биография самого Аристотеля. В раннем отрочестве он лишился родителей; значительную часть жизни оставался бессемейным – до женитьбы и после смерти своей жены Пифиады, которая родила ему дочь, получившую то же имя. Позже, после долгого вдовства, он обрел счастье с землячкой из своей родной Стагиры, женщиной по имени Герпеллида. Он не сочетался с ней законным браком – возможно, потому, что она была рабыней или просто низкого сословия, – однако сына от нее, Никомаха, признал и именно ему посвятил или адресовал «Никомахову этику». Кроме того, Аристотель усыновил своего племянника Никанора, сына сестры. Оставленное философом завещание проникнуто вдумчивой заботой о Герпеллиде и троих детях. Однако это не мешало ему активно формировать круг близких и преданных друзей, куда входили и Гермий (правитель Ассоса на северо-западе современной Турции, где Аристотель провел два года после ухода из Академии), и философ Теофраст, помогавший впоследствии Аристотелю основать Ликей. Судя по тому, с каким знанием дела Аристотель пишет о семейных взаимоотношениях и теплой дружбе, он опирается на собственный опыт – как успеха, так и глубочайших разочарований.
Сегодня, в эпоху социальных сетей, мы разбрасываемся словом «друг», умаляя тем самым само понятие дружбы. Чтобы потешить свое самолюбие, мы принимаем в «друзья» тех, с кем даже знакомиться в реальной жизни не намерены, зато охотно держим в «подписчиках». Поэтому очень полезно заглянуть в прошлое и прочитать панегирик истинной крепкой дружбе, которым Аристотель начинает Книгу восьмую «Никомаховой этики»:
Дружественность – это самое необходимое для жизни. Действительно, никто не выберет жизнь без друзей (philoi), даже в обмен на все прочие блага. ‹…› Друзья нужны молодым, чтобы избегать ошибок, и старикам, чтобы ухаживали за ними и при недостатках от немощи помогали им; а в расцвете лет они нужны для прекрасных поступков «двум совокупно идущим», ибо вместе люди способнее и к пониманию, и к действию.Благодаря любящим людям – то есть, по Аристотелю, тем, которые ставят интересы любимых превыше собственных, – наша жизнь становится полнее. Истоки этой щедрой любви нужно искать в самой природе: «По-видимому, в родителе дружественность к порожденному заложена от природы, так же как в порожденном – к родителю, причем не только у людей, но и у птиц, и у большинства животных, и у существ одного происхождения – друг к другу». Это важно, поскольку философ-циник Диоген, современник Аристотеля, с которым тот часто соглашается, утверждал, что связи между людьми противоестественны, ведь в животном мире такого нет. Но Аристотель, усердно изучавший животных и по праву считающийся сегодня основоположником зоологии, отвечал, что любовная привязанность заложена природой. Единственная разница заключается в том, что приязнь к представителям своего вида, которую мы наблюдаем у собак и у птиц например, «особенно [сильна] у людей, недаром мы хвалим человеколюбивых. Как близок и дружествен человеку всякий человек, можно увидеть во время скитаний». Каждого из нас, наверное, хотя бы единожды трогало до глубины души это единение и участие. Я, например, испытала это чувство в Афинах, когда незнакомая сомалийка, с которой мы ни слова не знали на языке друг друга, помогла мне с детской коляской в переполненном автобусе, а потом радостно умилялась попыткам моей крохи пообщаться.
Проведенное Аристотелем исследование дружбы не имеет аналогов в греческой культуре – превзойти глубину его мысли не смогла ни одна предложенная впоследствии теория. Аристотель выделяет три основополагающие категории дружбы, и нам было бы нелишне рассортировать согласно этой классификации свое близкое окружение. Такая сортировка помогает избавиться от эксплуататоров, пережить окончательный разрыв, более тщательно выбирать друзей и усерднее работать над теми отношениями, которыми мы дорожим. Но вместе с тем после нее начинаешь вдвойне горевать о безвременно ушедших настоящих друзьях, которые, как и вы, столько вкладывали в дружбу. Как в проникновенном стихотворении Дерека Уолкотта «Морской камыш»:
Половины моих друзей уже нет. Я рожу тебе новых, сказала земля. Нет, верни мне прежних, рыдал я, Какими были, со всеми изъянами.Аристотель согласился бы с ним. Смерть близкого и давнего друга он относит к числу величайших бед, которые приходится преодолевать человеку. Однако, осознав, насколько велика потеря, мы начинаем больше ценить имеющееся и строить новые серьезные отношения более вдумчиво.
Какие-то связи – наверное, большинство – нам просто выгодны. Взаимовыгодная дружба может существовать у человека с домашним животным или у двух животных разных видов. Аристотель приводит в пример ржанок, которые чистят зубы крокодилам, тем самым добывая себе пропитание. Во взаимовыгодной дружбе нет ничего плохого. Ты – мне, я – тебе, ты выручишь меня, а в другой раз я подвезу твоего ребенка до школы, если ты заболеешь. При взаимовыгодной дружбе отдачу получают оба участника. Своего рода социальный бартер.
То же самое происходит в отношениях с соседями – добрососедство может вести к обоюдной выгоде: присматривать за жильем, пока другой в отъезде; кормить домашних животных; принять доставку, если сосед не успевает встретить курьера, и так далее. Можно обмениваться важными местными новостями, касающимися вас обоих. Здесь важно доверие, и, если ваш «полезный знакомый» вас подведет, вы вправе перестать оказывать услуги, которые оказывали ему прежде. Если соседка забудет покормить вашего хомяка, вы не станете в отместку обижать ее кошек, но и присмотреть за ними больше не предложите.
Обычно для взаимовыгодных отношений нужна общая почва. Полезно формировать связи с людьми своего же круга (одноклассниками, одногруппниками, сослуживцами, молодыми родителями), чьи потребности, возможности и положение схожи с вашими. В этом случае отношения будут строиться на равных – статус у обеих сторон примерно одинаковый, поэтому вклад и отдача окажутся равноценными. Аристотель относит к этой категории и заграничных знакомых, к которым можно обратиться в случае необходимости и которым мы точно так же поможем, когда они будут нуждаться в помощи. Полезное знакомство носит сугубо утилитарный характер и даже не требует постоянного совместного времяпрепровождения. Аристотель отмечает, что такой дружбы часто ищут пожилые люди, которые больше нуждаются в практической помощи, чем молодежь, но общество этих полезных знакомых иногда сами выносят с трудом и не нуждаются во взаимодействии, выходящем за рамки оказания поддержки.
Дружба ради выгоды возможна и между людьми, разными по «рангу», и в этой категории Аристотеля интересует напряжение, возникающее в результате асимметрии. «Утилитарная» дружба может складываться с няней, которую вы наняли ухаживать за детьми, – вы можете относиться друг к другу очень тепло. Но ваш вклад (оплата труда) и ее вклад (уход за детьми) принципиально различны. Я как преподаватель поддерживаю «утилитарную дружбу» со своими студентами, пока они у меня учатся. Такая дружба часто напоминает детско-родительские отношения, поскольку я старше и участвую в определенном этапе их личностного развития. Однако в ней имеется и финансовая составляющая, поскольку от посещаемости лекций в итоге зависит моя зарплата. И хотя в основе этой дружбы лежат деловые взаимоотношения, зачастую при наличии доверия развивается и личная симпатия, но здесь не следует ждать поддержки, выходящей за рамки взаимного договора. Нередко утилитарная дружба рушится, когда кто-то из участников в одностороннем порядке решает перевести ее на новый уровень – а потом обижается, что вторая сторона не хочет с ним спать, или одалживать денег, или везти в реабилитационный центр.
Аристотель прав, утверждая, что приятельство ради взаимной выгоды не предполагает близкого знакомства. Такие отношения обычно совершенно безболезненно прекращаются с исчезновением общей почвы, на которой они строятся, – окончанием школы или вуза, уходом с работы или из группы развивающих занятий для дошкольников. Аристотель приводит в пример путешественников, которые объединяются на каком-то этапе пути «ради определенной выгоды – в частности, чтобы в складчину и сообща обеспечивать себе необходимое», а затем расстаются без всякого сожаления. Приятельство ради выгоды составляет значительную долю наших социальных взаимосвязей. Однако в нем есть свои основополагающие правила, самое главное из которых – не сплетничать и не злословить об остальных входящих в общую группу. Для этого достаточно сменить тему, когда кому-то начинают перемывать кости. Есть несколько способов разрушить утилитарную дружбу: слишком многого ждать от другой стороны, навязывать близость или «изливать душу», пускаясь в непрошеные откровенности.
Следующая разновидность дружбы в классификации Аристотеля поддерживается удовольствием. Она длится до тех пор, пока дарит участникам схожие эмоции – например, как описывает Аристотель, наслаждение остроумием друг друга. С кем-то из знакомых вас объединяет страсть к театру, мюзиклам, скачкам, с кем-то еще вы любите посидеть за бокалом в кафе. Это не значит, что эти люди готовы поддержать вас в других сферах жизни, но и вас это общение ни к чему особому не обязывает. В молодости мы часто обманываемся, принимая наслаждение чьим-то обществом за духовную близость. На самом деле многие замечательные люди, с которыми так приятно проводить вместе досуг, не годятся на большее. Аристотель, несомненно, прав, называя наиболее склонной к такому приятельству молодежь:
А между юношами дружба существует ради удовольствия, ибо юноши живут, повинуясь страсти, и прежде всего ищут удовольствий для себя и в настоящий миг. С изменением возраста и удовольствия делаются иными. Вот почему юноши вдруг и становятся друзьями, и перестают ими быть, ведь дружбы изменяются вместе с тем, что доставляет удовольствие.Мимолетные любовные увлечения, которые Аристотель считает подвидом дружбы ради удовольствия, тоже характерны, прежде всего, для молодых. Молодежь заводит подобные знакомства с легкостью, поскольку общительна и действует под влиянием эмоциональных порывов. В таких отношениях удовольствие не всегда бывает одинаковым для обеих сторон. «Принимать заботу любящего – это наслаждение совсем иного рода, чем наслаждаться созерцанием возлюбленного лика».
Беда в том, что если в основе этого подвида дружбы лежит наслаждение внешней красотой, то вместе с красотой исчезнет и любовь. (Все мы знаем жен и даже мужей, брошенных, едва они начали дурнеть.) Однако и для этого типа отношений есть надежда – при условии, что они станут более «симметричными» и участники научатся ценить партнера как личность. Такую вероятность Аристотель допускает, но лишь в том случае, если стороны равны в нравственном отношении. Берите в супруги того, кто будет любить вас за постоянные качества, и стремитесь к тому же сами. Поразительно, как мало пар, прежде чем узаконить отношения, удосуживаются хотя бы раз серьезно поговорить о своих планах на будущее. А ведь если вы, например, мечтаете о детях, нет никакого смысла связывать свою жизнь с человеком, который не планирует их заводить. Если вы усердно строите карьеру, а ваш партнер не готов мириться с тем, что работа отнимает все ваше время и силы, у вас вряд ли сложатся отношения.
Вот почему оправдывают себя браки по расчету: партнерский вклад и обязательства друг перед другом оговорены заранее. Победительница популярного реалити-шоу «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off, 2015) Надя Хуссейн рассказывала, как она постепенно проникалась любовью к своему мужу, за которого ее по уговору между родителями выдали в 19 лет. Любовь пришла уже после рождения второго ребенка, когда Надя осознала, насколько они с супругом сроднились. К этому времени она смогла разглядеть его получше, узнать его характер, посмотреть, каким он стал отцом. То же самое происходило у писателя Клайва Льюиса и Джой Дэвидмен в биографическом фильме Ричарда Аттенборо «Страна теней» (Shadowlands, 1993). Изначально они женятся фиктивно, чтобы дать возможность американке Дэвидмен получить британский вид на жительство, однако постепенно понимают, сколько у них общего и как осчастливили их эти отношения.
И взаимовыгодная дружба, и дружба ради удовольствия несут в себе положительный заряд и обогащают нашу жизнь. И хотя Аристотель допускает, что такая дружба возможна и между людьми порочными – преступники могут покрывать друг друга в суде или сообща предаваться запретным удовольствиям, – второстепенные отношения все равно требуют вкладываться в них в установленных рамках. Чтобы они не разрушились, вам придется выполнять свою часть «договора». То же самое касается отношений ради удовольствия: если с вами делят досуг как с любителем черных комедий, то плакаться в жилетку и ждать поддержки во время невзгод – не лучший способ сохранить такое приятельство. (Аристотель предупреждает, что к человеку угрюмому и вздорному вряд ли кто-то потянется: «Ведь именно наслаждение общением, кажется, главный признак дружбы и создает ее в первую очередь».)
Свои наблюдения о дружбе «ради пользы» и «ради удовольствия» Аристотель завершает словами о том, что обе эти разновидности не отличаются прочностью: «Конечно, такие дружбы легко расторгаются, так как стороны не постоянны в расположении друг к другу. Действительно, когда они больше не находят друг в друге ни удовольствия, ни пользы, они перестают и питать дружбу. Между тем полезность не является постоянной, но всякий раз состоит в другом. Таким образом, по уничтожении былой основы дружбы расторгается и дружба как существующая с оглядкой на удовольствие и пользу». Однако расставание обычно проходит безболезненно для обеих сторон – при условии, что никто из участников не обманывался насчет подлинного характера и глубины этих отношений.
Большинство проблем в дружбе возникает, когда второстепенные отношения путают с первостепенными – серьезными и прочными. В лаконичной и меткой формулировке Аристотеля «большинство разногласий возникает между друзьями тогда, когда они являются друзьями не в том смысле, в каком думают». Соответственно, третья, несомненно высшая, категория дружбы – это взаимная любовь, которая существует в счастливых семьях или которую совместными усилиями взращивают люди не родные, но близкие. По мнению Аристотеля, «друг относится к числу наибольших благ, тогда как страшнее всего не иметь друзей или быть одиноким, ведь вся наша жизнь состоит в общении, прежде всего в добровольном» в кругу близких.
Подлинная дружба между людьми, одинаково стремящимися к прекрасной жизни, не боится в том числе и злых языков. Как говорит Аристотель, «нелегко поверить кому бы то ни было в дурное о человеке, о котором за долгое время сам составил мнение: между ними доверие и невозможность обидеть и все прочее, что только требуется в дружбе в истинном смысле слова», тогда как другие типы приятельства не выдерживают наветов и подозрений. Уверена, что у философа имелись настоящие друзья, защищавшие его от завистников и клеветников, которые после основания Ликея в Афинах в 336 г. до н. э. пытались обвинить философа в измене Афинам и работе на Македонию.
В отличие от первых двух разновидностей дружбы, истинная дружба требует проверки временем. Давность выступает гарантией стабильности. С друзьями, пишет Аристотель, мы обращаемся прямо противоположно тому, как обращаемся с одеждой. Когда старый плащ ветшает, мы предпочитаем новый. С друзьями же все наоборот. Чем дольше мы знаем друга, тем больше убеждаемся в его прекрасных качествах. Так что, даже если новый друг кажется вам хорошим, благоразумнее предпочитать старого, поскольку новая дружба еще не проверена временем. Аристотель с лукавой усмешкой цитирует поэта Феогнида: «Душу узнаешь – мужчины ли, женщины ль – только тогда ты, / Как испытаешь ее, словно вола под ярмом». В другом месте он приводит известную пословицу о пуде соли, который нужно съесть, чтобы как следует узнать человека (то есть достаточно времени провести с ним за общими трапезами).
Доверие завоевывается не за один день, зато подрывается вмиг. Друг, который предал вас, подвел в критической ситуации или обидел, заслуженно теряет статус близкого. Я научилась оставлять давним друзьям второй шанс, но только один. Всегда есть вероятность, что произошло недоразумение, однако, если после выяснения отношений человек снова принимается за свое, значит, дело не в недопонимании, а в свойстве характера. Это не значит, конечно, что нужно вычеркивать человека из жизни целиком и полностью. У меня имеется двое бывших друзей, утративших мое доверие после того, как дважды отказали мне в поддержке в трудную минуту, тогда как я им в аналогичных ситуациях помогала. Я с ними не рассталась, но перевела в категорию приятелей, с которыми поддерживаю отношения ради пользы и досуга. У Аристотеля такие «разжалованные» друзья тоже имелись, судя по его словам о необходимости перестраивать общение с ними:
Должно ли в таком случае отношение к другу детства не иметь никаких отличий, как если бы он никогда не был другом? Нет, пожалуй, следует хранить память о былой близости, и, подобно тому как друзьям, по нашему мнению, следует угождать больше, чем посторонним, так и бывшим друзьям ради прежней дружбы нужно уделять какое-то внимание в тех случаях, когда дружба была расторгнута не из-за чрезмерной испорченности.Даже когда сердечной дружбе приходит конец, ностальгия по былому теплу способна сыграть огромную роль.
Близких друзей много быть не может, утверждает Аристотель. Ведь для истинной дружбы «нужно приобрести опыт [узнать человека получше] и сблизиться, что трудно в высшей степени, если друзей много». Если близкий круг слишком насыщен, трудно уделять всем требуемое внимание: «В тягость становится и делить со многими радость и горе, как свои собственные, потому что, весьма вероятно, придется в одно и то же время с одним делить удовольствие, а с другим – огорчения». Лучше сузить этот круг до нескольких самых близких – так чтобы по пальцам хватило пересчитать – и усердно работать над отношениями. Это относится и к избранному нами спутнику жизни, и даже кровным родственникам, заботу о которых тоже, увы, придется дозировать и разбираться, кто действительно в ней нуждается. Забота подразумевает, что вы делите с близкими радости и печали и регулярно делаете друг для друга что-то хорошее. Кроме того, Аристотель советует поддерживать с друзьями постоянное общение.
С появлением скайпа и электронной почты общаться с дорогими нам людьми, даже если они находятся на другом краю света, стало несомненно проще, чем в Античности. Бесценная подлинная близость действительно требует частых контактов. Раньше во время отъездов за границу я звонила мужу и детям слишком редко – ни к чему хорошему это не привело, поэтому теперь я стараюсь перекинуться парой слов с каждым хотя бы раз в день.
Неправедного человека, подсказывает нам Аристотель, выдает стремление раз за разом ставить собственную материальную выгоду выше благополучия друга. Как гласила древнегреческая поговорка, «у друзей все общее», однако люди подлые дружат ради наживы, а не ради дружбы как таковой и воспринимают вас как «довесок» к материальным благам. Это обыкновенные прихлебатели, которые разбегутся, как только вы окажетесь на мели и не сможете больше угощать их за свой счет.
Демонстрируя почти пророческую проницательность, Аристотель описывает явление, в современной психологии известное как проекция. Порочные люди вполне могут заводить мимолетные шапочные знакомства ради удовольствия (скажем, перекинуться в карты). Но на близкую первостепенную дружбу они не способны, поскольку никому не доверяют: они меряют окружающих по себе. Так как в собственных поступках они руководствуются эгоизмом, завистью, желанием одержать верх любой ценой, то просто не в силах вообразить иную нравственную парадигму, основанную на стремлении ко всеобщему счастью.
Тот, кому вы действительно дороги и близки, не будет переживать, если вы не заметите оказанного вам благодеяния. Ему важно не доказать вам что-то и не получить ответную услугу, а максимально способствовать вашему счастью. Хорошие родители испытывают подобную альтруистичную любовь к своим детям. Собственно, Аристотель считает правильным, что «отцы любят детей больше (а матери – еще сильнее отцов), нежели любимы детьми. И те, в свою очередь, собственных детей любят больше, чем родителей». Превосходство материнской любви над отцовской Аристотель объясняет тем, что «матери с большим правом считают детей своим произведением: ведь произведения разнятся по тяжести затраченного труда, а рождение ребенка тяжелее достается матери».
Примером крайнего проявления самоотверженной любви у Аристотеля выступают матери, отдающие своих детей на усыновление ради их будущего благополучия. Он ссылается на трагедию, в которой Андромаха, спасая своего сына Астианакса от греков, намеренных сбросить младенца со стен Трои, пытается подкинуть его другой женщине и таким образом тайно вывезти из города. Для Андромахи это значит расстаться с сыном навсегда. Кроме того, спасенный Астианакс об этой жертве со стороны матери знать не будет и, возможно, вырастет в убеждении, что родительница от него попросту избавилась. Близкие друзья напоминают хороших матерей в другом: им по-настоящему больно, когда вам плохо, и они готовы взять ваши страдания на себя, лишь бы облегчить вам жизнь. «Как птицы, чувствующие боль друг друга», – добавляет зоолог Аристотель. У птиц моногамны около 90 % видов (по сравнению с 3 % у млекопитающих), в чем Аристотель наверняка убедился, наблюдая за жизнью отдельных птичьих пар.
Кого-то, возможно, смутит, что Аристотель не видит разницы между близкой дружбой с членами семьи и с людьми неродными, тогда как в реальной жизни большинство из нас в основном эту разницу ощущает. Осознать, что человек не обязан испытывать к вам привязанность, преданность, желание способствовать вашему благополучию только по факту родства, бывает тяжело, но осознать это необходимо. Очень полезно набраться храбрости и проанализировать по аристотелевским критериям все свои родственные связи (за исключением взаимоотношений с собственными детьми, поскольку дети, которых вы сами решили произвести на свет, вправе рассчитывать на вашу безусловную любовь). Возможно, даже внутри небольшой нуклеарной семьи найдутся те, кому собственная выгода важнее вашего благополучия и кто готов ущемлять вас, предать, оставить без помощи в случае нужды. Кровь не всегда гуще воды: друзья могут любить вас сильнее, чем обладатели общих с вами генов или окружение, в котором вы росли и воспитывались, если вы приемный ребенок. И вот тут-то самое время вспомнить о дружбе утилитарной. Родного или двоюродного брата или сестру, которые не делают вам ничего хорошего в ответ на ваши благодеяния, Аристотель рекомендовал бы определить в «дальние», второстепенные друзья. С ними можно обмениваться поздравлениями по праздникам и, самое большее, приглашать на свадьбы, без всякой необходимости испытывать вину за отчуждение.
К поддержанию близкой дружбы Аристотель подходит обстоятельно и вдумчиво, оговаривая в рассуждениях множество подробностей и нюансов. О том, что друзья детства часто взрослеют не одновременно, он, похоже, знает из личного опыта. Разница в уровне зрелости лишает бывших друзей возможности получать отдачу от отношений. А если наш близкий друг меняется до неузнаваемости и проявляет себя не с самой добродетельной стороны, разрывать ли дружбу? Как правило, «испортившиеся» друзья – это уже неизлечимо, и отношения становятся в тягость. Однако мне с моим правилом вторых (но не третьих!) шансов было приятно обнаружить, что и Аристотель готов давать близким друзьям еще одну возможность, ведь «помощь тем, у кого есть возможность исправиться, должна иметь в виду скорее нрав, а не [финансовое] состояние, в той мере, в какой нрав выше имущества и теснее связан с дружбой».
Глава 8 Общество
Каждый из нас принадлежит к тому или иному крупному сообществу, выходящему за пределы семьи и узкого круга близких друзей. Наше счастье зависит в том числе и от того, насколько мы ладим с согражданами внутри своей страны и с гражданами других государств. Однако разобраться, какие обязанности влечет за собой принадлежность к определенной группе – особенно во времена политических встрясок или при несогласии с действиями правительства, – удается не всегда. Еще одна трудность – бессилие перед крупномасштабными общемировыми проблемами, такими, например, как экологический кризис, – зачастую вызывает вполне понятное желание погрузиться в бытовые мелочи и убежать от реальности в мир развлечений.
Аристотель это понимал. Сам он жил в такую эпоху и в таких краях, где противостоять властям было по-настоящему опасно. В Македонии железной рукой правил царь Филипп, а в Афинах, несмотря на демократию, Аристотель всегда оставался изгоем, чужаком, не обладающим всей полнотой прав афинского гражданина. Наверняка ему очень хотелось временами отойти от политических дрязг и закрыться в своей личной библиотеке. Однако он этого не делал. Он продолжал учить и воспитывать (в том числе будущих руководителей) и читать лекции в Ликее для обычной афинской публики. Но главное, он продолжал писать, с исключительным знанием дела, о политике и взаимоотношениях граждан с социумом и даже с природой и животным миром.
Счастье, по мнению Аристотеля, нельзя создать в одиночку. Иногда человеку необходимо побыть одному, но все же в биологическом смысле он «животное общественное». Он проявляет себя в полную силу во взаимодействии с другими людьми и животными, принимая участие в «круговороте благодеяний». В Древней Греции взаимность благодеяний символизировали три грации, или хариты, три сестры, чьи имена означали «красота», «радость» и «изобилие». Их часто изображают вставшими в неразрывный круг, который означает переход от простых двусторонних отношений к сложному тройственному союзу, образующему ядро общества. Это аллегория так называемого «добродетельного круговорота» – распределения потоков взаимопомощи в человеческом обществе. Аристотель в «Евдемовой этике» приветствует обычай воздвигать святилища харит в многолюдных местах, «чтобы за даянием следовало ответное даяние, ведь это отличительное свойство благодарности. В самом деле, следует не просто расплатиться с благодетелем, но и самому сделать что-то хорошее». По канонам этики добродетели ограничиваться взаимозачетом недостаточно, нужно в свою очередь инициировать и активно развивать полезные начинания.
О наилучших формах взаимодействия и совместного существования Аристотель рассуждает в «Никомаховой этике» и «Политике». Подобно тому как варьируется сладость сиропа в зависимости от концентрации сахара, у человека варьируется сила привязанности к членам семьи, друзьям и согражданам. «Различны и виды права, потому что неодинаковые права у родителей по отношению к детям и в отношениях братьев друг к другу, а также права товарищей и сограждан; это справедливо и для других видов дружбы». Чем теснее связь, тем более значительным выглядит ущерб, причиняемый кому-то из состоящих в ней: выманить деньги у друга более мерзко, чем у постороннего человека; отказать в помощи брату более предосудительно, чем постороннему.
Согласно политической теории Аристотеля, наши взаимоотношения с согражданами – это особая разновидность взаимовыгодной дружбы, поскольку они возникают ради взаимной пользы и исчерпывают себя, когда выгода исчезает. Города-государства не выполняют свою функцию, когда между гражданами нет дружественных партнерских взаимосвязей. Пронзительную картину потенциального распада всех связей в дискредитировавшем себя государстве рисует в произведении под названием «Дочь Агамемнона» (2003) Исмаиль Кадаре. В этом романе жертва, на которой строится сюжет трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» (немало занимавшей Аристотеля), выступает аллегорией событий, развивающихся в Албании при бесчеловечном политическом строе начала 1980-х, и нравственного разложения, которое происходит в народе, когда власти ничем не ограничены. Кадаре показывает, насколько велика опасность потерять нравственные ориентиры, когда всеми мыслями и чувствами правит страх:
С каждым днем махина круговой поруки тянула нас все ниже на дно, вынуждая каяться и обличать, вываливать в грязи сперва самих себя, потом всех остальных. Система поистине дьявольская: стоит замараться самому, и вот вы уже мажете окружающих. День за днем, час за часом от нашей порядочности оставались лишь кожа да кости.Аристотелевское идеальное государство – прямая противоположность вышеописанного. Оно способствуют развитию близких отношений. Правильное руководство городом-государством, нацеленное на счастье граждан, требует опоры на дружеские связи между гражданами и способствует их формированию.
Основы гражданской дружественности Аристотель называет «гражданским согласием», которое представляет собой некое неизменное отношение к остальным представителям государства, включающее в себя и благожелательность, и осознание взаимной ответственности. Оно направлено на то, чтобы закрепить в нравственных установках наиболее подходящий для всех способ существования. Увы, всегда найдутся те, для кого гражданское согласие такой же пустой звук, как и серьезная личная дружба, «поскольку они пытаются выгадать себе лишние блага, а от лишних обязанностей и хлопот избавиться». Аристотель безоговорочно порицает тех, кто любит только себя и норовит урвать что-то сверх положенной им доли общественных благ. Более того, «наживаясь на обществе, нельзя ждать от него уважения; на друзьях не наживаются». Соответственно, там, где отношения между согражданами строятся на дружеской основе, государство в целом может стремиться к счастью.
Взаимовыгодное сотрудничество между гражданами имеет более широкие масштабы, чем взаимовыгодная дружба на работе или в учебном заведении. Однако Аристотель, рисуя отношения сограждан как подвид дружбы, исходит из того, что счастливый полис не может разрастись больше определенного размера. Он ужасается Вавилону, настолько огромному, что «уже три дня прошло, как город был взят, а часть жителей ничего об этом не знала». Перенаселение, помимо прочего, ведет к бедности, и здесь Аристотель ссылается на коринфского законодателя Фидона, утверждавшего, что «количество семейных наделов всегда должно оставаться равным числу граждан». Аристотель считает, что у любого правильно функционирующего сообщества есть пределы, в точности как у корабля. Корабль не должен быть ни слишком узким (шириной с вытянутую руку), ни слишком длинным (в четверть мили), поскольку ни в том ни в другом случае он не сможет функционировать как положено. Как видим, еще в IV в. до н. э. Аристотеля больше беспокоило перенаселение, чем недостаточная заселенность. С помощью метафоры государственного корабля философ иллюстрирует и гражданское согласие. Сограждан, как и команду корабля, связывают отношения партнерства. «Хотя моряки на судне занимают неодинаковое положение – один из них гребет, другой правит рулем, третий состоит помощником рулевого, четвертый носит какое-либо иное соответствующее наименование», задача у них общая – «благополучное плавание, цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый из них в отдельности». Точно так же и граждане счастливого государства, занимаясь каждый своим делом, объединены общей целью, состоящей в благополучии сообщества.
Аристотель рассматривает государственное устройство через призму здоровья отдельных взаимоотношений, на которые опирается политическая организация. Он сравнивает между собой четыре типа государственного устройства, известных в Древней Греции, – демократию, тиранию, аристократию и монархию (иногда к ним добавляется пятая разновидность, сверхмонархия, объединяющая несколько различных народов под властью могущественного правителя, панвасилевса, – эта концепция, судя по всему, понадобилась Аристотелю для описания Македонской империи). Это сравнение оказало неизмеримое влияние на политическую теорию и практику: собственно, сама европейская политологическая терминология родилась, когда «Политику» Аристотеля перевели на современные языки и ее стали брать на вооружение адепты соответствующих моделей государственного устройства. Джон Мильтон, публикуя спустя месяц после казни Карла I в январе 1649 г. трактат «Права и обязанности короля и правителей», в котором он оправдывал казнь единовластного государя, признающего ответственность только перед Господом, оперирует определением монархии из аристотелевской «Политики».
Сильнее всего Аристотель критикует тиранию, которая, по его словам, душит любые начинания, способствующие развития самоуважения и уверенности в себе. К ним, как и следовало ожидать, относятся попытки Платона и самого Аристотеля или других философов «заводить школы или какие-нибудь другие собрания с образовательной целью». Сейчас мы в большинстве своем вряд ли примем государственный строй, запрещающий самообразование и дискуссии, – собственно, вряд ли мы согласимся на какое-то другое устройство, кроме демократического. Сегодня при выборной демократии живет больше половины мирового населения. Однако, если подходить к ним с аристотелевскими этическими критериями, выяснится, что многие из этих демократических государств допускают вопиющую «неправосудность»: согласно большинству оценок, доля населения стран, где соблюдается закон и базовые права человека, составляет менее 40 % от общемирового. Властям, которые практикуют выбивание сведений под пытками, Аристотель сказал бы: «Прекратите, это все равно себя не оправдывает». Как он бесстрастно объясняет в «Риторике», «во время пытки под влиянием принуждения ложь говорится так же легко, как и правда, причем одни, более выносливые, упорно утаивают истину, а другие легко говорят ложь, чтобы поскорей избавиться от пытки».
О недостатках демократии ему известно не меньше. В рассуждении, которое не теряет злободневности тысячелетия спустя, Аристотель отмечает, насколько неудовлетворительно решаются вопросы, связанные с собственностью: «Так как равенства в работе и в получаемых от нее результатах провести нельзя – наоборот, отношения здесь неравные, – то неизбежно вызывают нарекания те, кто много пожинает или много получает, хотя и мало трудится, у тех, кто меньше получает, а работает больше». Проблему эту он признает объективно сложной: «Вообще нелегко жить вместе и принимать общее участие во всем, что касается человеческих взаимоотношений, а в данном случае особенно». Тем не менее именно в демократических Афинах он предпочел прожить три с лишним десятилетия в сознательном взрослом возрасте, несмотря на отсутствие прав гражданина, то есть вряд ли отвергал демократию как неприемлемую.
О демократии он отзывается с меньшим неодобрением, чем о других типах государственного устройства. Перечисляя в «Риторике» цели разных форм правления, Аристотель рисует демократию в наиболее благоприятном свете, поскольку ее цель – свобода, в противоположность богатству у олигархии, воспитанию и законности у аристократии и защите власти у тирании. Он называет демократию строем, при котором «в большей степени возможны дружба и правосудие, ибо у равных много общего». Соответственно, как и следовало ожидать, сильнее всего препятствует правосудию и дружбе между согражданами тирания.
Хотя демократическое государство тоже может деградировать, народное собрание, по мнению Аристотеля, потенциально способно принимать гораздо более удачные решения, чем узкий круг облеченных властью при других формах государственного строя. Аристотель сравнивает коллективное решение с застольем в складчину, на которое каждый приносит что-то свое и которое, несомненно, получается более удачным, чем организованное единолично. Когда граждане собираются вместе, чтобы вынести вердикт или посовещаться, «так как большинство включает в себя много людей, то, возможно, в каждом из них, взятом в отдельности, и заключается известная доля добродетели и рассудительности; а когда эти люди объединяются, то из многих получается как бы один человек, у которого много и рук, много и ног, много и восприятий, так же обстоит и с характером, и с пониманием. Вот почему большинство лучше судит о музыкальных и поэтических произведениях: одни судят об одной стороне, другие – о другой, а все вместе судят о целом». Современному человеку небезынтересно будет узнать из Аристотелевых трудов, что при идеальной демократии все граждане имеют возможность участвовать в управлении, на краткий срок сменяя друг друга на государственных должностях, а дополнительным стимулом заседать в античном аналоге жюри присяжных служит финансовая компенсация за временный отход от дел, приносящих средства к существованию. Кроме того, Аристотель отмечает, что масса меньше подвержена порче, то есть коррупции, чем отдельные ее представители: широкий полноводный поток труднее загрязнить или отравить, чем крохотный ручей. Отдельный человек может рассуждать под влиянием гнева или других сильных эмоций, тогда как при демократической системе решение принимается массой, которая вряд ли впадет в ярость одновременно.
По крайней мере половина населения планеты не воспринимает относительную политическую стабильность как данность. Аристотель между тем исходит из утопической вероятности, что все ныне живущие сумеют реализовать свой потенциал и будут использовать имеющиеся способности по максимуму («аристотелевский принцип», как называет его американский политический философ Джон Ролз). Он даже рисует футуристическую картину мира, в которой технический прогресс отменит необходимость в тяжелом труде (то есть рабском, если исходить из исторического контекста, в котором жил Аристотель). Он вспоминает мифических мастеров Дедала и Гефеста, изделия которых двигались и повиновались командам, а значит, могли заменить собой живых слуг: «Если бы каждое орудие могло выполнять свойственную ему работу само, по данному ему приказанию или даже его предвосхищая, и уподоблялось бы статуям Дедала или треножникам Гефеста, о которых поэт говорит, что они “сами собой входили в собрание богов”; если бы ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, тогда и зодчие не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы». Аристотель словно предугадывает современные разработки в области искусственного интеллекта.
Утопичные политические идеи Аристотеля отличаются гибкостью. Убежденный последователь Аристотеля может быть капиталистом, социалистом, владельцем собственного бизнеса, сотрудником благотворительной организации и сторонником (почти) любой партии. За утверждение, что общественное устройство обретает устойчивость лишь в том случае, если приспосабливается к человеческой природе, Аристотеля временами поднимали на щит консерваторы: в частности, его превозносит Бенджамин Уайкер в своей книге «Десять произведений, которые должен прочитать каждый консерватор» (2010). Если же последователем Аристотеля называет себя капиталист, то он будет принадлежать к той категории, которая не потерпит, чтобы сограждане жили в нищете. Аристотель видел, что дефицит благ создает почву для конфликта, но он понимал и фундаментальные законы, лежащие в основе капитализма, в том числе и современного. Он первым из древнегреческих мыслителей раскрыл понятие монополии, употребляя именно этот термин, и проиллюстрировал свое объяснение примером. Тем самым он защищал философию от обвинений в бесполезности, доказывая, что философ способен быть предприимчивым дельцом, но, как правило, занят более высокими материями. Философ из его примера – живший в VI в. основоположник естественных наук Фалес Милетский – опроверг заявления, будто философия не приносит выгоды. Опираясь на свои научные знания, он еще зимой спрогнозировал обильный урожай маслин, задешево взял в аренду все маслобойни в округе (тем самым став абсолютным монополистом), а затем, когда пришло время жать масло, отдавал их на откуп по завышенной цене. Нажив таким образом состояние, Фалес, как подытоживает Аристотель, «доказал, что философам при желании легко разбогатеть, но не это является предметом их стремлений».
Основывая свою политическую теорию на базовых человеческих потребностях, Аристотель разработал без преувеличения одну из самых передовых экономических концепций своего времени. Именно поэтому Аристотелем так восхищался Карл Маркс, и именно поэтому у него не переводились последователи среди левых и консерваторов. Тем не менее социалисту, приверженному идеям Аристотеля, необходимо осознавать, что распространять обязательное для этого строя обобществление собственности на домохозяйство не получится. Когда непонятно, кто именно должен отвечать за государственное имущество, оно, по мнению Аристотеля, оказывается бесхозным. Чем больше у имущества собственников, тем меньше каждый из них об этом имуществе заботится. Человек склонен беречь то, что он ценит и ощущает своим, а обобществление эту привязанность ослабляет. Как пишет Аристотель, «все больше дорожат доставшимся с трудом (например, тем, кто нажил деньги, они дороже, чем тем, кто их унаследовал)». К благам, добытым потом и кровью, мы привязываемся больше, чем к доставшимся без усилий.
Социалисту будет приятно узнать, что философ порицал крайнюю бедность как причину конфликтов и преступлений и серьезно относился к радикальным взглядам своего современника-эгалитариста Фалея Халкедонского, считавшего распространенной причиной междоусобицы имущественное неравенство. Но если Фалей предлагал уравнять земельные наделы у всех собственников, то Аристотелю, не склонному к крайним мерам, явно ближе высказанная в «Законах» позиция Платона – любой собственности дозволено превосходить наименьшую из существующих в государстве максимум в пять раз. (Современный западный капитализм, разумеется, допускает гораздо более резкий контраст. 7 июня 2016 г. сэр Мартин Соррелл, генеральный директор рекламного холдинга WPP, обосновывал на собрании акционеров свой годовой доход в 70,4 млн фунтов. Доход складского рабочего эта сумма превышает отнюдь не в пять, а в 5000 раз.) Аристотель сознавал, что имущественное расслоение ведет к распрям, тяжбам и отвратительному низкопоклонству перед сверхбогачами.
Однако он понимал и другое: уравнительная политика угрожает хозяйственно-экономическому разнообразию, обогащающему культуру народа, и стирает грань между принадлежностью к семье и к государству. Государство, состоящее из абсолютно одинаковых элементов, будет менее благополучным, чем дозволяющее определенную степень неравенства; единство в данном случае – это «все равно как если бы кто симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом». Социалист-аристотелевец должен видеть разницу между недостатками государственного устройства и поведения граждан.
Если политические пристрастия для нравственной философии Аристотеля не принципиальны и практиковать ее (в определенных пределах) может приверженец как правых, так и левых взглядов, то отрицающему глобальное потепление найти поддержку у Аристотеля будет труднее. Как натуралиста, полагающегося на эмпирическое исследование путем регулярного пристального наблюдения за явлениями природы (ta phainomena) и тщательной проверки гипотез, Аристотеля, очутись он в нашем времени, встревожил бы огромный массив доказательств ущерба, причиненного человеком окружающей среде. В основу его нравственной философии легли в том числе и естественно-научные исследования, подробно изложенные в трудах, посвященных материальному миру и месту в нем человека как живого, дышащего создания из плоти и крови.
Приравняв человека к животным – пусть и высшим, – Аристотель инициировал перемены в наших этических взаимоотношениях с окружающей средой, значение которых невозможно переоценить до сих пор. Осознавая в полной мере ущерб, причиняемый человеком планете, которую он делит со множеством других живых существ, мы убеждаемся, что научные идеи Аристотеля остаются ключевыми для реализации человеческого потенциала. Аристотель ужаснулся бы, увидев, во что превратило мир наше неумение взять на себя подлинную ответственность за свою планету и остальных ее обитателей. Более того, со своим стремлением жить согласно плану, выстроенному в результате взвешенных раздумий, а также целиком и полностью отвечать за физическое выживание и душевное благополучие человеческого рода в долгосрочной перспективе Аристотель в глазах ученых-естественников и историков выглядит истинным борцом за экологию.
Экологи обращаются к теориям Аристотеля регулярно, поскольку в его трудах подчеркивается причинная обусловленность явлений природы и основная идея «мирового целого» и взаимодействия его компонентов согласуется с современной теорией сложных систем[24]. Они часто ссылаются на великолепно изложенную в «Метафизике» концепцию единства и взаимосвязи природы (physis):
[В мировом целом] все упорядочено определенным образом, но не одинаково и рыбы, и птицы, и растения; и дело обстоит не так, что одно не имеет никакого отношения к другому; какое-то отношение есть. Ибо все упорядочено для одной цели ‹…› в чем участвуют все для блага целого[25].Взаимосвязи между растениями, животными и людьми Аристотель представляет себе в виде концентрических кругов: «Природа переходит так постепенно от предметов бездушных к животным, что в этой непрерывности остаются незаметными и границы, и чему принадлежит промежуточное». Он осознает, что климат способен меняться с течением времени и что эти перемены могут поставить существование человека под угрозу: в «Метеорологике» он говорит о старении Земли и о смене суши морем и наоборот. Целые народы (ethnoi) погибли, не успев засвидетельствовать, что с ними происходит. Некогда тучные земли вокруг Микен, пишет Аристотель, теперь стали сухими и бесплодными.
К охране окружающей среды относится и нравственная концепция Аристотеля, касающаяся экономики. Он подразделяет хозяйственную деятельность на две категории. Первая – естественная составляющая прекрасной жизни, поскольку обеспечивает человеку комфортное существование. Этот тип хозяйственной деятельности имеет закономерные пределы, так как рано или поздно базовые материальные потребности человека оказываются полностью удовлетворены. Другая же категория, которую Аристотель считает неестественной в основе своей, никаких пределов не имеет: может показаться, что он описывает необузданный промышленный капитализм[26]. Но лишь человек обладает нравственной ответственностью, и поэтому на него единственного из всех бессчетных собратьев по планете возложена обязанность об этой планете заботиться. Однако у его уникальных умственных способностей есть и обратная сторона: губить планету он тоже способен как никто другой. У Аристотеля мы находим удручающе точное противопоставление: один дурной человек приносит в 10 000 раз больше вреда, чем животное. Человек изобрел оружие, которое можно использовать во зло, и потому безнравственные люди «оказываются существами самыми нечестивыми и дикими» из всех животных.
В своих трудах, посвященных животному миру, Аристотель демонстрирует среди прочего веру в житейский ум и смекалку необразованного простого народа. Эта вера связана с его убеждением, что «умная толпа», составляющая суть демократии, принимает наилучшие коллективные решения. Он пересказывает услышанное им об изготовлении шелка из коконов бабочки большой ночной павлиний глаз (Saturnia pyri) на острове Кос: «Женщины снимают нити, разматывая их, а затем ткут; первая из них, которая начала ткать, как передают, была Памфила, дочь Платея». Из бесед с охотниками он узнавал, что олених «зачаровывают» пением и насвистыванием и что первые короткие прямые рожки у оленей-двухлеток называются «колкáми», поскольку напоминают деревянные колышки, на которые вешают одежду.
Подробные рассуждения о слуховых способностях и вкусовых ощущениях у рыб появились в «Истории животных» благодаря долгим разговорам с рыбаками о том, как они максимизируют улов, в каких-то случаях намеренно шумя, а в каких-то подплывая к косяку беззвучно и выбирая наиболее действенную для данного вида рыб приманку. В двух афинских бухтах – Фалероне и Пирее – Аристотель выяснял разницу между видами анчоусов. Он узнавал народные названия моллюсков, такие как «луковица» или «вонючка», отражающие отличительные особенности этих животных. Платон бы ужаснулся. Основатель Академии, разработавший теорию «идей», наверняка лишь хмыкнул бы саркастически, услышав красноречивые уверения своего ученика, что естествоиспытатель должен прислушиваться к «простым» людям – охотникам, земледельцам, рыболовам, ежедневно имеющим дело с растениями и животными: «Те, кто лучше знает природные явления, скорее могут делать предположения о первоначалах, позволяющих связать вместе многое»[27].
Самый важный урок, который мы можем вынести из трудов Аристотеля, – о неразрывной связи человека с остальной природой. Рассуждения о смене окраски шерстного и перьевого покрова у живых существ Аристотель начинает с очередности появления седины у человека: «Первыми седеют виски, и передние части седеют раньше задних; последними – волосы на лобке». Следом он переходит к животным, у большинства из которых, как и у человека, седина выступает признаком старости. Есть и исключения, например журавли, с возрастом, наоборот, темнеющие. У других видов смена окраски может быть обусловлена рационом, сезонной линькой или факторами внешней среды – такими, как состав речной воды, в которой купаются овцы.
Человек – это животное общественное, объясняет Аристотель, то есть принадлежащее к той же категории, что пчелы, осы, муравьи и журавли. Но как существу сложному человеку нравится и одиночество, по крайней мере дозированное. У животных встречаются узнаваемые формы управления, схожие с человеческими, – у пчел, в частности, имеется королева. Какие-то животные кочуют, другие оседают на одном месте, строят постоянное жилище и точно так же, как люди, приучают потомство к своему укладу. Особенно восхищают Аристотеля в этом отношении ласточки:
…она переплетает с прутиками грязь и, если не хватает грязи, смочив себя, катается крыльями в пыли. Далее она делает из соломы ложе, как люди, укладывая сначала твердые соломинки и соблюдая соответствие в величине. О кормлении детей заботятся оба родителя; они дают каждому, наблюдая по какой-то привычке, кто получил раньше, чтобы не взял два раза. И экскременты сначала они выбрасывают сами, затем учат птенцов, когда те вырастут, испражняться, поворачиваясь наружу.По зоологическим трудам Аристотеля отчетливо заметно, какое удовольствие доставляли ему наблюдения за животными. Живи он сегодня, мог бы снимать научно-популярные передачи, не уступающие шедеврам Дэвида Аттенборо. Разве можно не любить человека, который описывает один из видов королька в таких выражениях: «Эта птица по величине немногим больше акриды имеет пурпурный хохол и вообще очень приятная и изящная птичка»?
О несомненных подробных систематических наблюдениях свидетельствуют и передовые гипотезы Аристотеля о перелетах птиц через Черное и Средиземное моря. Он подмечает у птиц ряд особенностей, которые, по его мнению, сильнее всего сближают их с человеком: это не только хождение на двух ногах, но и умение издавать членораздельные звуки. Он размышляет о том, как разнообразно представлены в животном мире голосовые способности:
Одни животные издают звуки, другие безгласны, третьи одарены голосом, причем одни из них имеют речь, другие издают нечленораздельные звуки, одни болтливы, другие молчаливы, иные поют, другие неспособны к пению; для всех [из числа этих третьих] общее то, что они больше всего поют и болтают в период спаривания.Немало почерпнул Аристотель из бесед с птицеловами, отлично знавшими повадки разных видов птиц и умевшими рассказать о своем занятии живым образным языком: ушастую сову он описывает как «пересмешницу и подражательницу; ее ловят, когда она состязается в танце с охотником» – то есть пока сова самозабвенно передразнивает пляшущего перед ней птицелова, второй хватает ее сзади. Присутствуя при попытке подпоить болтливого индийского попугая, Аристотель убедился, что тот «становится более невоздержанным, когда выпьет вина».
Во времена Аристотеля численность человеческого населения была небольшой, даже для известного тогда мира, и современники философа плохо представляли себе, как далеко простираются земли за пределами уже освоенной территории. Несмотря на периодические неурожаи и нехватку пищи, ни у кого не возникало ощущения, что природные дары и ресурсы – лес, рыба, певчие птицы, горные львы, новые берега, которые можно колонизировать, – когда-нибудь закончатся. Тем более пророческим выглядит замечание Аристотеля, когда при описании моллюсков он упоминает определенный вид гребешков с острова Лесбос, который считался вымершим. В их исчезновении были повинны не только засухи, но и «инструмент, которым [гребешков] отскабливали», то есть собирали в заливе. Деятельность человека привела к гибели целой колонии живых существ. В мировой литературе это, вероятно, первое упоминание чрезмерного вылова – одной из разновидностей чрезвычайных экологических ситуаций, признанных сегодня на международном уровне. О том, как человеческая жадность сказывается на естественном развитии популяций, повествует и приведенная Аристотелем в «Риторике» поговорка «Как карпафский житель и заяц». Житель Карпатоса, решив заработать на продаже зайчатины, завез на остров пару зайцев – и вскоре те, расплодившись, принялись уничтожать посевы, огороды и местную растительность.
Аристотель был отлично осведомлен о потенциально пагубных последствиях вмешательства в ход естественных процессов. Даже огородные овощи, отмечает он, получающие искусственное орошение, растут лучше, если их поливает еще и дождь, то есть предпочитают природное воздействие. Некоторые скотоводческие методы он порицает как противоестественные и потому вредоносные, в частности обычай спаривать у определенных видов домашних животных молодняк с родительницами. К подобному близкородственному скрещиванию прибегали в том случае, если владелец не мог позволить себе производителя или когда мать и потомство обладали особенно ценными качествами, которые требовалось сохранить при дальнейшем разведении.
Заводчики породистых собак не отказываются от этой практики по сей день, хотя она по праву считается чреватой генетическими рисками и негуманной, – гораздо более предпочтительно линейное разведение, при котором скрещиваются особи, не состоящие в близком родстве. Аристотель абсолютно уверен, что в естественной среде животному не свойственно спариваться с собственной матерью, и приводит примеры сопротивления попыткам склонить их к инцесту: «Верблюды не покрывают своих матерей и, если даже принуждаются к этому, не хотят. Случилось как-то, что за отсутствием производителя верблюжатник, закрывши мать, подпустил к ней ее сына; когда же во время случки покрывало упало, тот прекратил случку, а немного спустя, укусив верблюжатника, убил его».
Коневодство Аристотель изучал не менее пристально. В другом примере он рассказывает о молодом жеребце, который после насильственной случки с матерью, словно трагический герой, обратил ярость на себя самого:
У скифского царя была породистая лошадь, от которой все лошади родились хорошими. Желая, чтобы самый лучший из них жеребец произвел потомство от матери, его подвели для случки, а он не хотел; после того как она была закутана, не зная, он покрыл ее. Когда же по окончании случки голова кобылы была открыта, жеребец, увидя ее, убежал и бросился в пропасть.Аристотеля немало заботят разные подходы к разведению и выпасу лошадей. Пасущиеся в поле особи не болеют почти ничем, за исключением подагры, но с ней они справляются сами, отращивая новое копыто на месте поврежденного. В конюшне же лошади тощают и подхватывают разного рода инфекции: «Лошади в конюшнях страдают многими болезнями, поражает их и илеос» (под этим названием может скрываться дегенеративная миелоэнцефалопатия лошадей, связанная с недостатком витаминов, инфекционная анемия или вирус герпеса ВКГ-1).
Хотя Аристотель ничего не знал ни об «эгоистичном гене», ни о естественном отборе, он определенно улавливал связь между ландшафтно-климатическими условиями той или иной местности и особенностями ее фауны. В Греции или к северу от нее, «в Иллирии, Фракии и Эпире ослы малой величины, в Скифии и стране кельтов они совсем не водятся, так как зимы в них суровы. В Аравии водятся ящерицы величиной больше локтя и мыши гораздо больше полевых». Не подозревая о таком явлении, как внутривидовой коммуникативный резонанс, Аристотель пишет о том, как на юге Греции в 395 г. до н. э. пропали все вороны – как раз после битвы значительно дальше к северу, известной обилием павших. Поскольку вороны никогда не упустят возможность поживиться падалью, Аристотель бесстрастно заключает, что южные вороны потянулись на север, «как будто каким-то образом воспринимали сообщения друг от друга».
В «Истории животных» Аристотель излагает свою выдающуюся классификацию существующей фауны, затрагивая в том числе вопрос о месте человека в мире, поскольку человек – это не что иное, как животное, имеющее определенные отличительные особенности. Между тем в некоторых умениях животные нас бесспорно превосходят. Не все их способности доступны человеку: рассуждая о животных, имеющих наружное ухо, Аристотель отмечает, что среди них «только человек не двигает ушами». На самом деле некоторые уникумы – их действительно не так много – ушами шевелить могут, но Аристотель явно к их числу не принадлежал. Зато он прекрасно знает, что у ряда животных большинство чувств развито гораздо лучше, чем у человека: «Из всех чувств наиболее остро у человека осязание, на втором месте стоит вкус; в остальных он уступает многим животным».
Аристотель – сторонник милосердного обращения с животными, к которому призывает и ученик Сократа Ксенофонт Афинский, автор трактатов «Кинегетик» (о псовой охоте) и «Гиппарх (Обязанности начальника конницы)». Как и у людей, у которых социальные конфликты обусловлены бедностью, Аристотель видит причину агрессии у животных в недостатке ресурсов – в первую очередь пищи. В «Истории животных» мы находим рекомендации, как обращаться с самцами слонов в брачный сезон: «Обильной пищей их делают более кроткими». Аристотель доказывает, что именно на почве голода возникают основные трения между людьми и животными:
Кажется, что, если было бы обилие пищи, животные, которые теперь боятся людей и дичатся, относились бы к ним мирным образом и друг к другу также. Это показывает забота о животных в Египте: вследствие наличия пищи и отсутствия нужды живут совместно даже самые дикие животные; получая пользу, они становятся ручными, как в некоторых местах крокодилы приручаются жрецами благодаря заботе об их пище.Впрочем, о том, как зоологические знания помогают человеку подчинять животных и использовать к своей выгоде, Аристотелю известно не меньше. Он повествует о том, как откармливают свиней во Фракии, и о том, как придают желаемую форму телячьим рожкам, смазывая их теплым воском, пока они еще мягкие, а затем закручивая, как задумано. Он описывает неожиданный способ ловли гадюк, которые «невоздержанны также и по отношению к вину»: если подложить им в качестве приманки наполненные вином черепки, опьяневших гадюк можно брать голыми руками.
Величайшее удовольствие Аристотелю доставляет рассуждать о взаимодействии и сотрудничестве человека с животными. Он вспоминает историю самого знаменитого афинского мула, которому, по слухам, было уже около 80 в период строительства Парфенона (то есть в 430-х гг. до н. э.). Освобожденный от работы по старости, он все равно приходил каждый день и шествовал бок о бок с мулами, тянущими строительные повозки, тем самым побуждая их идти за ним, «так что афиняне издали постановление, чтобы хлеботорговцы не отгоняли его от хлебных ларей». Высокий уровень разума Аристотель находит у дельфина, с которым, по мнению современных ученых, в интеллектуальном отношении действительно может соперничать лишь человек. Аристотель рассказывает о том, как дельфины огромным косяком явились в гавань Карии (юго-запад нынешней Турции) и не уходили, пока рыбак не отпустил их пойманного в сети собрата.
Еще одно умное общественное животное, которому Аристотель заметно симпатизирует и уделяет повышенное внимание, – слон, поражающий воображение естествоиспытателя ловкостью хобота:
Нос у слона такого рода и такой величины, что заменяет ему руки: он пьет и ест, подавая им в рот, и протягивает его погонщику вверх; с его помощью слон вырывает деревья и, проходя по воде, [набирает ее и выдувает фонтаном]. Конец носа искривляется, но не сгибается, так как состоит из хряща.Но гораздо больше восхищение вызывает у Аристотеля ум и характер слона: «Самое кроткое и ручное из всех диких животных – слон, ибо он многому научается и многое понимает: научается даже приветствовать царя [преклоняя колени]. Он обладает острыми чувствами и превосходит других животных всем прочим разумением».
У Аристотеля имеются и другие примеры конструктивного взаимодействия человека с животными. Самку оленя он находит «наиболее благоразумной», поскольку та старается разродиться поближе к проезжей дороге, чтобы оградить новорожденных оленят от хищников, которых отпугнет постоянное движение людей. Своеобразные отношения сформировались у волков с рыбаками в районе Азовского моря: пока рыбаки делятся с волками уловом, все идет хорошо, если же рыбы волкам не достается, они «портят сети, растянутые на земле для просушки». Наличие в бухте рыбы под названием «антий» подсказывает ловцам губок, что в воде нет хищников и можно нырять без опаски. Как свидетельствует Аристотель, благодарные ловцы почитают эту рыбу как священную.
Аристотель понимал, что человек, как и остальные животные, должен в первую очередь позаботиться о физическом выживании – то есть обеспечить себе еду, питье и кров, чтобы не погибнуть через неделю, – прежде чем осознанно стремиться к личному и коллективному счастью. Его поражает, сколько душевных сил остается у человека в этой бесконечной борьбе за существование: сам он склонен считать, что не вынес бы отсутствия возможности для интеллектуальных занятий. Он первым напомнил бы читателю данной книги, какая это роскошь – когда хозяйство и труд ради хлеба насущного отнимают не все время, оставляя простор для удовлетворения более высоких потребностей.
Помня о границе, которую проводит Аристотель между биологическим выживанием и осознанным стремлением к счастью, мы, возможно, проникнемся большим сочувствием к бездомным и голодным, беженцам и переселенцам, инвалидам и смертельно больным людям, а также терпящим жестокое обращение животным. Однако это не значит, что мы должны чувствовать неловкость за свое привилегированное положение, позволяющее заняться самосовершенствованием. Нравственно развитый человек с наибольшей долей вероятности захочет помочь обездоленным. Будьте благодарны за то, что вам повезло больше, и продолжайте стремиться к счастью.
Глава 9 Досуг
И в «Этиках», и в «Политике» вопросам досуга Аристотель посвятил не одну страницу. Отсылки к нему мы находим во всех серьезных исследованиях, посвященных социологии, философии и психологии досуга – от трудов Фомы Аквинского (XIII в.) до авторитетнейшего эссе Йозефа Пипера «Досуг – основа культуры» (1948). Радикальные идеи Аристотеля, касающиеся досуга, как нельзя более актуальны для нашей эпохи, особенно утверждение, что досуг важнее работы, но люди зачастую неправильно распоряжаются свободным временем, если не приучены использовать его конструктивно. Аристотель отмечает, что Спарта приходит в упадок в мирные времена, поскольку совокупность ее законов «рассчитана на воинскую доблесть», а досугом спартанцы «не умеют пользоваться и не могли заняться каким-либо другим делом», кроме военного. Скука – враг не только мира, но и счастья.
Взгляды Аристотеля на смысл и цели досуга кардинально отличались от представлений его предшественников и современников. В Древней Греции, где большинство населения – как рабы, так и свободные – занималось тяжелым трудом, свободное время предпочитали тратить на телесные удовольствия и сомнительные забавы. Как и в XIX в., когда Торстейн Веблен разрабатывал свою теорию «праздного класса» и «демонстративного потребления», зависть трудящегося народа вызывал и сам излишек свободного времени у богачей, и возможность посвятить его недоступным бедноте развлечениям. По мнению Аристотеля, «потому эти развлечения и считаются признаками счастья, что в них проводят свой досуг государи». Однако считающие так глубоко заблуждаются, поскольку от подобных увеселений «скорее бывает вред, а не польза, ибо из-за них не уделяют внимания своему здоровью и имуществу». К подлинному счастью они почти никакого отношения не имеют.
В английском языке «досуг» – leisure – происходит от латинского licere (быть дозволенным), то есть досуг – это время, когда вы свободны от рабочих обязанностей и вольны выбирать, как его провести[28]. Греческое слово schole, которое использует Аристотель, изначально подразумевало «личное» время, когда человек может заниматься чем-то для собственного удовольствия. Со временем у одного из значений schole появились дополнительные ассоциации с познавательной и просветительской деятельностью – поскольку философы считали наличие свободного времени одним из необходимых условий и предпосылок для интеллектуальных занятий. Именно от него произошло наше слово «школа». Однако обширное понятие досуга у Аристотеля включает в себя не только время для исследований и дискуссий. Оно несомненно подразумевает необходимый отдых после работы – физический отдых и восстановление сил, удовлетворение естественной потребности в пище и плотской любви, развлечения и забавы, прогоняющие скуку. Но, кроме этого, оно охватывает и прочие виды занятий, на которые люди переключаются, покончив с утомительными делами, необходимыми для обеспечения средств выживания (крова, пищи и защиты). Если человек будет проводить досуг надлежащим образом, то обретет в нем идеальное свое состояние, подчеркивает Аристотель. Редким счастливчикам удается зарабатывать на жизнь именно тем, что доставляет им наибольшее удовольствие, – раскрывая свой неповторимый потенциал. Большинство людей вынуждены работать из-за финансовой необходимости, и значительную часть своего рабочего времени они предпочли бы заниматься чем-то другим. Ни работу, ни отдых от работы Аристотель не считает самодостаточными целями – это лишь средство обеспечения пространства для досуга, в котором мы сможем полностью реализовать своей потенциал для счастья.
Наша цивилизация одержима работой. Провозглашаемое Аристотелем превосходство продуманного конструктивного досуга над работой или примитивным отдыхом идет вразрез с нашей привычкой идентифицировать себя с профессией или родом деятельности. Спрашивая нового знакомого, чем он занимается, мы имеем в виду способ зарабатывать на жизнь – а не пение в хоре по выходным. Сама мысль об избытке свободного времени, распоряжение которым нужно продумывать отдельно, вызовет саркастический смех у многих рабочих, считающих, что морочить себе голову подобными вопросами может только оторванная от жизни интеллигенция. Однако, по мнению Аристотеля, только часы досуга позволят нам реализовать свой потенциал в полной мере. Работаем мы обычно для того, чтобы обеспечить себе существование, и эта цель роднит нас с остальными животными. А цель досуга может и должна заключаться в том, чтобы развивать другие наши грани, исключительно человеческие: душу, разум, личные и общественные взаимоотношения. Поэтому проводить досуг бездумно и бесцельно – значит тратить время впустую.
Аристотель счел бы неприемлемым современное понятие «трудового рвения», порожденное, как показал Макс Вебер в «Протестантской этике и духе капитализма» (1905), реформацией и промышленной революцией. Люди стали понимать, что с проблемой нищеты и нехватки продовольствия можно справиться – но для этого нужно работать не покладая рук. Возможно, когда-нибудь автоматизация упразднит тяжелый физический труд, однако для этого человеку придется попотеть еще не одно столетие. В итоге статус труда – по крайней мере направленного на максимизацию производства материальных благ – ощутимо повысился. Последствий было несколько. Работа превратилась из средства достижения цели (жизнеобеспечения) в самоцель. «Непроизводительный» труд, то есть не связанный с удовлетворением базовых потребностей, стал считаться менее значимым и важным, чем промышленный. К непроизводительным работникам экономист Адам Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) относит не только государей, но и «священников, юристов, врачей, писателей всякого рода, актеров, паяцев, музыкантов, оперных певцов, танцовщиков и прочих». Максимизация объемов производства потребовала отказаться от ограничения рабочего времени сезонной продолжительностью светового дня – теперь рабочие часы отсчитывал механический хронометр. Рабочий день растянулся, превращая жизнь фабричных городов в бесконечную изматывающую рутину, описанную Диккенсом в «Тяжелых временах» (1854), и ведя на пике промышленного переворота к кошмару 12-часовых смен и эксплуатации детского труда.
В том же 1854 г. вышла книга Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», в которой автор описывал свой опыт обитания в лесной хижине в массачусетской глуши, где у него оставалась масса времени на чтение и раздумья. Он исследует психологическую депривацию, возникающую в капиталистическом обществе. В безудержной погоне за материальным изобилием человечество совершенно потеряло из виду смысл и цель существования и даже принялось выдумывать новые потребности, чтобы оправдать несоразмерные временные затраты на производство ненужных благ. Генри Торо лелеет совершенно аристотелевскую мечту: когда-нибудь каждый городок Новой Англии превратится в аналог Ликея, неустанно пополняющий свое собрание хороших книг, умных газет и журналов, а также произведений искусства. Туда будут приглашать мудрецов со всего света, чтобы местное население в долгие часы досуга могло заниматься образованием. Аристотелю понравилось бы, что Генри Торо предлагает именно образование в качестве конструктивного наполнения досуга. Он с прискорбием сознавал, что основная масса людей социально не подготовлена к тому, чтобы правильно использовать свободное время, хотя, на его взгляд, оно и составляет самую важную часть жизни. Аристотель даже готов был утверждать, что правильное использование досуга станет в идеальном обществе главной целью и задачей образования, – концепция более чем современная.
Одним из следствий неумения распоряжаться досугом явился трудоголизм – синдром, впервые отмеченный после Второй мировой войны, когда многим оказалось сложно вернуться к «обычной» жизни. Невозможность отвлечься от дел вредит как физическому, так и психическому здоровью, поэтому ряд стран и организаций принимают серьезные меры, чтобы не допустить подобного. Так, во Франции сотрудники предприятий отвоевали себе право не проверять рабочую почту в нерабочие часы. При этом мы взращиваем трудоголизм у детей, постоянно увеличивая учебную нагрузку и сокращая в некоторых школах долю занятий музыкой, рукоделием, живописью, спортом – то есть потенциальными хобби и элементами будущего досуга. Учитывая темпы технологического прогресса, нашему обществу пора срочно продумывать досуг будущего. С ростом продолжительности жизни увеличивается период, в течение которого нам уже не понадобится работать, чтобы обеспечить себя. Ускоряющееся развитие искусственного разума означает, что многие основополагающие для человеческого существования трудоемкие дела возьмут на себя роботы, компьютеры и машины. В результате значительно увеличится доля населения, имеющего беспрецедентно низкую недельную норму рабочей нагрузки. Чем меньше времени мы будем отдавать работе, тем актуальнее будут становиться революционные взгляды Аристотеля на досуг.
С увеличением свободного времени появится больше возможностей для самообразования, и, если объединить эти высвободившиеся временны́е ресурсы с бесплатными ресурсами интернета, образование международного уровня станет доступно любому выходящему в сеть. Раньше поставщиками знания для широких масс выступали библиотеки – что позволяло персонажу Мэтта Деймона в фильме «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting, 1997), простому уборщику, заявить зарвавшемуся гарвардскому студенту: «Ты выкинул сто пятьдесят тысяч на образование, которое мог бы получить за полтора доллара в общественной библиотеке». Но теперь и библиотеки отходят на второй план. Ряд университетов, включая Массачусетский технологический университет, предлагают абсолютно бесплатные открытые курсы, а другие, такие как Гарвардская школа бизнеса, предоставляют блестящим ученым площадку для научных блогов. На TED, YouTube и iTunes можно найти видеозаписи и подкасты лекций по любым темам. Но для многих из нас учеба – это последнее, на что мы готовы тратить драгоценные часы отдыха после напряженного рабочего дня. Выход – совмещать приятное с полезным, правильно выбирая занятие для досуга.
Гарри Оверстрит, заведующий кафедрой философии в Городском университете Нью-Йорка с 1911 по 1936 г. и автор нескольких популярных книг по практической и социальной психологии, понимал, что отдых – это дело серьезное: «Для демократии вопрос отдыха не второстепенный. Это первостепенный вопрос, поскольку от того, как люди организуют свой досуг, зависит, какими они становятся и какое общество в итоге строят». Оверстрит проявляет себя в этом знаменитом высказывании как истинный специалист по классической философии, обобщая аристотелевские взгляды на потенциальную способность досуга помогать человеку совершенствоваться или, наоборот, вести к деградации. От того, что мы читаем, смотрим, слушаем в свободное время, напрямую зависит наше нравственное развитие – то, чего мы достигнем (не зря ведь слово «досуг» происходит от «достижения»). Согласно Аристотелю, это значит, что и наше жизненное счастье находится в непосредственной зависимости от выбора увлечения.
Сам Аристотель был большим любителем пеших прогулок, ценившим здоровый дух в здоровом теле. Он несомненно одобрил бы любое времяпрепровождение, связанное с физкультурой, творчеством, наслаждением вкусной едой и напитками. Но серьезных философских рассуждений удостоилось в его трудах лишь чтение, прежде всего драматических произведений, которые составляют центральную тему «Поэтики». И это на самом деле удивительно, если вспомнить, что учитель Аристотеля Платон категорически отвергал «подражательное искусство» и не оставлял ему места в своем идеальном государстве. Почему же Аристотель, серьезный мыслитель, стремившийся познавать мир, чтобы помочь человеческому обществу прийти к совершенству, такое внимание уделял вымышленным сюжетам, разыгрываемым на театральных подмостках? Единственно возможная причина – он был глубоко убежден в потенциальной способности данного развлечения повысить эмоциональный и нравственный уровень как отдельных зрителей, так и всего общества в целом.
Аристотель, вне всякого сомнения, любил театр, музыку и изобразительное искусство. В своих трудах он то и дело упоминает певцов, хоры, арфистов, танцовщиков, поэзию и поэтов, скульптуру и художественные ремесла. О благотворном влиянии искусств на общество он знал не понаслышке. Когда в 48 лет он перебрался в Афины, основанный им Ликей расположился ближе к афинскому театру Диониса на южной стороне Акрополя, чем платоновская Академия. Афины оставались признанным центром театральных зрелищ – любой желающий заявить о себе на подмостках неизменно устремлялся в Афины, как сегодня любой желающий пробиться в мире кинематографа устремляется в Голливуд. Легко можно представить, как Аристотель шествует спозаранку с Теофрастом и учениками в центр города вместе с остальными гражданами и жителями Афин – смотреть трагедии и комедии в святилищах и театрах Диониса, а затем увлеченно анализирует увиденное, шагая обратно в Академию с наступлением темноты. Афинские спектакли разыгрывались не только для того, чтобы покорить публику, но и чтобы повысить ее когнитивный, нравственный и политический уровень и способствовать тем самым благополучию и процветанию города.
Сейчас то и дело вспыхивают дебаты о границах допустимого и приемлемого для демонстрации в телепрограммах, фильмах и спектаклях. Прямой и косвенной цензуре подвергались (и по законам многих стран подвергаются до сих пор) насилие, непечатная лексика, откровенные сцены, нагота. Скандальное «Житие Брайана по Монти Пайтону» (Monty Python's Life of Brian, 1979) обвиняли в богохульстве; показанный в 1987 г. на «Канале 4» фильм, в котором Тони Харрисон читает свое гениальное, но полное бранных слов стихотворение «V.», был раскритикован консервативной Daily Mail и другими самопровозглашенными блюстителями общественной морали; длинную и жестокую сцену изнасилования в фильме Джонатана Каплана «Обвиняемые» (The Accused, 1988) феминистки осуждали как потакающую мужским садистским фантазиям. Современных родителей не устают предупреждать о том, что компьютерные игры (особенно так называемые «шутеры от первого лица») притупляют у детей восприятие насилия. Однако мы зачастую не подозреваем, что эти дебаты начались еще в античные времена и данный вопрос был впервые проработан в философском ключе в платоновской Академии – в споре между Платоном и его самым блестящим учеником Аристотелем. Аристотель утверждал, что мы не склонны слепо копировать вынесенное из произведений искусства: если автор произведения подошел к делу ответственно, мы осмысливаем увиденное и решаем среди прочего, что в нем достойно подражания, а что нет.
Аристотель первым из философов принялся отстаивать образовательную ценность искусства. Он доказывал, что при демократии ответственность драматургов и сочинителей музыки настолько велика, что их следует назначать на государственные должности, выше которых окажутся лишь жреческие. Даже послы и глашатаи будут уступать им в статусе. Примеры из мифов, знаменитых театральных постановок и эпических поэм Аристотель часто приводит не только в работах, посвященных этике. В своем рассуждении о чертах характера как избытке или недостатке определенных качеств он во многом опирается на стереотипы из современных ему комедий. Живи Аристотель в наши дни, он, несомненно, без устали читал бы художественную литературу и смотрел фильмы и телепередачи, черпая оттуда иллюстрации для своих умозаключений. Он первым из мыслителей привел доводы в пользу познавательного потенциала художественных сюжетов и театральных зрелищ, поэтому и к кинематографу многие современные и относительно современные философы применяют не что иное, как переработанные аристотелевские концепции.
Вальтер Беньямин, в частности, полагал, что искусство, прежде всего кинематографическое, способно расширить наш нравственный и социально-политический кругозор. Айрис Мердок, Марта Нуссбаум и Пол Кан доказывали, что философские идеи, особенно этические, находят наиболее полное и доходчивое выражение вовсе не в научных трудах, а в произведениях искусства, демонстрирующих проявление этих идей в конкретных жизненных ситуациях и потому оказывающих более сильное эмоциональное воздействие[29].
Сегодня подлинное искусство намного доступнее, чем во времена Аристотеля, когда театральные зрелища разыгрывались лишь в период празднеств, между которыми проходило по нескольку месяцев. Благодаря интернету выбирать фильмы, спектакли, книги и телепередачи для себя и детей стало как никогда просто, и, наметив себе программу высокопробных развлечений, мы можем день ото дня становиться счастливее и мудрее. Истинно демократичным видом искусства по-прежнему остается кино, поскольку фильмы можно почти бесплатно смотреть дома и даже на больничной койке: моему близкому другу, умиравшему от рассеянного склероза и уже почти полностью утратившему подвижность, ощутимо скрасила последние дни коллекция фильмов на DVD-дисках.
В главе второй своей «Поэтики» Аристотель задается самым главным вопросом: зачем вообще человеку, единственному из всех живых существ, нужно искусство? Во-первых, мы от рождения превосходим других животных в подражательных способностях и именно в процессе подражания наши дети получают свои первые жизненные навыки. А во-вторых, всем людям, независимо от возраста и рода занятий, нравится подражательное искусство. Нам доставляют удовольствие инсценировки и художественные изображения реальной действительности, а удовольствие – это механизм, с помощью которого природа направляет свои создания к тому, что принесет им пользу (питание, продолжение рода и т. д.). У человека как животного общественного и высокоразвитого удовольствие от картин и спектаклей способствует познанию мира. Искусство – это бездонный кладезь человеческого опыта, из которого мы можем черпать знания по сколь угодно сложным вопросам, не сталкиваясь с данными проблемами сами.
Аристотель отмечает, что мы не просто спокойно, но и с удовольствием воспринимаем изображения того, что в действительности показалось бы нам отвратительным. В пример он приводит безобразных животных и человеческие трупы. При виде настоящего паука или медузы мы, скорее всего, отшатнемся, тогда как рисунок – совсем другое дело, о чем Аристотель, препарировавший и зарисовавший немало подобных животных, прекрасно знал. Изображение, допустим каракатицы, может многое поведать изучающему зоологию, даже если сам он никогда это беспозвоночное не видел.
Не менее поразителен второй пример, касающийся трупов. Маловероятно, что Аристотель когда-нибудь присутствовал при вскрытии, однако в античной живописи и литературе, как известно, недостатка в «пособиях» нет. В гомеровской «Илиаде» много внимания уделяется прекрасным телам героев, павших на поле брани, – таких как Патрокл и Гектор. Греческая трагедия заставляет зрителя довольно долго созерцать трупы убитых родными и близкими – это и тела детей Ясона и Медеи, распростертые на колеснице матери в «Медее» Еврипида, и окровавленное тело Гемона, которое безутешный отец с рыданиями вносит на сцену в финале «Антигоны» Софокла. Аристотель доказывал, что искусство позволяет нам размышлять об умерших (в том числе погибших при ужасных обстоятельствах) и безболезненно познавать даже такое страшное явление, как смерть.
Это революционное умозаключение объясняет, зачем мы читаем книги, ходим в художественные галереи, кино или театр, погружаясь в атмосферу насилия и страданий таких масштабов и такого накала, которые в жизни мы бы не выдержали. О кошмаре воздушных налетов на испанские города нам рассказывает «Герника» (1937) Пикассо. О полной тягот и лишений жизни чернокожих в Нью-Йорке 1930-х мы узнаем из «Человека-невидимки» (The Invisible Man, 1952) Ральфа Уолдо Эллисона. О происходящем в камерах женских тюрем повествует популярный телесериал Дженджи Коэн «Оранжевый – хит сезона» (Orange Is the New Black, 2013). Более того, как утверждает Аристотель, этот способ обретения знаний «приятен не только философам, но также и всем другим», пусть и в меньшей степени. К искусству и познанию Аристотель относится как истинный приверженец демократии.
Для всех видов искусства у Аристотеля имеется одна простая рекомендация. Чтобы завоевать признание, любая пьеса, поэтическое произведение, картина или скульптура должна либо доставлять публике удовольствие, либо обогащать интеллектуально. Кому захочется смотреть фильм, который не дает ничего «ни уму ни сердцу»? Хорошее произведение искусства питает и то и другое, подчеркивает Аристотель, вручая нам великолепную мерку, с которой можно подходить к любому творению. Вопрос: «Понравилось ли мне?», безусловно, важен, однако, если на второй вопрос: «Узнал ли я что-то новое?», вы ответите отрицательно, ценность произведения окажется сомнительной.
Заказчикам театральных постановок и киноработ стоит принимать в расчет не только развлекательные, но и познавательные качества продукции. В лондонских театрах сейчас засилье легких, «позитивных» комедий, а в кино – сплошные ремейки, переработки, приквелы, сиквелы и спин-оффы с супергероями комиксов или секретными суперагентами, в одиночку раскрывающими террористические заговоры. Шумных перестрелок, боев и драк или навороченных спецэффектов в фильме зачастую больше, чем диалогов. В 2014 г. на «Оскар» номинировали Брэдли Купера за роль в «Снайпере», а Дэвид Ойелоуо, блестяще сыгравший Мартина Лютера Кинга в «Сельме», внимания Академии киноискусств не удостоился. Да, «Снайпер» захватывает. Актеры красивые, играют неплохо, затронуты некоторые психоэмоциональные проблемы, возникающие у участников боевых действий. Однако если «Сельма» позволяет нам не только насладиться зрелищем, но и многое узнать о борьбе за гражданские права, «Снайпер» никаких новых знаний нам не принесет – ну разве что покажет, как управляться с винтовкой McMillan TAC-338.
События мировой истории превосходно усваиваются из художественных произведений, привносящих в нашу жизнь новый смысл. Если роман, пьеса, фильм сделаны добротно, вы без труда расширите кругозор, получая при этом море удовольствия. Вымышленные сюжеты, создаваемые авторами, режиссерами и драматургами, известными своей скрупулезностью в проработке исторического материала, не уступают в образовательной ценности учебникам истории. Мою страсть к Античности удовлетворяли в подростковом возрасте романы Мэри Рено – особенно «Маска Аполлона»[30] (1966), действие которой разворачивается в аристотелевских Афинах IV в. до н. э. Поскольку основная масса исторических событий – это бесчинства, которые одна часть населения Земли творит над другой, воспринимать их в художественном изложении, не сводящемся к живописанию ужасов, определенно имеет смысл. У каждого наверняка получится собственный список соответствующей литературы – мой возглавят «Наследники»[31] (1955) Уильяма Голдинга (драма о столкновении неандертальцев с Homo sapiens), роман Ксавье Герберта «Каприкорния» (Capricornia, 1938) об австралийских аборигенах, «Стыд»[32] (1983) Салмана Рушди, благодаря которому я наконец начала разбираться в пакистанской политике, и «Юбилей» (Jubilee, 1966) Маргарет Уокер, один из величайших романов о Войне Севера и Юга и Реконструкции, увиденных глазами представителей социальных низов.
Одно из достоинств разработанного Аристотелем этического учения заключается в том, что оно пробуждает интерес к отстраненному анализу чужой жизни (без критики и осуждения). Отмечать, какими качествами характера или поступками обусловлены счастье или злоключения у других людей, как они принимают трудные решения, как справляются с бедой, может быть увлекательно, поучительно и полезно для пополнения своей копилки положительных или отрицательных примеров. Реальная жизнь – неиссякаемый источник этических задач для разбора и анализа. Мировая история тоже расцветает новыми красками, если смотреть на нее с этической точки зрения: что заставило Леонида вести свой малочисленный отряд спартанцев на почти верную гибель в Фермопилах, когда Грецию попытались завоевать персы? Слава о подвиге 300 спартанцев укрепила боевой дух греков и побудила дать более яростный отпор захватчикам – однако глубинные мотивы, свойства характера, размышления Леонида и интересы, которые он защищал (недаром он взял с собой только старших воинов, уже успевших оставить наследников), можно анализировать бесконечно. История – превосходная площадка для упражнений в этике. Как и художественные произведения.
Аристотель ценил свободу вымышленных сюжетов, позволявшую представить абстрактные этические дилеммы в виде конкретных жизненных ситуаций. Писателям, оперирующим условностями – «Что будет, если..?» или, когда действие происходит в историческом прошлом, «Что было бы, если..?», – нужно тщательно продумывать этику поступков и развитие событий «по вероятности или необходимости», пользуясь терминологией Аристотеля. В главе девятой «Поэтики» он приходит к выводу, что художественное произведение (речь идет о жанре трагедии) «содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история: она представляет более общее, а история – частное». Вымысел (например, трагедия, действие которой происходит в мифическом прошлом) дает больший простор, чем действительность, для выяснения, «что приходится говорить или делать по вероятности или по необходимости человеку, обладающему теми или другими качествами».
Во времена Аристотеля греческая литература насчитывала порядка 2000 трагедий, и, судя по многочисленным аллюзиям и цитатам в «Поэтике», значительную их долю философ смотрел или читал сам. Осмыслив и проанализировав их, он учит нас оценивать вымышленные сюжеты с нравственной точки зрения, идентичной той, которая сформулирована в его этических трудах и целиком и полностью основана на опыте человеческого бытия. Именно поэтому его рассуждения не устаревают со временем. Задаваясь вопросом, почему человека постигает несчастье (если оставить за скобками всю религиозную подоплеку, без которой не обходятся тексты трагедий), Аристотель обычно обнаруживает, что виной всему либо ошибка самого человека, либо роковая случайность. Бесспорное центральное место в аристотелевской теории искусств принадлежит разумной нравственно ответственной личности, действующей в условиях, где не все факторы поддаются пониманию и контролю. Аристотеля занимает полное отсутствие высшей справедливости в мире.
Именно поэтому чаще всего, развивая свою теорию искусств, Аристотель ссылается на трагедию Софокла «Царь Эдип», где основной акцент сделан на абсолютной несправедливости и слепоте судьбы, удачи, случая. Эдипу открывается ужасная истина: он женат на собственной матери, которая родила от него четверых детей, а до женитьбы он (сам того не ведая) убил собственного отца в дорожной драке, если называть вещи своими именами. Это яркий пример незаслуженных страданий, поскольку злоключения были уготованы судьбой не лично Эдипу, а любому сыну царя Лая и Иокасты, который доживет хотя бы до отроческих лет. Трагический жребий выпал Эдипу еще до зачатия.
Наряду с полнейшей невиновностью в отцеубийстве и кровосмесительстве, совершенных по неведению, Софокл демонстрирует читателю и зрителю выдающийся ум своего героя. Эдип завоевывает фиванский трон и прекрасную царицу, спасая жителей Фив от тирании Сфинкса, но годы спустя сам становится причиной бед фиванцев, своими невольными прегрешениями навлекая на город мор. Парадокс данной трагедии в том, что, будь Эдип менее умным и целеустремленным, он мог бы так и не узнать правду о своем происхождении. Если бы не блестящий ум Эдипа, царь с царицей дожили бы до преклонных лет в блаженном неведении о своем родстве, однако логические умозаключения приводят их к истине (Иокаста постигает ее чуть раньше супруга). Обоим приходится осознать, что Эдип и есть тот самый младенец, которого Иокаста приказала оставить на горном склоне на съедение зверям, и это «узнавание» ведет к трагической развязке. Иокаста вешается в супружеской спальне, а Эдип, вынув ее тело из петли и сорвав с холодеющего плеча застежку, выкалывает себе глаза. Власть над Фивами переходит к шурину Эдипа Креонту. «В пределах одного круговорота солнца» могущественный и почитаемый всеми повелитель Фив выясняет, что мог бы оказаться на фиванском престоле по праву наследования, но почти сразу вслед за этим лишается и трона, и семьи, и зрения.
Герой реалистичной картины, нарисованной Софоклом, пытается разрешить неразрешимое. Зрителю приходится постоянно отделять те свойства личности Эдипа, благодаря которым он приобрел мудрость и царский трон, от заведомо неподвластного ему злого рока. Неудивительно, что этические дилеммы Аристотелю больше всего нравится разбирать на этом материале. Связи между сюжетом, характером персонажа, ходом мыслей и речами, в которых эти мысли находят выражение, проработаны и выписаны самым тщательным образом. Именно эти четыре составляющие трагедии – фабулу (muthos), характер (ethos), мысли (dianoia) и текст (lexis) – и именно в таком порядке перечислены в «Поэтике» как ключевые элементы жанра, однако эта по-прежнему актуальная и точная формула применима и к любым другим видам художественных произведений.
Аристотель считает Эдипа эталонным трагическим героем, поскольку его образ оптимально проработан, чтобы вызывать у нас сострадание и страх – именно те эмоции, которые, по мнению философа, призвана пробуждать трагедия. Невозможно не проникнуться состраданием к свергнутому правителю Фив, когда тот с истекающими кровью глазницами, шатаясь, уходит со сцены. И, поскольку избежать своей ужасной участи Эдип был не в силах, мы испытываем страх перед неотвратимым злым роком, который может когда-нибудь постигнуть и нас. В непревзойденной главе 13 «Поэтики» Аристотель объясняет, что подобные чувства возникнут у зрителя лишь в том случае, если герой обладает надлежащим нравственным обликом. Мы должны наблюдать героя в момент резких драматических перемен, самая трагичная из которых низвергнет его с высот счастья и успеха в бездну потерь и горя вследствие некой фатальной ошибки – гамартии (hamartia).
Как утверждает Аристотель, единственный способ оценить характер героя – понаблюдать за его речами и поступками. Гамартия – это не перманентный изъян или склонность, она воплощается в сказанном или сделанном или не сказанном (не сделанном) в надлежащий момент. Таким образом, для Аристотеля гамартия, как и все остальные элементы правильной трагедии, означает этику в действии. Именно этот нравственно-психологический акцент и составляет основную ценность качественного художественного произведения, будь то пьеса, фильм или книга: они обладают неповторимым свойством способствовать нашему познанию себя, мира и мрачных областей жизни, даря при этом эстетическое наслаждение.
Один из терминов, почти неразрывно связанных в массовом сознании с Аристотелем, – концепция катарсиса. Сострадание и страх, которые испытывает зритель трагедии, дают ему «очищение подобных чувств». Как сын выдающегося практикующего врача Аристотель не раз присутствовал (возможно, и ассистировал) при различных медицинских процедурах, а побывав и пожив в нескольких отличных друг от друга областях Греции, наверняка мог сравнить местные подходы к лечению.
В «Политике» Аристотель говорит о роли музыки – точнее, религиозных песнопений, приносящих эмоционально возбудимым людей «очищение и облегчение, связанное с удовольствием». Из этих строк следует, что у греков действительно имелись особые священные мелодии, своим мощнейшим воздействием помогавшие людям совладать с крайними проявлениями эмоций. Если, упоминая трагический катарсис в «Поэтике», Аристотель отождествляет его мысленно со «священными песнопениями», то и к трагической постановке следует относиться как к средству пробуждения сильных эмоций у вовлеченных зрителей, призванному не только развлекать, но и вырабатывать у публики умение справляться с аналогичными реакциями в обычной жизни.
Между античным театром и медициной прослеживаются довольно заметные связи: трагедии изобилуют медицинскими метафорами, Софокл, по некоторым свидетельствам, ввел в собственном доме культ бога врачевания Асклепия. Святилища Асклепия часто строили вплотную к театрам – например, в Эпидавре, Коринфе и Бутротоне (нынешняя Албания). Если спроецировать описываемый Аристотелем опыт на современность, получится нечто сопоставимое со «слезовыжималками» – так называют фильмы с душещипательными сценами и берущим за душу музыкальным сопровождением, позволяющие всласть поплакать над страданиями экранных персонажей. В Британии обливаться слезами за просмотром подобного фильма в дружеской компании (обычно женской) – практика распространенная, и я готова лично подтвердить, что переживания такого рода обеспечивают эмоциональную разрядку и помогают выплеснуть наболевшее.
«Поэтика» учит нас правильно воспринимать литературу и драматические постановки, смотреть на искусство через призму этических принципов, которые способны ощутимо обогатить жизнь того, кто решил ступить на аристотелевский путь к счастью. Для начинающего писателя это по-прежнему кладезь бесценных советов, особенно касающихся четырехчастной формулы «фабула, характеры, мысли, текст». Самые важные секреты мастерства содержатся в главах 6, 9 и 13, но и в остальных человек творческой профессии найдет для себя немало вдохновляющего. Аристотелевская идея единого, связного действия, на котором в идеальном произведении строится весь сюжет, позволяет избежать многочисленных «лирических отступлений», рассеивающих внимание публики. Некоторые античные драматурги считали, судя по всему, что для единства достаточно сосредоточить действие на приключениях одного героя – Тесея или Геракла, например. Аристотель же понимал, что в таком случае сюжет рискует провиснуть, стать дискретным и бессвязным – и он, безусловно, прав: сколько мы видели биографических картин, где в наборе разрозненных событий с трудом угадывается сюжетная логика, не говоря уже о причинно-следственных взаимосвязях внутри хронологической последовательности сцен.
Посещение театра не единственный вид досуга, о котором рассуждает Аристотель, хотя именно ему, по крайней мере в дошедших до нас трудах, он уделяет больше всего внимания. Однако подробных инструкций, как распорядиться свободным временем для конструктивного самосовершенствования, философ не дает. Здесь нет готовых рецептов. Все мы разные, поэтому продумывать полезное наполнение своего досуга каждый должен сам, но я уверена, что Аристотель постарался бы не упустить в саморазвитии ни одну из сторон жизни. Как свидетельствует Гераклид Критский, на лекции, с которыми выступали в Афинах философы (в том числе и Аристотель), широкая публика в свободное время валила валом. Между тем, учитывая, какое значение Аристотель придает взаимоотношениям с другими людьми как неотъемлемой составляющей счастья, выбирать компанию для совместного досуга следует не менее осознанно, чем само занятие. Нарисованная им модель общества, в основе которого лежит круговорот добрых дел и гражданское согласие, автоматически подразумевает заведомо конструктивные виды досуга, такие как волонтерство, политическая или общественная деятельность. Главная мысль, которую мы должны усвоить: досуг – это не пустяки. Чтобы сделать его полноценным, необходимо не меньше раздумий и сил, чем мы отдаем основной работе. Потому что именно в свободное время мы обретаем себя и свое подлинное счастье.
Глава 10 Отношение к смерти
Размышляя о счастье, нельзя не задаться вопросом о смерти. Независимо от религиозных убеждений, от веры в богов и загробную жизнь мы твердо знаем, что и нам, и нашим близким когда-то предстоит уйти. Физическое существование, данное нам в ощущениях, закончится. Аристотель, считавший умение задуматься о смерти непременным условием деятельного счастья и прекрасной жизни, не пытался приукрасить горькую истину: «А самое страшное – это смерть, ибо это предел». Как же нам по его примеру не просто принимать эту ужасную правду, но и обращать себе на пользу, повышая тем самым вероятность обретения счастья при жизни?
Страх смерти свойственен всем гоминидам. 50 000 лет назад неандертальцы совершали на удивление сложные обряды погребения, бережно укладывая украшенные цветами и разрисованные охрой тела усопших в неглубокие могилы. Секрет бессмертия пытается узнать герой одного из старейших литературных памятников, созданных человечеством, – «Эпоса о Гильгамеше». Раздумья о смерти влекут за собой неразрешимые вопросы о тайнах бытия и невидимых силах, движущих зримым миром, – те самые вопросы, которые впервые возникают у нас еще в детстве. Зачем я здесь? Откуда взялся? Кто или что управляет Вселенной? Существуют ли боги? Следят ли они за мной и моими поступками? Должен ли я им поклоняться? Что со мной будет, когда я умру? Позволительно ли человеку покончить с собой? Есть ли способ по-прежнему общаться с теми, кого я люблю, когда они умрут?
Эти вопросы то обостряются, то теряют остроту, отступая перед повседневными делами и заботами. Пока мы ставим себе жизненные цели, распознаем и реализуем свой потенциал, усердно трудимся, заводим друзей и влюбляемся, рожаем и воспитываем детей, принимаем важные решения, наслаждаемся отдыхом, экзистенциальные вопросы отходят на второй план и как будто не напоминают о себе. А потом, зачастую без всяких предпосылок, встают перед нами во весь рост – в виде травмы, увечья, страшного диагноза, неизлечимой болезни, депрессии, попыток самоубийства у нас или наших близких. От них не получается отмахнуться, когда ребенок или другие ваши подопечные требуют ответов и утешения в минуту скорби и страданий. У человека, пережившего несчастный случай или побывавшего на пороге смерти, полученная психологическая травма может спровоцировать желание разобраться в вопросах жизни, смерти и веры. Именно это произошло с персонажем Джеффа Бриджеса в фильме Питера Уира «Бесстрашный» (Fearless, 1993): уцелев в авиакатастрофе, он начинает переосмысливать все, что прежде считал само собой разумеющимся.
Даже если в силу религиозных или духовных убеждений вы верите в вероятность загробной жизни, большая часть из того, что Аристотель говорил о смерти и ее преддверии, пригодится вам и вашим близким еще на этом свете. Немало рассуждал о роли смерти и учитель Аристотеля Платон, хотя и считал ее лишь сменой внешней, телесной оболочки. Согласно концепции Платона, человеческая душа бессмертна и постоянно перерождается в физическом мире. Другой же обозначенный Платоном план действительности, неизменный потусторонний мир идей, куда раз за разом возвращается душа, ранние христиане отождествляли с Богом как Творцом. Аристотель знал, что многие из его читателей верят в загробную жизнь. Намеки на то, что его этика вполне способна сочетаться с верой в бессмертие души, мы находим в диалоге, призванном утешить скорбящих о героической гибели киприота по имени Евдем, не принадлежавших к философским кругам. Но сам Аристотель, как большинство сегодняшних атеистов и агностиков, безусловно считал смерть окончательной и бесповоротной. Бессмертия можно желать, говорит он в «Никомаховой этике», но сознательно выбрать его человеку не дано.
Никакие другие концепции даже сравнивать нельзя с аристотелевским научным подходом к этому вопросу, изложенным в труде со звучным названием «О возникновении и уничтожении». Все в нашем физическом мире, включая такое живое существо, как человек, проходит перманентный процесс появления на свет, роста, изменений, увядания и исчезновения. Смерть наступает, потому что заканчивается тепло, присущее от рождения каждому живому организму. Жизнь любого животного длится ровно столько, на сколько хватает этого врожденного тепла, которое, по словам Аристотеля, «воспламеняет разум». Когда смерть гасит этот огонь, организм, слагающийся из теплого физического тела и сознания (или «души»), начинает распадаться. Как пишет Аристотель в трактате «О душе», у этого существа перестают возникать лично ему присущие мысли и ощущения.
В дальнейшем многие философы соглашались с аристотелевским представлением о прекращении работы сознания вследствие смерти – как при выключении лампочки или выдергивании шнура из розетки. Эта мрачная перспектива на протяжении долгого времени оставалась одним из основных философских вопросов. Психотерапевты и консультанты, оказывающие психологическую поддержку неизлечимо больным или переживающим потерю близких, основной упор делают на принятии смерти, смирении с «уходом из жизни». Однако Аристотель, который считал смерть одной из самых страшных бед, с которыми сталкивается человечество, ничего подобного не рекомендует. Истина аристотелевской философии заключается в следующем: чем лучше вы освоили ее этические принципы и, соответственно, чем счастливее стали, тем больше на первый взгляд вы теряете в случае смерти. Если вам удалось выстроить великолепные личные взаимоотношения, одна только мысль о разрыве связи с близкими и любимыми остужает любой восторг и сводит на нет любые философские и богословские утешения, которые нам предлагаются. Роберт Грейвз в своем пронзительном стихотворении «Чистая смерть» (Pure Death) говорит об этом так:
Любовь открыла нам глаза, Любовь вселила перед смертью ужас, Которому она давала волю пред каждым Философом или седобородым богословом: Смерть встала перед нами в полный рост.Аристотель, горячо любивший родных и друзей, много размышлял о смерти. Если бы ему пришлось ознакомиться с тем отношением к кончине, которое проповедовал китайский философ Конфуций двумя столетиями раньше, у него возникли бы смешанные чувства. Он несомненно одобрил бы призыв вести добродетельную жизнь здесь и сейчас, не забивая себе голову мыслями о призраках и загробном бытии, но за стремление избегать любых разговоров о смерти Аристотель наверняка бы Конфуция раскритиковал. В его собственной этике можно найти способы притупить деструктивное воздействие смерти и обрести в этом некоторое утешение, однако для человека любознательного, ищущего истину, отрицание смерти и самообман исключаются. В философии Аристотеля нет ни одного указания на то, что смерть обязательно нужно принять или смириться с ней, зато повсеместно присутствует идея, что осознание собственной смертности и всего с ней сопряженного может послужить хорошей опорой для прекрасной жизни – и ухода из нее. Хотя это вовсе не значит, что нам не позволено, как призывал Дилан Томас своего отца, «быть яростным пред ночью всех ночей». Эта ярость хорошо показана в фильме Изабель Койшет «Элегия» (Elegy, 2008) по роману Филипа Рота «Умирающее животное», главный герой которого, известный интеллектуал, не может свыкнуться с неотвратимостью старения и смерти.
После Аристотеля в философии возникали самые разнообразные представления о смерти, но, поскольку он первым из мыслителей без прикрас описал все, что связано с угасанием сознания, большинство этих концепций так или иначе восходят к изложенному в его трудах. Приверженцы одной из крайних точек зрения единственно приемлемой реакцией на бренность считают аналоги воззваний Дилана Томаса «Не уходить безропотно во тьму». Американский философ югославского происхождения Томас Нагель, в частности, доказывает, что жизнь приобщает нас к совокупности своих прекрасных составляющих, поэтому расставание с ними вследствие смерти в любом возрасте воспринимается как утрата – собственного «я», чувственных ощущений или жизненного опыта[33]. Элиас Канетти, немецко-болгарский писатель из еврейской семьи, основную часть жизни проживший в Британии и удостоившийся в 1981 г. Нобелевской премии в области литературы, был убежден, что не нужно ставить себе цель смириться со смертью как с неизбежным, наоборот, ее следует считать бессмысленным злом, «главной бедой всего сущего, неразрешимой и непостижимой». Он порицал стремление любых религий придать смерти смысл и даже приравнивал хладнокровное восприятие смерти к примирению с убийством[34]. Испанский философ и специалист по античной литературе Мигель де Унамуно считал, что человечество увязло в бесконечном трагическом конфликте между эмоциональным чувствующим «я», которое жаждет вечной жизни, и «я» рациональным, сознающим бренность органического бытия. Но в отличие от Нагеля и Канетти, Унамуно, как и они, видя в смерти трагедию, лишение, сопоставимое с убийством, приходит к совершенно аристотелевскому выводу о необходимости стремиться к добродетельной жизни: «Человек обречен на гибель. Пусть так, но погибнем сопротивляясь, и если нам уготовано небытие, то постараемся, чтобы оно не было заслуженным»[35]. Несправедливость смерти – это повод стремиться прожить жизнь так, чтобы расставание с ней показалось еще менее оправданным.
Наиболее образно выразил представление о несправедливости смерти Блез Паскаль в своих «Мыслях» (1670):
Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают – им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды. Вот вам картина условий человеческого существования[36].Кандальники у Паскаля, как и камера испанской тюрьмы в рассказе Сартра «Стена»[37], долина смертной тени в псалме Давида, дерево в пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» – это метафоры бренности человеческой жизни. Однако Аристотель не оставил бы от метафоры Паскаля камня на камне: мы не на каторге, и никто не сводит наше единственное занятие к тому, чтобы наблюдать, как смерть уносит товарищей. У нас есть свобода воли, свобода действий и потенциал для огромного счастья, которое обеспечивает нам правильная жизнь и круг любящих людей. Мы можем надеяться обрести домашний уют, достичь поставленных целей, конструктивно трудиться и отдыхать, испытывать удовольствие и наслаждение, удивляться многообразию и красоте окружающего мира и основную часть своей сознательной жизни думать не только о смерти. У некоторых философов (в том числе Хайдеггера, Камю, Сартра и Фуко) смерть превращается в навязчивую идею на грани фетишизма, которую Аристотель счел бы крайностью. Как и во всех остальных этических вопросах, чтобы выработать оптимальное отношение к проблеме смерти, необходимо отыскать середину между избытком и недостатком.
Соблюдать меру во «взорах на кончину» – это еще один шаг к наиболее желательному для Аристотеля образу жизни, то есть приносящему максимальное удовлетворение. Монтень, Аристотеля одновременно любивший и ненавидевший, погрузился в непрестанные мысли о смерти, пожалуй, чересчур глубоко: «Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который бы так основательно подготовился к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне»[38]. Однако в процессе этих размышлений Монтень сделал открытие, которое вернуло его к жизни: «Когда я танцую, то танцую; когда я сплю, то сплю». Ницше придерживался взглядов, больше схожих с аристотелевскими: признавая свою бренность и оставляя надежду на посмертное существование, мы, как зрелые люди, принимаем полную ответственность за состояние имеющейся действительности, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость жить более полнокровно и деятельно.
Нравственная самодостаточность (autarkeia) подразумевает личную независимость и требует от человека быть «честным с самим собой». Без осознания, что в глаза собственной бренности вам придется смотреть самим (ни на кого другого это переложить не удастся), никакой честности с собственным «я» не будет. Хайдеггер, чьи представления о природе всего сущего обычно не увязывают с аристотелевскими, отвел смерти ключевую роль в своей схожей концепции аутентичного субъекта (того самого «я», обозначающего неповторимую личность), изложенной в «Бытии и времени»[39]. Хайдеггер считал, что люди разрываются между соблюдением принятых в обществе правил и норм и глубокой убежденностью в своей личной исключительности и уникальности как отдельного аутентичного «я». Необходимость оправдывать общественные ожидания притупляет ощущение обособленности, воплощением которой выступает наше неизбежное одиночество, связанное со смертью. Поэтому, чтобы при жизни сохранять аутентичность и верность неповторимому «я», мы вынуждены «взирать на кончину» и задумываться о смерти. Хайдеггер говорит, что никакое «бытие с другими» не спасет нас перед лицом смерти, и ощущение себя неповторимой сущностью пропадет вместе с сознанием. Тем не менее, как ни парадоксально, именно это понимание способно придать нам как нравственно ответственным субъектам энергии и целеустремленности в работе и личных взаимоотношениях[40]. Кроме того, четкое представление о том, что погибнет вместе с нами, подстегивает наше творческое начало. Как выразился Микеланджело: «Во мне нет ни единой мысли, которой не коснулся бы резец смерти».
Рассуждая о том, можно ли назвать счастливым человека, который уже умер, Аристотель обнаруживает среди свойств смерти нечто, как ни странно, утешительное: после кончины многое, несомненно, меняется, но одно остается совершенно неизменным – это «личность» умершего. То самое неповторимое «я» обозначается четче и резче, утратив вследствие смерти способность к дальнейшим метаморфозам. В истории человечества и в памяти других людей отпечатывается окончательный образ вашей уникальной личности[41]. Когда смерть уносит кого-то из членов семьи, домочадцы продолжают оглядываться на него – иногда больше, чем при жизни, поскольку теперь его место и роль обретают окончательную определенность. Если из троих ваших братьев и сестер кто-то умрет, вы все равно останетесь одним из четверых. Именно об этом повествует стихотворение Вордсворта «Нас семеро» (We Are Seven), маленькая героиня которого твердит «нас семь всего», хоть «на кладбище брат с сестрой лежат из семерых». Смерть ребенка всегда кажется наиболее несправедливой, потому что его потенциал остается нераскрытым. Есть два великолепных фильма, которые, передавая всю глубину боли от подобной утраты, исследуют вместе с тем разнообразие возможных реакций. Это «Славное будущее» (The Sweet Hereafter, 1997) Атома Эгояна, главной темой которого становится стремление найти виноватого, и «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea, 2016) Кеннета Лонергана.
Аристотель рассматривает все живые организмы как обладающие сознанием и при благоприятных обстоятельствах успевающие полностью раскрыть свой потенциал, прежде чем постепенно состариться и скончаться. Это значит, что у каждого есть своя история, сюжетная линия, как у персонажа тщательно проработанного романа. Она обладает собственным единством времени, которое, как утверждает Аристотель в «Поэтике», есть непременное свойство хорошей пьесы или эпической поэмы. Аналогию с драматическим сюжетом он проводит и утверждая, что изначальные злоключения и страдания отдельного персонажа важнее для определения его «итогового» счастья, чем происходящее после кончины. Человек, усвоивший аристотелевские этические принципы, будет осознавать, что проживает собственную жизнь, то есть в течение непрерывного периода присутствует в мире как самостоятельная фигура, формировать которую он способен лично, если подойдет к этому ответственно и проявит самодостаточность. Он может сам писать свою жизненную повесть, добиваясь единства, связности и цельности сюжета. Людям свойственно мыслить повествовательными категориями, поэтому, «взирая на кончину», проще подготовить все для того, чтобы последняя глава оказалась не такой печальной. Этот взгляд на жизнь может ощутимо нас утешить. Аристотель знал, какое облегчение дарит чувство организованной завершенности. Современные психологи считают, что тяга к завершенности «прошита» у нас в подкорке и может иметь биологическую основу, помогающую нам по мере старения справиться с увяданием и перспективой смерти[42].
Аристотелевская этика побуждает нас планировать жизнь с расчетом на реализацию потенциала. Сейчас у людей, дни которых сочтены, есть практика составлять списки желаний, которые им хотелось бы осуществить до кончины. Именно так поступают двое неизлечимо больных в фильме Роба Райнера «Пока не сыграл в ящик» (The Bucket List, 2007), включив в свой перечень прыжок с парашютом, перелет через Северный полюс и подъем на Эверест. Этот мотивирующий фильм поддержал многих обладателей смертельного диагноза, как и картина Акиры Куросавы «Жить» (1952), снятая по мотивам толстовской «Смерти Ивана Ильича». Главный герой этой драмы, токийский чиновник, обреченный на смерть от рака, осознает, что всю жизнь занимался чем-то бесполезным и бессмысленным, поэтому оставшиеся ему несколько недель посвящает лоббированию проекта новой игровой площадки для детей.
Однако аристотелевская концепция подразумевает гораздо более долгосрочные и последовательные проекты, которых у каждого из нас наберется немало. Это может быть и воспитание ребенка, и драгоценная дружба, и собственный бизнес, и облагораживание дома или сада, и участие в благотворительности, и руководство школой, и разведение собак, и хобби, и восхождение в горы, и политическая активность, и работа над книгой, и коллекция антиквариата. Все эти проекты объединяет принадлежность вам как личности. Приверженец Аристотеля работает над своими проектами непрерывно, выстраивая тем самым связь между прошлым, настоящим и будущим, и, задумываясь о смерти, повышает вероятность успешного осуществления замыслов. На каждом из этих проектов смерть скажется по-своему: одни оборвутся вместе с жизнью, другие продолжатся. И вот здесь крайне необходимо заранее серьезно все продумать и, если понадобится, предпринять нужные действия.
Обсуждайте перспективу своей смерти с родными и друзьями. Подобные проекты – взаимоотношения с любящими людьми – не гибнут вместе с нами. К счастью, вряд ли кому-то из нас выпадет лишиться всех своих жизненных проектов – такую утрату даже Аристотель признал бы невыносимой. Примером человека, у которого отняли все возможности для благополучия, у Аристотеля служит Приам, потерявший всех своих сыновей и видевший, как пламя пожирает город, которым он так долго и так славно правил. Большинству из нас потери настолько катастрофические не грозят. Кто-то из любимых и близких переживет вас и сохранит вашу любовь, даже когда угаснет ваше сознание. Заботясь о них, важно предвидеть не только психоэмоциональные последствия, но и огласить свои пожелания, касающиеся предсмертного медицинского ухода, мелкого имущества, не охваченного завещанием, похорон и обращения с останками. Одна моя коллега, овдовев, оказалась в затруднительном положении, которого можно было бы избежать, обсуди она с мужем заранее, где развеять его прах. Теперь же, мучаясь сомнениями, она не в силах заставить себя даже урну забрать из крематория.
Мысли о смерти могут послужить стимулом и дисциплинирующим фактором, побуждающим воплотить или довести до конца намеченное – оформить нужные документы для учреждения благотворительного фонда, написать книгу, взобраться на Килиманджаро. Какие-то проекты вполне поддаются перепоручению: вкладывая силы и труд в дом, в бизнес, в коллекционирование антиквариата, важно четко обозначить, хотим ли мы сохранить это предприятие после своей смерти и кому готовы его передать.
Сам Аристотель считал «прекрасную смерть» задачей не менее важной, чем прекрасная жизнь. Хотя в своих философских трудах он не разбирает подробно, как встречать смерть, сведения об обстоятельствах его собственной кончины, а также дошедшее до нас завещание выступают неплохим примером.
Аристотель скончался в 322 г. до н. э. в Халкиде, куда вынужден был уехать из Афин. Отрицание вмешательства богов в человеческие дела и научный подход к познанию мира послужили удобным поводом для преследования его по религиозным мотивам. После смерти Александра Македонского враги Аристотеля в Афинах воспользовались ситуацией и обвинили философа в безбожии – точно так же, как Сократа восемью десятилетиями раньше. Однако Аристотель предпочел не представать перед судом. У Сократа имелась возможность бежать из Афин и уцелеть, но он решил пожертвовать собой и остаться. Аристотель же, хоть и страдал к тому времени тяжелой болезнью желудка (предположительно, раком), был не из тех, кто легко расстается с жизнью. Он укрылся в имении с садом и домиком для гостей, принадлежавшим семье его матери, в Халкиде на острове Эвбея, куда с ним последовала и Герпеллида, мать его сына Никомаха. Именно там он и встретил смерть. Наверняка его не покидало беспокойство, наверняка он отчаянно тосковал по Ликею и по верному другу Теофрасту, на которого оставил свое детище.
Между тем Халкида оказалась самым подходящим местом для приготовления к смерти, которую Аристотель, обладавший достаточными медицинскими знаниями, наверняка спрогнозировал. Психологическую поддержку он получал, читая классическую литературу: «чем старше я становлюсь и чем больше отдаляюсь», тем большее наслаждение, как свидетельствуют эти трогательные строки, написанные им на склоне дней, дарили ему древние мифы. Морской воздух Халкиды и в наше время не утратил целебной свежести, и мне отрадно думать, что смертельно больной философ прогуливался по длинной залитой солнцем тропе вдоль берега – один или с Герпеллидой и детьми, обсуждая, как им справиться с его предстоящим уходом и как жить дальше без него. Скорбь по любимому человеку – это самое мучительное переживание для большинства из нас, и к нему было бы нелишне подготовиться. Аристотель утешался чтением древнегреческой классики, изобилующей сценами смерти героев, мы же можем смотреть кино. Так, например, «Фонтан» (The Fountain, 2006) Даррена Аронофски позволяет нам проникнуть в чувства смертельно больной женщины, которой хотелось бы провести последние дни с мужем, но тот, не желая мириться с неминуемым, с головой уходит в поиски лекарства, способного ее спасти. О переживании утраты с невероятной чуткостью повествует квебекский режиссер Филипп Фалардо в блестящем фильме «Господин Лазар» (Monsieur Lazhar, 2011), где мы проникаемся и горем детей, потерявших учительницу, и горем принятого ей на замену политического беженца, чьи жена и дети погибли на родине.
Завещание Аристотеля, в котором тщательно проработаны несколько потенциальных вариантов развития событий в зависимости от того, кто из его подопечных и любимых кого переживет, делает честь самым предусмотрительным из наследодателей. Кроме двоих родных детей, Никомаха и Пифиады, на попечении Аристотеля находился усыновленный им племянник Никанор. Зная, что ему предстоит оставить их в политически нестабильные времена, когда у него самого имеются враги среди афинян, Аристотель назначил главным душеприказчиком самого влиятельного человека, на которого только мог рассчитывать, – македонского полководца Антипатра, своего давнего сторонника, теперь правившего Грецией. Аристотель сыграл по-крупному. При таком душеприказчике нарушить последнюю волю философа можно было только с риском для собственной жизни.
Судя по одному из начальных пунктов завещания, Аристотель записывал или редактировал текст незадолго до смерти, понимая, что не оправится от болезни. Вторым душеприказчиком философ намеревался назначить своего воспитанника Никанора, сына старшей сестры Аримнесты и ее мужа Проксена, но тот, очевидно, был где-то в чужих краях. Поэтому до возвращения Никанора Аристотель просил четверых своих друзей и отдельно Теофраста (которому, как новому руководителю Ликея, видимо, и так хватало хлопот), «если он того пожелает и если ему будет возможно»[43], позаботиться «о моих детях и Герпиллиде и об остающемся после меня имуществе».
Аристотель с ощутимым почтением относился к своему приемному сыну Никанору – именно его он определил в опекуны обоим своим родным детям. Но поскольку разница в возрасте между ним и будущими подопечными была не слишком велика, Аристотель понимал, что Никанор станет им «словно отец и брат». Прежде всего ему предстояло защитить интересы Пифиады и «распоряжаться о сыне и обо всем остальном достойно себя и нас». Женщину, лишившуюся заступника, могли легко пустить по миру, поэтому ей требовался порядочный человек в качестве законного представителя. Аристотель хотел, чтобы Никанор женился на Пифиаде и принял на себя ответственность за нее и их возможных детей. Беспокойство за дочь было столь сильным, что Аристотель указывает в завещании и вторую кандидатуру в мужья Пифиаде, в случае если скончается Никанор, – своего друга Теофраста.
Наверное, самая загадочная фигура в личной жизни Аристотеля – его многолетняя спутница Герпеллида, также переселившаяся в Афины из Стагиры. Сочетаться с ней законным браком Аристотелю скорее всего мешал ее низкий социальный статус – она была либо рабыней, либо освобожденной. Подозреваю, что, кроме того, он оберегал душевный покой родной дочери, Пифиады: в Античности конфликты между неродными родителями и детьми могли вспыхивать крайне жестокие. Умирающая героиня трагедии Еврипида «Алькеста» просит мужа об одном: не жениться во второй раз и не приводить к детям злую мачеху. Наверняка тронул Пифиаду пункт завещания, касающийся праха ее родной матери, который надлежало перезахоронить в одном склепе с Аристотелем.
Однако, даже не будучи законной женой, Герпеллида родила Аристотелю сына Никомаха, чье благополучие он стремится обеспечить с той же предусмотрительностью. Аристотель не забывает упомянуть, что Герпеллида «была ко мне хороша», тем самым обязывая исполнителей его воли в точности следовать подробным распоряжениям, свидетельствующим о большой любви и признательности:
Если она захочет выйти замуж, то пусть выдадут ее за человека, достойного нас. В добавление к полученному ею ранее выдать ей из наследства талант серебра и троих прислужниц, каких выберет, а рабыню и раба Пиррея оставить за ней. Если она предпочтет жить в Халкиде, то предоставить ей гостиное помещение возле сада; если в Стагире, то отцовский дом; и какой бы дом она ни выбрала, душеприказчикам обставить его утварью, какою они сочтут за лучшее и для Герпиллиды удобнейшее.Интересно, долго ли умоляла Аристотеля мать его единственного родного сына не поручать обустройство ее будущего жилища полководцам и философам?
Распоряжения, касающиеся рабов, хотя и не были беспрецедентными для состоятельного домохозяина IV столетия до н. э., все же свидетельствуют о теплоте взаимоотношений. После кончины Аристотеля всех рабов надлежало освободить немедленно или в определенный указанный срок (например, после замужества Пифиады). Некоторым к тому же завещалась значительная денежная сумма. Отдельным пунктом следует указание не продавать никого из прислуги в другой дом (где рабы могут попасть к жестокому хозяину): «Никого из мальчиков, мне служивших, не продавать, но всех содержать, а как придут в возраст, то отпустить на волю, если заслужат».
Как и всех древних греков, Аристотеля интересовала возможность достичь своеобразного бессмертия, оставив след, который будет заметен и последующим поколениям. Самый очевидный след – это дети и внуки, носители наших генов и продолжатели рода. Со времен Гомера поэты с гордостью говорили о бессмертии, которое обретают воспетые ими подвиги или даже злоключения, и о том, что благодаря их искусству слава о герое будет жить в веках. Располагающие достаточными средствами увековечивали себя и своих близких в скульптурных и живописных портретах, заказывали надгробия, строили склепы и воздвигали мавзолеи. Философы (в первую очередь Платон) приравнивали рождение идеи к рождению ребенка, поскольку ценные идеи надолго переживают своих «отцов», продолжая влиять на умы и мир после их смерти.
Аристотеля завораживало разнообразие ухищрений, придуманных человечеством, чтобы обойти биологическую смерть. И хотя сам он не верил в жизнь сознания после гибели физического тела, он старался не посягать на инстинктивную потребность людей в обрядах, которые связывают их с усопшими родными и любимыми. Утверждать, что узы дружбы, пронизывающие все древнегреческое общество, полностью распадаются после смерти, было бы, как признавал сам Аристотель, вредно (или, если буквально, «недружелюбно», aphilon). Он написал оду в честь своего умершего друга Гермия, правителя Ассоса, давшего ему приют в зрелые годы. Своему самому надежному другу и ученику Теофрасту он передал руководство Ликеем и покинул этот мир, зная, что у его научных открытий и идей будут десятки продолжателей в лице молодых философов. Но вместе с тем ему удалось добавить к известному арсеналу средств борьбы с забвением и тленом еще один полезный инструмент – систематическое совершенствование способности к сознательному воспоминанию.
Умершие живут в памяти тех, кто их любил и с кем они соприкасались. Методично и дисциплинированно работая с воспоминаниями, последователь Аристотеля сумеет справиться и с собственным старением, и с потерей близких и любимых. Аристотель первым из известных нам мыслителей проводит грань между памятью и произвольным припоминанием, осознавая всю важность последнего: из всех живых существ один лишь человек способен намеренно извлекать из недр памяти хранящиеся там сведения. Сократ, пропагандировавший теорию перерождения, выдвинул идею, что познание – это припоминание усвоенного нами в прошлой жизни. Однако Аристотелю было не до умозрительных рассуждений о том, что наша душа уже рождалась в давние эпохи в другом теле. Его интересовало, какие природные задатки для развития имеются у нашего действительного разума и как способствует его созреванию индивидуальный жизненный опыт вкупе с тренировкой памяти и воображения.
Исследованию этой поразительной человеческой способности Аристотель посвятил целый трактат «О памяти и припоминании». Читать его крайне увлекательно – в силу интимности изложения, позволяющей проникнуть в ход мыслей философа. Как и любого из нас, его раздражают навязчивые мелодии и поговорки, которые «упрямо вертятся в голове». Даже если попытаться «отвлечься и не поддаваться, мы снова и снова ловим себя на том, что все равно напеваем или повторяем знакомое и неотвязное». Ему прекрасно известна способность психики блокировать или подавлять воспоминания, а также принимать мнимые за истинные (то, что сейчас называется синдромом восстановленной памяти): «В нашей памяти, очевидно, может храниться не то, что мы припоминаем сейчас, а то, что мы когда-то видели или испытали». Возможно, и у самого Аристотеля в какой-то момент всплывали в памяти переживания, связанные с позабытой на долгие годы детской травмой. Он старается отследить и описать в мельчайших подробностях, как происходит созерцание мысленных картин, рождающихся в его сознании. Мысленные картины – это либо нечто гипотетическое и воображаемое, либо прогноз дальнейшего развития событий, либо случайное или намеренно вызванное воспоминание из прошлого: «без мысленного образа невозможны даже раздумья».
О воображении Аристотель высказывается наиболее обстоятельно в другой своей работе – «О душе». А здесь, в трактате «О памяти и припоминании», для него важнее всего огромная разница между случайным воспоминанием (хотя и оно может быть ценно) и намеренным извлечением из памяти. Запоминать способны и другие животные помимо человека – Аристотель наблюдал, как они учатся за счет повторения на практике: собака, например, помнит, куда идти на прогулке, потому что уже ходила здесь раньше. Однако она не в состоянии предаться целенаправленным воспоминаниям – как ей жилось щенком, где они с хозяином путешествовали прошлым летом, как выглядела ее мать.
Несмотря на всю серьезность аристотелевских рассуждений, я не могу удержаться от улыбки, читая о разнице между произвольным припоминанием и случайным: «Обладать хорошей памятью – это не то же самое, что уметь вспоминать. Вообще говоря, наилучшей памятью могут похвастаться тугодумы, тогда как припоминание легче дается остроумцам и тем, кто схватывает на лету». Способности вспоминать можно развить. Но отмеченная Аристотелем цепкость памяти у «тугодумов» наводит на подозрения, что древнегреческие «рассеянные ученые», как и многие современные профессора, чьи мысли обычно заняты теми или иными высокими материями, тоже с трудом запоминали списки покупок и прочие бытовые мелочи.
Память и припоминание соотносятся с чувствами по-разному. Память, как указывает Аристотель, привязана к физическим ощущениям. Марсель Пруст в первом романе из цикла «В поисках утраченного времени» (1913–1922) ввел термин «непроизвольная память», рассказывая о том, как размоченное в чае печенье «мадлен» пробудило поток воспоминаний о детстве, потому что таким же печеньем его угощала тетушка. Однако за два с лишним тысячелетия до Пруста Аристотель уже четко разграничивал «пробужденные», непроизвольные воспоминания, вызванные чувственными ощущениями (mneme), и сведения о прошлом, которые мы извлекаем намеренно, «произвольным» припоминанием (anamnesis). Второе – способность исключительно человеческая. Это сознательная работа нашего разума, а не бессознательное воздействие ощущений.
Механизм возникновения «прустовских» воспоминаний Аристотель иллюстрирует образным примером: ощущения оставляют отпечаток в нашей душе подобно тому, как перстень оставляет оттиск на воске. Он много размышлял о людях, которых подводит память, – глубоких стариках, маленьких детях, умственно неполноценных. Слабость их памяти он объясняет тем, что часть их сознания, на которую должны воздействовать физические чувства, не удерживает оттиск. Она не похожа на вязкий воск, который, застыв, сохранит отпечаток перстня, – их память больше напоминает стремительный поток (у маленьких детей) или грубую обветшавшую стену (у стариков и людей с особенностями интеллекта). Но в отличие от воспоминаний, пробуждаемых воздействием чувственных стимулов, произвольное припоминание присуще лишь человеку и является его отличительной чертой: «процесс напоминает поиск». Если эту способность развивать и упражнять, она поможет нам в обретении счастья. Она сопряжена с другим сугубо человеческим свойством – умением продумывать свои действия, без которого невозможны правильные поступки и реализация потенциала. На общечеловеческом уровне само изучение истории и идей, выдвигавшихся в прошлом такими мыслителями, как Аристотель, представляет собой коллективное целенаправленное воспоминание, благодаря которому мы постигаем глобальную миссию человечества и намечаем путь в будущее.
Подозреваю, что отец Аристотеля, врач Никомах из Стагиры, питал особый профессиональный интерес к душевным болезням. Аристотель часто демонстрирует знакомство с разными отклонениями, которые мы сегодня называем психическими расстройствами. С исключительным знанием дела он пишет о том, как страдающие галлюцинациями и бредом путают две разные мысленные картины – подлинные воспоминания о прошлом и плод воспаленного воображения. Он ссылается на Антиферона из Орея – «помешанного», который отзывался о своих «мысленных образах словно о происходившем на самом деле», будто «помнил это взаправду». Аристотель говорит и о стрессе, который вызывает ненадежная память у людей меланхолического склада. Его убеждение, что за счет ощущений память тесно связана с физическим телом и что в некотором роде любые мысленные картины представляют собой физическую деятельность, поразительно сближается с открытиями современной нейробиологии. В частности, он говорит о том, как злятся впавшие в тоску, когда «не могут вспомнить желаемое, как ни силятся». Может быть, отец Аристотеля занимался психотерапией, предполагающей припоминание пережитой психологической травмы, и наблюдал отчаяние и досаду пациентов, не способных восстановить полностью вытесненные воспоминания о травмирующем событии?
Живо интересовала Аристотеля и способность внешних образов пробуждать и провоцировать воспоминания. В Ликее был бюст Сократа, который он использовал как учебное пособие. По свидетельству биографов Аристотеля, сам он заказывал статуи своей жены Пифиады и своего друга Гермия после их кончины, а также посвящал им оды. У него имелся портрет матери. В «Поэтике» он говорит о радости, которую испытывает человек, узнавая изображенного и сообщая об этом другим, – и отдельно отмечает познавательное значение подобного узнавания. В трактате «О памяти и припоминании» он исследует «внутренние» образы знакомых нам людей и приходит к выводу, что они не только занимают наши мысли в свободное время – словно живя собственной жизнью, – но и служат «подспорьем для памяти». В пример он приводит одного своего темноволосого ученика по имени Кориск. С мысленным образом Кориска Аристотель обращается так же, как с портретом, – то есть созерцает его и думает о Кориске, даже если давно с ним не встречался в действительности. Вызвать Кориска к жизни в собственном сознании и даже полюбоваться им, когда заблагорассудится, позволяет все та же сугубо человеческая способность к воспоминанию. При этом Кориск может возникнуть перед нашим мысленным взором непроизвольно – без всяких целенаправленных усилий – и представлять собой не столько подлинное воспоминание, сколько образ, рожденный другим чувственным ощущением или другим воспоминанием. В любом случае и подлинный портрет Кориска, и мысленный его образ, к которому Аристотель имел как произвольный, так и непроизвольный доступ, давали философу возможность думать о своем ученике даже в его отсутствие. Описанный Аристотелем психологический механизм вкупе с заблаговременным увековечением любимых и близких образует действенную стратегию противостояния утратам, связанным со смертью.
Над этой главой я работала как раз в то время, когда умирала моя собственная мать – в 90-летнем возрасте, пройдя долгий и насыщенный событиями жизненный путь. И я находила бесконечное утешение в текстах Аристотеля, словно обращенных лично ко мне. Опираясь на аристотелевские этические принципы, я сумела справиться с глубочайшим горем и не дать ему захлестнуть себя, я сохранила спокойствие и бодрость духа, когда во мне нуждались другие. Кроме того, я в очередной раз убедилась, насколько важно прожить жизнь как можно лучше, поскольку жизнь – это величайшая ценность. Присущая всем нам способность к воспоминаниям помогла мне в один из самых тяжелых периодов у больничной койки мамы. И судя по ее теплому отклику – слабому похлопыванию ладони, улыбке, мелькнувшей в переплетении медицинских трубок, – ей эта способность помогала тоже.
Я сознательно принялась вспоминать – как можно подробнее – все счастливые моменты из своего детства, в которых присутствовала мама. Старые фотографии и беседы с другими членами семьи тоже хорошее подспорье, но по-настоящему оживить события прошлого способно только аристотелевское «намеренное воспоминание». Я последовательно вспоминала свои детские годы, дома, куда мы переезжали, каникулы на море в Йоркшире и Шотландии, три свои начальные школы – и передо мной калейдоскопом сменялись картинки, показывающие маму молодой и полной сил. Вот на мой третий день рождения мы танцуем под маленький проигрыватель в ее спальне, звучит только что купленный битловский сингл «She Loves You». А этот восторг до небес – когда она прижимает меня к себе покрепче, и мы катимся с водяной горки в открытом бассейне (мама выговорила сквозь кислородную маску, что это, наверное, в Данбаре). Вот она специально для меня запасается мылом Pears, потому что я обожаю разглядывать мир сквозь этот прозрачный карамельный брусок. А вот мы часами играем в «пушишки» на мосту через быструю речку в йоркширских холмах, и мама подсказывает мне, как закидывать лист папоротника прямо на быстрину, чтобы он сразу вырвался вперед и пришел первым. Вот я с радостным воплем плюхаюсь перед телевизором, потому что сейчас мы с ней будем смотреть «Вместе с мамой». Мой лучший день на кухне – мама, горы теста для печенья и подаренный лично мне новехонький набор формочек в виде цыплят, ангелов и пасхальных зайчиков. В восемь лет, когда мне удалили аппендицит, я, несмотря на жуткую боль, втайне ликовала, что лежу в больнице, ведь мама приходила ко мне каждый день, совсем одна, пока мои братья и сестры были в школе. В кои-то веки мне не требовалось соперничать с ними за ее внимание. Теперь, когда ей оставалось совсем недолго, я записывала по горячим следам эти и другие драгоценные воспоминания, которые сознательно отыскивала в сокровищнице памяти. Они будут утешать меня в дальнейшем пути, который я пройду уже без нее.
Те, кто не рассчитывает на обещанную религией загробную жизнь, воспринимают утрату иначе, чем верующие. Аристотель в загробную жизнь не верил. Однако, несмотря на обвинения в безбожии, он не был атеистом. И даже агностиком в современном понимании. Он просто считал, что небожителей не интересуют людские дела. Отрицая платоновские идеи и выстраивая свою этику на твердом естественнонаучном фундаменте, он лишал религиозное мировоззрение состоятельности. Последователи Аристотеля не опираются в познании природы и законов благополучной жизни на религиозные и метафизические взгляды. Они приверженцы естественнонаучного подхода. Который, впрочем, отнюдь не исключает вероятность существования богов – или наличия по крайней мере в обрядовой стороне религии полезных для человечества составляющих.
Аристотель замечает, что у всех народов боги «состоят под властью царя, потому что люди – отчасти еще и теперь, а отчасти и в древнейшие времена – управлялись царями и, так же как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов». Антропоморфность богов, считает он, обусловлена не чем иным, как ограниченностью человеческого воображения. Кроме того, Аристотель знал, что правители используют религию для укрепления своей власти над подданными: мифологические боги придуманы «для внушения толпе, для соблюдения законов и для выгоды». Аристотелевский бог, в отличие от мифологических, совершенно далек от людей – непреодолимая пропасть между ними исключает любые взаимоотношения, как дружеские, так и властные.
В трудах по физике и метафизике, а также местами в «Никомаховой этике» Аристотель предполагает, что сближению с «богом» способствует созерцание материальной вселенной. По крайней мере это более вероятный способ сблизиться, чем пребывая в убеждении, будто небожители а) подобны людям, но б) повелевают своими смертными «подданными», обладая сверхчеловеческой силой и властью (именно так понимало божественную сущность большинство современников Аристотеля). Сам же философ находил больше божественного в небесных телах, чем в людях. Иногда он называет солнце, звезды и планеты «движущимися по небу божественными телами», «видимыми божественными предметами» или «небесами и самыми божественными из видимых предметов». Отводя центральную роль в своей философской системе движению и изменениям, Аристотель считал, что Бог, сколь угодно далекий, должен быть одним из «перводвигателей», то есть первозданных источников движения, передающих этот импульс остальной Вселенной. Таким образом, Бог – двигатель, но сам он недвижим и неизменен, неподвластен воздействию не только человека, но и других сил или сущностей.
Выясняя, что представляет собой Бог и чем он занимается, Аристотель использует привычный метод исключения и приводит ироничный перечень действий, которые богам не свойственны. В отличие от людей, которые, совершенствуясь, стремятся поступать «правосудно», к Богу понятие этики попросту неприменимо. Он не вступает в деловые отношения, то есть ему негде проявить правосудность при «заключении сделок и возвращении вкладов». Ему не приходится демонстрировать мужество перед лицом неминуемой гибели. А хвалить Бога за умение противостоять дурным влечениям означает унизить его намеком, что такие влечения в принципе могут у него возникать. Нет у Бога и возможности побыть щедрым, поскольку на небесах нет денег и в них никто не нуждается. Аристотель доводит антропоморфность богов до абсурда, предполагая – и тем самым опровергая – наличие у них разменной монеты. Однако чем-то они заниматься должны, особенно учитывая, что в их распоряжении вечность. «Не спят же они, словно Эндимион?» – шутит Аристотель.
В результате этих рассуждений он приходит к выводу, что деятельность Бога должна соответствовать наивысшей из всех добродетелей, равно как и человек достигает наилучшего своего состояния, наиболее добродетельного, а значит, и самого счастливого, когда ведет энергичную мыслительную работу. Именно тогда, когда мы активно размышляем об устройстве мира, выдвигая свои гипотезы, – теоретизируем, живем созерцанием, – мы и сближаемся с Божественным. Аристотелю наверняка не раз намекали, чем может обернуться отождествление человеческой мыслительной деятельности с Божественной, судя по тому, как настойчиво он призывает «не следовать увещеваниям “человеку разуметь человеческое” и “смертному – смертное”». Человек, по крайней мере в течение того короткого времени, когда он предается размышлениям об интересующих его материях и тем самым достигает абсолютного счастья, получает возможность ненадолго приобщиться к тому, чем аристотелевский Бог занимается постоянно.
Наибольшей известностью из всего, что Аристотель когда-либо писал о Боге, пользуются строки из Книги двенадцатой (или «Лямбды», поскольку в рукописях эти трактаты нумеровались буквами греческого алфавита) «Метафизики». Текст ее крайне сложен, но основная мысль ясна. «Бог» – это актуализированная мысль, или мысль в действии, которой мы, люди, какое-то время можем наслаждаться. Она тождественна чистому счастью или удовольствию. Размышления о высоких материях, требующие от нас наибольшей отточенности ума, временно превращают нас в «богов» или позволяют прикоснуться к Божественному. В актуализированной мысли заключается наша жизнь, это и есть «бог». Но если сами мы существа преходящие и биологический наш срок ограничен, то «бог» – это жизнь наиболее добродетельная и вечная. «Мы говорим поэтому, что Бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть Бог».
Этот постулат может показаться слишком мистическим по сравнению с прагматичными, полными житейской мудрости материалистическими аспектами философии Аристотеля, которые я разбираю в своей книге. И тем не менее на глубинном уровне концепция «бога» как вечной мысли или познания непостижимым образом предвосхищает идеи самых выдающихся умов нашего времени. В частности, завершающие строки популярнейшей «Краткой истории времени» (1998) звучат так, словно их диктовал Стивену Хокингу сам Аристотель: «Если мы действительно откроем полную теорию, то со временем ее основные принципы станут доступны пониманию каждого, а не только нескольким специалистам. И тогда все мы – философы, ученые и просто обычные люди – сможем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога»[44].
Как же быть последователю Аристотеля, считающему, что человек приобщается к Божественному посредством упражнения мысли и познания Вселенной, когда приходится иметь дело с официальной религией? В отличие от Платона, Аристотель не касается набожности – по крайней мере в своих этических трудах. Поскольку свое этическое учение он строит на естественнонаучном, а не богословском фундаменте, это неудивительно. И все же в других своих трактатах он местами высказывается в одобрительном ключе по поводу вознесения хвалы богам, поскольку такие обряды обладают определенным положительным воздействием (не только социальным) и служат, среди прочего, разновидностью общественного досуга. Такая позиция ощутимо облегчает жизнь: даже не «веря» в Бога в общепринятом смысле, вы все равно можете бывать в церкви, мечети, синагоге, храме, когда вам или вашему кругу необходима поддержка и единение.
В «Политике» Аристотель исходит из того, что государство, обеспечивая согражданам наиболее благоприятствующую для процветания обстановку, должно заботиться и о культах богов. Он одобряет, в частности, «сообщества, [которые], видимо, возникают ради удовольствия, например тиасы [религиозные общества] и братства эранистов; их цель – жертвенные пиры и пребывание вместе». Он считает, что в правильно управляемом государстве у сограждан есть возможность собираться, чтобы «совершать торжественные жертвоприношения, оказывая почести богам и предоставляя самим себе отдых, сопровождаемый удовольствием. Как можно заметить, древние торжественные жертвоприношения и собрания бывали после сбора плодов, словно первины в честь богов; действительно, именно в эту пору имели больше всего досуга». Объединяя в одной рекомендации и неустанную пропаганду прогулок, и взгляды потомственного медика, и явное стремление найти что-то полезное в традиционных обрядах, Аристотель советует разумному законодателю предписать беременным «заботиться о своем теле – не предаваться безделью, не питаться скудной пищей», а для физической нагрузки «ходить ежедневно на поклонение божествам, в чьем ведении находятся роды».
Совсем другое дело, не встречающее одобрения у философа, – неискоренимые предрассудки и суеверия. Аристотель наверняка согласился бы со своим собратом-перипатетиком Теофрастом, который описал нелепые страхи суеверного человека в сборнике поучительных зарисовок под названием «Характеры». Этот карикатурный персонаж до дрожи боится приблизиться к роженице, встретить помешанного или припадочного. Первобытные табу, относившие перечисленных людей к распространителям подлинной заразы (miasma), представлялись ликейским рационалистам смехотворными. В своих собственных трудах Аристотель часто упоминает суеверия – принимаемые невеждами на веру ненаучные толкования различных явлений, на самом деле вполне поддающихся эмпирическому познанию. Однако объединение людей в пиршественные братства во славу одного из богов или героев, равно как и полезные беременным неспешные шествия к святилищу Артемиды (чтобы совершить подношение богине, ведавшей всем, что связано с женской физиологией), – принципиально иная сторона религии. Аристотель явно не усматривает в этих конструктивных обыденных проявлениях никакого вреда.
Но это не значит, что теперь дилеммы исчерпаны. Если я, будучи последовательницей Аристотеля, не имею никакого желания читать молитвы и принимать участие в нецелесообразных, на мой взгляд, обрядах, как мне относиться к тем многочисленным людям, которые этим занимаются? Этот вопрос сильно меня мучил отчасти потому, что большинство моих родных верят в Бога и исповедуют ту или иную форму протестантизма. Среди моих ближайших друзей немало католиков – а также правоверных иудеев, мусульман, индусов и сикхов. Многие из них ведут добродетельную жизнь, придерживаясь этических принципов, схожих с моими, и их вера им в этом помогает. В мире, в котором я живу, верующих больше, чем неверующих, и значительная их часть считает, что Бог или боги принимают непосредственное участие в человеческих судьбах. Если верующие не навязывают никому свои взгляды, не пытаются теократическим путем подменить в законодательстве и гражданской сфере светскую основу всеобщего стремления к счастью религиозной, не оспаривают мое право мыслить иначе и стремиться к счастью без веры в богов, мне стоит считаться с религиозными убеждениями сограждан и воздерживаться от оценочных суждений применительно к чужой вере. У нас нет ни одного свидетельства, что Аристотель когда-либо поступал иначе.
Обходиться без веры в Бога или богов, способных вмешаться в человеческие дела, и тем более без всякой надежды на посмертное бытие особенно тяжело, когда мы переживаем нелегкие времена. Многие из современников Аристотеля, включая представителей македонской царской семьи, вступали в тайные мистические секты в надежде обрести с их помощью бессмертие. Кого-то молить о помощи свыше побуждает серьезная беда, но сильнее всего эта тяга у умирающих и тех, кто готовится к смерти близких. Желание поверить в чудесное лекарство или в блаженную жизнь на том свете может настичь даже самого рационального агностика. Здесь нет ничего плохого. Любое утешение, которое облегчит душевные муки, будет кстати. И все же, осознав и смело признав бесповоротность смертности, мы можем сделать свою жизнь бесконечно более яркой и полнокровной. Кроме того, расчет на то, что сознание в момент гибели физического тела попросту угаснет и прекратит работу, словно отключенный от сети прибор, имеет свои преимущества. Поскольку вместе с перспективой дальнейших радостей смерть уносит с собой боль и страдания.
Для Аристотеля весь смысл заключен в самой жизни. Свою собственную он посвятил размышлениям о том, что такое бытие – растений, животных, рыб, птиц и человека. Проводя свой знаменитый «цыплячий» эксперимент, он с живейшим интересом наблюдал, как развивается птенец с того момента, как снесено яйцо, до исполнения вылупившимся цыплятам нескольких дней от роду. Ежедневные записи, которые он делал в ходе эксперимента, представляют собой образец точнейшей научной прозы на грани чистой поэзии:
Около двадцатого дня цыпленок уже издает звуки и двигается внутри, если, открывши яйцо, подвигать его; он становится уже оперенным, когда после двадцати дней происходит вылупление из яйца. Голову цыпленок держит под правым бедром у паха, а крыло над головой; в это время видна и похожая на хорион [плаценту] оболочка, лежащая за крайней оболочкой скорлупы.Этот пиетет перед жизнью, а также уверенность, что терпение и нравственная работа над собой помогут справиться даже с самыми мучительными переживаниями, обусловливал у Аристотеля неприятие самоубийства.
Ранние христиане, пытавшиеся приспособить учение Аристотеля к своим нуждам и снизить познавательную ценность его мировоззрения, отводящего центральную роль нравственно ответственному человеку, опустились до мистификации. Они утверждали, будто философ свел счеты с жизнью, признав перед тем причастность Господа к физическому устройству мира – то есть якобы отрекся разом от всех своих принципов, как этических, так и научных. По их легенде, он утопился в проливе Эврип, отделяющем Халкиду от материковой Греции, отчаявшись из-за неспособности найти научное объяснение «стоячим волнам», возникающим в узком морском рукаве во время приливов, и в последние свои минуты преклонился перед загадочной Божественной силой, которую его разум постичь так и не сумел. Но это не более чем пропагандистские небылицы.
Аристотель рассматривал самоубийство с точки зрения побудительного мотива, который представляет собой отрицание, желание сбежать от «бедности, сердечных мук, боли». Определенную категорию самоубийц, по наблюдениям философа, составляют люди, натворившие много зла, – они кончают с собой, оказываясь не в силах больше выносить груз прошлого и общественное осуждение: «А те, кто много совершили ужасных поступков и ненавистны за порочность, бегут из жизни и убивают себя». Действия самоубийцы нельзя назвать взвешенным выбором оптимального решения в сложившихся обстоятельствах, которое принимает ответственный рассудительный человек, – это не что иное, как слабость, капитуляция перед трудностями. Аристотель склонен согласиться здесь с афинским законом, который хоть и не признает самоубийство преступлением, но и не санкционирует.
На протяжении веков философы исследовали феномен сведения счетов с жизнью. Те, кто, разделяя точку зрения Аристотеля, не приемлет суицид (например, Платон и Кант), рассматривают самоубийцу в контексте четырехсторонних взаимоотношений – с самим собой, с окружающими и с Богом. Однако Аристотеля, судя по сказанному в другой главе «Никомаховой этики», интересуют исключительно взаимоотношения человека с обществом. На его взгляд, тот, «кто в гневе поражает себя по своей воле», совершает преступление и наносит своим поступком удар обществу. Оно теряет одного из своих членов, а поскольку все мы несем ответственность перед ближайшим окружением, то потеря остается на совести самоубийцы[45]. Самоубийство – это все равно что убийство, если у покончившего с собой имеются любящие близкие или те, кто от него зависит (даже если это посторонние граждане). Между тем примечательно, что Аристотель называет «поступающими неправосудно» лишь тех, кто расстается с жизнью в состоянии аффекта. Неизвестно, причислил бы он сюда самоубийства обдуманные и подготовленные, совершенные людьми умирающими или считающими себя обузой.
Аристотель нигде не дает понять, как он отнесся бы к самоубийству или эвтаназии смертельно больного. Выступи он против, сегодня бы обязательно нашлись желающие разъяснить ему право неизлечимо больного, находящегося в здравом уме и твердой памяти, уйти из жизни с достоинством и без боли. Но это отдельная категория, а в остальных случаях специалисты по работе с суицидальными пациентами подчеркивают, что зачастую самоубийство действительно совершается под влиянием минутного порыва и потому не может считаться намеренным. Таким образом, оно абсолютно несовместимо со стройной аристотелевской концепцией правосудных добродетельных поступков, ведущих к прекрасной жизни. Мысли о самоубийстве в моменты глубоких переживаний – особенно из-за потерь или разрыва отношений – посещают многих из нас. Однако последователь Аристотеля сознает, что все меняется и что будущее содержит потенциал для счастья, в котором когда-нибудь растворится нынешнее горе. Эта уверенность в неизбежных переменах к лучшему помогла реализовать себя в полной мере Аврааму Линкольну, всю жизнь боровшемуся с депрессией и несколько раз оказывавшемуся на грани самоубийства. Вот так, совершенно по-аристотелевски, он обращался в 1862 г. к молодой женщине, недавно потерявшей отца:
С глубокой скорбью узнал я о гибели вашего доброго и храброго отца и особенно о том, что ваше юное сердце разрывается так, как нечасто увидишь в подобных случаях. В нашем многострадальном мире никто не избегнет печали, но молодым горе особенно мучительно, поскольку застигает их врасплох. Старые привыкают ждать его и готовиться. Надеюсь своим письмом несколько облегчить ваши нынешние страдания. Полное избавление придет лишь со временем. Сейчас вы даже помыслить не в силах, что когда-нибудь вздохнете свободно, разве не так? Но это заблуждение. Вы непременно будете счастливы снова. Помните об этом, поскольку это истинная правда, и печаль начнет понемногу отступать. Я достаточно пережил и знаю, о чем говорю, – поверьте мне, и вам тотчас же станет легче. Душевные муки постепенно уступят место теплой светлой памяти о дорогом отце – самому чистому и святому чувству, что вы когда-либо испытывали.Сохраняя уверенность, что душевно-эмоциональное состояние непременно изменится, последователь Аристотеля сумеет перебороть суицидальный порыв и выкарабкаться, каким бы сложным в данной ситуации ему это ни казалось.
Перемены происходят постоянно. Во всех своих трудах Аристотель на образных примерах показывает, как, несмотря на изменение или исчезновение составляющих частей, а иногда и полную метаморфозу, целое все равно сохраняется. Одними и теми же буквами алфавита, например, можно, по-разному складывая их в слова, записать как трагедию, так и комедию. В природе все непрестанно и неизбежно рождается, умирает и разлагается на составляющие, внося тем самым свою лепту в появление на свет новых существ. Однако Аристотель, и это немаловажно, сознает разницу между органической репродукцией и круговоротом веществ, при котором облака проливаются на землю дождем, а тот со временем снова испаряется в атмосферу и образует облака. В отличие от дождя и облаков, «люди и животные не возвращаются к своему прежнему облику, и одно и то же существо не способно переродиться заново». Если вы умерли, то умерли. Но и здесь есть утешение. Нигде не сказано, что, раз на свете жил ваш отец, непременно должны были родиться и вы. Вас попросту могли не зачать. Но коль скоро вы существуете, один замечательный факт точно не вызывает сомнений: ваш отец наверняка появился на свет прежде вас. Ваш отец (как и ваша мать) участвовал в бесконечном процессе передачи разумной человеческой жизни из поколения в поколение. Он существовал. Он жил. Он внес свой вклад. Эта жизнь свершилась – никто и ничто ее не отменит.
И наконец, все мы можем утешаться одним из самых красивых изречений Аристотеля. Он предлагает считать, что непрестанное воспроизводство, которое мы наблюдаем в природе – и к которому относится в том числе непрерывная смена поколений у людей, есть «найденный Богом способ сотворения вечной жизни». Желая видеть Вселенную вечной, Бог максимально приближается к этому, «сделав возникновение безостановочным». Тем самым он сообщает всей истории Вселенной, а значит, истории человечества и каждого из нас, абсолютную цельность и непрерывность: «Ведь именно так бытие больше всего может быть продолжено, потому что постоянное возникновение ближе всего к вечной сущности».
Благодарности
Своим появлением на свет эта книга во многом обязана терпению и дружескому участию моих литературных агентов – Питера Страуса и Мелани Джексон, моих издателей и редакторов Энн Годофф, Стюарта Уильямса и Йорга Хенгсена, а также моего корректора Дэвида Милнера. Я многое вынесла из многолетнего общения с прекрасными специалистами по классической литературе и философами. Среди них Том Стинтон, Грегори Сифакис, Сара Моносон, Кристофер Роу, Малкольм Шофилд, Хайнц-Гюнтер Несельрат, Джилл Фрэнк, Дэвид Бланк, Филипп Хорки, Ричард Краут, Сол Тор, Кэрол Атак, Фрэнсис О’Рурк, Пол Картледж и Джон Тасиулас. Но мой труд остался бы незаконченным, если бы не постоянная поддержка со стороны близких – моего мужа Ричарда и дочерей, Джорджии и Сары Пойндер. Сара была моей неутомимой спутницей в путешествии с Леонидасом Пападопулосом по всем местам, где жил Аристотель, – за любезную помощь в организации этой поездки я благодарна Кристине Папагеоргиу, Симеону Константинидису и Джону Киттмеру.
Глоссарий
Примечания Дополнительная литература
(Рекомендуется в дополнение к перечисленному в примечаниях.)
Введение
J. L. Ackrill, Aristotle the Philosopher (Oxford: OUP, 1981).
Mortimer I. Adler, Aristotle for Everyone (New York: Macmillan, 1978).
Jonathan Barnes, Coffee with Aristotle (London: Duncan Baird, 2008).
Joseph Williams Blakesley, A Life of Aristotle (London: John W. Parker, 1839).
Sarah Broadie, Ethics with Aristotle (New York: OUP, 1993).
Jonathan Haidt, The Happiness Hypothesis: Putting Ancient Wisdom to the Test of Modern Science (London: Arrow, 2006).
Terence Irwin, Aristotle’s First Principles (Oxford: Clarendon Press, 1993).
Burgess Laughlin, The Aristotle Adventure: A Guide to the Greek, Latin and Arabic Scholars who Transmitted Aristotle’s Logic to the Renaissance (Flagstaff: Albert Hale, 1995).
Carlo Natali, Aristotle: His Life and School (Princeton: Princeton University Press, 2013).
Rupert Woodfin and Judy Groves, Introducing Aristotle: A Graphic Guide (Cambridge: Icon Books, 2001).
Глава 1. Счастье
J. Ackrill, ‘Aristotle on Eudaimonia’, Proceedings of the British Academy (1974), pp. 3–23.
Julia Annas, The Morality of Happiness (Oxford: OUP, 1993).
Sissela Bok, Exploring Happiness: From Aristotle to Brain Science (New Haven: Yale University Press, 2010).
Anthony Kenny, Aristotle on the Perfect Life (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Richard Kraut, ‘Two conceptions of happiness’, Philosophical Review 88 (1979), pp. 167–97.
G. Richardson Lear, Happiness and the Highest Good: An Essay on Aristotle’s Nicomachean Ethics (Princeton: Princeton University Press, 2004).
Roger Sullivan, Morality and the Good Life (Memphis: Memphis State University Press, 1977).
Nicholas White, A Brief History of Happiness (Oxford: Blackwell Publishing,2006).
Глава 2. Потенциал
Jean de Groot, ‘Dunamis and the Science of Mathematics: Aristotle on Animal Motion’, Journal of the History of Philosophy 46 (2008), pp. 43–67.
Jill Frank, ‘Citizens, Slaves, and Foreigners: Aristotle on Human Nature’, American Political Science Review 98 (2004), pp. 91–103.
Jim Garrison, ‘Rorty, metaphysics, and the education of human potential’, in Michael A. Peters and Paulo Ghiraldelli Jr (eds), Richard Rorty: Education, Philosophy, and Politics (Lanham: Rowman & Littlefield, 2001), pp. 46–66.
Edith Hall, ‘“Master of Those Who Know”: Aristotle as Role Model for the Twenty-first Century Academician’, European Review 25 (2017), pp. 3–19.
Elizabeth Harman, ‘The potentiality problem’, Philosophical Studies 114 (2003), pp. 173–98.
Michael Jackson, ‘Designed by theorists: Aristotle on utopia’, Utopian Studies 12 (2001), pp. 1–12.
Lynn M. Morgan, ‘The potentiality principle from Aristotle to Abortion’, Current Anthropology 54 (2013), pp. 15–25.
Martin E. P. Seligman, The Optimistic Child, 2nd edition (Boston & New York: Houghton Mifflin, 2007).
Charlotte Witt, ‘Hylomorphism in Aristotle’, Journal of Philosophy 84 (1987), pp. 673–9.
Глава 3. Решения
Robert Audi, Practical Reasoning and Ethical Decision (London: Routledge, 2006).
Agnes Callard, ‘Aristotle on Deliberation’, in Ruth Chang and Kurt Sylvan (eds), The Routledge Handbook of Practical Reason (London: Routledge, 2017).
Charles Chamberlain, ‘The Meaning of Prohairesis in Aristotle’s Ethics’, Transactions & Proceedings of the American Philological Association 114 (1984), pp. 147–57.
Norman O. Dahl, Practical Reason, Aristotle, and Weakness of the Will (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).
D. L. Martinson, ‘Ethical decision-making in Public Relations: What would Aristotle say?’, Public Relations Quarterly 45 (2000), pp. 18–21.
J. McDowell, ‘Deliberation and Moral Development in Aristotle’s Ethics’, in J. McDowell, S. P. Engstrom and J. Whiting (eds), Aristotle, Kant, and the Stoics: Rethinking Happiness and Duty (Pittsburgh & Cambridge: CUP, 1996), pp. 19–35.
Monica Mueller, Contrary to Thoughtlessness: Rethinking Practical Wisdom (Lanham: Lexington Books, 2013).
C. Provis, ‘Virtuous decision-making for Business Ethics’, Journal of Business Ethics 91 (2010), pp. 3–16.
Heda Segvic, ‘Deliberation and choice in Aristotle’, in Myles Burnyeat (ed.) with an introduction by Charles Brittain, From Protagoras to Aristotle: Essays in Ancient Moral Philosophy (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2009).
Глава 4. Коммуникация
Janet M. Atwill, Rhetoric Reclaimed: Aristotle and the Liberal Arts Tradition (Ithaca & London: Cornell University Press, 1998).
Paul D. Brandes, A History of Aristotle’s Rhetoric (London: Scarecrow, 1989).
Jamie Dow, Passions and Persuasion in Aristotle’s Rhetoric (Oxford: OUP, 2015).
Richard Leo Enos and Lois Peters Agnew (eds), Landmark Essays on Aristotelian Rhetoric (London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998).
Eugene Garver, Aristotle’s Rhetoric: An Art of Character (Chicago & London: University of Chicago Press, 1994).
Ekaterina Haskins, ‘On the term “Dunamis” in Aristotle’s definition of Rhetoric’, Philosophy and Rhetoric 46 (2013), pp. 234–40.
Amélie Oksenberg Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Rhetoric (Berkeley & London: University of California Press, 1996).
Sara Rubinelli, Ars Topica: The Classical Technique of Constructing Arguments from Aristotle to Cicero, with an Introduction by David S. Levene (Dordrecht: Springer, 2009).
Глава 5. Самопознание
Susan K. Allard-Nelson, An Aristotelian Approach to Ethical Theory (Lewiston & Lampeter: Edwin Mellen Press, 2004).
Timothy Chappell (ed.), Values and Virtues: Aristotelianism in Contemporary Ethics (Oxford: Clarendon Press, 2006).
Howard J. Curzer, Aristotle and the Virtues (Oxford: OUP, 2012).
Marguerite Deslauriers ‘How to distinguish Aristotle’s virtues’, Phronesis 47 (2002), pp. 101–26.
Edwin M. Hartman, Virtue in Business: Conversations with Aristotle (Cambridge: CUP, 2013).
D. S. Hutchinson, The Virtues of Aristotle (London: Routledge, 2016).
Richard Kraut, Aristotle on the Human Good (Princeton: Princeton University Press, 1989).
Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness (Cambridge: CUP, 1986).
Glen Pettigrove, ‘Ambitions’, Ethical Theory and Moral Practice 10 (2007), pp. 53–68.
J. Urmson, ‘Aristotle’s Doctrine of the Mean’, American Philosophical Quarterly 10 (1973), pp. 223–30.
Глава 6. Намерения
Michael Bratman, Intentions, Plans, and Practical Reason (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987).
P. Crivelli, Aristotle on Truth (Cambridge: CUP, 2004).
Javier Echeñique, Aristotle’s Ethics and Moral Responsibility (Cambridge: CUP, 2012).
S. Dennis Ford, Sins of Omission: A Primer on Moral Indifference (Minneapolis: Fortress Press, 1990).
Alfredo Marcos, Postmodern Aristotle, with a foreword by Geoffrey Lloyd (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012).
Martha C. Nussbaum, ‘Equity and Mercy’, Philosophy and Public Affairs 83 (1993), pp. 83–125.
Roger A. Shiner, ‘Aristotle’s theory of equity’, in S. Panagiotou (ed.), Justice, Law and Method in Plato and Aristotle (Edmonton: Academic Printing and Publishing, 1987).
John Tasioulas, ‘The paradox of equity’, Cambridge Law Journal 55 (1996), pp. 456–69.
Глава 7. Любовь
E. Belfiore, ‘Family friendship in Aristotle’s Ethics’, Ancient Philosophy 21 (2001), pp. 113–32.
Robert J. Fitterer, Love and Objectivity in Virtue Ethics (Toronto & London: University of Toronto Press, 2008).
Barbro Fröding and Martin Peterson, ‘Why virtual friendship is no genuine friendship’, Ethics and Information Technology 14 (2012), pp. 201–7.
Todd L. Goodsell and Jason B. Whiting, ‘An Aristotelian theory of family’, Journal of Family Theory & Review 8 (2016), pp. 484–502.
R. Hursthouse, ‘Aristotle for women who love too much’, Ethics: An International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy 117 (2007), pp. 327–34.
Juha Sihvola, ‘Aristotle on sex and love’, in Martha C. Nussbaum and Juha Sihvola (eds), Sleep of Reason: Erotic Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome (Chicago & London: University of Chicago Press, 2002).
Lorraine Smith Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship (Cambridge: CUP, 2003).
S. Vallor, ‘Flourishing on Facebook: virtue friendship & new social media’, Ethics and Information Technology 14 (2012), pp. 185–99.
Глава 8. Общество
Susan D. Collins, Aristotle and the Rediscovery of Citizenship (Cambridge: CUP, 2006).
Jill Frank, A Democracy of Distinction: Aristotle and the Work of Politics (Chicago: Chicago University Press, 2005).
Richard Kraut, Aristotle: Political Philosophy (Oxford: OUP, 2002).
Armand Marie Leroi, The Lagoon: How Aristotle Invented Science (London & New York: Bloomsbury, 2014).
David Roochnik, Retrieving Aristotle in an Age of Crisis (Albany: SUNY Press, 2013).
Skip Worden, ‘Aristotle’s natural wealth: the role of limitation in thwarting misordered concupiscence’, Journal of Business Ethics 84 (2009), pp. 209–19.
Глава 9. Досуг
Victor Castellani, ‘Drama and Aristotle’, in James Redmond (ed.), Drama and Philosophy (Cambridge: CUP, 1990), pp. 21–36.
Damian Cox and Michael P. Levine, Thinking through Film: Doing Philosophy, Watching Movies (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012).
Edith Hall, ‘Aristotle’s theory of katharsis in its historical and social contexts’, in Erika Fischer-Lichte and Benjamin Wihstutz (eds), Transformative Aesthetics (London: Routledge, 2017), pp. 26–47. Paul W. Kahn, Finding Ourselves at the Movies (New York: Columbia University Press, 2013).
Kostas Kalimtzis, An Inquiry into the Philosophical Concept of Scholê: Leisure as a Political End (London & New York: Bloomsbury Academic, 2017).
Joseph Owens, ‘Aristotle on Leisure’, Canadian Journal of Philosophy 11 (1981), pp. 713–23.
J. Pieper, Leisure, the Basis of Culture (New York: Random House, 1963).
F. E. Solmsen, ‘Leisure and Play in Aristotle’s Ideal State’, Rheinisches Museum für Philologie 107 (1964), pp. 193–220.
Wanda Teays, Seeing the Light: Exploring Ethics through Movies (Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2012).
Глава 10. Отношение к смерти
Anton-Hermann Chroust, ‘Eudemus or On the Soul: A Lost Dialogue of Aristotle on the Immortality of the Soul’, Mnemosyne 19 (1966), pp. 17–30.
Christopher Deacy, Screening the Afterlife: Theology, Eschatology, and Film (New York: Routledge, 2012).
Brian Donohue, ‘God and Aristotelian Ethics’, Quaestiones Disputatae 5 (2014), pp. 65–77.
John E. Hare, God and Morality: A Philosophical History (Oxford: Blackwell, 2007).
Gareth B. Matthews, ‘Revivifying Aristotle on life’, in Richard Feldman, Kris McDaniel, Jason Reibley and Michael Zimmerman (eds), The Good, the Right, Life and Death: Essays in Honor of Fred Feldman (Aldershot: Ashgate, 2006).
Martha C. Nussbaum, ‘Aristotle on human nature and the foundations of Ethics’, in J. E. J. Altham and Ross Harrison (eds), World, Mind, and Ethics: Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Williams (Cambridge: CUP, 1995), pp. 86–131.
Amélie Oksenberg Rorty, ‘Fearing Death’, Philosophy 58, no. 224 (1983), pp. 175–88.
Kurt Pritzl, ‘Aristotle and Happiness after Death: Nicomachean Ethics 1. 10–11’, Classical Philology 78 (1983), pp. 101–11.
Richard Sorabji, Aristotle on Memory, 2nd edition (London: Duckworth, 2004).
Сноски
1
Karen Horney, Neurosis and Growth (New York and London: W. W. Norton, 1991); Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning (New York: Washington Square Press, 1984); Mihaly Csikszentmihalyi, Flow (New York: Harper & Row, 1992); Martin E. P. Seligman, Authentic Happiness (London: Nicholas Brealey Publishing, 2003).
(обратно)2
Сарвасиддханта Самграха, стихи 9–12.
(обратно)3
James D. Wallace. Virtues and Vices. 1St Edition. – Cornell University Press, 1978.
(обратно)4
Craig K. Ihara, ‘Why be virtuous’, in A. W. H. Adkins, Joan Kalk Lawrence and Craig K. Ihara (eds.), Human Virtue and Human Excellence (New York: Peter Lang, 1991), pp. 237–68; Thomas Hill Green, Prolegomena to Ethics (1883).
(обратно)5
Здесь и далее цитаты из «Никомаховой этики» по изданию: Аристотель. Никомахова этика. Соч. в 3 т. Т. 4. / Пер. Н. В. Брагинской. – М., 1983.
(обратно)6
Здесь и далее цитаты из «Метафизики» по изданию: Аристотель. Метафизика / Пер. А. В. Кубицкого. – М., 1934.
(обратно)7
Edith Hall, ‘Citizens but Second-Class: Women in Aristotle’s Politics’, in C. Cuttica and G. Mahlberg (eds.), Patriarchal Moments (London: Bloomsbury, 2015), Ch. 3.
(обратно)8
Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. – М.: Попурри, 2018.
(обратно)9
См. видеоролик на =-moYjtCmV8Q.
(обратно)10
Robert J. Anderson, ‘Purpose and happiness in Aristotle: An Introduction’, in R. Thomas Simone and Richard I. Sugarman (eds.), Reclaiming the Humanities: The Roots of Self-Knowledge in the Greek and Biblical Worlds (Lanham & London: University Press of America), pp. 113–30, at p. 113.
(обратно)11
Здесь и далее цитаты из «Евдемовой этики» по изданию: Аристотель. Евдемова этика / Пер. Т. В. Васильевой, Т. А. Миллер, М. А. Солоповой. – М., 2005.
(обратно)12
Любомирски С. Психология счастья. Новый подход. – СПб.: Питер, 2014.
(обратно)13
В переводах разных трудов Аристотеля может называться также «прекрасной» или «благой». – Прим. пер.
(обратно)14
Bronnie Ware, The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departing (London: Hay House, 2012).
(обратно)15
Видеозапись проповеди доступна для просмотра в документах Конференции христианских лидеров Юга, хранящихся в архиве Университета Эмори (Программа 7652), см. /.
(обратно)16
Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро. – М.: АСТ, 2017.
(обратно)17
Здесь и далее цитаты из «Риторики» по изданию: Аристотель. Риторика / Пер. Н. Платоновой // Античные риторики. – М., 1978.
(обратно)18
Цит. по: Черчилль У. Никогда не сдаваться! Лучшие речи Черчилля / Пер. С. Чернина. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
(обратно)19
В классическом русском переводе «Никомаховой этики» он называется «величавым». – Прим. пер.
(обратно)20
Кингсли Ч. Дети вод. – Киев: А.С.К., 1992.
(обратно)21
Уоррен Р. П. Вся королевская рать. – М.: Астрель, АСТ, Neoclassic, 2010.
(обратно)22
William D. Leahy, I Was There (New York: Whittlesey House, 1950), p. 441.
(обратно)23
Здесь и далее цитаты из «Экономики» по изданию: Аристотель. Экономика / Пер. Г. А. Тароняна // Вестник древней истории. 1969. № 3.
(обратно)24
R. Ulanowicz, ‘Aristotelian causalities in ecosystem development’, Oikos 57 (1990), pp. 42–8; Laura Westra, ‘Aristotelian roots of ecology: causality, complex systems theory, and integrity’, в Laura Westra and Thomas M. Robinson (eds.), The Greeks and the Environment (Lanham: Rowman & Littlefield, 1997), pp. 83–98, C. W. DeMarco, ‘The greening of Aristotle’, pp. 99–119.
(обратно)25
Richard Shearman, ‘Self-Love and the Virtue of Species Preservation in Aristotle’, in Westra and Robinson (eds.), pp. 121–32. И в первую очередь Mohan Matthen, ‘The organic unity of Aristotle’s world’, тамже, pp. 133–48.
(обратно)26
Özgüç Orhan, ‘Aristotle: Phusis, Praxis, and the Good’, in Peter F. Cannavò and Joseph H. Lane Jr (eds.), Engaging Nature and the Political Theory Canon (Cambridge, Mass. & London: MIT Press, 2014), pp. 45–63.
(обратно)27
Аристотель. О возникновении и уничтожении / Пер. Т. А. Миллера // Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. – М: Мысль, 1981.
(обратно)28
В русском языке слово «досуг» этимологически связано с глаголом «достигать», то есть досуг – это свободное время, образующееся по достижении результата работы. – Прим. пер.
(обратно)29
Iris Murdoch, The Sovereignty of Good (London: Routledge & Kegan Paul, 1970).
(обратно)30
Рено М. Маска Аполлона. – М.: Эксмо, Домино, 2006.
(обратно)31
Голдинг У. Наследники. – М.: Астрель, Neoclassic, АСТ, 2019.
(обратно)32
Рушди С. Стыд. – СПб.: Амфора, 2008.
(обратно)33
Thomas Nagel, Mortal Questions (Cambridge: CUP, 1979), pp. 1–10.
(обратно)34
Elias Canetti, The Human Province, translated by Joachim Neugroschel (New York: Seabury Press, 1978), pp. 127–8, 141–2.
(обратно)35
Унамуно Мигельде. О трагическом чувстве жизни / Пер. Е. В. Гараджа.
(обратно)36
Паскаль Б. Мысли / Пер. Э. Л. Линецкой.
(обратно)37
Сартр Ж.-П. Стена. – М.: АСТ, 2014.
(обратно)38
Монтень М. Опыты / Пер. А. С. Бобовича, Ф. А. Коган-Бернштейн, Н. Я. Рыковой
(обратно)39
Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Наука, 2006.
(обратно)40
Jeff Malpas, ‘Death and the unity of a life’, in Jeff Malpas and Robert C. Solomon (eds.), Death and Philosophy (London & New York: Routledge, 1998), pp. 120–34.
(обратно)41
Ivan Soll, ‘On the purported insignificance of death’, in Malpas and Solomon (eds.), pp. 22–38, at p. 37.
(обратно)42
Kathleen Higgins, ‘Death and the skeleton’, in Malpas and Solomon (eds.), p. 43.
(обратно)43
Здесь и далее выдержки из завещания Аристотеля цит. по: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. – М.: Мысль, 1986.
(обратно)44
Хокинг С. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр / Пер. Н. Смородинской. – СПб.: Амфора, 2001.
(обратно)45
David Novak, Suicide and Morality (New York: Scholars Studies Press, 1975), pp. 59–60.
(обратно)









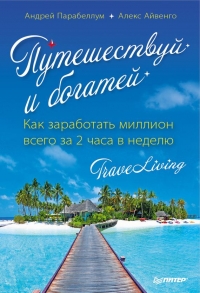
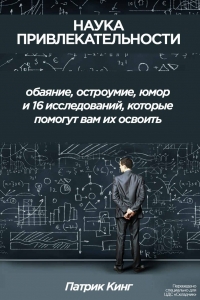


Комментарии к книге «Счастье по Аристотелю», Эдит Холл
Всего 0 комментариев